Отто Скорцени Секретная команда. Воспоминания руководителя спецподразделения немецкой разведки. 1939—1945
Всем боевым товарищам, павшим в войне 1939–1945 годов, посвящается
Otto Skorzeny
GENEIMKOMMANDO SKORZENY
Серия «За линией фронта. Мемуары» выпускается с 2002 года
Глава 1
Кайзеровская Вена. — Школьные годы. — Депрессия и безработица. — Студенческий добровольческий корпус. — Начало профессиональной деятельности. — Знакомство с НСДАП[1]. — Свадебное путешествие в Италию. — В составе Германского гимнастического союза. — Страсти в Вене. — Моя первая миссия. — Доброволец. — Последний мирный отпуск. — Мобилизационное предписание. — Европейская молодежь. — Направление в СС. — «Дело не в Рыцарском кресте![2]»
12 июня 1908 года роскошный разноцветный кортеж проследовал по улицам старой кайзеровской Вены, встречаемый восторженными толпами народа, праздновавшего шестидесятилетний юбилей правления кайзера Франца-Иосифа I. В этот день сразу пополудни моя мать, еще с утра любовавшаяся праздничным шествием, подарила мне жизнь.
Перед Первой мировой войной я был еще совсем ребенком, и это время помню только со слов родителей. Школьные годы тоже не оставили в моей памяти сколь-либо заметного отпечатка. Ведь гибель старой монархии не вызвала у нас, молодого поколения, какого-то серьезного потрясения. Молодежь вообще быстро забывает прошлое, и мы радовались каждому проявлению улучшения жизни.
В школе мне особенно легко давались естественные науки, такие предметы, как математика, геометрия, физика и химия. А вот иностранные языки, французский и английский, несколько напрягали. Особенно я любил заниматься спортом и никогда не пропускал так называемые «послеобеденные занятия на свежем воздухе», поскольку физическое совершенствование тела было моей настоятельной потребностью. Мы обожали командные игры в мяч, а мне в особенности нравился футбол. Я регулярно защищал интересы своей школы в составе сборной команды на проводившихся каждое лето чемпионатах средних учебных заведений. Не скажу, что в различных видах спорта мне удавалось достичь каких-либо особых результатов, но я везде добивался хороших средних показателей.
Мой выбор, где учиться после школы, был предопределен. Мне хотелось стать инженером, как мой отец и брат. У меня довольно рано проявилась любовь к технике, и я всегда интересовался техническими новинками, что лишний раз подтвердилось осенью 1926 года во время слушания лекций по машиностроению уже в первом семестре в Венском техническом университете.
Зимой 1928/29 года я с успехом выдержал первый государственный экзамен, оставив, таким образом, позади себя начальный этап обучения, представлявший собой по существу освоение теории. После этого мы наконец-то приступили к изучению практических предметов по курсу машиноведения.
В 1926 году я стал членом задиристой студенческой корпорации и обрел круг друзей, сохранившийся и после окончания учебы в университете. В этой корпорации из нас, мальчишек, воспитывали настоящих мужчин, чтобы со временем мы смогли успешно выстоять в борьбе за существование. Выставленные напоказ в книгах и фильмах пороки, в особенности связанные со злоупотреблением алкоголем, уже в то время считались пережитками прошлого. Нас учили, что мы, как мужчины, должны отвечать за свои слова и поступки, а в случае необходимости отстаивать собственные убеждения с оружием в руках. Мы обучались также сносить удары, не забывая о хороших манерах, и стискивать зубы тогда, когда хотелось кричать. Позже в некоторых перипетиях моей жизни я был благодарен этой привитой твердости по отношению к самому себе. Однако не берусь утверждать, что подобное воспитание не наложило на нас и другой отпечаток.
Официально разрешенная демонстрация (митинг протеста населения против запрета Антанты[3], одобренного австрийским парламентом объединения республики Немецкая Австрия[4] с Германией), проводившаяся ежегодно в сентябре на площади Героев в Вене и совершенно не носившая какого-либо партийного оттенка, являлась единственным политическим мероприятием, которое я посещал вплоть до конца моей учебы в университете. Политические баталии, бушевавшие в парламенте, мною, как и большей частью молодежи, воспринимались как бесполезная болтовня.
Австрийская экономика еще не преодолела откат, вызванный войной, как нагрянула неслыханных масштабов инфляция, нанесшая дополнительный урон. Все более возрастала социальная напряженность, раздуваемая различными политическими движениями и усиливавшаяся вследствие безработицы, которую никак не удавалось победить. В конце концов все это вылилось в протесты, нашедшие свое первое вполне осязаемое воплощение в июльских беспорядках 1927 года, вошедших в историю моего родного города под названием «пожар Дворца юстиции» в Вене[5]. В качестве ответных мер на данные события на базе высших учебных заведений был сформирован так называемый «академический легион», единственным предназначением которого являлось оказание помощи властям в поддержании общественного порядка и укреплении авторитета государства. Я тоже вступил в ряды этого объединения, которое в скором времени переросло в «студенческий добровольческий корпус», примыкавший, в свою очередь, к давно существовавшему хеймверу[6].
В те годы хеймвер однозначно провозгласил свой отказ от превращения в политическую партию. К сожалению, в дальнейшем, на мой взгляд, ему, чтобы завоевать влияние, пришлось пройти весьма трагический путь. Постепенно он все же начал превращаться в партию и получил соответствующее название — Блок «Родина». Когда в 1930 году данная тенденция стала проявляться все более отчетливо, это послужило для меня и моих товарищей сигналом для выхода из студенческого добровольческого корпуса. Мы не хотели иметь ничего общего с партийной политикой и не желали, чтобы нами манипулировали в партийно-политических целях.
Зимой 1931 года я приступил к выпускному испытанию в техническом университете. Шестидесятидневная письменная экзаменационная работа, касавшаяся расчетов и устройства автомобильного дизельного мотора, оказалась на редкость удачной. Вскоре после этого, к моему великому удивлению, я блестяще выдержал и второй, уже устный экзамен, оказавшись лучшим среди выпускников. Теперь передо мной был открыт путь к профессиональной деятельности в качестве дипломированного инженера в области производства машин и механизмов. Однако сказать об этом оказалось проще, чем осуществить на деле. Ведь тогда Австрию, как, впрочем, и Германию, потрясал тяжелейший экономический кризис, достигший, как нам казалось, пика именно в это время.
В многочисленных местах, где предварительно я получал одобрение, в работе мне отказывали, поскольку фирмы были вынуждены сокращать даже кадровых работников. Только позже я стал баловнем случая, и мне в течение нескольких лет, несмотря на жесточайшую конкуренцию, удалось развить маленькое строительное предприятие, которым я руководил в качестве коммерческого директора, в солидную и уважаемую компанию.
Начиная примерно с 1929 года НСДАП добилась заметных успехов и в Австрии. До того она представляла собой относительно небольшую и к тому же раздробленную группу. Как бы то ни было, часть моих знакомых и друзей оказались членами этой партии, превращавшейся в Германии во влиятельный фактор общественной жизни. Я же первоначально отметал всякую мысль о вступлении в нее, так как требования этого движения, казавшегося мне пришедшим со стороны, представлялись не совсем отвечающими интересам нашей родины.
Тем не менее я стал интересоваться ее основными идеями, в особенности программными положениями, касавшимися экономических и социальных вопросов. В программе НСДАП содержались и положения, отражавшие нашу давнюю мечту о «присоединении». В результате первое же посещение политического собрания стало решающим для моего дальнейшего пути.
Летом 1932 года доктор Геббельс выступил в Вене на переполненной зрителями арене «Энгельманн». Его рассуждения по социальным вопросам и обещание прекратить непродуктивные баталии политических партий явились для меня определяющими, и вскоре я превратился в сторонника партии. Для вступления в партию необходимо было целый год значиться в качестве ее сторонника, причем активного участия в движении от меня никто не требовал. Я посещал собрания и платил членские взносы. В июне 1933 года такое обозначение участия в политической жизни закончилось — решением правительства Дольфуса[7] НСДАП была запрещена.
Еще будучи студентом, в 1930 году во время очередного заплыва я познакомился с одной веселой и очаровательной венкой. Вскоре наше мимолетное знакомство переросло в настоящую дружбу. Когда же в 1933 году мне посчастливилось занять должность коммерческого директора лесозаготовительного предприятия, появилась и возможность экономически обеспечивать совместное проживание двух персон. В мае 1934 года мы поженились и на собственном мотоцикле с коляской отправились в свадебное путешествие в Италию.
Как истинный австриец, я поехал в Италию не без определенных предубеждений. Горечь от отторжения Южного Тироля[8] после Первой мировой войны и потери красивейшей части немецкоговорящей Австрии еще отравляла наши сердца.
Да и сам отход Италии от Тройственного союза в 1916 году, приходившийся на времена нашей юности, не остался забытым, ложившись, возможно и несправедливо, тяжелым обвинением в адрес всего итальянского народа. Поэтому я радовался не перспективам общения с итальянцами, а возможности полюбоваться красотами ландшафта и историческими памятниками Италии. Однако вскоре мне пришлось переменить свое отношение к итальянцам, которые оказались такими же жизнерадостными, как и близкие по крови австрийцы и немцы. Со всеми людьми можно было великолепно пообщаться. Да что там поговорить, даже стать друзьями, если, конечно, толерантно относиться к их естественным особенностям и не забывать, что и немцы имеют свои национальные недостатки.
Болонья, Флоренция, Пиза, Анкона, Равенна и Венеция, не считая Рима, были городами, в которых мы останавливались во время нашего путешествия. Абруццо — область с дикими и гордо вздымающимися ввысь горными хребтами, ставшими позднее свидетелями одной известной моей операции в годы войны, тогда являлась для туристов и путешествующих молодоженов не более чем красивой картинкой среди многих чудесных пейзажей.
После возвращения в Вену будни вновь вступили в свои права. Мои юношеские амбиции не хотели мириться с тогдашними размерами руководимого мною предприятия. Его следовало расширить и значительно улучшить. Мне, как инженеру, хотелось использовать свои собственные новые идеи. К тому же кризису, в котором пребывала Австрия, не было конца. Он хватал за горло всех без исключения — и предпринимателей, и рабочих. Разорялось одно старинное строительное предприятие за другим. Оставалось только, не теряя мужества и веры в себя, идти на работу и трудиться, трудиться и еще раз трудиться.
Несмотря на бедственные времена, предприятие не только удалось удержать на плаву, но даже расширить. Кроме того, был создан хороший и крепкий костяк из числа кадровых рабочих. И хотя большинство из них разделяло ультраправые политические взгляды, я смог установить со всеми отличные отношения. Во время работы на нашем предприятии столь любимые повсюду «политдискуссии» не приветствовались. Мои рабочие хорошо знали, что я не терплю никакой активной политической деятельности.
Однако упорный повседневный труд привнес в мою жизнь весьма печальные и достойные всяческого сожаления перемены. Мы с женой отдалились друг от друга. Развитие наших личностей пошло разными путями. Между нами состоялся весьма серьезный разговор, в ходе которого мы пришли к выводу, что лучше разойтись, чем становиться обузой друг для друга. В результате в 1936 году наш брак распался. И сегодня меня радует, что я могу без всякой неприязни вспоминать те дни. Когда в 1946 году в лагере для военных преступников в Дахау[9] мне довелось переживать самое тяжелое время в моей жизни и внутренне роптать на Бога и весь мир, я искренне порадовался ободряющему письму, полученному от моей первой жены. Оно явилось тем редким лучиком света, который тогда проник ко мне.
В 1935 году я вступил в единственный функционировавший в то время Немецкий гимнастический союз. В вечерние часы здесь предоставлялась возможность заниматься физическим развитием своего тела. Поскольку общественные мероприятия разрешалось проводить только близким к австрийскому правительству обществам, то большая часть молодежи, в том числе и из круга моих друзей, воздерживалась от их посещения. Мы собирались в нескольких небольших клубах или частных кружках, которые можно было по пальцам пересчитать. В них я познакомился с массой прекрасных людей — врачами, мелкими фабрикантами, юристами и представителями прочих профессий, — происходивших из солидных буржуазных венских семей, ставших к тому времени редкостью.
События февраля — марта 1938 года явились для широкой общественности, как, впрочем, и для меня, полной неожиданностью. О действительном положении вещей нас проинформировали газеты, и то довольно смутно. В любом случае речь шла о восстановлении нормальных отношений между Германией и Австрией, а также о подлинном внутреннем примирении. Объединения обеих стран никто не видел даже в самых смелых мечтах. Когда же 12 февраля федеральный канцлер Шушниг[10] посетил с визитом Берхтесгаден[11], мы были уверены, что вскоре назревшие вопросы разрешатся самым благоприятным образом. Все круги венского населения охватила лихорадка ожидания этого политического решения. И вот в своей речи перед активистами Отечественного фронта[12] от 9 марта в Инсбруке[13] федеральный канцлер провозгласил о предстоящем в ближайшее воскресенье народном голосовании.
10 и 11 марта напряжение в Вене достигло апогея. В наиболее худшее положение, как нам казалось, попали государственные служащие, которым предстояло голосовать в своих учреждениях. Лично я был полон решимости проигнорировать это голосование. Из бесед со своими знакомыми и друзьями мне стало известно, что такого же мнения придерживаются многие граждане. Однако внутреннего удовлетворения от данного решения не наступало.
В рамках Немецкого гимнастического союза уже давно были созданы так называемые взводы обороны, в одном из которых состоял и я. В связи с возникновением в Вене угрожающей ситуации 12 марта 1938 года после полудня нам назначили сбор в своих гимнастических залах. Только я хотел переодеться в раздевалке гимнастического зала нашего союза, как по радио передали сообщение об отставке правительства Шушнига. Оно прозвучало подобно разрыву бомбы.
Мы все приветствовали отставку старого правительства, которое на протяжении последних шести лет ограничивалось только изданием декретов и показало себя неспособным справиться с затяжным экономическим кризисом. Не удалось ему добиться и ослабления внутренней напряженности. По призыву руководства Немецкого гимнастического союза все «взводы обороны» должны были направиться во внутренний город к ведомству федерального канцлера, а завершить этот день планировалось проведением факельного шествия. Я и подумать не мог, что мне предстоит сыграть в этих событиях весьма захватывающую роль.
На автомобиле, в который я пригласил еще несколько своих друзей, мы поехали во внутренний город и припарковали машину поблизости к площади Балхаузплац. Вскоре все прилегающие к ней улицы, шедшие по направлению к резиденции канцлера, наполнились толпами народа. Мы, играя одновременно роль зрителей и ответственных за соблюдение порядка, стояли на боковой улице позади этого здания, в котором, насколько нам было известно, решалась судьба нашей родины.
Внезапно со стороны Миноритской площади подъехала автомашина выездной полицейской команды. Мы не поверили своим глазам, когда увидели, что у всех полицейских на рукавах нацеплены повязки со свастикой. Как такое могло произойти? Теперь нам стало ясно, что серьезные перемены в Австрии уже начались и что они зашли намного дальше, чем мы могли предположить. Вопрос заключался только в том, насколько принимавшие решение господа были способны повернуть все к лучшему? Тут, словно откликнувшись на крики толпы, на балконе появился новый федеральный канцлер Зейсс-Инкварт[14].
Он выступил с краткой речью, но мы стояли слишком далеко и слов не разобрали. Внезапно открылись ворота, из них выехал большой черный, скорее всего, правительственный автомобиль и устремился прочь. Немного погодя на улице засуетились какие-то люди, среди которых был и председатель Немецкого гимнастического союза Бруно Вейс. Он быстро подошел ко мне, чему я несказанно удивился, так как не ожидал его здесь увидеть. Вейс совсем не походил на человека, занимающегося политикой. Его знали как великолепного организатора, и он пользовался большой популярностью. Мне показалось, что Вейс чем-то взволнован.
— Какое счастье, что я нашел здесь надежного человека из нашего союза! — воскликнул он. — Дорогой Скорцени, у меня к вам важная просьба! Вы видели выехавший большой черный лимузин?
Я кивнул, и он продолжил:
— В машине был федеральный президент Миклас[15]. Мы здесь, в резиденции федерального канцлера, в большой тревоге! Только что нам стало известно, что в президентском дворце разместился сильный отряд батальона гвардии. Однако небольшой группе парней из охранных отрядов[16] из Флоридсдорфа[17] поручено выдвинуться во дворец и взять его под защиту. Мы опасаемся, что при встрече двух этих подразделений может произойти нежелательный инцидент. Не могли бы вы нам помочь? Вы на машине?
Я охотно согласился.
— Езжайте как можно быстрее во дворец и от имени нового канцлера примите необходимые меры. Делайте что хотите, но предотвратите возможное безумие!
Вейс пожал мне руку и еще раз напомнил, чтобы я поторопился, но не забывал о хладнокровном благоразумии.
Я прихватил с собой своего друга Герхарда, и мы поспешили к моей машине.
— Будем надеяться, что все пройдет благополучно! — крикнул я Герхарду, бежавшему чуть впереди.
Запрыгнув в машину, я прокрутил стартер, и мотор заревел. Мы врубили первую скорость и покатили.
За Бургтеатром[18] на повороте я заложил крутой вираж, стараясь оставаться предельно внимательным. Е[а такой скорости это было необходимо, чтобы не попасть в аварию. К тому же, несмотря на вечерние часы, на улицах сновало довольно много народу.
Свернув с главной дороги на шоссе, мы увидели в нескольких сотнях метров впереди небольшую колонну машин.
«Может быть, они сопровождают федерального президента? — подумал я, догнав последний автомобиль и обойдя его справа. — Тогда мы рискуем прибыть после президента. Надо поднажать».
Мне удалось обогнать еще пару машин, но первая уже сворачивала к президентскому дворцу. Я исхитрился и все же остановился у дворца одновременно со вторым автомобилем. В это время из лимузина выбрался человек и мелкими шажками быстро засеменил к воротам. Вслед за ним ко входу в здание поспешили четыре пассажира из второй машины.
События разворачивались так быстро, что думать было некогда, и приходилось действовать чисто инстинктивно. Я втиснулся в эту группу из четырех крепких парней и оказался в небольшом вестибюле. Прямо напротив меня просматривалась лестница, которая, изогнувшись дугой, вела на второй этаж. По ней торопливо поднимался федеральный президент Миклас. Внезапно на лестничной площадке появились солдаты и стали быстро спускаться навстречу президенту. Увидев это, я тоже устремился вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.
На середине лестницы мы встретились. Путь нам преградил лейтенант гвардии с несколькими солдатами и громко закричал:
— Стоять!
Такая команда была явно лишней, поскольку мы и так уже остановились. Несмотря на это, лейтенант во второй раз прорычал свою абсолютно ненужную команду: «Стой!»
Позади меня на лестнице и в вестибюле столпилось уже человек двадцать.
Я заметил, что лейтенант начал протискиваться через своих солдат, направляясь ко мне.
— Оружие на изготовку! — неожиданно заорал он.
В ответ несколько солдат подняли свои автоматы, передернули затворы и направили оружие на стоявших внизу людей. Я оглянулся и увидел, как некоторые из них стали доставать пистолеты из кобур.
«Теперь все зависит от малейшей случайности, — пронеслось у меня в голове. — Стоит только кому-нибудь занервничать, и пиши пропало».
— Что за ерунда! — как бы со стороны услышал я свой собственный громкий голос.
Эти, совсем не вписывающиеся в данную ситуацию, слова, казалось, подействовали — люди на мгновение замерли. Я с усилием воли взял себя в руки и, стараясь выглядеть совершенно спокойным, сказал лейтенанту:
— Если что-то произойдет, то ответственность за это целиком ляжет на вас! Я послан сюда новым правительством, чтобы убедиться, что все идет в надлежащем порядке.
В это время на верхней лестничной площадке появилась супруга федерального президента. Естественно, она выглядела очень взволнованной и стала спрашивать, что происходит. Тут и ее муж вновь обрел дар речи.
— Кто вы? Чего вы хотите? — спросил он меня.
Несмотря на напряженную и в то же время комичную ситуацию, я представился:
— Инженер Скорцени, господин президент! Может быть, нам стоит вместе позвонить федеральному канцлеру? Пусть он подтвердит мои полномочия и скажет, какие задачи я здесь выполняю.
Солдаты потеснились, и мы с президентом в сопровождении лейтенанта стали подниматься наверх. В этот момент кто-то начал настойчиво и громко стучать в двери. Один из парней, стоявших внизу, приоткрыл их, и в образовавшемся проеме возник офицер полиции. Он поприветствовал меня и сказал:
— Федеральный канцлер приказал мне поступить с моей ротой в ваше распоряжение. Какие будут указания?
Я несказанно обрадовался, так как стало ясно, что доктор Зейсс-Инкварт не только информирован о моем существовании и полученном мною задании, но и продолжает об этом помнить.
— Господин президент! — громко произнес я. — Только что из дворца прибыла для вашей защиты полицейская рота. Нам следует срочно связаться с канцелярией федерального канцлера, чтобы и лейтенант услышал, что здесь не по кому стрелять!
Связь была установлена быстро, и я смог доложить доктору Зейсс-Инкварту о сложившейся обстановке. Затем трубку взял доктор Миклас. Судя по всему, он был полностью согласен со всем тем, что говорил ему новый канцлер. Тем временем я отвел лейтенанта в сторону и сказал ему:
— А теперь быстро прикажите своим солдатам поставить оружие на предохранитель! Вы же сами видите, что здесь воинственные жесты совершенно излишни!
Лейтенант вышел, и тотчас за дверью послышался его голос.
— Поставить на предохранитель! — скомандовал он. — Убрать оружие!
Тут доктор Миклас вновь передал мне телефонную трубку, и я услышал слова благодарности за предпринятые мною меры. Доктор Зейсс-Инкварт считал, что именно мне принадлежит заслуга в предотвращении столкновения. Он попросил меня остаться и заявил, что люди из охранных отрядов переходят в мое подчинение. Вместе с ними мне надлежало организовать охрану внутри дворца. Личный же состав караула батальона гвардии должен был делать то же самое, но снаружи здания.
К счастью, все эти меры предосторожности оказались излишними. Обстановка оставалась спокойной не только в данном районе. Во всей Вене не было отмечено ни одного инцидента.
Уже через несколько дней после переворота в Австрии Национал-социалистический механизированный корпус[19], а также секции мотоспорта СА[20] и СС провели мероприятия по вербовке сторонников, чтобы привлечь на свою сторону активных мотоспортсменов нового гау[21]. В этой связи, исходя из того обстоятельства, что на протяжении многих лет я являлся активным мотоспортсменом и членом Австрийского туристического клуба, мною было принято решение о вступлении в мотоштурм СС, а заодно и об обновлении моей прежней партийной принадлежности.
Решающим моментом, определившим мое решение, являлось то обстоятельство, что охранные отряды в качестве единственного требования к вступающим в их ряды выдвигали условие о наличии безупречной полицейской справки о несудимости. Моему решению последовало много бывших членов Австрийского туристического клуба, и уже вскоре мы смогли выставлять довольно сильные команды на различных мотоспортивных состязаниях. Этим гонкам я посвящал все свое свободное время с воодушевлением и в результате уже на первых трех соревнованиях завоевал золотые медали.
Одновременно, повинуясь своему давнему желанию, я прошел водноспортивное обучение на Дунае, изучив эксплуатацию и управление судами с моторами мощностью до двухсот лошадиных сил. Уверенная швартовка к построенным на реке сходням при наличии различных течений оказалась делом нелегким. Но со временем мне удалось освоить и запрещенные водные гонки, и то, как обходить буны и мели, и то, как покорять притоки. Заключительной главой этого моего спортивного обучения стала сдача государственного экзамена по специальности «рулевой маломерных судов».
Мои родители уже много лет проводили свой отпуск в Форау, маленьком, лежащем в стороне от больших дорог городке в Восточной Штирии. В одно из воскресений августа 1938 года я пригласил своего брата с женой прокатиться на моей машине и вместе навестить родителей. Мой отец слыл в свое время выдающимся пловцом и оставался таковым и на семьдесят первом году жизни. Поэтому после обеда мы посетили небольшой бассейн, имевшийся в городке. Там я обратил внимание на двух девушек, в одиночестве возлежавших на лежаках. Скорее всего, это были медсестры.
О дальнейшем можно поведать буквально в нескольких словах. Одну из девушек звали Эмми, и мы начали встречаться. Эти встречи становились все чаще и чаще, и в один прекрасный вечер, вооружившись букетом красных роз, я задал ей главный вопрос. Она согласилась. Мы обустроились в новой большой квартире и 25 мая 1939 года зарегистрировали брак.
Свое короткое свадебное путешествие мы провели на озере Вертерзее[22], где общее настроение соответствовало нашему — все были жизнерадостны и пребывали в ожидании счастливого будущего.
Сразу же после аншлюса[23] в Австрии тоже была введена всеобщая воинская повинность. Молодые люди моего года рождения также подлежали призыву для прохождения трехмесячного курса молодого бойца. Не скажу, что такая перспектива меня обрадовала, ведь дел на моем предприятии и так было достаточно — требовалось напряжение всех сил. Мне казалось, что наконец-то забрезжила столь ожидаемая возможность экономического подъема. Мы нагнали показатели пятилетнего подъема, приходившиеся на годы старого режима.
Поскольку от призыва было не отвертеться, то я решил оставить все позади как можно скорее. Мне хотелось избрать для себя хотя бы современный технический род войск, обучение в котором могло доставить хоть какое-то удовольствие. К этому времени я уже много раз летал в качестве пассажира на спортивном самолете моего друга и кое-чему в летном деле научился. Кроме того, еще со студенческих времен меня связывала давняя дружба с Труд ой Шмидт, которая первой из женщин Австрии успешно выдержала экзамен на пилота. Сдача такого экзамена входила и в мои планы на жизнь.
Поэтому, не откладывая все в долгий ящик, я записался добровольцем на прохождение начального курса боевой подготовки, чтобы быть уверенным в том, что меня призовут в военно-воздушные силы. Я надеялся, что меня зачислят в качестве кандидата в офицеры, ведь не зря же у меня за плечами было инженерное образование. Ожидаемый срок призыва приходился на осень 1939 года, и в преддверии этого мне казалось, что нет ничего лучшего, чем быстро упаковать вещи и отправиться в отпуск вместе с молодой женой.
В последнюю неделю августа к поездке все было готово, и мой добрый автомобиль помчал нас на юг. Озеро Вертерзее являло собой настоящую картину мирной идиллии — здесь отдыхали веселые люди самых разных национальностей со всех концов света. Целые дни мы проводили на воде. Катаясь на яхте, плавая, гоняя на моторной лодке и на водных лыжах, занимаясь серфингом в веселой компании, естественно забываешь обо всех заботах. Какое нам дело до интриг политиков, когда после обеда должна состояться парусная регата? Разве усидишь вечером возле радио, если манит танцевальная музыка? Почему бы не попытаться забыть о грозовых тучах на политическом горизонте, глядя в голубое небо, залитое солнечным светом?
Однако, несмотря на весь оптимизм, новость о начале настоящей войны между Германией и Польшей мы не могли не услышать. Она прозвучала как гром среди ясного неба, нарушив наше праздничное отпускное настроение. Все надеялись на то, что этот конфликт останется локальным и скоро все закончится. Тем не менее отдыхающие из Англии и Франции начали лихорадочно паковать вещи и стремглав отъезжать[24].
— Зря они так торопятся, — пытались мы успокоить сами себя.
Ведь между нашими семьями установились хорошие отношения, и о каких-либо конфликтах и разладах не было и речи. Народы сами по себе ничего не имеют против других народов! А вот о политиках этого не скажешь. Ну почему они не в состоянии жить в мире?
Я тоже не мог больше находиться далеко от Вены. На моем предприятии ожидался военный призыв, и следовало принять необходимые решения. Мы с Эмми пытались насладиться обратной дорогой настолько, насколько это было возможно. Тем более что среди населения австрийских земель, которые мы проезжали, какой-либо тревожности не отмечалось — настроение было спокойным и даже радужным. Но восторга от начала войны никто не испытывал.
По приезде домой среди почтовой корреспонденции я обнаружил мобилизационное предписание о явке в полк связи военно-воздушных сил для прохождения трехмесячной начальной военной подготовки. Это не явилось для меня неожиданностью, поскольку я сам в свое время записался добровольцем. Приказ о призыве на военную службу, судя по всему, был отправлен еще в мирных условиях. Теперь же мне предстояло стать солдатом в военное время, что и пришлось осторожно объяснить моей жене. Естественно, она не пришла от этого в восторг.
Среди почтовой корреспонденции находилось еще одно предложение — венское студенчество приглашало меня на праздник наций в замок Бельведер. Приглашение было на тот же вечер. Этот фестиваль среди садов и прекрасных исторических зданий я, естественно, пропускать не хотел. Один только взгляд на празднично освещенный парк заставлял нас почти забыть о том, что где-то на северо-востоке беснуется война, страдают и умирают люди. Присутствовавшая на празднике молодежь разных наций в своих настроениях была едина — получать и дарить радость. Однако молодые люди из Польши, Франции и Англии отсутствовали. Я дал увлечь себя водовороту приятных эмоций, приветствуя то тут, то там своих друзей и знакомых. Повсюду танцевали, шутили и весело смеялись, никто и не думал о завтрашнем дне.
После полуночи мы собрались за столом, одиноко и заброшенно стоявшим среди старых парковых деревьев. И здесь, где звуки музыки были слышны не столь отчетливо, праздничное настроение стало быстро улетучиваться. Наши мысли обратились к будущему — что оно нам готовит?
— Через несколько недель вновь наступит мир! — выразил свое мнение врач из Венгрии.
— Государственные мужи не могут себе позволить вести войну против воли своих народов, — бросил техник из Пресбурга[25].
— Объявление войны со стороны Англии и Франции — это всего лишь демонстрация, которую нельзя воспринимать всерьез, — заявил историк из Стокгольма.
Тогда и я взял слово:
— Мне кажется, что сейчас мы можем сделать только одно, а именно — зафиксировать, что данная война не является нашей войной и что мы, молодое поколение, этой войны не хотели и ее не начинали. Скоро, вероятно, мы расстанемся и долго не увидимся. Но наступит тот день, когда мы опять сможем общаться друг с другом. Давайте тогда вспомним этот вечер и вновь обретем единство. Ставши более зрелыми, мы снова быстро свяжем воедино нити, которые возможно окажутся порванными.
Последующие два дня, которые я провел на своем предприятии, не оставляли времени для размышлений. Некоторые рабочие также получили мобилизационные предписания, а мне требовалось подготовить человека, которому можно было бы доверить дело в мое отсутствие. Но я не слишком заморачивался на этот счет, ведь мне предстояло проходить обучение не на краю света, а в казарме, располагавшейся в самой Вене. В точно указанный срок 3 сентября я взял в руки чемодан и в обговоренное время уже стоял на пороге своей казармы.
На следующий день командир роты объявил, что инструкторов для нас нет, поскольку все они задействованы для проведения военных операций в Польше, и нам предстоит пройти специальное техническое обучение, чтобы впоследствии стать войсковыми инженерами. Он также сообщил, что для новобранцев предусмотрены специальные лекции, которые нам надлежит еженедельно посещать. Наш курс состоял из ста человек, и после лекций мы могли отправляться по домам, поскольку окончательный призыв ожидал нас несколько позднее.
Такое известие, естественно, явилось для нас приятной неожиданностью. Однако меня это не вполне удовлетворило. Я, как умел, вытянулся во фрунт и произнес:
— Господин гауптман! Разрешите задать вопрос? Нельзя ли перевести меня в летный персонал? В свое время именно по этой причине я попросил приписать меня к люфтваффе[26]. К тому же у меня есть некоторый летный опыт.
— Год рождения? — немедленно прозвучал встречный вопрос.
— Восьмой, господин гауптман!
— Слишком стар! — вынес короткий вердикт гауптман.
Для него вопрос был закрыт, но во мне зашевелился червячок сомнения — неужели я действительно слишком стар для летного дела?
Курс лекций по автоделу сухопутных войск продолжался, а в середине декабря нам объявили, что двадцать человек будут переведены в войска СС в качестве кандидатов в офицеры по инженерному профилю. Однако пригодными для этих войск сочли только двенадцать новобранцев, среди которых самым старшим по возрасту оказался именно я. Причем мне надо было еще какое-то время подождать, пока вопрос о моем переводе и призыву в новый вид войск решится окончательно.
К концу февраля мы с женой ожидали рождения ребенка, и роды могли случиться со дня на день. Однако 21-го числа утренней почтой пришло предписание прибыть в Берлин для прохождения службы в новом виде войск, и я был вынужден отправить телеграмму-молнию с просьбой об отсрочке своей явки на два дня, ссылаясь на семейные обстоятельства. В обед мы поехали в клинику, и уже поздно вечером, к моей величайшей радости, супруга произвела на свет нашу дочку Вальтрауд.
Через два дня в присутствии отца мне пришлось прощаться со своей женой и дочерью. Ему, всегда являвшемуся моим лучшим другом, не понадобилось произносить много слов. Заверив меня, что позаботится о моей семье, он крепко пожал мне руку и шутливо заявил:
— Отто, думай теперь о том, что ты стал отцом семейства! Если война продолжится, то ты, конечно, исполнишь свой долг и, вполне возможно, заслужишь награду. Но она не обязательно должна являться Рыцарским крестом! Будь здоров!
Меня приписали ко второму батальону резервных войск СС[27] лейбштандарта «Адольф Гитлер»[28], располагавшемуся в берлинском районе Лихтерфельде. И опять я вынужден был делить комнату с рекрутами-стариками. Моими новыми сослуживцами стали врачи, фармацевты и инженеры, и всем нам до начала настоящей службы в войсках по специальности предстояло пройти короткий, но очень интенсивный курс молодого бойца.
Порой нам было весьма трудно держаться наравне с семнадцати- и восемнадцатилетними призывниками. Но тогда я много чему научился, что в дальнейшем мне весьма пригодилось. В то же время мне довелось увидеть, как «настоящие служаки» бездумно и жестоко обходились с весьма ценным человеческим материалом. Необходимая муштра была слишком преувеличена и превращалась в обыкновенное издевательство. Тупость, с которой эти вояки пытались подавить любое проявление собственной воли и превратить личность в бездумный автомат, просто поражала. Между тем отсутствие личной инициативы, к которой приводил такой подход в воспитании личного состава, находилось, на мой взгляд, в прямом противоречии с задачами, которые предстояло решать солдатам в настоящей войне. Хорошо еще, что подобное «солдафонство» проявляли не все наши командиры.
Отведенные для обучения шесть недель пролетели быстро, и, по мнению строгих офицеров, из меня получился только какой-то полуфабрикат, а не настоящий солдат. Поэтому на несколько недель я был направлен в запасной батальон «Германия», квартировавшийся в гамбургском квартале Лангенхорн. Здесь мне предстояло окончательно освоить профессию технического офицера.
В апреле 1940 года немецкие войска вторглись в Норвегию и Данию. К этому моменту не только нам, солдатам, но и большинству немцев стало окончательно ясно, что прошедшие в относительном спокойствии несколько месяцев[29]на самом деле являлись лишь затишьем перед настоящей бурей.
Глава 2
Назначение. — Начало Западного военного похода. — Через границу. — Неужели война закончилась? — Оккупация Голландии. — В штабе полка. — Неужели в Англию? — Назад во Францию. — Под гнетом бюрократии. — Испорченный рождественский отпуск 1940 года. — Суровые суды СС. — Немецко-французская договоренность. — Марш в Румынию. — Доказательства дружбы в Венгрии. — Лейтенант резервных войск СС. — Боевое крещение. — Сербские пленники. — Белград. — Назад в Верхнюю Австрию. — Отсутствие стандартизации и унификации автотранспорта
9 мая 1940 года нам было приказано доставить из полка приписки «Германия» автомобили, а также пополнение личным составом на спокойный до того времени и относительно близкий Западный фронт. В тот же день, к великому моему изумлению, я получил распоряжение прибыть в Берлин в командование войсками СС. Начинался военный поход на Запад, а меня отправляли в глубокий тыл!
За несколько дней мне пришлось сдать немало экзаменов, после которых я получил военные свидетельства на право управления всеми классами машин и удостоверение инструктора по вождению. Но больше всего меня порадовали профессиональные права водителя грузовых машин, выданные на имя унтер-офицера Скорцени.
А через несколько дней меня пригласил к себе главный офицер автомобильной службы СС майор Хоффман и представил майору резервных войск СС Реесу, пожилому ветерану Первой мировой войны. Минут пятнадцать мы обменивались ничего не значащими фразами, как вдруг он заявил:
— Хорошо, я беру вас на должность офицера технической службы в свой дивизион. Слушайте первый приказ. Вам надлежит забрать в вашей старой казарме в Лихтерфельде предназначенные для нас восемьдесят грузовиков. Завтра рано утром вы отправите их в Хамм[30]. Тогда наш дивизион тяжелой артиллерии будет готов к маршу. Мы входим в состав лучшей в истории дивизии СС[31] и должны поторопиться, иначе война закончится без нас!
Мое громкое «Так точно!» в полной мере отразило радость по поводу продвижения по службе и перевода на новую должность.
В Хамм я прибыл в три часа утра, потеряв по дороге двадцать шесть грузовиков.
«И как доложить об этом своему новому командиру? — подумал я. — Немедленно назад!»
Через два часа тринадцать автомобилей мною были благополучно найдены, и в семь часов я вернулся в казарму. Позже, когда командир выслушал мой довольно робкий доклад о количестве доставленных машин, к моему величайшему изумлению, он не выказал серьезного недовольства, заметив только, что самое позднее к вечеру все автомобили должны быть на месте, так как отбытие назначено на следующий день.
«Разве так должно выглядеть выступление части на войну? Неужели все будет так буднично? Когда же мы наконец понюхаем пороху?» — подумал я.
Все-таки как странно устроен мир и как мало времени он дает на то, чтобы поразмышлять над подобными вопросами. Требования марша превалируют над временем и все вытесняют. Конечно, мысли о доме неизбежно закрадываются в голову, особенно если ты только что получил письмо от своих близких, написанное накануне. Однако их тут же перебивает вид стоящей на обочине машины твоего дивизиона. Ты немедленно останавливаешься, чтобы оказать помощь. Иногда приходят мысли о том, что будет, если в тебя попадет кусок железа, но тут мимо проезжает офицер и свистом подзывает тебя, указывая на то, что далеко позади возникли какие-то проблемы. Ну их к черту, эти тяжелые мысли, подумать над которыми до конца все равно не удается!
Через древний Аахен[32], город коронации королей, мы проехали, сопровождаемые приветственными криками местных жителей. Вскоре должна была показаться граница и начаться вражеская земля!
«Интересно, как нас там встретят?» — подумал я.
Перевернутые пограничные столбы в горячке движения мы даже сразу не заметили, ведь впереди была война! Следы от боев почти не просматривались, но первые воронки от разрывов снарядов и первые развороченные стены зданий представляли для нас, новеньких, такую картину, которая заставляла оглядываться назад. Однако останавливаться было нельзя, нам следовало двигаться дальше.
Бельгийцы, с которыми нам довелось повстречаться во время короткого отдыха, не были настроены враждебно, но вели себя довольно сдержанно. Люттих[33] наш дивизион проследовал ночью, и вскоре на каком-то поле мы разбили свой первый бивак.
Через несколько часов все опять пришло в движение, и под Динаном[34] нам повстречалась первая большая колонна пленных. Это были молодые бельгийцы под конвоем нескольких солдат полевой жандармерии. Пленные шли, повесив головы и устало переставляя ноги.
«О чем они думают? — пронеслось у меня в голове. — Скорее всего, чувствуя себя в этой куче народу в безопасности, тоже, как и мы, мечтают о скорейшем окончании войны».
Наверное, чувство того, что ты плетешься под конвоем в качестве военнопленного по родной земле, которую призван был защищать, является отвратительным. Взгляды местных жителей не могут не причинять боль.
Наша колонна проследовала города Живе, Сине, а также Ирсон, когда почувствовалось приближение фронта. Над нами часто пролетали эскадрильи наших самолетов. Затем они возвращались, идя низко и в том же порядке, почти как на маневрах. Однако иногда звенья были неполными. Услышав на одном из привалов отдаленный грохот, мы переглянулись: вот она — война, которую нам так хотелось нагнать.
Мы стояли на обочине, тщательно «замаскировавшись» — каждая машина расположилась под молодым, жалким деревцем! Требовалось соблюсти предписания Полевого устава, в котором значилось: «Дистанция между машинами двадцать метров! Использовать любое укрытие! Применять маскировочные сети!» Приходилось прислушиваться к рекомендациям, ведь война только начиналась. Это уже позже опыт, полученный в ходе боевых действий, заставил пересмотреть необходимые предписания.
Нам раздали обед. Не передать словами, каким вкусным показался мне айнтопф[35], вкушаемый на обочине дороги! Его не портили ни тучи пыли, ни песчинки, хрустевшие на зубах.
Вновь проследовали бесконечные колонны пленных с изможденными и запыленными лицами. На сей раз это были французы, а затем и англичане в своих приплюснутых касках. Я видел порой летящие в сторону плененного противника куски хлеба. Мой же водитель отдал страждущим нашу флягу с водой. Молодежь Европы и тогда не испытывала ненависти друг к другу!
Затем мы двинулись дальше, оставив позади себя Ле-Като и другие небольшие городки, почти не тронутые войной. Вокруг нас лежала Франция. Вечером показался город Камбре, и я вспомнил, что в годы Первой мировой войны здесь произошло первое в истории танковое сражение.
Наш путь лежал через Балом и Перонну. Последний городок пострадал достаточно сильно. По только что возведенному саперами мосту мы перешли через реку Сомму, после чего был объявлен большой привал — требовалось пропустить различные колонны саперных и других воинских частей, в которых срочно нуждались наши войска на фронте. Я решил воспользоваться предоставленным нам временем и осмотреться. В ходе прогулки мне случайно попалась французская заправочная станция, а немного в стороне — французский военный грузовик.
Усевшись на водительское сиденье, я сделал еще одно важное открытие, обнаружив дорожные карты Франции. Они подходили для осуществления маршей не хуже, чем наши карты Генерального штаба. На заправке и в гараже по моему требованию меня снабдили дополнительными комплектами карт.
Я сделал для себя соответствующие выводы и после при каждой остановке в каком-либо населенном пункте пытался проделать то же самое. Вскоре в моих руках оказалось сначала тридцать, затем пятьдесят, а потом и восемьдесят таких карт, многие из которых повторялись. Тогда мне пришло в голову сделать подарок нашим командирам батарей, отдав им дубликаты. В самое ближайшее время выяснилось, что карты являлись весьма точными. На них имелись мельчайшие подробности, и пользоваться ими было удобнее, чем нашими топографическими картами.
Дальнейший наш путь лежал на Сен-Кантен. В городе было повреждено всего несколько зданий, а величественный собор по-прежнему устремлял свои башни к небу. Здесь обнаружилось, что многие жители ушли со своих насиженных мест, а чуть позднее мы догнали на дороге длиннющую колонну беженцев, направлявшуюся на юг и стоявшую вне проезжей части. Поток беженцев не только усиливал сумятицу, но и способствовал развитию нищеты и страданий, которые привнесла с собой в эту страну война. Мы же старались успокоить их и подвигнуть к возвращению к родным пенатам.
В долине департамента Уаза части нашей дивизии вели бой, однако о наличии чего-либо похожего на линию фронта не было и речи. Просто некоторые относительно крупные и мелкие подразделения французской армии не сложили оружия, пытаясь обороняться то тут, то там. Пришлось нам, тяжелому дивизиону артиллерийского полка, «потрудиться», перемещаясь из одного места в другое. Другими маршевыми точками при продвижении вперед явились города Руа, Мондидье и Кюйи.
Нас, конечно, разбирало любопытство, проследуем ли мы прямиком в Париж? Но скоро выяснилось, что у немецкого военного командования были иные планы. Наши части стали охватывать столицу большой дугой.
Дальнейший маршрут движения моей части, пролегавший через Шони, Суасон, Виллер-Котре, Шато-Тьерри, Эперне, Шалон-сюр-Марн, Сен-Дизье, Шатийон-сюр-Сен, Кумье-ле-Сек, Преси, Пуйи и Отен, являлся по большому счету преследованием обычно невидимого противника. Исход войны, похоже, был решен, и наша спешка объяснялась, скорее всего, стремлением побыстрее дойти до кузницы оружия Франции — оружейных заводов Ле-Крезо. Достигнув 10 июня 1940 года Мармани, наш дивизион расположился на отдых.
14 июня дивизия получила новый приказ. Нам надлежало в спешном порядке по широкой дуге проследовать на юг к границе с Испанией. Миновав Рувре, возле Труа мы вышли к реке Сене. Здесь я впервые с восхищением наблюдал за «работой на заказ» наших бомбардировщиков. По всей вероятности, противник упорно цеплялся за мост. Чтобы сломить это сопротивление, самолеты люфтваффе вмешались в схватку и сбросили бомбы на дома по левую и правую сторону дороги на западном берегу, являвшейся продолжением моста. Ряды зданий были разрушены, возможно, на двести метров в длину, но стоило только взглянуть на боковые улицы, и обнаружить каких-либо разрушений не представлялось возможным. Стоит ли после этого удивляться тому, что местное население не проявило к нам никакой враждебности? Темп нашего продвижения замедлился только при прохождении через Орлеан, Блуа, Бурж и Лимож. От Бордо мы проследовали по великолепным улицам через Бен, Байонну и Биарриц до границы с Испанией.
В субботу 22 июня до нас дошли известия о том, что заключено перемирие[36]. В результате единственный остававшийся противник Германии на материковой части Европы был повержен. Теперь вопрос состоял в том, сможет ли Германия избежать ошибки установления жесткого мирного диктата и превратить Францию в своего друга, сделав широкий жест? Как бы то ни было, военный поход закончился. Означало ли это конец войне? Всеми нами овладело радостное настроение, которое, возможно, и было главной причиной желания скорейшего ее окончания.
Мы думали о своих близких и о том, как будет хорошо, если вскоре опять наступит мир. Такому настроению способствовало и то обстоятельство, что большая часть солдат, призванных из резерва, была отпущена по домам. Все вроде бы свидетельствовало о том, что даже высшее командование вермахта верит в окончание крупных столкновений.
Со своей стороны мы тоже взирали на скорое и победоносное завершение Западного военного похода с полным удовлетворением. Но это не было чувством гордости и ощущением собственного превосходства, скорее осознанием радости оттого, что неприятная задача, которую требовалось решить, доведена до конца самым быстрым и наилучшим образом. «Все вздохнули с облегчением» — вот те слова, в точности характеризующие наше тогдашнее настроение.
«Прекрасные дни в Аранхуэсе»[37], проведенные нами на юге Франции, закончились быстро, так как вскоре пришел приказ о направлении нашей дивизии в Голландию в составе оккупационных войск.
Как это часто бывает у нас, немцев, все требовалось делать очень быстро, и мы вынуждены были на одном дыхании за один день преодолеть огромное расстояние, отделявшее нас от точки прибытия. По пути на север наша часть проследовала через Ангулем, красивый французский городок, раскинувшийся на возвышенности, где меня и нагнал приказ из полка. Мне предписывалось позаботиться обо всех вышедших из строя машинах, по возможности их отремонтировать, а потом вместе с ними догнать свою часть.
И вот, уже со своей колонной, я проехал через Лимож, Шатору и Бурж, останавливаясь на ночь под открытым небом поблизости от пунктов водоснабжения. Нам, естественно, приходилось вступать в контакт с местным населением, и везде нас встречали дружелюбно и с готовностью прийти на помощь. В основном это были крестьяне, а в городах — работники гаражей или граждане, у которых мы наводили нужные справки. Все они, похоже, тоже были рады, что беды, сопряженные с войной, так быстро остались позади. Лишь некоторые женщины и девушки вели себя по отношению к нам, немецким солдатам, довольно сдержанно. Признаюсь, что мне такая сдержанность была только по душе.
Дальше мы проследовали Тур, Шартр, Мелен, Суасон, Лан и прибыли в Мобеж, возле которого пересекли границу с Бельгией, держась уже в северном направлении. В Северной Франции нам довелось проезжать по большим индустриальным районам, где я иногда делал остановки, чтобы подремонтировать автомашины. Почти все предприятия возобновили работу, что весьма благоприятно сказывалось на настроениях рабочих. Мы нигде не видели озлобленных лиц и не слышали каких-либо угроз в свой адрес. Самое большое, что можно было заметить в их отношении к нам, — это молчаливое безразличие.
Голландскую границу мы пересекли возле Маастрихта. За мной следовала довольно внушительная колонна из пятидесяти машин. С Голландией мне довелось познакомиться еще раньше, и сейчас я вновь испытывал большую радость от увиденных нарядных домиков и опрятно одетых голландцев. Здесь у меня возникло даже ощущение, что война никогда и не начиналась.
«Может быть, люди просто уже забыли об этом?» — подумал я.
Вечером следующего дня, проследовав через Утрехт, моя сборная колонна прибыла в Амерсфорт, в котором гарнизоном расположился наш артиллерийский полк. Вскоре меня на практику перевели в штаб полка, а в июле 1940 года присвоили воинское звание фельдфебель[38] и зачислили кандидатом в офицеры.
Но самым важным было то, что нас группами стали отправлять в отпуск на родину, причем женатым солдатам отдавалось предпочтение. В конце июля дошла очередь и до меня. Отправившись домой, я смог подарить своей жене чудесные две недели, которые мы провели на озере Вертерзее.
Меня успокоило то, с каким стоическим спокойствием восприняла моя родина ограничения, привнесенные войной. Однако никакого военного воодушевления народ не испытывал. Чувствовалась только спокойная невозмутимость и воля нормально пережить это тяжелое время. Даже быстрая победа над Францией не вызвала сколь-либо приподнятого настроения. Была только уверенность, что тем самым мы на шаг стали ближе к окончанию войны, чего все страстно желали.
Время пролетело быстро, и мне пришлось возвращаться в Голландию. Там по различным признакам я заметил, что теперь планируется и идет подготовка к нападению на Англию. В один не самый лучший день в нашу дивизию поступил срочный приказ, содержавший подробные указания о проведении на суше тренировок по погрузке машин на корабли в преддверии планировавшихся в ближайшее время больших маневров на море.
Меня вызвал к себе полковник Хансен, поскольку для нас сооружение подобного учебного моста вызывало большие затруднения. Его конструкция должна была выдержать нагрузку в двадцать — тридцать тонн и пропускать через себя тяжелые тягачи с орудиями. Поэтому полковник опасался, что мы не уложимся в сорок восемь часов, отведенных для подготовки, и приказал мне взять все в свои руки, сделав максимум возможного.
Учения по погрузке и выгрузке машин наша дивизия провела в голландском порту Хелд ер. Обрезанные в носовой части плоскодонки странно смотрелись на фоне волн и казались слабо предназначенными для морских перевозок. В результате атаки всего лишь одного английского самолета мы потеряли две такие посудины и несколько человек. Наши солдаты прозвали эти лодки «звонками». Однако в этой злой шутке явно просматривалась неуверенность в их надежности. Во время учений нам стало ясно, что малейшее волнение на море или слабый ветерок превращали погрузку в весьма опасное и рискованное предприятие.
Историки когда-нибудь смогут с относительной уверенностью установить причину того, почему столь ожидаемое всеми вторжение в Англию не состоялось. Возможно, им будет интересно узнать версию, услышанную мною спустя годы от людей из окружения Адольфа Гитлера. Попробую передать ее дословно: «…Гитлер очень уважал английский народ и рассматривал его как родственный немецкому. В сохранении Британской империи он видел необходимые предпосылки для стабилизации мира. И хотя, несмотря на известные трудности и изъяны в подготовке, фюрер[39] верил в успех операции по высадке десанта под кодовым названием «Зеелеве»[40], он не недооценивал волю англичан к сопротивлению, упорство этого островного народа и его правительства. Он понимал, что в случае осуществления оккупации островов следовало ожидать продолжения войны со стороны Канады или Южной Африки. А ведь Великий германский рейх нес ответственность за остальные тридцать пять миллионов европейцев. Могли отпасть использовавшиеся тогда сторонние источники сырья, а державшееся целиком на Германии снабжение из-за всякого рода военных действий нарушиться. Такую ответственность за тридцатипятимиллионный народ на себя Адольф Гитлер брать не хотел…»
Вот что являлось внутренней причиной того, почему попытка высадки десанта ни разу не предпринималась. Такой ход мысли я сам слышал от Гитлера, правда по другому поводу и намного позднее.
В те дни в нашем полку создали новый 2-й дивизион и меня перевели в него на должность офицера инженерно-технической службы. Его командиром являлся совсем юный гауптман Йохен Румор, который был на несколько лет моложе меня. Со временем я очень хорошо узнал этого человека, поскольку совместно прожитые месяцы во время военных походов на Юго-Восток и Восток сделали нас настоящими друзьями. Его характер и умения, личная храбрость и манера руководства людьми служили для меня образцом настоящего немецкого офицера.
Внезапно, как это всегда бывает для солдат, пришел приказ готовиться к маршу. Все намечавшиеся рождественские отпуска были отменены, и мы, вместо поездки домой, смогли отправить только печальные письма с извинениями. 18 декабря 1940 года дивизия СС «Райх» моторизованным маршем покинула пределы так полюбившейся нам Голландии. Наше выдвижение в южном направлении поистине было стремительным.
Уже 21 декабря все соединение должно было прибыть на новое место в полной боевой готовности. Приказ предписывал войти в незанятую до сих пор часть Франции, и, продвигаясь в одну колонну, наша дивизия спешно направилась к Марселю. С собой мы взяли только горючее, боеприпасы и минимум продовольствия. Все остальное пришлось оставить, поскольку ожидалось вооруженное боестолкновение.
Мы с гауптманом Румором бились над решением задачи, как распределить весь груз по оставшимся машинам. Причем самой большой проблемой являлась доставка горючего, которого должно было хватить до Марселя. В нашем дивизионе имелась, конечно, двенадцатитонная автоцистерна, но две большие шины у нее оказались настолько в плохом состоянии, что рисковать не стоило. И тут мне стало известно, что под Лангром находится войсковой склад покрышек.
На складе отмечалась полная тишь и благодать — все господа отправились в рождественский отпуск! Начальника замещал какой-то тупоголовый фельдфебель, который ничего не хотел делать. Чтобы снискать его благосклонность, я угощал его своими хорошими голландскими сигаретами и рассказывал ему анекдоты, от которых он ржал как лошадь. Битый час я его уговаривал, но все оказывалось напрасным — сердце интенданта оставалось холодным как камень. Причем поведать этому упрямцу о полученном приказе было нельзя — нам предписывалось хранить строжайшую тайну!
Меня бросало то в жар, то в холод. Я во что бы то ни стало должен был раздобыть эти проклятые покрышки! А фельдфебель все не хотел их отпускать и брать на себя ответственность. Наконец мне стало совсем невмоготу.
— Послушайте! — с издевкой сказал я. — Скажу откровенно! От этих покрышек зависит очень многое. И вы мне их выдадите! Иначе мне придется подогнать сюда пушки, и тогда я их все равно получу!
Такая угроза подействовала, и он согласился выдать шины в обмен на оформленные по всем правилам накладные.
Вне себя от радости и распираемый от гордости, я вернулся в свой дивизион в Пор-сюр-Сон. Теперь за марш можно было не опасаться. Однако в последние часы перед выступлением проведение операции отложили. Сначала на двадцать четыре часа, потом до четырех часов утра 23 декабря, а затем и вовсе отменили. Видимо, политическая ситуация изменилась, однако перспектива отправиться в рождественский отпуск от этого не появилась. Пришлось отмечать Рождество в деревенском школьном домике.
На постой меня распределили к семье французского врача. Мы быстро познакомились, и между нами установился нормальный человеческий контакт, позволивший мне улучшить мой плохенький французский. Уже в первые дни я заметил, что многие дома в деревушке, в том числе и на главной улице, лежали в руинах. Но это были вовсе не военные разрушения.
— Что бы это значило? — поинтересовался я.
На мой вопрос доктор ответил, что во Франции в последнее время наблюдается большой отток молодежи из сельской местности в города, а также медленное, но неуклонное снижение численности населения страны. В результате дома пустеют, приходят в упадок и постепенно разрушаются.
Сразу же после Рождества я отправился в долгожданный отпуск. Трудно передать словами те чувства, которые испытывает солдат по дороге домой! И, несмотря на то что это были уже не праздничные дни, двухнедельный отпуск все равно обещал быть чудесным. Я искренне радовался перспективе повидаться с дочкой, которая за время моего отсутствия наверняка превратилась из младенца в хорошенькую маленькую девчушку.
Однако радость продлилась всего два дня — полученная телеграмма срочно отозвала меня обратно в часть. Я мог только предполагать, что ситуация обострилась и отмененная операция вновь стала актуальной.
Таким образом, все мои личные планы рухнули, и на следующий день я уже мчался на Запад. В части мне сообщили, что меня немедленно вызывает к себе командир дивизии генерал Хауссер[41]. Вины я за собой не чувствовал и совершенно спокойно подумал, что причиной отзыва из отпуска, скорее всего, является повышение в звании.
Меня ждало жестокое разочарование. Не успел я доложить о своем прибытии, как генерал начал строго меня допрашивать по вопросу о добытых мною шинах для автоцистерны. Из корпуса поступила жалоба от вернувшегося из благополучно проведенного рождественского отпуска начальника склада. Он доложил, что я обманным путем забрал покрышки под угрозой применения силы и превращения склада в пепел. На основании этой кляузы корпус требовал в назидание другим примерно наказать меня.
От такого оборота дел я вначале чуть было не потерял дар речи. Но потом на основании сохранившейся у меня копии накладной мне удалось доказать правомерность своих действий и что покрышки были выданы по всем правилам. При этом я подчеркнул, что действительно заслужил бы наказания, если бы не получил их.
К счастью, генерал Хауссер сообразил, что тот бравый фельдфебель просто хотел отвести от себя гнев своего начальника. Однако правила требовали ответа на бумагу из корпуса, и генерал решил доложить, что в отношении меня он ограничился порицанием, лишая тем самым канцелярских крыс пищи и повода для раздувания бумажной переписки.
Мне было разрешено вернуться домой и догулять отпуск, ведь генералу никто не осмелился доложить, что меня отозвали только из-за этого разбирательства. Однако отпускное настроение было испорчено, и я решил не ехать.
В наших «частях усиления СС», как мы тогда еще назывались, дисциплинарные и судебные наказания были гораздо строже, чем в других воинских частях вермахта. Мы приветствовали это, поскольку такое положение хорошо сказывалось на общем поведении войск и воспитании личного состава.
Во время продвижения по Франции летом 1940 года были изданы особо строгие приказы, которые были призваны пресекать проявления мародерства любого рода. Солдат нашей дивизии сурово карали за малейшую попытку взять чужое, будь то даже лоскуток ткани для защиты от мучившей всех пыли. При этом командиры всех степеней обязывались искоренять подобные явления.
В этой связи характерен один случай, произошедший во время рождественских праздников под Везулем. Один француз обратился с жалобой, что солдат из нашей части попытался изнасиловать его жену. Только появление оскорбленного мужа помешало свершиться этому преступлению. И хотя на женщине не было следов насилия, солдат предстал перед военно-полевым судом, был приговорен к смертной казни и расстрелян.
Подобные суровые приговоры являлись для нас свидетельством, лишний раз показывающим, что в наших элитных войсках за любой проступок следует более суровое наказание, чем в обычных частях. С другой стороны, они были призваны продемонстрировать населению оккупированных территорий стремление немецкого командования защитить местных жителей от любого рода посягательств.
Зима 1940/41 года оказалась очень суровой. Особенно это чувствовалось на славящемся своим жестким климатом плоскогорье, где раскинулся город Лангр, на окраине которого мы стояли. Служба продолжалась, а наш дивизион постепенно разрастался, превращаясь в настоящую боевую часть. Автомобильная техника не доставляла мне особых хлопот, водители приобрели необходимый опыт вождения, и у меня высвободилось больше свободного времени. Его я старался использовать для проникновения в тайны баллистики, чтобы понять основы применения артиллерии как рода войск.
Меня подвигала к этому святая Варвара, покровительница артиллеристов. В скором времени я освоил основы и правила стрельбы и без особого труда мог вести беседы на узкоспециальные темы. В области теории мне действительно удалось заметно продвинуться, и теперь в случае необходимости я мог быть использован помимо своей узкой специальности.
В то время между французским местным населением и оккупационными войсками установились поистине отличные отношения. У меня постоянно возникало ощущение, находившее свое подтверждение в ходе различных разговоров, что ни французы, ни немцы не видели никакого смысла в этой войне. Я нигде не находил свидетельств якобы исторически сложившейся антипатии и враждебности. Французские патриоты только опасались, что в будущем новом европейском порядке Франции не будет отведена подобающая ей роль. Чувствовалось, что они гордятся историческими свершениями своей родины. И вот что интересно, в ходе разговоров именно с такими патриотами я очень быстро находил общую платформу по вопросам дальнейшего развития Европы.
Мы покинули Францию так же внезапно, как и вошли в нее. За политическими событиями, развивавшимися на юго-востоке Европы, никто из нас особо не следил. Ведь начавшаяся между Италией и Грецией война не требовала немецкого вмешательства. Сложившуюся ситуацию изменило только свержение дружественного Германии югославского правительства. Тогда наша дивизия СС «Райх» получила приказ в срочном порядке занять исходный район на юго-западе Румынии.
Опыт приходит со временем, и совершение в конце марта 1941 года марша после длительного перерыва явилось для нас долгожданной сменой декораций. Никто тогда не думал о возможности возникновения на Юго-Востоке серьезной войны.
Перед передислокацией мне разрешили на одну ночь наведаться в Вену и повидаться со своей семьей. Уже на следующий день на границе с Венгрией я нагнал свою часть, остановившуюся для заправки машин. Мне было очень интересно наблюдать за тем, с каким дружелюбием и предупредительностью с нами обращалось местное население. И это была не только давно известная мне традиционная венгерская гостеприимность, а настоящая симпатия, которую народ выказывал по отношению к нам, немцам. Наше следование по улицам Будапешта напоминало триумфальную встречу населением своих войск, возвращающихся с победой. Наши машины буквально забрасывали апельсинами и шоколадом, цветами и сигаретами. Набережная Дуная была полна народу, приветствовавшего нас восторженными криками.
Проследовав Сольнок, город в Центральной Венгрии, и небольшой городок Дьюла, мы вышли к границе с Румынией.
Это были уже подлинные Балканы. Хорошие дороги внезапно сменились на такие разбитые, что их состояние не поддается никакому описанию. Над колонной постоянно висело густое облако пыли, а выбоины, которые объехать не представлялось возможным, доставляли мне немало хлопот. Рессоры лопались, и таких поломок становилось все больше и больше. В результате машины вставали одна за другой, и это становилось настоящим бедствием.
Наконец показался Темешвар[42], южнее которого, вблизи от югославской границы, мы и заняли исходный район. Крестьяне по своему происхождению по большей части были немцами и принимали нас очень сердечно. В эти дни многие солдаты почти не притрагивались к еде, приготовленной на наших полевых кухнях. Не зря Банат[43] считается одной из самых плодородных сельскохозяйственных областей Европы, но большая заслуга в этом принадлежала именно немецким поселенцам.
Поздно вечером гауптман Румор позвал меня к себе. Я застал его за праздничным столом в обществе начальника штаба дивизиона. Командир зачитал мне только что полученный из полка приказ: «Фельдфебелю Скорцени присвоено воинское звание лейтенант резервных войск СС. Приказ вступает в силу с 30 января 1941 года».
После этого начальник штаба волшебным образом вынул из кармана два новеньких погона и нацепил их мне на место старых. Затем из подвала на свет были извлечены бутылки, вино разлито по бокалам, и мы торжественно чокнулись. Нужно ли говорить, что наше заседание продолжалось до раннего утра?
По тому, как осуществлялся подвоз боеприпасов, и по ряду других признаков мы поняли, что скоро начнется нечто серьезное. И вот в ночь на 5 апреля 1941 года мы двинулись к границе. Погода благоприятствовала скрытному выдвижению — дождь лил как из ведра! Однако дороги не были на это рассчитаны, их развезло, и они превратились в настоящее месиво. Вскоре нам пришлось передвигаться по колено в грязи. Положение еще более ухудшилось, когда перед приграничной деревней мы вынуждены были свернуть с так называемой «главной дороги». Ох и досталось же тогда нашим немногим вездеходам!
Отбуксировав одну машину за другой, мы наконец заняли укрытие позади крестьянских домиков и сараев. Граница лежала в каких-то сотнях метров к югу от деревни, а позади нее на обратных склонах заняли огневые позиции наши батареи, доложив о готовности к стрельбе. Поскольку толку от меня на командном пункте дивизиона было мало, я попросился в четвертую батарею.
Гауптман Нойгебауер, немолодой уже офицер, оборудовал свой наблюдательный пункт в стоге сена, стоявшем почти на самой границе. В пять часов сорок пять минут, предваряя атаку пехоты и легких бронетранспортеров, должен был начаться огневой налет. Наступал понедельник 6 апреля 1941 года.
Нервы у всех были взвинчены до предела, ведь наш дивизион проходил боевое крещение. Для меня это тоже являлось первым непосредственным соприкосновением с противником. Как всегда в такой ситуации, минуты текли медленно. В который раз расстояния по карте были измерены, а команды на стрельбу рассчитаны и перепроверены. Те, у кого имелся бинокль, залегли в укрытия и смотрели в сторону неприятеля.
Гауптман Нойгебауер плеснул нам из своей фляги по глоточку крепчайшего шнапса и чокнулся со мной. От обжигающего напитка по телу пошло тепло, прогнав озноб, вызванный утренним холодом и сыростью, а также странное подсасывающее ощущение в животе. Бывалый вояка Нойгебауер, прошедший поля сражений Первой мировой войны, объяснил причину этого ощущения. Перед каждой битвой оно появляется у всех — у кого сильнее, у кого слабее. Я смог сравнить его с теми чувствами, которые испытывал когда-то перед первой студенческой дуэлью на шпагах.
Мы с Нойгебауером, глубоко закопавшись в сене, вновь лежали в стогу, непрерывно поддерживая связь с огневой позицией батареи и время от времени, чтобы успокоить нервы, выкуривали по сигарете, соблюдая необходимые меры предосторожности. Стрелки часов показывали уже пять часов сорок четыре минуты утра, неумолимо приближаясь к назначенной отметке. Наконец большая стрелка дошла до нее, и тогда Нойгебауер скомандовал:
— Батарея, огонь!
Раздался грохот, и над нами со свистом полетели снаряды.
Через два часа все закончилось. Вражеская позиция была взята, и мы получили приказ приготовиться к движению. В десять часов колонна построилась и начала медленно плестись по дороге, а я вернулся в штаб. Вскоре показался только что взятый противотанковый ров, открыв вид на еще дымившееся поле битвы и санитаров, оттаскивавших раненых к санитарным машинам, отвозивших их в тыл. Некоторым помочь было уже нельзя, убитых подбирали и складывали друг возле друга.
«Шеренга — судьба солдата, — подумалось мне. — Строй и шеренгу своего подразделения он может покинуть только тогда, когда его настигнет последний приказ. Но и в этом случае его удел — вновь навечно лежать в шеренге рядом со своими боевыми товарищами».
По сооруженному саперами мосту мы стали перебираться через противотанковый ров, достигавший пятиметровой ширины. Возникла пробка, колонна остановилась, и у меня появилась возможность осмотреться. Кругом валялось оружие, а за укрытием лежало перевернутое противотанковое орудие. Чувствовалось, что в некоторых местах сербские солдаты удерживали свои позиции до последнего вздоха — еще виднелись следы недавней ожесточенной рукопашной схватки.
Длиннющие винтовки с примкнутыми штыками мрачно смотрелись на фоне коричнево-зеленой униформы убитых солдат. У них были загорелые и изможденные лица крестьян, медленно приобретавшие серый цвет. Почти все сербские солдаты носили пышные темные усы.
Чуть поодаль виднелась группа пленных. С почти восточным стоическим спокойствием они сидели на корточках, курили сигареты, жевали хлеб, пуская буханку по кругу, или просто лежали, вытянувшись прямо на земле и глядя в серое небо. Пленные даже не пытались взглянуть на тех, кто к ним подходил. Один из них, пожилой солдат, говорил по-немецки. Он был родом из Боснии и выучил язык, общаясь в течение многих лет с австрийскими солдатами.
— Нет, мы не понесли особо больших потерь. Просто не смогли больше держаться против вас, — пробормотал он, отвечая на мой вопрос. — Однако для нас война закончилась. Когда я теперь вновь увижу свой двор?
Этот последний вопрос, похоже, был единственным, который его интересовал. Острое желание поскорее вернуться к своему клочку земли, пожалуй, является характерным для всех людей, работающих на земле.
— Скоро ты вернешься домой на свой двор, — подбодрил я его.
В ответ на эти простые слова утешения пожилой солдат мне низко поклонился.
Через пару километров мы подошли к населенному пункту Вршац. Город был взят нашим разведывательным дивизионом совсем недавно. Видимо, для противника это явилось настолько неожиданным, что он оставил его без боя. Во всяком случае, следы сражения не просматривались, а на улицах царила обычная жизнь.
Здесь, в Вршаце, я наконец-то понял, почему вид балканских городов так напоминает мне родину. Здания муниципалитета, церкви, школы, ратуши и большинство городских домов были везде одинаковы. Это являлось напоминанием о временах старой монархии, которая наложила отпечаток своей культуры на строительную архитектуру. Незамысловатый стиль буквально всех построек отражал подход к этому делу некогда правившей здесь былой австрийской бюрократии. Даже стеклянные фонари на центральной улице в точности копировали светильники в предместьях Вены, позволяя в мыслях легко перенестись на несколько десятилетий назад.
Вскоре наша дивизия оказалась перед городом Панчево. Местность к востоку еще не была разведана, но по сведениям, полученным от местных жителей, к небольшой высотке мелкими подразделениями отошли сербские части. Я как раз находился в штабе полка, и мне поручили возглавить разведгруппу, чтобы выяснить, что к чему. Дороги после дождя развезло до такой степени, что для колесных машин они стали непроходимыми. В стороне же от главной дороги положение было еще хуже. Поэтому мне дали два тягача. Посадив на каждый по двенадцать человек, я отправился на задание.
Мы ехали с большой осторожностью, спешиваясь перед каждой деревне, и дальше, прикрывая друг друга, продвигались по одному. Но все наши меры предосторожности оказались напрасными. Ничего не происходило. Третья деревня оказалась самой большой и красивой, а местные жители вышли нам навстречу и приветствовали как освободителей. Оказалось, что этот населенный пункт являлся закрытым немецким поселением Карлсдорф. Никогда ранее мне не доводилось видеть столь искренней радости, как ту, которую проявляли эти люди. Они никак не хотели отпускать нас, но требовалось идти дальше и подняться на высоту. Желая нам помочь, жители предупредили, что следующие две деревни целиком и полностью населены сербами и следует проявлять большую осторожность.
По сравнению с Карлсдорфом следующие деревни выглядели весьма убого. По моему приказу ко мне доставили бургомистров, и они подтвердили, что накануне и в этот же день в сторону высоты проследовало несколько небольших групп сербских военных. Повинуясь своему внутреннему чувству, я направил второй тягач по параллельной дороге примерно в пятистах метрах южнее с тем, чтобы встретиться с ним на обратном склоне высоты. В случае возникновения опасности мы должны были продвигаться прямо по полям, оказывая друг другу взаимную поддержку.
Машины шли, находясь на расстоянии прямой видимости, изредка скрываясь то за деревьями, то за складками местности. Вскоре обе они оказались у подножия высоты. Кругом были густые заросли кустарника, закрывавшие обзор, и нам пришлось спешиться. Дальше мы продвигались в пешем порядке, а тягачи медленно ехали следом.
Внезапно со стороны второй нашей группы послышались крики, а затем раздались выстрелы. Я прыгнул со своими людьми в укрытие, а оба моих пулеметных расчета заняли огневые позиции. В этот момент откуда-то снизу прямо на нас стала надвигаться группа вражеских солдат.
— Огонь не открывать! Пусть подойдут поближе! — приказал я.
Когда первые сербы приблизились на расстояние примерно восемьдесят метров, я громко крикнул по-сербски: «Стой!»
Они озадаченно остановились, переглянулись и побежали в обратную сторону. Снизу раздалось несколько выстрелов, сербы растерялись и побросали свое оружие. Я встал, но так, чтобы в случае чего сразу же залечь за небольшим возвышением на склоне высоты. Однако выстрелы смолкли.
С высоко поднятыми руками сербские солдаты двинулись в нашу сторону. Их становилось все больше и больше! У меня перехватило дыхание, и я с ужасом подумал: «Только бы все закончилось хорошо, ведь если они узнают, что нас так мало…»
Тут сзади появилась моя вторая группа с оружием на изготовку. Когда мы собрали сербов воедино, то оказалось, что в плен попало шестьдесят солдат с тремя офицерами. Отобрав у офицеров их пистолеты, мои разведчики подобрали брошенное оружие, и все направились к краю поля, где стояли две телеги. Я приказал прицепить их к тягачам, взял с собой офицеров, а остальных пленных рассадил по подводам. Через переводчика мне удалось допросить офицеров и выяснить, что данная группа являлась последним организованным подразделением, поскольку все остальные разбежались кто куда.
Назад мы возвращались медленно и только через две сербские деревни проследовали на максимальной скорости, да так, что телеги позади тягачей пустились чуть ли не в пляс, грозя развалиться в любую секунду. Сербским солдатам пришлось не сладко, и они крепко цеплялись за дровни. Мы никого не потеряли, но в безопасности почувствовали себя только тогда, когда оказались в окрестностях Карлсдорфа.
За пару часов нашего отсутствия облик деревни изменился до неузнаваемости. Улицы были полны народу, казалось, что весь Карлсдорф находится на ногах! Когда мы с громким лязгом свернули к ратушной площади, оказалось, что улица покрыта свежескошенной травой, словно приготовленная для процессии. У здания ратуши нас остановили, и какой-то учитель произнес пару приветственных слов. Чувствовалось, что он взволнован до глубины души. От переизбытка чувств у него постоянно пересыхало в горле.
Мы не знали, что произошло. К тому же и пленные, открыв рот, как-то странно смотрели на нас.
«В чем дело? В нас нет ничего особенного», — подумал я.
Тут ко мне направился бургомистр, одетый как на праздник в черный крестьянский наряд.
«Надо хотя бы пожать ему руку», — подумал я, спрыгивая с тягача.
Но сделать это оказалось не так-то просто. Меня обступили со всех сторон так, что обеих моих рук не хватало, чтобы ответить на приветствия и взять все букеты прекрасных цветов, специально срезанных в палисадниках по данному случаю. Наконец бургомистр взял слово. В своей речи он горячо поприветствовал нас как своих земляков и выразил надежду, что мы больше не уйдем с этой земли.
— Карлсдорф никогда не забывал про свою старую немецкую родину, — подчеркнул бургомистр. — Мы сделаем все для Германии!
После такой речи он пригласил нас отведать простой крестьянской еды, которую, по его словам, для долгожданных гостей готовили во всех домах деревни.
Наша разведывательная операция, неожиданно завершившаяся радостным праздником, как и все хорошее, быстро подошла к концу. Полковник Хансен выслушал мой доклад с большим интересом, придав произошедшему гораздо большее значение, чем можно было предположить. Даже последующее описание событий, не имевших на первый взгляд к военным действиям никакого отношения, оказалось весьма существенным. Полковник немедленно связался по телефону со штабом дивизии и доложил о полученных результатах.
— Вас следует наградить Рыцарским крестом, но его вы еще успеете заслужить, — обращаясь ко мне, заявил он. — Я только что представил вас к присвоению внеочередного воинского звания обер-лейтенант и получил одобрение. Сердечно поздравляю и надеюсь, что вы правильно оцените мое решение.
Еще бы я был не согласен! Такого мне не снилось даже в самых смелых мечтах.
— Так точно! — по-военному громко рявкнул я. — Покорнейше благодарю!
Уверен, что в этот момент моя вторая, гражданская, часть души потеснилась на второй план.
Направляясь к Белграду, мы дошли до Панчева, где наш разведывательный дивизион, первым вошедший в город, сменила другая немецкая воинская часть.
Вскоре паромная переправа через Дунай была готова, соответствующий приказ отдан, и вот я уже двигался в югославскую столицу. Проезжая по улицам города, я впервые смог оценить работу наших «Штук»[44]. Тогда это зрелище еще производило на нас огромное впечатление. Дороги были завалены щебнем, а часть городских кварталов превратилась в сплошные руины. Примечательным было то, что на улицах не находилось ни одного немецкого солдата, а вот население вновь стало заполнять дороги и площади. Похоже, что жители этого большого города еще не забыли про налет нашей авиации — приветственные улыбки почти не встречались.
Несколько недель мы находились вблизи Панчева в качестве оккупационных войск.
Нам было невдомек, что нас ожидает в этом году. И хотя все чувствовали себя здесь довольно уютно, приказ о новом выдвижении мы восприняли с энтузиазмом. Для отдыха нашей дивизии был отведен район в восточной части Австрии, и я несказанно обрадовался перспективе провести несколько недель на родине.
В последующее время все были заняты лихорадочной деятельностью по восстановлению боеспособности нашего соединения. Техника нуждалась в ремонте, поскольку последний, хотя и короткий, военный поход принес неслыханное число поломок. Меня, естественно, больше всего беспокоило состояние автопарка своего дивизиона. Ведь, несмотря на то что наша дивизия была создана совсем недавно, более сотни изначально имевшихся у нас грузовиков нуждались в замене на трофейные автомобили, захваченные на Западе.
Германская автомобильная промышленность по-прежнему выпускала свои фирменные автомашины, и, хотя об унификации и стандартизации говорилось не один раз, а Гитлером был даже назначен специальный уполномоченный по данному вопросу, в войсках никакого результата мы не ощущали. Да и распределительные пункты, входившие в подчинение высших инстанций вермахта, тоже работали в этом плане недостаточно хорошо. У меня даже возникало подозрение о том, что наших проблем наверху никто не замечает. А ведь моторизация не только дала быстроту продвижения войск, она требовала еще и соответствующего тылового обеспечения.
Вопрос по обеспечению транспортных средств всем необходимым становился все более решающим независимо от того, велись ли наступательные или оборонительные боевые действия. Однако наличие множества типов автомобильной техники не позволяло наладить снабжение запчастями. В результате выход из строя автомашин на долгое время и сокращение числа работоспособного транспорта становились неизбежными.
Глава 3
Переброска к Бугу. — 22 июня 1941 года. — Великое наступление. — Брест-Литовская крепость[45]. — Коллективизм. — Болота Припяти. — На Днепре. — Русский сапожник. — Плацдарм под Ельней. — Коктейль Молотова. — Атака Т-34. — Русский метод ведения боя
В середине июня нашу дивизию перебросили в Польшу. На этот раз перевозка осуществлялась по железной дороге до города Литцманнштадт[46] (Лодзь), и мы, технические специалисты, могли облегченно вздохнуть. Ведь это означало, что хотя бы до Лодзи колесный парк машин останется в целостности. Когда техника была погружена на платформы, настала и наша очередь рассаживаться по вагонам, чтобы без забот и хлопот доехать до места назначения.
Разговоры часами вертелись вокруг цели очередного применения нашей дивизии, и никому даже в голову не приходило, что речь идет о России. Наоборот, ходили упорные слухи, что следующей целью являются нефтеносные районы Персидского залива. Россия якобы предоставит для германских сухопутных сил свободный проход, и мы войдем в Иран через Кавказ. Обсуждалась не такая уж далекая возможность превращения мусульман в друзей и привлечения их на свою сторону для защиты рынков сбыта и жизненно важного сырья.
По другой версии, нас должны были перебросить через Турцию в Египет, чтобы взять британские ближневосточные войска в клещи. Я даже прихватил с собой книгу Лоуренса «Семь столпов мудрости»[47].
В Лодзи (Литцманнштадте) произошла разгрузка, и наш дивизион покатил по пыльным проселочным дорогам. За одну ночь мы преодолели расстояние вплоть до восточной границы рейха и расположились на постой в деревне примерно в пятидесяти километрах от пограничной реки Буг южнее русского Брест-Литовска. Домишки в ней были настолько убогими, что нам больше по душе пришлась перспектива ночевать в палатках в лесу. Теперь у меня появилась возможность поближе познакомиться с неведомой мне до той поры страной. Раньше я и предположить не мог, что люди и животные могут жить так близко друг от друга. Жилые помещения и хлев располагались рядом, не разделенные даже хоть какой-нибудь перегородкой. Они как бы перетекали друг в друга, и дети буквально росли вместе с молодыми животными. Вода ценилась чуть ли не на вес золота, и ее едва хватало для водопоя и приготовления пищи.
Вскоре мы заметили, что все наши измышления о цели дальнейшего применения далеки от истины, так как подготовительные приказы указывали на скорое начало наступательных действий. Значит, речь все же шла о Советском Союзе! О таком мы действительно даже не думали! Конечно, нам было ясно, что пакт о ненападении между Германией и Россией[48] не может продлиться вечно, но чтобы разорвать его именно сейчас, во время войны? Такое предположить было невозможно!
Неужели речь шла о пагубной для Германии перспективе ведения войны на два фронта или нам все же удастся еще раз осуществить молниеносную войну? Перед нашим внутренним взором вставали необъятные просторы Русской земли, и многие из нас втайне начинали вспоминать судьбу Восточного похода Наполеона.
Но скоро все эти мрачные раздумья прекратились, ведь они все равно ничего не могли изменить! Они могли только пагубно отразиться на нашей боеспособности.
«Командование лучше знает, что делает», — решили мы.
Речь же шла о нашем главном мировоззренческом противнике, и если уж на наше поколение выпала тяжелая доля вооруженного решения данных разногласий, то следовало принять это всем сердцем.
После проведения рекогносцировки нашим батареям были определены огневые позиции у Буга. Низкий кустарник давал слабое укрытие. Тем не менее иногда в сопровождении некоторых своих товарищей по оружию я совершал прогулки по берегу реки.
На другой стороне можно было видеть русские пограничные наряды, численность которых несоизмеримо возрастала. Бросались в глаза типичные для русских границ высокие деревянные сторожевые вышки, которые я видел впервые в жизни. Наши же наблюдатели сидели на высоких деревьях, скрываясь за густой листвой. Порой и мне на полчаса приходилось вскарабкиваться на эту верхотуру.
В один не самый лучший день в штаб-квартире Гитлера «кости были брошены», машина отдачи приказов завертелась, и до нас довели день «X» начала наступления. Это было 22 июня 1941 года! В пять часов утра[49] маховик войны должен был снова прийти в движение и на этот раз направить свой огневой вал на Восток. Накануне в корпусе[50] зачитали приказ о наступлении, и командующий им генерал выступил перед командным составом обеих входивших в него дивизий с речью, проникнутой оптимизмом и уверенностью в скором разгроме противника.
— Через несколько недель в Москве состоится парад победы! — с торжествующим видом заявил он.
Интересно, исходила ли такая уверенность от чистого сердца хотя бы тогда?
Данное заявление быстро разнеслось по войскам и в первые недели воодушевляло их подниматься в стремительную атаку.
Теперь, когда пишутся эти строки, относящиеся к военному походу против России, я хорошо понимаю, что такие слова являлись не более чем напыщенной фразой. Осознали это и миллионы немецких солдат, которым на себе довелось испытать, насколько далеки от истины были подобные заверения.
Необъятные русские просторы измеряются не только одними километрами. Там раздвигаются даже границы, в которых мыслит и чувствует обычный человек. Для того чтобы понять истинную «русскую душу», требуется пожить в этой стране на протяжении многих лет. Нам, западноевропейцам, эта душа, как и необъятные просторы России, представлялась непостижимой загадкой, наполненной таинственным и бесконечным мраком.
Для того чтобы объективно описать и проанализировать события прошедшей войны, потребуется многолетний труд многих офицеров Генерального штаба. Мне же хочется поведать лишь о тех немногих эпизодах и изложить отдельные подробности случаев, свидетелем которых я стал.
Наступило воскресенье 22 июня 1941 года. Еще в полночь орудия выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции, а саперы и пехота заняли исходное положение для атаки. Как всегда перед большим наступлением, нервы у всех были на пределе. Но и в такой обстановке особенности в психике отдельных людей вполне различались. В одном месте о чем-то тихо шептались два солдата, в другом кто-то мирно спал с боевой выкладкой за спиной и зажав винтовку в правой руке. Его стали тормошить, так как он храпел слишком громко. Но раздавшийся в пять часов утра грохот канонады пробудил каждого — по всему фронту, изрыгая пламя, одновременно открыли огонь тысячи орудий. На протяжении пятнадцати минут снаряды всех калибров со свистом проносились в сторону противника. От разрывов снарядов стонала земля, а воздух дрожал, как во время сильной грозы в горах — могуче и страшно.
Наконец саперы спустили на воду десантные и надувные лодки, пехотинцы запрыгнули на них, и движение началось. Мы же со своим тяжелым оружием некоторое время оставались на месте. Вперед выдвинулись только передовые артиллерийские наблюдатели, с тем чтобы обнаруживать новые цели и корректировать огонь.
Я взобрался на громадный древний дуб и стал наблюдать за противоположным берегом. Однако только по шуму боя можно было определить, как развивалось сражение. Наши войска продвинулись уже на пять-шесть километров, докладывая об ожесточенном сопротивлении противника в отдельных местах. Однако русские части не смогли сдержать нашего яростного натиска и стали медленно отходить в леса и болота, ведя отчаянные оборонительные бои.
Построившись в походный порядок, мой дивизион двинулся по проселочным дорогам. В нескольких километрах к северу от нас возле польского городка Кодень саперы соорудили понтонный мост, и на следующее утро мы, осторожно пройдя по нему, переправились на правый берег Буга возле Брест-Литовска.
Город был уже в наших руках. Образовавшаяся длиннющая пробка дала мне возможность взглянуть на крепость, где все еще шел бой. Русские подразделения закрепились во внутренних казематах и отчаянно сопротивлялись. Внешние крепостные укрепления были уже захвачены, однако взбираться на них мне пришлось чуть ли не ползком. Русские снайперы внимательно следили за каждым движением, и стоило проявить малейшую неосторожность, как немедленно следовал меткий выстрел. На моих глазах рухнул как подкошенный не один солдат. Всякое предложение о сдаче и прекращении огня неприятелем отклонялось.
Отчаянные попытки проникнуть в казематы и взять их штурмом ни к чему не приводили. Об этом хорошо свидетельствовали лежавшие повсюду убитые, одетые в униформу защитного серого цвета. Потребовался не один день для взятия последнего убежища. Русский гарнизон держался буквально до последнего патрона и до последнего солдата.
Подобное наблюдалось и на вокзале, где подразделения противника, скрываясь в длинных подвалах, отказывались сдаваться. Как я позднее услышал, все помещения пришлось залить водой, поскольку другие попытки взять вокзал в свои руки успехом не увенчались.
Однако мы быстро забыли об этих картинах отчаянного сопротивления и вспомнили о них только в более поздних боях. Путь для продвижения вперед, так называемую рулежную дорожку, которая вела от Брест-Литовска на Восток, нам прокатывали передовые части. Но она не была широкой столбовой дорогой. Более того, слева и справа от нее наши войска вели бои, что не мешало им быстро идти вперед.
Мы видели первые подбитые русские бронетранспортеры. Эти боевые машины, несомненно, были не так хороши, как немецкие, — слишком слабая броня, да и вооружение на первый взгляд не самое новое.
Наши танки, по всей видимости, ушли уже далеко. Время от времени нам попадались брошенные ими пустые прицепы. Ведь во время длинных маршей танковые подразделения всегда прицепляли к боевым машинам пару бочек с бензином, что позволяло войскам чувствовать себя более независимо от служб снабжения.
Севернее города Кобрин у меня впервые появилась возможность своими глазами посмотреть, что представляет собой русский колхоз. Огромный склад предназначался для обеспечения жителей близлежащих деревень. Подойдя, мы застали местное население за весьма неприглядным занятием — крестьяне тащили все, что могли унести. Они нуждались во всем! Растаскивались даже деревянные поддоны и ящики. Когда русские нас увидели, они бросились наутек, но свою добычу не кинули. После того как все было спрятано, они вернулись и встали на некотором удалении, дожидаясь, скорее всего, пока мы уедем.
На складе чего только не было. Сухари из засохшего черного хлеба лежали рядом с ведрами, наполненными подсолнечным маслом, ящики с гвоздями стояли вместе с бумажными упаковками необычайно крепкого табака под названием «махорка», новехонькие и поношенные стеганые серо-коричневые ватники размещались около рабочей обуви с деревянными подошвами и традиционными валенками. Все это добро, видимо, принадлежало одному ведомству, а здесь был своеобразный распределительный пункт по снабжению окрестных деревень предметами первой необходимости. Во всяком случае, на такой вывод наталкивало отсутствие каких-либо других магазинов или лавок. Да по-иному и быть не могло, ведь разрешались лишь предприятия потребительской кооперации.
Вооружившись несколькими пачками махорки, я направился к местным жителям и попытался с ними поговорить. К сожалению, рядом не было переводчика, и мне пришлось объясняться при помощи языка жестов, понимаемого в большинстве стран мира. То, что крестьяне взяли табак, меня не удивило, но их отказ принять также немецкую папиросную бумагу был непонятен. В ответ все мужчины как один достали скомканные старые газетные листы, мастерски оторвали от них по клочку и в мгновение ока скрутили себе сигареты. В нос ударил неприятный запах горелой бумаги, но им, судя по всему, он нравился.
Постепенно мне удалось выяснить, что товары со склада отпускались крайне редко и крестьянам приходилось экономить. Например, стеганые ватники работавшим в колхозе крестьянам выдавались один раз в два года, а валенки — только каждые три года. Сахар и масло считались большой редкостью, и именно их они тащили в первую очередь. К моменту появления наших солдат этих продуктов питания на складе уже не осталось.
Крестьяне были обязаны сдавать государству все, что они производили и выращивали, а власть строго следила за соблюдением этого требования. Тем не менее, как мне показалось, людей такое положение вполне устраивало.
«Видимо, русский народ еще не избавился от пережитков крепостного права, вошедших в его плоть и кровь», — подумал я тогда.
Уже через четыре дня мы оказались в районе поселка Городец, где русские организовали так называемое сдерживающее сопротивление. Некоторое время они храбро сражались, а потом при удобном случае оторвались от наших войск и отошли. Тогда все мы были уверены, что натолкнулись на свежие части Красной армии, которые продолжали подходить из глубины. Этим же, по нашему мнению, объяснялось и то обстоятельство, что русские при благоприятной тактической обстановке организовывали весьма чувствительные для нас контратаки.
Под Городцом мне удалось наведаться в бывшую маленькую электростанцию. Ее внутренние помещения оказались совершенно пустыми. Такого мастерски проведенного демонтажа оборудования с последующей эвакуацией я еще не видел — не осталось ни одного выключателя, ни единого лампового патрона, ни даже обрывка кабеля. Часть демонтированного материала мы все же обнаружили. Он в беспорядке валялся на близлежащих железнодорожных путях. Видимо, приказ об эвакуации запоздал, и она проводилась в спешном порядке.
Двигаясь дальше в восточном направлении, мы натолкнулись на заболоченные территории Припяти. Для чужаков они были непроходимыми. Тем не менее советское командование именно их мастерски использовало для подтягивания свежих крупных воинских частей.
К северу от маршрута нашего продвижения местность была слегка холмистой. Необъятные пахотные колхозные поля перемежались с такими же бескрайними невозделанными зелеными лугами. Их разделяли большие лесные массивы. Судя по всему, здесь ничего не знали о прореживании — для заготовки дров просто начисто вырубались большие просеки. Окультуриванием лесных массивов здесь никто не занимался.
Деревни, через которые мы проходили, оказывались по большей части пустыми — население по распоряжению властей отправлялось на Восток. Линии фронта как таковой не было, и немецкие дивизии просто маршировали в восточном направлении. При этом тылы за ними часто не успевали, и снабжение удавалось налаживать с большим трудом. Области, которые мы проходили, от остатков вражеских частей не очищались. Поэтому любое отставание в результате поломки автомашины представляло собой большую опасность. Ведь в тылу орудовали регулярные воинские подразделения противника, которые нападали на небольшие колонны, двигавшиеся в сторону главных сил.
Фронт, по сути, превратился в многочисленные отдельные схватки небольших подразделений и частей. Растянувшись по фронту, части нашей дивизии тоже сражались на значительном удалении друг от друга, причем головные из них находились уже в районе реки Березины. Они собирались было переправиться на другой берег, как вдруг натолкнулись на ожесточенное сопротивление русских. Это привело к тому, что разведывательный дивизион и пехотный батальон, поддерживаемый батареей нашего артиллерийского дивизиона, застряли. В нескольких километрах позади них на перекрестке дорог остановился и штаб дивизии. Небольшой жилой автоприцеп командира нашей дивизии, которого мы меж собой называли «папашей Хауссером», встал возле опушки леса. Здесь же был и небольшой штаб моего полка, в котором находился и я.
— Уже час дня, а у меня в животе урчит, — ругался полковник Хансен. — Было бы неплохо перехватить чего-нибудь горяченького.
— Этому можно помочь, — ответил я и, к его великому изумлению, словно фокусник, извлек из своей машины пару яиц и шмат сала.
Перед ступеньками штабного вагончика я развел костерок, и вскоре немного подгоревшая и подкопченная на дыму яичница была готова. Не успели мы толком поесть, как вдруг полковник резко вскочил и, приказав мне следовать за ним, бросился к опушке леса, находившейся сразу же за нашим вагончиком. Внезапно позади нас раздались три или четыре, не помню точно, хлопка от разрывов снарядов. Все стены вагончика были иссечены осколками, а нам хоть бы что. Столь ярко выраженную способность чувствовать приближающуюся опасность, какую обнаружил командир нашего полка, я наблюдал впервые в своей жизни. Позднее о ней слагали чуть ли не легенды.
Генерал Хауссер вызвал к себе на совещание командира полка, который, вернувшись, ознакомил нас со сложившейся обстановкой. Головные части дивизии, в том числе и мы, слишком далеко оторвались от основных сил, и было совершенно неясно, свободна ли от противника дорога, по которой нам надлежало идти. Мощности же наших радиостанций не хватало, чтобы по радио запросить подмогу авиации, базировавшейся в ста двадцати километрах от нас. Поэтому следовало, как минимум, подтянуть остатки моего артиллерийского дивизиона.
Я вызвался вернуться за ними. В мое распоряжение выделили мощный вездеход «Хорьх» и пятерых солдат в сопровождение. Все наше вооружение состояло из одного пулемета и пяти автоматов. На моей карте маршрут нашего движения был отмечен, и мне примерно представлялось, где следует искать дивизион. Но я знал, что наши карты не совсем точны, поэтому ехать приходилось, повинуясь больше интуиции.
«Ничего, — подумал я, — как-нибудь сориентируюсь».
Езда в сопровождении всего нескольких человек по территории, еще не освобожденной от противника, представляла большую опасность, но, как офицеру, мне, естественно, не пристало выказывать свои чувства. Наш путь лежал через необъятные леса, и нам часто приходилось объезжать глубокие, наполненные жидкой грязью ямы, чтобы не застрять. Наши нервы были на пределе, и порой мы слышали то, чего на самом деле не было. Не раз кто-нибудь из солдат давал очередь по подозрительному шороху за деревьями, а водитель давал полный газ.
Примерно на полпути нам попалась деревня. Я помнил, что мы во время марша проследовали прямо через нее, но какое-то внутреннее чутье подсказало мне, что следует проявить осторожность и воздержаться от старой дороги. Наш вездеход свернул влево, и дальше нам пришлось ориентироваться по компасу, поскольку на карте новый путь обозначен не был.
Прошло около семи часов, и наступил уже вечер, когда мы нашли свой дивизион. Там я и узнал, к своей радости, что прежняя дорога действительно оказалась снова занятой русскими. Так что новый маршрут был разведан как никогда вовремя.
Назад вместе со всем дивизионом мы двигались гораздо медленнее. Ночью окружающий ландшафт предстает иначе, чем днем, и я, следуя во главе колонны, не раз предавался раздумьям — следует ли принять влево, или более правильнее будет ехать вправо? Остатки горючего приходилось экономить, и нам доставалось, когда мы преодолевали песчаные или заболоченные участки. То и дело какая-нибудь машина застревала, и солдаты были вынуждены вытаскивать ее буквально на руках.
В полдень наконец-то появился командный пункт полка. Нас еще не ждали, и все были несказанно рады нашему появлению. Полковник Хансен от всей души похвалил меня и заявил, что при случае обязательно представит меня к награде.
К югу от деревни Божино мы переправились через Березину, потеряв здесь три дня, чтобы завоевать плацдарм на другом берегу реки. Русские подтянули сюда значительные силы и упорно оборонялись. За четырнадцать дней Восточного похода нам пришлось научиться работать лопатой. Редко когда удавалось оборудовать командный пункт на поверхности земли. По большей части приходилось вырывать глубокие узкие норы. Теперь даже для сна мы постоянно копали узкие окопы и прятались под землей, поскольку в воздухе то и дело проносились осколки от снарядов. Русская артиллерия стреляла часто и метко.
Дальше наш путь шел к Днепру. Длящийся часами дождь как бы предупреждал о том, что нам здесь еще предстоит пережить. Мы буквально вязли в жидкой грязи, а небольшие глинистые холмы превращались в почти непреодолимые препятствия. Уже первая сотня грузовиков, следовавших по единственной дороге, оставляла после себя ямы в метр глубиной, в которых тонули шедшие за ними машины. Их постоянно приходилось вытаскивать, и это давалось с большим трудом.
Заботливо заготовленные заранее «гибкие колейные покрытия» давно утонули в грязи, и мы вынуждены были рубить молодые деревца, чтобы вымостить ими проезжую часть.
Тем не менее наши части хотя и очень медленно, но все же продвигались вперед. Рессоры у машин не выдерживали и ломались так часто, что вскоре у нас осталось не так уж и много автомобилей, способных выдержать подобную нагрузку. За весьма короткое время взятые с собой запасы стальных рессор были израсходованы, и мы встали перед проблемой, где раздобыть новые. Рассчитывать на брошенные противником грузовики, сиротливо стоявшие на обочине, не приходилось, поскольку каждая проходящая мимо воинская часть старалась снять с них все, что можно. Через короткое время от этих машин оставались лишь непригодные останки, и позже вдоль русских дорог стояли тысячи таких автомобильных скелетов.
Южнее города Шклов после короткого боя мы переправились через Днепр. Однако намеченная командованием дорога оказалась непроходимой, и большая часть нашей дивизии вынуждена была перебираться через реку севернее по наспех возведенному понтонному мосту. В этот момент до нас дошла ужасная весть о том, что единственная саперная рота, остававшаяся для обеспечения нижнего моста, ночью подверглась нападению русских. Кровавой бойни удалось избежать лишь двум солдатам, которые и рассказали о разыгравшейся трагедии. Картина боя говорила сама за себя, давая понять, с какими ожесточенными сражениями нам придется столкнуться здесь, на Востоке.
Почти не встречая сопротивления, мы проследовали поселок Сухари и вступили в город Чериков. После Брест-Литовска это был первый крупный населенный пункт, в котором мне довелось побывать. Кроме горстки каменных зданий в центре поселка, который по своей протяженности вполне можно было назвать городом, везде виднелись типичные для России деревянные избы. Часть улиц оказалась даже мощенной, правда давно у нас забытыми средневековыми булыжниками. Бросалось в глаза изобилие на улицах громкоговорителей, что смотрелось диковато. Они были развешаны на столбах и воротах через каждые двести метров. Во всем городе только в одном доме, как пережиток былой роскоши, обнаружился старенький электромагнитный громкоговоритель, но и он являлся частью общегородских коммунальных услуг. До самой Москвы я нигде не увидел ни одного частного радиоприемника.
Для удобства во время этого военного похода я носил любимые солдатами сапоги с коротким голенищем или старые охотничьи сапоги из личного гардероба. По крайней мере, хоть одна пара обуви у меня всегда была сухой. Однако клейкость навоза, который попадался под ноги не только на полях, но и на дорогах, оказалась для подметок моих охотничьих сапог слишком серьезным испытанием. Между тем сапожная мастерская нашего полка находилась бог знает где, и я вынужден был заняться поиском сапожника. В противном случае мне пришлось бы браться за иголку самому.
Искомого мастера я обнаружил на окраине Черикова. Судя по всему, частника. Через маленькую прихожую дверь вела в единственное большое помещение избы, где собралась вся семья, причем хозяин дома восседал на своем рабочем месте у окна. Договориться с ним удалось с помощью пачки сигарет и буханки немецкого солдатского черного хлеба. Мне поставили табуретку, я снял свои сапоги, и мастер принялся за работу — обстукивать и прошивать их.
«Инструмент у представителей данной профессии во всех странах одинаковый», — подумал я.
Во всяком случае, молоток и игла, сапожный нож и шило, крученые нитки, треножник и деревянные колодки были в точности такими же, как в какой-нибудь маленькой сапожной мастерской в Германии. Только эти были немного беднее и более поношенными.
У меня появилась возможность оглядеться. Один угол занимала громадная, почти два метра в высоту каменная печь с открытой топкой. Наверху на не поддающихся определению обрывках покрывал лежало трое маленьких детей, старшему из которых было лет десять. Перед печкой стояла слегка покосившаяся скамья, у стенки — огромная кровать, а под висящей поношенной одеждой прямо на полу на соломенном матраце лежала старая бабуля. Рядом виднелся небольшой деревянный топчан, на котором в беспорядке была разбросана старая одежда вперемешку с пучками соломы. На топчане, прижавшись друг к другу, по-турецки сидело еще два ребенка, не сводя с меня глаз. Они испуганно отвернулись, когда я посмотрел на них.
Широкие щели в деревянном полу указывали на ветхость постройки. Несмотря на июльскую жару, окна были плотно закрыты и, судя по запаху, стоявшему в помещении, много дней не открывались. Стены украшали только пестрый плакат, а также несколько помятых и наполовину порванных бумажных вырезок.
Буханку хлеба хозяйка дома положила на полку возле окна, видимо желая поберечь ее, и стала суетиться возле плиты, где на открытом огне на железной треноге в горшке готовился напиток, напоминавший чай. Судя по запаху, заваривался чай из ежевики. Между тем женщина начала помешивать какую-то мучнистую кашу в глиняном горшке, и мне стало интересно, что из этого получится. Сняв горшок с чаем, она поставила на треногу слегка вогнутую железную плиту, скорее всего заменявшую сковородку, а затем бросила в тесто немного крупной соли серого цвета. Потом при помощи полотенца хозяйка сняла с треноги импровизированную сковороду, смазала ее чем-то непонятным темного цвета, вытрясла на смазанное место тесто из глиняного горшка и вновь водрузила железную плиту на открытый огонь.
«Что бы это могло быть?» — ломал я себе голову, пытаясь понять, что скрывалось под непонятным «нечто» темного цвета.
Наконец я не выдержал, встал с табуретки и, как был в носках, направился к полке, на которой лежал загадочный предмет. По характерному прогорклому запаху мне стало ясно, что передо мной старая шкварка, с чьей помощью на сковородку наносился слой жира.
Вся семья заметно оживилась. Бабушка даже приподнялась немного со своего ложа и повернула голову в сторону печи. При этом к ее сильно морщинистому лицу прилипло несколько соломинок. Но она, казалось, даже не обратила на них внимания. Двое старших ребятишек осторожно спустили ноги с топчана и уселись на корточках на полу. Младшие дети, цепляясь за шесты, ловко спустились с печи и замерли в ожидании. Даже хозяин дома несколько раз отрывался от работы, чтобы бросить косой взгляд в сторону плиты.
Наконец хозяйка прямо на скамью стрясла с импровизированной сковородки первую лепешку. Самый старший из ребят не спеша подошел, схватил кусок зажаренного теста и с жадностью начал его есть. Лепешка, несомненно, была очень горячей, но ребенок, казалось, не замечал этого. Теперь по очереди мать стала кормить других детей, а затем свою долю получила и бабушка. Причем ее лепешка была положена прямо на лохмотья, которыми прикрывалась старушка. Следующим свою порцию получил и отец семейства. Его долю жена стряхнула на замызганный рабочий стол. Последнюю лепешку взяла себе мать и принялась с отрешенным видом медленно жевать ее. Казалось, что для этих людей не было большей радости, чем просто поесть. Все происходило чисто автоматически, и даже жесты бледных и плохо выглядевших детей в точности повторяли поведение изможденных взрослых.
Это гнетущее впечатление, возможно, усиливало отсутствие в данном помещении хоть какой-нибудь яркой краски. Все было серым и мрачным. Даже одежда людей по цвету ничем не отличалась от окраски стен, которые смотрелись чуть светлее, чем более темный пол. Голые ноги обитателей тоже были серыми от въевшейся пыли, покрывавшей не только улицу, но и сам дом.
Не исключено, что царившему в избе молчанию способствовал мой визит. Слышалось только постукивание молотка мастера, и я радовался про себя, что мне, как гостю, не предложили позавтракать вместе с хозяевами. Закурив и выпустив облако дыма, чтобы приглушить неприятный запах, я угостил сигаретой и мастера, протянув ему свою пачку. Хозяин отдал сигарету жене, та прикурила ее от зажженной лучины и вернула мужу. По глубоким затяжкам сапожника мне стало ясно, что он привык к более крепкому табаку.
Наконец мои сапоги были готовы — свежепрошиты и пробиты, и я поспешил надеть их. К чести мастера надо признать, что они верой и правдой прослужили мне еще несколько месяцев.
Собираясь уходить, я протянул мастеру руку. Все обступили меня и по-русски произнесли приветственные слова. Уже на улице мне бросилось в глаза, что вся семья столпилась у окна и стала наблюдать за мной из-за потрескавшихся и заклеенных во многих местах оконных стекол.
«Вряд ли эти люди обрадовались столь неожиданному визиту немецкого солдата, однако он не мог не вызвать у них хоть каких-нибудь чувств», — подумалось мне тогда, так как из головы не выходило выражение глубокого безразличия на их лицах.
Перед нашей дивизией была поставлена задача выйти юго-восточнее Смоленска к железнодорожному узлу Ельня. Рядом с нами шел пехотный полк «Гроссдойчланд», который являлся элитной воинской частью германских сухопутных войск. Мы продвигались вперед, почти не встречая сопротивления, и нам казалось, что длинный путь на Восток свободен, а главные силы советской армии полностью разбиты. Все были уверены, что эта война окажется такой же молниеносной, как и другие военные походы.
Меньше чем через три недели в середине июля мы взяли городок под названием Ельня и сверх того, нанеся удар, создали плацдарм радиусом примерно восемь километров. Моему дивизиону было приказано занять позиции в крайней восточной точке по центру выступа фронта, в то время как большинство немецких частей находилось еще далеко позади.
Первые несколько дней прошли относительно спокойно. Русские, правда, пытались атаковать в нескольких местах, но безуспешно. В штабе полка, который мне часто доводилось посещать по служебным делам, стало известно содержание радиограммы противника о том, что Сталин поручил командовать советскими войсками под Ельней маршалу Тимошенко[51]. Ему было приказано уничтожить элитные немецкие войска, а именно дивизию СС «Райх» и полк «Гроссдойч-ланд», «этих гитлеровских собак», как значилось в радиограмме. О том, какие силы были выделены для решения данной задачи, мы узнали уже в самые ближайшие дни, на себе почувствовав, что это были не пустые слова.
В один не самый лучший день по нашим позициям, оборудованным для круговой обороны, обрушился невиданный по силе шквал артиллерийского огня. Беспрерывный огонь, скорее всего, велся орудиями корпуса тяжелой артиллерии[52]. Мы стали закапываться в землю еще глубже, оставив машины в небольшом укрытии на обратном склоне высоты, находившемся рядом с огневыми позициями моего дивизиона. Окопы и блиндажи были отрыты на два метра в глубину и почти по всей длине перекрыты бревнами, которые укладывались друг на друга крестом в несколько слоев и пересыпались землей.
Каждый день приносил с собой новые, становившиеся все более ожесточенными атаки русских. По нашим позициям велся непрерывный артиллерийский огонь, противнику постоянно удавалось немного вклиниваться в нашу оборону, и положение приходилось восстанавливать в ходе кровопролитных контратак. Обе стороны бились с неслыханным ожесточением, не добиваясь существенного успеха. Но судьба приготовила для нас еще один сюрприз — в один из дней русские бросили в атаку новые танки, которые раньше нам видеть не приходилось. Это были ставшие потом известными на весь мир Т-34.
Наши тогдашние противотанковые пушки оказались перед этими стальными махинами бессильными, и нам с большим трудом удавалось остановить сопровождавшую их пехоту. Но танки прорывались. Тогда речь еще не шла о массовом применении этих боевых машин, но и атаки двадцати — тридцати танков нам хватало вполне. Позади переднего края обороны то и дело слышались сигналы «танковой тревоги».
На засеянных рожью полях, раскинувшихся вокруг холма на нашем плацдарме, то тут, то там возникали серого цвета солдаты, а над посевами возвышались танковые башни, водя длинными стволами своих пушек то влево, то вправо и стреляя по всему, что представлялось им целью. Позади этих чудовищ выскакивали наши солдаты с «коктейлями Молотова» в руках — стеклянной бутылкой бензина, заткнутой пробкой, через которую был продернут хлопчатобумажный лоскут ткани. Перед броском этот лоскут поджигался, бутылка разбивалась о горячую бронеплиту, прикрывавшую мотор танка, и вскоре огонь охватывал всю машину.
Можно только представить себе эту потрясающую картину, когда солдат в рубашке с закатанными рукавами и с одной бутылкой в руках преследовал танк. Как ни странно, пусть не сразу, а спустя несколько часов, но эти чудовища всегда удавалось обезвреживать. Причем солдаты поднимались на них не только с бутылкой, но и с ручными гранатами и даже пистолетами. Меткий бросок гранаты в дуло стального колосса или в приоткрытый люк на башне все же принуждал экипаж к сдаче.
Командный пункт нашего дивизиона находился на восточной окраине Ельни, подготовленной к круговой обороне, на вершине небольшого холма, частично занятого полями с рожью. Пути подъезда к нему могли просматриваться противником, поэтому целесообразно было либо сделать небольшой крюк, либо пройти последний километр пешком. Русские артиллерийские наблюдатели повсюду имели отлично подготовленные позиции и реагировали на каждое движение. Иногда часть из них вместе с рациями прокрадывалась ночью через наши передовые позиции и оборудовала хорошо замаскированные наблюдательные пункты внутри плацдарма. Даже шлейфа пыли от мотоцикла было достаточно, чтобы немедленно вызвать по этому месту огонь.
Мне кажется, что тогда все мы медленно, но уверенно начинали покрываться грязью. Вода ценилась на вес золота, и наши полевые кухни были вынуждены каждую ночь отправляться далеко в тыл, чтобы раздобыть воду для приготовления пищи. О том, чтобы помыться, не говоря уже о стирке, и речи не было. К моей несказанной радости, рядом с моим блиндажом в глубокой глиняной яме собралось немного воды. Эту лужу я использовал для того, чтобы помыться. Но воды в ней хватило только на один раз. Для чистки зубов и бритья приходилось жертвовать утренней чашечкой кофе. Все же остальное откладывалось до лучших времен.
Через четырнадцать дней, то есть к началу августа, потери нашей дивизии стали настолько большими, что потребовался отход в тыл для пополнения ее личным составом и отдыха. Ночью нас сменили две свежие дивизии, и мы направились на запад, радуясь предстоящим дням заслуженного отдыха. Но наша радость оказалась преждевременной — нам не дали уйти далеко. Вскоре поступил новый приказ, согласно которому дивизии срочно предписывалось обеспечить защиту северных флангов и занять позиции вдоль автострады, шедшей на Ельню. С севера ожидалось наступление крупных сил противника, и их надлежало перехватить.
Наши мечты об отдыхе развеялись как дым, и мы отправились занимать новые позиции. Местность там была менее пригодной для организации обороны — холмы покрывали большие полосы леса, и именно здесь нам довелось познакомиться с новой тактикой ведения русскими ночного боя. Противник просачивался мелкими группами в глубину нашей обороны, собирался там и внезапно атаковал ночной лагерь какой-нибудь части. Почти каждую ночь нас поднимали по тревоге, а командные пункты приходилось охранять усиленными патрулями.
Здесь в полной мере проявилась самобытность русских солдат. Во время этих ночных нападений они передвигались так же уверенно, как днем, сражались упорно и яростно, используя всевозможные хитрости. В конечном счете их просто невозможно было захватить, поскольку с наступлением светлого времени суток они скрывались в лесах, которые в силу этого постоянно таили в себе опасность. Применяя столь разрушительную тактику, русские вначале добились немалого успеха и нанесли нам большие потери. Позднее мы научились правильно планировать свои действия и отражать подобные ночные нападения, организуя особую караульную службу и выделяя сильные специальные резервы реагирования, которые находились в полной боевой готовности в нужных местах.
Командный пункт моего боевого товарища, обер-лейтенанта Шойфле, располагался примерно в трехстах метрах от главной линии обороны, проходившей по плоской долине. Добираться до нее приходилось чуть ли не ползком с соблюдением всех мер предосторожности. Напротив, на русской стороне, была небольшая впадина, и мне до сих пор непонятно, почему именно здесь противник решил осуществить прорыв. Как бы то ни было, русские более двенадцати раз предпринимали попытки атаковать по этой долине, и каждый раз в массовом порядке. Наш дивизион хорошо пристрелялся по данной узкой полоске местности, и при каждой атаке русские солдаты залегали уже при первых артиллерийских выстрелах. Вскоре постоянное повторение этих попыток атаковать стало нас ужасать. Ведь убитые лежали друг на друге буквально штабелями, а нам приходилось по ним стрелять и стрелять, поскольку эти образовавшиеся укрытия из некогда живых людей русские пытались использовать при приближении к нашим позициям.
Я частенько часами сиживал в укрытии у обер-лейтенанта Шойфле, поскольку за этим опасным участком местности требовалось вести постоянное наблюдение. С одной стороны, нас радовала эффективность применения наших артиллерийских орудий, поскольку лишь единицы русских солдат достигали дальности действительного огня стрелкового оружия, но, с другой стороны, постоянный вид этой низины, наполненной телами убитых, вызывал чувство омерзения. Причем мы ни разу не видели, чтобы русские предприняли хотя бы одну попытку вынести раненых. Возможностью спастись обладали лишь те, кто еще мог двигаться и пытался в перерывах между атаками доползти до своих. С подобным проявлением упрямства и тупости, с которым русские раз за разом, невзирая на неблагоприятную обстановку, стремились достичь поставленной цели, нам потом доводилось встретиться не раз.
На данном участке фронта русские систематически осуществляли также налеты авиации. Это были современные двухмоторные и быстрые машины. Однако в силу того, что не только люди, но и техника укрывались в хорошо оборудованных окопах, обычно ничего плохого не происходило. К тому же наши истребители во всем превосходили советские самолеты.
На этом участке боевых действий мы смогли научиться у русских еще много чему новому. На одной взятой нами русской позиции я впервые увидел круглый одиночный окоп примерно восьмидесяти сантиметров в ширину и двух метров в глубину. Он не был обнесен бруствером, и вокруг не просматривалось никаких следов от вынутой земли. Эти следы были тщательно устранены, и поэтому окоп становился видимым лишь на расстоянии нескольких метров. Одна только шанцевая работа по возведению столь узкой дыры вызывала уважение. Позже от военнопленных мне довелось услышать, что на рытье подобного окопа у них уходило не больше часа.
Все-таки русские действительно являлись мастерами в вопросах маскировки. Из поля зрения исчезала любая техника, когда она занимала свои позиции, целиком спрятавшись в земле. Рядовой состав умело применялся к местности, используя маскировочные сети и различные природные вспомогательные средства, и солдат практически невозможно было различить. Свои наблюдательные пункты они маскировали под стволы деревьев, что не давало возможности их обнаружить. Здесь я воочию увидел, насколько ближе к природе оказался этот народ, чем мы, немцы.
Глава 4
На отдыхе. — Первая награда. — Иван. — Русские дороги. — «Живая» Украина. — Подводные мосты. — Способность русских переживать страдания. — Советская интеллигенция
Примерно через неделю нас все же отвели на отдых в местечко неподалеку от Рославля. Как раз в этот момент я ухитрился заработать страшную дизентерию, но посещать полевой госпиталь мне не хотелось, поскольку было общеизвестно, что в лазаретах люди становились только еще более больными. Я позволил нашему доктору прописать мне строгую диету и выписать различные пилюли.
Я еще довольно слабо держался на ногах, когда меня вызвал к себе наш командир, передав, чтобы я явился к нему с каской и полной боевой выкладкой.
Мне не оставалось ничего иного, как выполнить приказ, предварительно спросив себя, уж не провинился ли я в чем-нибудь? Но моя совесть была чиста. Доложив о себе, как полагалось по уставу, я внутренне собрался и приготовился к худшему, но лицо моего друга, который в служебных вопросах не терпел фамильярности и не допускал никаких шуток, было весьма приветливым. Сказав полагающиеся в таких случаях слова, он вручил мне Железный крест второй степени. Признаюсь, что в этот момент я гордился собой и думал о прощальных словах моего отца. Испытанная радость от награды и последовавшее вслед за этим «обмывание» чудесным крымским вином, вероятно, послужили лучшим лекарством, и я быстро пошел на поправку.
Преисполненный служебного рвения, я принялся за исполнение своих служебных обязанностей по обслуживанию вверенных мне машин, которые менее чем за восемь недель с начала Восточной военной кампании пришли в ужасающее состояние. Мое ремонтное подразделение еще несколько недель назад подобрало из числа русских военнопленных шестерых автомехаников, согласившихся следовать с нами и помогать в проведении ремонтных работ. К нашему великому изумлению, эти парни оказались весьма искусными и находчивыми мастерами. Они были великолепными слесарями-сборщиками и находили выход в любой ситуации.
Самым лучшим и ловким из них оказался Иван, коренастый блондин с живыми умными глазами. Волосы у него, как и у всех русских солдат, были коротко подстрижены и торчали, словно щетка. Его форма сохранилась довольно хорошо, и он не противился проведению предписанных мною утренних и вечерних процедур по приведению одежды в порядок. Многие из нас уже тогда страдали от вшей, и надо сказать, что с данной напастью познакомился почти каждый солдат, побывавший на Восточном фронте. Воды здесь хватало, и мы старались утопить в ней эту гадость.
Как-то раз я не смог найти Ивана и спросил мастера, в чем дело. Тот смутился и, потупив глаза, пролепетал:
— Я дал Ивану по его просьбе отпуск на двадцать четыре часа. Его родная деревня находится под Смоленском, в каких-то сорока пяти километрах отсюда. Он хотел всего одним глазком взглянуть на своих родных и обещал немедленно вернуться.
Со мной чуть было не приключился припадок бешенства.
— Он никогда не вернется! — заорал я на мастера. — По вашей глупости мы потеряли лучшего помощника!
Я был твердо уверен, что больше Ивана мы не увидим. Каково же было мое удивление, когда на следующее утро он явился с радостной улыбкой на лице.
Из потока его слов мы смогли лишь понять, что с его семьей ничего не случилось и все его родственники живы и здоровы. Я был почти уверен, что главной причиной возвращения Ивана послужили наполненные доверху миски с едой из нашей полевой кухни, ведь он вместе со своими товарищами был поставлен на полное войсковое довольствие. Кроме того, они были постоянными гостями на кухне во время утилизации остатков еды. Оставалось только удивляться, откуда бралось столько места в солдатском желудке? Можно было реально наблюдать, как раздувался их живот при жадном поглощении пищи, поскольку предела насыщения у них не ощущалось. За один присест с легкостью исчезала буханка черного солдатского хлеба и восемь порций айнтопфа. Но вот что удивительно, сразу после столь обильной трапезы они легко принимались за работу и прилежно трудились. Жара на них практически не влияла, и все шестеро, судя по всему, чувствовали себя у нас просто великолепно.
От командира полка по секрету я узнал, что нашей дивизии предстоит выполнение новой задачи. Вскоре пришел и сам приказ, согласно которому нам следовало в спешном порядке совершить четырехсоткилометровый марш на юг с тем, чтобы восточнее Киева замкнуть кольцо окружения нескольких русских армий. На этот раз погода была против нас — обложной дождь превратил всю местность, по которой нам предстояло идти, в заболоченную пустыню из жидкой грязи. Однако позднее, в отличие от Белоруссии, Украина своими приятными неожиданностями и различными мелочами несколько компенсировала выпавшие на нашу долю лишения при преодолении трясины. К тому же в данном вопросе со временем сами мы стали более опытными, а наши вкусы — менее прихотливыми. Когда возле крестьянских изб нам стали попадаться яблони и сливы с несобранным урожаем, нашей радости не было конца.
Фрукты не только радовали нас вкусом, но и доставляли наслаждение одним своим видом. По сравнению с однотонными грязно-серыми пейзажами центрального участка фронта здесь время от времени мелькал пестрый передник какой-нибудь крестьянки или красная ленточка в волосах молоденькой девушки.
Другой приятной неожиданностью для нас явилось наличие при каждом доме небольшого палисадника. В некоторых из них находилось место и для цветов. Одних этих цветных пятнышек хватало, чтобы данная земля казалась нам не такой чужой и зловещей. Судя по всему, мы находились в одной из одаренных щедротами природы местностей Советского Союза. Здесь население по большей части осталось на своих насиженных местах, тогда как на центральном участке, скорее всего по строжайшему приказу, оно было эвакуировано.
Несмотря на запрещение докторов употреблять воду из колодцев, действовавшее до сих пор, мы находили ее вполне пригодной для питья и очень неплохой на вкус. Иногда при заборе воды нам удавалось вступить в контакт с крестьянами, правда весьма поверхностный. Мне они показались более открытыми, чем жители северных районов. Люди не выглядели голодными и могли сравниться с известными нам типами западноевропейских крестьян. Война не помешала украинцам прилежно трудиться, хотя, возможно, им и не хватало необходимых машин. Они, как и прежде, работали и собирали урожай, не обращая внимания на разворачивающиеся военные события.
Перед форсированием реки Десны прошли ожесточенные бои. В нескольких километрах южнее по течению русские продолжали удерживать позиции на нашем берегу и доставляли нам немало хлопот.
Никто не мог понять, каким образом русским удается организовать снабжение через водную преграду. Самолеты люфтваффе каждый день летали вдоль реки в поисках моста, но все было напрасно. Только после, когда мы овладели всем правым берегом, разгадка неожиданно нашлась: русские, естественно втайне от нас, построили временный мост примерно на тридцать сантиметров ниже уровня воды и осуществляли передвижения по нему в ночное время суток. Это была великолепная тактическая идея, прекрасно претворенная в жизнь с инженерной точки зрения, и меня не переставало удивлять, как такое могло сочетаться с характерным для этой страны примитивизмом? Видимо, правящему здесь режиму удалось сформировать некую духовную элиту, которая теперь верой и правдой служила нынешнему правительству.
Под городом Ромны[53] мы достигли самой южной точки нашего продвижения, где предполагалось захлопнуть клещи вокруг котла. Число пленных возросло до сотен тысяч[54]. В местечке, где расположился мой дивизион, обнаружился русский военный госпиталь, и мне хватило одного лишь взгляда, чтобы понять, что уровень организации медицинского обслуживания раненых у русских значительно отставал от того, как это дело было поставлено в германских сухопутных войсках. Просто поразительно, с какой стойкостью переносил русский солдат боль от полученных ранений, насколько выносливее по сравнению с западноевропейцем он оказывался в физическом отношении. Я собственными глазами видел, как один солдат, которому буквально несколько часов назад ампутировали обе руки, встал со своего соломенного тюфяка и самостоятельно направился в туалет во дворе. Мне даже показалось, что он находил само собой разумеющимся то обстоятельство, что никто из обслуживающего персонала не пошевелился, чтобы ему помочь.
Колонны пленных шли мимо нас нескончаемыми вереницами. И здесь мне довелось наблюдать совершенно иную картину. Женщины, одетые в форму, как обыкновенные солдаты, и которых порой невозможно было различить, маршировали вместе с мужчинами. Одна из женщин с плечом, наполовину искромсанным осколком снаряда, обмотала рану старой рубашкой и шла, никого не прося о помощи. Она даже отклонила предложение об отправке в лазарет.
Я видел и другого русского, которому оторвало ногу. Он обмотал культю веревкой, а поясным ремнем притянул деревянную чурку к остатку голени. Опираясь на две палки, как на костыли, солдат, не жалуясь, шагал в плен по бесконечной дороге вместе со своими боевыми товарищами. В залепленных грязью униформах болотного цвета эти люди плелись молча, не выказывая эмоций, и только блеск глаз выдавал, насколько они были голодны.
Вскоре после ликвидации котла мы получили приказ вновь отправляться на север. Районом сосредоточения снова была назначена местность в ста двадцати километрах южнее Смоленска под Рославлем. По воле судьбы это было именно то место, где мы вытягивались в колонну, начиная марш на юг.
В эти дни я старался выкроить как можно больше времени, чтобы поближе познакомиться с этой страной и ее населением. Мне хотелось получить новые впечатления не в качестве немецкого солдата, то есть врага, а как человека, готового к познанию нового. Но для настоящего ознакомления с повседневной жизнью русских требовался контакт с местным населением. Вот тут-то мне и помогла одна русская девушка, которую звали Нина Р. Во время боев под Смоленском она бежала на юг и оказалась в той же деревушке, в которой стоял мой дивизион.
Нина, которой на вид было лет двадцать восемь, сразу же обратила на себя внимание своей интеллигентной манерой поведения и яркой одеждой. Она не носила принятый во всем Советском Союзе серо-коричневый рабочий наряд, который в Белоруссии вообще являлся единственным нормальным туалетом, а одевалась в простенькое, немного поношенное ситцевое платье. Попробую передать в точности ее рассказ.
Муж Нины, инженер-механик, в 1940 году был на пять лет сослан в Сибирь, и она потеряла всякую надежду когда-нибудь увидеть его вновь. Сама она была учительницей и восемь лет преподавала сначала в начальной школе, а затем в так называемой десятилетке, что соответствует европейской средней школе. В царское время ее отец являлся учителем гимназии в Смоленске. После большевистского переворота в 1918 году обнаружилось, что семьдесят процентов населения оказалось неграмотным. В 1940 году таких оставалось уже от двадцати до тридцати процентов.
— Я не идейная коммунистка, но необходимо признать, что в области воспитания и образования за прошедшие годы было действительно сделано очень многое, — заявила девушка. — Огромное число неграмотных, доставшееся в наследство от царского режима, явилось для новых властителей в Кремле благодатной почвой, позволившей легко влиять на умы людей в нужном направлении. Задачей воспитания масс, где во главе угла стояло коммунистическое воспитание, занимались все — от министра просвещения до последнего советского работника в деревне.
Далее Нина поведала, что в 1918 году Советское государство поставило перед собой цель создать новую, преданную ему прослойку интеллигенции. Ученые и инженеры царской России либо погибли во время революции, либо эмигрировали в Западную Европу в годы Гражданской войны, а те, кто остался, оказались сосланными в Сибирь. Служащие-интеллигенты, которым удалось удержаться на своих местах и которых можно было по пальцам пересчитать, выдавались за членов различных революционных социалистических групп, своевременно примкнувших к безраздельно правящим «большевикам». Полная самоизоляция России от всего мира создавала благоприятные условия в деле воспитания подрастающего поколения.
— Мы ничего не знали о том, как живут люди в других странах, и, не имея возможности заглянуть в другой мир, работали только во имя построения и развития нашего государства, — подчеркнула девушка. — Мы верили, что наша форма правления, созданная товарищем Сталиным, является самой лучшей, самой прогрессивной на всем белом свете, и трудились на благо трудящихся всего мира, все еще страдающих под гнетом капиталистов и прочих рабовладельцев. Мы боролись за истинную свободу человечества!
Увлекшись идеей исследовать жизненный уклад русских и движимый любопытством, я посетил достаточно много школ в Белоруссии и на Украине, ведь сельскую школу было довольно легко опознать. Это всегда было одноэтажное здание, рядом с которым, как правило, располагался небольшой скверик с бюстом либо статуей Ленина или Сталина. Почти все эти монументы были из белоснежного гипса. В большинстве сел имелись грубо сколоченные из березовых бревен триумфальные ворота, которые по случаю Первомая и других праздников украшались бумажными ленточками и транспарантами с соответствующими лозунгами.
Внутри школьных зданий располагались одна-две классные комнаты с деревянными и не слишком чистыми полами, что было вполне объяснимо, ведь деревенские улицы в сухую пору покрывал толстый слой пыли, а в дождливую погоду — пласт жидкой глины и грязи. Школьники, ходившие в школу летом босиком, а зимой в обмотанных тряпьем полурваных калошах, естественно, приносили в класс на своих ногах весь этот уличный мусор. Справедливости ради следует признать, что все учителя стремились привить своим ученикам любовь к чистоте и по возможности культуру личной гигиены. Но это осуществлялось не ради блага отдельно взятого человека, а для того, чтобы дать государству здоровую, крепкую и дееспособную рабочую силу.
В сентябре 1941 года я решил посетить одну из школ и взял себе переводчика, а в качестве проводника — одиннадцатилетнего парнишку, которого звали Василием. Само здание во время боев, видимо, посещалось населением в поисках чего-нибудь нужного, но в целом сохранилось довольно хорошо. Перед входом Василий с гордым видом указал мне на броский красный транспарант, на котором черными буквами было начертано: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» Слегка рябоватое, но умное лицо Василия так и светилось от гордости, что ему выпала миссия служить проводником. Первоначальная робость этого мальчугана быстро развеялась от подаренного мною носового платка, видимо первого в его жизни, а также горсти белого и сладкого печенья.
К моему великому удивлению, Василий отыскал среди валявшихся повсюду книг учебник немецкого языка и принес его мне. Самому ему предстояло начать изучать язык только в следующем году, но несколько слов он мог сказать уже сейчас. Это издание 1940 года по смыслу и содержанию очень напоминало учебник русского языка. Рассчитанное на начинающих, оно было выполнено как букварь и снабжено многочисленными картинками, которые почти все были сопряжены с коммунистическими идеалами. Многие изображали солдат и оружие Красной армии. Не обошлось, конечно, и без портретов Ленина, Сталина и Маркса.
Почти все тексты являлись пропагандистским материалом, призванным восхвалять достижения нового русского государства по сравнению с царским временем. При этом упор делался на свершения в области индустриализации и культуры. Везде висели плакаты, свидетельствовавшие об успехах в выполнении планов пятилеток. Я выяснил, что многие из этих цифр Василий знал наизусть, и вообще в своей манере разговаривать он походил на маленький пропагандистский аппарат, будучи явно убежденным, что живет в настоящем раю для рабочих.
Даже пожилые люди, которые могли распознать многие недостатки в новом укладе жизни, свято верили в то, что избранный Россией путь является единственно правильным и что по крайней мере их дети будут жить в идеальном государстве. Они были убеждены, что все плохое привнесено извне, а главным препятствием в достижении поставленной цели являются происки капиталистов и буржуазии. По их мнению, эти враги рабочих и крестьян когда-нибудь обязательно будут стерты с лица земли коммунистическими идеалами. И это произойдет во всем мире. Странным, однако, являлось то, что уже тогда воплощение идеалов интернационализма — Коммунистический интернационал несколько отошел на второй план, а забытые слова о родине и отчизне неожиданно вновь появились и стали звучать все чаще и чаще.
Деревянные стены классной комнаты были украшены броскими плакатами с лозунгами и портретами. В классах, так же как и в обычных жилых помещениях, в качестве единственного настенного украшения использовались яркие цирковые афиши или давно перевыполненные партийные воззвания. Другие настенные лозунги содержали призывы к соблюдению чистоты, повиновению государству и проявлению уважения к старшим по возрасту. Кроме того, я обнаружил объявления пионерской организации, которая, однако, ничего общего с движением скаутов не имела. Эта организация являлась чисто политическим объединением молодых коммунистов и комсомольцев[55], в задачу которого входило политическое обучение и допризывная подготовка порастающего поколения. Василий тоже был пионером и очень гордился этим.
Картины на стенах изображали сцены из революционного прошлого России и, как и все остальное, должны были напоминать об идее классовой борьбы.
Мой маленький проводник никак не мог поверить, что за пределами его страны никаких ежедневных уличных и баррикадных боев и в помине не было, что подвластная капиталистам военщина не стреляла каждый день в беззащитных рабочих и крестьян. У него в голове не укладывалось, что вне его страны рабочий, если он трудолюбив, может добиться известного достатка. Дом на одну рабочую семью и сад в качестве собственности у рабочего казались ему чем-то нереальным, пришедшим из придуманной сказки — сказывались плоды оторванности России от остального мира и проводимой в ней более двадцати лет пропаганды.
Примечательным было и то, что эта коммунистическая система, первоначально являвшаяся чуть ли не нигилистской, теперь всеми средствами стала проповедовать необходимость соблюдения дисциплины. Лозунги на всех стенах внушали ученикам, что без дисциплины высокие достижения и создание сильной, боеспособной Красной армии невозможны. Другие призывы выдавали официальное отношение властей к религии.
«Мы отрицаем любую мораль, исходящую от Бога! — гласили они. — Религия — опиум для народа!»
На протяжении военного похода по Белоруссии и до самой Москвы мне попалась всего лишь одна действовавшая до недавнего времени православная церковь. Это был великолепный храм, располагавшийся на холме возле города Истра. Однако внутри все оказалось заброшенным, так как священники сбежали. И все же собор позволял судить о своем былом величии и произвел на меня сильное впечатление. Все же другие церкви, в которых мне удалось побывать, были опустошены и использовались в качестве амбаров для зерна или деревенских складов-распределителей.
Глава 5
Осеннее наступление 1941 года. — Дорога Смоленск — Москва. — «Сталинский орган». — Через Рузу. — В грязи. — Загадка русской души. — Зима угрожает. — Наступление на Москву. — Замерзшие перед целью. — Вступление в войну Америки. — Бои при отходе. — Угроза катастрофы. — Возвращение на санитарном поезде. — Французский легион. — Общеевропейские идеи
1 октября 1941 года, если мне не изменяет память, то это была среда, мы начали последнее большое наступление в том году. Нашей целью являлась Москва, а потом и Волга. От Рославля наши войска продвинулись в восточном направлении до Юхнова, а затем повернули на север и дошли до Гжатска[56], где через несколько дней «оседлали» дорогу Смоленск — Москва. Тем самым было завершено окружение группировки противника под Вязьмой[57], и еще более длинные, чем под Киевом, колонны пленных потянулись в западном направлении. По вечерам они зажигали костры, огни от которых виднелись на много километров вдоль дороги. Об организации нормального конвоирования не было и речи — один немецкий солдат приходился примерно на пятьсот пленных. Я уверен, что тысячи русских не замедлили воспользоваться такой ситуацией и сбежали из плена.
В связи с этим следует отметить, что существенным упущением, которое проявилось только позже, явился тот факт, что нашему командованию не удалось полностью прочесать лесные массивы после ликвидации группировки попавших в кольцо окружения советских войск и изъять остававшееся в них огромное число русской военной техники. Когда наступила зима, русские десантировали туда специальные технические подразделения, которые в удивительно короткие сроки отремонтировали ее, а прибывшие вместе с ремонтниками экипажи организовали переброску этой техники через линию фронта в ночное время. Часть боевых машин эвакуировали даже самолетами, сбрасывая их без парашютов с высоты в несколько метров в глубокий снег. Кроме того, совершенно неожиданно в тылу немецких войск возникла боеспособная и вооруженная современным оружием, включая танки, воинская часть, которая внезапно и весьма успешно стала наносить удары в ходе развернувшихся боев.
Примерно в первую неделю октября мы находились в Гжатске, заняв огневые позиции у дороги Смоленск — Москва. На этом перекрестке, где развернулись жаркие бои, нам пришлось сражаться на два фронта. С одной стороны русские части отчаянно прорывались из Вяземского котла с запада, а с другой стороны свежие советские войска пытались наступать с востока, чтобы разомкнуть кольцо окружения и вызволить своих боевых товарищей из ловушки. Нам постоянно приходилось отбивать танковые атаки с востока. Вся близлежащая от перекрестка дороги местность была перепахана тяжелыми широкими гусеницами русских Т-34.
Однажды утром мы проснулись и увидели, что все вокруг покрылось снегом, толщина которого достигала нескольких сантиметров. Это было начало русской зимы! Мои мысли непроизвольно перенеслись в 1812 год, когда случилась катастрофа с армией Наполеона. Но я, давно привыкший смотреть на все с оптимизмом, быстро прогнал эти мрачные думы.
«Разве в век техники мы не в состоянии противостоять зиме? Наши войска ведь намного лучше, чем наполеоновские», — успокоил я себя тогда.
При нашем дальнейшем продвижении русские стали массированно применять уже известные и внушавшие страх «сталинские органы»[58]. Это были реактивные пусковые установки наподобие наших «Небельверферов»[59]. Только их конструкция показалась мне намного примитивнее.
Русские просто смонтировали на автомашинах параллельно расположенные рельсы, имевшие общий регулируемый угол наклона. На эти рельсы крепились напоминавшие бомбы снаряды, что позволяло русским одновременно выстреливать шестнадцать, двадцать четыре и даже тридцать две ракеты. После каждого залпа эти установки производили смену огневых позиций, что делало их практически неуязвимыми для огня нашей артиллерии. Моральное воздействие одновременно взрывающихся на площади размером двести на двести метров даже шестнадцати подобных снарядов было чрезвычайно высоким. Они оставляли после себя лишь небольшие воронки, но осыпали все вокруг дождем осколков, с которыми нам приходилось иногда «знакомиться». Вспышки от производимых ими выстрелов и огненные кроваво-красные траектории полета снарядов, зависавшие в небе на несколько минут, в ночное время были очень красивыми и одновременно жуткими.
Недалеко от Можайска, города, расположенного на дороге, ведущей в Москву, русские создали последнюю оборонительную линию перед своей столицей. Но и она через два дня ожесточенных боев была взломана.
После прорыва под Можайском мы вместе с 10-й танковой дивизией стали наступать в северном направлении, причем развилка дорог и шоссе, ведущее на север, все еще находились под сильным обстрелом со стороны русской артиллерии. Выстрелы из минометов свидетельствовали, что фронт совсем рядом.
Примерно в середине октября 1941 года нашими войсками была взята Руза, небольшой городок, лежащий на одноименном притоке реки Москвы. После прорыва русской обороны под Можайском мы встречали лишь слабое сопротивление противника, и у всех нас были большие надежды на то, что на зимние квартиры наша часть будет расквартирована уже на правом берегу Волги. На этом, по нашему мнению, военный поход должен был победно завершиться. Оставшиеся же индустриальные области за Уралом, протяженность которых мы тогда недооценивали, были бы, как считалось, в радиусе воздействия нашей авиации. Настроение и боевой дух войск, оставивших позади себя более тысячи километров, были отменными. Казалось, что удача улыбнулась нам.
После Рузы мы продвинулись еще на двадцать километров, и тут бог погоды разгневался на нас. Продолжавшийся в течение нескольких дней дождь превратил все дороги в непроходимую трясину. Машин, способных пробраться через это месиво, насчитывалось так мало, что их можно было по пальцам пересчитать. В конце концов, остались лишь небольшие «Фольксвагены»[60], на которых еще кто-то отваживался ездить.
Снабжение нарушилось, поскольку ни один грузовик не был в состоянии к нам добраться. Хорошо еще, что, на наше счастье, фронт в эти недели оставался относительно спокойным. Столь необходимые боеприпасы начали доставлять эскадрильи «Юнкерсов»[61], которые сбрасывали их над нашими позициями. А вот продовольственный рацион постоянно сокращался — столь любимый нами айнтопф становился все жиже, а ломти хлеба все тоньше.
Мой начальник по технической части майор Шефер, уже несколько недель мучившийся от болезни, отправился на родину, и теперь мне, как его преемнику, пришлось присматривать за всеми техническими службами полка, одновременно исполняя свои обязанности в родном втором дивизионе. Как-то раз я сел в раздолбанный «Фольксваген» и отправился по дороге в сторону тыла, чтобы отыскать так ожидаемые грузовики снабжения, которые не появлялись уже несколько дней.
Картина, открывшаяся мне на дороге, не поддавалась описанию. Повсюду, куда проникал взор, в три ряда стояли грузовики, застрявшие в грязи. Были и такие, что увязли в невидимых ямах настолько глубоко, что не просматривались даже капоты моторного отсека. Остальные погрузились в жижу по самые оси. В общем, ничего утешительного. Я направил свой относительно легкий «Фольксваген» по узкой дороге, шедшей параллельно основной, которая тоже была забита машинами, но где все же удавалось проехать. Затем много километров мне пришлось идти по дороге пешком, продираясь через застрявшие автомобили, а мой водитель вел «Фольксваген» по второстепенной дороге. Жидкая грязь переливалась через края коротких голенищ моих сапог. Наконец мне попался один из пропавших и предназначавшихся нам грузовиков, но сделать я ничего мог. Пришлось только пометить в блокноте его груз и местоположение.
У экипажей машин, которые им покидать было нельзя, давно кончилось продовольствие. Своим людям я отдал возимый с собой запас черного солдатского хлеба и банок с консервами, а потом стал наблюдать за действиями других — между отдельными экипажами уже вовсю шел взаимовыгодный обмен. Солдаты, чей грузовик вез хлеб, меняли две буханки на одну банку сосисок из другого фургона, а мелкие торговцы со своей повозки бойко обменивали сигареты и спиртное на продукты.
Но что же было делать водителям, чьи машины везли боеприпасы или бензин? И то и другое в такой ситуации совсем не пользовалось спросом. Здесь на выручку приходило войсковое товарищество, что я и наблюдал. Чувство голода они, конечно, испытывали, но никто от этого не умер.
«Когда же грузовики смогут продолжить движение? Скорее всего, тогда, когда земля немного подсохнет. До того же времени все попытки организовать спасательную операцию обречены на провал» — такие мысли приходили в мою голову тогда.
С трудом я добрался до Можайска, где в большом блиндаже провел спокойную ночь, вытянувшись на чистом соломенном тюфяке. На обратном пути, следуя опять же по узкой второстепенной дороге, мы вышли на ведущую в северном направлении развилку, которая все еще находилась под обстрелом. Я оставил свою машину под защитой стены какого-то дома, а сам пошел вперед и встретил двух офицеров, чьи подразделения занимали позиции всего в нескольких сотнях метров от развилки. Вид у них был подавленный, но мы разговорились и стали обсуждать перспективы «застрявшего» наступления. Внезапно в воздухе послышался вой, и все бросились в укрытие. Я спрыгнул в брошенный окоп, и тут совсем рядом раздался взрыв. На меня буквально обрушился град из комьев земли, а затем я почувствовал сильный удар по затылку.
«Сталинский орган», — только и успел подумать я, теряя сознание.
Остальное помнится смутно. Было только ощущение, что вокруг темно и кто-то тащит меня за руку.
«Здорово меня, однако, приложило», — подумал я, когда сознание вернулось.
Вокруг становилось светлее, и наконец крепкие солдатские руки вытащили меня из-под земли на свет божий. Некоторое время, совсем оглушенный, я сидел на земле. В голове гудело, в глазах плясали огненные круги, и мне не хватало воздуха. Тут один из офицеров, с которым мы только что вели беседу, протянул мне свою полевую флягу.
— Пей, дружище! — произнес он. — Это водка. Крепкая, как дьявольская водица, но на ноги тебя поставит!
Какой-то солдат дал мне сигарету. Я машинально взял и закурил.
— Порядок! — воскликнул кто-то, словно Вильгельм Буш[62]. — Он курит! Слава богу!
И тут он был прав — кроме сильной головной боли, никаких других повреждений я не обнаружил. Только годы спустя, уже в плену, последствия этого приключения случайно проявились. Выяснилось, что у меня произошло смещение основания черепа, в результате чего образовалось защемление слухового нерва одного уха.
Залп точно накрыл развилку, и три солдата получили настолько тяжелые ранения, что вскоре умерли. Другие отделались легкими осколочными ранениями. Я же, как выяснилось, в том окопе оказался полностью засыпанным землей, но правая рука, словно указатель к спасению, осталась торчать снаружи. Это позволило меня сразу же обнаружить и откопать.
С меня было достаточно. Мы быстро объехали проклятое место и стали осматриваться, как нам поскорее вернуться домой. Тогда в наших мыслях своя воинская часть действительно отождествлялась с «домом». В одиночку в этих бескрайних просторах каждый из нас чувствовал себя попросту брошенным.
И все же русская земля прекрасна. Никогда не забуду восход солнца, который мне довелось наблюдать в чудесный летний день с одного из холмов. Тогда это произвело на меня поистине неизгладимое впечатление. Взгляд уходил далеко-далеко, теряясь в необъятных просторах, и для моей натуры подобное зрелище давало дополнительные жизненные силы.
Но когда вся Россия начинала буквально тонуть в избытке влаги, мы чувствовали себя стесненными и потерянными, словно кто-то очертил границы нашего существования. Многие действительно начинали страдать от душевных депрессий и ощущать себя неполноценными. Тогда окружение товарищей по несчастью помогало выстоять, а своя часть становилась домом, по которому начинали тосковать, ведь совместно все переносится легче.
Недалеко от Рузы в огромном бывшем складском помещении и на окружающей его территории был организован лагерь для военнопленных. Зрелище все прибывающих новых колонн с пленными потрясало. Русские солдаты выглядели сильно потрепанными. Из рассказов конвоиров я понял, что с голодом они познакомились еще у своих. Пленные кидались на каждую дохлую лошадь, попадавшуюся на их пути, стремясь оторвать кусок побольше, вонзали зубы в сырое, наполовину протухшее мясо и тащились дальше.
Огневые позиции моего дивизиона располагались примерно в двадцати пяти километрах северо-восточнее Рузы. Для того чтобы организовать необходимое транспортное сообщение, почти половина пути до города была вымощена бревнами и жердями. Для этого трехметровые срубленные деревья клались друг возле друга прямо в жидкую грязь, в которую превратилась проезжая часть, а по краям для связки бревна ставились в распор. В начале и конце этой гати были выставлены посты, снабженные телефонной связью, которые открывали или закрывали движение в соответствующую сторону. Машины сильно тряслись на бревнах, и от многочисленных потряхиваний после преодоления такого пути не только водителей, но казалось, что даже технику охватывали судороги. Подобную тряску мой слабый и оголодавший организм выдерживал с трудом.
При температуре воздуха, приближавшейся к нулю, и сохранявшейся большой влажности мы начали мерзнуть. Нам пришлось искать ночлег в деревянных крестьянских избах, набиваясь в них до отказа. Из населения в деревнях оставалось лишь немного дряхлых стариков да несколько женщин. В предусмотрительно выкопанные в земле блиндажи мы возвращались только тогда, когда беспокоящий огонь русских становился уж слишком сильным.
Новости о родине мы узнавали лишь из писем, доходивших до нас с редкой полевой почтой. Полученные семейные фотографии пускались по кругу, и наскоро писался ответ. О слове «отпуск» мы не смели даже подумать, да и мечтать о нем не имело никакого смысла — родина казалась недостижимо далеко. Мысли о доме ко мне приходили только по ночам, но я держал их при себе и никогда на эту тему не говорил. Похоже, то же самое происходило и с другими, ведь о чем-то далеком, почти недостижимом, люди предпочитают не распространяться.
Однажды ночью в домах нас застал неожиданно сильный огневой налет русских, и мы все бросились наружу, чтобы спрятаться в укрытиях. Около двадцати русских, остававшихся в деревне, бежали вслед за нами, когда внезапно среди них разорвался снаряд. При возвращении мы застали весьма неприглядную картину — выжившие обшаривали убитых и еще подававших признаки жизни раненых односельчан, стаскивая с них еще пригодную к носке обувь и одежду. Наши попытки помешать этому хотя бы в отношении живых не встретили понимания. Я, конечно, далек от мысли, что подобное является следствием особой сырости, присущей этой стране. Однако тяжелые условия жизни и не поддающаяся описанию нищета ожесточили сердца людей и сделали их безучастными к чужому горю. Такого отношения даже к своим близким мы никак не могли понять.
В середине ноября стало очень холодно. Причем никакого плавного перехода к низким температурам не было — столбики термометров внезапно опустились до двадцати градусов ниже нуля. Это принесло для застрявших машин дополнительные проблемы. И хотя всего за одну ночь дороги вновь стали проходимыми, грязь, в которой завязли и в течение нескольких недель стояли автомобили, замерзла и превратилась в камень. Ее пришлось с большим трудом откалывать. Только через несколько дней изнурительного труда движение возобновилось, и снабжение удалось наладить.
Вскоре возникли новые трудности — наши машинные масла оказались непригодными для столь низких температур. Поставляемых с родины устройств по предварительному прогреванию не хватало. К тому же для многих видов масел они не подходили, зато в избытке потребляли бензин, в котором и так ощущался недостаток. Коробку передач и дифференциал[63] эти устройства тоже прогреть не могли. В результате если даже удавалось при помощи разных трюков мотор завести, то при включении скорости из-за густого масла в коробке он моментально глох. Аккумуляторы постоянно садились, и их приходилось выбрасывать чуть ли не партиями. Естественно, что все жалобы стекались ко мне, как офицеру, отвечавшему за техническое состояние машин. Но, несмотря на все проклятия, которыми меня осыпали, ничего поделать со столь паршивой погодой я не мог.
Когда с горем пополам к 1 декабря 1941 года на своем участке фронта мы все же подготовились к дальнейшему продвижению вперед, нас ожидал большой и очень неприятный сюрприз — русские выдвинули совсем свежие силы. Вскоре мы узнали, что это были хорошо отдохнувшие, великолепно обученные и прекрасно вооруженные сибирские дивизии, которые сорвали на нас всю свою злость.
Русская железнодорожная сеть, связывавшая центр страны с Сибирью, оказалась развитой намного лучше, чем мы тогда предполагали и о чем нам докладывали. Как бы то ни было, противник продемонстрировал нам свои великолепные организаторские способности.
Для прорыва упорного сопротивления русских с нашей стороны планировалось применение новых крупнокалиберных реактивных установок. Их боевые головные части наполнялись жидким воздухом, что должно было создавать огромное поражающее воздействие[64].
Как-то раз на нашем участке фронта несколько таких установок открыли огонь. Они заряжались снарядами высотой с человеческий рост, которые выглядели как авиационные бомбы. Мы сразу же предприняли на этом месте атаку силами пехоты, подтвердившую пробивное воздействие и взрывную силу такого оружия.
Итак, в действие вступили новые средства уничтожения. Реакция же противника явилась для нас полной неожиданностью. Русские пригрозили в случае повторного применения нами этого оружия начать войну с использованием боевых отравляющих газов. Удивительным образом, но по крайней мере на нашем участке фронта дальнейшее применение таких мин было прекращено и даже запрещено.
Тем не менее через несколько дней нам удалось прорвать фронт противника, и мы вновь двинулись вперед. Только на этот раз у неприятеля появился новый союзник — зима. Слой снега был небольшим, но тридцатиградусный мороз доставлял нам больше неприятностей, чем все войска противника, вместе взятые. Мы не переставали удивляться нашим русским помощникам, легко переносившим даже такие жуткие морозы и ставившим на ход доверенные им машины.
В то время среди немецких солдат стала ходить злая и наполненная черным юмором шутка: «У нас появился новый противник! Это святой Петр, отвечающий за погоду на Земле. С октября он вступил в коммунистическую партию. За такое грехопадение его вознаградили, записав в число ее основателей. Так что тепла ожидать не приходится».
Сначала жидкая грязь, превратившая почву в сплошное болото, теперь пронизывающий насквозь холод — это было уже слишком!
По ночам в лесу на привале, несмотря на строжайший приказ, запрещавший разжигание костров, мы разводили огонь и ложились на снег, рискуя поджариться спереди и замерзнуть сзади.
Столь резко и неожиданно наступившая русская зима весьма угнетающе воздействовала на моральное состояние немецких войск. В сознание то одного, то другого солдата стали закрадываться сомнения относительно успешного завершения предпринятого в октябре наступления. И в этот важный с психологической точки зрения момент по радио с родины начали передавать весьма правильную новую песню. Солдаты буквально облепляли немногочисленные войсковые радиоприемники, когда в динамиках раздавалось:
Все пройдет, ты так и знай — За декабрем наступит май!Такое на первый взгляд банальное обещание вселяло надежду, и к людям возвращалось мужество. Сейчас трудно представить, насколько популярна тогда у нас была эта песня.
Через несколько дней был взят отчаянно оборонявшийся городок Истра. Я уже рассказывал о хорошо сохранившейся православной церкви, чьи блестевшие на солнце купола издали приветствовали нас. Поскольку внутри этого единственного уцелевшего каменного строения все оказалось заброшенным, в нем быстро развернули госпиталь, но большая временная печь почти не прогревала высокий неф. Серьезные обморожения у наших солдат тогда не были редкостью, и даже успешные бои стоили нам больших потерь. Но мы упорно шли вперед, и нам казалось, что сопротивление советских войск постепенно ослабевает. Ведь против нас были брошены плохо вооруженные и слабо обученные московские батальоны ополчения.
По замыслу Сталина мы тоже должны были осознать его величие, которое он продемонстрировал в 1941 году, когда немецкие армии стояли у стен Москвы, а положение России казалось безвыходным[65]. Сталин, без сомнения, никогда не думал о капитуляции. Он, безусловно, был готов пожертвовать столицей своей империи точно так же, как это сделало русское руководство во времена Наполеона, — отдать город на тотальное разрушение.
Не случайно наше командование издало указание о создании особых технических войсковых подразделений для обеспечения сохранности жизненно важных индустриальных строений у Москвы. Мне, в частности, было приказано организовать защиту плотины, от которой зависело водоснабжение. Тем же приказом меня назначили и ответственным за ее работоспособность. Подобные указания, свидетельствовавшие о реальной возможности победоносного завершения военного похода, прибавили нам сил, находившихся уже на пределе.
Мы достигли еще одного небольшого села, точного названия которого я уже не помню, располагавшегося всего в пятнадцати километрах к северо-западу от Москвы. Отсюда в ясные дни хорошо просматривались купола московских церквей.
Наши батареи обстреливали предместья русской столицы, но на этом наступательные силы германских войск и закончились. У нашего соседа, 10-й танковой дивизии, осталось всего с дюжину боеспособных танков, а наши орудия лишились практически всех тягачей. Их приходилось с большим трудом тащить по промерзшим полям при помощи грузовиков. Но мы надеялись, что силы противника также на исходе.
Но продвинуться вперед нам не удалось, и нас охватило чувство сильной подавленности, которое было еще хуже, чем от пережитого впоследствии поражения. До цели можно было, как говорится, дотянуться рукой, но ухватить ее не получалось!
Между тем выпал снег, покров которого достиг высоты примерно тридцати сантиметров, но лютый холод не ослабевал. По возможности мы прятались в немногих домах, а постовые в окопах вынуждены были меняться через каждые два часа.
Самым слабым звеном нашего фронта являлся правый сосед, 257-я пехотная дивизия, о чем вскоре узнало и русское командование. Каждый вечер при наступлении сумерек русские атаковали ее позиции и уже скоро заняли их, в результате чего наш правый фланг оголился.
Оттуда в предрассветные сумерки русские постоянно просачивались в наше расположение, и мы просыпались от стрельбы, двигавшейся от избы к избе, от одной улочки к другой. Нам ничего не оставалось, как, схватив кто винтовку, кто автомат, ползком устремляться к двери. Подобный короткий огневой бой между домами при тридцатиградусном морозе стал для нас своеобразной утренней гимнастикой.
Поскольку при таком лютом холоде предавать убитых насквозь промерзшей земле не представлялось возможным, тела складывали возле церкви. Это была ужасающая картина — руки и ноги, вывернутые в смертельной схватке, мороз фиксировал в этом неестественном положении, и поэтому их приходилось с силой буквально ломать в суставах, чтобы придать мертвым положение умиротворенного покоя, о котором они с того света якобы просили. Замерзшие глаза пристально вглядывались в холодное небо, производя на живых жуткое впечатление. Позже путем подрыва была создана большая яма, куда укладывались жертвы последних, а то и двух прошедших суток.
Как ни странно, мне довелось наблюдать у русских людей примеры безразличного отношения к вопросам жизни и смерти, к своей судьбе. И это нас зачастую просто поражало. Так, при взятии очередного села мы обнаружили в одной избе спящего на теплой печи русского солдата. Когда от производимого нами шума он проснулся, то на его лице не появилось даже тени испуга. Наоборот, солдат сначала сладко потянулся, а потом, подняв руки, позволил обыскать себя на наличие оружия. Затем все так же с высоко поднятыми руками он направился к выходу и, прислонившись к стене дома, застыл в ожидании.
Когда через переводчика мы спросили его, чем объясняется подобное спокойствие, солдат пояснил, что их уверяли в том, что немцы немедленно расстреливают пленных. А поскольку ему было невмоготу все дальше удаляться от своей семьи в сторону Белоруссии, то он ожидал нас здесь, чтобы умереть. Подобное смешение сентиментальности с безграничным равнодушием к своей собственной жизни присуще, пожалуй, только славянской душе.
В доме, где мы остановились, как нам показалось, жила одинокая старушка. Мы оставили ей маленькую комнату, а сами улеглись спать прямо на полу в большой. К нашему удивлению, в первую же ночь нас разбудили душераздирающие стоны. После долгих поисков нам удалось обнаружить в узком пространстве между каменной печкой и стеной лежавшего на каком-то тряпье мужчину. На наши вопросы женщина спокойно объяснила, что это ее муж, который уже продолжительное время был тяжело болен и не мог работать.
— Я давно подтащила бы его к двери, но на это у меня не хватило сил, — заявила она.
Решив помочь ей, мы перетащили старика к ней в комнату, отказавшись класть его возле двери. Однако старуха даже не пошевелилась, чтобы позаботиться о нем. Чем закончилась эта драма, сказать не могу, поскольку вскоре нам пришлось двигаться дальше.
Некоторое время спустя даже самому последнему нашему солдату стало ясно, что продвижение немецких войск на Восток закончилось. Но и достигнутых позиций мы удержать тоже не могли. Русская зима одержала над нами победу.
11 декабря 1941 года, выполняя союзнические обязательства перед Японией, Германия и Италия объявили войну Соединенным Штатам Америки. Но нам было не до раздумий над значением этого важного события, поскольку, как помнится, уже 12 декабря поступил приказ об отходе.
Нам предписывалось отойти и занять оборону на линии Волоколамск — Можайск. При этом развернувшиеся в ходе отхода бои нанесли нам еще большие потери, чем при наступлении. Пришлось бросить много техники, поскольку зима, эта холодная мучительница, никак не хотела выпускать ее из своих когтей. Не удалось спасти даже многие орудия, в частности, из-за отсутствия тягачей 6-я батарея была вынуждена взорвать некоторые из них.
Все мы старались не показывать виду, насколько плохо было у нас на душе, и осторожно переводили разговоры в другое русло, если речь заходила об отступлении. Каждый, сжав зубы, просто старался выполнить свой долг и отключить ненужные чувства и мысли. Все думали только о самом насущном, но были твердо убеждены, что данный отход не приведет к катастрофе.
Командование нашей дивизии, а также левого соседа во время этого движения в обратном направлении постоянно держало все под контролем, и мы могли по его приказу в любой момент остановиться.
Под Истрой я получил указание собрать все оставшиеся в Рузе автомобили полка и доставить их в Волоколамск, где в них возникла особая необходимость. Вновь моя машина тряслась по длинной бревенчатой гати, вдоль которой то слева, то справа виднелись обезображенные грузовики. Вокруг стояла удивительная тишина, и к вечеру мы благополучно прибыли в Рузу. Собрав ответственных фельдфебелей, я приказал готовиться к отбытию, которое назначил на шесть часов утра. Уже в семь часов все машины были переправлены на противоположный берег реки, носившей такое же название, что и город, и мы двинулись в северном направлении. По дороге нам стали попадаться колонны наших подразделений, оставшиеся, судя по всему, без командования, а на обочине валялись брошенные, но не взорванные орудия.
Я обратил также внимание на то, что снаряжение и обмундирование многих встречавшихся нам солдат оставляли желать много лучшего — на них были шинели, явно не предназначавшиеся для столь низких температур. Естественно, что в них они сражаться просто не могли!
В небольшом местечке возле огромного зернохранилища собралась большая толпа, и моя колонна вынуждена была тоже остановиться. Я выбрался из машины и пошел посмотреть, в чем дело. Разъяренные и энергично жестикулировавшие солдаты обступили какого-то интенданта и громко кричали на него. Им стало известно, что в хранилище находятся горы зимнего обмундирования — толстые ватные куртки и штаны, причем их можно было носить как на лицо, так и наизнанку. Одна сторона представляла собой белую ткань, а другая — парусину защитного цвета. Нам такие выдали еще две недели назад.
Эти специальные комбинезоны на складе имелись, но «тыловая крыса» не отваживалась выдавать их без специального приказа. Тогда я спросил интенданта:
— А ты знаешь, что завтра эта местность должна быть очищена от наших войск? Уж не собираешься ли ты оставить все это обмундирование русским, вместо того чтобы раздать его нашим солдатам?
Его ответ меня ошеломил:
— У меня приказ покинуть это место через два часа. Перед уходом я должен поджечь склад, чтобы имущество не досталось врагу.
Тогда я посоветовал интенданту покинуть село немедленно, а склад не поджигать. К моему величайшему удивлению, он сразу же согласился, и солдаты получили возможность забрать столь необходимую теплую одежду без «соответствующего предписания, отправленного в установленном инструкцией порядке». На наше счастье, подобные тупоголовые негодяи заправляли хозяйством не везде, но некоторые из них на Восточном фронте все же оказались. Позже нам стало известно, что многие начальники складов, не отважившиеся принять в подобной ситуации самостоятельное решение, предстали перед военно-полевым судом и были расстреляны. Ведь на совести этих осужденных оказались жизнь и здоровье большого числа немецких солдат.
В тот же день по пути я встретил генерала, молча наблюдавшего из своей машины, стоявшей на обочине, за усиливавшейся на дороге неразберихой. Организованно двигавшиеся подразделения встречались все реже, и мне становилось все труднее вести свою колонну среди солдатского потока. Хорошо еще, что почва была достаточно твердой. Однако вид этих вояк, стремившихся поскорее унести свои ноги, производил удручающее впечатление. Это беспорядочное бегство наводило на мысли о распаде немецкой армии, о приближающейся катастрофе, и мне никак не удавалось прогнать навеянный образ отступающих наполеоновских войск, проходивших здесь же более века назад.
«Неужели Россию действительно победить нельзя?» — подумал я тогда.
Через несколько километров мне повстречался полковник, который, дико жестикулируя, кричал на тащившихся мимо него солдат. У меня мелькнула мысль, что нервы сдали даже у старших офицеров. Сопровождавший его офицер стоял сзади и всем своим видом показывал, что к этой ругани он не имеет никакого отношения. Я осторожно попытался организовать дальнейшее движение своей колонны, но полковник остановил ее и жестом подозвал меня к себе.
— Вы куда? — задал он свой первый вопрос.
— Согласно полученному приказу следую в Волоколамск, господин полковник! — отрапортовал я.
— Его давно заняли русские! Вы поступаете в мое распоряжение, останетесь здесь и будете останавливать технику и всех солдат. Я уполномочиваю вас оборудовать здесь оборонительную позицию лицом в восточном направлении!
Отдав распоряжение, он прыгнул в свой автомобиль и уехал куда-то в сторону. Сопровождавший его офицер успел подать мне какой-то знак, но что он обозначал, я так и не понял.
Некоторое время я стоял в нерешительности и размышлял.
«Поступил приказ, и хотя он был немного туманным, но… Нет, сначала следует попытаться найти свою часть, — проносились мысли у меня в голове. — Это сумасшествие какое-то!»
Приняв такое решение, я продолжил путь на Волоколамск, где и нашел свою часть. Никаких боев здесь не было и в помине, а наши подразделения расположились даже на своеобразный отдых.
Через несколько дней в интересах полка меня вновь отправили в Можайск, где мне предстояло решить ряд вопросов в ремонтных ротах дивизии. Однако по дороге у меня начались такие колики, что мне пришлось наведаться в главный медицинский пункт нашего соединения. После двух уколов я смог продолжить свой путь и с удовлетворением наблюдал, что отход войск, более походивший на бегство, прекратился. Везде восстановился порядок, и наступило общее успокоение. Однако никто и представить себе не мог, какие тяготы уготовила нам война в зимних условиях.
В Можайске колики возобновились. Врачи направили меня в дивизионный госпиталь, где мне сделали еще несколько уколов. Это подействовало, но обследование, на которое я наконец согласился, показало, что у меня воспалился желчный пузырь. Обратить внимание на постоянные головные боли мне тогда было невдомек.
Компетентный врач признал меня негодным для фронтовой службы и посоветовал как можно скорее вернуться на родину, чтобы пройти полный курс лечения. Вначале я колебался, размышляя над тем, стоит ли мне попросить оставить меня для дальнейшего прохождения службы в родной части, но потом решил, что лечение все равно продлится недолго.
«Ладно, подлечусь основательно, а потом вернусь», — подумал я.
В тот же день на родину отправлялся санитарный поезд с ранеными, а так как я был ходячим, меня назначили его комендантом. Отправление намечалось ночью, и меня доставили к эшелону, состоявшему из настолько старых и разбитых вагонов, что они, того и гляди, готовы были развалиться. Все двери купе открывались наружу, а подножки, казалось, уходили в бесконечность. Состав был длинным, и в темноте я с трудом смог сориентироваться, поскольку из-за угрозы налета вражеских самолетов приходилось соблюдать строжайшую светомаскировку. С грехом пополам мне удалось отыскать себе место в одном из купе, в котором вскоре набилось столько народу, что не хватало воздуха. Однако в тесноте оказалось легче переносить холод, и такая скученность начинала мне нравиться. После того как с грехом пополам сумел разместить свой незатейливый багаж, я решил посмотреть, какие обязанности как коменданту мне предстоит исполнять. Но тут поезд тронулся, и мои благие намерения так и не были реализованы. Пришлось остаться в купе, где в случае чего меня никто не смог бы найти.
Ночь тянулась нескончаемо долго, но о сне не стоило даже помышлять. Воздух в переполненном купе, несмотря на холод, был спертым. Солдаты прижимались друг к другу, располагаясь кто сидя на лавке, кто лежа на полу, а кто и стоя. Многие страдали от болезненных обморожений, другие получили огнестрельные или осколочные ранения. У меня сложилось впечатление, что в поезде находилось немало тяжелораненых — приглушенные разговоры солдат то и дело прерывались стонами. Уснуть я так и не смог.
«Может быть, сказывается напряжение последних дней, пережитое на фронте?» — подумал я тогда, так как отовсюду доносились обрывки фраз со словами: «атака», «окоп», «огонь артиллерии» и «холод».
Поезд продвигался вперед, выражаясь военным языком, «перебежками», постоянно останавливаясь и тормозя, проехав пару сотен метров. Когда я ночью все же решил приступить к обязанностям коменданта и попытался протиснуться к двери, у меня это не получилось — все место на полу было занято. Люди сидели, лежали вперемешку с багажом, а в темноте разобрать что к чему не представлялось возможным. Тогда я подумал, что ночью предпринимать что-либо не стоит и лучше дождаться утра, ведь до рассвета оставалось всего пару часов.
Свое место на некоторое время я уступил одному солдату, а сам решил постоять. Не успел я прикурить сигарету, как кто-то обратился ко мне по-французски. В дрожащем свете зажигалки просматривалась невысокая фигура коренастого человека, одетого в немецкую униформу. Собрав воедино весь свой запас французских слов, я начал с ним разговор. Оказалось, что передо мной стоял сорокавосьмилетний член Французского легиона[66], у которого дома осталось семеро детей. По профессии он был дорожным рабочим, но к 1940 году ему удалось занять в Германии руководящий пост. Дела у него шли неплохо, но, когда был объявлен призыв для борьбы на Востоке, он записался добровольцем. Его семья ни в чем не нуждалась, так как получала такое же пособие, что и семьи немецких солдат. Поскольку ранение у него было легким, он надеялся вскоре снова вернуться в строй.
— Ерунда! Руку слегка зацепило. Вот поправлюсь и в бой! Ведь эта война против Азии ведется для блага всей Европы! — заявил француз.
«Разве сам факт того, что немец и француз носят одну военную форму, объединенные общей идеей борьбы, не является базисом для формирования новой послевоенной Европы? — подумал я. — Конечно, французы и немцы часто сражались друг с другом, но более ста лет назад они вместе встали под знамена Наполеона в его походе на Восток. Уже тогда немцы и французы плечом к плечу вместе шагали на поле боя. Разве не разбивает наголову все домыслы о якобы имеющейся исторической враждебности между обеими нашими странами то обстоятельство, что, повинуясь вызову времени, оба народа вместе сражались против общего врага?»
Позже мне часто попадались французы, которые, исходя из общеевропейской идеи, были на нашей стороне. Возможно, в будущем они вновь вспомнят об этом и приступят к продуктивной совместной работе.
По ночам у меня было много времени для размышлений. Должен признать, что мне с трудом удавалось хотя бы частично восстановить мой былой оптимизм. Я слишком много повидал за последние недели.
«Неужели остановка наступления знаменовала собой поворот в обратную сторону? Неужели мы переоценили свои умения и средства в этом военном походе? Неужели наш первоначальный оптимизм явился всего лишь следствием самонадеянности? Неужели победить колосс под названием Россия вообще невозможно?» — такие и тысячи других подобных вопросов вихрем проносились в моей голове.
Должен признать, что тогда я даже не задумывался над тем, а нужен ли был вообще этот Восточный военный поход? Но у нас не имелось выбора, ведь солдаты не могут повлиять на принятие решений правителями. Нам оставалось только выполнять пресловутый долг и прикладывать все свои силы для того, чтобы привести эту войну к счастливому концу.
Но одно понимание происходящего я держал про себя, ведь немецкий солдат тоже являлся человеком, к которому следовало проявлять особую заботу, направляя и воодушевляя его удачными примерами, чтобы в критической ситуации он не подвел. А если кто-то из солдат и подводил, то вина за это ложилась целиком и полностью на нас, офицеров. Ведь солдатская масса в целом всегда готова пойти на все, если она доверяет своим командирам.
До Смоленска наш поезд тащился целых два с половиной дня. Там нас ждали горячий обед и напитки, а заботу о раненых взяли на себя немецкие медсестры и врачи. Правда, с нашего поезда сняли и пятерых умерших, помощь которым уже не понадобилась. Тем не менее все были уверены, что самое страшное уже позади. От Смоленска поезд пошел быстрее, и уже через три дня всех раненых разместили по госпиталям, кого в Польше, а кого и в Германии. Меня же по моей просьбе отправили в госпиталь в Вену.
Глава 6
«Безоговорочная капитуляция» и фронтовик. — Вступление в командование особым отрядом. — Германские тайные службы. — Операция «Франц» (Иран). — Формирование и обучение. — Возможности применения команды. — Дивизия «Бранденбург». — Разговор с доктором Кальтенбруннером. — Часть особого назначения «Фриденталь»[67]. — Мой начальник штаба Карл Радл. — Радиоигра с Англией. — Помощь секретных служб. — «Двойной агент». — Изучение методов противника. — «Тихий убийца». — Непостижимый Канарис. — Операция «Ульм» (Россия). — Гигантские доменные печи Магнитогорска. — Общение с начальством. — Ограничение возможностей агентов
Следующие полгода я провел снова в качестве офицера технической службы в одной из берлинских запасных воинских частей. Казарменная служба одинакова во всех армиях и нигде не доставляет особой радости, особенно для такого человека, как я, никогда не желавшего стать профессиональным военным. Наши будни подчинялись капризам и желаниям командира, и мне нечего рассказать об этом времени чего-либо интересного или необычного.
Вскоре гарнизонная жизнь мне опостылела окончательно, ведь я так и не стал настоящим воякой, чтобы безропотно сносить тупое времяпрепровождение на родине. Наступила осень 1942 года. Это было именно то время, когда наши дивизии СС переформировывались в танковые, и мне показалось, что подворачивается удобный случай вырваться из Берлина. Наплевав на вердикт врачей, значившийся как «пригоден к гарнизонной службе на родине», я написал рапорт с просьбой направить меня на переподготовку для танковых войск.
Прослушав несколько курсов и сдав соответствующие экзамены, я был готов начать службу в новом качестве, и меня перевели полковым инженером в танковый полк 3-й танковой дивизии СС[68]. Вскоре я освоился с новым местом службы и чувствовал себя достаточно хорошо, вот только с командиром полка мне никак не удавалось наладить столь же теплые отношения, как с моим бывшим командиром полковником Хансеном.
Конференция союзников в Касабланке[69] в январе 1943 года произвела на думающих людей в странах оси огромное впечатление. Официально объявленная на ней цель, провозглашенная как «безоговорочная капитуляция», врезалась в наши умы. Теперь мы четко знали, чего нам ожидать. Однако в то время я все еще верил в победу германского оружия и отметал от себя иные мысли, ведь у нас, как у мужчин и солдат, не было другого выбора.
Должен признать, что тогда я переоценил состояние своего здоровья — возобновившиеся болезненные приступы ясно показали, что воспаление желчного пузыря не прошло. В результате меня отозвали назад в Берлин для решения моей дальнейшей судьбы.
В своей берлинской запасной части я пробыл недолго. Как-то раз в апреле 1943 года меня вызвали в командование войсками СС и по секрету сообщили, что для создания особого подразделения требуется технически подготовленный офицер.
В конечном счете после дотошной беседы с каким-то специалистом меня перевели на новое место службы, причем в такой совершенно незнакомой мне области, с которой я раньше никогда не сталкивался и о которой мне доводилось только слышать. При этом мне пришлось в общих чертах познакомиться с деятельностью двух немецких служб, о чем сегодня утаивать от моих читателей было бы неправильно.
Верховному главнокомандованию вермахта[70] была подчинена так называемая служба внешней разведки. Сам абвер[71]собственно включал в себя три отдела.
Первый отдел отвечал за вопросы военного шпионажа. Как правило, этот термин у людей непосвященных ассоциируется с чем-то зловещим, таинственным и грязным, но это не так. Сегодня даже самые маленькие страны, не говоря уже о великих державах, имеют свои собственные службы шпионажа.
Второй отдел в военное время отвечал за организацию актов саботажа и за разложение противника путем проведения соответствующей пропаганды. Это была активно действующая служба, которая также имеется в вооруженных силах любой страны мира.
Третий отдел был призван вскрывать и ликвидировать угрозу готовящихся противником актов саботажа, а также противодействовать подрывной деятельности неприятеля. Такая служба под тем или иным названием также имеется во всех странах без исключения.
Все вышеперечисленные направления деятельности подпадают под понятие «военная разведка». Как и все посторонние, то есть люди, не имеющие прямого отношения к военной разведке, я тоже не имел тогда правильного представления о том, чем она занимается, и о ее поистине колоссальных возможностях.
В Главном управлении имперской безопасности (РСХА)[72]СС уже примерно с 1938 года было создано так называемое 6-е управление, в задачу которого входила организация «службы политической разведки». Благодаря ее деятельности немецкое руководство получало информацию об обстановке и политическом раскладе сил в других государствах, с тем чтобы извлекать из нее правильные выводы для осуществления успешной германской политики.
Оба ведомства — политической и военной разведки — были одинаково важны, но для достижения наилучших результатов нуждались в едином руководстве. Понимание этого, однако, пришло ко мне уже позже, спустя несколько месяцев.
К началу войны службе внешней разведки был подчинен батальон особого назначения «Бранденбург», который до 1943 года разросся до дивизии особого назначения «Бранденбург», в задачу которой входило решение специальных военных задач, входивших в сферу деятельности вышеназванного ведомства. О существовании данного военного формирования в Германии знали лишь немногие.
Со временем и в 6-м управлении РСХА для решения аналогичных задач был создан специальный учебный лагерь особого назначения «Ораниенбург». Теперь это военное формирование предстояло расширить, а его деятельность активизировать, для чего требовался командир из состава войск СС, имеющий по возможности обширные знания во всех военных и технических областях.
Этот пост было поручено занять мне. Я хорошо осознавал всю важность и ответственность подобного шага, в результате которого обычный солдат превращался в человека особого предназначения, что было по плечу далеко не каждому. Тогда мне вспомнилось изречение Ницше[73]: «Живи опасно!» Я понимал, что мне выпала возможность в тяжелое для отчизны время послужить родине на особом месте. Эта мысль воодушевила меня, и я согласился, гордясь тем, что меня сочли пригодным для замещения столь ответственной должности. В результате 18 апреля 1943 года, будучи обер-лейтенантом резервных войск СС, я был откомандирован для дальнейшего прохождения службы в 6-е управление РСХА.
По прибытии, как и полагается в таких случаях, я пришел представиться начальнику управления Шелленбергу, тогда еще носившему звание оберштурмбаннфюрера в СД[74]. Мне навстречу вышел выглядевший довольно молодо элегантный человек небольшого роста, источавший саму любезность. Из того, что он рассказал о своем ведомстве, я понял не так уж и много — для меня это было что-то неведомое. Мой новый начальник посоветовал сначала войти в курс дела, с тем чтобы потом взяться за него засучив рукава. Кроме особого воинского формирования мне надлежало создать в рамках 6-го управления школу по подготовке шпионов и агентов для проведения актов саботажа. Впоследствии их планировали внедрять и использовать через другие ведомственные группы.
В течение двух последующих недель я усердно входил в курс дела, и то, что мне объяснили руководители отдельных групп, оказалось в высшей степени интересным. Подобная деятельность во время войны имела гораздо большее значение, чем можно было подумать. Конечно, в первую очередь меня интересовали вопросы технического обеспечения, изготовления и совершенствования вспомогательных средств. Меня и здесь поджидало много нового.
Мне также стало известно, что в рамках формирования, которое мне предстояло возглавить, готовится операция и скоро она должна начаться.
Нефтяные поля на юге Ирана вскоре после начала войны были оккупированы английскими войсками, а на его севере стояли русские дивизии. По иранским железным дорогам в Россию шли военные поставки союзников[75]. В основном они следовали из Америки, которая начиная с 11 декабря 1941 года открыто принимала участие в войне и своей огромной материальной помощью существенно способствовала России в организации обороны на Восточном фронте. До той поры я не до конца осознавал значение этого факта, но мое отношение кардинально переменилось, когда мне стали известны конкретные цифры. Озабоченные решением повседневных вопросов на передовой, мы, как солдаты, явно недооценивали важность данного вопроса.
План предстоящей операции предусматривал нарушение линий снабжения в глубоком тылу противника. Сделать подобное планировалось через организацию восстаний все еще неспокойных горных иранских племен, для чего небольшие группы немецких солдат должны были снабдить их оружием и выступить в роли инструкторов. После этого инструкторам стали бы передавать приказы германского командования с указанием конкретных целей для проведения атак.
Двадцать человек из специального учебного лагеря особого назначения, как называлось военное формирование, которое мне предстояло возглавить, под руководством настоящих иранцев уже на протяжении нескольких месяцев изучали соответствующий язык. Кроме того, в состав каждой группы, задействованной в операции, также был включен иранец. Соответствующее оснащение было уже готово, и все ожидали только условного знака от немецкого офицера, тайно находившегося в Тегеране.
Все радиопереговоры осуществлялись через другую службу 6-го управления РСХА, а именно через группу VI С[76]. Поскольку тогда я еще верил в слаженную совместную работу всех германских ведомств, мне это показалось излишним. В дальнейшем же по этому поводу я пережил не одно разочарование, ведь на родине все было иначе, чем на фронте, где речь шла о жизни и смерти, а каждый старался понять друг друга и помочь своему боевому товарищу. Здесь же, на родине, личные амбиции играли куда большую роль, чем в окопах. Тут все еще господствовал так называемый «священный эгоизм» в сочетании со «святым бюрократизмом». Но тогда я даже не подозревал, что такое возможно, иначе никогда бы не согласился занять предложенную мне должность!
Здесь я позволю себе несколько предвосхитить события — операция в Иране проходила под кодовым названием «Франц». Для выброски первой спецгруппы было выбрано место возле большого соленого озера юго-восточнее Тегерана[77], и два офицера моего формирования особого назначения вместе с тремя унтер-офицерами и одним персом находились в полной готовности к выполнению задания. После долгих переговоров в наше распоряжение выделили «Юнкере Ю-290»[78] из состава 200-й бомбардировочной эскадры люфтваффе, который обладал необходимой дальностью полета. От летчиков требовалась ювелирная точность при сбросе необходимого снаряжения, ибо груз был на вес золота. Только тот, кто сам организовывал подобную операцию, знает, сколь часто приходится отбрасывать, обдумывать и переписывать заново список оборудования для ее обеспечения. Здесь следовало учесть все, начиная от вооружения и кончая продовольствием, от одежды до боеприпасов, от взрывчатых веществ до заготовленных подарков для вождей племен. Никогда не забуду, как мы с большим трудом добывали эти подарки — искусно инкрустированные серебром охотничьи ружья и выгравированные золотом пистолеты «Вальтер».
В качестве аэродрома вылета была избрана воздушная гавань в Крыму. Однако ее взлетно-посадочная полоса оказалась настолько короткой, что потребовалось ограничение веса багажа, а это, естественно, привело к отказу от части столь ценного оборудования. Затем пришлось ждать благоприятных погодных условий, чтобы пролет над русской территорией пришелся на самое темное ночное время. Когда, казалось, можно было взлетать, выяснилось, что машина по-прежнему перегружена, поскольку прошедший дождь размягчил взлетную полосу. Пришлось оставить еще часть оборудования. Его запланировали захватить позже во время следующего полета по обеспечению операции. Наконец самолет благополучно оторвался от земли, а затем прошло еще четырнадцать часов, пока мы получили первое радиосообщение от спецгруппы.
Поскольку с мероприятиями по организации столь требуемого повстанческого движения оказались тесно связаны вопросы политического характера, нас, к сожалению, отстранили от непосредственного руководства проводимой операцией и передали ее в ведение одной из политических групп 6-го управления, которой руководил доктор Грэфе. К нам же, группе VI S, обращались только тогда, когда требовалось организовать подвоз материалов или десантирование новой спецгруппы. Я испытывал огромный дискомфорт оттого, что от меня требовали готовить людей, а руководство ими передавали другому. Я чувствовал себя по-прежнему ответственным за них, но вмешиваться мог лишь только в крайних случаях, когда требовалось обеспечить страховку.
Наступило лето 1943 года. Развитие ситуации на фронтах выглядело отнюдь не в розовом цвете, и это сильно ощущалось в проявлении сопротивления, которое мне приходилось преодолевать при проведении работ по совершенствованию своего формирования. Ни одно из ведомств не выказывало особого желания оказать помощь солдатами или техникой в необходимом объеме.
Выброшенная в Иране группа работала с переменным успехом. Ей все-таки удалось пробраться к повстанческим племенам и решить в рамках своих возможностей поставленные задачи. Однако мы не смогли наладить снабжение и переброску подкреплений в требуемом объеме, так как не хватало Ю-290 — воздушно-транспортных средств с необходимой дальностью полета.
Между тем в специальном учебном лагере особого назначения «Ораниенбург» была подготовлена новая группа из шести немецких солдат во главе с офицером. Ее вылет из Крыма пришлось отложить из-за поломки Ю-290 при взлете, что явилось, как потом выяснилось, настоящей счастливой случайностью. Наш немецкий сотрудник в Тегеране был вынужден бежать и после невероятных приключений добрался до Турции, откуда передал сообщение, что центральная точка в Тегеране провалена, а все агенты арестованы. Сообщение пришло как нельзя вовремя — еще немного, и самолет бы взлетел.
В результате места приема и размещения готовой к отправке группы больше не существовало, и ее применение пришлось отложить. А через несколько недель угасла и воля к борьбе у повстанческих племен. Они предложили солдатам нашего формирования покинуть территорию. Однако бегство в соседнюю нейтральную страну Турцию[79] для людей, не обладавших необходимыми знаниями языка, являлось делом бесперспективным, и племена в скором времени были вынуждены выдать немцев английским войскам. Видя безвыходность своего положения, один из двух офицеров покончил с собой. Остальные же члены нашей группы были арестованы и смогли вернуться в Германию лишь в 1948 году после длительного пребывания в лагере для военнопленных на Ближнем Востоке.
В то время для меня были куда интереснее другие планы применения моего формирования — группа VI F 6-го управления имперской безопасности продемонстрировала мне результаты своей работы, касавшиеся информации о возведении промышленных предприятий в Советском Союзе, и в первую очередь на Урале. Поскольку об этих вещах не писали в газетах, не говоря уже о книгах, мне доставляло особое удовольствие, что у меня сохранилась подборка соответствующих документов. Поступавшие предложения о том, как напасть и вывести из строя вышеназванные предприятия, обобщались при подготовке мероприятий под кодовым наименованием операция «Ульм», но мне было совершенно ясно, что военному потенциалу противника может быть нанесен огромный ущерб в результате всего лишь одной акции.
Еще до вхождения в новую должность я проштудировал все фронтовые донесения, так как уже в России мне стало ясно, что при хорошем наблюдении даже у противника можно многому научиться.
«Почему же подобное нельзя применить и в данном случае?» — подумал тогда я.
Я не переставал удивляться, читая донесения о различных акциях английских коммандос под руководством лорда Маунтбеттена[80]. Здесь было много нового. Британскую службу агентурной разведки и контрразведки всегда окружала завеса некой таинственности, и она практически не представала перед широкой общественностью. Поэтому сводки о ее деятельности во всем мире явились для меня настоящим открытием.
Одновременно я изучил донесения об операциях, проведенных немецкой дивизией «Бранденбург». Судя по всему, у нас по сравнению с Англией имелось гораздо меньше средств, однако во время многих акций нашим специалистам удавалось добиться порой поистине блестящих результатов.
На основании проштудированного в течение двух недель материала мне показалось, что я обнаружил возможности поспособствовать победе Германии путем совершенствования и усиления активности проведения подобных специальных акций. Ведь противник не мог повсеместно организовать сплошную надежную защиту своего глубокого тыла. При умелом планировании, а также обеспечении необходимыми техническими средствами стоило только отыскать лишь отдельные наиболее значимые для неприятеля места, которые позволяли применить небольшие по численности, но полные решимости действовать группы. Тогда значительный успех был бы обеспечен.
Придя к такому выводу, я окончательно решил для себя принять поступившее мне предложение о замещении новой должности. Начинать мне пришлось практически с нуля, ведь рассчитывать на всестороннюю поддержку, которую оказывали новичку товарищи по оружию в боевой дивизии на фронте, не приходилось.
Необходимость пробиваться в одиночку предполагало уже само требование о неукоснительном соблюдении строжайшей тайны. Я предвидел, что мне придется самому преодолевать некоторые предстоящие трудности, но не настолько… Грела только одна мысль о том, что если каждый из нас бросит всю свою волю на чашу весов военной удачи, то она хотя бы на немного склонится в сторону Германии.
Когда я сообщил господину Шелленбергу о своем решении занять предложенную должность, он, как мне показалось, остался очень доволен и, к моему удивлению, предложил перейти в СД с одновременным присвоением звания штурмбаннфюрера или оберштурмбаннфюрера СД.
Коротко поразмыслив, я отклонил его предложение, подчеркнув, что мне предстоит принять на себя командование воинской частью и руководить ею лучше офицеру войск СС.
— Я пошел на войну простым солдатом, стал офицером резервных войск и хотел бы остаться таковым до окончания войны, — пояснил я.
Через несколько дней пришел приказ о присвоении мне воинского звания гауптман резервных войск СС.
До моего назначения специальным учебным лагерем, точнее, особыми учебными курсами СС «Ораниенбург» командовал голландский гауптман, перешедший в войска СС, а командирами взводов рот являлись бывалые фронтовики[81]. Так что с этой стороны хлопот не предвиделось, и я мог приступать к своей деятельности, опираясь на этот фундамент.
Для успешной работы, частично относившейся к ведению 6-го управления в вопросах подготовки личного состава, мне явно не хватало специалистов, но и тут удача не обошла меня стороной. Я разузнал, что совсем недавно в управление политической разведки были переведены двадцать молодых людей, в прошлом работавших оценщиками страховых убытков. Среди них мне случайно попался оберштурмфюрер Карл Радл, мой земляк и давний знакомый.
— Не желаешь ли вместе со мной заняться формированием новой группы VI S? — спросил я его.
Он не только согласился, но и тут же привел ко мне еще двух бывших оценщиков. Все трое уже успели понюхать пороху, а часть из них имела офицерские звания, что давало возможность использовать их по любому назначению.
Тогдашний шеф Главного управления имперской безопасности доктор Эрнст Кальтенбруннер[82] тоже оказался не совсем чужим человеком. Я знал его еще со студенческой скамьи, поскольку в Граце, городе на юго-востоке Австрии, он состоял в дружественной нам студенческой корпорации. Тогда мы часто встречались, но потом наши пути разошлись, и до 1938 года я его не видел. Теперь же, судя по всему, мой давний знакомый стал одним из самых могущественных людей в Германии.
Я представился ему по форме, предписанной уставом, и был приятно удивлен тем, что он заговорил со мной в прежнем дружественном тоне. Мне даже показалось, что, несмотря на весь внешний лоск, этот человек чувствует себя в своем нынешнем положении не совсем уютно.
— Я принял на себя столь тяжелую ношу спустя год после гибели обергруппенфюрера Гейдриха, — неожиданно заявил он и начал изливать мне свои заботы. — Целый год РСХА наряду с другими важными ведомствами возглавлял лично рейхсфюрер СС Гиммлер, решая множество задач. За это время все семь моих начальников управлений привыкли к определенной самостоятельности. Тогда они напрямую ходили к Гиммлеру и продолжают зачастую в обход меня делать это и сегодня. О многом я узнаю лишь впоследствии. Особенно это относится к твоему новому шефу Шелленбергу и начальнику гестапо[83] Мюллеру. Гейдрих был мастером своего дела и построил свое ведомство так, чтобы в нем не было места для любимчиков, а все дела решались сугубо на деловой основе. А это нам, выходцам из Остмарка[84], не очень по душе. Но ты сам все скоро поймешь!
После столь не очень обнадеживающего прощального слова я был отпущен, но сказанное еще долго не выходило у меня из головы.
Нам было приказано развернуть особые учебные курсы СС «Ораниенбург» до численности батальона. В связи с этим в полученном из командования войсками СС приказе содержалось указание о подборке необходимых кадров из части особого назначения «Фриденталь», с командованием которой у меня сложились довольно доверительные отношения. Кроме того, я использовал и старые связи с различными фронтовыми частями. В результате мне удалось подобрать нужных офицеров, унтер-офицеров и рядовых. В скором времени вторая рота была укомплектована.
Подходящее место для нового военного формирования нашлось во Фридентале возле Ораниенбурга. Старый простенький охотничий замок времен Фридриха II, притаившийся в глубине колоритного громадного парка с прилегающими к нему лугами, как нельзя лучше подходил для наших целей. Вскоре на этой территории возникли бараки, а площадки были выровнены. Само планирование строительства доставляло удовольствие, чего не скажешь о необходимости согласования задуманного в различных компетентных инстанциях. Пришлось научиться борьбе с бюрократизмом и ориентированию в лабиринтах юрисдикции. Неоценимым мастером в этих делах оказался назначенный моим начальником штаба Карл Радл.
Для обучения моего специального формирования я разработал большую программу: мои солдаты должны были получить по возможности всесторонние знания, которые могли пригодиться при выполнении различных задач в самых разнообразных местах. Каждому из моих людей предстояло пройти основательную пехотную и саперную подготовку, а кроме того, им надлежало освоить стрельбу из минометов, безоткатных орудий и танковых пушек, а также управление мотоциклами, автомашинами и, само собой разумеется, специальным транспортом. Требовалось также научить их управлению моторными лодками и локомотивами. Особое внимание уделялось занятиям верховой ездой и спортом, а кроме того, был предусмотрен ускоренный курс прыжков с парашютом.
В составе групп солдаты обучались проведению спецопераций, языкам, страноведению, технике подхода к цели и тактике осуществления атаки на объекты противника, в качестве которого я тогда рассматривал Советский Союз и страны Ближнего Востока, чтобы противодействовать там англо-американским интересам. Тогда я не в полной мере отдавал себе отчет в том, что был уже 1943 год и шел четвертый год войны, а может быть, сознательно гнал от себя всякие мысли, чтобы они не мешали мне добиться максимума возможного.
«Для солдата не может быть никакого «слишком поздно». Наоборот, никогда не поздно начать серьезное дело. Его следует подготовить и провести как можно быстрее и энергичнее», — думал я тогда.
Еще раньше в Голландии тоже началась подготовка по созданию школы агентов. Уже во время своей первой инспекционной поездки в эту школу я пришел к выводу, что там можно работать более масштабно, чем у нас на родине. Руководство в ней осуществлял штандартенфюрер СД Кнолле, и для меня складывалась весьма щекотливая ситуация. Ведь он был старше меня по званию, хотя тоже, как и я, не являлся служакой до мозга костей. Однако Кнолле сам разрешил данную проблему, заявив, что находится в моем подчинении. Школа располагалась в бывшем небольшом владении одного из голландских дворян, и в ней должны были готовить агентов из иностранцев, обучая их в первую очередь радиоделу и искусству проведения диверсий.
Вопросы, связанные с контрразведкой, с которыми я познакомился в Голландии и находившиеся в ведении третьего отдела абвера, а также ведомства полиции безопасности, были для меня совершенно новыми. Здесь я впервые узнал, с какой интенсивностью в этой области проводится работа, и прежде всего против англичан. Каждую ночь в нашем небе появлялись их самолеты, которые забрасывали к нам агентов с самыми разнообразными разведывательными задачами и с целью проведения диверсий. Они же доставляли грузы для уже заброшенных шпионов и диверсантов, сбрасывая радиопередатчики, взрывчатые вещества, оружие и необходимое снаряжение.
По оценке компетентных органов, почти половина всех агентов сразу же после приземления попадала в плен. Что же касается груза, то в немецких руках оказывалось почти семьдесят пять процентов сброшенного материала. Мы тоже принимали участие в обнаружении этих падающих с неба трофеев, причем весьма успешно. В результате довольно трудный для нас вопрос по материальному обеспечению по большей мере был решен за счет самого противника.
По моей просьбе мне дали ознакомиться с многочисленными протоколами допросов английских агентов. Читая их, я понял, какого преимущества мы добились. Тем не менее особый интерес у меня вызывали вопросы, связанные с организацией учебного процесса, в первую очередь его планирование и применяемые противником методы обучения. Я рекомендовал усилить внимание к данной проблематике во время проведения допросов, что и было учтено. В результате скоро мы получили хорошую картину относительно деятельности английской разведки, а также о ее структуре в Англии.
Мы знали все о тщательно охраняемом районе в Шотландии, в котором в небольших захудалых домишках располагалось большинство школ по подготовке агентов английской разведки. У нас были даже составлены точные эскизы местности с указанием дорог, с готовностью нарисованные плененными лазутчиками, а планы проведения занятий подсказали, в каком направлении нам следует работать.
В Голландии я впервые познакомился с деятельностью так называемых двойных агентов. Многие пойманные шпионы, которые считали разведку своим призванием и источником заработка, сразу же после пленения соглашались «перевернуться» и начать работать против своих прежних хозяев. Тогда ко мне в первый раз пришло осознание того, что исполнение по-настоящему опасных спецзаданий можно доверять только особо проверенным добровольцам. При этом решающее значение приобретала приверженность нашим идеалам и готовность отдать свою жизнь во имя интересов немецкого народа. Только при соблюдении этих условий можно было рассчитывать на успех. Без такого внутреннего стержня в ситуации, в которой человек для исполнения задания должен будет пожертвовать собой, ожидать от него особой стойкости не приходилось, и имевшиеся отдельные редкие исключения только подтверждали данное правило.
В том же голландском разведцентре абвера мне также стало известно, что с англичанами ведется радиоигра, причем весьма успешно. Абверу удалось захватить более десяти радиопередатчиков со всеми кодовыми словами и ключами, после чего для введения противника в заблуждение при помощи агентов, согласившихся принять участие в операции, с Англией был организован радиообмен.
В результате, в частности, в Голландии удалось вскрыть целую агентурную сеть, в которую входило более ста человек. Поскольку подпольные организации противника пока не проявляли активности, то с арестом их членов решили подождать, так как от продолжавшейся радиоигры ожидалось получить еще большие результаты.
В донесениях я также прочитал, что в английских спецшколах развернулось обучение по использованию бесшумных пистолетов. У нас, у немцев, такое оружие еще не производилось. Не попадалось оно и во время производимых арестов на оккупированных территориях западных стран. И тут ко мне пришла в голову дерзкая идея — а что, если заказать его в ходе продолжающейся радиоигры?
Голландский разведцентр абвера эту мысль одобрил, и уже через две недели, когда я вновь прибыл в Голландию, в Гааге мне передали соответствующий образец. Это был однозарядный револьвер калибра 7,65 мм в довольно примитивном исполнении. Однако вполне вероятно, что именно в этой простоте и крылась возможность его безопасного применения. На наш запрос от имени агента под псевдонимом Сокровище оружие в спешном порядке доставили самолетом из Англии, а немецкие спецслужбы его перехватили.
Я сразу же опробовал револьвер из окна служебного помещения, выстрелив в стаю уток, рассекавшую водную гладь городского канала. Выстрела действительно почти не было слышно, и даже утки не обратили внимания на пулю, вошедшую в воду рядом с ними.
Среди брошенного англичанами оружия в Голландии, Бельгии и Франции обнаружился и пистолет-пулемет «Стэн»[85]. Мне с самого начала нравилась простота его конструкции и очевидная низкая стоимость производства. К этому оружию следовало бы добавить глушитель, технология изготовления которого держалась в Англии под большим секретом. Мне очень хотелось раздобыть этот глушитель, только вот возникал вопрос, как это сделать? Запрос по радио на этот раз не дал никаких результатов, и мы пришли к выводу о том, что либо англичане на своем острове что-то пронюхали, либо новое изделие планировалось к применению только позднее.
Совершенно случайно мне стало известно, что в Англию собирается один голландский капитан. На своем небольшом катере через Швецию он намеревался добраться до порта в Шотландии и забрать там почту, предназначавшуюся для английских агентов в Голландии. По моей просьбе ему поручили выполнение дополнительного задания — потребовать глушитель к пистолету-пулемету «Стэн».
В результате где-то в июне 1943 года я стал первым в Германии обладателем данной приставки и был в восторге от возможностей военного применения этого адаптированного для наших целей оружия. Сколько потерь могла бы избежать оснащенная им разведывательная группа! Ведь при случайном столкновении с противником она не произвела бы столько шума, неизбежно возникающего при перестрелке, и не привлекла бы к себе внимания других подразделений неприятеля. Мне кажется, что любой солдат на фронте, которому доводилось принимать участие в различных рейдах и разведывательных мероприятиях, обрадовался бы такому оружию.
Однако в Берлинском управлении вооружений сухопутных сил думали иначе. Как-то вечером в Фридентале я с помпой продемонстрировал нескольким офицерам высокого ранга этот глушитель. Помнится, мы пошли прогуляться по темным аллеям парка, и по моему знаку солдат, следовавший в нескольких шагах позади нас, выпустил в воздух весь магазин. Господа очень удивились, когда позднее я показал им кучу стреляных гильз, лежавших на земле. Тем не менее они тут же стали возражать против производства такой насадки, найдя целый ряд отговорок — якобы у такого оружия слишком слабая пробивная сила, а глушитель отрицательно влияет на точность попадания.
И все же по просьбе других ведомств не без моих усилий удалось организовать производство хотя бы самых простых и надежных в обращении копий пистолетов-пулеметов «Стэн» и направить их в войска. Но это оружие никуда не годилось, поскольку стреляло выше точки прицеливания. Тем не менее оно не боялось пыли и при изготовлении требовало гораздо меньше материальных и физических затрат.
Однако «святой бюрократизм» и в этом вопросе нашел к чему придраться, лицемерно ссылаясь на высказывания Адольфа Гитлера о том, что немецкому солдату надо давать только самое лучшее оружие.
Новый пистолет-пулемет действительно имел меньшую кучность при стрельбе, чем старый, но при этом забывалось, что данный вид вооружений всегда был и останется оружием ближнего боя. Ни один солдат из пистолета-пулемета не будет намеренно вести точечную стрельбу по отдаленной цели.
В связи с этим не могу не сказать, что у русских снайперов еще в 1941 году на вооружении имелась автоматическая скорострельная винтовка, которая считалась весьма ценным трофеем, и что уже вскоре после начала войны в каждой немецкой роте имелось по несколько таких винтовок. В германских же сухопутных войсках немецкая автоматическая винтовка появилась только в 1944 году, хотя фабрики по производству стрелкового оружия предлагали подобную конструкцию за много лет до этого. Их предложения были отклонены из-за опасения, что оснащение вооруженных сил подобной винтовкой повлечет за собой слишком большой расход боеприпасов и снижение уровня дисциплины при стрельбе. Однако это не помешало ввести на вооружение пулемет MG 42[86] со скорострельностью более ста выстрелов в минуту! И это только один пример того, как сложно принимались решения высокими инстанциями, что, естественно, не встречало понимания в войсках.
Как-то раз ко мне наведался обер-лейтенант Адриан фон Фелькерзам[87], служивший в дивизии «Бранденбург» и награжденный еще в 1941 году Рыцарским крестом за проведение успешной операции в России. Он был как раз в отпуске и решил заехать, чтобы рассказать о растущем недовольстве среди старых бранденбуржцев.
Дивизию по непонятной причине перестали использовать для проведения специальных операций и ею начали затыкать дыры на фронте, с чем вполне могло справиться любое обычное соединение. И без того большие людские потери все возрастали, а учитывая уникальную специфику каждого человека, они становились просто невосполнимыми. Ведь в этой дивизии служили специалисты со знанием многих языков и особенностей стран возможного применения, которые добровольно вызвались участвовать в специальных операциях. Узнав о формировании моей части, он вместе с десятью другими военнослужащими изъявил желание перевестись в нее из своего батальона.
Фон Фелькерзам с первого взгляда мне очень понравился, так как производил впечатление порядочного человека и хорошего солдата. В случае его перевода у меня появился бы надежный и опытный помощник в организации сложных операций. Поэтому я обещал ему сделать все возможное и приложить максимум усилий для их перевода в мое формирование.
Выполняя свое обещание, я в первый и последний раз встретился с небезызвестным шефом германской военной разведки адмиралом Канарисом[88]. Вообще-то с адмиралом должны были встретиться доктор Кальтенбруннер и Шелленберг, чтобы обсудить вопросы более тесного сотрудничества между двумя ведомствами — службой внешней разведки абвера и 6-м управлением РСХА. Я упросил их взять меня с собой и поддержать мою просьбу о переводе четырех офицеров и шести фенрихов[89] дивизии «Бранденбург» в мою часть.
Нас привели в затемненный рабочий кабинет и пригласили занять места в старинных креслах. Несмотря на свою хорошую память на лица, мне, как ни странно, трудно описать адмирала Канариса. В памяти остался лишь образ крупного человека среднего роста, с большими залысинами и одетого в морскую форму. Запомнились также его бесцветные глаза, постоянно бегавшие от одного к другому, когда не фиксировались на целые минуты на воображаемой точке на стене.
А вот как собеседник адмирал мне запомнился лучше. Он не был человеком, мысли которого можно легко прочитать. О чем думал и чего хотел адмирал, понять было невозможно, зато он обладал удивительным красноречием и мог умело вставленным словцом переключить ход мысли собеседника в нужном для него направлении. Но я тоже оказался не лыком шит. В течение трех часов мы пытались склонить его к одобрению перевода нужных нам людей, и каждый раз он находил повод для отказа. Только нам, казалось, удавалось переубедить его, как адмирал находил новый аргумент, и все начиналось сначала. Наконец все его отговорки удалось отсечь, и, не найдя новых, он сдался, одобрив перевод всех десятерых людей.
Я глубоко вздохнул и поднял кверху глаза, про себя торжествуя победу. К моему удовлетворению, несмотря на всю сложность переговоров, казалось, все кончилось хорошо. Однако когда он начал излагать соответствующее распоряжение своему начальнику штаба, то, ко всеобщему удивлению, вновь вернулся к прежним отговоркам и сомнениям, отодвинув в конце концов решение этого вопроса на неопределенное время.
Я понял, что все усилия оказались напрасными, и мне не оставалось ничего другого, как удалиться. С меня было достаточно. Только спустя месяцы, в ноябре 1943 года, используя уже окольные пути, этих десятерых добровольцев из дивизии «Бранденбург» удалось все-таки вызволить. Вернувшись в свою часть совершенно разочарованным результатами переговоров, я не удержался и поделился своими впечатлениями со своим начальником штаба Радлом.
— Адмирал Канарис является, пожалуй, самым тяжелым собеседником, с которым мне когда-либо довелось встречаться, — сказал я. — Это совершенно закрытый человек, сущность которого мне так и не удалось понять. Возможно, именно таким и должен быть разведчик. Адмирал подобен медузе, в бесформенное тело которой можно погружать палец до тех пор, пока он не выйдет наружу с другой стороны. Но стоит только этот палец потянуть обратно, как все сразу же приходит в первоначальное состояние. Именно такую картину напоминает его манера вести переговоры. Этот человек не говорит ни «да» ни «нет», для него нет ни черного, ни белого, одни только полутона. В конечном итоге он ни на что не соглашается, но своего желаемого, возможно, достигает. Если бы такой тактики он придерживался в беседе с каким-нибудь чужаком или противником, то это можно было бы даже приветствовать, но по отношению к немцам?
Тогда же я установил контакты и с другим ведомством — собственной службой разведки люфтваффе, имевшей кодовое наименование «Курфюрст» («Князь»). Она обладала самой лучшей структурой управления по сравнению с другими спецслужбами, с которыми мне довелось иметь дело. Со временем мне удалось наладить с ней тесное сотрудничество. Вызывало удивление, какой богатый материал по каждой стране был там накоплен — все участки местности на карте дополнялись аэрофотоснимками, которые включали районы, простиравшиеся далеко на восток от Волги и доходившие до Аральского моря на юго-востоке и до Месопотамии[90], а также Суэцкого канала[91] на юге. Правда, большинство снимков приходилось на 1940 и 1941 годы, то есть на то время, когда военно-воздушные силы Германии еще господствовали в воздухе. Кроме того, в архивах можно было найти исчерпывающие сведения о промышленном потенциале противника.
Для подготовки спецоперации «Ульм» я раздобыл там различные сведения о советской военной промышленности. Только тогда, когда мне стали доступны материалы люфтваффе, стало понятно, сколь многого еще не хватает в моей части и какую гигантскую работу предстоит сделать.
Было совершенно очевидно, что Россия перевела наиболее важные в военном отношении предприятия за Урал, территория которого намного превышала размеры тогдашнего германского рейха. Однако по большинству располагавшихся там районов аэрофотоснимки отсутствовали, и сведения о них мы получали из других источников, для чего постоянно собирались и систематизировались показания пленных. Наряду с информацией, полученной от немецких, французских и других фирм, которые когда-то там работали и осуществляли туда поставки, это дало нам возможность получить хорошую картину о промышленной структуре Урала. Одновременно я смог оценить, сколько еще материала предстоит систематизировать до того момента, когда мы сможем перейти к надежному планированию предстоящих операций.
Возможность уничтожения всей располагавшейся за Уралом промышленности путем проведения воздушных бомбардировок и диверсий исключалась, поэтому необходимо было выявить ключевые узлы. Ведь промышленность любой страны, особенно такой, где индустриализация проходила при господстве централизованного планирования, обязательно должна была иметь уязвимые места, которые вскоре действительно обнаружились.
Таким уязвимым местом явилась система энергоснабжения, которая наряду с промышленными предприятиями тоже строилась в централизованном порядке. Причем фундамент для нее буквально закладывался вручную. Из-за гигантского размаха индустриального развития предусмотреть создание значительных энергетических резервов просто не представлялось возможным, и потребности в энергии покрывались ровно на столько, на сколько это было необходимо.
В результате в случае целенаправленного вывода из строя определенных звеньев энергоснабжения промышленные предприятия просто бы встали. Следовательно, наиболее уязвимым местом становилась сама единая энергосистема при условии, если ей систематически наносить повреждения. Осознав это, с помощью некоторых технических служб люфтваффе, которые тоже были очень заинтересованы в результатах нашей работы, мы приступили к соответствующему планированию и начали быстро продвигаться вперед.
Однако вся эта системная работа была нарушена и прервана на несколько месяцев из-за вмешательства «самого верха», отдавшего приказ наверняка из самых лучших побуждений, но не до конца его продумав. Все дело заключалось в том, что министр вооружений Шпеер[92] направил Гиммлеру меморандум о большом значении для советской промышленности на Урале гигантских доменных печей в Магнитогорске. В тот же день Гиммлер в присущей ему импульсивной манере отдал приказ, который гласил: «Части особого назначения «Фриденталь» начать немедленную подготовку операции по организации диверсий на доменных печах Магнитогорска. Разрушить их и вывести из строя на длительное время. О ходе подготовки операции и предполагаемом времени ее начала докладывать мне ежемесячно». Этот приказ прилетел ко мне и лег на стол в виде телеграммы-молнии.
После подробного обсуждения поставленной задачи со специалистами мы пришли к двум выводам. Во-первых, ни о самом Магнитогорске, ни о имеющихся в нем производственных сооружениях почти никакой документацией мы не располагали. Следовательно, необходимо было попытаться раздобыть нужный материал, на что могло уйти несколько месяцев. Во-вторых, нам так и не удалось определить, каким образом диверсанты смогут доставить требуемые объемы взрывчатки в места, располагающиеся в непосредственной близости от строго охраняемых объектов, не говоря уже о самих объектах.
Тогда возникла другая проблема — как доложить об этом столь высокопоставленному лицу? Когда я предложил подробно изложить в письменном виде суть вопроса с соответствующими выкладками и направить донесение наверх, то меня подняли на смех. Мне ясно дали понять, что я еще новичок в таких делах и мне следует освоить все тонкости общения с высокими инстанциями.
— Для начала каждому плану, пусть даже самому глупому, необходимо дать высокую оценку, — поучал меня Шелленберг, через канцелярию которого проходил приказ Гиммлера. — Затем следует осторожно докладывать о небольших успехах в проводящейся подготовке и только потом, и то очень аккуратно и понемногу, начинать вкраплять в доклады истинное положение дел. Мастером в этой дипломатии может считаться только тот, кто умудрится подобный план ловко отправить в забвение. Вот как должен поступать идеальный и любимый начальством подчиненный.
Я принял во внимание это наставление, и нам потребовалось целых полтора года на то, чтобы об этом полностью неисполнимом приказе наконец забыли.
Постепенно я получал конкретное и исчерпывающее представление о том, что кроется за понятиями «военная диверсионно-разведывательная операция» и «осуществление диверсий через агентов». Мне, как солдату, прежде всего претили операции первого вида, но и в отношении «осуществления диверсий через агентов» мысленно я был вынужден признавать, что Германия являлась плохой исходной базой для их проведения. Ведь мы оккупировали всю Европу, и возникал вопрос, где найти англичан и американцев, которые согласились бы работать на нас в своих странах? Если предлагать только деньги, то от таких агентов многого ожидать не приходилось.
В противоположность нам союзники намного легче находили себе людей в оккупированных нами странах, где хватало патриотов, которые из одних только идейных соображений искали любые способы побороть «оккупантов».
Поэтому я верил, что следует больше рассчитывать на добровольцев из числа немецких солдат, которые могли бы работать в сопровождении одного или двух местных жителей в качестве проводников и знатоков обычаев местности. Мы хотели проводить «военные диверсионно-разведывательные операции», опираясь сугубо на солдатскую основу.
Глава 7
Вызов к фюреру. — Полет в «Волчье логово». — Главная ставка фюрера. — Перед верховным главнокомандующим. — Выбор пал на меня. — «Мой друг Муссолини». — Секретное поручение. — У генерала Штудента[93] и Гиммлера. — Короткий разговор в Фридентале. — Оценка обстановки Гиммлером. — «Неподходящий человек». — Лихорадочные приготовления. — Блонди. — Полет на «Хейнкель Не-111»[94]в Италию. — Штаб-квартира во Фраскати[95]. — Приглашение к фельдмаршалу Кессельрингу[96]. — Перед моими людьми. — По следу
26 июля 1943 года, надев свой лучший гражданский костюм, я встретился в Берлине в гостинице «Эдем» с одним профессором Венского университета, которого помнил еще со студенческой скамьи. Затянувшиеся обеденные часы за приятной беседой в холле за чашечкой кофе пролетели совершенно незаметно. Мы вспоминали Вену, нашу общую родину и друзей, и тут мною овладело ощущение какого-то непонятного внутреннего беспокойства. Как и полагалось, я заранее сообщил, где в случае чего меня можно найти, так что вроде бы переживать было не о чем — при необходимости меня обязательно подозвали бы к телефону. Однако беспокойство не проходило, а, наоборот, усиливалось.
«Что бы это могло значить?» — подумал я и, не выдержав, направился к телефону, чтобы вызвать свою канцелярию.
Оказалось, что меня разыскивают уже битых два часа.
— Шеф, вас вызывают в главную ставку фюрера! — послышался в трубке взволнованный голос моей секретарши. — На взлетном поле аэродрома Темпельхоф[97] в семнадцать часов вас ждет самолет!
Теперь причина охватившего меня волнения была понятна — не каждый день обыкновенного солдата вызывали к самому фюреру, в главной ставке которого я до этого еще не был.
— Скажите Радлу, чтобы срочно отправлялся ко мне на квартиру, взял форму, туалетные принадлежности и ехал на аэродром. И пусть все хорошенько проверит, — поборов внутреннее волнение, постарался как можно спокойнее сказать я. — А вы не в курсе, в чем дело?
— Нет! Нам ничего не известно. Радл немедленно выезжает! Я передам ему, чтобы он ничего не забыл!
Я быстро попрощался со своим венским знакомым, который тоже пришел в сильное волнение от известия, что меня вызывают в главную ставку фюрера.
— Ни пуха ни пера! — только и произнес он.
Проезжая по берлинским улицам по пути на аэродром, я не переставал ломать голову над причиной такого вызова, продумывая все варианты.
«Неужели речь пойдет об операции «Франц»? — думал я. — Нет, это вряд ли. Может быть, его интересует операция «Ульм»? А вот это весьма вероятно, хотя трудно представить, чтобы по этому поводу меня вызывали в главную ставку фюрера. Что ж, остается только ждать».
На аэродроме меня уже поджидал мой начальник штаба со свертком и папкой в руках. Пока я быстро переодевался, Карл Радл сообщил, что слышал по радио о том, что в Италии произошла смена правительства, но связать это событие с причиной моего срочного вызова нам и в голову не пришло. Закончив с переодеванием, мы направились к летному полю, где уже стоял «Юнкере Ю-52»[98], удивляясь тому комфорту, которым меня окружили. Шутка ли, предоставить такой большой самолет всего одному пассажиру! Я уже стоял на ступеньке лестницы, как ни с того ни с сего меня что-то развернуло.
— Находитесь постоянно на связи! — крикнул я Радлу. — Как только что-либо узнаю — сразу перезвоню. И приведите обе роты в состояние полной боевой готовности! Береженого Бог бережет!
С этими словами я махнул рукой на прощание, и вскоре самолет стал выруливать на взлетную полосу. Пока «Юнкере», набирая высоту, кружился над Берлином, я вернулся к своим нелегким мыслям: «Что меня ожидает в главной ставке? С кем мне предстоит там встретиться? Что за тайна, покрытая мраком?»
Наконец мне надоело ломать голову над вопросами, на которые все равно не было ответа, и я решил осмотреться. Все двенадцать кресел позади меня оказались пустыми, зато прямо передо мной обнаружился небольшой шкафчик с крепкими напитками. Набравшись смелости, которой мне было не занимать, я испросил пилотов через дверь разрешение воспользоваться этим баром. Две рюмки хорошего коньяка быстро успокоили нервы. Теперь можно было сосредоточиться на созерцании местности, проплывавшей под фюзеляжем самолета.
Мы как раз пролетали над Одером, и раскинувшиеся внизу зеленые леса и поля Ноймарка весело приветствовали меня, отвлекая от мыслей о предстоящей встрече и о том, что мне ничего не известно о главной ставке фюрера, место нахождения которой хранилось от простых смертных в строжайшем секрете. До нас доходили только слухи, что она называется «Вольфсшанце»[99] и располагается где-то в Восточной Пруссии. Вытащив из полевой сумки аккуратно сложенную карту, я мысленно похвалил Радла за то, что он действительно ничего не забыл. Полет длился уже полтора часа, и тут справа внизу показался Шнайдемюль[100]. Самолет, держа курс на северо-восток, прошел над городом на высоте примерно в тысячу метров, откуда забавно смотрелись солнечные зайчики, отражавшиеся от оконных стекол и игравшие на водной глади небольшой речки.
Я ненадолго заглянул в кабину пилотов, и они указали мне на показавшееся вдали море, а под нами, словно игрушечная, лежала железнодорожная развязка дорог Варшава— Данциг и Инстербург — Позен[101].
«Какая шикарная цель для налета с воздуха», — невольно подумал я и тут же с досадой поймал себя на том, что даже во время столь интересного и спокойного полета в отличную погоду мне никак не удавалось избавиться от мыслей о войне.
Солнце уже стало садиться за горизонт, и мы начали снижаться, опустившись на высоту триста метров. Изменился и ландшафт — местность, испещренная множеством мелких водоемов, стала совсем ровной, а листва на деревьях в лесах приобрела светло-зеленый оттенок.
«Похоже на березы», — мелькнула мысль в моей голове.
Позади нас осталось уже около пятисот километров, а впереди вновь показался лабиринт из мелких водоемов, которые подмигивали нам своими голубыми глазами. Между тем солнце уже почти полностью спряталось за горизонт, и свет от него становился все бледнее. Беглого взгляда на карту было достаточно, чтобы понять, что мы летели над Мазурским поозерьем[102].
«Не здесь ли старый Гинденбург[103] дал генеральное сражение русским? — подумал я. — Какое счастье, что сегодня наш Восточный фронт проходит под Смоленском, откуда далеко до Восточной Пруссии и многие сотни километров до границ Германии».
Тут «Юнкере» послушно спланировал еще ниже, и на краю озера возле Лётцена[104] стал видим небольшой аэродром. Большая металлическая птица уверенно и спокойно коснулась земли и покатилась по посадочной полосе. Весь полет продлился не более трех часов. У барака командно-диспетчерского пункта меня уже поджидал внушительных размеров «Мерседес» с открытым верхом.
— Это вы гауптман Скорцени? — спросил меня обер-ефрейтор. — Мне приказано немедленно доставить вас в главную ставку.
Мы покатили по ухоженной лесной дороге и вскоре оказались перед внешним ограждением. Путь нам преграждал массивный шлагбаум. Еще на аэродроме водитель снабдил меня пропуском, который я вместе со своей солдатской книжкой предъявил офицеру в здании охраны. Мою фамилию занесли в специальную книгу, я расписался, и шлагбаум поднялся, открывая проезд. Дорога стала несколько уже и повела нас по березовой роще. Переехав через железнодорожные пути, мы остановились у второго шлагбаума. Мне вновь пришлось выходить из машины и предъявлять свои документы. После тщательной проверки и занесения моих данных в очередную тетрадь дежурный офицер взял трубку, куда-то позвонил, а затем стал уточнять, к кому я был вызван. К великому моему смущению, я не смог ответить на такой простой вопрос.
— Вас вызывает адъютантская служба! Следуйте в чайный домик! — явно впечатленный ответом, полученным во время вторичного телефонного звонка, заявил он.
Однако мне это ничего не говорило.
«Интересно, чего хочет от меня адъютантская служба фюрера?» — подумал я.
Машина проехала еще немного и опять остановилась у каких-то ворот. Всю территорию, на которую нас пропустили, опоясывал забор из колючей проволоки высотой в человеческий рост. Территория напоминала роскошный парк с вкраплением маленьких березовых рощ. Переплетающиеся многочисленные дорожки также окаймлялись молоденькими березками. И во всем этом великолепии в беспорядке были разбросаны какие-то здания и бараки. Причем на их плоских крышах росла зеленая трава и низкорослые деревья, а часть строений и дорожек покрывала высоко натянутая маскировочная сеть с вкрапленными в разных местах верхушками настоящих деревьев. Сделано это было явно для того, чтобы и открытым местам придать видимость настоящего леса.
Когда машина остановилась возле чайного домика, я обратил внимание, что под этой искусственной зеленой крышей царил настоящий полумрак. Передо мной стояло деревянное здание с двумя одноэтажными флигелями, соединявшимися крытым проходом. Позже мне стало известно, что в левом флигеле располагалась столовая, в которой ежедневно обедал начальник Верховного командования вермахта фельдмаршал Кейтель[105] со своими генералами и другими немногими приближенными лицами. Правый же флигель и был собственно чайным домиком. Войдя в него, я оказался в большом вестибюле, обставленном современной удобной мягкой мебелью и несколькими столами. Пол был устлан ковром с длинным ворсом.
Меня встретил гауптман войск СС и представил пяти офицерам, а именно: подполковнику и майору сухопутных сил, двум подполковникам люфтваффе, а также майору войск СС. Мой слух резануло, как неправильно этот гауптман произнес мою фамилию.
— Моя фамилия не такая уж и трудная, — поправил я его. — Ее следует только правильно произносить по-немецки — Скор-це-ни. Видите, совсем не сложно.
Не знаю, почему именно здесь мне пришло в голову акцентировать внимание на правильном ударении в произношении своей фамилии. Как бы то ни было, все, казалось, только и ждали моего появления. Во всяком случае, гауптман куда-то исчез, и я, воспользовавшись возникшей паузой, прикурил сигарету.
Я хотел было уточнить фамилию своего коллеги из войск СС, поскольку, как всегда, при первом представлении плохо ее запомнил, но тут офицер вернулся.
— Сейчас, господа, я проведу вас к фюреру, — заявил он. — От вас требуется представиться и коротко, буквально в двух словах, изложить свою военную карьеру. Затем, если у него возникнут вопросы, вам надлежит так же коротко на них ответить. Прошу следовать за мной!
Я не поверил своим ушам! Страх буквально сковал меня. И было от чего, ведь мне впервые предстояло предстать перед самим Адольфом Гитлером, фюрером Великого германского рейха и Верховным главнокомандующим вермахтом! Для меня это явилось полной неожиданностью.
«Как бы от волнения не опростоволоситься! — промелькнуло у меня в голове. — Ладно, будем надеяться на лучшее, ведь дома, в Берлине, за меня держат кулачки мои люди».
Мы прошли не больше ста пятидесяти шагов, а вот куда именно и в каком направлении, я не обратил внимания.
Между тем мы оказались в таком же большом вестибюле другого деревянного здания, обставленного так же, как и чайный домик. Нас попросили немного обождать. В приглушенном, приятном для глаз освещении все выглядело немного неестественным. Не знаю почему, но мой взгляд привлекла к себе висевшая на стене небольшая картина в простенькой серебряной рамке.
«Так это же «Букет фиалок» Дюрера[106]», — осенило вдруг меня.
Странно, но именно эта маленькая деталь врезалась мне в память, а вот гораздо более важные впечатления не оставили в ней и следа.
Затем перед нами распахнули левую створку двери и провели также в большое помещение площадью примерно шесть на девять метров. На окнах правой продольной стенки висели простенькие цветные шторы. Рядом располагался массивный стол с картой обстановки, а по центру левой стены виднелся камин. Перед камином стоял круглый столик в окружении то ли четырех, то ли пяти комфортабельных кресел. К помещению примыкала еще одна пустая комната, в которой нас и построили для представления. Как младший по рангу, я занял место на левом фланге, и мой взгляд уперся в письменный стол, стоявший поперек окна. На его светло-коричневой столешнице в строгом порядке были разложены многочисленные карандаши.
«Так вот, значит, где принимаются самые великие решения нашего времени», — подумал я, и в этот момент слева открылась дверь.
Мы как по команде вытянулись в струнку и застыли, повернув головы в сторону двери. Теперь мне действительно предстояло увидеть человека, внесшего столь заметный вклад в историю Германии. Это было непередаваемое ощущение, возникающее только тогда, когда обыкновенный солдат внезапно оказывается перед самым высоким по рангу командующим. Не исключено, что в мое сегодняшнее описание того события, оказавшегося для меня столь неожиданным, могли вклиниться и более поздние воспоминания, ведь тогда меня охватило большое смущение, и в памяти запечатлелись только отдельные детали.
Адольф Гитлер вошел в комнату медленными шагами и поприветствовал своим известным каждому из нас по фотографиям жестом, изогнув приподнятую правую руку. На нем был простой, свободного покроя пиджак защитного цвета, открывавший белоснежную рубашку с черным галстуком. На левой стороне груди я разглядел Железный крест первого класса времен Первой мировой войны и черную нашивку, свидетельствовавшую о перенесенном ранении.
Адъютант, который привел нас, принялся представлять нашу группу Адольфу Гитлеру, начав с правого фланга, и поэтому я не мог толком наблюдать за происходящим. Мне едва удалось сдержать себя, чтобы не выйти вперед для лучшего обзора.
Слышался только знакомый по радиопередачам приглушенный голос фюрера, который задавал короткие вопросы. Спутать этот тембр с другим голосом было невозможно, но только сейчас я обратил внимание на хорошо чувствовавшиеся мягкие оттенки речи и интонации, свойственные австрийцам.
«Удивительно, что этот человек, насаждающий сейчас в Германии старый прусский дух, несмотря на многолетнюю разлуку с истинной родиной, так и не избавился от характерных признаков своего происхождения, — подумал я. — Интересно, осталось ли у него хоть что-нибудь от подлинной сущности настоящего австрийца? Какой он на самом деле?»
Однако я отогнал от себя столь ненужные в такой ответственной ситуации вопросы.
Каждый из стоявших до меня в шеренге офицеров коротко, по-солдатски докладывал о своем пути становления как военного. И вот Адольф Гитлер оказался передо мной и, выслушав мое представление, протянул мне руку. Я весь напрягся, чтобы не сделать чересчур низкий поклон. Кажется, мне это удалось, и все получилось как положено — коротко и четко. В пяти предложениях я изложил место своего рождения, образование, военную карьеру в качестве офицера резервных войск С С и занимаемую тогда должность. Во время этого доклада мы стояли близко друг к другу и смотрели глаза в глаза. Причем он глядел на меня не отрываясь ни на мгновение.
Затем Гитлер отступил назад, еще раз внимательно посмотрел на каждого и вдруг совершенно неожиданно задал вопрос:
— Кто из вас знаком с Италией?
Я оказался единственным, кто отозвался.
— Мне два раза частным образом довелось путешествовать по Италии и объехать всю страну вплоть до Неаполя, мой фюрер! — гаркнул я.
— Что вы можете сказать об Италии? — задал Гитлер следующий вопрос и посмотрел на первого из нас, однако было ясно, что он обращается ко всем нам.
— Италия… Партнер по оси… Член Антикоминтерновского пакта[107]… Союзник… — последовали робкие ответы.
— Я — австриец, мой фюрер! — отчеканил я, когда дошла очередь и до меня.
Мне казалось, что этим сказано все — отторжение Италией Южного Тироля, красивейшей части немецкоговорящей Австрии, всегда с болью воспринималось каждым настоящим австрийцем.
Адольф Гитлер посмотрел на меня долгим пытливым взглядом, потом приблизился и заявил:
— Господа могут быть свободны! А вас, гауптман Скорцени, попрошу остаться! Мне надо сказать вам еще пару слов.
Внезапно я обратил внимание на то, что Гитлер правильно выговорил мою фамилию, сделав ударение в нужном месте, и про себя порадовался этому. А может быть, просто его адъютант кое-что рассказал о первой встрече со мной?
Как бы то ни было, мы остались вдвоем. Адольф Гитлер оказался человеком среднего роста и стоял слегка, почти незаметно наклонившись вперед. Внезапно он оживился и заговорил, слегка поводя руками. Все вместе это производило какое-то магическое воздействие.
— У меня к вам очень ответственное поручение, — заявил он. — Муссолини, мой друг и наш верный товарищ по борьбе, вчера был предан своим королем и арестован своими же земляками. Я не хочу и не могу оставить выдающегося сына Италии на произвол судьбы. Дуче[108] для меня является воплощением последнего гордого римлянина. При новом правительстве Италия от нас отвалится! Я сохраню верность моему союзнику и большому другу! Муссолини необходимо немедленно спасти, иначе его выдадут англичанам. Я поручаю вам провести эту акцию, имеющую первостепенное значение для дальнейшего ведения войны! Сделайте все возможное и невозможное для выполнения этого приказа, и тогда удача будет на вашей стороне!
Адольф Гитлер на мгновение умолк, а потом продолжил:
— А теперь самое важное. При выполнении задания надлежит сохранять строжайшую секретность. Вместе с вами о нем должны знать только пять человек. Вы будете переведены в люфтваффе в распоряжение генерала Штудента. Вы с ним встретитесь и обговорите все детали. Я его сейчас проинформирую. Кроме того, вам вместе с генералом Штудентом надлежит предпринять все меры военного характера на случай выхода из оси Италии, подвластной Бадольо[109]. Рим сейчас ни в коем случае терять нельзя! Всю информацию по дуче вам следует раздобыть самому. Ни командующий немецкими войсками в Италии[110], ни германский посол в Риме ничего не должны знать о вашем задании. У этих двух господ совершенно неправильное представление о положении дел, и они неизбежно будут совершать ошибки. Повторяю еще раз. Вы лично отвечаете передо мной за сохранение строжайшей секретности. Надеюсь вскоре услышать от вас хорошие новости. Желаю удачи!
Чем больше говорил Адольф Гитлер, тем сильнее я ощущал на себе его влияние. Произнесенные им слова звучали настолько убедительно, что у меня ни на мгновение не возникло сомнения в успехе предстоящей операции. Особенно я был тронут его проникновенным тоном, с каким он говорил о верности своему итальянскому другу.
— Мне все ясно, мой фюрер! Сделаю все от меня зависящее!
В ответ Адольф Гитлер крепко пожал мне руку, и на этом моя аудиенция у него была закончена. На протяжении всего короткого разговора, занявшего несколько коротких минут, которые мне показались вечностью, он неотрывно смотрел в мои глаза. Даже когда я по-военному повернулся кругом и направился к двери, меня не оставляло ощущение, что Гитлер пристально смотрит мне вслед. Перед тем как покинуть помещение, я обернулся, чтобы еще раз отдать честь, и понял, что не ошибся.
За дверью меня опять встретил адъютант, чему я был несказанно рад, так как в наступивших сумерках совершенно растерялся, не зная, куда идти. Мне необходимо было еще раз осмыслить только что пережитое. Я попытался вспомнить цвет глаз Гитлера. Почему-то мне показалось, что они были бурыми, но больше всего впечатлял его почти гипнотический взгляд, который продолжал ощущаться и после завершения аудиенции. Меня также поразило отсутствие мимики на его лице. Складывалось впечатление, что этот человек полностью владел собой и прекрасно мог контролировать свои эмоции. Вместе с тем он буквально излучал огромный заряд энергии, которая была сконцентрирована в нем. Создавалось ощущение, что она перетекает в собеседника.
За этими воспоминаниями я и не заметил, как вновь очутился в чайном домике и, выйдя в вестибюль, с удовольствием закурил. В голове роились самые разные мысли, и требовалось привести их в порядок. Тут появился ординарец и стал интересоваться, не надо ли мне чего-нибудь. Только тогда я понял, что страшно проголодался.
— Будьте любезны, принесите мне кофе и еще чего-нибудь к нему, — попросил я.
Как по мановению волшебной палочки мне быстро накрыли богатый стол. Положив портупею, фуражку и перчатки рядом с собой, я собрался было перекусить и насладиться покоем, как вдруг передо мной вновь возник ординарец и сообщил:
— Господин генерал Штудент просит вас пройти в соседнюю комнату!
В то же мгновение открылась дверь, и мне пришлось прервать свой запоздалый обед. Войдя в небольшое помещение, я доложил генералу о своем прибытии. Им оказался полноватый и жизнерадостный человек. Глубокий шрам на лице напоминал о тяжелом ранении, полученном в 1940 году под Роттердамом.
Я сообщил ему, что фюрер только что в общих чертах объяснил мою задачу. Тут в дверь коротко постучали и — еще один сюрприз, но, как оказалось, не последний в этот богатый событиями день — в комнату вошел рейхсфюрер СС Гиммлер, которого я видел до сих пор только на портретах. Он, наверное, хорошо знал генерала воздушно-десантных войск, поскольку они обменялись дружеским приветствием, пока я ждал момента, чтобы представиться как положено по уставу. После короткого рукопожатия рейхсфюрер СС предложил нам сесть.
Первым, что бросалось в глаза у Гиммлера, — это его старомодное пенсне. Застывшие и совсем не броские черты лица не выдавали ни единой мысли этого всесильного человека. На нем был китель защитного цвета с узкими, как я заметил, погончиками СС, не относящимися непосредственно к войскам СС[111]. Униформу дополняли галифе и сапоги для верховой езды. Как я убедился позднее, он никогда не надевал удобные для ношения длинные брюки.
Гиммлер по-дружески улыбнулся нам и стал обрисовывать политическую ситуацию в Италии. Он тоже не верил, что новое правительство Бадольо останется в лагере стран оси. Была названа масса имен офицеров, политических деятелей и аристократов, ни одно из которых прежде я не слышал. Поскольку одних рейхсфюрер называл надежными, а других предателями, то мне пришло в голову пометить некоторых для себя. Однако не успел я достать блокнот и ручку, как Гиммлер чуть ли не с бешенством обрушился на меня:
— Вы с ума сошли?! Как можно такое записывать?! Это же строжайшая тайна! Запоминайте!
Я, конечно, немедленно убрал письменные принадлежности и подумал:
«Хорошенькое начало! Вряд ли в суматохе этого дня мне удастся запомнить хотя бы одно из сотни упомянутых им имен. Ладно, обойдусь и без них!»
Гиммлер говорил без умолку, не давая нам со Штудентом вставить хотя бы одно слово. Но нам, собственно, и сказать было нечего. Между тем рейсфюрер продолжал сыпать фамилиями и вопреки всем правилам поведения приличных людей не скупился на эпитеты в отношении той или иной личности. Я, конечно, старался запоминать, но для одного раза их действительно было слишком много.
— Падение Италии не вызывает сомнений, — заявил Гиммлер. — Единственный вопрос заключается лишь в том, когда это произойдет. Возможно, со дня на день. Итальянские эмиссары уже ведут в Португалии закулисные переговоры с союзниками!
И вновь посыпалась череда фамилий, названий населенных пунктов, сопровождаемая выдержками из секретных донесений.
Затем Гиммлер принялся обсуждать с генералом Штудентом вопросы, которые меня не касались. Было уже одиннадцать часов вечера, и мои товарищи в Берлине наверняка извелись в ожидании моего звонка. Поэтому я испросил разрешения отойти, чтобы позвонить.
В коридоре в ожидании соединения со своей частью я вытащил сигарету и в раздумье закурил.
«По крайней мере, задание в общих чертах понятно, — размышлял я. — Остается только большой вопрос, как его выполнить…»
Тут в коридор вышел и Гиммлер. Увидев меня с сигаретой в руках, он буквально накинулся на меня:
— Опять эти проклятые сигареты! Разве трудно хотя бы несколько часов не курить? Вижу, что вы не тот человек, который нужен для этой миссии!
Он бросил на меня испепеляющий взгляд и удалился.
«Ну и дела! — расстроился я. — Второй раз за вечер он набрасывается на меня. Видно, я не очень-то понравился господину Гиммлеру. Может, следует считать себя уже отстраненным от проведения операции?»
Раздавив сигарету каблуком сапога, я ошарашенно думал, что же мне делать дальше. И тут ко мне подошел адъютант фюрера, который, видимо, все слышал.
— Все не так страшно! — сказал он. — Рейхсфюрер распекает всех кого не лень! Через несколько минут он уже и не вспомнит об этом. Очевидно, рейсфюрер сейчас взвинчен чем-нибудь, а когда он в таком состоянии, никогда не знаешь, как себя с ним вести. Идите спокойно к генералу Штуденту и обговорите с ним свои дальнейшие действия.
Я последовал его совету и вернулся в кабинет, где все было решено буквально за несколько минут. На следующий день в восемь часов утра нам с генералом надлежало вылететь в Рим, причем мне предстояло сыграть роль его офицера для поручений. В это же время пятьдесят бойцов моей части должны были вылететь с берлинского аэродрома на юг Франции, а оттуда вместе с частями 1-й парашютной дивизии воздушно-десантного корпуса, срочно перебрасывавшегося по воздушному мосту в Италию, направиться в Рим.
— Остальное решим на месте, — подытожил нашу встречу генерал Штудент. — Надеюсь, что наше сотрудничество даст хорошие результаты. До завтрашнего утра!
Не успел я выйти в коридор, как раздался телефонный звонок.
— Что случилось? — послышался взволнованный голос обер-лейтенанта Радла. — Мы все тут места себе не находим в ожидании вашего звонка!
— У нас срочное задание. Приступаем завтра утром. По телефону более подробно ничего пока сказать не могу. Мне самому необходимо все хорошенько продумать. Свяжусь с вами позже. И чтобы в эту ночь никто не спал! Все автомашины должны быть на ходу, так как предстоит принять кое-какое снаряжение. Со мной отправятся пятьдесят человек. Только самых лучших и со знанием языков романской группы[112]. Жду от вас предложений по офицерам для участия в операции. Я тоже прикину, кого лучше взять. Приготовьте снаряжение для работы в тропиках и сухие пайки! К пяти часам утра все должно быть готово. Как только приму решение, перезвоню.
Я очень обрадовался, обнаружив в чайном домике еще одного дежурного офицера, ведь мне было невдомек, что в главной ставке фюрера жизнь не замирала ни на секунду. Мне хватило решимости попросить его предоставить для моих нужд отдельный кабинет с телефоном и машинисткой, которой предстояло передавать по телетайпу в мою часть особого назначения необходимые указания.
Вскоре появилась девушка в простеньком сером костюме и поинтересовалась, не голоден ли я. Получив утвердительный ответ, она удалилась и через несколько минут вернулась с подносом, на котором лежали аппетитно пахнувшие закуски, подобранные как будто специально на мой вкус. Но я почти не притронулся к еде, съев только один бутерброд. Зато подналег на кофе, так как мои силы были почти на пределе.
Пройдя в предоставленный мне кабинет, я попытался сосредоточиться, чтобы все продумать.
«Какое оружие, какое снаряжение, сколько взрывчатки необходимо взять для пятидесяти человек?» — такие мысли крутились в моей голове.
Рассмотрев подробно каждый пункт, я составил длинный список, исходя из того, что мой небольшой отряд должен был обладать максимальной огневой мощью при минимальном весе вооружения.
«Если придется прыгать с парашютом, то тогда в каждом отделении из девяти человек лучше иметь по два пулемета, вооружив всех автоматами, — рассуждал я. — Так, теперь гранаты. Для наших целей лучше всего подойдут лимонки, которые можно рассовать по карманам. Кроме того, следует взять саперное снаряжение для двух групп подрывников. Тридцати килограммов пластической взрывчатки, думаю, хватит. Лучше взять английскую, которую мы недавно получили из Голландии. Она превосходит по качеству немецкую. Не забыть про различные детонаторы и взрыватели, в том числе и замедленного действия. Необходимо также взять каски колониального варианта, нательное белье для личного состава, продовольствие на неделю и сухие пайки на три дня пути».
Передав в Берлин по телетайпу первый список, я принялся выбирать из своих людей тех, кто в обязательном порядке должен принять участие в операции. В список вошли командир роты обер-лейтенант Менцель, а также лейтенант Швердт, считавшийся лучшим пехотинцем и сапером. Не был забыт и лейтенант Варгер, владевший итальянским и обладавший хорошими навыками альпиниста.
Вскоре список наполнился фамилиями, и я еще раз пробежал его глазами, не упустил ли кого. Мои люди могли обидеться, если кто-нибудь не будет принят во внимание.
«Так и есть, чуть не забыл про своего водителя унтер-офицера Б. и про обоих Хольцеров…»
Наконец список был составлен и я попросил срочно соединить меня с Берлином. Трубку взял Радл.
— С нас уже семь потов сошло! — доложил он. — Не представляю, как все успеть сделать до рассвета?! Ваше послание, переданное по телетайпу, мы получили, но список такой длинный!
— Это еще не все. Возможно, кое-что придется добавить, но все должно быть исполнено точно и в срок! — ответил я. — Думаете, мне здесь легко? С меня тоже семь потов сошло, ведь я встречался с самим фюрером и рейхсфюрером СС!
Услышав такое, мой начальник штаба чуть было не поперхнулся.
— Не забывайте, что это открытый канал связи! — напомнил я.
Затем мы сравнили списки личного состава, который должен был нас сопровождать. Люди, отобранные Радлом, полностью совпали с моими предложениями, и я еще раз про себя порадовался, что в лице своего начальника штаба нашел человека, который меня понимает с полуслова. Мы с ним сработались просто великолепно!
— У нас здесь чуть ли не революция назревает! — заявил Радл. — Никто не хочет оставаться! Все так и рвутся в бой!
— Немедленно сообщите людям о принятом решении относительно участников экспедиции, — посоветовал я. — Это охладит уж слишком горячие головы. И не забывайте о сроках! Все, конец связи!
Меня не оставляло чувство, что мы чего-то не учли.
«Так и есть, — осенило меня. — А про связь мы ведь чуть не забыли!»
Необходимо было взять с собой рации, развернуть в Берлине корреспондирующую радиостанцию, получить шифры по крайней мере на месяц, предусмотреть несколько сеансов для связи, чем больше, тем лучше, как днем, так и ночью. В результате я отправил еще одну телеграмму. Все сообщения естественно передавались по проводам под грифом «Совершенно секретно, дело особой государственной важности», ведь требовалось соблюдать очень большую осторожность — если бы итальянцы или их секретные службы узнали о наших планах, то все усилия оказались бы напрасными.
Я вызывал Берлин еще четыре, а то и пять раз, так как на ум приходили все новые важные детали: прихватить трассирующие патроны для автоматов на случай ночного боя, ракетницы, эффективные в условиях тропиков медикаменты для больных и раненых, а также одного или двух фельдшеров. Затем мне пришло в голову, что для офицеров может понадобиться гражданская одежда. В общем, я не переставал тревожить своего начальника штаба.
Было около половины четвертого утра, когда я в последний раз позвонил в Берлин, где не прекращалась лихорадочная активность. Грузовики то и дело подвозили необходимые грузы, но все получалось как нельзя хорошо. Наконец мне передали, что мы должны взять с собой еще нескольких офицеров связи.
«Прекрасно, — пронеслось у меня в голове. — Будем надеяться, что они тоже пригодятся!»
Однако пора было подумать об отдыхе, и я попросил одного из все еще бодрствовавших ординарцев предоставить мне кровать. Подвальное помещение барака, в котором я работал, служило бомбоубежищем, где с двух сторон центрального коридора тянулись ряды помещений в виде ниш, походивших на комфортабельные каюты парохода с отдельными койками. Одна из таких кают и была предоставлена в мое распоряжение. Я быстро разделся и лег в кровать.
Воздух здесь оказался очень спертым, хотя вытяжка постоянно работала. Шум вентиляторов действовал на нервы, но я надеялся на то, что скоро к нему привыкну и мне удастся немного поспать. Однако сон не шел, и мне ничего не оставалось, как еще раз обдумать сложившееся положение дел. Лежа в кровати, размышлять было удобно, и только тогда ко мне пришло понимание, какое ответственное и сложное задание мне поручили.
Для начала необходимо было обнаружить местопребывание дуче.
«Допустим, мы успешно разрешили этот вопрос, — прикидывал я. — Что делать дальше? Муссолини, без всякого сомнения, содержится в надежном месте и строго охраняется. Нам что, придется штурмовать крепость или тюрьму?»
Мое перевозбужденное воображение начало рисовать одну нелепую картину за другой. Я ворочался на постели, пытаясь отогнать эти образы, но они возвращались снова и снова. Причем с каждым разом шансы на успех казались мне все меньше и меньше.
«Неужели мне поручили миссию, которая приведет меня прямо на небо? — резануло меня. — Как бы то ни было, это возможность показать, на что я способен. Приложу все свои силы, и если будет необходимо, то достойно покину сей прекрасный мир».
Внезапно мне пришла в голову мысль, что я еще являюсь и отцом семейства и ушел на войну, даже не подумав о завещании.
«Сейчас самое время!» — решил я, встал, включил свет и нанес на бумагу свою «последнюю волю».
В приглушенном свете спального бункера и при неутихающем шуме, производимом вентиляторами, мешавшем мне заснуть, меня посетила еще одна мысль. Она ясно показала, что этот день знаменовал собой начало нового отрезка в моей жизни.
«Сегодня солдат Скорцени получил приказ, который в любом случае, независимо от того, чем закончится операция, в корне изменит всю его дальнейшую судьбу, конечно, если я останусь в живых», — пронеслось у меня в голове, ведь в моем бытии появилась новая важная компонента, возвышавшая меня над остальными немецкими солдатами.
Как ни странно, но это чувство не показалось мне диким, и я был полон решимости твердо и уверенно пройти предначертанный мне путь. Одно только будущее могло показать, хватит ли у меня сил, чтобы выдержать такое испытание.
Однако со сном пришлось окончательно распрощаться. К тому же было уже почти шесть часов утра. Я, как был в пижаме, выскользнул из своей «каюты» в коридор и спросил у попавшегося мне ординарца, где можно привести себя в порядок. Оказалось, что здесь имелся даже душ, и уже через несколько секунд я подставил свое измученное тело под живительные струи, включая то горячую, то холодную воду. Контрастный душ за каких-то полчаса начисто вымыл из моей головы всякие глупые и ненужные мысли.
В шесть часов сорок пять минут я уже сидел за завтраком в чайном домике. Времени оставалось не так и много, так как машина, которая должна была доставить меня на аэродром, была заказана на семь тридцать. Генерала Штудента видно не было.
«Скорее всего, он отдыхал в каком-нибудь другом месте», — подумал я.
Теперь у меня проснулся зверский аппетит, и ординарец не успевал подносить все новые блюда, которые я заказывал. Мне явно хотелось наверстать упущенное накануне. Между тем за окнами совсем рассвело, и влажные от росы поля начали куриться под первыми лучами восходящего солнца.
На улице я заметил фельдфебеля с овчаркой и подошел к открытой двери, чтобы лучше разглядеть собаку, ведь эта порода нравилась мне больше всего. Овчарка послушно выполняла команду «Апорт!», садилась и по приказу легко перепрыгивала через поднятые на высоту около полутора метров сомкнутые в круг руки фельдфебеля. Подозвав его к себе, мне удалось выяснить, что это была любимая овчарка Гитлера по кличке Блонди[113], которая совершала свой утренний моцион.
Пора было отправляться в путь, и я взял свой портфель, составлявший теперь весь мой багаж, а перед этим мне принесли телеграмму, подтвердившую отправку моей команды. На этот раз машина отвезла меня на другой аэродром, располагавшийся почти на самом гребне высокого холма.
«Какая прекрасная цель для воздушного налета противника, — подумал я. — Это просто чудо, что еще ничего не случилось!»
Через несколько минут прибыл и генерал Штудент, проспавший остаток ночи в главной ставке люфтваффе. Двухмоторный «Хейнкель-111», более быстрый, чем старый добрый «Юнкере», на котором я прилетел, стоял уже готовый к полету. Мне удалось познакомиться с личным пилотом генерала Штудента гауптманом Герлахом, а незадолго до этого, еще в бараке командира авиационной базы, меня втиснули в летный меховой комбинезон, который был мне несколько мал, и увенчали голову пилоткой офицера люфтваффе. Мне оставалось только радоваться предстоящему путешествию, ведь если погода останется столь же прекрасной, то оно обещало быть очень интересным.
Согнувшись в три погибели, мы вскарабкались в чрево самолета. Кормовой стрелок, пилот и радист были уже на своих местах, так что дело оставалось только за нами. Машина взлетела, набрала высоту и взяла курс общим направлением на юг, идя со скоростью около двухсот семидесяти километров в час и на высоте порядка трех тысяч метров. Мазурское поозерье вновь поприветствовало нас свежей зеленью лесов и своими голубыми озерками.
Из-за шума двигателей всякий длинный разговор с генералом Штудентом был невозможен. Мне удалось только доложить ему о том, что мои люди благополучно вылетели из Берлина. Затем генерал задремал, и я решил воспользоваться этим, чтобы оглядеться, ведь мне впервые довелось лететь на Не-111 и здесь было много нового. Пробравшись в кабину летчиков, я надолго устроился в кресле второго пилота и сквозь прозрачный фонарь кабины наслаждался открывавшимся отсюда чудесным видом.
Сначала мы летели над бывшей Польшей. Примерно через полчаса на горизонте, с левой стороны, появилось какое-то темное пятно, а потом стали различаться остроконечные шпили.
«Варшава», — догадался я.
Немного позднее мы пролетели над индустриальным районом Верхней Силезии, где сотни заводских труб выплевывали в небо черные клубы дыма, а еще чуть позднее — над бывшей Чехословакией, превратившейся в протекторат Германии. Местность становилась заметно холмистее, а поросшие лесом горные вершины сменялись плодородными равнинами по берегам чистых рек. Ландшафт делался все привлекательнее и разнообразнее, и мне стало понятно, что наш курс шел прямо на Вену.
Вскоре старый имперский город действительно возник прямо под крылом нашего самолета, и я мысленно послал ему привет.
«Если бы члены моей семьи знали, кто пролетает сейчас над ними! — подумал я и тут же отогнал от себя эти мысли. — Нет, лучше не надо, а то они начнут беспокоиться! Пусть произойдет то, что должно произойти!»
Воспользовавшись случаем, я сверху стал показывать пилоту достопримечательности своей родины. Под нами проплыли виадуки железной дороги Земмеринг[114], зеленеющая Штирия и моя вторая родина город Грац со своим Шлоссбергом[115].
Совершенно незаметно я опустошил весь выданный мне перед полетом рюкзак с продовольствием. Пирожки, шоколад, печенье и яблоки исчезли в моем желудке, словно их и не было вовсе. И тут мне внезапно очень захотелось в то место, куда царь пешком ходит. Однако конструкция самолета такого отсека не предусматривала. Пришлось поделиться своей бедой с пилотом, и он отослал меня в хвост машины.
Был полдень, и мы летели уже над Хорватией. Я почувствовал сильную усталость, но решил до конца насладиться всеми прелестями этого полета.
«На том свете, если убьют, отосплюсь!» — промелькнуло у меня в голове.
Внизу величественно проплывали карстовые горы, и через некоторое время я заметил вдали отблеск солнечных лучей на поверхности моря. Затем появилась и Пола[116], превратившаяся в военно-морскую базу Италии.
«А когда-то все это побережье принадлежало австро-венгерской монархии», — с невольной грустью подумал я.
В тот день Адриатическое море поражало невыразимой голубизной и было просто великолепно. С этой высоты рыбачьи шхуны походили на ланцетовидные листочки. Солнечные лучи, преломляясь в волнах, создавали иллюзию, будто бы какой-то волшебник рассыпал по морю тысячи бриллиантов. Мне показалось, что даже на этой высоте я ощущаю исходящее от них тепло, ведь мы были уже на солнечном юге!
Мы достигли итальянского полуострова, и под нашим левым крылом промелькнул город-порт Анкона. Пришлось еще раз набрать высоту, чтобы перелететь Апеннины, а затем снова снизиться до 300 метров, поскольку воздушное пространство севернее Рима находилось под контролем дальних истребителей союзников.
Даже здесь, в Италии, с высоты я узнавал знакомые очертания городов, а иногда и улиц.
— В 1934 году мне довелось здесь поколесить на своем мотоцикле марки «БМВ», — пояснил я пилоту.
Наконец показался Вечный город со своими семью холмами, Колизеем, площадью Святого Петра и замком Святого Ангела[117]. Самолет начал снижаться и ровно в двенадцать тридцать приземлился на аэродроме на восточной окраине города, преодолев за четыре с половиной часа без малого полторы тысячи километров.
«Черт возьми, какая жара! Настоящее полуденное пекло», — подумал я.
Над взлетно-посадочной полосой и над всем полем еще висело облако пыли, поднятое самолетом при посадке, и, когда мы выбрались из крылатой машины, я инстинктивно хотел снять меховой комбинезон и только в последний момент вспомнил, что еще не получил формы люфтваффе.
«Офицер войск СС в качестве порученца генерала воздушно-десантных войск Штудента — хорошая интрига для многих», — подумал я и решил терпеть, продолжая обливаться потом.
В течение последующих часов я чувствовал себя мучеником. Даже поездка в открытом автомобиле не освежила меня.
Мы прибыли в Фраскати — маленький, прелестный, типично итальянский городок, в котором располагался главный штаб командующего немецкими войсками в Италии фельдмаршала Кессельринга.
12 мая 1943 года война в Африке закончилась победой союзников. Экспедиционный корпус, состоявший из войск Германии и Италии, одержавший в начале войны столько блестящих побед, больше не существовал. Причем главной причиной поражения явился пресловутый вопрос снабжения. Имевшиеся у Германии и Италии возможности не позволили его решить ни воздушными, ни морскими силами. А может быть, имелись и другие факторы? 10 июля союзным войскам удалось в первый раз ступить на территорию Европы. Первая волна нашествия была направлена на Сицилию, и теперь немецкие и итальянские части вместе дрались там за каждую пядь земли. В последние дни бои шли за деревню Чефалу на северном побережье Сицилии.
Мы подъехали к зданию, в котором располагался штаб командующего воздушным флотом генерала фон Рихтгофена[118], и были приглашены на обед. Я не знал, как объяснить за обеденным столом свой столь странный для такой жары внешний вид, и тут, словно ангел-спаситель, мне на выручку пришел гауптман Мельцер, возглавлявший передовую команду парашютно-десантного корпуса. Мне пришлось ему довериться. Я проследовал за ним в его комнату и с облегчением скинул с себя проклятый насквозь промокший от пота меховой комбинезон и свою униформу. Только тогда стала сказываться бессонная ночь, но нервное напряжение исчезло — я снова почувствовал себя спокойным и рассудительным человеком.
Поразительно, насколько быстро немцы перенимали присущий итальянцам образ жизни! Здесь все, от последнего рядового до генерала, свято соблюдали многочасовую сиесту. Вот и гауптман Мельцер вернулся только в половине пятого дня, принеся с собой легкое свежее нательное белье и комплект парашютно-десантной тропической униформы. Теперь, нацепив на себя приготовленную им фуражку офицера люфтваффе, я мог предстать перед генералом Штудентом. Мой основательный боевой товарищ не забыл и про удостоверение офицера при штабе парашютно-десантного корпуса.
Мне предоставили комнату для отдыха рядом с апартаментами генерала Штудента на вилле Тускулум-2[119], с террасы которой открывался великолепный вид на Рим. Обустраиваться здесь надолго мне вряд ли стоило, ведь вскоре содержимое моего портфеля должно было перекочевать в другое место!
Вечером Штудента пригласил к себе фельдмаршал Кессельринг, и мне предстояло его сопровождать. Кто бы еще сутки назад мог подумать, что никому не известный гауптман Скорцени будет сегодня вечером ужинать у командующего немецкими войсками в Италии? Мне не стоило долго размышлять над этим вопросом, а не то я мог зазнаться — уж слишком быстро начали меняться декорации!
В двадцать один час мы подъехали к жилищу фельдмаршала. В вестибюле меня ему представили. Он являлся, пожалуй, самой симпатичной фигурой среди всего высшего генералитета, так как за чисто солдатской внешней оболочкой проступало подлинное обаяние настоящей личности. А вот его начальник штаба генерал-майор Вестфаль, несмотря на свою молодость и прекрасное воспитание, являл собой образец типичного, хотя и незаурядного, офицера Генерального штаба, строго следящего за своими манерами.
После ужина в холле подали кофе, и несколько офицеров более низкого звания заняли место за столом рядом со мной.
Разговор вертелся вокруг одного вопроса — свержения дуче. Кто-то из офицеров стал рассказывать о том, что ему довелось встретиться с одним итальянским генералом и спросить его, не знает ли тот место, где содержится дуче. Я, естественно, сразу же насторожил уши. Из слов рассказчика следовало, что генерал дал ему честное слово в том, что ни он сам, ни кто-либо из руководства итальянской армии не имеют об этом ни малейшего понятия.
— Вот уж не знаю, можно ли верить этому заявлению! — вырвалось у меня со свойственной мне импульсивностью.
Похоже, что это услышал незаметно подошедший сзади фельдмаршал Кессельринг. Решив вступиться за нашего союзника, он раздраженно произнес:
— Лично я абсолютно ему верю! У меня нет никаких оснований сомневаться в честном слове итальянского офицера. Было бы хорошо, чтобы и вы, господин гауптман, впредь придерживались такого же мнения!
Кажется, меня бросило в краску. Во всяком случае, я твердо решил в дальнейшем быть более сдержанным в своих суждениях.
На следующий день наконец-то стали поступать сообщения о передислокации парашютной дивизии. К обеду на аэродроме Пратика-ди-Маре, расположенном почти на самом побережье к юго-западу от Рима, приземлились первые самолеты. Генерал Штудент взял меня с собой и отправился туда, чтобы на месте отдать необходимые распоряжения.
На летном поле виднелись громадные, но медленные крылатые машины «Гигант»[120]. В утробе такого самолета мог спокойно поместиться целый танк. Как бы то ни было, мое подразделение еще не прибыло.
Ожидание второго дня оказалось еще более неприятным — поступили сообщения, что во время перелета наши эскадрильи подверглись атаке со стороны истребителей противника и есть потери в людях и технике.
«Надеюсь, что мой отряд не пострадал», — мелькнула у меня эгоистическая мысль, свойственная, пожалуй, любому командиру, оказавшемуся в подобном положении.
Наконец утром третьего дня пришла хорошая новость. Мне передали, что со следующей эскадрильей должны прибыть и мои люди. Я бросился на аэродром и увидел их. Все они были бодры и веселы. Точнее сказать, что бодрыми и веселыми они стали только после того, как самолет благополучно приземлился. Во время полета некоторых укачало.
Поблизости от аэродрома мне отвели три барака, куда со всем своим снаряжением, а также багажом и направились мои люди. Причем снаряжения оказалось настолько много, что им пришлось сделать две или три ходки. Когда с размещением было закончено, я приказал отряду построиться.
Выслушав доклад гауптмана Менцеля, получившего к тому времени повышение в звании, и осмотрев застывших в ожидании солдат, я объяснил им, что нам, возможно, предстоит выполнить очень важное задание, и заявил:
— Не думайте сейчас об этом. Просто поддерживайте наилучшую физическую форму и будьте каждый день полностью готовы к проведению операции. Вольно! Разойдись!
После этого я подозвал к себе Менцеля и приказал ему принять все меры по скорейшему прохождению акклиматизации. Боевой подготовкой следовало заниматься только утром и вечером, а остальное время посвящать спортивным мероприятиям и плаванию.
Затем я вернулся во Фраскати, забрав с собой Радла. Только тогда, когда мы оказались наедине в моей комнате, которую ему предстояло разделить вместе со мной, мне показалось возможным ввести его в курс дела и посвятить в суть возложенной на нас миссии. Так же как и меня в свое время, это известие его поразило и взволновало. Мы сразу же сошлись во мнении, что местопребывание дуче будет найти очень трудно. Что касалось проведения непосредственно самой операции по освобождению Муссолини, то мы решили о ней пока не думать. До начала ее осуществления время еще оставалось.
К тому же нам пришлось заняться планированием решения задачи другого рода, которую надлежало выполнять параллельно с основной. Поскольку одна из дивизий генерала Штудента вела бои в Сицилии, то оставшаяся в его распоряжении вторая парашютная дивизия должна была обеспечить безопасность Рима. По мнению Гитлера, нам следовало исходить из того, что новое правительство Бадольо в любой день может отвернуться от Германии и перейти на сторону врага. На этот случай нам предписывалось предпринять все мыслимые меры предосторожности, чтобы сохранить под немецким контролем Рим и его окрестности, аэродромы и железнодорожные вокзалы. Выход города, являвшегося важной базой снабжения, из строя на длительное время мог повлечь за собой непредсказуемые последствия.
Среди многих имен, названных Гиммлером, к счастью, я смог запомнить два самых важных: Каплер и Дольман. По предложению рейхсфюрера их можно было привлечь к проведению операции, и прежде всего в решении вопроса по определению местонахождения арестованного главы государства. Судя по всему, Дольман числился у Гиммлера на особо хорошем счету. Он проживал в Италии уже достаточно давно и обзавелся прекрасными связями во влиятельных кругах. Каплер же являлся в Риме германским полицейским атташе и со своими возможностями тоже мог оказать нам существенную помощь. Как бы то ни было, на следующий день мы намеревались нанести визит и познакомиться с обоими господами, проживавшими в Риме.
Я представил генералу Штуденту своего начальника штаба и известил его о своем намерении вступить в контакт с Каплером и Дольманом, чтобы как можно скорее начать поиски дуче. О плане проведения самой операции пока речи по-прежнему идти не могло. В свою очередь генерал сообщил мне, что фельдмаршал Кессельринг в качестве командующего германскими войсками нанес визит кронпринцу Умберто[121] и, выполняя официальное поручение, поинтересовался о местонахождении Муссолини, на что кронпринц заявил, что не информирован об этом. О подобном заявлении у меня было свое суждение, но я решил благоразумно промолчать, хотя, судя по всему, Штудент явно придерживался такого же мнения.
Служебные помещения, которые занимал полицейский атташе, располагались в обычном римском офисном здании. Каплером оказался довольно молодой правительственный советник, встретивший нас буквально с распростертыми объятиями. Во время последовавшей работы он всегда оказывал нам всестороннюю помощь и поддержку.
Мы узнали, что о месте пребывания дуче ходят самые разнообразные слухи. Одни утверждали, что Муссолини покончил с собой, другие уверяли, что он тяжело болен и находится в санатории на излечении. Все это на поверку оказалось досужими сплетнями и не навело нас на след. Достоверным казалось утверждение, что вопреки совету своей жены дуче отправился на аудиенцию к королю. Это случилось в послеобеденное время 25 июля 1943 года. Тогда его и видели в последний раз. Судя по всему, в королевском дворце он был арестован.
Меня интересовали также рассказы, связанные с предысторией его свержения. Они свидетельствовали, что в Италии, так же как и в Германии, народ не испытывал восторга от войны. После начала боевых действий в Абиссинии[122] страна практически не знала мира, и затянувшиеся годы войны вызвали усталость у широких слоев населения, которая наложилась на горечь от потери всех африканских колоний. Это, а также снижение уровня жизни подтолкнуло отличающихся неустойчивостью характера итальянцев к перемене настроений. Пламенный восторг от идей фашизма и от самого дуче, который мне лично довелось наблюдать еще в 1934 году, у многих влиятельных кругов сначала сменился на равнодушие, а затем и на откровенную враждебность.
К противникам режима переметнулась и часть фашистских чиновников, к которым присоединился даже зять Муссолини граф Чиано[123], занимавший еще недавно пост министра иностранных дел. В результате на последнем заседании Большого фашистского совета[124] Муссолини остался в меньшинстве, а его правительство было смещено.
Принесла свои плоды и проводимая союзниками в отношении Италии тайная внешняя политика. В том, что в ней принимали участие некоторые бежавшие в Португалию и находившиеся там в изгнании итальянские политические деятели, сомневаться не приходилось. Неожиданным явился только сам арест и исчезновение Муссолини. Последнюю загадку нам и предстояло разрешить.
Меня удивляло, почему сам факт взятия дуче под стражу не вызвал никакого резонанса в фашистских кругах Италии, обладавших еще значительным политическим весом? Почему не были организованы протесты и демонстрации? Было только одно объяснение этому — немногие настоящие фашисты находились на фронте в рядах бригад чернорубашечников[125]. Итальянские же вооруженные силы подчинялись королевскому дому, а кронпринц на протяжении многих лет служил своеобразным магнитом, притягивающим к себе давних оппозиционеров режиму дуче.
Немецкий полицейский атташе часто имел дело с одним офицером корпуса карабинеров, остававшимся в глубине души и в эти дни приверженцем фашистского режима. В одной из бесед этот человек проронил несколько слов, которые впервые позволили нам напасть на реальный след. Он сказал, что вроде бы дуче был перевезен на санитарной машине из королевского дворца в казармы карабинеров в Риме.
Наше расследование подтвердило эту информацию. Нам удалось даже установить, в какой части здания и на каком именно этаже содержался Муссолини. Однако после 25 июля прошло уже более десяти дней, и было вполне вероятно, что Муссолини уже перевезли в другое место. Тем не менее следовало продумать все варианты вызволения дуче из этой части здания на случай, если он продолжал там оставаться, и мы с Радлом принялись размышлять над тем, как лучше организовать такую поистине ювелирную акцию.
Глава 8
Остров-узилище Понца. — Новый приказ из главной ставки фюрера. — Крепость Ла-Маддалена. — Жертва спора. — Хитрость удалась. — Падение в море. — На Корсике. — Канарис идет по ложному следу. — Еще раз в главную ставку фюрера. — Доклад у Гитлера. — Отмененный приказ. — «У вас это получится». — Освобождение из Ла-Маддалены. — В последний момент. — На несколько часов позднее. — Новые следы. — 60-летие Муссолини 29 июля 1943 года. — Войска Бадольо под Римом. — Горный отель на Гран-Сассо. — Собственная воздушная разведка. — Фраскати под бомбами союзников. — Капитуляция Италии 8 сентября 1943 года. — Неясная обстановка
Объем данной книги не позволяет детально изложить подробности нашей работы в последующие недели, поэтому я решил остановиться только на отдельных моментах и ограничиться в основном описанием результатов нашего расследования.
Много дней мы практически топтались на одном месте, пока нам на помощь не пришел его величество случай.
В одном римском ресторанчике мы познакомились с неким торговцем фруктами, который часто наведывался по своим делам в Террачину, небольшой городок на берегу Гаэтанского залива. У его лучшего клиента там была служанка, с которой в любовной связи состоял один карабинер.
Этот карабинер служил на острове Понца, где находилась тюрьма, и так как ему долго не давали увольнительную, то он написал своей возлюбленной письмо. Объясняя причину своего длительного отсутствия, влюбленный сослался на то обстоятельство, что к ним на остров поступил какой-то очень высокопоставленный заключенный.
Эта информация подтвердилась, правда значительно позже. Некий совсем юный итальянский морской офицер случайно проговорился, что 7 августа 1943 года его крейсер перевез дуче из тюрьмы на острове Понца в порт города Специя на побережье Лигурийского моря, откуда его переправили в неизвестном направлении.
Все эти сведения, которые я ежедневно докладывал генерал-полковнику Штуденту, немедленно передавались в главную ставку фюрера. На сообщение, в котором упоминался город Специя, тут же последовал доставленный специальной почтой приказ о том, что я должен немедленно приступить к подготовке операции по освобождению дуче с борта боевого корабля.
Сутки напролет мы ломали голову над тем, как выполнить этот приказ, ведь похищение человека на глазах всего экипажа крейсера было делом далеко не легким! На наше счастье, буквально на следующий день пришло подтверждение тому, что дуче там нет и что его уже отправили дальше.
В качестве курьеза мне хочется добавить, что, как нам стало известно, определением местопребывания Муссолини занимались даже берлинские астрологи и ясновидящие. Это было организовано с легкой руки Гиммлера, который якобы разбирался в подобных весьма спорных науках. Во всяком случае, мне о положительных результатах таких «исследований» ничего не известно. Мы с Радлом предпочитали не полагаться на столь сомнительные вещи и достигали своих целей без помощи потусторонних сил.
Немного позднее сведения, полученные из различных источников, в том числе и в результате анализа упорных слухов, дали новый след, который вел на остров Сардиния. Данные, указывавшие на один из мелких островков и на госпиталь, затерявшийся в горах в маленьком городке, оказались ложными. А вот версия о присутствии дуче в морской крепости Ла-Маддалена у северо-восточной оконечности Сардинии все больше и больше находила подтверждение.
Капитан первого ранга Хунеус, настоящий старый морской волк, страдавший, как это бывает, подагрой, являлся офицером связи германских военно-морских сил при итальянском коменданте крепости. Исходя из лучших побуждений он по собственной инициативе сообщил нам, что на этом острове содержится какой-то весьма высокопоставленный пленник.
Эти сведения показались мне настолько важными, что я решил немедленно лететь на Сардинию, чтобы на месте лично разобраться, что к чему. Вместе с лейтенантом Бартером, превосходно владевшим итальянским, мы отправились на остров.
По прибытии в Ла-Маддалену я совместно с Хунеусом на немецком минном тральщике тщательно и скрупулезно обследовал акваторию порта, сделав под прикрытием паруса несколько фотографий портовых сооружений. Мне удалось даже сфотографировать, правда с расстояния нескольких сотен метров, усадьбу, носившую название вилла «Вебер». Этот дом, располагавшийся за пределами города, интересовал нас больше всего. Затем я начал искать надежные способы узнать, что же это был за «важный узник». В этом вопросе со своим итальянским мне должен был помочь лейтенант Варгер.
Будучи небольшого роста, он переоделся в форму простого немецкого матроса и начал играть роль переводчика при Хунеусе. С наступлением вечера Варгер должен был потолкаться в тавернах и прислушаться к ведущимся в них разговорам.
Мой план базировался на том, что все итальянцы являются яростными спорщиками — как только зайдет разговор о дуче, Варгеру надлежало вмешаться и заявить, что из надежных источников он точно знает, что Муссолини тяжело заболел и умер. В случае если данная версия вызовет протесты, ему следовало заключить пари, а чтобы казаться более убедительным, он должен был притворяться слегка пьяным.
Но тут возникли неожиданные трудности. Дело заключалось в том, что Варгер вообще не употреблял спиртного. Только после неоднократного напоминания о солдатском долге и длительных увещеваний мне удалось убедить его в данном конкретном случае немного отступить от своих принципов.
И план сработал! Невольной жертвой приверженности итальянцев к разного рода спорам стал торговец фруктами, который ежедневно доставлял свой товар на виллу «Вебер». Он и заключил пари, легко выиграв деньги, но оказав нам поистине неоценимую услугу. Чтобы доказать Варгеру свою правоту, торговец привел переодетого лейтенанта к себе в дом, располагавшийся по соседству с виллой, и издали показал ему террасу, по которой прогуливался дуче. Пропавший диктатор был наконец-то найден!
Варгер стал частенько наведываться к торговцу и уже вскоре, используя столь своеобразный наблюдательный пункт, смог установить подробности несения службы охраной и точное число солдат. Настало время выработать план наших дальнейших действий и определить, каким образом мы сможем вызволить Муссолини.
Задача осложнялась еще и тем, что Ла-Маддалена являлась морской крепостью — требовались более точные сведения о расположении зенитных батарей, особенностях местности и многом другом. Поскольку имевшихся у нас карт для проведения столь ответственной операции было недостаточно, я решил облететь город на самолете и сделать соответствующие аэрофотоснимки. Однако выяснилось, что пролет над охраняемой зоной для всех самолетов был запрещен. Тогда мы решили осуществить фотографирование с большой высоты. Даже в этом случае можно было рассчитывать на получение хотя бы нескольких отчетливых снимков.
18 августа 1943 года воздушная часть подготовки предстоящей операции началась. Выделенный в мое распоряжение генералом Штудентом «Хейнкель Не-111», взлетев с аэродрома Пратика-ди-Маре, сначала взял курс на север. В то время активность авиации противника над морем настолько возросла, что в целях безопасности все самолеты, направлявшиеся на Сардинию, должны были делать крюк, пролетая через острова Эльба и Корсика.
Ровно в назначенный час мы приземлились для дозаправки на одном из главных аэродромов Сардинии возле города Темпьо-Паузания. Пока самолет заправляли горючим, я быстро смотался в город Палау, который лежал в пятидесяти километрах севернее, чтобы еще раз переговорить с Хунеусом и Бартером.
Они проинформировали меня, что в Ла-Маддалене ситуация в целом не изменилась. Однако с каждым днем начали предприниматься новые меры безопасности и стала усиливаться охрана.
Успокоенный, я вернулся на аэродром, чтобы приступить к осуществлению разведывательного полета, после которого у меня было запланировано посещение Корсики, чтобы обсудить с командованием расквартированной там бригады войск СС необходимые вопросы. План, начинавший созревать в моей голове, не исключал привлечения достаточно серьезных войсковых сил, и мне казалось важным предусмотреть все заранее.
Машина на аэродроме стояла уже заправленной, и около пятнадцати часов мы взлетели. Я приказал пилоту быстро набрать высоту и подняться на пять тысяч метров, чтобы, держа курс на север, пройти как можно выше над военно-морской базой Ла-Маддалены и сделать необходимые снимки.
Заняв место на полу в носовой части самолета в застекленной кабине сразу за бортовой пушкой, я положил возле себя фотокамеру и карту, на которой намеревался делать необходимые пометки, и только хотел восхититься особой голубизной моря, которую оно приобрело именно в тот день, как вдруг в наушниках раздался голос заднего стрелка:
— Внимание! Сзади два английских истребителя!
Пилот заложил крутой вираж, а я положил палец на гашетку, стараясь поймать цель в перекрестие прицела. Через некоторое время командир выровнял самолет, и мне уже было показалось, что все закончилось благополучно, как вдруг я заметил, что нос нашей машины направлен вертикально вниз.
Обернувшись, я увидел искаженное лицо пилота, который изо всех сил старался удержать машину и вывести ее из пике. Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что левый мотор не работает. Самолет падал со все возрастающей скоростью, о прыжке с парашютом уже нечего было думать, и тут в наушниках раздался голос:
— Держитесь!
Инстинктивно я обеими руками вцепился в ручки бортовой пушки, и мгновение спустя самолет ударился о поверхность воды. Видимо, меня сильно приложило по голове, поскольку на мгновение я потерял сознание.
Последнее, что мне удалось зафиксировать, так это то, что спереди что-то лопается и разлетается на куски. Затем чья-то рука схватила меня за шиворот и потащила наверх. Тут я снова открыл глаза и увидел странную картину — вокруг одна только морская вода, а наша машина медленно в нее погружается. В разбитой передней части кабины пилотов зияла огромная пробоина, через которую хлестала вода. Ее было уже по пояс.
С трудом открыв дверь в салон, мы попробовали докричаться до задней кабины, но никакого ответа не последовало.
«Неужели оба наших товарища погибли?» — подумал я.
Однако следовало как можно быстрее выбраться из самолета, который мог затонуть с минуты на минуту. Общими усилиями нам удалось откинуть верхний аварийный люк в кабине пилота, и внутрь хлынули новые потоки воды. Теперь надо было действовать стремительно!
Мы быстро вытолкнули второго пилота через люк, затем я глубоко вдохнул и протиснулся сам, а почувствовав себя вне машины, начал грести наверх. На поверхности моря уже плавал мой предшественник, потом вынырнул и первый пилот.
Затем произошло нечто странное. Внезапно весь самолет, видимо освободившись от нашего веса, вынырнул из воды. Тогда оба пилота рванули люк и открыли заднюю кабину. К великому удивлению, мы увидели забившихся в угол кабины солдат, которых уже считали погибшими. Они были целы и невредимы, только ошалели от страха. На четвереньках солдаты доползли до края крыла, и тут выяснилось, что ни один из них не умел плавать, хотя оба оказались уроженцами Гамбурга, портового города.
Между тем первому пилоту удалось вытащить из тонущего самолета надувную спасательную лодку. Одним ударом кулака он открыл баллон с кислородом, и лодка стала надуваться. В тот же момент от мысли, что в кабине пилотов остался мой портфель с фотокамерой, у меня замерло сердце. Набравшись смелости, я нырнул, проник в кабину через пробоину и спас свой бесценный груз.
К тому времени лодка была уже на плаву, и портфель с камерой благополучно нашли в ней место рядом с обоими солдатами. Тут наша стальная птица приняла вертикальное положение и навсегда исчезла в глубине. Мы с пилотами уцепились за спасательную лодку и начали осматриваться. В нескольких сотнях метров от нас из воды торчали камни подводной скалы, и нам ничего не оставалось, как поплыть к ним.
Скала оказалась обрывистой и скользкой, но нам все же удалось на нее забраться. Я с удовольствием потянулся, и в этот момент пилот жестом указал на мою правую руку, из которой текла горячая кровь. В нескольких местах из нее торчали последние остатки нашего самолета — обрывки алюминия и осколки стекла.
«Ничего страшного, легкие царапины. Главное, чтобы дальше все пошло хорошо», — осмотрев руку, подумал я.
В этот момент второй пилот вытащил из спасательной лодки ракетницу и хотел подать сигнал бедствия, но я приказал ему подождать, пока появится какой-нибудь корабль.
На наше счастье, примерно через час на горизонте показался дым какого-то парохода. Мы выпустили красную сигнальную ракету, и нас заметили. Корабль остановился и выслал к нам спасательную шлюпку. Когда мы благополучно взобрались на его борт, то выяснилось, что нашим спасителем оказался итальянский крейсер противовоздушной обороны.
«Хорошо еще, что капитану ничего не известно о моем задании», — подумал я.
Приняли нас весьма радушно, и мы разложили свою форму на палубе для просушки. Капитан снабдил меня парой сандалий и белыми спортивными трусами, в которые я еле втиснулся, поскольку их размер оказался намного меньше. Но все же такое решение вопроса было гораздо лучше перспективы заниматься поисками фигового листа при выходе на сушу. Когда нас угостили фруктами, я хотел было растянуться на шезлонге, но тут почувствовал, что с моей грудной клеткой что-то не в порядке — при каждом резком движении возникала острая боль. Только через несколько дней при врачебном обследовании выяснилось, что у меня сломано три ребра.
К концу дня мы сошли на берег в порту Темпьо-Паузания, где я постарался отыскать немецкую часть, чтобы раздобыть автомашину и добраться до Палау, а уже оттуда на корабле капитана Хунеуса отправиться на Корсику. Ведь там меня ждал командир бригады войск СС. Мне хотелось выполнить хотя бы этот пункт намеченного мною плана.
Было около одиннадцати часов вечера, когда, пройдя по извилистому проходу между скалистых берегов, мы прибыли в порт Бонифачо. Телефонную связь с какой-либо немецкой частью из здания итальянской военной администрации порта мне установить не удалось, и я попытался заказать машину на ранние часы следующего дня. К моему удивлению, оказалось, что с недавних пор итальянцы ввели здесь весьма странные ограничения, запретив любые передвижения автотранспорта до девяти часов утра. Причина такого распоряжения стала понятной лишь спустя много дней.
Из-за путаницы в телефонной связи я целый день гонялся за командиром бригады, а он, со своей стороны, пытался, и тоже напрасно, найти меня. В конце концов вечером мы все же встретились в городе Бастия, расположенном на севере острова, где находился штаб немецкой военно-морской базы на Корсике.
Сам того не желая, я доставил своему начальнику штаба Радлу немало неприятных часов. Когда вечером 18 августа, как было условлено, он не дождался моего возвращения, то начал справляться в штабе воздушно-десантного корпуса о судьбе пропавшего самолета. Ему ответили коротко:
— Самолет считается пропавшим без вести, экипаж, скорее всего, пошел рыб кормить на дно!
Моей радиограммы с борта подобравшего нас итальянского крейсера он не получил, а сам я ступил на твердый берег только вечером 20 августа. С Радлом мы встретились по дороге от аэродрома в расположение моего отряда, когда я уже вернулся. От радости он чуть было не сошел с ума.
Однако требовалось срочно приступать к разработке более детального плана предстоящей операции. Ведь пропавшего дуче удалось наконец-то обнаружить, и мы смогли удостовериться, что это был именно он. Нашу решимость разделял и генерал Штудент.
Вдруг как гром среди ясного неба пришло распоряжение из главной ставки фюрера: «Ставка только что получила от абвера (Канарис) доклад, согласно которому Муссолини содержится под стражей на небольшом островке возле острова Эльба. Гауптману Скорцени надлежит немедленно подготовить операцию по высадке десанта и в кратчайшие сроки доложить в ставку время ее начала. Окончательное время проведения операции будет утверждено ставкой фюрера!»
«Что могло там произойти? — ломали голову мы с Радлом. — Неужели люди из абвера нашли здесь, в Италии, более надежные источники информации?»
Еще несколько дней назад мы ознакомились с циркуляром под грифом «Секретно», разосланным абвером всем командирам соединений вермахта в Италии, в котором черным по белому было написано: «Новое правительство Бадольо гарантирует, что Италия при любых обстоятельствах продолжит борьбу на нашей стороне со все возрастающей силой! Новое итальянское правительство будет даже более интенсивно участвовать в совместных боевых действиях, чем старое».
У нас же по этому вопросу было совершенно противоположное мнение. Сегодня уже трудно установить, как такая абсолютно недостоверная информация вообще могла появиться в ведомстве адмирала Канариса и тем более быть доложенной в главную ставку фюрера? Мы считали, что происходившая в последнее время концентрация многих итальянских дивизий в районе Рима должна была трактоваться совсем иначе!
Генерал Штудент, разделявший наше мнение, стал добиваться аудиенции у самого фюрера, чтобы сделать соответствующий доклад. После различных согласований и проволочек разрешение наконец было получено, и нам было приказано прибыть в Восточную Пруссию. По прибытии нас известили, что фюрер примет наш доклад примерно через час.
Нас провели в ту же комнату, где я был впервые представлен Гитлеру. На этот раз все кресла у камина были заняты, и у меня появилась редкая возможность познакомиться с некоторыми первыми лицами из числа руководителей Германии.
Слева от Гитлера сидел министр иностранных дел фон Риббентроп[126], справа — фельдмаршал Кейтель, а за ним генерал-полковник Йодль[127], рядом с которым отвели место и мне. Слева от Риббентропа сидел Гиммлер, за ним генерал Штудент и гроссадмирал Дёниц[128].
Между Дёницем и мной расположилась в кресле массивная фигура рейхсмаршала Германа Геринга[129]. После краткой вступительной речи генерала Штудента слово для доклада было предоставлено мне. Должен признать, что я с трудом смог побороть охватившую меня робость при виде столь высокопоставленной аудитории.
Восемь пар глаз с интересом следили за мной. Чуть ранее я сделал для себя кое-какие пометки, но здесь совершенно забыл о них. Взяв себя в руки, я принялся подробно излагать ход наших розысков. Приведенные мною многочисленные доказательства того, что дуче держат под стражей именно в Маддалене, произвели на присутствовавших заметное впечатление, а описание пари, давшего отличные результаты, вызвало у слушателей улыбку. Причем особенно развеселились Дёниц и Геринг.
По окончании, как мне казалось, короткого доклада я взглянул на часы и с удивлением обнаружил, что проговорил целых полчаса. Внезапно Гитлер вскочил и протянул мне руку.
— Я верю вам, гауптман Скорцени! — воскликнул он. — Вы правы! Я отменяю свой приказ относительно высадки десанта на остров возле Эльбы! У вас есть план проведения операции в Да-Маддалене? Если да, представьте нам его.
С помощью схемы, набросанной от руки, я рассказал о нашем проекте решения задачи, выработанном несколько дней назад, и объяснил, что кроме дивизиона торпедных катеров мне потребуется несколько тральщиков и миноносцев военно-морских сил, а кроме моей команды из пятидесяти человек — рота отобранных мною добровольцев из состава бригады войск СС, стоящей на Корсике.
— Кроме того, для прикрытия нашего отхода мне хотелось бы использовать зенитные батареи наших сил на Корсике и севере Сардинии, — добавил я.
Мой план атаки на восходе солнца, кажется, получил полное одобрение. По ходу его изложения фюрер, Геринг и Йодль задали мне множество уточняющих вопросов, а после слово взял Адольф Гитлер:
— Я одобряю ваш план и считаю, что при должной настойчивости и вере в успех всех его участников он вполне осуществим. Гроссадмирал Дёниц, отдайте необходимые распоряжения по военно-морскому флоту. На время проведения операции требуемые части поступают под командование Гауптмана Скорцени. Генерал-полковник Йодль, организуйте все необходимое. Вас же, гауптман Скорцени, попрошу обратить внимание еще вот на что — моего друга Муссолини необходимо освободить как можно скорее. Иначе его могут выдать союзникам. Итак, операция вскоре начнется, и вполне возможно, что я отдам вам приказ в то время, когда Италия все еще будет официально считаться нашим союзником. В этом случае, если ваше предприятие по каким-либо причинам сорвется, может случиться так, что я буду вынужден в глазах мировой общественности вас дезавуировать. Мне придется заявить, что вы, действуя по собственной инициативе, своим планом ввели командные инстанции в заблуждение. И вы во имя интересов дела, во имя Германии должны быть готовы безропотно принять на себя это тяжелое обвинение!
Много времени на размышления мне не дали. Конечно, если речь шла о благе Германии, и так было ясно, что я покорно приму и молча снесу весь позор подобного обвинения. Между тем обсуждение продолжалось, и мне задали еще несколько вопросов. Когда Геринг поинтересовался подробностями нашего падения в море, случившегося 18 августа, я не выдержал и с некоторой долей издевки заявил:
— Не-11 на самом деле является великолепным многоцелевым самолетом. Его можно использовать даже как подводную лодку.
В ответ Геринг только улыбнулся, не зря в войсках ходило мнение, что рейхсмаршал обладает тонким чувством юмора.
— У вас все получится, Скорцени, — одобряюще произнес Гитлер, протягивая мне руку на прощание.
Это было сказано с такой уверенностью, что и я проникся ею. Я и раньше не раз слышал о почти гипнотической силе убеждения Адольфа Гитлера, а тогда испытал ее на себе самом.
Вечер я провел за столом для адъютантов в отведенной для фельдмаршала Кейтеля столовой в окружении ряда господ.
Помню только принца Филиппа Гессенского[130], командира корабля Бауэра, штандартенфюрера СС Раттенхубера, майора Джона фон Фреянда и господина Зюндермана. По моей тропической униформе они догадались, что я прибыл из Италии, и разговор, естественно, закрутился вокруг происходящих там событий. Мое мнение сводилось к тому, что итальянский народ устал от войны и нас в этой связи ждут большие неожиданности.
Только я открыл рот, чтобы поговорить о так называемой «партии кронпринца Умберто», как почувствовал легкий толчок ногой, который, скорее всего, происходил от командира корабля Бауэра. Намек был настолько ясным, что мне ничего не оставалось, как сменить тему. Позже Бауэр объяснил такое свое поведение, напомнив, что принц Гессенский состоит в родственных отношениях с кронпринцем. Это еще раз показало, насколько опасно было вести любые разговоры в главной ставке фюрера.
На этот раз в «Волчьем логове» мне спалось гораздо лучше, чем во время первого своего там пребывания. Памятуя о прошлом, я выпросил ночлег вне бункера, где шума от вентиляторов не наблюдалось, предпочтя перспективу быть разбуженным сиреной воздушной тревоги.
Ранним утром следующего дня мы полетели обратно в Италию. По прибытии я рассказал своему верному Радлу, что в случае провала операции мне придется взять всю ответственность за наше предприятие на себя, на что этот душевный человек заявил:
— Тогда я попрошу, чтобы меня заключили с вами в одну камеру. Возможно, нас поместят в сумасшедший дом. Это будет прекрасная возможность испытать на себе комфорт камеры с мягкими стенками.
Только счастливая случайность избавила нас от такой печальной перспективы, так как через несколько дней мы едва не начали штурм тюрьмы, в которой уже не было пленника.
Командир выделенного в мое распоряжение дивизиона торпедных катеров корветтен-капитан[131] Шульц воспринял перспективу своего участия в операции с большим энтузиазмом. Он уже давно мечтал о предприятии подобного рода и с удовольствием начал нам помогать при планировании. Мы поминутно рассчитали все фазы нашего рейда, стараясь не упустить ни малейшей детали и предусмотреть все возможные случайности. Наконец план был полностью готов.
Накануне дня «X» торпедные катера должны были зайти с официальным дружеским визитом в военно-морскую базу Ла-Маддалена и бросить якорь с таким расчетом, чтобы охватить все причалы. В это же время тральщикам и миноносцам под командованием обер-лейтенанта Радла предписывалось забрать с Корсики выделенный для операции личный состав и встать возле мола Палау напротив Маддалены, спрятав солдат в трюмах.
На рассвете дня «X» оба дивизиона должны были начать маневрировать с таким расчетом, чтобы создать иллюзию, будто бы они покидают гавань. Введя охрану в заблуждение, тральщикам и миноносцам надлежало внезапно высадить десант, перед частью которого ставилась задача по обеспечению прикрытия основной группы, чтобы оградить ее от любых неожиданностей со стороны города. Торпедным же катерам предписывалось находиться в постоянной готовности по поддержанию нас огнем.
Я намеревался с основной частью десанта в сомкнутом строю выдвинуться на виллу. По моему замыслу внезапное появление марширующих солдат должно было внести еще большее замешательство в ряды охранников. Мне хотелось по возможности избежать какого-либо применения силы и стрельбы хотя бы во время приближения к цели. Все остальное зависело уже от развития самой ситуации. Для того чтобы охрана виллы не узнала раньше времени о нашей высадке, предполагалось выделить несколько групп, которым следовало перерезать линии телефонной связи, проложенные от объекта до города. Как только дуче окажется в наших руках, а полторы сотни человек охраны будут нейтрализованы, я планировал доставить Муссолини на торпедный катер.
В это время особая команда должна была овладеть одним из портовых заграждений, обеспечив таким образом выход из порта. Итальянские же зенитные батареи, располагавшиеся на холмах вокруг гавани, держались бы в узде немецкими средствами ПВО, установленными на северном побережье Сардинии.
Все вроде бы было предусмотрено, но меня смущало одно обстоятельство — ниже виллы «Вебер», почти на набережной, стояло несколько военных казарм, где находилось около двухсот курсантов училища военно-морских сил Италии, и этот опасный фланг требовал солидного прикрытия. К тому же рядом с побережьем располагались две летающие лодки итальянского флота и санитарный гидросамолет. Чтобы исключить возможность преследования, первые два самолета я решил вывести из строя двумя небольшими специальными группами.
Ранним утром накануне дня «X», то есть 26 августа 1943 года, мы с Радлом отправились в дивизион торпедных катеров, располагавшийся в порту Анцио[132]. После стремительного морского перехода я был уже в Ла-Маддалене, а Радл на борту минного тральщика отбыл на Корсику, чтобы проконтролировать погрузку десанта. К вечеру они должны были быть в назначенном месте.
Иногда, когда выполнение ответственной задачи приходилось возлагать на кого-то другого, а проконтролировать ее исполнение не представлялось возможным, меня охватывало непреодолимое чувство неуверенности. Такое же наблюдалось и в тот день. Чтобы развеять охватившую меня тревогу, я принялся изучать принесенную Бартером подробную схему местности с нанесенными на ней последними изменениями обстановки. Надо признать, что схема была выполнена безукоризненно.
«Береженого Бог бережет», — подумал я и решил еще раз лично провести последнюю перед началом операции рекогносцировку.
Еще по дороге у меня окончательно испортилось настроение. Дело в том, что я случайно обнаружил еще одну линию телефонной связи, которая вела в сад виллы «Вебер». Ее на схеме Бартера не было!
Охваченный гневом, я обрушился на Бартера, ведь из-за такой, на первый взгляд, мелочи могла сорваться столь серьезная и тщательно спланированная операция. Однако больше расхождений со схемой обнаружить мне не удалось — все было именно так, как на ней значилось. По улице взад и вперед прогуливался удвоенный пост карабинеров, а въездные ворота охранял еще один. Он был вооружен пулеметом. К сожалению, высокий забор защищал внутренний двор от посторонних взглядов.
На нас никто не обратил никакого внимания, ведь в целях маскировки мы были переодеты в форму простых матросов без всяких нашивок и несли корзины с грязным бельем. Целью нашей прогулки являлся соседний с виллой дом, расположенный чуть выше по улице и откуда можно было заглянуть в столь интересующее нас поместье.
Пока Бартер сдавал белье в стирку, я под предлогом отсутствия в доме туалета, что было обычным делом в простых итальянских домах, немного поднялся на холм и из-за обломка скалы стал рассматривать виллу и окружающий ее парк. Отсюда хорошо было видно само здание, сад и проложенные в нем дорожки. Все казалось спокойным, и я удовлетворенно вернулся в дом прачки.
За время моего отсутствия один из карабинеров, несших охрану виллы, зашел в дом в гости к хозяйке, и я завязал с ним разговор. Используя Бартера в качестве переводчика, мне удалось прибегнуть к уже испытанному трюку, осторожно заговорив о Муссолини. Солдата, казалось, данная тема не интересовала, но, когда я стал утверждать, что, по имеющимся у меня данным, дуче умер, он оживился и начал с присущим итальянцам южным темпераментом доказывать, что мои сведения ошибочны. Мне не составило ни малейшего труда подзадорить его еще больше, заявив, что подобные утверждения строятся на свидетельствах одного знакомого врача, которому известны все детали смерти дуче. Это окончательно вывело карабинера из равновесия.
— Нет, нет, синьор! Такое просто исключено! Это невозможно! — начал кипятиться солдат. — Я сам видел дуче сегодня утром. Меня лично отрядили для его сопровождения, и мы доставили его к белому самолету с большим красным крестом на борту, на котором он и улетел.
Такое заявление явилось для нас полной неожиданностью. Карабинер говорил убедительно, и его слова походили на правду. Тут меня словно током ударило.
«Верно! Ведь белого санитарного гидросамолета сегодня на месте не оказалось!» — вспомнил я.
Отсутствие самолета мне сразу бросилось в глаза, но тогда я не придал этому большого значения, как, впрочем, и тому впечатлению, которое появилось у меня совсем недавно при разглядывании территории виллы. Теперь мое удивление по поводу того, что солдаты охраны чувствовали себя как-то слишком свободно, находило свое объяснение. Еще несколько минут назад меня поразило, что они толпились на большой террасе виллы и выглядели чересчур беззаботными. Это тоже подтверждало заявление карабинера о том, что гнездышко опустело.
Нам крупно повезло, что все вовремя раскрылось. Представляю, какой бы конфуз произошел, если бы мы напрасно начали на следующее утро всю ту заварушку, которую запланировали!
Теперь следовало немедленно отменить начавшиеся приготовления. На наше счастье, я застал Карла Радла у телефона как раз в тот момент, когда он собирался уже вместе с десантом на борту кораблей отплывать из Корсики.
— Полный назад! Все немедленно прекратить! — приказал я.
На всякий случай мы еще несколько дней сохраняли состояние полной готовности, ведь исключать того, что дуче вновь переведут в Ла-Маддалену, было нельзя. Тогда операцию следовало бы начинать немедленно. О такой возможности говорил тот факт, что итальянцы не снимали охрану с виллы. Теперь мне кажется, что итальянские секретные службы делали это намеренно, чтобы замести следы и ввести нас в заблуждение. Пленник, без сомнения, представлял для них такую ценность, что они не остановились перед такой трудоемкой работой, как постоянная смена места заключения Муссолини. И надо признать, на этот раз они достигли своей цели — им удалось сбить нас со следа.
Мы снова вернулись туда, откуда пришли! Все надо было начинать с нуля, и наши многодневные труды оказались напрасными. Слухов по-прежнему было предостаточно, но при первой же проверке они рассеивались как дым.
Только инспекционная поездка с генералом Штудентом в район озера Браччано совершенно случайно навела нас на новый реальный след. Оказалось, что посадка белого санитарного гидросамолета не осталась незамеченной!
Новые следы указывали на то, что дуче держат под стражей на самом Апеннинском полуострове. Однако слухи, касавшиеся озер Браччано и Тразимено, оказались ложными, и только автокатастрофа, которая едва не стоила жизни двум итальянским высокопоставленным офицерам, впервые дала зацепку, показав, что нам следует поискать в Абруццких Апеннинах. Но и здесь пришлось сначала идти по ложному следу, направившему наши поиски к восточной части этого горного массива.
Постепенно у нас начало складываться мнение, что многие из этих фальшивых следов были оставлены намеренно, ведь итальянские секретные службы были достойным противником! К тому же и другие немецкие службы, такие как штаб фельдмаршала Кессельринга или ведомство внешней разведки абвера, также стремились самостоятельно первыми обнаружить место пребывания исчезнувшего диктатора.
Фельдмаршал Кессельринг, используя как предлог шестидесятилетие Муссолини, которое приходилось на 29 июля 1943 года, вновь попытался разузнать у маршала Бадольо место нахождения плененного дуче. Более того, Адольф Гитлер по этому случаю послал в Италию выпущенное в единственном экземпляре роскошное издание трудов философа Ницше в богатом резном футляре, а Кессельринг передал его Бадольо с просьбой лично вручить дуче подарок от главы германского государства. Но и эта попытка никаких результатов не принесла — Бадольо под витиеватым предлогом отказался от данной миссии.
Между тем ситуация в Риме с каждой неделей становилась все хуже — под предлогом необходимости усиления защитных мер против предполагаемой высадки десанта союзников в его окрестности перебрасывалась одна итальянская дивизия за другой. Но мы понимали, что дело совсем в другом. Пока всего лишь одна немецкая парашютная дивизия с приданными ей несколькими штабными и разведывательными подразделениями германского Верховного командования противостояла продвижению по суше превосходящих сил противника в составе семи дивизий, под Рим ежедневно прибывали все новые и новые итальянские части. Старший офицер службы немецкой разведки просто не успевал их определять и регистрировать.
Моя же небольшая разведывательная служба в эти дни доложила, что есть полные основания утверждать, что Бенито Муссолини содержится в одном горном отеле на плато Кампо-Императоре (горный массив Гран-Сассо) под охраной подразделения карабинеров. Несколько дней мы тщетно пытались раздобыть подробные карты этой местности. Дело заключалось в том, что отель возвели всего за несколько лет до начала войны и он не был нанесен не только ни на одной военной, но даже альпинистской топографической карте. Единственной информацией, которую нам удалось заполучить, было описание одного проживавшего в Италии немца, проведшего в этой только что построенной гостинице зимний отпуск в 1938 году. Другой весьма расплывчатой зацепкой служил рекламный буклет одного туристического бюро, расписывавший прелести данного абруццкого горнолыжного рая.
Однако таких скудных сведений для подготовки столь важной военной операции было явно недостаточно. Требовалось как можно быстрее заполучить аэрофотоснимки этой местности. И вот на раннее утро среды 8 сентября 1943 года нам выделили самолет со встроенной автоматической фотокамерой. В этом полете кроме меня и моего начальника штаба принял участие также старший офицер службы немецкой разведки штаба корпуса, которому по нашему плану отводилась весьма существенная роль в осуществлении предстоящей операции.
Рано утром по извилистой дороге, пролегавшей меж садов, засаженных оливковыми и плодовыми деревьями, мы отправились на автомашине на побережье, находившееся не так уж и далеко. Там, возле так называемой Пратика-ди-Маре располагался лучший римский аэродром, с которого нам и предстояло взлететь. Мы взошли на борт Не-111 германского люфтваффе, и самолет со специальным оборудованием начал быстро набирать высоту — следовало принять все меры, чтобы скрыть от итальянцев цель нашего полета. Исходя из этого мы решили облететь горный массив в Абруццо на высоте примерно пять тысяч метров. В истинные цели полета не был посвящен даже пилот, который считал, что мы летим, чтобы сделать аэрофотоснимки некоторых портов на адриатическом побережье.
Не долетев тридцати километров до цели, мы решили сделать насколько пробных снимков из камеры, вмонтированной в днище самолета. Тогда выяснилось, что боуден-тросы[133]из-за низкой температуры за бортом замерзли и перестали функционировать. В результате большая фотокамера вышла из строя. Хорошо, что мы прихватили с собой ручную портативную камеру, которую нам и пришлось использовать.
Большой застекленный купол задней кабины в хвостовой части самолета во время полета мы, естественно, открыть не могли, и, для того чтобы получить достаточный обзор для фотокамеры, нам пришлось выдавить довольно большой сегмент пуленепробиваемого стекла. А поскольку на нас была надета немецкая форма африканского экспедиционного корпуса, мы начали страдать от холода. Фотографу же приходилось еще хуже, ведь его голова, плечи и руки во время съемки оказывались снаружи.
Я и представить себе не мог, что воздушный поток будет настолько холодным, а общая температура за бортом окажется необычайно низкой. Придерживаемый за ноги начальником штаба, я протиснул свою столь легко одетую верхнюю часть туловища в отверстие как раз в тот момент, когда самолет находился над целью. Отель был под нами. Внизу проплывало изрезанное трещинами плато Кампо-Императоре, лежавшее на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря, на северо-восточном крае которого почти на две тысячи девятьсот метров возвышались крутые вершины горного массива Гран-Сассо. Виднелись бурые скалы, огромные крутые ущелья и пятна плотного зернистого снега.
Даже с такой высоты искомое здание казалось массивным. Я сделал первый снимок. Теперь мне предстояло, поворачивая правую рукоятку довольно тяжелой камеры, перемотать пленку для второго, и только тогда стало понятно, какими негнущимися за столь короткое время стали мои пальцы. Был сделан второй снимок, и тут я обратил внимание на зеленевшее позади отеля небольшое пятнышко, имевшее форму треугольника.
«Отличное место для высадки», — сразу решил я.
Узкая тропинка, петлявшая по склону, навела меня на мысль о том, что здесь, скорее всего, организовывались занятия для начинающих лыжников, о которых рассказывал мой авторитетный товарищ в Риме. Быстро сделав третий снимок, я дернул ногой, подав, возможно слишком нетерпеливо, знак своему начальнику штаба о том, что меня пора втаскивать обратно.
Мы заботливо спрятали камеру с первыми снимками, и мне пришлось несколько минут хлопать в ладоши, чтобы отогреться. Наконец мои руки вновь обрели былую подвижность, и тут Радл со свойственной ему невозмутимостью пошутил:
— Неужели на солнце так холодно?
Я промерз насквозь, но виду не подал, решив про себя, что во время обратного полета доставлю моему дорогому, но иногда чересчур язвительному товарищу такое же «удовольствие».
Приползя на животе в пилотскую кабину, я различил вдали голубую полосу Адриатики и приказал спуститься до высоты две тысячи пятьсот метров, а по достижении береговой линии взять курс на север, повторяя все изгибы берега. Чтобы ввести в заблуждение нашего пилота, мы стали делать вид, что внимательно изучаем разложенную карту. Я даже распорядился подготовить первые аэрофотоснимки портовых сооружений Анконы.
Сверху вид, открывающийся на побережье Адриатики, довольно однообразен. Небольшие портовые городки сверкали в лучах предполуденного солнца, а вскоре показались знаменитые курорты Римини и Риччоне. Пролетев еще немного в северном направлении, я приказал пилоту повернуть обратно, вновь подняться до пяти тысяч пятисот метров и пролететь точно над вершиной горы Гран-Сассо.
Теперь настала очередь моего начальника штаба испытывать «прелести пребывания на свежем воздухе». Сгорбившись в три погибели, мы вернулись в хвостовую кабину, где все окончательно промерзло — температура там составляла уже несколько градусов ниже нуля, заставив нас проклинать африканскую форму, которая нам так полюбилась. Я вручил Радлу портативную камеру и стал подробно объяснять, как с ней обращаться, что было настоятельно необходимо — этот одаренный в музыкальном отношении человек очень слабо разбирался в технике. Может быть, именно поэтому мы столь хорошо и дополняли друг друга.
Затем Радл начал протискиваться в отверстие, а я, стоя на коленях, стал удерживать его за ноги. Наконец он пролез, вытянув руки с камерой вперед, что вследствие более крупных размеров далось ему заметно труднее.
Самолет пролетал как раз над вершиной, и я, понимая, что примерно через минуту мы окажемся у цели, ущипнул своего друга, чтобы он держался наготове. Мне из-за шума моторов ничего не было слышно, тем не менее я прокричал:
— Поторопитесь! Сделайте столько снимков, сколько сможете!
Тут я увидел, что Радл начал загребать руками — возможно, мы пролетали не над самим отелем, и ему приходилось делать снимки под углом. Но и такие снимки могли оказаться весьма полезными, поскольку фотографии, снятые под наклоном, часто позволяли лучше рассмотреть складки местности. Вскоре он стал подавать знаки, чтобы его втянули обратно.
— Первого, кто мне скажет о теплых лучах итальянского солнца, я просто задушу, — заявил он, клацая зубами с посиневшим от холода лицом.
Мы накрылись всеми доступными спасательными жилетами и даже промасленной бумагой, случайно оказавшейся под рукой, после чего я отдал приказ снижаться, а чуть позже подкорректировал курс:
— Нам не следует идти напрямую на аэродром! Держитесь немного севернее, чтобы выйти к Средиземному морю. Там следует снизиться настолько, насколько это возможно, держа курс уже непосредственно на нашу летную базу!
Это спонтанное решение, как мы смогли убедиться буквально через четверть часа, вероятно, спасло нам жизнь. Самолет достиг побережья, и полностью застекленную кабину залили теплые лучи полуденного солнца. Я занял место рядом с пилотом и, совершенно случайно бросив взгляд влево в сторону Сабинских гор, не поверил своим глазам — с юга плотными рядами к городу Фраскати приближались эскадры вражеских самолетов.
Я поднес к глазам бинокль и увидел, как открываются бомбовые люки, освобождая бомбардировщики от смертоносного груза. Ковровая бомбардировка пришлась как раз на наш штаб. За первой волной последовала вторая, а затем и третья. Только тогда мы осознали, что, избрав другой маршрут по чистой случайности, избежали встречи с эскадрами бомбардировщиков противника, перед которыми наш самолет, предназначенный для воздушной разведки, оказался бы полностью беззащитным. Сопровождавшие же бомбардировщики вражеские истребители не обнаружили и не сбили нас лишь потому, что мы летели фактически на бреющем полете.
Здание, в котором располагался штаб генерала Штудента, мы нашли в целости, а вот наша вилла Тускулум-2 пострадала очень серьезно. В нее попали две бомбы. Путь нам преградил офицер, который заявил, что в подвале обнаружены еще две неразорвавшиеся бомбы. Однако нам во что бы то ни стало требовалось попасть в спальню, чтобы спасти очень важные документы, касавшиеся результатов наших расследований, да и пожитки тоже. Неразорвавшиеся бомбы могли сработать в любую минуту, но мы окольными путями через развалины вскарабкались на свою лоджию, а оттуда по грудам мусора пробрались в комнату.
Половина потолка отсутствовала, и мы могли наблюдать голубое небо над своей головой. Лихорадочными движениями нам и пришедшим на помощь солдатам удалось разобрать развалины и добраться до уцелевшего канцелярского шкафа. Вскоре все было спасено.
Жертвы среди гражданского населения, похоже, были очень большими. В то же время, как выяснилось позднее, почти все немецкие службы разрушения избежали. Наши подразделения работали над тем, чтобы восстановить довольно сильно пострадавшую телефонную сеть, прокладывая вспомогательные кабели, и можно было рассчитывать на то, что в ближайшие часы наиболее серьезные повреждения будут устранены.
Мне с моим начальником штаба требовалось попасть в Рим, чтобы встретиться с несколькими итальянскими офицерами, которые проинформировали меня, что намереваются освободить Муссолини. Мой интерес заключался в том, чтобы узнать их намерения и не допустить такой ситуации, когда действия этих офицеров могли бы помешать нашим планам. Я выяснил, что все их заявления пока оставались лишь намерением и не переросли в практическую плоскость. Во всяком случае, в своих приготовлениях они продвинулись не так далеко, как мы.
Тем временем наступил вечер, и я ехал по улицам Рима, чтобы забрать своего начальника штаба из одной немецкой службы. Тут мне бросилось в глаза, что на улицах стало заметно оживленнее и итальянцы начали собираться возле уличных громкоговорителей, развешанных в разных публичных местах. Только я въехал на улицу Виа Венето, как возникла такая толпа, что дальше двигаться стало весьма затруднительно. Одно сообщение, донесшееся из громкоговорителей, народ приветствовал шумными возгласами. Послышались возгласы:
— Да здравствует король!
Женщины стали обниматься, а собравшиеся в кучки люди принялись что-то страстно обсуждать. Я остановился, и тут до меня дошла ошеломляющая новость — итальянское правительство капитулировало![134]
Было понятно, что положение наших войск на полуострове стало критическим. По правде говоря, такой шаг итальянского правительства не явился для нас неожиданным, но никто не думал, что капитуляция произойдет так скоро. Это событие означало только то, что те особые планы и задачи, для выполнения которых я оказался в Италии, либо откладывались, либо вообще становились невыполнимыми. Как бы то ни было, обер-лейтенанта Радла я подобрал возле германского посольства.
Через несколько дней до меня дошла информация, что генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр[135] предвосхитил события, объявив по радио Алжира о капитуляции Италии в тот же самый день, но еще в восемнадцать часов тридцать минут. Тот факт, что правительство Бадольо продублировало позже данное сообщение по громкоговорителям, означал только одно — союзники сознательно поставили итальянцев в весьма затруднительное положение, по крайней мере в том, что касалось объявления точного часа прекращения боевых действий.
Между тем союзники назначили высадку своих войск возле Салерно на ночь с 8 на 9 сентября 1943 года и уже не могли изменить эту дату. Однако эта акция, так же как и бомбардировка Фраскати, была спланирована и осуществлена для оказания помощи своему новому союзнику — правительству Бадольо. Она было направлена на то, чтобы сковать основную часть немецких войск возле Салерно. По поступившим донесениям германской разведывательной службы можно было предположить, что в штаб-квартире Эйзенхауэра не исключали даже высадку воздушного десанта в районе Рима. Такая операция, естественно, поставила бы наши слабые войска по меньшей мере в неприятное положение.
Тем не менее я не прекращал своей деятельности. Еще раньше днем и ночью мы старались получить подтверждение тому, что дуче по-прежнему находится в отеле в районе горного массива Гран-Сассо. Первые сведения мне предоставили двое итальянцев, которые, сами того не подозревая, дали очень важную исходную информацию. Естественно, требовалось получить еще какое-нибудь подтверждение, и если возможно, то от немца. Однако посылать своего человека непосредственно в эту гостиницу, связанную с внешним миром одной лишь канатной дорогой, поднимающейся из долины, не имело никакого смысла. Поэтому я намеревался отправить туда немца с задачей подобраться к отелю под каким-нибудь безобидным предлогом как можно ближе, но не проникая вовнутрь.
И вот, буквально накануне капитуляции Италии, такая возможность появилась, чем я не замедлил воспользоваться. Дело в том, что в свое время в Риме мне удалось познакомиться с одним военным врачом-немцем, который был очень честолюбив и давно мечтал о том, чтобы его наградили каким-нибудь орденом. Ему-то я и объяснил, каким образом он сможет получить такую награду из рук своего генерала.
Хитрость заключалась в том, что до того времени немецкие солдаты, заболевшие малярией, а таких было много, посылались на излечение в горные районы Тироля. Вот я и предложил этому медику посетить и проинспектировать по собственной инициативе якобы хорошо известный мне горный спортивный отель на Гран-Сассо.
— Эта гостиница, расположенная на высоте две тысячи метров, словно предназначена для того, чтобы послужить домом отдыха для наших солдат, — убеждал я его.
Мне удалось внушить медику, что ему в обязательном порядке необходимо попытаться лично встретиться с директором отеля, просчитать количество койко-мест и начать соответствующие переговоры. Загоревшись перспективой получить столь желаемую награду, сей славный врач утром накануне капитуляции Италии на машине отправился в путь, и теперь я начал беспокоиться по поводу его возвращения.
Машины с персоналом германского посольства выстроились в колонну, чтобы под защитой немецких войск выехать во Фраскати. Я же, подобрав Радла, как уже говорилось несколько ранее, у здания посольства, постарался опередить ее, чтобы оказаться в нашем расположении как можно быстрее.
По возвращении я немедленно попросил генерала Штудента принять меня, чтобы обсудить сложившуюся обстановку. Мы сошлись во мнении, что операцию по освобождению Муссолини придется на короткое время отложить. Сперва требовалось прояснить ситуацию в Риме, поскольку было ясно, что его, как важнейшую базу снабжения сражавшихся на юге Италии немецких войск, во что бы то ни стало надлежало удержать в наших руках.
Фраскати было окружено усиленными нарядами патрулей, и ночь прошла относительно спокойно. Это дало возможность подготовить соответствующие приказы и мероприятия на следующий день.
Теперь причина описанной выше массированной бомбардировки Фраскати была ясна. Нам стало понятно, что она проводилась по договоренности между итальянским правительством и Главным командованием союзных сил[136]для того, чтобы парализовать управление немецкими войсками в Италии. Однако это им не удалось — мы сохранили связь со всеми германскими частями, которые, находясь в высшей степени боевой готовности, ожидали соответствующих приказов.
Как уже говорилось, ночь, за исключением отдельных перестрелок к югу от Рима, прошла спокойно, и серьезные боевые столкновения в окрестностях Фраскати начались только с рассветом 9 сентября 1943 года. Несмотря на все попытки итальянцев удержаться, в течение дня нашим войскам удалось полностью взять под контроль всю местность в районе Сабинских гор. Немецкие батальоны медленно, но неуклонно приближались к Риму, полностью находившемуся в руках итальянских войск, занявших заранее подготовленные оборонительные позиции на окраине.
Ранним утром 9 сентября объявился и мой штабс-врач[137], который был очень расстроен от мысли, что из-за итальянской капитуляции плану по организации дома отдыха, вероятно, сбыться не суждено. Не скупясь на подробности, он рассказал мне, как, проехав город Аквилу, столицу региона Абруццо, он попал в долину, где находится станция подвесной канатной дороги. Однако все его усилия подняться наверх оказались напрасными — дорога к фуникулеру была перегорожена шлагбаумом и к тому же охранялась несколькими постами карабинеров.
После длительных переговоров с солдатами он все-таки получил разрешение позвонить в отель. Однако ответил ему не управляющий, а какой-то офицер, который заявил, что Кампо-Императоре объявлено военным полигоном и, следовательно, всякое иное использование плато и зданий на нем воспрещается. По мнению врача, речь шла о достаточно крупных маневрах, так как в долине он заметил машину радиосвязи, а сам подъемник находился в постоянном движении.
Далее врач поведал, что в соседнем местечке, находившемся рядом со станцией фуникулера, жители рассказали ему самые невероятные истории. Из их слов следовало, что совсем недавно из отеля был выслан весь гражданский персонал, а номера были переоборудованы таким образом, чтобы разместить в них примерно двести солдат. Несколько раз в долину якобы приезжали и высокопоставленные офицеры. Со слов штабс-врача, нашлись даже люди, которые утверждали, что наверху под стражей содержится сам Муссолини.
— Но это просто, наверное, обыкновенный слух, которому не стоит доверять, — заметил военврач.
Я, конечно, не стал его в этом разубеждать.
Глава 9
Рим снова в немецких руках. — Время поджимает. — Угроза выдачи. — Окончательный план операции. — Муссолини в Африке? — Жребий брошен. — 12 сентября 1943 года, время «Ч». — Последние приготовления. — Помощник поневоле. — Последний приказ. — В грузовом планере. — Запрещенная резкая посадка. — «Руки вверх!» — 18: 150. — Там дуче! — «Отойдите от окна!» — Двое у цели. — Грузовой планер разбился. — «Победителю!» — «Меня послал сам фюрер!» — Единственная возможность. — Втроем на «Аисте»[138]. — Не на жизнь, а на смерть. — Пилот справится. — Семья тоже спасена. — Посадка в Риме
Наступило 10 сентября 1943 года. Обстановка настолько накалилась, что за прошедшие двое суток мы даже спали не раздеваясь. И хотя нашему генералу тоже приходилось несладко, я вынужден был напроситься к нему на очень серьезный разговор.
Однако первоначально мы с моим начальником штаба обсудили все возможные варианты проведения операции, ведь нам обоим было ясно, что медлить больше нельзя — с каждым днем, можно даже сказать, с каждой минутой опасность перевода дуче в другое место увеличивалась. Возрастала также вероятность выдачи его союзникам. Последнее предположение скоро переросло в уверенность, так как стало известно, что одним из условий перемирия было требование о выдаче Муссолини, выдвинутое Эйзенхауэром Бадольо.
Наземная операция нам казалась обреченной на провал — атака по крутым горным склонам неизбежно привела бы к чрезвычайно большим потерям, а кроме того, была бы сразу обнаружена, и карабинеры могли вполне успеть либо спрятать дуче, либо увезти его в другое место. Чтобы воспрепятствовать этому, весь массив пришлось бы оцепить хорошо обученными горными стрелками, для чего потребовалось бы не меньше дивизии. Поэтому такую операцию мы исключили.
Нашим главным козырем должна была стать абсолютная внезапность, поскольку мы опасались, что охрана могла получить приказ при возникновении опасности побега расстрелять своего высокопоставленного пленника. Позднее такое наше предположение полностью подтвердилось, и дуче от неминуемой смерти спасло только наше молниеносное вторжение.
Таким образом, у нас оставалось только два способа — либо выброска парашютистов, либо приземление транспортных планеров с десантом рядом с отелем.
После долгого анализа всех за и против генерал Штудент выбрал второй вариант, ведь в разреженной атмосфере на этой высоте для предотвращения слишком быстрого снижения парашютистов потребовались бы особые парашюты, а мы такими не располагали. К тому же существовало опасение, что на такой изрезанной трещинами местности десантники-парашютисты приземлятся со слишком большим рассеиванием, что исключит возможность проведения быстрой атаки в едином строю. Таким образом, оставался только вариант с использованием грузовых планеров. Причем ответственность за принятие такого решения ложилась на сведущих в подобных вопросах офицеров штаба воздушно-десантного корпуса и генерала Штудента.
Однако оставался невыясненным очень важный вопрос — наличие походящего участка. Его я и хотел прояснить при помощи сделанных нами фотографий. Однако когда после обеда 8 сентября 1943 года мы решили проявить и размножить наши аэрофотоснимки, то выяснилось, что в результате последней бомбардировки огромная фотолаборатория во Фраскати полностью разрушена. Пришлось поручить одному моему офицеру быстро решить возникшую проблему в другом месте. Он смог найти на ближайшем полевом аэродроме вспомогательную лабораторию и сделать несколько отпечатков. К сожалению, изготовить в ней привычные крупноформатные стереоизображения, на которых можно было получить действительно ясную и объемную картину условий местности, не удалось, и нам пришлось довольствоваться простыми фотографиями примерно четырнадцать на четырнадцать сантиметров.
Но и на них я хорошо разглядел треугольную лужайку, которая привлекла мое внимание еще во время нашего полета над отелем. Отталкиваясь от этого луга как будущей площадки для приземления, мы и построили весь наш план операции, и я подготовил соответствующие приказы каждой отдельно взятой группе.
Для обеспечения тыла и отхода после выполнения самой операции генерал Штудент предложил задействовать парашютно-десантный батальон, который под прикрытием ночи должен был окольными путями пробраться в долину и ко времени «Ч» захватить станцию подвесной канатной дороги.
Разговор с генералом Штудентом дал желаемые результаты. Конечно, определенные сомнения еще имелись, но мы понимали, что у нас оставалась, пожалуй, действительно единственная возможность выполнения поставленной задачи. Поэтому, чтобы определиться до конца, в качестве экспертов по вопросам проведения воздушно-десантных операций были привлечены начальник штаба и начальник оперативного отдела штаба воздушно-десантного корпуса.
Первоначально оба они высказались категорически против предложенного плана, ссылаясь на то, что высадка воздушного десанта с такой высоты без заранее подготовленной площадки для приземления еще никогда не осуществлялась. Кроме того, эти господа заявили, что с технической точки зрения выполнение подобной операции вообще вряд ли возможно. Они утверждали, что такой способ десантирования приведет к потере минимум восьмидесяти процентов задействованного личного состава, а оставшаяся часть десанта окажется настолько слабой, что рассчитывать на какой-либо успех не приходится.
На это я заявил, что хорошо понимаю подобные опасения, но все новое рано или поздно пробивает себе дорогу. Тем более что при осторожной скользящей посадке на разведанном нами плоском лугу, лежащем под небольшим наклоном, больших потерь наверняка можно избежать. К тому же наибольшая скорость снижения и посадки планера поддается регулированию с тем, что позволит поддерживать эту скорость в разумных пределах.
— Если у вас, уважаемые господа, есть лучшие предложения, то мне доставит большое удовольствие последовать вашему совету, — заявил я.
Основательно поразмыслив, генерал Штудент одобрил наше предложение и тотчас же отдал соответствующие распоряжения:
— Немедленно перебросить в Рим из Южной Франции двенадцать планеров. В качестве дня «X» я определяю 12 сентября. Операция начнется в шесть часов утра. К данному времени машины должны приземлиться на плато, а станция подвесной канатной дороги взята под контроль нашим батальоном. В эти ранние утренние часы наиболее опасные воздушные потоки, вызываемые большими перепадами температур и наблюдаемые во всех горных районах Италии, являются самыми слабыми. Я сам лично проинструктирую пилотов и прикажу им осуществить осторожную скользящую посадку. Я согласен с гауптманом Скорцени в том, что осуществление операции возможно только таким образом!
После такого решения мы с обер-лейтенантом Радлом проработали последние детали предстоявшей операции, точно рассчитав расстояния, определив необходимое оснащение десанта и обозначив на большой схеме точки приземления для каждой из двенадцати машин. При этом я исходил из того, что один транспортный планер кроме пилота может взять на борт девять человек, то есть одно отделение.
Каждому отделению была поставлена конкретная задача. С учетом необходимости соблюдения фактора внезапности основная нагрузка на первоначальном этапе операции ложилась на первые четыре планера. Сам же я хотел лететь на третьем планере, для того чтобы при непосредственном продвижении к отелю со своим и четвертым отделениями иметь прикрытие с тылу, которое обеспечили бы люди моего отряда из двух первых приземлившихся планеров.
Закончив эту работу, мы еще раз взвесили наши шансы, хорошо осознавая, что они были весьма невелики. Никто не мог дать гарантии в том, что Муссолини по-прежнему находится в отеле и что он останется там до дня проведения операции. К тому же возникал вопрос, сможем ли мы своими внезапными действиями застать охрану врасплох так, чтобы предотвратить казнь дуче. Наконец, нельзя было не принимать во внимание и предостережения офицеров штаба корпуса.
В любом случае приходилось считаться с возможными потерями во время приземления, а ведь и без них общая численность наших сил составляла всего сто восемь человек, которые к тому же не могли быть использованы одновременно. Нам же противостояло около ста пятидесяти итальянцев, которые лучше знали местность и имели возможность использовать здание отеля в качестве фортификационного сооружения. Что касается вооружения, то здесь силы обеих сторон были примерно равны. Наши автоматические винтовки[139] могли, пожалуй, даже обеспечить нам некоторый перевес, что несколько снижало преимущество противника в личном составе, конечно при условии, что мы не понесем значительных потерь во время приземления.
Мы прикидывали и так и этак, пока наконец Радл не выдержал и заявил:
— Прошу вас, господин гауптман, не стоит брать логарифмическую линейку и просчитывать на ней наши шансы на успех. И так известно, насколько они малы, но мы также понимаем, что предпримем эту операцию, чего бы нам это ни стоило!
Но меня продолжал беспокоить вопрос о том, как найти способ усиления момента внезапности, который являлся нашим главным козырем. Мы ломали голову, прикидывая разные варианты, пока обер-лейтенант Радл неожиданно не нашел решение:
— А что, если нам взять с собой какого-нибудь высокопоставленного итальянского офицера, которого карабинеры охраны знают в лицо? Одного его появления, наверное, будет достаточно, чтобы на короткое время озадачить их. А это в свою очередь помешает итальянцам немедленно дать нам отпор или казнить дуче. Вот именно такой заминкой мы и воспользуемся.
Я одобрил это блестящее предложение, и мы стали решать, как его лучше осуществить, сойдясь в конечном итоге во мнении — посоветовать генералу Штуденту пригласить к себе такого офицера вечером накануне дня «X» и каким-то образом убедить его участвовать в операции. А для предотвращения возможной утечки информации или предательства этого офицера оставить у нас до следующего утра.
Однако требовалось порекомендовать генералу такую кандидатуру, и поэтому мы, не раскрывая причин, проконсультировались с одним знатоком расклада политических сил в Риме, и он указал нам на офицера высокого ранга из бывшего римского штаба, который во время последних событий занял нейтральную позицию. Он-то и был приглашен во Фраскати на вечернее совещание 11 сентября, после которого генералу Штуденту предстояло добиться его согласия на участие в операции.
Теперь, казалось, все было улажено, но внезапно появилась новая забота — получаемые 11 сентября новости относительно перелета транспортных планеров отнюдь не радовали. Группа самолетов-буксировщиков из-за усилившейся активности вражеской авиации была вынуждена несколько раз делать длинный крюк. К тому же перелету очень мешала отвратительная погода. Мы до последней минуты не переставали надеяться, что планеры все-таки прибудут вовремя, но напрасно.
Пришлось объяснять итальянскому генералу, который явился на встречу с военной пунктуальностью, что у генерала Штудента возникли непредвиденные обстоятельства, и просить его прибыть на совещание в аэропорт Пратика-ди-Маре на следующее утро в восемь часов утра.
Время начала операции пришлось передвинуть, поскольку мы получили сообщение, что грузовые планеры прибудут в Рим только ранним утром 12 сентября. Новый час «X» генерал Штудент теперь определил на четырнадцать ноль-ноль воскресенья 12 сентября 1943 года, оставив день без изменения, поскольку мы не могли себе позволить потерять целые сутки. Однако такая сдвижка по времени внесла неприятные коррективы в план операции и еще больше уменьшила наши шансы на успех. Во-первых, мощнейшие восходящие потоки воздуха, которых следовало ожидать в обеденные часы, и шквальные порывы ветра делали высадку десанта еще более опасной. Во-вторых, намного усложнялась задача отряда по захвату станции фуникулера, ведь теперь ему приходилось действовать средь бела дня. Все это потребовало скорейшего внесения соответствующих изменений в уже отработанный план операции.
После обеда в субботу 11 сентября я отправился в оливковый сад одного монастыря возле Фраскати, где поставили палатки мои люди и солдаты батальона, выделенного генералом Штудентом. На операцию мне хотелось взять только добровольцев, и я не собирался утаивать от них всю опасность предстоящего мероприятия. Когда люди построились, мною были произнесены следующие слова:
— Ваше длительное бездействие заканчивается. Завтра мы выполним операцию величайшей важности, приказ о проведении которой отдал лично Адольф Гитлер. К сожалению, больших потерь избежать не удастся. Я, естественно, лично поведу наш отряд, и заверяю вас, что сделаю все от меня зависящее. Если мы будем действовать плечом к плечу изо всех наших сил, то операция будет успешной. Добровольцы! Выйти из строя!
К моей большой радости, все солдаты лагеря без исключения сделали шаг вперед. Никто не пожелал остаться! Позже моим офицерам и командиру роты парашютистов фон Берлепшу выпала нелегкая задача объяснять отдельным добровольцам, что с собой мы можем взять всего сто восемь человек.
Из своих солдат войск СС для непосредственного штурма здания отеля я отобрал восемнадцать человек. Еще один небольшой особый отряд должен был принять участие в захвате станции подвесной канатной дороги в долине, а другой внести свою лепту в акцию по освобождению семьи дуче, которую мы тоже подготовили. Я побыл в лагере еще какое-то время, не переставая радоваться тому приподнятому настроению, которое в нем царило.
С командиром парашютно-десантного батальона, которому предстояло осуществить наземную операцию, все необходимые вопросы мы обговорили в тот же день, но чуть позже. В присутствии одного моего офицера я довел до него последние указания генерала Штудента, а также все недавно внесенные в план уточнения, и ночью этот батальон направился в долину. Жребий был брошен!
Когда наступила ночь, по союзническому радио передали сообщение, которое буквально повергло нас в шок. В нем говорилось, что дуче в качестве пленника только что доставили в Африку на борту итальянского военного корабля из порта города Специя.
«Неужели и на этот раз мы опоздали?» — с ужасом подумал я, но потом, пережив первое потрясение, взял морскую карту, курвиметр и занялся расчетами.
Поскольку нам было точно известно, в какое именно время часть итальянского флота улизнула из Специи, мне довольно легко удалось подсчитать, что даже самое быстроходное судно за столь короткий срок не смогло бы достичь африканского берега. Отсюда следовало, что услышанное нами радиосообщение являлось специально организованной попыткой ввести нас в заблуждение. Поэтому мы ничего не стали менять в намеченном плане и оказались правы. Стоит ли после этого удивляться, что впоследствии я с большим недоверием относился к любой новости, исходившей от союзников?
В воскресенье 12 сентября 1943 года ровно в пять часов утра мы одной колонной выдвинулись на аэродром, где выяснилось, что планеры прибудут приблизительно в десять часов.
Воспользовавшись этой отсрочкой, я решил еще раз проверить снаряжение моих людей, которые были переодеты в форму парашютистов. Каждого из них снабдили парашютным пайком из расчета на пять дней, кроме того мне удалось выбить для них еще несколько ящиков свежих фруктов. Поэтому солдаты, расположившись в тени бараков и немногих деревьев, стали наслаждаться почти лагерной жизнью. Однако напряжение перед предстоящей операцией все же ощущалось, и мы старались развеять любые проявления боязни или нервозности.
Между тем часы стали показывать восемь тридцать утра. Прошло уже полчаса после обговоренного с итальянским генералом времени, но он не появлялся. Пришлось обер-лейтенанту Радлу срочно отправляться в Рим. Я приказал ему во что бы то ни стало привезти этого генерала, и как можно быстрее.
— Нам он нужен живым! — напомнил я ему.
Радл постарался на славу. Несмотря на все трудности, он все-таки нашел генерала в Риме и доставил его на аэродром. Как только итальянец очутился на аэродроме, генерал Шту-дент в моем присутствии через лейтенанта Бартера, выполнявшего роль переводчика, провел с ним короткую беседу. Мы заявили итальянцу, что Адольф Гитлер лично высказал просьбу о том, чтобы он своим участием помог нам избежать по возможности кровопролития во время освобождения Муссолини. Итальянскому генералу явно польстило, что сам глава нашего государства заинтересован в его содействии, и он не смог отказаться. Итальянец обещал сделать все, что в его силах, и мы получили неоценимый козырь в предстоящей игре.
Первые грузовые планеры совершили посадку на аэродроме около одиннадцати часов утра. Буксирные самолеты были немедленно заправлены и, прицепив планеры, согласно предписанию заняли исходные позиции для взлета. Генерал Шту-дент, пожелав удачи всем участникам операции, пригласил пилотов и командиров всех двенадцати отделений в здание аэродрома. Он выступил перед ними с краткой речью, в которой он еще раз напомнил и строго предупредил, что разрешается только осторожная посадка из планирующего полета.
— Вследствие большой опасности для личного состава я запрещаю посадку из пике, — подчеркнул он.
Затем слово было предоставлено мне. Я набросал на доске карту местности, указал на ней точки приземления каждого планера и проинструктировал всех командиров отделений, отдав последние распоряжения отдельно взятым группам и поставив конкретные задачи. Интересно, что тогда солдаты придумали себе девиз: «Сделаем легко!» Этот легкомысленный на первый взгляд лозунг до самого конца войны оставался боевым кличем истребительных частей СС[140].
Вместе со старшим офицером службы разведки штаба корпуса, тем самым, который принимал участие в нашем полете по проведению аэрофотосъемки, мы еще раз сверили время, высоту и маршрут полета, так как в его задачу входило руководство полетом всего нашего отряда из первого самолета. Ведь он являлся единственным офицером, за исключением меня и Радла, кто видел местность с воздуха. По нашим подсчетам, время, которое требовалось для преодоления примерно ста километров, составляло ровно один час. Соответственно, в воздух мы должны были подняться в тринадцать ноль-ноль.
Внезапно в половине первого прозвучал сигнал воздушной тревоги, и в небе появились вражеские бомбардировщики. До нас стали долетать звуки разрывов бомб, мы все бросились в укрытия, а я подумал, что это может поставить под вопрос проведение самой операции.
«И надо же такому случиться в самую последнюю минуту», — досадовал я.
Тут рядом со мной послышался голос Радла:
— Сделаем легко!
Как ни странно, уверенность вновь вернулась ко мне, а за несколько минут до назначенного времени взлета сирены прогудели отбой тревоги.
Мы бросились на летное поле, куда упало несколько бомб. Покрытие немного пострадало, но вся техника осталась невредимой. Можно было отправляться на задание, и все бегом устремились к машинам.
— По местам! — скомандовал я.
Итальянский генерал, судя по всему, уже начал сожалеть о своем обещании и брел к планеру скрепя сердце, но мне уже некогда было обращать на него внимание и беспокоиться о его душевном спокойствии. Итальянца я усадил впереди себя на узкое сиденье, на котором мы восседали как на лошади, тесно прижавшись друг к другу. В такой тесноте едва хватало места для оружия.
Мой взгляд упал на циферблат наручных часов. Они показывали уже тринадцать часов, и я подал сигнал к старту. Моторы взревели, самолеты покатились по полосе, и вот мы в воздухе!
Медленно, выписывая огромные круги, самолеты начали набирать высоту. Наконец вся цепочка планеров взяла курс на северо-восток. Погода для нашего предприятия казалась идеальной — громадные белые кучевые облака висели в небе на высоте трех километров, и если ветер не изменится, то мы могли подлететь к цели практически незаметно и прямо из туч неожиданно начать посадку.
В транспортном планере было ужасно жарко и тесно как в клетке — отсутствовала возможность даже пошевелиться. Внезапно я заметил, что сидящему сзади фельдфебелю стало плохо. На мой вопрос он признался, что съел практически весь провиант.
— Никто не знает, что с нами сегодня может приключиться, — в свое оправдание заметил фельдфебель.
Тут ему стало совсем худо, и его стошнило. Хорошо еще, что в пилотку, которую заботливо подставил сидевший сзади товарищ по оружию.
Итальянский генерал, сидевший впереди меня, стал совсем бледным, и цвет его лица почти сравнялся с серо-зеленой окраской его униформы. Похоже, что и он переносил полеты с трудом. Во всяком случае, они не доставляли ему удовольствия.
Пилот сообщил, как смог, координаты точки, над которой мы пролетели, и я сверил его показания с картой, по которой следил за точностью соблюдения маршрута полета. Мы шли как раз над городом Тиволи, но с борта планера пейзаж внизу разглядеть не представлялось возможным. Узкие и слепые пластиковые оконца и щели, которых в машине было предостаточно, не позволяли что-либо увидеть. Германский грузовой планер типа DFS-230 действительно являлся весьма воздушным, ведь его конструкция представляла собой пару образовывавших каркас стальных труб, обтянутых брезентом.
«Мы несколько поотстали в этом вопросе», — подумал я тогда, мысленно представив элегантную конструкцию алюминиевого фюзеляжа.
Чтобы набрать высоту три с половиной тысячи метров, нам пришлось пройти через огромное облако. На какие-то секунды все вокруг стало серым, перекрыв возможности обзора, но затем вновь показалось солнце — мы оказались над облаками. Не успел я порадоваться чистому небу, как пилот нашего самолета-буксира по бортовому телефону передал командиру моего планера сообщение:
— Самолетов номер один и номер два впереди не наблюдается. Кто берет командование на себя?
Новость, прямо скажем, оказалась не из приятных.
«Что могло случиться с двумя самолетами?» — подумал я, еще не зная, что сзади нас следуют не девять, а только семь машин.
Оказалось, что на старте два планера потерпели аварию, зацепившись за края воронок, оставшихся от разрывов бомб, и совсем не взлетели.
— С этой минуты и до самой цели мы становимся головной машиной, — передал я через летчика, управлявшего планером, пилоту самолета.
После недолгого колебания мне пришлось решительными взмахами десантного ножа пробить в обшивке справа, слева и под ногами дыры величиной с кулак, чтобы иметь хоть какой-то обзор. Пришлось мысленно похвалить наш старенький планер за наличие в нем такой потертой обшивки и за возможность орудовать ножом в его чреве.
Небольшие участки местности, которые мне удавалось рассмотреть в разрывах облаков, все же позволяли хоть как-то ориентироваться. Увидев появившийся мост, пересечение дорог, изгиб реки или другой заметный ориентир, я с быстротой молнии старался отыскать их на карте, и каждый раз курс приходилось немного корректировать. К удивлению, у меня получалось это довольно легко, и мы уверенно двигались вперед.
Таким образом, произошедшая неприятность не поставила под угрозу осуществление самой операции. В то время мне некогда было подумать о том, что мы остались без тылового прикрытия.
До времени «Ч» оставалось всего несколько минут, когда я различил внизу знакомые очертания долины перед Аквилой. По дороге поднимались грузовики парашютного батальона, быстро двигаясь по направлению к станции подвесной канатной дороги.
«Авангард сил, задействованных в долине, в назначенный час благополучно прибыл на место, — подумалось мне. — Наверняка им пришлось преодолеть немало трудностей. У нас тоже все получится!»
Однако времени на размышления не оставалось.
— Закрепить ремни на касках! — скомандовал я.
В этот момент появилась цель — горный отель.
— Отцепить от буксира! — последовал мой новый приказ.
Уже в следующую секунду нас окружила внезапная тишина. Слышался только шум ветра под крыльями планера. Пилот вывел планер на вираж и, так же волнуясь, как и я, стал выискивать предусмотренное для посадки место на склоне луга. Но тут нас поджидала еще одна очень неприятная неожиданность — оказалось, что скаты, казавшиеся с большой высоты пологими, на самом деле оказались весьма крутыми. Это был настоящий лыжный трамплин!
Сейчас, когда мы оказались гораздо ближе к плато, чем во время разведывательного полета, поверхность просматривалась куда более четко, и становилось очевидно, что высадка на такой откос попросту невозможна. Такая же мысль, очевидно, пришла в голову и моему пилоту, лейтенанту Мейеру, который обернулся и вопросительно посмотрел на меня.
Внутри меня происходила борьба.
«Какое правильное решение принять? Послушаться приказа генерала Штудента? — лихорадочно соображал я. — Тогда придется отказаться от штурма отеля и попытаться осуществить скользящую посадку в долине. Но если я не хочу отступать от собственного проекта, то тогда надо рисковать и приземляться здесь во что бы то ни стало, то есть строго запрещенным способом — из пике».
Отбросив сомнения, я решаюсь:
— Садимся из пике! И как можно ближе к отелю!
Без малейшего колебания пилот опрокинул планер на левое крыло и бросил его в умопомрачительное пике.
«Неужели планер выдержит столь страшную нагрузку при подобной скорости?» — сжалось у меня сердце.
Но я тут же отбросил свой страх — не время было задаваться подобными вопросами! Свист ветра усилился и перерос в вой, а мы стремительно стали приближаться к цели. Тут лейтенант Мейер выпустил тормозной парашют, послышался удар, что-то заскрежетало, и посыпались какие-то обломки.
Инстинктивно я на секунду закрыл глаза, все мысли куда-то ушли, почувствовался еще один, на этот раз последний сильнейший толчок, и мы остановились.
Входной люк сорвало, и один из моих людей уже выскочил наружу. Я тоже, схватив оружие, заскользил вперед, хватаясь руками за скобу, и тут увидел, что мы находились в каких-то пятнадцати метрах от гостиницы. Вокруг топорщились острые выступы той самой скалы, которая столь неделикатно, но быстро затормозила наш планер, чья посадочная полоса составляла не более двадцати метров. Ненужный уже тормозной парашют сложился в комок позади машины.
В конце небольшого возвышения, на углу отеля, стоял первый итальянский постовой. Окаменев от неожиданности, он тщетно пытался понять, что же такое так внезапно свалилось с неба?
Времени заниматься нашим итальянским пассажиром, который, слегка оглушенный, вывалился из машины, да так и остался лежать, у меня не было. Я бросился к отелю, радуясь в душе, что еще раньше отдал строжайший приказ без моей команды, что бы там ни происходило, не стрелять. Эффект внезапности сработал. Рядом слышалось тяжелое дыхание моих людей, и меня обнадеживало сознание, что это были лучшие из лучших, которые пойдут за мной до конца и поймут любой поданный мною знак.
Мы как вихрь пронеслись мимо все еще погруженного в ступор солдата, бросив ему только по-итальянски: «Руки вверх!», и ворвались в гостиницу через распахнутую настежь входную дверь. Внутри я увидел сидевшего за радиопередатчиком итальянского солдата, который старался что-то передать. Сильным толчком ноги мне удалось выбить из-под него стул, а ударом приклада автомата заставить замолчать и сам передатчик. Времени на размышления у нас не оставалось — необходимо было двигаться дальше, но, сделав несколько шагов, мы обнаружили, что уперлись в тупик — двери вовнутрь отеля отсутствовали. Пришлось в срочном порядке выскакивать обратно наружу.
Мы ринулись вдоль здания, завернули за угол и увидели террасу высотой, быть может, метра в три. Унтер-офицер Химмель мгновенно подставил плечи, и я, вскарабкавшись по его спине, первым оказался наверху. Остальные последовали за мной.
Пытливым взглядом я обшарил весь фасад и в одном из окон второго этажа увидел знакомый колоритный профиль — это был дуче!
«Теперь операция, без сомнения, должна удаться», — подумалось мне, и я громко крикнул, обращаясь к Муссолини:
— Отойдите от окна!
Затем мы бросились к главному входу. Внутри здания у двери толпились итальянские солдаты, собираясь выйти наружу, а рядом на земле виднелись изготовленные для стрельбы два пулемета. Однако это нас не остановило — перепрыгнув через них, мы их просто перевернули. Карабинеры устремились навстречу, и мне пришлось ударами приклада расчищать себе дорогу в тесно сбившейся куче итальянцев, а мои люди, не останавливаясь, продолжали рычать по-итальянски: «Руки вверх!» Пока не прозвучало ни единого выстрела.
Я оказался в холле, но оборачиваться и смотреть, что происходило за моей спиной, у меня не было времени — справа наверх вела лестница. Перепрыгивая через ступеньку, я взобрался по ней и, оказавшись на втором этаже, бросился влево по коридору и рванул на себя дверь в комнату, располагавшуюся с правой стороны. Удача не оставила меня — передо мной стояли Бенито Муссолини и два итальянских офицера, которых я тут же отогнал к стене. Между тем в дверях уже стоял мой бравый унтерштурмфюрер СС Швердт, сразу же оценивший ситуацию и вытолкавший этих двух итальянских офицеров вон из комнаты. Они были настолько ошеломлены, что не оказали никакого сопротивления.
Как только дверь за ними закрылась, до меня дошло понимание, что первая часть операции прошла успешно. Во всяком случае, дуче был с нами, а со времени нашего приземления миновало всего три, максимум четыре минуты.
Тут в окне появились физиономии двух моих унтершар-фюреров СС — Хольцера и Бенца. Проникнуть в холл им не удалось, и они, спеша ко мне на подмогу, взобрались по стене, цепляясь за громоотвод. Чтобы обеспечить прикрытие с тылу, я послал их в коридор, а сам бросился к окну.
Внизу мне предстала замечательная картина — к отелю бегом приближался мой начальник штаба Радл вместе с группой эсэсовцев командира роты нашей части особого назначения «Фриденталь» оберштурмфюрера СС Менцеля. Сам же оберштурмфюрер практически полз вслед за своими людьми по-пластунски, так как при приземлении сломал ногу. По моему плану Менцель командовал четвертым отделением, следовавшим на планере вслед за мной. Они приземлились примерно в ста метрах от отеля. Там же совершил посадку еще один планер, обозначавшийся у нас под номером пять.
— Все в порядке! — крикнул я. — Обеспечьте прикрытие внизу!
В это время из-за туч вынырнули и круто пошли на посадку планеры номер шесть и семь с солдатами парашютной роты Берлепша. Сам обер-лейтенант фон Берлепш находился в планере номер семь. За ними следовал и планер номер восемь. И тут разыгралась трагедия — последний планер, вероятно, попал в воронку, образованную воздушным вихрем, и его занесло на полном вираже. Он камнем упал, ударился о крутую осыпь и разбился.
Вдали послышались одиночные выстрелы.
«Скорее всего, это стреляют итальянские посты внешнего периметра охраны», — подумал я и громко крикнул в коридор, чтобы позвали коменданта отеля.
Комендант в чине полковника оказался поблизости и не замедлил явиться. Я предложил ему немедленно сдаться, объяснив, что всякое сопротивление бесполезно, на что он попросил время на размышление. Я дал ему минуту, и тут в комнату вошел Радл, пробившийся через главный вход, который итальянцы все еще продолжали удерживать. Ожидаемые нами подкрепления не подходили.
Снова появился итальянский полковник, держа в руке бокал, до краев наполненный красным вином. Он слегка поклонился и протянул бокал мне со словами:
— Победителю!
Белая простыня, вывешенная из окна, заменила белый флаг. Я крикнул еще несколько распоряжений, отдав необходимые указания солдатам, находившимся перед отелем, и только тогда повернулся к Муссолини, стоявшему в углу под прикрытием массивной фигуры унтерштурмфюрера СС Швердта.
— Дуче, фюрер послал меня, чтобы освободить вас. Вы — свободны! — представившись, отрапортовал я.
— Я знал, что мой друг Адольф Гитлер не оставит меня в беде! — явно растроганный, обнял меня Муссолини.
Формальности сдачи итальянского гарнизона были урегулированы быстро. Итальянским солдатам приказали сложить оружие в столовой, а офицерам по моему распоряжению их пистолеты разрешили оставить. Тут мне доложили, что кроме полковника был захвачен еще один генерал.
Верхнюю станцию подвесной канатной дороги моим людям также удалось взять под контроль неповрежденной. Снизу по телефону поступил такой же доклад. Однако в долине все же произошла короткая стычка, но поскольку определенное заранее расписание действий было соблюдено с точностью до секунды, то внезапность, как и ожидалось, сыграла свою решающую роль.
Обер-лейтенант фон Берлепш, возглавлявший десантников, высадившихся на лугу возле отеля, снова вставил свой монокль, когда я из окна передал ему указание прислать снизу по канатной дороге подкрепление.
«Береженого Бог бережет, — подумал я тогда. — Пусть итальянский полковник лишний раз убедится, что долина также захвачена нашими подразделениями».
Кроме того, по телефону мною было отдано распоряжение, чтобы наша машина связи, стоявшая в долине, передала в Рим генералу Штуденту радиограмму о том, что операция прошла успешно.
С первой же кабиной фуникулера снизу прибыл майор Морс, командовавший батальоном парашютистов в долине. С ним явился и вездесущий оператор немецких новостей, который немедленно запечатлел на пленку отель, сильно поврежденные при посадке планеры и участников операции. Корреспондент оказался каким-то совсем уж неуклюжим и наглым. Впоследствии меня всегда сильно раздражало, что кадры в «Вохеншау»[141] были представлены таким образом, как будто бы он сам лично снимал посадку планеров. У нас же в первые минуты после приземления нашлись куда более важные дела, чем позировать этому фотокорреспонденту.
Майор Морс попросил меня представить его дуче, что я охотно и сделал.
Теперь меня одолевали заботы о том, как благополучно прибыть в Рим вместе с дуче, который находился под моей защитой. Еще раньше при разработке плана нашей операции мы предусмотрели три возможных способа его переправки.
Движение по суше вместе с Муссолини по маршруту длиной сто пятьдесят километров по территории, на которой после падения Италии, случившегося четыре дня назад, не было ни одного немецкого подразделения, представлялось нам слишком рискованным. Поэтому еще накануне операции я согласовал с генералом Штудентом план «А», который предусматривал захват внезапным штурмом на короткое время итальянского аэродрома Аквилади-Абруцу, расположенного при выходе из долины. По радио мне следовало передать новое время «Ч» проведения этой атаки. Через несколько минут после ее начала на аэродроме должны были приземлиться три немецких Не-111, на один из которых нам с дуче надлежало сесть. После этого самолет обязан был немедленно взлететь. Оставшимся двум «Хейнкелям» следовало играть роль прикрытия и вводить в заблуждение возможных преследователей.
План «Б» предусматривал приземление «Физелер-Шторха»[142] на лугу возле станции подвесной канатной дороги в долине, и, наконец, по плану «В» гауптман Герлах также на «Физелер-Шторхе» должен был попытаться осуществить посадку прямо на лужайке перед отелем.
Машина связи в долине передала в Рим сообщение об успешном завершении операции. Однако когда мы с обер-лейтенантом Берлепшем, быстро определив время атаки аэродрома на шестнадцать ноль-ноль, попытались передать в штаб воздушно-десантного корпуса новое время «Ч», то выяснилось, что связь отсутствует. В результате план «А» отпал сам собой.
С помощью бинокля я наблюдал посадку «Шторха» в долине, с тем чтобы по телефону передать пилоту необходимые указания по подготовке к немедленному взлету. Однако летчик доложил, что при посадке он повредил шасси и самолет сразу стартовать не сможет. Таким образом, план «Б» тоже отпал и остался только самый опасный план «В».
Неожиданно карабинеры, которых к тому времени разоружили, изъявили желание нам помочь. Некоторые из них уже раньше добровольно присоединились к отряду, который мы послали, чтобы он подобрал солдат из планера, разбившегося при посадке. В бинокль было видно, что некоторые из десантников, выброшенных при ударе на осыпь, еще шевелились, так что надежда на то, что крушение машины не стало гибельным для всех, нас не покидала.
Другие карабинеры начали вместе с нами расчищать и ровнять маленькую полосу земли для посадки. В первую очередь спешно удалялись большие обломки скал, загромоздивших наиболее плоский клочок лужайки. Между тем гауптман Герлах на своем самолете уже выписывал над нашими головами огромные круги, ожидая обговоренного сигнала на посадку.
Герлах умудрился впервые осуществить свободное приземление на таком высокогорье с ювелирной точностью. Однако когда я сообщил ему о том, что мне предстоит улететь с его помощью, то он не проявил особой радости. При известии о планирующемся полете втроем летчик вообще заявил, что мой план просто нереален.
Пришлось отвести его в сторону для короткого, но очень серьезного разговора, и он был вынужден признать справедливость приведенных мною аргументов. Я сам предварительно тщательно взвесил все за и против такой попытки и вполне отдавал себе отчет в той огромной ответственности, которую беру на себя, настаивая на совместном полете. Но и переложить ее на плечи Герлаха, позволив ему одному лететь с дуче, мне тоже было нельзя. Ведь в случае катастрофы мне ничего не оставалось бы, как, достав свой пистолет, пустить себе пулю в лоб — не мог же я предстать перед Адольфом Гитлером и заявить ему, что операция удалась, но Муссолини встретил смерть сразу же после своего освобождения. Поскольку другого средства перевезти дуче в Рим более не оставалось, то лучше было разделить с ними всю опасность такого полета, хотя мое присутствие ее только увеличивало. Следовало перепоручить себя судьбе и разделить общую участь. Своему верному другу Радлу я так и сказал, открыв ему истинную причину своего решения.
Перед вылетом я коротко обсудил с майором Морсом и Радлом некоторые детали, связанные с возвращением. В качестве пленников было решено взять с собой только двух генералов — захваченного здесь и того, который нас сопровождал. Остальных же офицеров и карабинеров надлежало оставить безоружными в отеле. Ведь дуче сообщил мне, что во время плена с ним обращались вполне сносно. Так что никаких оснований для отказа от подобного великодушия мы не видели.
Более того, моя добросердечность, базировавшаяся на достигнутых успехах, распространилась настолько далеко, что я решил избавить своих недавних противников от перспективы заключения их в лагерь для военнопленных. Однако, чтобы предотвратить возможный саботаж на канатной дороге, каждой партии, отправлявшейся вниз, было приказано брать с собой в кабину двух итальянских офицеров. После спуска всех наших людей в долину механизмы фуникулера следовало привести в негодность так, чтобы их быстрая починка стала невозможной. Остальные вопросы, которые могли возникнуть, я поручил решать майору Морсу на месте.
Между тем под руководством Герлаха солдаты общими усилиями подготовили хотя и довольно крутую, но все же относительно надежную временную взлетную полосу.
Только теперь у меня появилось несколько минут для общения с дуче. Я помнил Муссолини еще с 1934 года, когда наблюдал его выступление перед толпой с балкона палаццо Венеция[143]. По правде говоря, человек, который сидел передо мной в слишком просторном и лишенном всяческого изящества темном гражданском костюме, мало напоминал изображения того красавца, каким его представляли на портретах, где он был облачен в военную форму. Не изменились только черты лица, хотя и здесь возраст взял свое.
Он казался истощенным какой-то тяжкой болезнью, и это впечатление усиливалось небритой щетиной и жиденькими волосиками, поросшими за многие дни заточения на его обычно гладко выбритой мощной голове. От великого итальянского диктатора неизменными остались только черные, огромные, горящие, словно угли, глаза, которыми он буквально буравил меня, разговаривая со мной в присущей ему живой манере.
Я с большим вниманием слушал его рассказ, в котором он излагал подробности своего свержения и последовавшего за этим заточения, и мне захотелось его чем-нибудь порадовать.
— Мы ни на минуту не забывали о вашей семье, дуче! — сообщил я ему. — Новое правительство интернировало вашу супругу и обоих ваших младших детей в ваше имение Рокка-деле-Каминате[144]. Вот уже несколько недель мы поддерживаем связь с вашей супругой донной Ракеле. Более того, в тот самый момент, когда мы высадились здесь, другой отряд из людей моего подразделения под командованием гаупт-штурмфюрера СС Манделя начал операцию по освобождению вашей семьи. Я уверен, что к этому часу она уже на свободе.
Расчувствовавшись, дуче крепко пожал мне руку.
— Тогда все хорошо, благодарю вас, — сказал он.
В широком черном драповом пальто и такой же черной фетровой шляпе с широкими полями дуче направился к двери, и мы поспешили к «Аисту», стоявшему в готовности к взлету. Я с большим трудом втиснулся в узкую щель второго сиденья, тогда как сам дуче развалился на первом. Перед тем как забраться в самолет, он выказал некоторые колебания, и тут до меня дошло, что Муссолини сам был опытным летчиком и, безусловно, понимал, какому риску мы намеревались себя подвергнуть.
Мотор набрал максимальные обороты, и мы кивнули остававшимся товарищам. Я обеими руками вцепился в две стальных трубы, которые образовывали каркас самолета, и попытался противостоять колебаниям своего тела, стараясь облегчить давление самолета на грунт и не дать машине выйти из равновесия. По знаку Герлаха солдаты, которые держали самолет за крылья и хвост, разом разомкнули хватку, и пропеллер потянул нас вперед. Сквозь окна до меня донеслись ободряющие крики моих людей.
Мы мчались все быстрее и быстрее, и конец импровизированной взлетной полосы неуклонно приближался, но самолет все еще оставался притянутым к земле, словно попав под воздействие магнита. Машину потряхивало на отдельных небольших камнях, и я изо всех сил старался сохранить равновесие. Вдруг через переднее стекло прямо перед нами я увидел глубокую рытвину, лежавшую поперек движения самолета.
«Господи! Если мы рухнем туда…» — пронеслось в моей голове, и тут наша «птица», на наше счастье, слегка оторвалась от земли.
Левое колесо шасси еще раз резко напоролось на что-то, самолет легонько нырнул носом, и мы оказались уже у самого края плато. Слегка наклонившись влево, машина провалилась в пустоту, а я закрыл глаза и затаил дыхание в ожидании страшного удара…
Свист ветра вокруг крыльев стал резче и превратился в настоящий рев. Все это длилось каких-то несколько мгновений, но когда я открыл глаза, то увидел, как Герлах начал выводить самолет из свободного падения и медленно выравнивать его в горизонтальном положении — теперь мы двигались с достаточной скоростью даже для этой разреженной атмосферы, чтобы держаться в воздухе. На бреющий полет наш «Аист» перешел буквально в тридцати метрах от дна котловины и сразу же достиг выхода в долину. Все плохое осталось позади.
Уверен, что все мы были еще бледнее, чем за несколько минут до этого, но никто не проронил ни слова. Все еще приходили в себя от пережитого, и я с некоторой фамильярностью положил руку на плечо дуче, который теперь-то уж точно был спасен.
Через несколько минут Муссолини полностью оправился и вновь обрел дар речи, начав рассказывать о местах, над которыми мы пролетали на высоте всего ста метров. Такая высота была выбрана исходя из мер предосторожности, и наш самолет буквально прижимался к каждой сопке.
— Здесь двадцать лет тому назад я выступал на большом митинге, — ударился в воспоминания Муссолини. — А там мы организовывали похоронную процессию одного нашего друга…
И тут до меня дошло, что дуче почти без ошибок бегло говорил по-немецки. Это был факт, который в нервном напряжении прошедших часов я даже не заметил, принимая его как нечто само собой разумеющееся.
Теперь я мог по-настоящему порадоваться романтическим красотам местности, которую в тот день видел всего во второй раз в своей жизни. В первый раз через небольшие отверстия в фюзеляже планера можно было наблюдать только небольшие участки, а уж о каких-то впечатлениях и говорить не приходилось. Теперь же весь ландшафт лежал прямо передо мной, и за исключением двух распорок мне ничего не мешало. Это было непередаваемое ощущение!
Внизу показался Рим, и мы взяли курс на аэродром Пратика-ди-Маре.
— Внимание! — бросил нам Герлах. — Держитесь крепче! Садимся в два приема!
«Верно, — подумалось мне. — А я уж и забыл о нашем поврежденном шасси!»
Самолет очень нежно прикоснулся к земле и, балансируя на правом переднем колесе, покатил по полосе. Наконец он остановился.
«Какой сегодня день? — подумал я. — Ах да! Воскресенье — счастливый день!»
Гауптман Мельцер поприветствовал нас от имени генерала Штудента, искренне радуясь нашему успеху, и тут на летном поле я увидел три готовых к взлету Не-111. Началась обычная в таких случаях церемония, во время которой мне выпала честь представлять дуче экипаж нашего нового самолета. Время поджимало, и я, выражая свою благодарность гауптману Герлаху, только крепко пожал ему руку. Следовало поторопиться, ведь нам надо было достичь аэродрома Вены еще до наступления темноты.
Глава 10
В Вену вместе с дуче. — Все будет хорошо. — В гостинице «Империал». — Звонок Гиммлера. — Моя жена удивляется. — Рыцарский крест Железного креста. — Поздравления фюрера. — Повышение. — Республиканская фашистская партия[145]. — Историческая ошибка Муссолини. — Остановка в Мюнхене. — Семья дуче. — Последний визит Чиано. — В главной ставке фюрера. — Благодарность фюрера. — Полуночный чай у Гитлера. — Темы у камина. — Перед первыми лицами вермахта. — Мнение Геринга. — Борман и Риббентроп. — Назад в Италию. — Минимальные потери. — Приглашение к доктору Геббельсу. — Частная жизнь министра пропаганды
Лететь в «Хейнкеле» было намного комфортнее, однако толком поговорить из-за шума моторов не удавалось. Дуче откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Я тоже задумался, ведь нам все же удалось выполнить поставленную задачу — здоровый оптимизм и сильная воля помогли справиться со всевозможными хитростями неприятеля. Ясно было также и то, что солдатская удача явно улыбалась мне и во многом помогала. Особенно в тот день, когда все могло пойти совсем иначе и закончиться провалом операции!
Однако я был не готов предаваться размышлениям о стечении всех тех счастливых случайностей, которые способствовали успеху, хорошо осознавая, что особой благодарности заслуживали мои боевые товарищи, ведь они пошли за мной добровольно. Без их железной дисциплины и беззаветной доблести у меня ничего бы не получилось.
Следовало позаботиться о раненых. Слава богу, что нам удалось подобрать всех живыми. Хотелось надеяться, что они поправятся! Я вновь мысленно проиграл весь ход событий, развернувшихся в высокогорном отеле. Пропало четыре планера, и что с ними случилось, мне было неизвестно. Может быть, им удалось где-то приземлиться? Меня терзала неизвестность, ведь для войскового командира нет ничего хуже, чем доклад о пропаже без вести части своего подразделения. Во время обратного полета в Рим мы с Герлахом старались их отыскать, всматриваясь в каждую долину внизу, но никаких признаков планеров не обнаружили.
«Неужели за успех пришлось заплатить столь дорогой ценой?» — спрашивал я себя.
Однако ответ на этот вопрос должны были дать мои начальники. Лично я считал, что сделал все, что от меня зависело.
Мы миновали Караванке[146], границу с Австрией, и очутились в зоне плохой погоды. Однако теперь можно было вновь вести радиопереговоры, которые были запрещены плоть до входа в воздушное пространство над территорией Германии, и радист попытался связаться с аэродромом. Но все его усилия оказались напрасными — Асперн[147] молчал.
Из носовой кабины пилота тоже практически ничего не было видно — тяжелые дождевые облака закрыли землю, и нам пришлось подняться на высоту около двух тысяч метров, чтобы не врезаться в какую-нибудь гору. Полет продолжался по компасу. Между тем дуче, казалось, задремал.
— Связи по-прежнему нет! — в очередной раз доложил радист.
Постепенно темнело, что ощущалось даже в столь густой облачности. Было уже девятнадцать часов тридцать минут, и вскоре нам предстояло оказаться у цели нашего полета, но связь с аэродромом установить все не удавалось! Постепенно мной начало овладевать беспокойство, ведь перспектива очутиться в какой-нибудь катавасии вместе со столь высоким гостем радовать не могла. К тому же начали подходить к концу запасы бензина, и пилот пробормотал что-то о вынужденной посадке.
«Этого еще только не хватало! — подумал я.
Еще раз сверив курс, мы пришли к выводу, что находимся уже вблизи Вены. Между тем наступила ночь. Летчик до минимума сбросил скорость, а я улегся на полу застекленной кабины пилота и до боли в глазах начал всматриваться в темноту. Внезапно в просвете облаков замерцала какая-то водная поверхность. Это могло быть только озеро Нойзидлерзее!
«Теперь все в порядке!» — подумал я, поскольку знал эти места как свои пять пальцев.
Мы осторожно пробились сквозь толщу облаков, и мое предположение подтвердилось — внизу на расстоянии всего каких-то пятидесяти метров просматривались воды длинного озера. Я распорядился взять курс строго на север, учитывая, что на такой высоте самолет мог беспрепятственно долететь вплоть до Дуная. Затем по моей команде пилот развернул машину влево, и она полетела вверх по Дунаю прямиком на Вену. В Асперне мы сели уже в кромешной темноте.
Самолет с дуче я оставил в конце летного поля под охраной экипажа, а сам направился в диспетчерскую, чтобы узнать, не заберет ли нас кто-нибудь. Там мне сказали, что еще недавно здесь действительно стояло несколько машин, прибывших из города, но в связи с сообщением о вынужденной посадке самолета возле Швехата[148], предместья Вены, они уехали туда. Ведь наш «Хейнкель» должен был прилететь еще час назад. Оставалось только радоваться, что все закончилось хоть так.
Выбить у коменданта аэродрома машину до Вены мне удалось с большим трудом, ведь я не мог сообщить ему о своем спутнике. Теперь прояснился также и вопрос о том, почему нам не удавалось установить радиосвязь — здесь, в Асперне возле Вены, все службы работали по так называемому «воскресному распорядку»! И это в условиях ведения тотальной войны!
На автомобиле я вернулся к самолету и усадил в него дуче. Уже на выезде из аэродрома нам повстречалась возвращавшаяся кавалькада высших военных чинов во главе с руководителем эсэсовских и полицейских инстанций Вены группенфюрером СС Квернером. Господа очень обрадовались, когда увидели дуче живым и здоровым, поскольку при получении сообщения о вынужденной посадке они посчитали, что речь идет о нашем самолете. Когда выяснилось, что это был «Хейнкель» сопровождения, то все вздохнули с облегчением. Позднее я узнал, что и второй самолет, взлетевший вместе с нами в Риме, также совершил аварийную посадку возле Венского-Нейштадта[149]. К счастью, их экипажи существенно не пострадали.
Когда мы пересели в машину группенфюрера СС Квернера, я вздохнул с облегчением — теперь, когда все закончилось благополучно, с меня свалился тот тяжелый груз ответственности, который мне приходилось нести все это время. Вскоре кортеж подъехал к гостинице «Империал», в которой для дуче были подготовлены апартаменты.
Перекинуться парой слов с Муссолини мне все же удалось. Дело в том, что мы прибыли без всякого багажа, и группенфюреру СС Квернеру пришлось озаботиться, чтобы предоставить дуче пижаму и туалетные принадлежности. Когда я передал Муссолини все это в его спальне, то он произнес короткую поучительную речь:
— Спать в пижаме плохо для здоровья. Лично я сплю всегда голым и советую вам, гауптман Скорцени, в любой ситуации поступать так же.
Веселые искорки, вспыхнувшие в его глазах, свидетельствовали о том, что Муссолини являлся человеком с богатым жизненным опытом, и мне не удалось сдержать легкую, все понимающую улыбку. На этом я откланялся до утра.
Меня срочно подозвали к телефону — со мной желал поговорить Гиммлер. Он хотел поздравить меня с успешным завершением операции и задать несколько интересовавших его вопросов. Внезапно он перешел на столь несвойственный ему дружеский тон:
— Вы ведь уроженец Вены, Скорцени? Вы известили о своем прибытии вашу жену? Дайте немедленно команду, чтобы ее доставили на эту ночь в гостиницу. Вам же следует постоянно находиться при Муссолини и в скором времени сопровождать его в главную ставку фюрера.
Я не стал дожидаться повторного предложения о приглашении моей жены в гостиницу. Чтобы сделать ей приятный сюрприз, за ней на машине отправился адъютант Квернера.
Со мной в номере за столом сидели группенфюрер СС Квернер, офицер его штаба и офицер для поручений командующего Венским военным округом. Постоянно входили и также исчезали какие-то личности, которых я уже не помню. Чтобы поддержать компанию, мне пришлось пуститься в рассказы, что и было сделано с превеликим удовольствием. Вытянув свои длинные ноги и держа в руке бокал шампанского, я наслаждался заслуженным отдыхом, совершенно упустив из виду, что мою физиономию совсем не красила трехдневная щетина. К тому же моя форма была пропитана потом от нелегких трудов прошедшего горячего дня и вся покрыта прилипшей к ней пылью. В общем, моя изрядно помятая тропическая униформа плохо сочеталась с интерьером лучшей гостиницы Вены.
Наконец снова открылась дверь, и зашедший в небольшой вестибюль офицер доложил о прибытии моей жены. Никогда не забуду ее озадачивших меня слов:
— А почему ты не пришел домой?
Тут я сразу вспомнил, что голоден, и заказал для нас двоих роскошный поздний ужин. Конечно, моя супруга выказала столь свойственное женщинам любопытство, но на ее бесконечные «как?» и «почему?» ответить мне было не суждено. Остался без ответа и вопрос, кто же спит за стеной сном праведника.
За несколько минут до полуночи объявился какой-то полковник, как выяснилось, начальник штаба Венского Военного округа, который торжественно представился и, к моему величайшему изумлению, заявил:
— Господин гауптман! Я прибыл по приказу фюрера с поручением вручить вам Рыцарский крест Железного креста![150]
С этими словами он снял со своей шеи орден и надел его мне. Торжественную церемонию завершил бокал шампанского, который помог преодолеть некоторое смущение, возникшее от такой неожиданности. Некоторое время я был занят пожиманием рук и приемом поздравлений. Моя бедная жена, ничего не знавшая о причинах такого ко мне внимания, явно пребывала в полной растерянности и только удивлялась непонятным для нее намекам.
Наступила полночь, и вновь зазвонил телефон, трубку взял группенфюрер СС Квернер и тут же передал ее мне со словами:
— Скорцени! С вами лично хочет переговорить фюрер!
Адольф Гитлер поблагодарил меня, найдя самые теплые и сердечные слова:
— Вы совершили самый настоящий подвиг! Ваше военное свершение войдет в историю! Вы вернули мне моего друга Муссолини. Я наградил вас Рыцарским крестом Железного креста и пожаловал звание штурмбаннфюрера СС. Примите мои самые наилучшие пожелания!
Затем Адольф Гитлер пригласил к телефону мою жену и тоже поздравил ее.
— Да. Благодарю вас, — только и проговорила Эмми, у которой от смущения перехватило дыхание.
Затем друг за другом телефонную трубку взяли Геринг, Кейтель и Гиммлер, которые также рассыпались в словах благодарности.
Теперь настала пора хотя бы в двух словах ввести свою жену в курс дела. Она была по-настоящему ошеломлена, когда узнала, что я уже несколько месяцев командую частью особого назначения. Когда из Мюнхена поступило сообщение о том, что мой отряд в Рокка-деле-Каминате также успешно справился с возлагавшейся на него задачей и благополучно прибыл с семьей дуче в Мюнхен, я мог наконец с облегчением завершить столь насыщенный событиями день и распрощаться со своими гостями.
Я принял столь долгожданный душ, ощущения от которого стал практически забывать, и, уже засыпая, вспомнил о своем отце, который не дожил до описываемых событий. Никто, пожалуй, не был бы так рад, как он, что его сын удостоился подобных почестей. А еще мне вспомнились его слова в самом начале войны: «Ты, конечно, исполнишь свой долг и, вполне возможно, заслужишь награду. Но она не обязательно должна являться Рыцарским крестом!»
Во всяком случае, первые мои шаги в насыщенную событиями жизнь прошли успешно.
Программа мероприятий на следующий день была уже составлена. Провожатым нам определили посланника из министерства иностранных дел Дернберга, который почти на голову оказался выше меня. Я познакомился даже с гаулейтером Вены Бальдуром фон Ширахом[151], когда он нанес визит Муссолини. Поскольку нам предстояло постоянно куда-то двигаться и переезжать, то мне пришлось одолжить новую форму, которая болталась на мне как на вешалке, но все же была лучше, чем моя видавшая виды униформа.
С дуче я поздоровался прямо с утра. Он позволил познакомить его с моей женой, и на этот раз разговор зашел не о тех деликатных делах, вокруг которых он крутился прошедшей ночью. Бенито Муссолини выглядел помолодевшим, чему в немалой степени способствовало то, что он был чисто выбрит. Казалось, что к нему вернулись его жизненные силы. Видимо, всю прошедшую ночь этот человек ковал новые великие планы. Еще с утра, а потом и позже, уже в самолете, дуче делился со мной идеями по поводу реорганизации своей партии, новое название которой должно было звучать так: Республиканская фашистская партия.
— Я совершил грубую и даже непростительную ошибку, за что и расплачиваюсь, — заявил он. — Я не разглядел, что итальянский королевский дом был и остается моим естественным врагом. После окончания военного похода в Абиссинии мне следовало провозгласить Италию республикой.
Тогда я не знал, что еще в воскресенье 12 сентября около двадцати трех часов вечера по радио передали первое и весьма таинственное специальное сообщение примерно такого содержания: «Один из венских командиров СС освободил сегодня арестованного предательским правительством Бадольо Бенито Муссолини. Операция стоила многочисленных жертв!»
Когда утром 13 сентября я позвонил своему проживавшему в Вене брату, он сразу обо всем догадался:
— Так это был ты! Поздравляю! Очень мило с твоей стороны, что для этой акции ты избрал именно мой день рождения!
Я передал ему свои запоздалые поздравления по случаю этого дня, о котором, по правде говоря, совсем забыл.
В одиннадцать тридцать мы были снова на аэродроме Асперн. На этот раз нас ожидал удобный пассажирский самолет «Юнкере». Я сидел напротив дуче, и теперь шум моторов не очень мешал нашему разговору. Муссолини вновь вернулся к своему плану создания новой партии и формирования правительства. Меня не переставала удивлять необычайная энергичность и духовная сила, которые были присущи этой деятельной натуре. Они оказались не утраченными даже после столь длительного заключения. На аэродроме Мюнхен-Рим[152] нас поприветствовала вся семья Муссолини. Супруга дуче донна Ракеле оказалась скромной и очень симпатичной женщиной, и в дальнейшем хорошее впечатление о ней только усиливалось.
Во время этой встречи присутствовал и доктор Эрнст Кальтенбруннер, который с этого момента начал лично отвечать за безопасность дуче. Он искренне порадовался моим успехам и сердечно поприветствовал меня как своего земляка.
До раннего утра 15 сентября нас разместили в гостевом доме имперского правительства в Мюнхене. На каждом завтраке я был желанным гостем семейства Муссолини и провел несколько часов в беседах с дуче. В них он и поведал мне подробности своего ареста. 25 июля 1943 года около семнадцати часов, несмотря на многочисленные предупреждения, в том числе и со стороны своей жены, он поехал во дворец итальянского короля на прощальную аудиенцию.
— Король буквально рассыпался в словах благодарности за то, что я сделал для Италии, — рассказывал Муссолини. — Он назвал меня величайшим сыном страны, который навечно войдет в ее историю, заявив, что я навсегда останусь его братом.
Такая привилегия числиться названым братом самого короля была сопряжена с награждением высоким орденом Савойской династии[153], которого дуче удостоился уже давно. Заверив Муссолини в своей дружбе и обняв его на прощание, король разрешил ему откланяться и даже сопроводил до двери, за которой диктатора ждало несколько офицеров, чтобы арестовать. После ареста дуче усадили в закрытую санитарную машину и доставили в казарму карабинеров в Риме.
Меня очень интересовало, насколько близко к истине были мои расследования и верно ли мы шли по следу. К моему удовлетворению, из рассказов Муссолини следовало, что наши предположения всегда оказывались правильными. Совпадали даже даты, когда дуче был вынужден сменить место своего пребывания и которые я докладывал начальству.
Новым, но не совсем неожиданным для меня явилось действительное намерение правительства Бадольо выдать дуче союзникам, поскольку это на самом деле являлось одним из условий заключения перемирия. В данном случае Муссолини намеревался покончить с собой, чтобы не оказаться в руках союзников. Расстаться с жизнью ему должен был помочь молоденький лейтенант карабинеров, которого я видел в горном отеле.
В те дни мне довелось познакомиться еще с двумя членами семьи Муссолини — его зятем и дочерью. Граф Чиано и его супруга еще в августе тайно выехали в Германию и проживали в одном из поместий недалеко от Мюнхена. Эдда Чиано приехала еще в понедельник после обеда, чтобы добиться для своего мужа приема у Муссолини. Графиня выглядела очень озабоченной, и чувствовалось, что ее что-то гнетет. Правда, возникал вопрос, за кого она больше переживала — за мужа или за своего отца?
Первоначально дуче и донна Ракеле категорически отклонили просьбу дочери принять их зятя, поддержавшего оппозицию в ее борьбе против Муссолини. Но затем дуче все же согласился коротко выслушать Чиано, тогда как донна Ракеле оставалась непреклонной, не желая видеть графа.
— Ненавижу! Я его собственными руками задушить готова! — со свойственным южанам темпераментом заявляла она.
Дуче сам рассказал о подобной вспышке своей жены, но, как обычно, не стал прислушиваться к чьему-либо мнению при принятии решения.
При коротком визите Чиано по просьбе Муссолини присутствовал и я. Вначале граф, одетый в элегантный темный костюм, высказал поздравления по случаю освобождения дуче, а потом, как мне показалось, попытался объяснить свое поведение на Большом фашистском совете. Однако встреча проходила столь холодно, что мне, как очевидцу, было не по себе. Весь их разговор занял всего несколько минут, и я проводил графа до двери, где мы с ним и распрощались.
Затем Муссолини попросил меня вновь занять место в гостиной у камина и сказал, что в ближайшее время собирается устроить процесс над зачинщиками путча 25 июля 1943 года. В свете только что закончившегося визита графа я не очень дипломатично заметил:
— Тогда перед судом должен будет предстать и граф Чиано. Я правильно понимаю?
— Да, правильно, — очень серьезно подтвердил дуче. — Мне известно, что мой зять должен подпасть под трибунал в числе первых, и насчет приговора я не питаю никаких иллюзий!
Теперь мне стала понятна вся та трагичность положения, в котором оказался Муссолини как глава итальянского государства, вынужденный отдавать под суд члена собственной семьи, подозреваемого в совершении государственной измены. Внешне дуче казался довольно твердым в своем решении без промедления выступить против мужа своей любимой дочери. Однако что он испытывал при этом внутри, не дано было знать даже самым близким людям. При той известной приверженности итальянцев к фамильным ценностям, какую Муссолини не раз выказывал, я мог только догадываться, как тяжело далась ему потом подпись под смертным приговором графу Чиано.
За столом обычно велись довольно оживленные беседы, в которых принимали участие все присутствовавшие. Младшие дети, тогда в возрасте двенадцати и четырнадцати лет, часто бывали такими возбужденными, что отцу приходилось их останавливать. Дуче предпочитал очень простые блюда — яичницу и овощи, которые сервировали наряду с другими кушаньями. На десерт он ел любые фрукты, которые можно было достать. В отличие от остальных членов семьи донна Ракеле вела себя за столом довольно тихо и в разговорах участие принимала очень редко.
Рано утром 15 сентября 1943 года мы вылетели в Восточную Пруссию в главную ставку фюрера в сопровождении посланника Дернберга и доктора Кальтенбруннера, который в качестве шефа германской полиции безопасности проживал вместе с нами во дворце в Мюнхене. Для меня это было большим облегчением, поскольку в глубине души я все еще чувствовал себя ответственным за нашего высокого гостя. А что с нами могло произойти, не знал никто.
На аэродроме главной ставки фюрера нас встретило яркое солнце. Как только Ю-52 остановился на взлетно-посадочной полосе и мы вышли из самолета, дуче встретил сам фюрер. Оба диктатора долго стояли, пожимая друг другу руки, а затем Адольф Гитлер поприветствовал и мою скромную персону, заявив, что после обеда ожидает меня с подробным докладом о проведенной операции.
Адольф Гитлер уделил мне для доклада целых два часа. Слова благодарности, которые он вновь высказал, исходили от чистого сердца.
— Я никогда не забуду о той услуге, которую вы оказали! — сказал он, и эти слова навсегда врезались в мою память.
Затем мне пришлось подробно проинформировать его обо всех деталях проведенной операции, а также обо всех связанных с ней событиях, произошедших в последние месяцы. Его интересовали даже самые мелкие подробности. Доклад о пропаже без вести трети планеров, поднявшихся со мною в воздух, дался для меня особенно тяжело, ведь я так ничего и не узнал об их судьбе. В ответ Адольф Гитлер заявил, что немедленно даст указания о поисках планеров, и пригласил мою скромную персону принять в тот же день участие в полуночном чаепитии, что, как было известно, являлось у Гитлера знаком редкого и высочайшего отличия.
На часах пробило уже час ночи, когда меня ввели в комнату, предназначавшуюся для чаепития. Адольф Гитлер проводил эту церемонию в своем рабочем кабинете за большим круглым столом перед камином. При этом его слова о полуночном чаепитии следовало воспринимать буквально. Чай он пил из стакана с серебряным подстаканником. Кроме чая гости могли заказать себе и кофе.
На чаепитии присутствовали обе его секретарши — фрейлейн Йоханна Вольф и фрау Траудл Юнг, сидевшие справа и слева от Гитлера. Кроме меня на церемонию были приглашены также посланник Хевель[154] и доктор Кальтенбруннер. Я с большим удивлением наблюдал, с какой вежливостью Адольф Гитлер обращался со своими секретаршами, что никак не напоминало отношения, обычно характеризующие поведение начальника и его подчиненных. При прощании он даже поцеловал им руки. Посланник Хевель оказался человеком очень общительным, и чувствовалось, что он объездил весь свет. В отличие от него доктор Кальтенбруннер предпочитал молчать и активно вмешался в разговор, который в тот вечер в основном вел сам Гитлер, только тогда, когда речь зашла о перспективах развития его родного города Линца.
Вообще в эти часы за чайным столом говорилось обо всем. Исключение, пожалуй, составляли только проблемы, касавшиеся войны. Эти наиболее актуальные вопросы почти не затрагивались. Больше всего фюрер любил порассуждать на наиболее близкую ему тему — о градостроительных планах, при обсуждении которых он заметно оживлялся и был поистине неутомим, выдвигая все новые и новые идеи. Например, он предложил придать Линцу облик университетского города, а при обсуждении планировавшейся к открытию художественной галереи выказал не только чисто теоретический интерес, но и внес детальные предложения о том, какие именно картины стоит в ней выставлять. У меня сложилось впечатление, что здесь он проявлял особо глубокую любовь к родине. Находилось время и для разговоров на исторические и философские темы.
Хорошо известно, что Адольф Гитлер особо почитал философские труды Ницше, но он также часто приводил и высказывания Хьюстона Стюарта Чемберлена[155]. В общем, это было непрерывное и живое общение, которое, однако, нельзя назвать пустым трепом. Исключение, пожалуй, составляли рассказы о путешествиях, в которые вдавался посланник Хевель и которые Гитлер всегда слушал с большим интересом.
Ко мне в тот раз Гитлер обращался довольно часто. Видимо, это было связано с тем, что я впервые присутствовал на таком чаепитии. Поэтому мне приходилось быть постоянно начеку.
О том, что Адольф Гитлер был решительно настроен против различных негативных проявлений внутри НСДАП, обнаружившихся во время войны, а также о его решимости сделать в подходящее для этого время соответствующие выводы, свидетельствуют такие его высказывания, как: «Германию после войны необходимо очистить. Будущее принадлежит солдатам этой войны, сражающимся на фронте. Однако от предателей следует избавиться уже сегодня! Клемансо[156] и тот был вынужден в 1917 году обратиться против внутренних врагов. Он многих беспощадно репрессировал и нейтрализовал, обеспечив таким образом Франции победу. Фронтовые тылы надлежит очистить от бунтовщиков и дезертиров! Настоящий фронтовик это понимает! История свидетельствует, что предатели всегда действуют одинаково — они открывают врагу заднюю дверь, чтобы ослабить борьбу и способствовать разгрому».
У меня осталось в памяти то, с какой любовью Гитлер обращался со своей любимой собакой Блонди. Поскольку я сам являюсь большим любителем животных, то могу с полной ответственностью заявить, что у Гитлера действительно был талант в общении с собакой. Она его по-настоящему любила, ведь он открыл ей свое сердце. Особенно радовало также и то, что Блонди, эта обычно нелюдимая животина, признавала и меня.
Когда в половине четвертого утра мы стали расходиться, то Гитлер заявил, что отныне он всегда будет рад меня видеть на своем полночном чаепитии во время моих визитов в ставку, если, конечно, я не слишком устану. Однако следует сразу оговориться, что больше мне ни разу не довелось присутствовать на подобной церемонии, хотя сердечные приглашения на нее я получал неоднократно. Причиной этого явилась не только моя занятость. Очень скоро я обнаружил, что Гитлера стала окружать настоящая придворная «камарилья», а мне не хотелось быть втянутым в ее интриги. К тому же мне претило, что я могу начать выглядеть как «дитя протекционизма» и обо мне начнут говорить, что я лестью добился расположения фюрера. Однако сегодня мне жаль, что так вышло. Ни в коем случае не стоило отказываться от возможности узнать Гитлера поближе, понять, каким человеком он был на самом деле.
На следующее утро на поезде особого назначения прибыл рейхсмаршал Герман Геринг, и во время прогулки мне пришлось и ему докладывать об отдельных деталях проведенной операции. Он пожаловал мне золотой знак в виде самолета, но тут же охладил мою радость по этому случаю, заявив, что я проявил непростительное легкомыслие, отважившись на совместный полет с дуче на «Аисте». Однако это не помешало мне попросить его ходатайствовать о награждении Рыцарским крестом гауптмана Герлаха и пилота моего планера лейтенанта Мейера. Геринг пообещал выполнить мою просьбу. Не забыл я и об остальных своих людях — еще во время первого доклада фюреру мною было сделано представление к наградам членов моего отряда, что и было удовлетворено.
После обеда того же дня мне приказали явиться в чайный домик, где я сделал доклад о проведенной операции перед группой генералов из главной ставки фюрера в составе пятнадцати человек. Прибыли также рейхсмаршал Геринг и генерал-полковник Йодль. Вначале я несколько смущался под строгим взглядом генеральских глаз, но потом сказал себе: «Чего это я? Они такие же люди, как и все».
Скованность сразу же отступила, и я начал говорить свободно. И хотя у меня получился не предусмотренный военными канонами доклад, в конце раздались бурные аплодисменты. Даже вырывавшиеся порой из моих уст грубые словечки вызывали только бурный хохот, что не совсем соответствовало обычно царившей в главной ставке монастырской тишине.
На следующий день меня пригласил к себе командир части, несшей службу по охране главной ставки фюрера. Оказывается, сам того не подозревая, я доставил ему немало хлопот — он начал опасаться, что союзники тоже могут прийти к мысли провести специальную операцию и попытаться атаковать ставку. Ему требовался мой совет, какие превентивные меры лучше предпринять.
Я не стал отрицать, что вероятность успешного штурма главной ставки фюрера действительно существовала. В принципе имелись возможности проведения удачной атаки любой ставки, и меня не переставал удивлять вопрос, почему ни один Генеральный штаб не решился на проведение подобной операции. Ведь во время войны офицеры и генералы ставки не были под какой-либо особой международно-правовой защитой. Значит, такие места могли быть подвергнуты нападению точно так же, как и другие важные в военном отношении объекты.
Мы настолько увлеклись рассмотрением все новых вопросов, которые всплывали при обсуждении данной темы, что я чуть было не забыл о том, что приглашен на обед рейхслейтером Мартином Борманом, которого до этого времени даже не знал по имени.
Как я ни старался, но все же немного опоздал и на сей раз получил от Гиммлера, который тоже был в числе приглашенных, заслуженный нагоняй. Как ни странно, но личность Бормана не произвела на меня никакого впечатления. Я даже не могу вспомнить, как он выглядел, и не в состоянии описать его внешность. Единственное, что могу сказать, так это то, что он был человеком среднего роста, плотного телосложения. Борман был каким-то невзрачным, и уже после короткого знакомства с ним возникало ощущение, что это настоящий фанатик.
Только в самом конце и после войны мне стало известно, какую зловещую роль за кулисами играл этот «серый кардинал». Он считал себя охранником Адольфа Гитлера и, к сожалению, добился немалого успеха в своих попытках полностью изолировать фюрера от внешнего мира.
Атмосфера за столом была довольно холодной, что тогда я воспринял как реакцию на свое опоздание. Во всяком случае, мне было очень неуютно.
Однако подобная атмосфера была характерна и для приема у министра иностранных дел фон Риббентропа, к которому меня пригласили на послеобеденный чай. Здесь все обменивались только общепринятыми фразами, а о какой-либо сердечности вообще говорить не приходилось. Не чувствовалось и той простоты, которая в целом царила во всей главной ставке. Сам министр восседал на высоком стуле, напоминавшем трон, тогда как посетителей усаживали на низкие и неудобные кресла. Обслуживал гостей адъютант в чине офицера, который все время должен был стоять поблизости от своего хозяина. Единственное, что меня порадовало, так это то, что в этом временном жилище министра иностранных дел не было запрета на курение. И то, что на сигаретах, которыми угощали из золотой табакерки, содержался оттиск «Иоахим фон Риббентроп», ни в коей мере не улучшало их чудесный турецкий аромат.
Министр не очень ориентировался в тонкостях событий, происходивших в Италии. Несмотря на мой интерес, я так и не смог понять, какую именно позицию он занял в отношении того, что произошло там 25 июля[157], и какой именно доклад он сделал фюреру. В целом у меня сложилось твердое убеждение, что фронту от внешней политики Третьего рейха помощи было мало. Видимо почувствовав это, Риббентроп заявил, что решения Касабланкской конференции в 1943 году лишили его возможности проводить какую-либо активную внешнюю политику. Поскольку за моими плечами не было школы настоящего дипломата, я благоразумно промолчал.
В тот день меня принял и Муссолини, которого разместили в здании для гостей, располагавшемся на краю внутреннего охраняемого периметра главной ставки фюрера. Среди всего прочего мы поговорили и о генералах Солетти и Куели, неожиданно появившихся утром 13 сентября в венской гостинице «Империал». Повреждение, которое получил «Аист» при посадке возле станции подвесной канатной дороги в долине, еще в воскресенье удалось устранить. На этом самолете оба генерала и были отправлены сначала в Рим, а оттуда на Не-111 в Вену.
Тогда генерал Солетти после своей роли добровольного, а правильнее сказать, невольного помощника в проведении операции по освобождению дуче, по всей видимости, чувствовал себя очень хорошо и, войдя в эту роль, соответственно и приветствовал Муссолини в Вене. Сам же Муссолини в отношении данного генерала сказал только одно:
— Этот человек после 25 июля, дня моего ареста, не хотел признавать, что знаком со мной. Теперь же он запел совсем иную песню!
А вот генерал Куели, по мнению Муссолини, весьма корректно исполнял свой долг в отношении арестованного дуче, и у него даже было намерение установить контакт между пленником и руководством итальянской полиции безопасности в Крайне[158] и Истрии[159]. При расставании дуче сердечно пригласил меня поскорее навестить его в Италии, и я твердо решил воспользоваться этим приглашением при первой же возможности.
В главной ставке фюрера, естественно, находились и журналисты, а также фотокорреспонденты, которые в отношении меня тиснули в своих газетенках целую кучу разной чепухи. Эту чушь, между прочим, повторяют и сегодня. Лично от меня за это они не услышали слов благодарности, ведь уже тогда большая часть таких повествований являлась не чем иным, как плодом профессиональной фантазии. В любом случае я не был заинтересован в том, чтобы засветиться в глазах широкой общественности.
Однако чтение различных иностранных газет, в том числе английских и американских, меня порадовало. Я был поражен, насколько объективно отображались в прессе союзников подробности нашей операции. Тогда, когда все произошедшее еще было живо в моей памяти, мне не удалось обнаружить каких-либо злобных выпадов в свой адрес и фальсификаций. И это несмотря на то, что боевые действия на фронте продолжались. Напротив, в прессе союзников признавалась уникальность нашей операции и отдавалось должное способу ее осуществления. К числу военных преступников меня отнесли уже значительно позже.
Лично для меня было бы лучше, если бы германская пресса ограничилась только первыми сообщениями и не называла каких-либо имен. Это значительно облегчило бы проведение моих дальнейших операций и избавило бы меня от многих неприятностей.
Многочисленные приглашения на вечеринки или скромные обеды у майора Генерального штаба, или у одного из адъютантов, или времяпрепровождение в офицерской столовой в обществе какой-нибудь секретарши, или милые ужины в кругу офицеров Кейтеля доставляли мне больше удовольствия, чем необходимость находиться у Бормана и Риббентропа, где приходилось следить за каждым своим словом.
Через три дня меня сильно потянуло к своим людям в Италию, и мне удалось добиться разрешения проехать вместе с ними в составе автоколонны вплоть до Инсбрука[160]. Я знал, что такой сюрприз сильно порадует их. Однако сначала требовалось посетить Берлин.
В мое распоряжение выделили самолет из состава эскадрильи курьерской службы фюрера, которым снова оказался Не-111. В Берлине с огромным букетом цветов и другими приятными знаками внимания меня встретила делегация из моей головной части особого назначения. Чувствовалось, что моих людей буквально распирало от гордости, что их командира наградили Рыцарским крестом.
Из Берлина я отправился в Италию, запланировав сделать в Вене короткую остановку на несколько часов. Однако этот полет не доставил мне удовольствия — буквально через полчаса после взлета у машины загорелся левый двигатель, и мы с большим трудом дотянули до небольшого учебного аэродрома.
В маленьком пассажирском самолете, на котором я решил полететь дальше, лопнул топливопровод, что привело к вторичной вынужденной посадке. А вот старый учебный аэроплан «Юнкерс-Вейхе»[161] хоть и оказался довольно капризной машиной, но все же дотянул до Вены. Однако пилот из-за страха перед посадкой на незнакомом аэродроме попытался отказаться там садиться. Только убедительность моих слов и обещание, что в крайнем случае я окажу ему помощь, привели к довольно неуверенной, но все же удачной посадке.
Уважаемый читатель, я — не суеверный человек. Наоборот! Если у меня что-то сразу не получается, то упорно стараюсь повторять действие до тех пор, пока не добьюсь удачного завершения задуманного!
Дома наряду с многочисленными сердечными поздравлениями и небольшими знаками внимания в почте обнаружилось и несколько писем угрожающего содержания. Похоже, что моей бедной жене пришлось вкусить и не столь приятную обратную сторону, которую несет с собой популярность.
На следующий день выделенный мне новый Не-111 благополучно доставил меня в Рим. За время моего отсутствия в Италию прибыло достаточное количество немецких войск, которые во всей стране разоружили враждебно настроенных солдат Бадольо. Теперь можно было не опасаться угрозы перехода Италии на сторону союзников, как это имело место в первые дни после 8 сентября. Италия, за исключением плацдармов союзников, действительно прочно находилась в немецких руках, и о выполнении провозглашенных ею деклараций не было и речи.
По моем возвращении во Фраскати меня поджидал весьма приятный сюрприз. Ко мне на прием напросился некий пожилой, но еще очень подвижный маленький итальянец, который передал мне от Муссолини за его спасение итальянский орден Ста мушкетеров. Само название награды говорило о том, что ее могли вручать до ста раз. Это была крепившаяся на черной ленте серебряная медаль с изображением черепа, на обратной стороне которой виднелась выгравированная подпись Муссолини. А еще через несколько дней мне доставили почетный кортик народного ополчения. Однако потом, уже после поражения Германии, обе эти награды бесследно исчезли — их у меня попросту украли.
Тогда до меня дошли и другие новости, которые отчасти порадовали, а отчасти раздосадовали. Я узнал, что к нам направляются люди из пропагандистской роты для того, чтобы запоздало заснять на пленку момент высадки десанта на Гран-Сассо. К сожалению, мне не удалось добиться, чтобы результаты этой съемки не стали демонстрироваться в «Вохеншау».
С некоторой печалью, но в то же время и с удовлетворением я воспринял и другую новость — 12 сентября в те самые минуты, когда мы летели в Абруццо, германское командование в Италии отдало приказ об оставлении Сардинии. Одновременно войскам предписывалось любой ценой освободить якобы находившегося под арестом в Ла-Маддалене Муссолини и забрать его с собой. Все же моя маленькая разведывательная служба работала быстрее, а наше с генералом Штудентом строжайшее распоряжение о сохранении тайны в отношении операции было выполнено безукоризненно — ни одной инстанции пронюхать о ней ничего не удалось.
Я организовал для своих людей небольшой праздник и в торжественной обстановке вручил им заслуженные награды. Мое сообщение о поездке на родину на машинах было встречено с большим ликованием, и мне еще больше захотелось показать им красоты Италии и Южного Тироля.
Возле озера Гарда[162] штаб 1-го танкового корпуса СС, которым командовал мой давний знакомый генерал Пауль Хауссер, не захотел пропустить нас дальше без щедрой дружеской вечеринки, на которой нам подарили шикарный спортивный кабриолет. Эту машину мне пришлось записать как служебную.
Мой рассказ об операции в Италии был бы неполным, если не сказать о судьбе десяти солдат, раненных во время ее проведения. Все они выжили и скоро поправились.
Однако в общественных кругах после первого сообщения по радио, к сожалению, распространилось мнение, что наша операция стоила больших жертв. В небольшом радиоинтервью в конце октября 1943 года мы с Карлом Радлом попытались развеять этот миф. К сожалению, как это обычно бывает, первое сообщение было услышано, и ему поверили. Все же последующие уточнения оказались бесполезными и попросту развеялись в эфире. В те дни и недели ко мне стали приходить многочисленные денежные пожертвования для «жертв операции по спасению дуче». Они собирались в канцелярии моей части, а потом распределялись среди раненых парашютистов люфтваффе и моих людей.
Вернувшись во Фриденталь, я хотел вначале предоставить своим людям короткий отпуск. День начала отпусков, 26 сентября 1943 года, ознаменовался моим первым и последним публичным выступлением. Дело в том, что для всех участников операции по спасению дуче я раздобыл пригласительные билеты в Берлинский дворец спорта на праздник урожая. Мне же было поручено принять участие в церемонии награждения трех отличившихся тружеников тыла Рыцарским крестом к Кресту за военные заслуги. Это была обычная практика вручения данной высокой награды за трудовые отличия кавалерами ордена Рыцарского креста из числа военнослужащих вермахта, символизировавшая нерушимое единство фронта и тыла.
Доктор Геббельс, которому по случаю этой церемонии меня представили, выступил с речью, открыв праздник, а потом совершенно неожиданно предоставил слово мне. Это было незабываемое чувство, когда я услышал вызванные речью другого оратора ликующие возгласы, предназначавшиеся всем участникам операции по спасению дуче. Конечно, к этим непередаваемым ощущениям добавлялось и чувство гордости, гордости за то, что я смог оказаться полезным своему народу. Ведь я искренне считал, что наша операция внесла посильный вклад в победу немецкого оружия, в которую все мы тогда верили. В то же время меня смущала необходимость играть роль стоявшего над толпой пассивного объекта для созерцания, для чего я совсем не подходил. В будущем я всеми правдами и неправдами старался избегать своего представления «общественности» подобным образом. Гаулейтер Вены Бальдур фон Ширах даже разозлился на меня за то, что ему так и не удалось вытащить мою скромную персону для участия в каком-нибудь собрании в моем родном городе.
Гораздо больше радовали меня тысячи писем, приходивших как из самой Германии, так и из-за границы, от фронтовиков и простых рабочих. Причем во всех письмах с русского фронта содержалось заверение о том, что после специального выпуска радионовостей о проведенной нами операции царившее ранее в войсках унылое настроение, вызванное «планомерным выравниванием линии фронта», резко улучшилось. У многих солдат, сражавшихся в бесконечных далях и болотах России, вновь возникла слабая надежда на благополучный исход войны. И это осознание того, что мы придали немного уверенности нашим боевым товарищам на фронте, было значительно важнее, чем любое публичное признание.
После митинга доктор Геббельс пригласил меня к себе на обед. Его вилла находилась поблизости от Бранденбургских ворот на улице Герман-Геринг-штрассе в комплексе зданий, относившихся к рейхсканцелярии. Там меня представили фрау Геббельс и статс-секретарю министерства пропаганды Вернеру Науману. Мне выпала честь подвести супругу Геббельса к столу, в то время как сам хозяин дома предложил руку своей старшей дочери. Большой стол в столовой был накрыт без всяких изысков, но с большим вкусом. Обслуживал нас слуга в ливрее. При этом меня поразила простота еды — было как раз айнтопф-воскресенье[163]. Поэтому даже в таком доме на стол подали именно айнтопф, а к нему слабоалкогольное пиво.
После обеда в салоне хозяйки нас угостили кофе. К моей радости, это был настоящий молотый кофе, за чашечкой которого завязалась оживленная беседа, в которой деятельное участие приняла и фрау Геббельс.
В оставшееся время войны мне довелось видеть доктора Геббельса всего три или четыре раза. Он не скупился на злые слова, когда критиковал события и поступки людей внутри Германии или партии. И каждый раз меня поражала его открытость по отношению ко мне. Немецкий министр пропаганды часто резко высказывался в отношении своего коллеги Геринга. Конечно, все мы были склонны награждать главнокомандующего германскими военно-воздушными силами нелестными эпитетами — ведь он многое обещал, но мало что сделал. Однако таких слов, которыми награждал его Геббельс, говоря о тяге рейхсмаршала к роскоши и великолепию, от кого-либо другого мне слышать не доводилось.
Чтобы понять истинную натуру доктора Йозефа Геббельса, необходимо было понаблюдать за его поведением в узком кругу. В разговоре благодаря своему острому уму он мгновенно ухватывал самую суть. Однако, как кажется мне сегодня, он все же совершил ошибку, считая, что противник будет извлекать такие же выводы, как и он сам.
Так, уже в 1945 году, когда Германия потеряла Силезию с ее промышленным потенциалом, что явилось для рейха тяжелым, если не смертельным, ударом, Геббельс считал, что Англия воспримет это как общую европейскую неудачу. Ведь если смотреть в будущее, то для Британской империи не могло быть безразличным то обстоятельство, что силезский экономический потенциал станет эксплуатироваться исключительно только Востоком. Поэтому Геббельс верил, что подобная экономическая и военная потеря Германии может открыть новые политические возможности в отношении Англии.
Осенью 1944 года я ехал в курьерском поезде с одним один обер-лейтенантом вермахта, адъютантом Геббельса, который поведал мне небольшую, но весьма показательную историю.
На одном совместном приеме военных и политических деятелей некий высокопоставленный генерал задал Геббельсу ироничный вопрос:
— Как вы, господин министр, намереваетесь выиграть вашу войну?
Министр пропаганды, с присущим ему народным юмором, который придавал его языку особую остроту, ответил молниеносно:
— Это неправильно, господин генерал, что вы задаете подобный вопрос именно мне. Я бы лучше адресовал вопрос вам: «Когда вы, господин генерал, начнете при помощи ваших солдат выигрывать вашу войну?» Лично у меня вызывает большое беспокойство то обстоятельство, что у нас есть такие генералы, которые пребывают в заблуждении, что эта война не их война.
Мое короткое знакомство с доктором Геббельсом привело к тому, что он в дальнейшем стал переправлять мне всю корреспонденцию, отправлявшуюся на номер полевой почты 80000. На этот номер любой немец мог написать свои пожелания или идеи. Для многих неизвестных изобретателей это был единственный путь довести их до соответствующих служб. Я часами, когда позволяло время, просиживал над этими письмами и почерпнул из них много интересных мыслей, а некоторые предложения мною были претворены в жизнь.
Глава 11
Кризис режима Виши[164]. — «Волк лает». — Обер-лейтенант фон Фелькерзам. — 502-й егерский батальон. — Области применения. — Специальное оружие. — Боевые пловцы. — Малые боевые части ВМС. — Одноместная торпеда «Негер»[165]. — Плацдарм Анцио. — Атакующий в малом. — Признаки вторжения. — Непонимание штабного офицера. — Ханна Райч[166]. — Самопожертвование? — Комплектация «Фау-1». — Идея воплощается в жизнь. — Фельдмаршал Мильх[167] говорит «да». — Обхитренная бюрократия. — Одна женщина осмелилась на это. — «Все отлично!» — Слишком поздно. — Шелленберг как наследник Канариса
Совершенствованию структуры своей части особого назначения я смог посвятить не более пяти недель, начиная с середины октября и до конца ноября 1943 года — из главной ставки фюрера пришел приказ срочно выдвинуться в Париж вместе с одной из своих рот и доложить о своем прибытии генералу Обергу[168], высшему руководителю СС и полицейских сил во Франции. Дальнейшие инструкции я должен был получить у него.
Там мне сообщили, что случился очередной кризис правительства Виши. Вполне вероятно, как мне объяснили, маршал Петэн[169], чья резиденция находилась в Южной Франции, связался с генералом де Голлем[170].
— Есть основания полагать, что этот древний маршал Петэн либо добровольно, либо под давлением собирается покинуть французское правительство в изгнании Виши и отправиться в Северную Африку, находящуюся, как известно, в руках союзников, — сказали мне. — Этому следует во что бы то ни стало помешать.
Мне предписывалось предотвратить бегство Петэна и, если того потребует обстановка, перевезти маршала и все его правительство на север в район Парижа. Операция должна была проводиться под придуманным в главной ставке фюрера девизом: «Волк лает».
После определенных усилий для осуществления плана операции я смог-таки выбить в штабе командующего германскими войсками во Франции необходимые подразделения, а именно две роты из состава новой танковой дивизии СС «Хоэнштауфен»[171] и два батальона полиции порядка[172]. Причем за работу последних ответственным был назначен целый полицейский генерал. Открыто действовать предписывалось именно этим батальонам, свою же роту и две роты регулярных войск в качестве резерва готовности я расположил севернее Виши[173], на небольшом аэродроме.
Полицейские батальоны охватили широким кольцом город и начали для маскировки осуществлять усиленный дорожный контроль. Во время проведения непосредственно самой операции им надлежало герметически закрыть Виши, чтобы никто, по крайней мере на автомобиле, не смог покинуть этот населенный пункт.
Трем же войсковым ротам следовало перекрыть городские улицы, переходившие в междугородные шоссе, а в случае необходимости окружить правительственный квартал. При этом нам могли противостоять более ста вооруженных человек из французской национальной гвардии.
Мы с обер-лейтенантом фон Фелькерзамом, будущим офицером оперативного управления моего штаба, расквартировались в самом городе, чтобы изучить местные особенности и на момент начала операции находиться как можно ближе к разыгрывающимся событиям. Пока ясно было только одно — ждать и еще раз ждать! Из Парижа неоднократно передавали приказ о переводе нас в высшую степень боевой готовности, но каждый раз вслед за этим поступало распоряжение об отмене.
В те дни мне окончательно стало ясно, что в различных немецких инстанциях в отношении понимания ситуации царила полная неразбериха. Чем с большим количеством людей я разговаривал, тем больше мнений о развитии положения выслушивал. Советник посольства из ведомства министерства иностранных дел давал одну оценку, а ответственный руководитель службы безопасности и офицер абвера — совершенно другую. Офицеры же штаба командования германскими войсками во Франции или начальник штаба полиции порядка вообще излагали совсем иную точку зрения.
Постепенно меня стало раздражать такое количество оценок ситуации, ведь операция могла начаться на основании ложной информации! Однако на этот раз у меня не было возможности самому оценивать поступающие сведения, не говоря уже о создании собственной разведывательной службы. Поэтому я несказанно обрадовался, когда из главной ставки фюрера пришел приказ о немедленном прекращении подготовки операции и об отводе подразделений от Виши. На этот раз «волк не залаял».
На рождественские праздники в декабре 1943 года, во второй раз за все время войны, я взял двухнедельный отпуск. Общение с моей маленькой дочкой принесло мне много радости, и мы даже ненадолго забыли о суровой действительности тех дней. Верховное командование военно-морских сил Германии на восемь дней пригласило меня в дом отдыха для немецких подводников Цюрс-ам-Арльберг. Это было незабываемое время в окружении искрящихся от снега склонов гор!
Между тем во Фридентале началась подготовка к началу настоящей бумажной войны, которую вскоре после возвращения мне пришлось развязать с чиновниками родного Главного управления войск СС. Дело в том, что в Германии каждая воинская часть должна была иметь утвержденные штаты, а также табель имущества и материальной части военного времени, представлявшие собой толстые тетради для каждой роты.
Мы с моим славным гауптманом фон Фелькерзамом, который к тому времени получил повышение в звании, чуть было голову себе не сломали, как разработать и утвердить эти документы применительно к специфике части особого назначения. В нашем верноподданническом понимании нам казалось, что выделение необходимого оснащения и вооружения, а также обеспечение личным составом должно проходить легко и быстро.
После длительного ожидания и многократных переговоров, во время которых приходилось торговаться буквально за каждого человека, пистолет или автомобиль, наконец требуемые бумаги были подписаны, и нам сказали, что их можно забрать. Полные радужных надежд, мы ожидали, что наш тяжелый труд себя оправдает и нам дадут то, что требовалось.
Штаты, а также табель имущества и материальной части военного времени были утверждены и создание 502-го егерского батальона СС[174] под общим руководством штурмбаннфюрера резервных войск СС Отто Скорцени, то есть меня, одобрено. Однако нас с Фелькерзамом и всех моих сотрудников ждало жестокое разочарование. Последний абзац приказа, который врезался мне в память, нас глубоко потряс, и мы не знали, надо ли нам смеяться или рыдать навзрыд от столь неудачной шутки. В нем говорилось: «Главное оперативное управление СС настоятельно обращает внимание на то, что формированию не стоит рассчитывать ни на выделение техники, ни на заполнение вакансий личным составом».
Таким образом, в наших руках оказалась только красивая бумажка, и ничего более. Когда после досады, вызванной подобным решением, к нам вернулась способность трезво размышлять, наш старый боевой клич «Сделаем легко!» помог отнестись к возникшей ситуации с юмором. Мы решили при помощи хитрости обойти этот нелепый заключительный абзац, бесстыдно пользуясь теми арсеналами, к которым был возможен доступ, и вербуя людей во всех частях вермахта. В результате позднее это привело к тому, что в моих частях оказались представленными все виды войск, а именно: сухопутные силы, ВМС, люфтваффе и войска СС, представители которых отлично уживались друг с другом.
Довольно интересным образом я познакомился со своим будущим начальником оперативного отдела Вернером Хунке, который в то время еще был в чине обер-лейтенанта. Группа 6-го управления РСХА, занимавшаяся разведывательной работой на Востоке, подыскивала делопроизводителя со знанием китайского языка. Каким-то непонятным и до сих пор неясным образом эта группа узнала, что в одной финской дивизии имелся человек с требуемыми качествами.
После долгих переговоров и длительной бумажной переписки этого специалиста со знанием китайского, а это был не кто иной, как Вернер Хунке, все же перевели в распоряжение 6-го управления, с тем чтобы он начал заниматься вопросами политической разведки. К великому удивлению всех заинтересованных лиц, сразу же выяснилось, что, во-первых, Хунке действительно родился в Китае, но покинул землю мандаринов[175] в возрасте полутора лет, а во-вторых, у него не было ни малейшего желания работать в разведке. Я с ним познакомился, и этот человек мне очень понравился. В тот же день его перевели в мой 502-й егерский батальон СС, и у нас он получил вполне звучавшее по-китайски прозвище Пинг-фу.
В феврале 1944 года к моим обязанностям добавился новый круг задач, и мне пришлось заниматься тем, что принято называть «специальным оружием». После того как часть Италии под руководством Муссолини продолжила сражаться на нашей стороне, контакты между немецкими и итальянскими вооруженными силами стали теснее.
Благодаря германскому абверу нам удалось ознакомиться с деятельностью одного из лучших итальянских специальных подразделений — 10-й флотилией MAC[176], подчинявшейся тогда князю Боргезе[177], члену старейшего итальянского дворянского рода.
Эта флотилия разработала и довела до совершенства многие образцы так называемого малого вооружения, изобретенного для действий на море. Среди прочих образцов следует упомянуть небольшой быстроходный катер, напичканный взрывчаткой и управлявшийся всего лишь одним человеком, который подводил его к цели и катапультировался в самый последний момент. Кроме того, у итальянцев были в ходу специальные двухместные торпеды, направлявшиеся двумя водолазами на вражеские суда. Именно с помощью этой хитроумной техники лихим итальянским бойцам из специальных команд удалось осуществить ставшие далеко известными операции против кораблей противника в Александрийском и Гибралтарском портах.
А еще в 10-й флотилии имелся отряд боевых пловцов, которые незаметно подплывали под водой к неприятельским кораблям и возле бортика, предохраняющего предметы от падения при качке, прикрепляли к борту специальные взрывные устройства. Эта техника была модернизирована благодаря изобретению двух австрийских специалистов — фельдфебелей Хаса и N., о котором говорилось еще до войны.
Будучи еще студентами, они прикрепили к ногам каучуковые ласты, благодаря чему приобрели очень большую подвижность. Им тогда удалось сделать великолепные подводные снимки. Такие ласты позволяли развивать в воде значительную скорость и экономить силы. Один из немецких офицеров, гауптман Г. из отдела абвер-2[178], вооружившись подобными ластами, в одиночку отправил ко дну больше пятидесяти тысяч тонн неприятельских грузов.
Как-то раз мне приказали прибыть к вице-адмиралу Хейе[179]. Меня поприветствовал весьма подвижный человек небольшого роста, которому на вид было лет пятьдесят, командовавший недавно созданным спецподразделением военно-морских сил — так называемыми частями малых кораблей. По приказу Гиммлера часть моих людей из состава егерского батальона должна была пройти в них специальную подготовку.
Мысли, высказанные вице-адмиралом, с которым я в скором времени установил весьма тесные рабочие и доверительные отношения, взволновали меня чрезвычайно. По его мнению, германский военно-морской флот, за исключением соединений подводных лодок, минных тральщиков и торпедных катеров, уже не обладал возможностями вести успешные боевые действия на море в составе больших флотских объединений. Военно-морские силы, не считая проведения важных транспортных мероприятий по снабжению войск, заняли пассивную и выжидательную позицию. Между тем на флоте имелось много офицеров и матросов, желавших проявить себя в настоящем деле независимо от вида операций.
Дабы драгоценная энергия этих людей не пропала даром, вице-адмирал и его коллеги, опираясь на итальянский опыт, в считаные месяцы разработали новые и очень эффективные виды «специального оружия». При этом основополагающим являлся принцип сохранения и переконструирования уже существующего. Причем делать необходимо было все очень быстро, поскольку все мы понимали, что времени на раскачивание у нас нет — война приближалась к концу. Добровольцев в Германии, желавших принимать участие в очевидно опасных и зачастую осуществлявшихся в одиночку операциях, хватало. Все они желали внести свой вклад в победу немецкого оружия. Разве для лихих парней не было заманчивым выйти победителем в единоборстве с вражеским кораблем-колоссом?
Исходя из этого немецкие инженеры-конструкторы ВМФ предложили проект модернизации обыкновенных торпед. Суть его сводилась к тому, чтобы на месте удаленного взрывного устройства в носу торпеды установить прозрачный герметичный купол с вмонтированными в него рычагами управления, а к ней снизу прикрепить еще одну торпеду с усиленным зарядом. В результате на свет появилась одноместная торпеда под кодовым названием «Негер», дальности которой хватало на десять морских миль.
Мы прекрасно понимали, что первые одноместные торпеды были примитивны и несовершенны. Однако наши ожидания на срабатывание эффекта внезапности полностью оправдались. Между тем совершенствование конструкции продолжалось, и уже через несколько недель появились вполне пригодные для действий под водой одноместные торпеды, имевшие схожесть с маленькими подводными лодками.
Уже первое применение данного нового оружия, в котором приняли участие и люди из моего батальона, закончилось полным успехом. Ранним утром, предвещавшим прекрасный летний день 1944 года, двадцать человек из состава специальных боевых мини-команд спустили на воду свои небольшие машины к северу от плацдарма союзников в Анцио. Они незаметно подошли к своим целям — военным и транспортным кораблям противника, бросившим якорь в бухте, и потянули рычаги, освободив нижние торпеды. Не прошло и нескольких секунд, как раздались мощные взрывы, нарушив покой скопившихся вражеских судов.
Результаты атаки говорили сами за себя: один из крейсеров получил огромную пробоину и вышел из строя, из эскадренных миноносцев один затонул, а другой был сильно поврежден. Кроме того, на дно пошли транспортники общим водоизмещением более шести тысяч тонн. Таков был итог вылазки горстки отважных солдат. Семь человек вернулись сразу же на своих торпедах, а еще шестеро высадились на берег на территории неприятельского плацдарма. Ночью им удалось просочиться через позиции противника и благополучно добраться до своих. Однако семь храбрецов нашли могилу на дне моря.
Впоследствии были организованы и другие, правда не столь масштабные, удачные операции в Средиземном море и в проливе Ла-Манш. Впрочем, противник довольно скоро понял, что появление маленьких стеклянных куполов одноместных торпед означает опасность. Как только наблюдатели замечали их, корабли открывали шквальный огонь из всех видов оружия. Тем не менее несколько раз удалось удачно применить следующую хитрость.
Ночью при благоприятном ветре и хорошем течении в море выводились пустые герметически запаянные стеклянные поплавки. В скором времени неприятель обрушивал на эти безобидные ложные цели шквальный огонь, а тем временем опасные управляемые торпеды, не привлекая внимания наблюдателей, спокойно приближались к кораблям совсем с другой стороны.
Выживших участников операции в Анцио вызвали в ставку гроссадмирала[180] Дёница для вручения заслуженных наград. На этот небольшой праздник гроссадмирал пригласил и лично меня, чтобы отдать должное всему личному составу моего батальона. Впоследствии все присутствовавшие на нем военнослужащие ВМФ побывали с ответным визитом у меня во Фридентале. Это было трогательное до слез братание, которое возможно только у настоящих старых морских волков.
В этой книге я не ставлю перед собой задачи описать все виды специального оружия и случаи его применения малыми боевыми частями военно-морских сил. Мне хочется только подчеркнуть, что я, как человек с техническим образованием, восхищался этими свежими идеями и в развитии данного вида вооружений видел возможность хотя бы частично пробить брешь в той пассивности, которая овладела моряками в оборонительных боях. И мне кажется, что один только факт попытки немецких солдат изыскать столь неожиданные способы проведения операций на всех фронтах вызвал у союзников большую обеспокоенность. Ведь если противник при ведении чисто оборонительных боев находит силы и твердость для осуществления наступательных действий, то для противоположной стороны это является знаком, что его воля не сломлена. А кроме того, в подобной ситуации, как наша, происходит связывание определенных сил неприятеля, и они уже не могут быть использованы для решения других задач.
Так называемые «взрывные катера», которые представляли собой существенно модернизированные итальянские аналоги, получили кодовое наименование «Боб». Разработанная незадолго до этого система дистанционного управления для самоходной мины «Голиаф»[181] была применена и в нашем случае, что позволило управлять одновременно двумя беспилотными «взрывными катерами» с одной лодки с экипажем. Великолепным техническим решением являлось также то, что непосредственно у цели наши боеголовки немного оседали и взрывались уже на определенной глубине, что многократно повышало эффективность взрывного воздействия — вражеские суда получали такую пробоину, что неизбежно шли ко дну. С помощью этих «Бобов» был проведен ряд успешных, но неизвестных широкой общественности операций в Средиземном море и на отмелях Нормандии, которые были местом высадки союзного десанта[182].
Другим видом «специального оружия» являлись миниподлодки, которые до нас применяли японцы и один раз даже англичане в Норвегии. Однако мы разработали множество конструкций таких лодок и с их помощью вплоть до окончания войны провели немало небольших спецопераций, правда всегда с большими потерями. Совершенствование мини-подлодок продолжалось до самого последнего дня войны.
Уже с начала весны 1944 года все мы начали гадать, где и когда союзниками с решающими целями будет выброшен большой десант в Западной Европе. В том, что это неизбежно произойдет, у нас сомнений не было. Я сам в мае 1944 года ознакомился с аэрофотосъемкой английских портов на юго-востоке Великобритании и, как и все, безуспешно ломал голову, пытаясь разгадать назначение появившихся на снимках длинных рядов небольших узких прямоугольников, располагавшихся друг возле друга. Только потом выяснилось, что это были перевозимые специальные портовые сооружения, подготовленные для будущего вторжения на материк.
Было вполне логично, что мой штаб занялся размышлениями над тем, каким образом мы сможем внести свой вклад в нарушение снабжения неприятеля во время этого вторжения. Для начала я обратился с просьбой к адмиралу Хейе разъяснить мне взгляды Верховного командования кригсмарине[183] на то, где именно с чисто профессиональной точки зрения военно-морских сил следует ожидать высадки союзников, и получил от него список, в котором перечислялось десять мест береговой полосы. В этом списке под номером один значился и полуостров Котантен с портовым городом Шербур на берегу пролива Ла-Манш. Будущее показало, что прогноз был верным. Самое главное заключалось в том, что в этом документе излагались весьма ценные сведения обо всех пляжах и отмелях, подходивших для выброски десанта.
По моему заданию гауптман фон Фелькерзам в том же порядке, что и в списке, начал разрабатывать программу проведения быстро осуществимых операций. Для начала мы предложили немедленно направить в наиболее опасные места береговой полосы спецподразделения малых боевых частей и заранее подготовить к уничтожению места, где в будущем возможно расположение командных пунктов и центров связи противника. При этом речь прежде всего шла о минировании территории зарядами новейшей системы, которые в нужное время стали бы взрываться по командам, переданным по радио с наших самолетов.
Согласно действовавшему тогда предписанию этот план мы обязаны были направить на утверждение в командование вермахта «Запад». После неоднократных напоминаний от этой «очень занятой инстанции» пришел ответ, что в принципе наш план представляет интерес и вполне осуществим. Однако затем шло огромное но, которое напрочь перечеркивало все то, что мы предложили.
В принципе я никогда не считал, что наши планы были способны сорвать высадку союзников, но все же возникает вполне закономерный вопрос: а не могло ли подобное произойти и с другими не менее важными предложениями, которые тоже были похоронены служебными инстанциями с таким же обоснованием? Ведь мы понимали, что ожидаемое вторжение союзников могло привести к окончательному перелому в войне и решению, таким образом, будущей судьбы Германии.
Что толку было потом от отчаянной храбрости матросов адмирала Хейе во время все-таки организованной в тяжелейших условиях спецоперации в Гаврском порту, когда время оказалось упущенным? Кому нужны были уже те самоотверженные жертвы героев, так и оставшихся неизвестными, когда люди, чтобы подобраться к врагу, сознательно превышали дальность действия своего оружия, прекрасно понимая, что в таком случае возвращение будет невозможно и их ждет неминуемая гибель?
Исходя из интересов Германии немецкие конструкторы старались разработать новое «специальное оружие» и применительно к люфтваффе. Подобные исследования велись, в частности, в 200-й бомбардировочной эскадре[184].
В этой связи нельзя не сказать о группе летчиков данной эскадры, лидером у которой являлся обер-лейтенант Ланге.
В своем стремлении нанести противнику максимальный ущерб они были даже готовы превратить свои самолеты в управляемые бомбы, направляемые на важные цели, и прежде всего на корабли противника.
Многие считали этих людей сумасшедшими, ведь разве может нормальному человеку прийти в голову идея добровольно пойти на смерть? Разве такое самопожертвование во имя родины могло сочетаться с самой сутью немца, как носителя европейских ценностей? Честно говоря, когда мне стали известны планы этих летчиков, я думал точно так же. Тогда же, а это было весной 1944 года, до меня дошло известие, что и Адольф Гитлер не был согласен с подобными намерениями. Он считал, что такая готовность принести себя в жертву не соответствует характеру белой расы и немецкому менталитету, подчеркивая, что смертельные полеты японских камикадзе не достойны подражания.
Однако я слышал и совсем иное мнение, высказанное широко известной тогда немецкой летчицей Ханной Райч. Мне от нее пришло приглашение о встрече, и я охотно воспользовался им, горя желанием познакомиться с этой женщиной, которая не менее храбро, чем мужчины, уже много лет занималась испытаниями новых типов самолетов. Особенно импонировало то обстоятельство, что она уже давно испытывала наиболее быстроходные и самые современные реактивные истребители. Ее не сломила даже катастрофа, произошедшая за два года до описываемых событий.
Как бы то ни было, в один прекрасный полдень я оказался в уютно обставленной гостиной в доме Ханны Райч. Навстречу мне вышла невысокая и довольно хрупкая женщина, на лице которой еще виднелись следы от перенесенной катастрофы. Ее большие, живые и выразительные голубые глаза критически оглядели меня.
Как человек общительный, о своих мыслях она говорила совершенно открыто, не только всем сердцем поощряя стремления Ланге, но и изъявляя готовность лично участвовать в подобных операциях.
— Мы не сумасшедшие, которые бессмысленно ставят свою жизнь на карту, — с присущим ей темпераментом заявила Ханна. — Мы — немцы, пламенно любящие свою родину и ценящие свою собственную персону гораздо меньше, чем благополучие и счастье всего народа. Г[оэтому мы готовы идти на смерть, если этого требуют интересы отчизны!
Только тогда я понял смысл этого идеализма, ведь каждый солдат на фронте ежедневно и ежеминутно рискует своей жизнью. Причем делает он это сознательно, а не оттого, что шансов выжить у него не осталось.
Таким образом, эти люди, о которых речь шла выше, не являлись личностями, разочаровавшимися в жизни. Нет — это были идеалисты, готовые в той большой беде, в которой оказалась родина, пожертвовать собой ради ее блага. Я понял наконец смысл слов, сказанных Ханной Райч, этой горячо любящей Германию и борющейся за нее женщины. Она, так же как и обер-лейтенант Ланге со многими своими боевыми товарищами, без всякой агитации и мыслей о вознаграждении или славе целиком и полностью отдала себя этой идее.
И все же я считал, что в дальнейшее совершенствование данного вида оружия следует внести некоторые изменения. Конечно, нельзя было исключить, что под давлением обстоятельств нам придется избрать для себя путь, предложенный Ланге, но тем не менее следовало искать и такой вариант, который оставлял бы пилоту пусть небольшой, но все же реальный шанс остаться в живых. Позднее мне довелось убедиться в своей правоте и увидеть, что желание принять участие в смертельно опасной операции у многих добровольцев только возрастает, если у них остается хотя бы один шанс из ста на спасение. И это относилось не только к спецоперациям. На фронте также имелись сотни и даже тысячи таких бойцов-смертников.
Однако совершенствование вооружения, осуществлявшееся в 200-й бомбардировочной эскадре, которой тогда командовал полковник Хайгл, проходило не столь успешно, как того ожидали заинтересованные стороны. Преследуя свои особые цели, я внимательно следил за всеми стадиями этой работы. Мне хотелось дополнить успешные действия морских малых боевых частей одновременными атаками «особых подразделений» люфтваффе, что заметно повысило бы эффективность проводимых спецопераций. Ведь это, с одной стороны, привело бы к распылению оборонительных сил противника, а с другой — заметно снизило бы наши потери.
Основная идея, заключавшаяся в переделке уже имеющегося вооружения и применявшаяся в военно-морских силах, применительно к люфтваффе первоначально казалась неосуществимой.
И вот во время случайного посещения Пенемюнде[185] мне в голову пришла одна интересная мысль. Вместе с одним полковником люфтваффе на пассажирском варианте самолета «Бюккер-Юнгманн»[186] я отправился на остров Узедом в Балтийском море. Мне хотелось посмотреть пробные старты «Фау-1»[187] и других видов секретного оружия. У меня нет уверенности в том, что мне тогда показали все, что было создано, но и увиденного вполне хватило. Здесь действительно разрабатывались новые виды «оружия возмездия».
Я внимательно рассмотрел «Фау-1» и, наблюдая за ее пуском со стартовой площадки, подумал: а что, если эту ракету сделать пилотируемой наподобие одноместной морской торпеды? По моей просьбе мне разрешили быстро просмотреть характеристики, касавшиеся общего веса ракеты, веса топлива и боезаряда, максимальной скорости, дальности полета и системы управления. К сожалению, у меня не было соответствующего образования, и поэтому приходилось прислушиваться к мнению других. Требовалось как можно скорее ликвидировать пробелы в своих знаниях.
Обо всем этом я и думал во время обратного полета на самолете, имевшего, к моей особой радости, систему двойного управления. Мы сели в Берлине на летном поле, принадлежавшем концерну «Хейнкель», где меня поджидал Радл.
— Сегодня нас ожидает бессонная ночь! Придется потрудиться! — еще издали крикнул я ему.
Нам удалось пригласить нужных людей и уже той же ночью провести совещание в гостевом доме 6-го управления РСХА возле озера Ванзее. На нем присутствовали конструктор «Фау-1» Л., инженер фирмы «Физелер» Ф., командир 200-й бомбардировочной эскадры, инженер-капитан К. из имперского министерства авиации и еще ряд специалистов по летному делу. Мне удалось воодушевить названных господ своей идеей, и вскоре в комнате, где проходило совещание, можно было наблюдать весьма странную картину — на полу валялись испещренные различными записями листки бумаги, а люди в форме, тоже лежа на полу, наносили на очередные бумажные листы все новые и новые чертежи. Никто не смотрел на часы, и мы просто забыли о времени. Наконец к пяти часам утра все было готово. Специалисты заверили меня, что моя идея превратить «Фау-1» в пилотируемую ракету вполне осуществима. К тому же она потребует не так уж и много затрат по времени и материалу.
Когда мы с бокалами вина уселись за столом, чтобы выпить за успех нашей работы, лица присутствовавших неожиданно стали серьезными и улыбки исчезли. От них я и узнал, что нам придется столкнуться с большими бюрократическими препонами в министерстве авиации, отвечавшем за эти вопросы. Устранить их являлось первоочередной и самой трудной задачей на пути претворения задуманного в жизнь.
Первый и, как я тогда думал, самый главный подводный камень я легко обошел при помощи небольшого трюка. Считалось, что сначала требовалось получить разрешение фельдмаршала Мильха, с которым мы не были лично знакомы. В его секретариате я попросил записать меня к нему на короткий прием «по очень важному и срочному делу», и мне выделили время на следующий день. Фельдмаршал принял меня в своем роскошном кабинете, источая саму любезность.
«У меня все получится», — подумал я, стремясь придать важность своим первым словам, держа в руках плоды нашего ночного бдения.
Листы с расчетами и чертежи выглядели весьма впечатляюще, и я сразу решил взять быка за рога:
— Господин фельдмаршал, я прибыл к вам с проектом, о котором известно лично фюреру. Он внимательно отслеживает ход его реализации. Разрешите коротко изложить его суть!
Сказать по правде, это заявление насчет Адольфа Гитлера было самым обыкновенным враньем, и мне требовалось быть начеку, чтобы себя не выдать. Но моя уловка сработала безотказно — я получил принципиальное одобрение и заверение, что в самые ближайшие дни с предложением ознакомится соответствующая компетентная комиссия. В случае ее положительного отзыва проект немедленно будет рассмотрен на заседании ведущих руководителей министерства, которое и примет окончательное решение.
В лице главного инженера Херманна я также нашел большую поддержку. После основательного доклада мне удалось убедить его в возможности осуществления проекта, и на следующий день мы вместе отправились на заседание комиссии. К моему великому удивлению, председательствовал на этой комиссии, рассматривавшей авиационные вопросы, некий седовласый адмирал с типичной бородкой моряка, которую он во время своей пространной речи периодически теребил руками. Начал адмирал издалека, чуть ли не с создания Ноева ковчега, через два часа едва добрался до рассказа о решающих морских сражениях времен Первой мировой войны и только после этого, доведя наше терпение чуть ли не до белого каления, наконец-то приступил к рассмотрению самого вопроса. Результаты голосования оказались неутешительными — всего несколько голосов за при большинстве против.
Пришлось срочно принимать меры. Ссылаясь на выводы инженер-капитана К., которому за короткий срок удалось изготовить полный комплект чертежей и необходимых расчетов, одобренных главным инженером Херманном, а также на придуманное мною предупреждение о том, что еще в тот же день мне надлежит доложить о ходе продвижения вопроса самому фюреру, я все-таки добился желаемого результата. Теперь оставалось только дождаться окончательного решения, которое должно было быть принято на следующий день на заседании ведущих руководителей министерства под председательством самого фельдмаршала Мильха.
Зал заседаний министерства авиации, где рассматривался мой вопрос, поражал своей монументальностью. Сперва, как заведено, высказались те, кто был за и против, а затем руководители принялись критически обсуждать персонально перечисленных в проекте инженеров и техников, которых следовало привлечь. Однако к данному вопросу я подготовился заранее и смог по каждой кандидатуре предоставить необходимую информацию.
Еще во время подготовки к этому заседанию меня буквально потрясло то, что я узнал. Тогда, летом 1944 года, на пике войны, при становившихся все интенсивнее воздушных налетах авиации союзников большая часть мощностей авиационной промышленности Германии попросту простаивала. В результате различных программных переустановок предприятия практически не работали.
Это, как бы между прочим, я и сказал и, не желая делать конкретные упреки в чей-либо адрес, только подчеркнул, что необходимые для осуществления проекта три инженера, пятнадцать квалифицированных мастеров и рабочих могут быть легко найдены в фирме «Хеншель».
— На территории данной фирмы есть и подходящее для наших целей свободное производственное помещение, — заявил я.
Тем самым в обсуждении была поставлена точка, и после этого последнего аргумента проект в основном одобрили.
В последовавшем после этого обсуждении, касавшемся уже чисто технической стороны, меня спросили, сколько, по моему мнению, потребуется времени до осуществления первого испытания пилотируемой «Фау-1». На основе выкладок, которые мне еще раньше предоставили соответствующие специалисты, я не заставил присутствовавших ждать с ответом:
— Первые испытания, по моим расчетам, должны пройти примерно через четыре недели.
Такое мое заверение вызвало почти у всех присутствовавших лишь сочувственную ухмылку.
— Мой дорогой Скорцени, ваш оптимизм заслуживает уважения, — выражая мнение большинства, заявил один из генералов люфтваффе. — Однако поверьте опыту профессионалов! Пройдет не меньше трех, а то и четырех месяцев, пока дело дойдет до первых испытаний!
Однако это колючее и снисходительное замечание не убавило моего энтузиазма, а, наоборот, только подстегнуло мои технические амбиции.
«Погодите! Вот увидите — мы уложимся и раньше!» — подумал я тогда.
Обсудив с инженерами вопросы организации нашего небольшого производства, я пришел к выводу, что следует создать самостоятельное предприятие. Кроме того, для соблюдения строжайшей секретности и ускорения сроков работ всем работникам пришлось запретить всякое общение с внешним миром.
Наряду с большим производственным помещением и двумя конторками для конструкторского бюро мы предусмотрели также небольшой общий зал для ночлега инженеров и рабочих. Через два дня все было готово и наше небольшое предприятие заработало.
Бурную радость по поводу моей относительно быстрой победы над бюрократией выказала Ханна Райч. Я встретил ее сразу же после заседания ведущих руководителей министерства авиации, когда мы с главным инженером Херманном разговаривали в коридоре. От обуревавших ее чувств она чуть ли не бросилась мне на шею и сердечно поздравила меня. От нее-то я и узнал, что еще раньше кто-то другой пришел к такой же идее, как и у меня, да и сама Ханна Райч еще за три месяца до этого высказала мысль о необходимости сделать «Фау-1» пилотируемой. Однако все ее усилия по претворению данного начинания в жизнь оказались тщетными. Когда же она услышала, что мне, совершенно чужому в их системе человеку, удалось это, то ее восторгу не было предела.
— Я всей душой и телом вместе с вами и готова помочь в любом вопросе! — заявила она.
Чудо случилось — через десять суток упорного труда (рабочий день продолжался по пятнадцать часов) три изделия стояли в готовности к запуску на экспериментальном полигоне возле Рехлина[188], где проходили последние испытания и новые реактивные истребители. Хорошо, что я предусмотрительно попросил выделить мне летчиков-испытателей. Теперь можно было приступать к самому главному!
Стоял чудесный солнечный день, когда я снова повстречал Ханну Райч, чтобы на ее частном самолете «Бюккер-Юнгманн» полететь на первый запуск нашего изделия. Между тем воздушное пространство над Германией и в дневное время превратилось в настоящие охотничьи угодья вражеских истребителей. Поэтому нам пришлось, выражаясь летным языком, идти на бреющем полете, тесно прижимаясь к земле.
В самолете Ханна Райч буквально преобразилась — от этой хрупкой и нежной женщины не осталось и следа. Рядом со мной сидел уже уверенный в себе летчик. Чувствовалось, что Ханна умела управляться не только с этой легкой машиной. Я не поверил своим ушам, когда она запела в полный голос. И надо отдать должное этой летчице, знавшей все народные песни своей силезской малой родины.
Самолет имел двойное управление, но, к моему великому сожалению, ручка управления с моей стороны отсутствовала. После недолгого колебания я перевел рукоятку стартера двигателя в пустую втулку и, поставив ножную педаль на максимальную длину, взял управление на себя. Мною овладело чувство гордости оттого, что именно моей скромной персоне было позволено везти самую лучшую в мире женщину-летчицу. Мне даже показалось, что данная ситуация Ханне Райч понравилась. Во всяком случае, она безмятежно продолжила свое пение и позволила мне выкурить сигарету.
Уже во время этого полета я подумал про себя, какой ужас испытают матросы и офицеры вражеского военно-морского флота, когда обычно безобидные для них «Фау-1», летящие на Англию через пролив Ла-Манш, внезапно обрушатся на транспортные корабли.
«Интересно, будет ли расценен первый такой налет как случайность?» — подумалось мне.
Когда мы прибыли в Рехлин, к старту все было готово. «Фау-1», словно птенца, прикрепили под крылом Не-111, проверили еще раз реактивный двигатель, и только после этого раздалась команда к старту. Мы, как зрители, с напряжением следили за дальнейшим развитием событий, и, как всегда бывает при первом испытании, волнение охватило не только непосредственных участников, но и всех присутствовавших. Вверх устремился взор каждого, кто работал на испытательном аэродроме и не раз наблюдал пробные запуски.
Наконец «Фау-1», словно игрушечный аэроплан, отделилась от самолета-носителя, и стало видно, насколько большей скоростью обладала эта маленькая птица — 600 км в час против 300 км в час у Не-111. Где-то на высоте тысяча метров пилот «Фау-1» описал несколько широких кругов, и все вроде бы шло хорошо. Затем летчик сбросил газ, что было хорошо видно по уменьшению реактивной струи, начал снижаться для захода на посадку и прошел против ветра над аэродромом, перелетев его на пятьдесят метров.
«Боже! — подумали мы. — У него все еще слишком большая скорость! Только бы все закончилось без происшествий!»
Пилот вторично зашел на посадку. На сей раз он, видимо, решился сесть, так как машина буквально выбрила взлетную полосу, пройдя в двух-трех метрах от земли. Однако в последний момент летчик явно переменил решение и не стал садиться на широкие полозья, снова легко поднявшись вверх.
«Неужели он испытывает страх перед посадкой?» — с нарастающим беспокойством подумали мы.
Далее события явно вышли из-под контроля — на третьей попытке «Фау-1» чиркнула по плоскости очень пологого холма, задела верхушки деревьев и скрылась за гребнем. Два облака густой пыли свидетельствовали, что там произошло что-то нехорошее!
Я вместе с двумя санитарами бросился к стоявшему наготове вездеходу, и мы помчались на максимальной скорости напрямик, через поля, к месту происшествия. Обломки самолета были заметны издали — одно крыло валялось в одном месте, второе — в другом, фюзеляж — в третьем. Хорошо еще, что ничего не горело! Пилота мы нашли метрах в десяти от фюзеляжа. Видимо, обтекатель из плексигласа откинулся при ударе, и его выкинуло наружу. Он был жив, но без сознания, и мы сразу же отправили пилота в госпиталь.
Поскольку расспросить летчика не представлялось возможным, мы пытались хоть что-нибудь понять, рассматривая борозды, оставленные аппаратом в рыхлой почве. Вероятно, в последний момент пилот решил совершить вынужденную посадку на вспаханном поле. Но зачем?
В свою очередь, техники внимательно изучили обломки, не упустив из виду ни одной детали. Никакой неисправности они не обнаружили, и в результате было принято решение повторить попытку на следующий день. Второй летчик-испытатель, несмотря на неудачу первого, дал согласие. И снова все повторилось — «Фау-1» легко отделилась от самолета-носителя, сделала больше виражей, чем накануне, а затем пошла на посадку. Однако ей не удалось коснуться посадочной полосы, и аппарат разбился почти на том же самом месте, что и предыдущий. Пилот также был тяжело ранен, и расспросить его тоже не удалось.
Мы все чувствовали себя подавленными, а Ханна не смогла сдержать слез. Неужели опытные мужи из министерства авиации оказались правы? Неужели мы на самом деле опрометчиво нарушили предписанные сроки?
Из министерства мне сообщили, что дальнейшие испытания запрещаются и вопрос об их возобновлении будет рассмотрен после изучения деталей происшествий новой комиссией. Я всегда испытывал отвращение к подобным комиссиям, поскольку знал, как они затягивают решение вопросов на целые недели. Кроме того, меня мучили угрызения совести из-за того, что произошло с обоими испытателями. Им уже стало гораздо лучше, и они в один голос начали говорить о каких-то вибрациях в системе управления, однако объяснить причину неудач так и не смогли.
Не прошло и недели после неудавшихся испытаний, как ко мне явилась Ханна Райч в сопровождении инженера, руководившего работами, и инженер-капитана К. из министерства авиации. Я весь напрягся, ожидая плохих известий, однако, к моему величайшему изумлению, Ханна заявила, что им удалось найти причину обеих катастроф. Дело заключалось в том, что, изучив личные дела обоих летчиков-испытателей, они обнаружили, что никто из пилотов не имел опыта управления скоростными самолетами, а для того, чтобы совладать с большой скоростью этих очень небольших по своим габаритам машин, требовался именно такой опыт. Все трое были убеждены, что причина заключалась только в этом, так как принципиальных конструктивных ошибок обнаружено не было.
В качестве доказательства своей правоты все трое потребовали немедленно провести очередные испытания уже изготовленных изделий. Но здесь имелась одна большая закавыка — наложенный министерством авиации запрет. И с этим нельзя было не считаться. Однако они изъявили готовность обойти этот запрет. Требовалось только мое согласие. Я не знал, что мне делать! Тем более что летчиком-испытателем на сей раз вызвалась стать сама Ханна Райч!
— Ханна! — наконец сказал я. — Если с тобой что-то случится, то фюрер мне лично голову оторвет!
Но эти трое не сдавались, продолжая бить по моим слабым местам, апеллируя прежде всего к известному правилу, которое гласило: «В случае необходимости каждый солдат обязан брать на себя ответственность и действовать даже вопреки приказу!»
Скрепя сердце я согласился. Коменданта аэродрома мы решили застать врасплох, сказав, что разрешение на проведение новых испытательных полетов нам дали устно.
Никогда еще мое сердце не билось столь учащенно, как на следующий день, когда над головой Ханны Райч защелкнулся обтекатель из плексигласа, а моторы взревели. Старт и отделение «Фау-1» от самолета-носителя прошли как по маслу.
«Да, эта женщина умеет летать!» — подумал я, наблюдая за ее лихими виражами.
Наконец она устремилась вниз, и от охватившего меня напряжения по моей спине побежали капли пота. Если бы у меня было десять рук, то я держал бы десять кулачков за ее удачу! Поскольку посадочную полосу окутало плотное облако пыли, то мы поспешили к месту посадки и подняли счастливую Ханну на руки.
— Все отлично! — были ее первые слова.
За ней испытательные полеты продолжили наши двое пилотов, и все они проходили удачно. Всего было сделано двадцать стартов, которые подтвердили правильность идеи и конструкции.
Когда я доложил фельдмаршалу Мильху о том, что в испытательных полетах «Фау-1» приняла участие сама Ханна Райч, то он заметно побледнел.
— Это могло стоить вам головы! — мрачно изрек фельдмаршал.
По счастью, это его замечание не стало пророческим. Как бы то ни было, разрешение на дальнейшие работы над изделием и обучение пилотов мы получили.
Наше маленькое предприятие буквально штамповало одну машину за другой. Мы создали еще восемь вариантов пилотируемой «Фау-1», двадцать двухместных учебных моделей для курсов пилотажа, а потом приступили к выпуску боевых машин. Добровольцев, желавших принять участие в боевых вылетах, у меня хватало. Я подобрал из ребят своей части особого назначения тридцать человек, закончивших курсы пилотов, а кроме того, во Фриденталь прибыло еще шестьдесят выпускников летных училищ люфтваффе. Можно было начинать!
Для проведения обучения я запросил у соответствующей службы министерства авиации топливо из расчета по пять кубометров авиационного бензина на каждого пилота. Трудно в это поверить, но данную последнюю твердыню мы так и не взяли! Проходила неделя за неделей, а дело с места практически не сдвигалось. Сначала нам выделили всего десять кубометров горючего, а потом еще пятнадцать, но в целом обещанные объемы топлива так и не были предоставлены. Я бегал от одной инстанции к другой, но кроме обещаний и заверений, что в будущем все будет исполнено, выбить горючее мне так и не удалось.
Осенью я сдался окончательно — на фронтах стало наблюдаться заметное ухудшение положения, и мне пришлось примириться с жестокой действительностью. Все наши тактические расчеты и конструкторские разработки оказались напрасными. Пилотируемой «Фау-1» так и не удалось выбраться из беспилотной стаи своих сородичей! Постепенно все работы, в том числе и по предоставлению пилоту хотя бы крошечного шанса на спасение, были свернуты. Добровольцы по большей части остались со мной. Однако я не мог предложить им проведение воздушных операций, и они один за другим переходили в мои батальоны.
В феврале 1944 года Шелленбергу удалось нанести долго втайне вынашиваемый и исподволь готовящийся удар по абверу. Адмирал Канарис подал в отставку, в результате которой стало возможным проведение реорганизации службы внешней разведки абвера. Насколько я мог судить исходя из имевшейся у меня информации, у Шелленберга просматривалось два основных мотива в его действиях. Первый носил чисто деловой характер. Наличие во время войны двух действующих параллельно и зачастую враждовавших между собой ведомств — военного (служба внешней разведки абвера) и политического (служба внешней разведки в лице 6-го управления РСХА) — являлось полным абсурдом. Обе эти службы в интересах успешной работы должны были хотя бы на самом верху управляться из единого центра. Вторым же мотивом в поступках Шелленберга являлось его неуемное честолюбие.
Служба внешней разведки абвера была реорганизована в военное управление с непосредственным подчинением шефу Главного управления имперской безопасности доктору Кальтенбруннеру. Шелленбергу же поручалось осуществление тесного взаимодействия с начальником нового управления. То, с какими мыслями на самом деле Шелленберг приступил к осуществлению этого взаимодействия и какие ошибки он при этом совершил, хорошо раскрывает его высказывание, обращенное непосредственно ко мне:
— Считай, что этот начальник военного управления у меня в кармане!
Уже тогда я сильно сомневался в справедливости подобного утверждения.
В результате данной реорганизации мне тоже удалось установить тесные контакты с некоторыми господами из абвера, а также получить достаточно глубокое представление об этой широко разветвленной организации и методах ее работы. В лице полковника Генерального штаба барона Фрейтаг фон Лорингофена[189] я познакомился с настоящим представителем старой школы. Могу только сказать, что мы с ним отлично ладили, хотя и соблюдали само собой разумеющиеся правила игры, принятые в обществе. По молчаливому соглашению между нами мы никогда не говорили с ним о политике. Любой вопрос, касавшийся этой темы, немедленно переводился в понятие «Германия», что являлось отличной платформой для взаимного понимания.
Более загадочной для меня являлась фигура полковника Генерального штаба Хансена[190], который стал начальником военного управления РСХА. Я видел его не так часто, как полковника Фрейтаг фон Лорингофена, и личного контакта с ним у меня не было. Однако мне показалось, что проведенная реорганизация не пришлась ему по душе, и в нем чувствовалась некая раздвоенность — он явно переносил душевные муки.
Надо сказать, что и в чисто военных высших кругах проведенная реорганизация не вызвала никакого восторга — Кейтель и Йодль отлично понимали, что это заметно усиливает позиции Гиммлера и его близкого советника Шелленберга, лично заинтересованного в таких преобразованиях.
Из разговоров с полковником Фрейтаг фон Лорингофеном я отчетливо понял, что Германия сильно отставала в вопросах проведения активной работы по организации актов саботажа и разложения противника, за которые он непосредственно отвечал. Мое недоверие к платным агентам только усилилось. Однако идеалистов среди иностранцев, сражавшихся с нами плечом к плечу из идейных соображений и готовых добровольно исполнять опасные задания, становилось все меньше. Полковник разделял мою точку зрения в том, что для достижения лучших результатов в проводимых спецоперациях нам все больше следовало опираться на немецких солдат.
Собственно, тогда я окончательно и решил для себя, что все свои силы посвящу именно операциям, проводимым с помощью военных отрядов. Все же остальное могло рассматриваться мною лишь как вспомогательное средство.
Глава 12
Высадка десанта союзников 6 июня 1944 года. — Решение принято? — Визит к дуче. — Дипломатический ангел-хранитель. — Диктатор или философ? — Рассуждения Муссолини. — Прощание навсегда. — С инспекцией. — Спецоперации союзников. — Ограниченные средства. — Попытки использовать планеры. — Опять опоздали. — Операции против правительственных центров? — Трубопроводы. — Суэцкий канал. — Партизаны в Югославии. — Вокруг главной ставки Тито. — Когда двое делают одно и то же. — Заблаговременно предупрежден. — Гнездышко опустело
Во вторник 6 июня 1944 года началось вторжение союзников на материк. На протяжении нескольких недель положение оставалось неустойчивым, и только прорыв нашей обороны под Авраншем[191] принес противнику успех. Я ни в коей мере не ставлю перед собой задачи заниматься разбором боевых действий или военно-историческим описанием событий. Мне кажется, что и сегодня даже профессионалы в этих вопросах не в состоянии дать объективную картину, поскольку почти все сведения до сих пор носят ярко выраженную политическую окраску и поэтому не могут служить источниками для отображения истинной исторической правды. Тогда для меня единственным фактом являлось лишь то обстоятельство, что произведенная высадка войск неприятеля послужила свидетельством проведенной им блестящей военной операции, закончившейся решительным успехом. Любому здравомыслящему человеку было ясно, что войну с чисто военной точки зрения мы проиграли. Данное обстоятельство я принял как данность и довольно спокойно рассуждал об этом в тесном кругу, например с фон Фелькерзамом или Радлом.
Сделал ли я для себя какие-нибудь выводы из сложившейся ситуации? Этот вопрос тогда мне и самому приходил на ум, а после войны в той или иной форме его стали задавать моей скромной персоне все чаще и чаще. Лично мне кажется, что важным является не то, что я думаю на этот счет сегодня, а то, что думал тогда.
Моя позиция во время войны была четко определенной и отличалась деловым подходом. Собственно, таковой она остается и сегодня. Решение вопроса о продолжении войны или ее окончании находилось не в моей компетенции. То же самое можно сказать и о других солдатах, начиная от рядового и кончая генералом. Для того чтобы хоть как-то повлиять на руководство тогдашним рейхом, у меня не хватало ни полного знания обстановки, ни возможностей. Важнейшие решения мы вынуждены были передать в руки военных и политических руководителей. Нам же оставалось лишь повиноваться их приказам, которые гласили, что войну следует продолжать.
Мне было известно, что в главной ставке фюрера не питали надежд ни на благоприятные изменения военно-политической обстановки, ни на скорую разработку нового оружия, для чего имелись вполне реальные основания. Ну а то, что мы, офицеры, не доводили до простых солдат реальное положение дел, которое являлось поистине отчаянным, было само собой разумеющимся. Ведь нам приходилось сражаться уже за свою родную землю. И противник был беспощадным, требуя безоговорочного подчинения. А такому требованию мы решительно противостояли, желая драться до последней капли крови. На нашем месте точно так же поступил бы солдат любой нации, который обладает чувством любви к своей родине и честью. Отчаянная борьба Тито[192], русских партизан, французских и норвежских маки́[193] сейчас изображается как героическая. А разве наша борьба была менее героической?
Летом 1944 года мне неожиданно напомнили о моей операции по спасению дуче. В адрес меня и моих солдат со всех сторон начали поступать пожертвования, письма и подарки. Самыми приятными из них явились несколько ящиков болгарских сигарет, к каждой пачке которых была прикреплена записка такого содержания: «В знак братства по оружию от болгарского полка». Из Испании прибыло несколько ящиков отличного коньяка. Одновременно окольными путями до меня дошло известие о том, что со мной очень хотел бы встретиться некий господин из американского посольства в Испании.
«А почему бы не отправиться в Испанию?» — подумал я тогда.
Мне действительно захотелось последовать этому приглашению, однако мое начальство, которому я обязан был доложить об этом, придерживалось иного мнения. Возможно, оно сомневалось в моих дипломатических способностях, но официально заявило, что опасается за мою жизнь. Как бы то ни было, вместо меня поехал главный врач СС профессор доктор Гебхардт[194]. Как и с каким успехом он провел переговоры, на которые, собственно, приглашали не его, а меня, мне неизвестно.
Из итальянского посольства для всех участников операции по спасению дуче в зависимости от звания были переданы золотые наручные часы. Лично мне вручили золотые карманные часы в рубиновой оправе, на которых была выгравирована прописная буква «М». Одновременно мне уже в который раз передали приглашение на несколько дней посетить озеро Гарда в Италии. Пришлось сообщить в министерство иностранных дел, что отправиться в поездку я смогу лишь тогда, когда мне передадут дневник Муссолини, отобранный в Инсбруке у Куели, того самого генерала, который охранял дуче в высокогорном отеле. Однако, судя по всему, господа из МИДа так и не нашли необходимых дипломатических выражений и других громких пустых фраз, чтобы объяснить столь запоздалый возврат. А может быть, они просто еще не закончили штудировать записи дневника Муссолини?
В общем, в Италию я отправился только в середине июня, взяв с собой Радла, произведенного после операции по освобождению дуче в гауптманы. Этот неутомимый начальник штаба и вправду заслужил пару дней отдыха в изумительных местах Южного Тироля после изнурительного труда. Одновременно мы хотели навестить наших бойцов, проходивших спецподготовку в качестве боевых пловцов и обучение по использованию в спецоперациях катеров в учебных пунктах малых боевых частей кригсмарине в Венеции, Сесто-Календе на озере Лаго-Маджоре и Вальданьо севернее Вероны.
Выехав из Инсбрука утром на машине, мы уже к вечеру прибыли в уютный небольшой городок Фазано, доложив о своем приезде послу Рану. Ведь мне было предписано посетить несколько официальных приемов, чтобы получить необходимый дипломатический опыт для общения с дуче. Я же слушал поучения наших дипломатов вполуха, поскольку мне лучше было знать, как себя вести, — я всегда говорил то, что думал. Куда приятнее было бы вести разговоры с молодой прелестной девушкой из посольства о купании или прогулках под парусом. Однако вместо этого ко мне приставили наставника из числа служащих министерства иностранных дел, которому, судя по всему, вменялось следить за мной во время визита к дуче и уводить меня от нежелательных тем во время разговора с ним.
В первый же вечер мне пришлось нанести визит и германскому военному атташе. Можно только представить, какую великую радость я испытал, когда увидел своего давнишнего венского приятеля полковника Генерального штаба Яндла. Личный контакт был немедленно восстановлен, и мы вскоре забыли про официальные дела.
От посла Рана и полковника Яндла мне стало известно истинное положение дел в Италии. Муссолини на самом деле изо всех сил пытался поддержать наши военные усилия, однако полностью это удавалось ему только в вопросах материального снабжения. Здесь он действительно задействовал все возможности Италии. А вот в области непосредственно самой военной помощи возникали трудности. Итальянский народ устал от войны и не поддавался больше ни на какие призывы. Исключение составляла только славная 10-я флотилия MAC и еще несколько частей.
Первая аудиенция у Муссолини прошла пополудни следующего дня непосредственно в самой правительственной резиденции главы Республиканского фашистского государства[195] в Гарньяно[196]. Меня особенно удивило, что ее охрану осуществляли не итальянские подразделения, а немецкий батальон войск СС. Весь правительственный квартал был обнесен шлагбаумами и герметически закрыт контрольными постами.
«Неужели дуче больше не может полагаться на свои собственные войска?» — подумалось мне.
Поневоле складывалось ощущение, что дуче являлся правителем лишь из милости Гитлера. На меня это произвело весьма тягостное впечатление.
Дворец дуче являлся великолепным зданием, построенным в типично итальянском средневековом стиле. В непосредственной близости от строения охраны видно не было, а в вестибюле нас с Радлом встретили адъютант и государственный секретарь в гражданском. Оба этих господина провели нас вверх по широкой парадной лестнице, и на втором этаже без всякого доклада мы очутились в рабочем кабинете Муссолини.
Это было помещение средних размеров с двумя большими окнами, выходившими на озеро. Однако, несмотря на это, здесь царил полумрак. Напротив окон в углу стоял громоздкий письменный стол, который освещала настольная лампа.
Дуче сердечно поприветствовал меня и пригласил присесть возле письменного стола. Когда он начал упрекать меня за то, что я раньше не откликнулся на его многочисленные приглашения, мне пришлось извиняться, ссылаясь на свою занятость. Дуче принял мои извинения и переменил тему разговора. Естественно, мы заговорили о войне.
— Я делаю все, что в моих силах, чтобы страны оси эту войну выиграли, — заявил дуче.
Но в его словах больше не ощущалось былого оптимизма, который мне так понравился девять месяцев назад. Слова скатывались с губ Муссолини как-то чересчур спокойно, и в них не было былого напора. Чувствовалось, что этот человек страдал от внутреннего душевного разлада.
«Неужели он смирился с судьбой?» — подумалось мне.
Во всяком случае, так мне показалось. И словно в подтверждение этому Муссолини произнес:
— Помните, дорогой Скорцени, наш разговор, когда мы летели из Вены в Мюнхен и я рассуждал о своем историческом промахе? Теперь королевский дом своим трусливым бегством украл у меня и возможность совершить настоящую внутреннюю революцию. Италия, к сожалению, стала республикой без борьбы.
Когда дуче спросил меня, есть ли у нас какие-либо просьбы, то я попросил подарить мне и всей моей команде, участвовавшей в известной операции, его фотографию с посвящением. Ведь в сентябре 1943 года я получил фото от Гитлера в серебряной рамке с подписью: «Моему штурмбаннфюреру Отто Скорцени в знак благодарности и в качестве напоминания о 12 сентября 1943 года. Адольф Гитлер».
При прощании дуче пригласил нас на следующий день вместе с ним отобедать и, кроме того, сделал предложение:
— Почему вы должны так быстро уезжать, Скорцени? Разве вы не можете остаться здесь хотя бы на восемь дней? Разве вы не заслужили отдыха?
Приглашение на обед я принял, а вот от отдыха, к сожалению, пришлось отказаться. Во-первых, он не был предусмотрен нашим министерством иностранных дел, и если бы я согласился, то мой поступок вряд ли получил бы одобрение. Во-вторых, тогда я был убежден, что несколько дней отпуска на пятом году войны явились бы непростительным проступком по отношению к Германии и тяжелым отступлением от исполнения солдатского долга, а это для меня, естественно, было недопустимо.
На следующий день было душно, как никогда. Еще до обеда у меня состоялась деловая встреча с командиром 10-й флотилии MAC князем Боргезе, в лице которого я познакомился с образцовым офицером, являвшимся выразителем общеевропейского подхода в вопросах войны. Такой четкой формулировки этой точки зрения мне слышать еще не доводилось.
— В этой войне подлинная Европа сражается с Азией, — заявил Боргезе. — Если Германия падет, то Европа лишится своего сердца. Г[оэтому я готов вместе со своими людьми идти с вами до конца и сражаться до последней капли крови даже у ворот Берлина. Западные союзники, которые сейчас помогают победить Германию, когда-нибудь сильно пожалеют об этом.
Это был ясный взгляд на будущее развитие Европы.
Затем я позволил себе сделать нечто такое, что могло бы привести наших начальников штабов к нервному срыву. Даже Радл, у которого с психикой все было в порядке, сильно разнервничался, и таким мне видеть его еще не доводилось.
А дело заключалось вот в чем — минут через пять за нами должна была приехать машина, чтобы отвезти нас на обед в частный дом Муссолини, и нам полагалось быть уже в готовности. Я же решил немного освежиться, быстро искупавшись в озере Гарда. Несмотря на общий протест, в том числе и куратора из министерства иностранных дел, я разделся и, не обращая на окружающих никакого внимания, подбежал к стенке причала и нырнул в воду. Мне удалось уложиться ровно в пять минут — в положенное время, свежий и в хорошем настроении, я уже был готов двинуться в путь.
Вниз к бывшей вилле Фельтринелли, находившейся прямо на берегу озера, вела довольно крутая дорога. Муссолини встретил нас в холле. Как и накануне, он был одет в простую униформу своей фашистской милиции. Нас представили только обеим невесткам хозяина дома, поскольку с остальными членами семьи, в том числе с двумя его младшими детьми, мы были знакомы еще с Мюнхена. Меня усадили за стол между дуче и вдовой его сына Бруно[197]. Мне еще раз бросилось в глаза, насколько непритязателен был в еде Муссолини — ему подали скромную яичницу с овощами и фрукты. А вот пища других моих соседей по столу оказалась намного разнообразнее.
Я почувствовал себя несколько неловко, когда Муссолини, чокнувшись со мной бокалом вина, назвал меня своим спасителем. Такой тост явно не значился в программе господ из министерства иностранных дел. Как бы то ни было, мой куратор прекрасно умел вмешиваться в любой разговор и направлять его в вполне невинное, но запланированное заранее русло.
На кофе нас пригласили в застекленную террасу, откуда открывался прекрасный вид на сад. Здесь тоже, в отличие от главной ставки фюрера, разрешалось курить. Дуче предложил мне уединиться с ним в углу, предоставив Радлу возможность развлекать разговорами трех молодых женщин, что он и стал делать с большим удовольствием и рвением. При этом его нисколько не смущало то обстоятельство, что ни одна из южанок ни слова не понимала по-немецки.
Дуче завел разговор об истории Германии, проводя различные параллели между прошлым и настоящим. Мне пришлось сконцентрировать все свое внимание, чтобы следить за всеми датами и приводимыми им взаимосвязями. Надо признать, что Муссолини проявил глубокие познания в германской истории и философии, выходившие далеко за пределы знаний многих немецких академиков.
Затем он стал говорить о различных формах правления, подчеркнув, что его идеалом является некое сословное государство, основанное на принципах подлинной демократии. Смешав все в единое целое, дуче заявил, что, по его мнению, представленный различными сословиями сенат для проведения конкретного политического курса в обязательном порядке должен назначаться правительством. При этом народное собрание должно на две трети избираться, а на одну треть состоять из депутатов, занимающих данный пост пожизненно. О дальнейших же планах и способах реализации данных идей, как заявил дуче, можно будет думать только после победоносного завершения войны.
Муссолини признался, что поделился со мной мыслями, которые созрели в его голове после размышлений в свободное от государственных дел время, и у меня возникло ощущение, что в последние дни таких свободных часов у дуче стало появляться все больше и больше. Правительственными делами он практически уже не занимался. В общем, в сентябре 1944 года Муссолини уже не был активным и деятельным главой правительства, а превратился в «правительственного философа». Во всяком случае, именно к такому выводу я пришел после своей поездки в Италию.
Тогда я и представить себе не мог, что пожимаю руку Муссолини в последний раз.
После обеда у дуче меня познакомили с несколькими министрами, из которых в памяти остались только Грациани[198] и Паволини[199]. Их рабочие кабинеты, поскольку в Фазано, по-видимому, для всех не хватало места, размещались в убогих бараках, и только красота южных садов заставляла примириться с примитивностью этих строений. Судя по разговорам, в противоположность своему главе правительства, министры были очень деятельны и воспринимали свою работу весьма серьезно.
В городе Сесто-Календе, который я посетил на обратном пути, проходили обучение добровольцы 10-й флотилии MAC и рота малых боевых частей итальянских военно-морских сил. Солдаты очень удивились, увидев меня в сопровождении всего двух офицеров в открытой легковой машине, поскольку автострада, ведшая от Милана к озеру Лаго-Маджоре, стала местом особой активности появившихся тогда партизан. В те дни по этой дороге, как меня заверяли, можно было проехать только в колонне сопровождения из нескольких машин. По моему же мнению, именно такие колонны сопровождения при хорошей системе оповещения у партизан и привлекали прежде всего их внимание из-за возможности завладеть ценным грузом. А отсюда получалось, что в одиночку следовать было безопаснее.
Во время осмотра торпедных и взрывных катеров, а чуть позже при демонстрации их возможностей я вспомнил, что сам имею хорошую практику вождения маломерных судов. Моим людям явно пришлось по душе, что их командир умеет обращаться со столь скоростными изделиями.
В Вальданьо я тоже принял участие в учениях боевых пловцов. Никогда бы не подумал, что в этом небольшом городке, расположенном в горах, имеется столь великолепный крытый бассейн. Все итальянские боевые пловцы из числа добровольцев отличались прекрасной спортивной фигурой, а командовал ими некий капитан, происходивший из семьи белорусских эмигрантов. Эти бойцы с большим интересом наблюдали за моими первыми попытками научиться пользоваться дыхательным прибором. Но я не оконфузился, поскольку с детства любил нырять и чувствовал себя в воде как рыба.
К сожалению, время нашего путешествия было очень ограничено, и мы в тот же день поехали дальше в Венецию. Здесь боевые пловцы проходили тренировки уже непосредственно в той среде, где им предстояло действовать, — на море, в котором они проводили по десять часов ежедневно. Программой их обучения предусматривались подводные заплывы длиной двенадцать километров. Комендант порта оказался настолько великодушным, что предоставил нам в учебных целях старенькое грузовое судно. При помощи взрывного устройства из трех с половиной килограмм нашей лучшей взрывчатки, специально предназначавшейся для использования под водой, мы проделали в его борту такую дыру, что позднее спокойно смогли заплыть вовнутрь на весельной лодке. Сам же корабль так и остался на мелководье акватории порта.
Во время вечернего визита вежливости к коменданту порта меня поджидали две неожиданности — капитан морской медицинской службы, который на старом итальянском торпедном катере доставлял меня к коменданту, зазевался и, к сожалению, не заметил прелестную черную гондолу, длина которой составляла не менее восьми метров. Во время столкновения гондола получила серьезные повреждения, и гондольер затребовал такую высокую компенсацию, что ее хватило бы на безбедное существование не только его детей, но и внуков. Я прохаживался мимо ошарашенного такой наглостью капитана медицинской службы, всем своим видом показывая, что имею дело с настоящим сапожником, и приговаривал:
— Тот, кто рожден выписывать аспирин, не должен управлять судами.
Вторая неожиданность оказалась куда более приятной — комендантом оказался мой старый знакомый по Ла-Маддалене капитен цур зее Хунеус. От радости при нашей встрече он чуть было не забыл о красотах своего родного острова Искья, что было совсем неудивительно при том количестве «жидкого лекарства», которое мы приняли.
Надо признать, что такие короткие служебные командировки были просто прекрасными, а я оказался настолько глуп, что пользовался имевшимися у меня возможностями крайне редко. Меня удерживали дела, которых у нас во Фридентале всегда хватало. Ведь половину наших возможностей мы могли использовать только после преодоления бюрократических рогаток, а также «добывания» необходимого личного состава и материала. Тем не менее у нас еще оставалось достаточно энергии на вынашивание и разработку далекоидущих планов.
С этой целью я приказал всем офицерам своего штаба самым тщательным образом изучать любые добытые материалы о проведении союзниками специальных операций. В результате вскоре у нас появились подробные сведения о действиях английских коммандос под руководством лорда Маунтбеттена. Во время деловых игр, которые мы проводили на основании этих сведений, нам удалось многому научиться. Однако нас буквально захлестывала зависть от того, какие поистине неограниченные возможности предоставлялись командирам таких подразделений. Для проведения своих операций они могли привлекать даже крейсеры и эсминцы, не говоря уже об авиационных эскадрах любых типов. Насколько ограниченными по сравнению с ними были наши возможности! О привлечении больших частей военно-морских сил мы не могли даже мечтать, а 200-я бомбардировочная эскадра билась буквально за каждый самолет. В ней имелось всего три самолета дальнего действия Ю-290!
Мы трезво смотрели на действительное положение вещей и были вынуждены признать, что войсковые спецоперации союзников очень точно проводились по нашим чувствительным местам. И примеров тому было достаточно много — это и нападение с последующим разрушением маслоэкстракционного завода на одном из норвежских островов, это и захват нового немецкого радара возле города Дьеп[200] на французском побережье пролива Ла-Манш, это и атака на ставку Роммеля[201] в Африке. Причем последняя операция лишь по счастливой случайности, видимо из-за ошибочной информации, закончилась для союзников не совсем удачно. Коммандос атаковали не ставку Роммеля, а штаб генерал-квартирмейстера.
Однако союзники на своей громадной территории тоже должны были иметь чувствительные точки. Поэтому мы поставили перед собой задачу выявить их и в последующем атаковать. Это придало нам такой оптимизм, что мои офицеры могли целыми неделями напролет составлять и оттачивать соответствующие планы. К сожалению, им так и не суждено было сбыться, поскольку все они уперлись в одну и ту же непреодолимую преграду — в так называемый транспортный вопрос.
Поскольку наиболее надежные немецкие самолеты дальнего действия Ю-290 в необходимом количестве нам не давали, а другие отечественные крылатые машины для наших задач не подходили, то мы придумали выход из сложившейся ситуации. По нашему мнению, у нас должно было иметься достаточное количество четырехмоторных американских бомбардировщиков, которые совершили вынужденную посадку либо на занятой нами территории, либо в самой Германии. После соответствующего ремонта их наверняка можно было восстановить и снова ввести в строй! Таким подходом заинтересовались в Главном командовании люфтваффе, и после переговоров с генералом Коллером[202] я получил разрешение на создание собственного ремонтно-восстановительного подразделения, в задачу которого входила бы эвакуация и ремонт таких самолетов.
Работа хоть и медленно, но все же продвигалась, и вот поздней осенью 1944 года нам доложили, что шесть четырехмоторных бомбардировщиков стоят в готовности на аэродроме в Баварии. Однако радоваться было рано — вскоре пришло еще одно сообщение о том, что при авианалете союзников все машины вышли из строя. Пришлось все начинать сначала.
Другой проблемой являлся вопрос надежной посадки в районе цели. Никто даже слышать не хотел о приземлении там на тяжелых машинах, поэтому мы задумались над возможностью использования грузовых планеров. Ведь у нас все же имелся DFS-230[203], способный развивать максимальную скорость в двести пятьдесят километров в час. Однако операции нам приходилось планировать с учетом полетной скорости от трехсот пятидесяти до четырехсот километров в час. И здесь на помощь нам пришел старый специалист по планерам и друг Ханны Райч профессор Георгий, который сконструировал «птичку», вмещавшую двенадцать солдат с полным вооружением и способную выдержать буксирную скорость в требуемых пределах.
Но и это было еще не все. Очень важным являлся вопрос обеспечения возврата людей, отважившихся на участие в операции. По существовавшему тогда положению вещей, после выполнения задания у них имелось всего две возможности — либо добровольно сдаться в плен, либо попытаться преодолеть расстояние в сотни километров и выйти к линии фронта. Шансы на положительный исход второго варианта при трезвом размышлении оказывались ничтожными. Я же придерживался мнения, что если обеспечить солдатам реальную возможность возвращения, то выполнять поставленную задачу они будут с большей надежностью и удалью. Отсюда сам собой напрашивался вывод — попытаться обеспечить возврат участников операции на планере.
Я навел соответствующие справки и выяснил, что подобными вопросами занимались в Баварии на летном поле возле местечка Айнринг. Тамошние инженеры разработали специальное устройство, позволявшее цеплять планер без посадки буксирующего самолета. Многочисленные испытания, на многих из которых присутствовал и я, показали, что это возможно. В конце концов мы пришли к единодушному мнению, что буксирный трос необходимо натянуть на земле в форме ромба, а его конец приподнять над землей на двух шестах на высоту примерно три метра. Здесь его и должен был подцепить крюком особой конструкции самолет-буксировщик, летевший на низкой высоте, с последующим разгоном и подъемом планера в воздух.
С легкими планерами все удавалось просто великолепно. Однако, чтобы довести до ума вышеописанный принцип применительно к тяжелым и скоростным планерам, которыми мы собирались пользоваться, необходимо было провести еще много испытаний, а это, в свою очередь, требовало большого количества горючего и времени. С последними же двумя компонентами со дня на день становилось все сложнее и сложнее.
Я частенько задавал себе вопрос, почему у нас занимались подобными разработками только тогда, когда без них уже нельзя было обойтись и когда они оказывались слишком запоздалыми и уже не могли быть доведены до конца? Однако ответа на него у меня не находилось тогда и нет его сегодня.
Между тем союзники шли теми же путями и продемонстрировали нам свое умение в этих вопросах, в частности во время крупной воздушно-десантной операции в Голландии 17 сентября 1944 года.
Позже я не раз спрашивал себя, почему зимой 1944 года, когда все важнейшие немецкие командные пункты, включая главную ставку фюрера и министерства, находились в Берлине, союзники не стали осуществлять возле него высадку десанта численностью в несколько дивизий? Ведь при хорошей предварительной подготовке эти войска могли бы вывести из строя всю германскую систему управления всего лишь одним внезапным и решительным ударом. Должен признать, что от этой реально существовавшей тогда угрозы мне становилось просто жутко. И причины того, что такой попытки не произошло, скорее всего, диктовались стратегическими и политическими соображениями противника. А ведь подобная операция просто просилась, чтобы ее провели английские коммандос и американское управление стратегических служб под руководством Уильяма Донована[204]. На месте Дикого Билла я бы точно и без лишних раздумий организовал бы такую войсковую операцию.
Как любому честному летописцу, мне хочется описать некоторые наши наиболее грандиозные планы, хотя они так и не были исполнены. Эти задумки являлись для нас школой духовного совершенствования, а для готового к применению рядового состава команд — инструментом закаливания характера.
Особенно привлекательной для нас была мысль о проведении операции на Ближнем Востоке, который в то время находился практически под полным контролем Англии и Франции. Здесь располагался самый большой нефтепровод, шедший от Ирака двумя нитями до Средиземного моря, причем вначале эти нити шли параллельно друг другу. Нам было известно, что расположенные дружески к странам оси арабы постоянно пытались взорвать этот трубопровод, чтобы нарушить снабжение двух нефтеперерабатывающих заводов, находившихся на побережье возле городов Хайфа и Триполи. В ту войну нефть-сырец являлась вожделенным военным материалом, за который постоянно шли ожесточенные сражения.
Нанять команду подрывников из арабов было делом очень дорогостоящим и ненадежным. В общем, такой подход являлся весьма сомнительным и не поддающимся никакому контролю. К тому же информацию об успешном проведении операции проверить не представлялось возможным.
Наиболее уязвимыми местами данного нефтепровода были насосные станции. Если бы удалось вывести их из строя, то предприятия встали бы на два, а то и на три месяца. С этой целью немецкие инженеры разработали небольшие плавучие мины такого же веса, что и нефть. Теперь оставалось только каким-то образом проделать небольшую овальную дыру в трубопроводе и всунуть в нее такую мину. Овальную дыру планировалось сделать при помощи точно рассчитанного мини-взрыва, а после закладки мины тотчас закрыть специальной крышкой. Однако, по моему мнению, такие плавучие мины могли повредить в лучшем случае лишь входные клапаны насосных станций, и эту идею я отклонил.
Другие специалисты предложили поджечь нефтепровод в нескольких местах в лощинах зажигательными бомбами и таким образом вывести его из строя. Но и такой метод не мог на длительное время сделать трубопровод непригодным для использования. Наконец люфтваффе предложили разрушить его путем сбрасывания небольших магнитных бомб или обстрела трубы на большом отрезке ее протяженности. Однако дальше начальных мероприятий дело с места так и не сдвинулось.
Таким образом, оставался только один вариант — осуществление специальной операции силами моего отряда, с тем чтобы разрушить насосные станции и имеющиеся в них дизельные и другие машины. Изучение аэрофотоснимков показало, что возле каждой насосной станции имелось небольшое летное поле для нужд самолетов охраны, которые регулярно патрулировали близлежащую территорию. Кроме того, рядом располагались маленькие пустынные форты, служившие для личного состава охранных подразделений опорой в действиях против повстанческих отрядов арабов. Сами же насосные станции находились от них на расстоянии нескольких сотен метров. Исходя из этих сведений я и построил свой план, суть которого сводилась к следующему, шести четырехмоторным самолетам надлежало сесть на летное поле и отсекать своими бортовыми пушками и пулеметами личный состав охранного подразделения, расположенного в форте, обеспечивая молниеносные действия нашей команды подрывников по достижению машинного зала и выполнению поставленной задачи. Каждая отдельно взятая фаза плана была продумана и детально расписана. Мы предусмотрели даже специальный прибор, который при подлете к форту вывел бы его антенну из строя, лишив защитников радиосвязи.
У нас была твердая уверенность, что эффект внезапности обязательно сработает, ведь он является главной составляющей любой подобной операции. Мы не знали только одного — позволит ли длина летного поля осуществить обратный взлет тяжелой машины? Аэрофотоснимки 1941 года показывали наличие лишь небольших взлетно-посадочных полос, однако, по достаточно надежным сведениям абвера, эти полосы за последнее время были увеличены. Конечно, ошибка не исключалась. Но мы решили взять риск на себя, тем более что, как я уже говорил, самолетов большой дальности действия нам все равно в нужном количестве не выделяли.
Другой болезненной точкой союзников являлся Суэцкий канал, у которого тоже были свои слабые места. Если бы нам удалось перегородить эту важную водную артерию, то тогда материальное снабжение войск на Дальнем Востоке им пришлось бы осуществлять, огибая мыс Горн, а это означало бы удлинение маршрута на два месяца. В общем, наши боевые пловцы были готовы к выполнению соответствующей задачи. Однако из-за полного господства авиации союзников в воздухе над Средиземным морем, которого они добились начиная с 1944 года, проведение операции стало невозможным.
Еще один план был разработан для проведения спецоперации в бакинских нефтеносных районах. Конечно, о применении в этой богатой нефтью области против нефтеперегонных заводов небольших подрывных групп не могло быть и речи. Однако при внимательном изучении тамошних условий нам все же удалось найти уязвимые места, разрушение которых могло нанести смертельный удар по всей нефтедобывающей промышленности. Однако и этот план по приведенным выше причинам так и не был осуществлен.
Привлекательными для проведения спецопераций являлись также некоторые порты и шлюзы на западном побережье Англии, особенности которых мы знали очень хорошо. Но и этим планам, как, впрочем, и многим другим, также не суждено было сбыться из-за трудностей, связанных с надежной доставкой средств нападения. В частности, отсутствовали грузовые планеры для транспортировки одноместных торпед.
Партизанское движение в тогдашней Югославии начиная с 1943 года доставляло нашему командованию немало хлопот. В этой стране, где, как нигде, территория благоприятствовала развитию большого движения Сопротивления, мы вынуждены были держать крупные военные силы и почти каждый день нести большие потери. Если бы удалось вычислить местонахождение главной ставки Тито и ее ликвидировать, то это значительно помогло бы немецким войскам. Такую задачу весной 1944 года мне и поставили.
Мы, конечно, не недооценивали общую численность сил Тито, располагавшихся вокруг его ставки, и проводимые ими мероприятия по маскировке самого места расположения штаб-квартиры. Поэтому для начала было решено создать свою собственную небольшую разведывательную сеть, чтобы получить полную ясность в этих вопросах. Задачу несколько облегчало наличие разведданных о Югославии, добытых абвером.
Центр управления всей нашей разведывательной сетью мы расположили в Аграме[205], а уже оттуда начали плести агентурную сеть во всей интересующей нас области. Вскоре начали поступать первые донесения, и, чтобы обеспечить максимальную их достоверность, я распорядился создать несколько независимых друг от друга разведывательных групп. Было принято решение, что к проведению собственно операции мы приступим только тогда, когда получим одинаковые сведения о месте нахождения главной ставки Тито из трех источников.
Для того чтобы лично провести необходимые переговоры с различными войсковыми и полицейскими инстанциями, в сопровождении одного своего офицера, обер-лейтенанта Б., где-то в апреле 1944 года я вылетел в Белград. Через два дня мои дела там были окончены, и мне захотелось проехаться на предоставленном для моих нужд автомобиле в Аграм. Маршрут мой пролегал через города Бьелина и Новска. Надо сказать, что все немецкие инстанции в один голос отговаривали меня от этой поездки, поскольку во многих районах по пути моего следования хозяйничали партизаны. Однако выбора у меня не было, поскольку самолет мне никто предоставить не мог, а на следующий день мне во что бы то ни стало следовало оказаться в Аграме. Взяв с собой в машину двух вооруженных фельдфебелей в качестве сопровождения, я отправился в путь.
Выехав ранним утром, в районе горного хребта Фрушка-Гора мы сделали короткую остановку в одной немецкой части, командир которой рассказал мне о сложившейся в этом районе обстановке. Первоначально я воспринял его рассказ как некоторое преувеличение, но позже сам смог убедиться в справедливости его слов.
— Каждую неделю нам приходится обороняться от партизан, — заявил командир. — И покончить с ними мы никак не можем. Дело в том, что большинство партизан, спрятав оружие, периодически возвращаются в свои деревни и пару дней разыгрывают из себя обычных мирных крестьян. Но хуже всего обстоит дело с обслуживанием раненых. И за нашими и за их ранеными присматривает один и тот же югославский доктор. Положенный моей части штатный врач до сих пор так и не прибыл. Поэтому в экстренных случаях мы обращаемся за помощью к югославу, который даже не скрывает, что лечит раненых партизан. Отказать он им не может, так как при малейшей проволочке они его просто забирают с собой. Но как бы то ни было, врач он очень хороший, и мы им довольны.
Затем мы продолжили наш путь, проезжая по этим плодородным землям. И везде на полях виднелись трудившиеся в поте лица крестьяне в своих белых рубахах. Смотря на них, я поневоле думал: «Интересно, а где они спрятали свои винтовки?»
Нас никто не задерживал, но нам пришлось сделать короткую остановку в большой деревне, не доезжая Бьелины, чтобы купить на базаре куриных яиц. Быстро сторговавшись с одной крестьянкой, мы поехали дальше. По дороге нам встретилось несколько странных личностей в разодранной крестьянской одежде с винтовками наперевес.
Мы покрепче ухватились за наши автоматы, но из машины высовывать их не стали. Подойдя поближе, парни дружелюбно ухмыльнулись и даже поприветствовали нас. Уже несколько позже в встретившейся по пути немецкой части нам объяснили, что та местность в то время находилась под полным контролем партизан и никто туда на машине ездить не отваживался.
— Вам крупно повезло, что вы смогли там проехать! — заявили нам.
В Аграме сначала никто не поверил, что мы проехали по этой дороге. Лишь потом нам сказали, что наша машина оказалась единственной, которой удалось добраться до города целой и невредимой. При перечислении многочисленных случаев нападения на немецкий транспорт и рассмотрении штабных карт с отображением расположения партизанских районов нам стало даже немного не по себе. Но все благополучно осталось позади, а неотложные дела срочно требовали моего возвращения в Берлин.
К лету 1944 года раскинутая нами разведывательная сеть стала приносить свои плоды, и нам оставалось только проверять получаемые донесения на достоверность. Мы выяснили, что блуждающая главная ставка Тито точно находилась в то время в Западной Боснии в котловине возле города Дрвар.
Настало время для окончательной подготовки операции, во время которой необходимо было определиться с составом участников, их вооружением и подручными средствами. Командование проведением акции я решил взять на себя, а офицера оперативного управления моего штаба гауптмана Фелькерзама для установления взаимодействия и обсуждения необходимых деталей операции послать к командиру соответствующего корпуса, располагавшегося в районе города Баня-Лука[206]. После своего возвращения он доложил мне, что в этом штабе его встретили весьма холодно, но нас это не беспокоило, ведь перед нами была поставлена задача и ее следовало решать. Поэтому не стоило обращать внимания на какие-то антипатии.
В конце мая 1944 года из нашего разведцентра в Аграме мы получили довольно странное сообщение, которое гласило: «10-й корпус проводит подготовку операции против главной ставки Тито. Начало операции под кодовым названием «Ход конем» назначено на 2 июня 1944 года». Теперь столь холодный прием в штабе корпуса получил свое объяснение — там видели в нас конкурентов и поэтому всячески утаивали собственные намерения!
Это было подло! Ведь я в интересах дела мог бы объединить усилия и даже поступить в подчинение корпусу. Теперь же предстояло немедленно передать радиограмму нашим людям, с тем чтобы прекратить все мероприятия в рамках операции. Было совершенно очевидно, что о подготовке акции корпуса стало известно не только моим агентам, но и осведомителям Тито.
В последующие дни во Фриденталь приходило не одно сообщение, касавшееся операции против Тито, и каждый раз в ответ я подчеркивал необходимость соблюдать осторожность и даже предложил командованию корпуса повременить с ее началом. Но все оказалось напрасным — в назначенный день корпус начал свою операцию. В котловину партизанского района возле города Дрвар был выброшен парашютно-десантный батальон войск СС, находившийся в подчинении корпуса, а подкрепления подтянуты при помощи грузовых планеров. После кровопролитных боев, во время которых наши десантники понесли большие потери, деревня и вся котловина оказались в немецких руках. Однако то, что мы предвидели, случилось — гнездышко оказалось пустым! Из всего личного состава главной ставки Тито в плен попали только два офицера английской разведки. От самого же Тито осталась только недавно пошитая маршальская форма. Он своевременно покинул деревню и перебрался в другое место. Так из-за мелочной ревности была сорвана великолепно подготовленная нами операция, а десантникам пришлось с тяжелыми боями прорываться обратно из котловины, оказавшейся ловушкой.
Еще во время войны, да и после нее, командованием специальных операций США распространялись слухи о том, что именно я руководил той бездарной операцией. Видимо, это связано с тем обстоятельством, что вскоре после описанных выше событий тот самый парашютно-десантный батальон был передан в мое непосредственное подчинение. Случилось это в сентябре 1944 года. Мне же остается только добавить, что я весьма сожалел о провале этой акции, поскольку шансы вторичного проведения подобной операции становились совсем мизерными. Мы проследили путь, по которому перемещалась главная ставка Тито, вплоть до побережья Адриатики и даже до небольшого острова в ней. Однако реальной возможности атаковать штаб-квартиру Тито я так и не нашел, хотя проработкой вопроса об организации внезапного ее штурма на острове мы занимались еще относительно долго.
Глава 13
20 июля 1944 года. — Возвращение. — Тревога. — Танки на площади Фербеллинерплац. — Это кровь. — Только не гражданская война. — Кто против кого? — Десантник подает сигнал тревоги. — Шелленберг арестовывает Канариса. — Генерал-полковник Фромм[207] едет домой. — Полночь на Бендлерштрассе. — Захлебнувшийся мятеж. — Отзыв на пароль «Работать дальше». — Аппарат продолжает работать. — Приговор истории? — Дополнительные задачи. — Мост Нимвегенбрюкке. — Исходная позиция на Верхнем Рейне. — Операция «Вольный стрелок». — Шерхорн найден. — Трагедия на Востоке. — Позади Восточного фронта. — «Не забывайте нас!» — «Закрыть перевалы в Южных Карпатах!» — Операция в составе отряда
Берлин, июль 1944 года. Ситуация на фронтах становилась все хуже — в июне мощное наступление русских смяло практически весь Восточный фронт, вся группа армий «Центр» была разбита, и в плен попало более тридцати немецких дивизий. Как такое могло произойти, оставалось для нас тогда настоящей загадкой, и мы ломали голову — виновато ли командование или сами войска? Вторжение союзников на Западе тоже удалось, и враг со своим колоссальным материальным превосходством подходил к границам Германии. Нам не оставалось ничего иного, как, сжав зубы, стараться делать все от нас зависящее. Мы даже не могли себе представить, что все придет к горькому концу.
20 июля 1944 года я готовился к командировке в Вену, чтобы добиться предоставления бассейна «Дианабад» для проведения тренировок боевых пловцов. Кроме того, в мои планы входила встреча с офицерами абвера по вопросу продолжения операции против Тито.
И тут словно гром среди ясного неба по радио передали сообщение о неудавшемся покушении на Адольфа Гитлера. Мы с моими офицерами ломали голову над вопросом, как такое вообще могло произойти, да еще в главной ставке фюрера? Неужели противник все-таки изыскал возможности туда проникнуть? Неужели опасения начальника охраны, которые он высказывал мне еще год назад, оказались верными? Нам и в голову не могло прийти, что бомбу принес кто-то из своих, и поэтому я не видел оснований для того, чтобы отложить свою поездку.
Перед самым отправлением поезда, ровно в восемнадцать часов, мы с Радлом появились на вокзале, заняли места в спальном вагоне и уютно расположились в своем купе. Поездка на поезде давала несколько часов отдыха, того самого времени, которого становилось все меньше. Я достал маленькую упаковку молотого кофе, предусмотрительно прихваченную во время последней командировки в Италию, и зажег спиртовую конфорку. Мы уже настроились на отдых, как вдруг на последней остановке на территории Большого Берлина у станции метро «Лихтерфельде Вест» заметили бегущего вдоль вагонов офицера, громко кричавшего:
— Штурмбаннфюрер Скорцени! Штурмбаннфюрер Скорцени!
Я махнул ему в окно рукой, и офицер остановился.
— Вам надлежит немедленно вернуться в Берлин, штурмбаннфюрер! — едва переводя дух, проговорил он. — Приказ с самого верха! За покушением скрывается заговор военных!
— Это невозможно! — была моя первая реакция на такое заявление. — Здесь явно кто-то сошел с ума, но ничего не поделаешь. Радл, мне придется остаться, а вы поезжайте в Вену и проведите необходимые переговоры сами. Если получится, завтра я к вам присоединюсь.
Едва мы спустили мой чемодан на перрон, как поезд тронулся.
Во время поездки к 6-му управлению, где я надеялся получить более точные сведения, офицер рассказал мне известные ему подробности. Он утверждал, что речь идет об офицерском заговоре и что к Берлину подходят танковые части, позиция которых пока непонятна.
У бригадефюрера Шелленберга мне стали известны некоторые детали происшедшего. Штаб заговорщиков находился на Бендлерштрассе[208] в здании командующего армией резерва.
— Обстановка пока неясная и очень опасная, — заявил бледный как полотно Шелленберг, перед которым на столе лежал пистолет. — Я буду защищаться до последнего, если они придут. По моему распоряжению всему мужскому персоналу нашего управления раздали автоматы. Не могли бы вы срочно вызвать сюда для охраны роту из своей части?
Это было верное решение, а мне в запарке оно и в голову не пришло. Связавшись по телефону со своей частью во Фридентале, я услышал голос гауптмана фон Фелькерзама и приказал:
— Привести батальон в высшую степень боевой готовности! Командование берет на себя гауптман Фукер! Ожидайте моих дальнейших распоряжений! Слушать только меня лично! Первую роту немедленно выдвинуть сюда! Оберфенриха Остафеля временно назначаю своим адъютантом! Вам обоим следует немедленно прибыть ко мне на легковой машине!
Я коротко сориентировал фон Фелькерзама в сложившейся обстановке, и он заверил меня, что рота прибудет максимум через час.
— Бригадефюрер! — посоветовал я Шелленбергу, косясь на его пистолет. — Прикажите большей части ваших служащих разоружиться. Они совсем не умеют обращаться с оружием. Одного такого вояку я уже встретил и отправил его в подвал, чтобы он не натворил какой-нибудь беды. А если придут «другие», пока моя рота не подоспеет, то вам лучше продумать путь отхода в соседние здания. Здесь вам не продержаться!
Я стоял на улице, с нетерпением поджидая Фелькерзама и Остафеля. Наконец их машина вывернула из-за угла. По всему было видно, что они мчались сюда очертя голову! Мне хотелось немного осмотреться в Берлине, пока передо мной не поставили конкретных задач. Для этого я решил оставить Фелькерзама на улице Беркаерштрассе, чтобы постоянно находиться с ним на связи, мысленно проклиная то обстоятельство, что мы в своих вооруженных силах так и не ввели маленькие переносные радиопереговорные устройства. В моем случае американские портативные радиостанции весьма пригодились бы.
Для начала я приказал Остафелю поехать в правительственный квартал, но там все было спокойно. Затем мне пришло в голову навестить знакомого генерала танковых войск Б., чья резиденция располагалась на площади Фербеллинерплац. А вот здесь что-то было не так — широкую улицу перегораживали два танка. Я привстал в нашей открытой машине, чтобы лучше рассмотреть, что там происходило, и меня пропустили.
— Похоже, что мятеж не такой уж и страшный, — заметил я Остафелю.
Генерал Б. принял меня немедленно, и было похоже, что он сам толком не представлял, что делать. Он сообщил мне, что по приказу командующего армией резерва все танки из Вюнсдорфа направляются в Берлин, а чтобы сохранить управление танковыми подразделениями, их командирам приказали сосредоточить боевые машины вблизи от площади Фербеллинерплац.
— Лично я собираюсь выполнять приказы только инспектора танковых войск генерала Гудериана[209], — заявил он. — Тут сам черт не разберет, что сегодня творится. Поступил приказ выслать вооруженную разведку в район берлинских казарм войск СС. Что вы думаете по этому поводу, Скорцени?
— Разве у нас началась гражданская война? — вопросом на вопрос ответил я. — Выполнить такой приказ — значит поступить весьма неблагоразумно. Если хотите, господин генерал, то я мог бы проехать поблизости от лихтерфельдских казарм и посмотреть, что к чему. Я позвоню вам оттуда. Мне кажется, что наш долг сейчас заключается в том, чтобы предотвратить всякие инциденты.
Генерал согласился с моим предложением, и я поехал дальше. В моей старой казарме, располагавшейся в берлинском районе Лихтерфельд, наблюдалось полное спокойствие, а вот батальон армии резерва и ряд других частей были подняты по тревоге.
Мне удалось переговорить с их командиром подполковником Монке и посоветовать ему вести себя благоразумно и ни при каких обстоятельствах не покидать расположения. Когда я сообщил об этом генералу Б., то моими действиями он остался доволен. Все указывало на то, что время непонятных приказов командующего военным округом и из Бендлерштрассе осталось в прошлом. Потом я связался с фон Фелькерзамом, он доложил о прибытии роты из Фриденталя, которую по моему приказу расположили на заднем дворе Беркаерштрассе.
Мне так и не удавалось разобраться в том, что происходило. Вроде бы в обед из штаба командующего армией резерва поступил приказ о проведении плановых мероприятий, предусмотренных на случай тревоги. Однако дальнейшие события не носили никакого планомерного характера, и ситуацию всерьез воспринимать было нельзя — танки стояли с зачехленными стволами пушек и ни на что не реагировали. Подразделения войск СС тоже никакого приказа не получили.
«Интересно, кто и против кого поднял мятеж?» — подумалось мне.
И тут я вспомнил, что генерал Штудент должен был находиться в Берлине, и помчался в Ванзее в штаб воздушно-десантных войск. Однако офицеры, находившиеся в штабе, тоже ничего не знали. К ним никаких приказов также не поступало, а сам генерал, по их словам, находился у себя дома в Лихтерфельде. Я поехал к нему, прихватив с собой генеральского офицера по поручениям, который увязался за мной в надежде, что его шеф передаст ему какие-нибудь распоряжения.
Между тем заметно темнело — было уже около девяти часов вечера. В небольшом уютном особняке в Лихтерфельде царили тишь да благодать. В садовой террасе, склонившись над кипой бумаг при притушенной лампе, в светлом длинном халате сидел генерал Штудент, который явно не ожидал гостей. Рядом с ним с шитьем расположилась его супруга.
«Какая странная ситуация, — увидев их, подумал я. — Здесь мирно восседает в домашнем халате один из главных генералов Берлина, а в самой столице кто-то поднял путч».
Генерал не обращал на нас никакого внимания и только после моего громкого покашливания поднял глаза. Несмотря на поздний час и неожиданный визит, принял он нас очень любезно — сказалось то взаимное доверие, которое возникло во время нашей совместной работы в Италии. Его жена, услышав от меня, что разговор пойдет о служебных делах, немедленно удалилась.
— Нет, мой дорогой Скорцени, этого просто не может быть! — затряс головой генерал, когда я рассказал ему о том, что мне стало известно. — Попытка путча? Ерунда какая-то!
Мне с трудом удалось убедить Штудента в том, что это не шутка и ситуация действительно серьезная.
— Так, значит, положение неясное, — наконец проговорил генерал и сразу же отдал приказ по воздушно-десантным войскам: — Полная боевая готовность! Выполнять только приказы, полученные лично от меня!
Тут в доме громко зазвонил телефон. Это был рейхсмаршал Герман Геринг, который подтвердил и уточнил мою информацию. По словам Геринга, покушение действительно было организовано и предпринял его офицер штаба командующего армией резерва. Затем под лозунгом «фюрер мертв» этот штаб стал рассылать приказы, предусматривавшиеся на случай чрезвычайного положения.
— В любом случае следует выполнять только те приказы, которые поступают из главной ставки от Верховного командования вермахта! Соблюдайте спокойствие и предотвращайте столкновения, которые могут привести к гражданской войне! — подчеркнул рейхсмаршал.
— Есть соблюдать спокойствие и предотвращать столкновения, — по телефону повторил приказание Геринга генерал Штудент.
Теперь и он поверил в то, что происходит нечто неординарное, и стал быстро отдавать приказы по своим войскам. Затем генерал Штудент пожелал, чтобы мы с генералом Б. оставались с ним на связи.
Я помчался назад на Беркаерштрассе, где ничего существенного не произошло. Один из оберфюреров Шелленберга попросил меня выделить ему десять солдат и одного офицера, поскольку он получил приказ немедленно арестовать адмирала Канариса, а в одиночку ехать ему не хотелось. Я выделил ему офицера, считая, что этого будет достаточно.
Через час оберфюрер вернулся, заявив, что ему выпала очень неприятная миссия по аресту своего прошлого соперника.
— На площади Фербеллинерплац и у генерал-полковника Штудента — ничего нового, — сказал он.
Внезапно, видимо с легкой руки Германа Геринга, меня вызвали по телефону из главной ставки фюрера и приказали:
— Немедленно со всей своей частью отправляйтесь на улицу Бендлерштрассе и поддержите майора Ремера, командира батальона охраны «Гроссдойчланд», который окружил квартал!
Я быстро доложил, что в самом Берлине находится только одна моя рота, и получил в ответ указание пока выполнять задачу вместе со своей ротой и только совместно с этим батальоном.
Было уже около полуночи, когда я из Тиргартена добрался до въезда на улицу Бендлерштрассе, где дорогу нам преградили две легковушки. Я вышел из машины и увидел обергруппенфюрера СС доктора Кальтенбруннера и командующего армией резерва генерал-полковника Фромма.
— Я еду сейчас домой и буду там в вашем распоряжении в любое время! — донесся до меня голос генерала Фромма.
Оба господина пожали друг другу руки, и машина командующего уехала, освободив дорогу для моей колонны.
— Сейчас и я последую за вами! — крикнул мне вслед доктор Кальтенбруннер.
Откровенно говоря, меня сильно удивило, что в такой ситуации командующий армией резерва едет домой, но это была уже не моя забота.
У ворот военного министерства я столкнулся с майором Ремером и представился ему. В свою очередь, майор пояснил мне, что перед ним поставлена задача герметически закрыть весь квартал.
Мы договорились, что я со своими людьми проследую вглубь оцепленного здания. Оставив роту во дворе, мы с Фелькерзамом и Остафелем стали подниматься наверх. Я хорошо ориентировался внутри этого строения, поскольку часто бывал здесь по служебным делам. На лестнице второго этажа нам попалось несколько офицеров с автоматами в руках — ситуация складывалась прямо как на фронте.
В приемной генерала Ольбрихта[210] мне повстречалось несколько знакомых офицеров Генерального штаба, в руках которых тоже были автоматы. И хотя они очень спешили, все же поведали некоторые подробности этого дня. По их словам, уже после обеда им показалось, что в отданных приказах о поднятии войск по тревоге что-то не так. В то же время у генерал-полковника Фромма постоянно проходили какие-то совещания, на которых присутствовал весьма ограниченный круг лиц. Чувствуя, что происходит нечто подозрительное, многие офицеры в здании министерства вооружились автоматами и потребовали от генерал-полковника объяснений по поводу того, что происходит. После этого они узнали, что поднят мятеж, который Фромм приказал расследовать. Затем застрелился генерал-полковник Бек[211], а три офицера, среди них начальник штаба полковник Генерального штаба фон Штауффенберг[212], предположительно совершивший покушение на Гитлера в главной ставке фюрера, предстали перед военно-полевым судом под председательством генерал-полковника Фромма и были приговорены к расстрелу.
— Полчаса назад группой унтер-офицеров смертный приговор приведен в исполнение, — заявили офицеры.
Кроме того, они сказали, что после обеда в коридоре второго этажа произошла перестрелка. И хотя мои знакомые говорили очень сбивчиво и возбужденно, мне показалось, что все рассказанное ими — правда. Тем не менее сложившееся положение дел от этого яснее не стало.
«Что же мне делать?» — подумал я и попытался по телефону связаться с главной ставкой фюрера, но все мои попытки оказались напрасными.
Мне было ясно, что никто не должен покинуть комплекс зданий военного министерства, однако оставался вопрос, как успокоить возбужденных людей и навести здесь мало-мальский порядок?
«Лучше всего загрузить их каким-нибудь ненужным делом», — подумалось мне.
Я попросил пригласить ко мне моих знакомых офицеров и предложил им организовать обычную работу министерства, которой с обеда никто не занимался.
— Солдаты на фронтах продолжают сражаться и нуждаются в снабжении всем необходимым, — заявил я.
Мои слова были встречены с полным пониманием, но тут один полковник заметил, что всеми вопросами снабжения занимался начальник штаба полковник фон Штауффенберг.
— Без его подписи отданные распоряжения будут недействительны, — сказал он.
Тогда я заявил, что беру ответственность на себя, но прежде всего следует отозвать отправленные в войска приказы с пометкой «Валькирия»[213]. Вскоре выяснилось, что в большинстве случаев это уже было сделано.
В приемной генерала Ольбрихта мне повстречались два гестаповца, которых несколько часов назад послал сюда шеф тайной полиции группенфюрер Мюллер с целью ареста полковника графа фон Штауффенберга. Однако люди вернувшегося из главной ставки фюрера Штауффенберга не только не позволили им выполнить поручение, но и заперли в одном из кабинетов их самих. Получалось, что обычно хорошо проинформированное обо всех делах гестапо либо само ничего не знало о готовящемся заговоре, либо не придало этому никакого значения. Иначе отправку только двух сотрудников для исполнения подобного приказа объяснить было нельзя.
Через несколько часов сложный механизм этой службы заработал вновь. Меня часто удивляли принимаемые там решения, поскольку три важнейших в деле офицера военного министерства, а именно генерал-полковник Фромм, генерал Ольбрихт и полковник фон Штауффенберг, отсутствовали.
Мне все-таки удалось дозвониться до главной ставки фюрера и попросить о том, чтобы какой-нибудь знающий генерал немедленно занялся делами штаба командующего резервной армией, освободив меня от этих вопросов. Данную просьбу я вынужден был повторять через каждые два часа до утра 22 июля и всякий раз слышал один и тот же ответ: решение еще не принято и мне следует продолжать временно исполнять обязанности начштаба.
22 июля в военное министерство приехал лично Гиммлер вместе с шефом Главного оперативного управления СС Юттнером[214], поскольку, ко всеобщему удивлению, командующим армией резерва был назначен не кто иной, как сам Гиммлер. Наконец-то я смог вернуться к себе во Фриденталь и с наслаждением вытянуться на койке, так как за последнее время смертельно устал. При этом меня не переставала радовать мысль, что во всей прошедшей заварухе мне не пришлось принимать активное участие.
В качестве отступления от своего повествования хочу заметить, что поскольку сегодня постоянно твердят о каком-то «разгроме» попытки поднять восстание, то складывается неверная картина событий, происходивших 20 июля 1944 года. Каждый непосредственный их участник должен честно признать, что сразу же после неудачного покушения, за исключением, пожалуй, только одного графа фон Штауффенберга, все задействованные в организации переворота лица самоустранились. С того самого момента, когда стало известно о том, что Гитлер жив, у них пропала всякая решимость действовать. Достаточно было лишь легкого толчка со стороны думающих по-другому офицеров, чтобы вся конструкция заговорщиков рассыпалась как карточный домик.
Я уважаю любого, кто готов пойти на смерть за свои убеждения. И не важно, где она застанет такого человека — в концентрационном лагере или на фронте. Конечно, природе людей противоречит стремление к самоуничтожению, однако порой у каждого настоящего мужчины может наступить такой момент, когда ради собственных убеждений ему придется пожертвовать жизнью.
Я проспал свыше десяти часов и проснулся бодрым и свежим. Само собой, мои мысли вернулись к событиям предыдущих двух дней.
Моим первым чувством была безмерная злоба по отношению к тем, кто в трудный для Германии час нанес удар в спину сражающемуся немецкому народу. Однако при дальнейшем размышлении я пришел к выводу, что у этих людей мотивы действий все же были честными. Мне вспомнились разговоры, которые мы открыто вели с господами из военного министерства. Во время их многие из офицеров прямо заявляли, что не являются сторонниками Гитлера и не разделяют идеи национал-социализма. Но все они были честными немцами, стремившимися сделать все возможное в интересах своей страны.
Эти люди были едины в своем отрицании Адольфа Гитлера как главы государства, но никак не в том, что может последовать вслед за устранением Гитлера. В любом случае они не признавали безвыходности сложившегося положения на фронтах, и их целью не являлось скорейшее заключение мира любой ценой. Одна часть, к которой принадлежал и Штауффенберг, хотела попытаться заключить сепаратный мир с Россией, а другая — с западными «союзниками». Однако, по мнению англичан, которое было высказано по радио еще 20 июля, ни один из этих подходов не был серьезно подготовлен. Как подчеркивалось англичанами, которые, видимо, считали, что Гитлер мертв, новое германское правительство должно подписать мирный договор одновременно и с Востоком, и с Западом на условиях безоговорочной капитуляции, выдвинутых на конференции в Касабланке. Интересно, на какие дальнейшие шаги решились бы эти господа в подобной ситуации? Как смогли бы они найти единство в столь разных подходах, когда одни тяготели к Востоку, а другие к Западу?
Лично мной тогда владело опасение, что в случае удачного покушения и путча это привело бы к открытию перед русской армией возможности захватить всю Западную Европу и подчинить ее советскому влиянию.
Известие о самоубийстве полковника барона Фрейтаг фон Лорингофена буквально потрясло меня. Этот человек чести, без сомнения, действовал исходя из своих убеждений. О его русских корнях мне было известно, и в нем, видимо, все еще жили представления о возможности великого альянса между Германией и Россией. Однако подобные взгляды, пришедшие из далекого прошлого, нельзя было просто переносить на реалии настоящего. Поступок Йорка, заключившего Таурогенскую конвенцию[215], мог быть оправдан только последующей победой прусского оружия.
Для меня же неудавшееся покушение на Гитлера и те тяжелые для Германии дни обернулись расширением круга моих задач — мне подчинили прежний второй отдел бывшего ведомства абвера, занимавшегося вопросами внешней разведки, который с марта вошел в состав группы Военного управления РСХА, отвечавшей за организацию саботажа и диверсионных операций. Поскольку я точно знал границы своих возможностей, то сразу же установил хорошие личные отношения с бывшим начальником отдела майором Генерального штаба Науманном. Он решал все текущие вопросы, а себе я оставил только наиболее важные.
Вся работа разведывательно-диверсионных групп абвера на фронтах к тому времени свелась практически к обыкновенной рутине. Однако сначала я решил ничего не менять. Гораздо важнее и интереснее явился тот факт, что личный состав дивизии «Бранденбург» по большей части изъявил желание проходить дальнейшую службу в моих частях особого назначения. Это были активные люди, которые не чувствовали себя комфортно в тех условиях, когда дивизию стали все чаще применять на фронте как обычное войсковое соединение. Они по-прежнему хотели участвовать в специальных операциях.
Результатом моих переговоров со штабом дивизии в Берлине и Генеральным штабом вермахта явился приказ, который имел большое значение для расширения возможностей в проведении моих спецопераций в будущем. Мой егерский батальон по приказу Йодля причислили к составу истребительных частей СС. В них должно было насчитываться шесть отдельных батальонов, в которые, в свою очередь, перевели тысячу восемьсот солдат и офицеров дивизии «Бранденбург» по их желанию.
Все это происходило летом и осенью 1944 года как раз в то время, когда мы и провели те акции, о которых я уже рассказывал несколько ранее. Совместная специальная операция боевых пловцов ВМС и моих прикомандированных к ним людей в свое время наделала много шума. Руководил ею гауптман Хелмер, офицер бывшего отдела абвер-2, находившегося в моем непосредственном подчинении.
Английские войска армии вторжения на континент под командованием фельдмаршала Монтгомери[216] создали возле голландского города Неймеген опасный плацдарм на реке Ваал — основном рукаве Рейна в его дельте в Нидерландах. К сожалению, они захватили и неповрежденный мост, по которому в огромном количестве беспрепятственно шло все снабжение. Удары наших пикирующих бомбардировщиков вследствие сильной противовоздушной обороны противника никаких результатов не дали.
В такой обстановке родилась идея атаковать объект при помощи боевых пловцов, чтобы хотя бы на время облегчить положение наших войск. Для таких целей еще раньше наши ученые разработали специальное взрывчатое вещество, применявшееся под водой и из которого были сделаны так называемые мины-торпеды. Эти снаряды действительно имели форму торпеды, правда вдвое меньшего размера, и держались в воде с помощью наполненных воздухом баков, что позволяло легко их транспортировать. Две такие мины, заложенные под опору моста, при взрыве легко разрушали всю конструкцию.
Плацдарм по обе стороны моста занимал полосу примерно в семь километров. Левый же берег реки Ваал был полностью захвачен англичанами. И вот однажды ночью гауптман Хелмер в одиночку проделал разведывательный заплыв. Ласты на ногах позволяли ему двигаться достаточно быстро и бесшумно, а его светлое лицо скрывала мелкая сетка, которая тем не менее давала хороший обзор. Он осторожно подплыл к мосту, обследовал его опоры и отыскал подходящую для того, чтобы в ходе самой операции не тратить на это время — дорога была каждая секунда.
Между тем на мосту грохотали танки «Черчилль»[217], направляясь к линии фронта. Это обстоятельство играло нам на руку — шум моторов и лязг гусениц заглушили бы любой подозрительный звук, который мог возникнуть на воде в ходе операции, хотя часовые на мосту и так не обращали особого внимания на реку.
«Чего там ожидать? — наверняка думали они. — Ведь на многие километры вокруг раскинулась наша полоса».
Внимательно все осмотрев, Хелмер поплыл назад против течения. Он увидел достаточно, чтобы хорошо сориентировать своих людей и подготовить их к дню начала операции. Беспрепятственно миновав занятую противником территорию, гауптман вернулся к своим и вышел из воды на нашем, правом берегу Ваала.
Согласно прогнозу погоды ночь обещала быть темной и дождливой, обеспечивая идеальные условия для нашей операции. Ведь доставка тяжелых мин-торпед к воде и подготовка их к транспортировке под неприятельским обстрелом являлись задачами не из легких — среди вспомогательных команд появились раненые. Наконец все было готово. Двенадцать человек, которые вызвались на проведение операции, еще раз проверили свое снаряжение и тихо вошли в воду.
— Ни пуха ни пера! — напутствовали их оставшиеся на берегу боевые товарищи.
Вместе с большими опасными сигарообразными минами боевые пловцы устремились вниз по течению. Причем на каждую торпеду приходилось шесть человек — по три по бокам плавучих мин, которые направляли их движение.
Наконец в темноте появились очертания моста, и бойцы услышали сильный шум моторов — подтягивание англичанами свежих сил к линии фронта не прекращалось и ночью. Судя по характерным звукам, по переправе двигались танки. Быстро сориентировавшись, боевые пловцы, стараясь производить как можно меньше шума, подвели мины-торпеды к опоре моста. Затем они открыли кингстоны на воздушных баках и сняли предохранители на дистанционных взрывателях. Готовые к взрыву торпеды медленно опустились на дно к основанию опоры.
После этого боевые пловцы что было силы устремились назад, а через пять минут раздался взрыв. Дистанционные взрыватели сработали четко, и мост был разрушен до основания! Англичане опомнились и открыли стрельбу с обоих берегов. Тут, как назло, вышла луна, залив своим светом поверхность реки и осветив головы пловцов. Возможно, в спешке они плыли слишком близко друг к другу и нарушили соответствующее предписание. Как бы то ни было, вскоре фонтанчики от пуль стали к ним опасно приближаться, а пулеметная очередь ранила первого из них.
Товарищи не бросили его, а, взяв в центр, стали буксировать. По мере движения их еще не раз обнаруживали и обстреливали. В результате пули поразили еще двух человек. Напрягая последние силы, боевые пловцы вытащили своих раненых товарищей на берег, еще не осознавая, какую уникальную операцию они осуществили.
Я постарался в точности воспроизвести рассказ Хелмера и непосредственных участников проведенной диверсии. Мне, конечно, стало ясно, что после случившегося противник станет осторожнее и предпримет соответствующие меры защиты. Осуществление подобной операции в будущем будет намного сложнее.
После удачной высадки союзников в Нормандии у высшего германского командования возникло опасение, что они не станут считаться с нейтральным статусом Швейцарии и вторгнутся в пределы Германии через швейцарские земли. Это мнение появилось именно тогда, когда в сентябре 1944 года Западный фронт на некоторое время стабилизировался, проходя примерно по границам рейха.
Из главной ставки фюрера я получил приказ срочно подготовить новую операцию. Мои боевые пловцы должны были находиться в полной боевой готовности на Верхнем Рейне, чтобы в тот момент, когда армия союзников ступит на землю Швейцарии, взорвать мосты через Рейн в районе Базеля[218]. Подобное чисто оборонительное мероприятие должно было помочь германскому командованию выиграть время, чтобы создать новый фронт в этом не занятом немецкими войсками районе и отразить удар с территории нейтрального государства.
Через несколько недель пришел новый приказ, отменяющий подготовку данной операции и отзывающий моих людей назад. К тому времени стало ясно, что союзники ни при каких условиях не станут предпринимать вторжение в Швейцарию, которого все так опасались.
Осенью 1944 года мой 502-й егерский батальон под руководством фон Фелькерзама и Хунке провел очень интересное учение. С директором одного оборонного предприятия, располагавшегося возле Фриденталя, мы договорились, что в конкретный день группы моих людей, переодевшись в иностранных диверсантов, попытаются проникнуть на охраняемую территорию и остановить его работу.
Учения прошли на удивление очень успешно. Двадцати солдатам при помощи поддельных жестяных жетонов удалось проникнуть на территорию предприятия, а затем десятерым из них незаметно от настоящих рабочих и наблюдателей заложить учебные взрывные устройства в наиболее важных и чувствительных местах. В результате руководству подразделения по охране предприятия пришлось писать длинную объяснительную записку, и я подозреваю, что в скором времени все охранники оборонных заводов получили новые и более строгие инструкции.
Из произошедшего напрашивался весьма серьезный вывод — действия агентов тайных служб противника в Германии, судя по всему, тоже не были профессиональными. Иначе немецкая промышленность испытала бы на себе последствия серьезных диверсий, замолчать которые было бы нельзя. Ведь с такой германской службой охраны предприятий и другими аналогичными организациями противнику не пришлось бы преодолевать сколь-либо серьезные трудности.
На Востоке дел тоже хватало. В августе меня срочно вызвали в главную ставку, где генерал-полковник Йодль представил мне двух офицеров Генерального штаба. Они сообщили, что вскоре после прорыва русскими центрального участка германского Восточного фронта в июне 1944 года[219]фронтовой разведывательный отряд (одно из подразделений абвера, которые действовали в интересах конкретных армий) получил от русского агента, осуществлявшего дальнюю разведку с самого начала войны, радиограмму такого содержания: «В лесах севернее Минска находятся еще не сдавшиеся германские воинские части».
Эту информацию подтвердили и отдельные немецкие солдаты, пробившиеся к своим. Затем, перейдя линию фронта, во фронтовой разведывательный отряд явился сам агент, пояснивший свое сообщение. Речь шла о группировке численностью около двух тысяч человек, которой командовал подполковник Шерхорн[220]. Агент смог даже уточнить координаты района, где действовала эта группировка. Фронтовой разведывательный отряд неоднократно пытался установить прямую связь с окруженными, но тщетно. Теперь и Верховное командование вермахта пожелало предпринять все возможное, чтобы разыскать группировку Шерхорна и помочь ей выйти к своим.
— Есть ли у вас возможность осуществить подобную операцию? — спросил Йодль.
На этот вопрос я ответил положительно с чистой совестью, поскольку знал, что подходящие для такой операции солдаты и офицеры из числа прибалтов с воодушевлением возьмутся за дело, чтобы помочь боевым товарищам, оказавшимся в беде.
Во Фридентале мы стали спешно разрабатывать план операции, получившей условное наименование «Вольный стрелок». Непосредственное его исполнение было поручено моей недавно созданной истребительной части «Восток». Суть плана вкратце сводилась к тому, чтобы создать четыре группы по пять человек. Каждая группа должна была состоять из двух немецких солдат истребительной части «Восток» и трех русских. Оснастить ее предполагалось переносным радиопередатчиком, пайком парашютиста на четыре недели, палаткой и прочими необходимыми предметами, а также русскими автоматами. Ведь с самого начала мы понимали, что осуществить подобную операцию возможно, только маскируясь под русских солдат.
Исходя из этого мы изготовили соответствующие документы и удостоверения. Необходимо было продумать каждую мелочь. Всем участникам операции пришлось привыкать мастерить себе самокрутки из махорки и хотя бы для показа иметь при себе необходимый запас сухарей из русского черного хлеба, а также консервов. Всех участников операции, как это было принято у русских военных, коротко остригли. Кроме того, за несколько дней до ее начала им запретили приводить свою одежду в порядок и бриться.
Две группы планировалось забросить восточнее Минска в районе городов Борисов и Червень с задачей обследовать область в западном направлении. Если найти группировку Шерхорна им бы не удалось, то они должны были попытаться пробиться к линии фронта и выйти к своим. Третью и четвертую группы по нашему плану надлежало выбросить возле городов Дзержинск и Вилейка, с тем чтобы они оттуда начали двигаться к Минску. В случае неудачи в поисках Шерхорна им также надлежало пробиваться к линии фронта.
Мы понимали, что наш план представлял собой лишь теоретические наметки. После приземления на русской территории группам предстояло действовать самостоятельно, полагаясь на чутье и исходя из обстановки. Большие надежды при этом возлагались на постоянную радиосвязь, по которой в случае необходимости можно было передать дальнейшие указания. По нашему плану после обнаружения группировки Шерхорна предстояло возвести временную взлетно-посадочную полосу и самолетами партиями вывозить наших солдат из окружения.
Первая группа под командованием фельдфебеля П. была выброшена в конце августа. На место ее предстояло доставить Не-111 из состава 200-й бомбардировочной эскадры, и мы ожидали сообщения о возвращении самолета с большим напряжением, поскольку ему предстояло преодолеть свыше пятисот километров над территорией противника. Линия фронта тогда проходила примерно по реке Висле, и при благоприятных погодных условиях одиночный полет был возможен только в ночное время. О сопровождении нашей машины истребителями не могло быть и речи.
Той же ночью нам сообщили, что все прошло благополучно и группа выброшена в точно заданном месте. Однако утром фронтовой разведывательный отряд получил от нее радиограмму следующего содержания: «Приземлились неудачно. Собираемся в группу под пулеметным обстрелом противника…» На этом радиосвязь оборвалась. Возможно, солдатам пришлось бросить радиопередатчик и спасаться бегством. Днем и ночью наш радист сидел за рацией в ожидании возобновления связи, но напрасно. Группа под командованием П. о себе знать не давала.
«Плохое начало!» — подумал я.
В начале сентября была выброшена вторая группа под командованием оберфенриха Ш. Экипаж самолета также доложил о том, что все прошло гладко. Однако прошло четверо суток, но группа как в воду канула.
«Что могло произойти?» — ломали мы голову и не находили ответа.
Наконец ночью на шестые сутки наш радист на свой позывной получил отклик. Кодовое слово группы совпадало. Был передан также условный тайный знак, свидетельствовавший о том, что передача велась не под контролем противника. Но самое главное заключалось не в этом — в радиограмме сообщалось, что группировка Шерхорна действительно существует и она найдена!
На следующую ночь подполковник Шерхорн передал нам по радио свою личную благодарность. Это были простые слова, которыми пользовались настоящие фронтовики, когда хотели поблагодарить другого товарища по оружию. Трудно описать ту радость, которую мы ощутили, — труды наших людей не оказались напрасными и на деле показали, на что способна настоящая боевая выручка.
Той же ночью была выброшена и третья группа. Однако от нее никаких сообщений не поступило. Проходили день за днем, но наш радист тщетно вызывал ее по радио, передавая позывные на условленной волне. Группа М. словно растворилась в необъятных просторах России.
Четвертая группа под командованием фельдфебеля Р. была задействована через день. В первые несколько суток она регулярно выходила на связь, доложив, что их приземление прошло удачно. Все члены группы держались вместе, однако двигаться в заданном направлении не могли, поскольку приходилось избегать русских патрулей. По дороге им встретились русские дезертиры, которые приняли их за своих. Судя по донесениям, население Белоруссии относилось к членам группы дружелюбно.
Все вроде бы шло хорошо, но на четвертый день связь с ней оборвалась, и нам так и не удалось передать фельдфебелю Р. координаты нахождения группы под командованием оберфенриха Ш. И вновь началось мучительное ожидание новостей. О ходе развития операции мне каждый день докладывал начальник штаба истребительных частей СС Адриан фон Фелькерзам, который принимал самое деятельное участие в разработке плана операции и был очень заинтересован в получении информации о судьбе своих земляков — прибалтийских немцев, задействованных в ней. И каждый раз я слышал одно и то же: «От первой, третьей и четвертой групп — никаких новостей».
Только через три недели нам позвонили из штаба корпуса, части которого действовали в районе бывшей литовской границы, и сообщили, что четвертая группа вернулась без потерь. Ее командир фельдфебель Р. рассказал много полезного, что весьма заинтересовало различные военные инстанции. Ведь он был одним из немногих немцев, которым удалось собственными глазами понаблюдать за происходящим в тылу русских войск.
Он поведал о том, насколько серьезными оказались намерения русского командования о ведении войны до победного конца. Для возведения оборонительных сооружений в интересах Красной армии оно привлекало не только женщин, но и детей. Фельдфебель Р. доложил также, что при нехватке транспортных средств местное население буквально на руках катило бочки с горючим к линии фронта. Снаряды же на артиллерийские позиции передавались людьми из рук в руки по цепочкам, растянувшимся на многие километры. Нам действительно можно было у русских многому научиться!
Фельдфебель Р. набрался смелости и под видом русского лейтенанта зашел в офицерскую столовую, где его накормили обедом. Наверное, кто-нибудь удивится, что я употребил понятие «офицерская столовая» применительно к русским. В этой связи следует сказать, что в ходе войны они постепенно во многом возвращались к старым традициям, как, например, к широким офицерским погонам, которые были характерны для старой царской армии.
Благодаря прекрасному знанию языка фельдфебель Р. не вызвал у русских подозрений, а через несколько дней смог со своей группой перейти линию фронта и вернуться. Стоит ли говорить, что в дальнейшем он являлся одним из самых усердных помощников в вопросах снабжения группировки Шерхорна всем необходимым.
Между тем от окруженных поступили наиболее срочные пожелания. Прежде всего они просили прислать им врача и медикаменты. Первый доктор, спрыгнувший ночью с парашютом в месте, обозначенном слабыми световыми сигналами, при приземлении сломал себе обе ноги и, согласно полученному по радио сообщению, вскоре умер. Окруженные слезно запросили прислать им другого врача. Затем следовало наладить сброс с самолетов продуктов питания и боеприпасов для стрелкового оружия. Ведь вследствие перенесенных солдатами группировки Шерхорна лишений состояние их здоровья оказалось настолько слабым, что ни о каких передвижениях не могло быть и речи.
Вопросы обеспечения снабжения были возложены на 200-ю бомбардировочную эскадру люфтваффе, самолеты которой совершали соответствующие полеты с промежутками в одну или две ночи. Однако по радио мы получали сообщения о том, что большая часть груза сбрасывалась неточно и поэтому окруженные не могли им воспользоваться. Приходилось эти полеты повторять.
Со специалистами 200-й бомбардировочной эскадры мы разработали соответствующий план спасения окруженной группировки Шерхорна, который предусматривал сооружение временной взлетно-посадочной полосы в районе тогдашнего расположения ее лагеря. С помощью самолетов планировалось вывезти в первую очередь больных и раненых, а затем постепенно и весь остальной личный состав. Время спасательной операции было определено на темные ночи конца октября.
Для руководства работами по возведению временной взлетно-посадочной полосы на парашюте к Шерхорну был сброшен соответствующий специалист. Однако эти работы русские вскоре обнаружили и стали наносить по данному месту авиационные удары. В результате строительство стало невозможным, и нам пришлось разрабатывать другой план, который, в свою очередь, одобрил и Шерхорн.
Согласно новому плану группировке Шерхорна предстояло выдвинуться примерно на двести пятьдесят километров в северном направлении в озерный край, располагавшийся на бывшей русско-литовской границе в районе города Динабург[221]. По опыту эти озера в начале декабря должны были замерзнуть, тогда их ледовая поверхность могла послужить в качестве взлетно-посадочной полосы.
Для того чтобы облегчить совершение марша по неприятельским тылам, Шерхорн разбил свою группировку на две группы. Южную должен был вести сам Шерхорн, а передовую группу северной — возглавить наш оберфенрих Ш. Однако для осуществления марша группировку следовало снабдить теплым обмундированием и многими необходимыми мелочами. Учитывая численность группировки в две тысячи человек, их оказалось не так уж и мало. Кроме того, для обеспечения непрерывной связи на марше между растянувшимися колоннами к Шерхорну сбросили на парашютах девять радиостанций с обслуживающим персоналом из числа русских добровольцев. Особенно меня порадовало то обстоятельство, что мы могли поздравить оберфенриха Ш. с присвоением ему воинского звания лейтенант и награждением его Рыцарским крестом Железного креста. Соответствующие документы и сама награда были ему сброшены на парашюте. Мое поздравительное сообщение, отправленное по радио, на той стороне подтвердили с большой радостью.
В ноябре 1944 года группировка Шерхорна двумя колоннами выдвинулась на марш, причем больных и раненых везли на телегах. Марш проходил не так быстро, как мы планировали, и в сутки им удавалось пройти не более восьми-двенадцати километров. Несколько раз пришлось на целый день даже делать остановку на отдых, так что средний темп продвижения за неделю составлял от тридцати до сорока километров. По радио мы периодически получали сообщения о стычках с русскими патрулями и о новых убитых и раненых. Все среди нас, кто знал Россию не понаслышке, иллюзий не питали, хорошо понимая, что шансы на возвращение группировки Шерхорна на родину были ничтожно малы.
Полеты наших самолетов, занимавшихся снабжением группировки Шерхорна, становились все короче, однако поиск подходящих мест для приемки сбрасываемого на парашютах груза — все труднее. Для этого по радио сообщались уточненные точки по координатной сетке и опознавательные световые сигналы на земле, которые подавались в строго назначенное время. Хотелось бы знать, какая часть сбрасываемого нами груза попадала в руки прекрасно работавших русских органов безопасности?
Но не только это являлось предметом наших забот. Ко всему прочему лимит горючего, выделявшегося 200-й бомбардировочной эскадре для обеспечения полетов в наших интересах, из месяца в месяц сокращался. Время от времени мне, правда, удавалось выбить для операции «Вольный стрелок» дополнительные четыре-пять тонн бензина, но и это становилось делать все труднее. Как следствие этого, несмотря на срочные призывы о помощи, количество осуществлявшихся полетов приходилось сокращать. В такой ситуации мне казалось, что Шерхорн со своими боевыми товарищами в их отчаянном положении не мог понимать те трудности, с которыми мы сталкивались. Поэтому я старался в своих радиограммах поддержать у них веру в нашу готовность прийти на помощь.
В феврале 1945 года я сам командовал дивизией на Восточном фронте. Ежедневно мы отражали одну атаку за другой. Однако это не означало, что необходимость в проведении специальных операций истребительными частями СС уже отпала. Почти каждую ночь мы получали сообщения в рамках операции «Вольный стрелок», и с каждым разом они становились все безнадежнее.
«Пришлите! Помогите! Не забывайте нас!!!» — такие слова содержались в каждом тексте передаваемых ими радиограмм.
Но была и приятная новость — Шерхорн наткнулся на группу, которой командовал фельдфебель П. Это была та самая первая группа, не дававшая о себе знать на протяжении нескольких месяцев. Остальные же сообщения ничего хорошего в себе не несли и сильно действовали на мои нервы и нервы моих боевых товарищей. Теперь мы могли организовать в рамках операции «Вольный стрелок» только один полет в неделю. Соответственно, общий вес сбрасываемого груза постоянно уменьшался, и мне приходилось ломать себе голову над тем, как помочь Шерхорну.
«Где найти выход?» — думал я.
С конца февраля 1945 года нам вообще перестали выделять горючее, и со мной случался чуть ли не припадок бешенства при мысли о том, какое огромное количество бензина ежедневно попадает в руки союзников при их продвижении вперед, тогда как для нашей операции по спасению боевых товарищей из беды мы ничего получить не могли. На каждом аэродроме в Вартегау[222], которая теперь была занята русскими, находились сотни тонн авиационного бензина!
Между тем от лейтенанта Ш. тогда поступила радиограмма такого содержания: «Вышел со своей передовой группой в озерный край. Если нам срочно не сбросят продовольствия, то мы умрем с голоду. Когда вы сможете нас забрать?»
Его радиограммы становились все короче и короче, а призывы о помощи все настоятельнее. А мы были бессильны. Наконец Ш. попросил выслать ему хотя бы немного бензина, который требовался для подзарядки аккумуляторов радиостанции.
«Я хочу хотя бы оставаться с вами на связи. Для нас это крайне важно!» — передал он.
Однако обстоятельства, складывавшиеся в ходе продолжавшейся войны, тупоумие отдельных немецких инстанций были сильнее, чем мы. О снабжении, не говоря уже о том, чтобы забрать наших солдат, не могло быть больше и речи.
Тем не менее, несмотря на продолжающееся отступление и постоянные перемещения, наши радисты каждую ночь сидели за радиопередатчиками, поддерживая связь с отдельными группами группировки Шерхорна. И каждый раз мы получали радиограммы с призывами о помощи. Так продолжалось вплоть до 8 мая 1945 года. Тогда окончилась не только война, но и операция «Вольный стрелок».
Позднее, уже находясь в плену, я долгими ночами размышлял об этой операции, из которой не вернулся ни один из моих людей. Пропали также и все солдаты Шерхорна. Не осталось ни одного свидетеля, который мог бы поведать об их страданиях и конце самой группировки.
«А не могло ли все это явиться лишь игрой русской разведки, которая попросту водила нас за нос?» — думал я.
Конечно, мы предусмотрели страховку на данный случай. У каждого нашего радиста и командира группы имелось специальное кодовое слово, которое должно было быть вставлено в текст радиограммы, чтобы показать нам, что они работают не под контролем. И это кодовое слово каждый раз мы обнаруживали в предписанном месте. Однако во время плена я настолько хорошо ознакомился с применявшимися союзниками методами допроса, что меня стали терзать сомнения. Эти методы оказались поистине мастерскими, а хитрости русским, как, впрочем, и их союзникам, было не занимать. Возможно, в будущем мне все же удастся решить эту загадку.
В конце августа 1944 года на Восточном фронте произошла новая катастрофа. Южную группу армий в Бессарабии и Румынии буквально смыло под стремительным напором продвигавшихся вперед советских частей. Миллионная германская армия просто исчезла, как после землетрясения, а русские дивизии стали беспрепятственно продвигаться вглубь территории Румынии[223]. За их наступлением, насколько позволяли получаемые нами скупые и неточные сведения, мы следили по карте с нанесенной на ней обстановкой. Нас мучил вопрос: «Что станет с многочисленными немцами, проживавшими на территории этой страны?»
Внезапно из главной ставки фюрера пришел приказ, который гласил: «Немедленно приготовиться к операции в два эшелона. Самолеты для транспортировки подготовлены и стоят на летном поле. Задача — закрыть горные перевалы в Карпатах, произвести разведку в тылу противника, нарушить коммуникации русских и оказать помощь в эвакуации фольксдойче». Как всегда, приказ требовал все делать стремительно и чуть ли не мгновенно.
Лейтенант Г. показался мне наиболее подходящим человеком, которому можно было доверить проведение такой операции. Кроме опытных саперов и бойцов штурмовых групп в его подчинение мы выделили достаточно много солдат, владевших румынским языком. Снаряжение собиралось в большой спешке. На наше счастье, мы первым делом направили в район предполагаемой операции разведку, которая выяснила, что аэродром возле города Тимишоара вопреки имевшимся сведениям оказался захваченным русскими. А ведь именно там предписывалось сесть самолетам с нашими людьми на борту! Пришлось срочно перенацеливать высадку десанта на территорию, занятую корпусом Флепса[224].
Разделенному на четыре группы штурмовому отряду удалось пробиться к карпатским перевалам. В те дни говорить о наличии сколь-либо устойчивой линии обороны немецких войск уже не приходилось. Русские все продвигались и продвигались вперед. Однако на отдельных перевалах нам все же удалось помешать их ускоренному маршу и помочь нескольким группам отчаявшихся немцев.
Сам лейтенант Г., переодевшись в форму солдата румынской армии, возвращался обратно вместе с личным составом одной из групп через расположение русских частей. Он вместе со своими людьми играл роль восторженных румын, с букетом цветов встречавших русскую армию. Однако при попытке пробраться на передний край удача покинула его. Все они были раскрыты, избиты и почти догола раздеты. Затем их повели расстреливать на какой-то холм. В самый последний момент лейтенант Г. прыгнул вниз. Конвоиры начали стрелять и ранили его в правую ногу. Но, несмотря на это, ему удалось пробежать несколько километров, спрятаться в болоте, а ночью выйти к своим в районе города Тыргу-Муреш, где в срочном порядке была создана линия немецкой обороны. Благодаря его наблюдениям за передвижением войск противника германское командование своевременно вывело немецкий корпус из готовящегося русскими окружения.
Остальные три группы вернулись назад с минимальными потерями и весьма ценными сведениями о положении дел в тылу противника.
Вот такие операции были нам по душе. Трудно поверить, на что способна небольшая группа храбрых и уверенных в себе солдат. Однако тревожными явились другие наблюдения, сделанные во время данной операции. Одна из групп нашего отряда наткнулась в Румынии на немецкую часть ПВО численностью примерно две тысячи солдат, которые вместе со своими орудиями беспомощно стояли возле дороги в ожидании своего пленения. Триста из них добровольно присоединились к нашим людям, решившись вместе с ними пробиваться к своим. Все они целыми и невредимыми вышли к немецкой линии обороны. А вот судьба остальных так и осталась неизвестной.
Все это наводило на размышления. Неужели немецкий солдат-фронтовик совсем размяк? Неужели он потерял волю к самоутверждению и предал дело германской нации?
После некоторого раздумья мы пришли к выводу, что речь шла все же лишь об отдельных проявлениях панических настроений и страха перед русскими частями.
Глава 14
Сентябрь 1944 года. — Приказано вновь явиться в главную ставку фюрера. — Обсуждения сложившейся обстановки у Гитлера. — Серьезные решения. — Встреча с Ханной Райч и генерал-полковником фон Граймом[225]. — Критика Геринга. — Угроза потери Венгрии. — Мое задание. — Всеобъемлющая власть. — Будапешт как центр снабжения. — Приготовления в Вене. — Батальон фенрихов. — Тайные переговоры с Тито. — 650-миллиметровая мортира? — Отсутствие единого мнения. — Арест сына Хорти[226]. — Короткий огневой бой. — Радиопослание венгерского правителя. — Начало акции «Панцерфауст». — Шесть часов утра 16 октября 1944 года. — Внезапное нападение на замок. — Удачное нападение врасплох. — Капитуляция коменданта. — Малые потери с обеих сторон. — Обеспечение дружбы. — Воспоминания о старой Австрии. — Поездка с венгерским правителем в Мюнхен. — Встреча в Нюрнбергском дворце правосудия. — С докладом в главной ставке фюрера
Напрасно мы с Фелькерзамом надеялись, что у нас наконец-то появится хоть немного времени, чтобы заняться нашими истребительными частями. Нам хотелось превратить их в ударные войсковые формирования не на словах, а на деле, которые могли бы осуществлять наступательные операции малыми силами.
Где-то 10 сентября 1944 года меня внезапно снова вызвали в главную ставку фюрера. «Волчье логово» находилось тогда уже не в глубоком тылу, как раньше, а намного ближе к линии фронта, которая приблизилась почти на сто километров. От генерал-полковника Йодля я получил указание в течение нескольких дней присутствовать у Гитлера на обсуждении сложившейся обстановки, касавшейся положения дел на юго-востоке, поскольку моим частям предстояло осуществить в тех местах важную специальную операцию.
Я впервые получил право присутствовать на так называемых расширенных совещаниях у фюрера. Однако мое участие в них, как уже говорилось, ограничивалось только вопросами, касавшимися положения дел на Юго-Восточном фронте, о чем докладывал, как правило, сам генерал-полковник Йодль. Тем не менее в эти дни мне удалось узнать многое о порядке подчинения, установленном в высших германских кругах. Прямо должен сказать, что меня это более чем смутило. Оказалось, что главное командование сухопутных войск занималось только Восточным фронтом, а главный штаб вермахта — остальными, включая и Балканский фронт. В свою очередь, командования военно-морскими силами и люфтваффе присылали на доклад фюреру своих офицеров. Вот и получалось, что над всем этим в качестве единственного координирующего органа стоял только сам Адольф Гитлер, который с 1941 года взял верховное командование на себя.
Доклады о текущей обстановке Гитлер принимал в бараке, находившемся во внутреннем охраняемом периметре на расстоянии примерно пятидесяти метров от бункера фюрера. Строительство последнего было закончено совсем недавно — железобетонные стены толщиной семь метров надежно защищали от бомб, а отсутствие окон компенсировала сложнейшая вентиляционная система, которая и отвечала за поступление в бункер свежего воздуха. Однако атмосферу в нем здоровой назвать было нельзя. Мне сказали, что бетон пока не полностью схватился и все еще выделял тепло.
В отличие от бункера барак для совещаний со своими широкими окнами выглядел куда веселее. Внутри его располагалось большое помещение, где и проходило заслушивание докладов по обстановке, а также имелись конференц-зал и небольшие комнаты для телефонных переговоров. Обсуждения обстановки проходили ежедневно в четырнадцать часов дня и в двадцать два часа вечера, во время которых и принимались все ответственные решения.
В главную ставку фюрера я прибыл из Берлина на курьерском поезде рано утром и в тот же день уже присутствовал на послеобеденном обсуждении обстановки. Помещение, где это происходило, занимало площадь примерно семь на двенадцать метров. Вдоль окон располагался массивный стол с картой обстановки, а возле двери, находившейся напротив окон по центру стены, стоял круглый стол с мягкими стульями.
Я зашел в зал, когда в основном все участники совещания — генералы и офицеры Генерального штаба всех видов и родов войск — были в сборе. Большинство из них были мне незнакомы, поэтому я представился. Вскоре прозвучала короткая команда, и в зал вошел Адольф Гитлер в сопровождении Кейтеля и Йодля.
Я увидел Верховного главнокомандующего, который с момента нашей последней встречи, состоявшейся около года назад, сильно изменился. Его вид потряс меня до глубины души. Передо мной стоял заметно постаревший согбенный человек. Даже его тихий голос звучал устало.
«Неужели фюрера поразила какая-нибудь тайная болезнь?» — с ужасом подумал я.
Левая рука Адольфа Гитлера тряслась так сильно, что он вынужден был, когда стоял на месте, поддерживать ее правой рукой. Я силился понять, являлось ли это следствием произошедшего 20 июля покушения на него, или фюрера просто согнул груз ответственности, который он взвалил на себя и на протяжении многих лет тащил его почти в одиночку?
«Как у этого пожилого, уставшего человека хватает еще энергии для принятия ответственных решений в столь тяжелое время?» — удивился я.
Адольф Гитлер пожал руки близстоящим господам, нашел несколько дружественных слов для меня, приказав мне присутствовать на каждом совещании, касавшемся Балкан, а затем приступил к заслушиванию докладов.
В торце стола заняли места два стенографиста, а все присутствовавшие остались стоять. Только для Гитлера возле стола был предусмотрен табурет, но пользовался он им редко. Непосредственно перед фюрером на столе прямо на карте лежали цветные карандаши и очки. Справа от него стоял генерал-полковник Йодль, а слева — фельдмаршал Кейтель. Доклад начал Йодль. Присутствующие следили за обстановкой по огромной карте Генерального штаба. Назывались номера дивизий, корпусов, танковых полков, показывались направления ударов русских и места, где эти удары были отражены контрударами. Меня поразило, сколько разных деталей и сведений держал в своей голове фюрер — он называл номера полков, число боеготовых танков, количество необходимого горючего и многое другое.
Назывались произошедшие изменения обстановки, и на карте показывались передвижения войск. Положение действительно оказалось тяжелым — линия фронта, за исключением отдельных вклинений противника, проходила уже по старой венгерской границе 1938 года. Я мысленно стал задавать себе вопросы: «Являлись ли названные дивизии боеспособными? Как обстояли дела с наличием у них орудий и средств тяги? Сколько они потеряли танков и самоходных артиллерийских установок с момента поступления последних данных?»
— Сегодня серьезные решения приняты не будут, — послышался шепот стоявших рядом со мной офицеров Генерального штаба.
Им было лучше знать, ведь они привыкли к тому, что здесь оперировали большими цифрами, корпусами, армиями и принимали решения стратегического характера.
Во время доклада обстановки офицером люфтваффе фюреру что-то не понравилось. Он распрямился, и я услышал прежний звучный голос Адольфа Гитлера, потребовавшего уточнить данные воздушной разведки. Похоже, привилегированному положению люфтваффе пришел конец — приведенные офицером данные о количестве задействованных боевых самолетов прозвучали как-то неубедительно. Фюрер прервал его коротким взмахом руки и отвернулся. В этот момент генерал-полковник Йодль сделал мне знак покинуть зал совещаний — настала пора для обсуждения дел на других участках фронта.
В вестибюле я постоял немного вместе с молодыми офицерами Генерального штаба. Подошедший ординарец предложил нам по бокалу вермута, и мы разговорились, касаясь положения дел на Восточном фронте. В Варшаве как раз отмечалось восстание подпольной польской армии[227], и, судя по всему, там проходили ожесточенные бои. Южнее Варшавы дела обстояли еще хуже, и оттуда поступали весьма тревожные сообщения.
— В таком виде эти сведения докладывать фюреру нельзя, — заявил один из офицеров. — Сначала их следует хоть как-то пригладить.
Три дня спустя меня оставили на обсуждении положения дел на других фронтах и я услышал доклад, из которого следовало, что обстановка везде складывалась, прямо скажем, отчаянная. Такая ситуация вызвала у Адольфа Гитлера ярость, и он в бешенстве закричал:
— Почему мне об этом не доложили раньше?
Гитлер нервно швырнул свои цветные карандаши прямо на карту с такой силой, что часть из них, подпрыгнув, скатилась со стола на пол. Фюрер обрушился с упреками на Йодля, на Главное командование сухопутных войск и на люфтваффе. Все смущенно молчали, а я под воздействием такого гневного напора медленно отодвинулся назад и спрятался за спинами офицеров. Ведь под этот гнев мог попасть и я. Еще хуже мне показалась внезапная смена настроения фюрера — он неожиданно успокоился и заговорил спокойным голосом, начав уточнять у другого генерала интересовавшие его вопросы.
— Имеются ли в наличии необходимые резервы? Возможно ли организовать своевременное снабжение? Есть ли поблизости саперные части? — расспрашивал Гитлер.
В результате вопросы, связанные с подтягиванием резервов и ремонтом путей подвоза, были решены, и мне показалось, что положение на том участке фронта должно стабилизироваться.
После обеда я навестил своих знакомых, находившихся в главной ставке фюрера, и никто из них не смог мне сказать что-либо утешительное. Тогда я решил часика на полтора отключиться от всех забот и посетить сауну. Что может быть лучше, когда тело начинает разомлевать под воздействием обжигающего пара, а потом подвергается тонизирующему массажу! После этих процедур я снова был бодрым и свежим, а также готовым к долгому ночному заседанию. Жаль только, что озера находились слишком далеко, ведь после жаркой парной купание в холодной воде пошло бы только на пользу!
Прогуливаясь по дорожкам главной ставки фюрера, я неожиданно встретил Ханну Райч. Мы дружески поприветствовали друг друга, и мне подумалось, что как хорошо, что во время короткого испытания «Фау-1» с этой смелой женщиной ничего не случилось. Она рассказала, что находится в ставке вместе с генерал-полковником фон Граймом, и, показав место, где она разместилась, спросила:
— Не желаете вечерком заглянуть к нам на огонек?
Я с удовольствием принял ее приглашение, заметив, что смогу прийти только после окончания вечернего обсуждения обстановки.
— Ничего, мы тоже долго не ложимся, ведь начались очень серьезные дела. Приходите! Ждем вас! — откликнулась она, и мы расстались.
После окончания вечернего доклада обстановки в кромешной темноте я еле нашел ее жилище. Была уже глубокая ночь, но Ханна не спала. В большом помещении, служившем одновременно и спальней и гостиной, она представила меня генерал-полковнику фон Грайму. Светлые ухоженные волосы красиво обрамляли его лицо с приятными, ярко выраженными чертами. Ниже Рыцарского креста красовался орден «За заслуги»[228] Первой мировой войны.
Вскоре между нами завязался оживленный разговор о войне и роли в ней авиации. Я был буквально поражен, с каким подъемом и воодушевлением говорил этот генерал. Выяснилась и причина его пребывания в главной ставке фюрера. Рейхсмаршала Германа Геринга должны были отстранить от командования Верховным командованием люфтваффе, а на его место Гитлер хотел назначить фон Грайма. Пока не все вопросы были утрясены — кадровое ведомство хотело сохранить Геринга в составе люфтваффе, но с этим фон Грайм был не согласен. Фюрер же еще своего последнего слова не сказал.
Я провел две ночи напролет за разговорами с этими замечательными людьми. И Ханна и фон Грайм являлись идеалистами в лучшем смысле этого слова. Для меня было удивительно, хотя и не ново, с какой яростной критикой обрушился генерал на руководство люфтваффе и в особенности на Геринга.
— Люфтваффе слишком долго почивали на заслуженных лаврах 1939 и 1940 годов, не задумываясь о будущем, — утверждал фон Грайм. — На одних только утверждениях Геринга о том, что наша авиация является самой лучшей, быстрой и храброй, войну не выиграть.
Фон Грайм с горечью говорил также о том, как решались вопросы оснащения люфтваффе в последние годы. Сейчас я не могу с точностью передать содержание всех тех многочасовых разговоров, но кое-что осталось в моей памяти — на вооружение, хотя и с большим опозданием, должны были поступить новые реактивные истребители.
— Возможно, с их помощью нам удастся прекратить постоянные налеты вражеской авиации на немецкие города и хотя бы частично восстановить наше превосходство в воздухе, — предполагал генерал.
Мы искали и не находили ответы на мучившие нас вопросы. Почему эти реактивные истребители не поступили на вооружение гораздо раньше, если их разработка была завершена еще в 1942 году? Неужели и здесь мы сталкивались еще с одной досадной главой немецкой военной истории, озаглавленной словами «Слишком поздно»?
К сожалению, тогда генерал-полковник фон Грайм не стал главнокомандующим люфтваффе. Его назначили на эту должность только в последние дни апреля 1945 года, когда Берлин лежал уже в руинах. Во время облета окруженной столицы, в котором принимала участие и его верная спутница Ханна Райч, он был тяжело ранен, а две недели спустя под Кицбюэлем[229] попал в плен к американцам.
Чтобы союзники не принудили генерала давать показания против его бывшего главнокомандующего Геринга, он покончил с собой. Этот человек чести унес с собой в могилу свидетельства о вине Геринга перед немецким народом.
На третий день после вечернего обсуждения обстановки мне было предложено остаться. На совещании присутствовали: Кейтель, Йодль, Риббентроп и приехавший в этот день в ставку фюрера Гиммлер. Мы заняли места за уже упоминавшимся круглым столом, и Адольф Гитлер еще раз коротко осветил положение дел на юго-востоке, подчеркнув, что стабилизировавшийся накануне фронт по границам Венгрии должен быть удержан любой ценой. На огромном выступе в сторону востока находилось более миллиона немецких солдат, которые в случае внезапного прорыва фронта были бы безвозвратно потеряны.
— Мы получили секретные сведения о том, что правитель Венгерского королевства адмирал Хорти пытается установить с врагами контакт с целью заключения сепаратного мира, что будет означать потерю наших армий, — продолжил фюрер. — Причем переговоры он пытается вести не только с западными державами, но и с Россией. Он готов подчиниться даже Кремлю.
Гитлер на секунду замолчал и посмотрел на меня.
— Вам, Скорцени, на случай, если этот правитель нарушит свои союзнические обязательства, надлежит подготовить военную операцию по захвату Замковой горы[230], — подчеркнул он. — Генеральный штаб предлагает осуществить там выброску воздушного десанта. Общее руководство всей операцией в Будапеште я поручаю недавно назначенному командиру корпуса генералу артиллерии Клеманну[231]. На время проведения данной операции вы входите в его подчинение. Однако ее подготовку вам следует начать немедленно, поскольку штаб корпуса еще только формируется.
Закончил свою речь Адольф Гитлер примерно такими словами:
— Для того чтобы вам легче было преодолевать трудности, связанные с подготовкой операции, вы получите от меня письменный приказ, предоставляющий вам далекоидущие полномочия.
Затем генерал-полковник Йодль зачитал перечисленные в приказе воинские формирования, поступившие в мое распоряжение, а именно: один парашютный батальон люфтваффе, 600-й парашютно-десантный батальон войск СС и один мотопехотный батальон, сформированный из курсантов офицерского училища, располагавшегося в Винер-Нойштадте[232]. Кроме того, в мое подчинение переходили две эскадрильи грузовых планеров.
— В ваше распоряжение на период проведения операции выделяется также один самолет из состава курьерской эскадрильи главной ставки фюрера, — закончил чтение приказа генерал-полковник Йодль.
Адольф Гитлер поговорил еще некоторое время с Риббентропом, интересуясь новостями, полученными из немецкого посольства в Будапеште. Они также свидетельствовали о том, что ситуация являлась крайне напряженной, и о том, что тогдашнее венгерское правительство нельзя было уже рассматривать как дружественное по отношению к странам оси.
После того как предназначенный для меня письменный приказ был подписан Адольфом Гитлером, его передали мне, и все начали расходиться.
— Я полагаюсь на вас и ваших людей, Скорцени! Удачи! — сказал фюрер и вышел.
Оставшись один, я перечитал врученный мне приказ и поразился тем, насколько большие возможности оказались в моих руках благодаря этому листу. Приказ был написан на так называемой государственной бумаге — в левом верхнем углу красовался тисненный золотом орел со свастикой, а ниже надпись: «Фюрер и рейхсканцелярия», набранная типографским шрифтом «Антиква». Дальше шел сам текст примерно такого содержания: «Штурмбаннфюрер резервных войск СС Отто Скорцени действует, выполняя персональный строго секретный приказ особой важности. Предписываю всем военным и государственным органам управления оказывать Скорцени всяческую поддержку и идти навстречу его пожеланиям». Я сказал «примерно» потому, что в водовороте событий 1945 года этот документ пропал, точнее, его украли вместе со всем моим багажом. Под текстом стояла дрожащая подпись главы германского государства.
«С таким документом в руках можно поставить на уши всю Великую Германию», — подумал я и тут же решил для себя, что буду использовать его лишь в случае крайней необходимости.
Честно говоря, я не очень верил в слепое послушание чиновников при виде «высочайшего» приказа. Мне больше нравилось понимание и, следовательно, добровольное исполнение моих требований. Забегая вперед, сразу скажу, что я воспользовался этой бумагой только один раз, а именно пару дней спустя в Вене. А дело было так.
Тогда у меня состоялся многочасовой разговор с одним подполковником из командования военным округом на предмет немедленной моторизации подчиненного мне офицерского училища в Винер-Нойштадте и других частей. Он потребовал просмотреть списки личного состава, сравнить грузоподъемность и многое другое, а меня мучил голод.
— Не могли бы вы организовать для меня пару сосисок или чего-нибудь мясного? — попросил я своего собеседника. — А то позже мне будет не до еды.
— Охотно, только дайте мне ваши талоны на получение мяса, — ответил он.
Когда я пояснил ему, что забыл такую «важную часть моего боевого оснащения», как талоны на питание, но очень хотел бы утолить свой голод и был бы ему весьма благодарен, если он раздобудет для меня пару венских сосисок без талонов, то услышал в ответ:
— Нет, к сожалению, это абсолютно исключено. Такое наша офицерская столовая позволить себе не может.
Вот тогда мне и захотелось испытать волшебную силу своих чрезвычайных полномочий, а особенно подписи на имевшемся у меня приказе. Без лишних слов я залез в свой портфель и положил бумагу перед офицером на стол. Лишь только взглянув на приказ, подполковник тут же изменился в лице.
— Конечно! Само собой разумеется! Сейчас все организуем! Унтер-офицер Л.! Немедленно принесите из офицерской столовой пару сосисок! — крикнул он в фойе.
Я, естественно, поделился этим перекусом, принесенным «по высочайшему повелению», с верным своему долгу подполковником.
Но эта история случилась уже позже, а тогда, после получения приказа, несмотря на то что часы показывали два часа ночи, мне предстояло решить несколько срочных вопросов. Еще два дня назад я на всякий случай перевел истребительную часть «Центр», бывший 502-й егерский батальон, в состояние полной боевой готовности и знал, что даже в такой поздний час гауптман фон Фелькерзам находится на связи в ожидании моего звонка. С Фриденталем меня соединили немедленно.
— Алло! Фелькерзам! Я только что получил новое ответственное задание. Записывайте! Усиленную первую роту надлежит сегодня же в восемь часов утра переместить на берлинский аэродром Гатов. С собой иметь тройной боекомплект. И не забудьте снаряжение для четырех саперных подрывных групп. Выдать сухой паек на шесть дней. Командование данным отрядом возлагаю на обер-лейтенанта Хунке. О месте назначения узнаете у командира эскадрильи Ю-52. Сам я вылечу отсюда как можно раньше и еще до десяти часов утра буду на производственном летном поле компании «Хейнкель» в Ораниенбурге. Там вы меня и подберете. Через два часа выдвигаемся дальше. Вы, Радл и Остафель летите со мной. Есть вопросы? Нет? Тогда до встречи! Наш девиз прежний — «Сделаем легко!».
Я знал, что с этой секунды во Фридентале все пришло в движение. Тогда мне и пришло в голову кодовое наименование предстоящей операции, которую захотелось почему-то назвать «Панцерфауст»[233], а вот дать указание прихватить с собой это недавно введенное в войска новое оружие я забыл.
«Ничего, это поправимо», — решил я и оправил во Фриденталь телеграмму-молнию.
Трудно представить то приятное ощущение, которое я испытал, когда пару часов спустя на аэродроме главной ставки фюрера ко мне с докладом явился командир Не-111.
«Все-таки здорово иметь в своем распоряжении личный самолет», — подумал я.
Мне доставило большое удовольствие, устроившись рядом с командиром самолета, наблюдать за проплывавшим под нами ландшафтом. Однако мысли постоянно крутились вокруг предстоящей операции. Ведь на карту было поставлено очень многое — практически речь шла о спасении всех немецких войск вдоль венгерской границы! В случае выхода Венгрии из войны и потери, таким образом, венгерских частей, стоявших на Карпатах, германские соединения оказались бы в критическом положении. А если мы потеряли бы вдобавок и Будапешт как главный центр снабжения, то это означало бы настоящую катастрофу.
«Будем надеяться, что мы не опоздаем!» — подумал я.
И тут меня словно током ударило.
«Для чего мне подчинили эскадрильи грузовых планеров, а к ним вдобавок парашютный батальон люфтваффе и парашютно-десантный батальон войск СС? Как представляет себе Генеральный штаб воздушно-десантную операцию на Замковой горе?» — такие мысли вихрем пронеслись в моей голове.
Город Будапешт и его центр я знал достаточно хорошо. Единственным подходящим местом для высадки воздушного десанта являлся огромный плац для занятий строевой подготовкой. Но там нас, учитывая враждебное настроение венгров, перестреляли бы еще до того, как мы смогли бы сосредоточиться. По нас открыли бы огонь со всех четырех сторон.
«Значит, максимум, что мы можем сделать, — это высадить несколько специальных групп, — размышлял я. — Но такое возможно только с учетом складывающейся на месте обстановки».
По дороге во Фриденталь в машине я коротко проинформировал офицера оперативного управления моего штаба Гауптмана фон Фелькерзама о своих выводах.
— Что ж, в нашем очередном задании, как всегда, много неожиданных моментов, — откликнулся он. — Но оказать помощь нашим боевым товарищам на фронте — дело благородное. Ничего, справимся.
Далее Фелькерзам доложил, что погрузка на аэродроме Гатов прошла успешно.
— В качестве места сбора нам определили Вену, — продолжил он. — Будем надеяться, что там у вас выпадет пара свободных часов, чтобы навестить жену и ребенка. Вы их совсем не видите.
Но оба мы знали, хотя и предпочитали об этом не говорить, что свободного времени у нас не будет. Наши семьи должны были это понимать. Все же работали и сражались мы и за них тоже.
С собой в самолет мы взяли ящик с новой взрывчаткой, и сидеть на нем было очень удобно. Если, конечно, не думать о том, что сиденье под тобой может взорваться. А такое ввиду постоянных налетов вражеской авиации могло произойти в любой момент. Но и об этом мы тоже предпочитали не говорить. В уме у нас были только мысли о предстоящем задании.
Я предложил на всякий случай сразу же моторизовать все три батальона, хорошо понимая, что это будет нелегким делом. Мы знали, что тогда грузовики ценились уже буквально на вес золота — Восточный фронт, а теперь и Западный проглотили слишком большое число машин, и восполнить их дефицит было не под силу даже самой лучшей промышленности.
Из Асперна мы с Фелькерзамом и Остафелем сразу же отправились в Винер-Нойштадт, оставив Радла в Вене для того, чтобы он наладил контакт с разведывательными службами. Я рассчитывал, что, возможно, ему удастся раздобыть новые сведения.
В Винер-Нойштадте мы прибыли в старую военную академию, традиции которой восходили еще к временам Марии-Терезии[234]. В коридорах с высокими потолками на нас с портретов взирали все бывшие начальники данного военного учебного заведения. Полковник X., тогда командовавший училищем, о нашем визите был извещен. Когда я коротко ввел его в курс дела, он лично пожелал участвовать в операции и вести батальон. Пришлось разъяснять ему, что при столь высоком его звании это было бы неправильно. Но полковник ничего не хотел слушать, желая принять участие в операции хотя бы в качестве простого бойца.
Затем к нам позвали определенного Генштабом командира батальона в звании майора и командиров рот. Это были бывалые фронтовики, переведенные в училище в качестве преподавателей. Пока я с ними знакомился, во дворе построились все годные для участия в операции фенрихи. Их было около тысячи человек.
Мое сердце переполняла радость, когда я вышел перед строем поприветствовать батальон, перешедший в мое подчинение. Такого числа отборных парней, собранных в одном батальоне, не было, пожалуй, ни в одной воинской части тогдашней Германии. Меня буквально распирало от гордости, что мне выпала честь командовать именно этим подразделением. И эта гордость, возможно, прозвучала в тех коротких словах, с которыми я обратился к фенрихам:
— Все вы наверняка слышали мою фамилию от ваших офицеров, а некоторые помнят о моей Итальянской операции. Однако не ждите, что я поведу вас навстречу приключениям. Предстоит серьезный, возможно, кровопролитный бой, во время которого будут решаться очень ответственные задачи. И мы выполним свой солдатский долг! И если мы будем верить в наше дело, то обязательно добьемся нашей цели, послужив тем самым своей родине и своему народу!
Между тем в район Вены прибыл и парашютный батальон, который вместе со своими офицерами произвел на меня хорошее впечатление. Мне оставалось только держать их в руках, поскольку я знал, что они предпочитают действовать по своему усмотрению. Это же могло попросту привести к срыву всей операции! А вот как ее осуществлять, мне и самому было пока не ясно, поскольку о том, как станут развиваться события в Венгрии, оставалось только гадать.
Парашютно-десантный батальон войск СС прибыл с Восточного фронта. Он оказался довольно потрепанным и поэтому не столь боеспособным, как другие подразделения.
Три дня ушло на решение вопросов, связанных с моторизацией и оснащением моих подразделений. Наконец подошло время самому осмотреться в Будапеште. Документы на имя некоего «доктора Вольфа» были уже изготовлены, и я переоделся в удобный гражданский костюм. Один мой знакомый порекомендовал меня своему приятелю в Будапеште, после чего можно было отправляться в путь.
В Будапеште нас встретил торговец Н. с гостеприимством, присущим, пожалуй, только мадьярам. Он даже выехал из своей квартиры, предоставив ее вместе со слугой и поварихой в полное наше распоряжение. Мне стыдно в этом признаться, но я никогда еще не жил так хорошо, как в те три недели. Наш гостеприимный хозяин сильно обижался, когда мы начинали скромничать при выборе еды. И это на пятом году войны!
Между тем в Будапешт прибыл и генерал, в подчинение которого я поступил на время проведения операции. Ему и без меня хватало забот, ведь требовалось как можно скорее создать работоспособный штаб и привести вверенные войска в состояние полной боеготовности. Поэтому я приказал Фелькерзаму и Остафелю поработать в штабе корпуса и принять деятельное участие в разработке плана действий наших воинских частей в самом Будапеште и вокруг него на случай чрезвычайной ситуации. Прежде всего следовало позаботиться о том, чтобы железнодорожные линии, вокзалы и узлы связи оставались под немецким контролем.
В то время нашей разведке стало известно, что сын венгерского правителя Миклош Хорти[235] ведет тайные переговоры с представителем Тито. Речь шла об установлении контактов с русским Верховным командованием и заключении сепаратного мира. В этом отношении информация, услышанная мною в главной ставке фюрера, подтверждалась. Однако путь, который пытался проложить себе правитель Хорти через Тито, показался мне очень шатким.
«Как могло такое произойти, что правитель Венгерского королевства стал искать сближения с извечным врагом Венгрии — Югославией? Какую выгоду из этого он мог извлечь для себя и своего народа?» — не понимал я.
С руководством германской разведки в Венгрии мне удалось договориться о внедрении нашего агента в окружение сына Хорти. И одному хорвату это удалось. Он сблизился не только с Миклошом Хорти (младшим), но и с представителем югославской стороны и вошел в их полное доверие. От него мы узнали, что в ближайшее время ночью должны были состояться переговоры с самим венгерским правителем. Для нас эта новость явилась крайне неприятной, ведь мы ни в коей мере не хотели, чтобы глава венгерского государства хоть как-то скомпрометировал себя личным участием в данной афере. Однако это являлось уже головной болью органов военной разведки и полиции безопасности. У меня и своих забот хватало.
Чем чаще я поднимался на Замковую гору, чтобы переговорить с атташе военно-воздушных сил, германским посланником или командиром корпуса, тем больше меня начинал волновать вопрос, каким образом выполнить поставленную задачу на этой горе, которая представляла собой настоящую крепость, созданную самой природой. Если бы отданный мне приказ не был столь конкретен, то я ограничился бы только окружением всего правительственного квартала и самой горы. Тогда войсковую операцию по непосредственному захвату Замковой горы можно было бы провести лишь в ответ на враждебные действия в отношении Германии.
Как бы то ни было, я поручил Фелькерзаму тщательно проштудировать все доступные планы города и лично оценить обстановку путем неоднократного осмотра улиц, а также имевшихся на них строений. Во время проведения данной рекогносцировки нас каждый раз подстерегали все новые неожиданности. В частности, выяснилось, что под Замковой горой располагался подземный лабиринт, ходы которого были заминированы. В случае обострения ситуации это явилось бы для нас серьезным минусом. Пришлось разрабатывать новый план действий немецких войск в Будапеште, который предусматривал непосредственный захват Замковой горы силами вверенных мне подразделений. От возможности проведения воздушно-десантной операции пришлось отказаться полностью.
Я чувствовал, что подошло время подтягивания моих подразделений к месту предстоящих действий. На этом же настаивало и командование корпусом. Поэтому где-то в начале октября они вышли маршем из Вены и вскоре разместились в предместьях Будапешта.
В первых числах октября по приказу главной ставки фюрера в город прибыл обергруппенфюрер СС Бах-Зелевский[236] и взял командование на себя. Он явился прямиком из Варшавы, где только что подавил восстание поляков, и всем своим видом показывал, что является сильным и решительным человеком.
— В случае необходимости я готов действовать столь же жестко, как и в Варшаве, — подчеркивал Бах-Зелевский.
Он привез с собой даже 650-мм мортиру, которая применялась всего дважды — во время осады Севастопольской крепости, а затем в Варшаве. Я расценил предложенный им метод ведения операции как излишне грубый и выразил мнение, что более утонченные средства приведут к цели надежнее и быстрее.
— Операция «Панцерфауст» и без поддержки этой мортиры даст такие же положительные результаты, — заявил я.
Появление Бах-Зелевского произвело на многих офицеров сильное впечатление, и мне показалось, что они его просто побаиваются. Я же старался не обращать внимания на суровый тон его высказываний, настаивал на своем мнении и поступал в соответствии с ним.
Мне было непонятно, почему секретные планы действий часто обсуждались на совещаниях в присутствии пятнадцати, а то и двадцати офицеров. Лично я понимал, что в результате такого подхода кое-какие сведения доходили и до венгерского правительства, что подталкивало его к принятию соответствующих решений. Как бы то ни было, нас не могли не тревожить полученные от разведки сведения о том, что командующий венгерскими войсками в Карпатах генерал-полковник М.[237] якобы вступил в прямые переговоры с русскими. Эти донесения, естественно, поступали и в главную ставку фюрера, однако твердого решения о проведении необходимых контрмер там почему-то не принималось.
В Будапеште складывалась совершенно иная атмосфера по сравнению с той, что была в Италии. Тогда я имел дело только с генералом Штудентом и мог в целом заниматься подготовкой своей операции самостоятельно. Здесь же проходили совещание за совещанием. При этом командующий корпусом занимал позицию, несколько отличавшуюся от той, которой придерживалось посольство. А та, в свою очередь, не совпадала с мнением генерала полиции Винкельмана[238]. Представители же разведки и определенные венгерские деятели высказывали совсем иную точку зрения. Меня радовало только то, что мне не приходилось координировать столь разные подходы. Однако в связи с порученным мне заданием я вынужден был присутствовать на многих совещаниях и выслушивать все эти позиции. Оставалось лишь надеяться, что какие-нибудь события приведут к желаемым переменам и стороны придут все-таки к единому мнению.
Ночью 10 октября 1944 года на одной вилле прошли переговоры между Миклошем Хорти (младшим) и югославским представителем. Немецкая полиция знала об этом, но не вмешалась. Следующие переговоры намечались на воскресенье 15 октября 1944 года в офисе одной торговой фирмы возле набережной Дуная. Еще до этого дня в Будапешт из главной ставки фюрера прибыл генерал Венк[239], чтобы в случае необходимости взять командование на себя и принимать решения на месте исходя из обстановки.
Полиция безопасности горела решимостью вмешаться в переговоры 15 октября и арестовать сына венгерского правителя вместе со всеми его собеседниками. Данную операцию планировалось осуществить под кодовым наименованием «Мышь». Самое интересное заключалось в том, что подобное название произошло из-за ошибки восприятия на слух имени Хорти (младшего) и ассоциации его с Микки-Маусом.
При планировании этой полицейской операции в основу был положен расчет, что венгерский правитель, дабы избежать публичной компрометации своего сына, пойдет на уступки и откажется от своих планов заключения сепаратного мира. Для того чтобы обеспечить успех, генерал Винкельман попросил меня выделить на утро 15 октября роту моих солдат, так как было известно, что и раньше переговоры Хорти-младшего проходили под защитой подразделений венгерской армии.
Если подобное произошло бы и на этот раз, то мои солдаты должны были выступить в роли противовеса. Я согласился оказать поддержку, но с условием, что решение о вводе в операцию моей роты буду принимать лично.
В субботу я получил срочную телеграмму из Берлина, и мне, к великому сожалению, пришлось немедленно отослать туда Карла Радла. Осыпая проклятиями все и вся, он был вынужден подчиниться приказу.
В воскресенье 15 октября стояла ясная осенняя погода, и в десять часов утра на улицах было пустынно. Моя рота, расположившись в закрытых грузовых машинах на боковой улице, находилась в полной боевой готовности. Связь с ней поддерживал гауптман фон Фелькерзам. Сам я, естественно, не мог появиться в военной форме, ведь для того, чтобы присутствовать на месте предполагаемых событий, мне необходимо было облачиться в какую-нибудь неприметную гражданскую одежду. Мой водитель вместе с одним солдатом люфтваффе устроился в сквере рядом с площадью.
Я же на своей легковушке подъехал к месту событий сразу после начала переговоров и, уже сворачивая на площадь, увидел у офиса венгерский военный легковой автомобиль повышенной проходимости, а также персональную автомашину, на которой, вероятно, приехал Хорти-младший. Недолго думая я припарковал свою машину вплотную к ним таким образом, чтобы воспрепятствовать их внезапному отъезду.
Часть полицейских под видом постояльцев еще накануне заняли весь этаж над помещениями офиса, где проходили переговоры. Другие полицейские в десять часов десять минут должны были зайти внутрь с улицы и произвести аресты.
В закрытом венгерском военном легковом автомобиле повышенной проходимости, спрятавшись от постороннего взгляда, сидели три офицера венгерской армии. Еще двое находились в сквере. Я же, когда операция началась, стоял возле своей машины, изображая, что у меня произошла поломка двигателя.
Не успел первый немецкий полицейский скрыться в проеме двери, как из военного легкового автомобиля раздалась автоматная очередь, ранив другого полицейского в живот. Тот рухнул рядом с машиной, а из сквера стали приближаться сидевшие там два венгерских офицера, стреляя из автоматов на бегу. Я едва успел укрыться за своей легковушкой, как оставшуюся открытой дверь прошила автоматная очередь. Становилось жарко!
Во многих окнах и на балконах домов, выходивших на площадь, появились фигуры венгерских солдат. Мой водитель вместе с солдатом люфтваффе после первых выстрелов поспешили ко мне, считая, что я ранен. Водителя ранили в бедро, но он остался на ногах. Тогда я подал знак задействовать мою роту, а сами мы втроем под непрерывным автоматным огнем начали отстреливаться из своих пистолетов из укрытия. Ситуация, прямо скажем, становилась опасной. Хорошо еще, что это продолжалось всего несколько минут — моя машина уже походила на решето. Отскакивавшие от булыжной мостовой пули с неприятным звуком свистели рядом с нами. Сами мы выглядывали из нашего укрытия лишь для того, чтобы выстрелить и держать таким образом противника на дистанции, не превышавшей десяти — пятнадцати метров.
Наконец я услышал топот солдат моей роты, выбегавших из боковой улицы. Фелькерзам мгновенно сориентировался и приказал первой группе занять позицию при входе на площадь. Другие с быстротой молнии взяли под контроль сквер и направили оружие вдоль фасадов домов. После первых выстрелов наших солдат стрелявшие по нас стали отходить к воротам соседнего дома, за которыми укрывалось достаточно много венгерских вояк. Как только стрельба стихла, мы сразу же оттащили двоих наших раненых в парадное, заметив при этом, что противник готовится к прорыву.
Недолго думая мы привели в действие взрывное устройство возле их ворот, забаррикадировав обрушившимися мраморными плитами и дверями им выход. На этом военная часть операции завершилась, заняв не более пяти минут.
Теперь со второго этажа офисного здания стали спускаться полицейские, ведя с собой четверых пленных — Миклоша Хорти (младшего), того самого «Микки-Мауса», его друга Борнемиссу[240] и двух венгров. Этих двух венгров быстро упаковали в грузовик, а двух главных пленников, чтобы не привлекать внимания, полиция хотела было закатать по одному в ковры. Однако эта затея, насколько я мог судить, не вполне удалась, поскольку они отчаянно сопротивлялись. Когда грузовик с арестованными уехал, моя рота стала готовиться к отходу, так как мне хотелось избежать дальнейших столкновений, если противник вдруг снова соберется с силами. Возвращение моих солдат прошло без дальнейших происшествий.
Какое-то внутреннее чувство заставило меня последовать за грузовиком с пленными, и я воспользовался приготовленной второй автомашиной с водителем. Мы не отъехали от площади и ста метров, как под мостом Элизабетбрюке увидели не менее трех рот венгерских солдат, спешивших к месту недавнего столкновения.
«Надо их задержать, иначе может произойти бой с моими людьми, а этого следует избежать», — подумал я и, чтобы выиграть несколько минут, решил прибегнуть к блефу.
Я остановил машину и побежал к офицеру, командовавшему отрядом, крича на ходу:
— Остановитесь! Там наверху происходит что-то невообразимое! Никто ничего не понимает! Вам лучше сначала осмотреться самому!
Мой трюк сработал. Отряд остановился, а его командир в нерешительности застыл на месте, не зная, что ему предпринять. Хорошо, что он лишь немного понимал по-немецки. Во всяком случае, мне показалось, что смысл моих слов дошел до него не до конца. А может быть, он вообще ничего не понял. Как бы то ни было, несколько минут мне все же удалось выиграть — теперь мои солдаты наверняка уже погрузились на грузовики и уехали.
— Мне надо ехать дальше! — крикнул я озадаченному венгерскому офицеру, прыгнул в машину и помчался в сторону аэродрома.
Когда я приехал, оба главных пленника были уже в самолете, и через несколько минут он вылетел в Вену.
С аэродрома я направился в штаб корпуса, который располагался в отеле на одном из будапештских холмов, где наткнулся на генерала Венка и доложил ему о проведенной операции.
Все мы с напряжением ожидали дальнейшего развития событий, поскольку нам было известно, что уже несколько дней на Замковой горе шли определенные военные приготовления — гарнизон был усилен, а на подъездных дорогах заложены мины.
Между тем наступила среда, и из германского посольства, располагавшегося на Замковой горе в небольшом дворце, поступил телефонный звонок. Военный атташе сообщил нам, что гарнизон венгерских войск на Замковой горе официально перешел на осадное положение, а движение по подъездным дорогам и проезд через ворота закрыты. Атташе попытался было выехать оттуда на машине, но его развернули назад. Вскоре после этого телефонная связь была прервана, и больше звонков оттуда не поступало. В результате немецкие представительства, а их было на Замковой горе немало, оказались от внешнего мира отрезанными.
Это, выражаясь витиеватым дипломатическим языком, явилось первым «недружественным актом», и мы с напряжением ожидали, что будет дальше. Неопределенность должна была развеяться через несколько часов. Большинство офицеров штаба корпуса пребывали в некоторой нервозности, поскольку контрмер с нашей стороны еще не наблюдалось.
Пока инициатива принадлежала противоположной стороне. В четырнадцать часов по венгерскому радио передали чрезвычайное сообщение. В послании правителя королевства Венгрия адмирала Хорти говорилось, что заключила сепаратный мир с Россией! Теперь все стало на свои места и требовалось немедленно ввести в действие подготовленные контрмеры. План мероприятий по тревоге в отношении Будапешта был запущен.
Поступил приказ и о проведении операции против Замковой горы «Панцерфауст». Однако я посчитал, что время для ее осуществления еще не настало, и посоветовал несколько часов подождать. В качестве немедленных контрмер в ответ на венгерские мероприятия на Замковой горе мною было предложено охватить гору со всех сторон немецкими частями. Эту задачу решила 22-я дивизия войск СС[241]. Предусматривавшийся планом действий по тревоге захват вокзалов и других важных объектов в городе прошел в послеобеденные часы без каких-либо инцидентов.
К командованию венгерских войск на фронте отправился немецкий генерал, которому было поручено в случае необходимости арестовать командующего венгерской армией. Однако он прибыл со своими людьми слишком поздно — генерал-полковник М. в сопровождении нескольких офицеров и служащих штаба перешел к русским. Поэтому для нас явилось несколько неожиданным то, что это и прозвучавшее по радио сообщение не привело к массовой сдаче противнику венгерских солдат — в целом воинские части венгерской армии остались на своих позициях. Большинство венгерских офицеров не последовало примеру своего командующего. Они не бросили своих солдат и продолжали сражаться дальше. Однако следовало немедленно принять меры, чтобы венгерское военное министерство, располагавшееся рядом с горой, не отдало приказа о капитуляции.
На совещании, состоявшемся уже ближе к вечеру, было принято решение о начале операции «Панцерфауст» не позднее утра 16 октября. Такой подход мне очень понравился, поскольку я ожидал, что в течение нескольких последующих часов произойдет нечто такое, что существенно облегчит мою задачу. По моему решению время начала операции было назначено на предрассветные часы, точнее, на шесть часов утра. Мне хотелось максимально использовать элемент внезапности, а для этого выбранное время казалось наиболее подходящим. Оставшиеся часы мы с Фелькерзамом просидели над картой Замковой горы, и постепенно план проведения утренней операции стал вырисовываться.
Я хотел провести атаку концентрическим способом и одновременно попытаться создать точку приложения основных усилий в центре, вдоль улицы Винерштрассе. Здесь и должен был в полной мере сыграть свою роль момент внезапности. Мне хотелось проследовать Венские ворота без боя и без особого шума, а затем внезапно появиться со своим отрядом на площади перед крепостью, где, собственно, скоро все и могло решиться. Если бы удалось сразу ворваться вовнутрь крепости, предположительно являвшейся центром восстания, то бой вскоре прекратился бы, а это позволило бы избежать ненужного кровопролития с обеих сторон.
Мы распределили задачи среди наших подразделений с учетом того, что нам на усиление придали роту танков «Пантера» и роту танкеток «Голиаф». (Маленькие танкетки «Голиаф» являлись еще малоизвестными новыми разработками. Это были низкие, юркие и дистанционно управляемые самоходные гусеничные машины с мощным взрывным устройством в передней части. Мы могли их использовать для преодоления баррикады или подрыва ворот, чтобы расчистить проход.)
Батальон фенрихов из Винер-Нойштадтского училища должен был наступать через сады по крутому южному склону Замковой горы с задачей подавить сопротивление и захватить крепость. Это являлось делом нелегким, так как мы знали, что венгры оборудовали там оборонительные позиции, пулеметные и легкие зенитные огневые точки.
Взводу истребительной части «Центр», усиленному двумя танками, была поставлена задача атаковать гору вдоль западного выезда с тем, чтобы взять под контроль тыловой выход.
Взвод 600-го парашютно-десантного батальона войск СС должен был взять под контроль подвесные мосты подземного туннеля внутри Замковой горы, захватить вход в лабиринт и по нему проникнуть в здания военного министерства и министерства внутренних дел.
Остальные взводы роты истребительной части «Центр», большую часть 600-го парашютно-десантного батальона войск СС, шесть танков и роту танкеток «Голиаф» я оставил в своем распоряжении, а парашютный батальон люфтваффе — в резерве на случай непредвиденных обстоятельств.
Мы разработали детальные приказы для каждого подразделения, участвовавшего в операции, и в полночь они заняли исходное положение позади опоясывавших Замковую гору частей 22-й дивизии СС.
Жизнь на улицах Будапешта не изменилась — население практически не обратило внимания на мероприятия, проводившиеся как венгерскими, так и немецкими частями. В кафетериях по-прежнему было полно народу, и они закрывались в поздние ночные часы. Без изменений работали и вокзалы железной дороги, по которой из Германии беспрепятственно шло снабжение фронта.
Миновала уже полночь, когда командованию корпуса доложили о прибытии высокопоставленного офицера из венгерского военного министерства. По поручению своего министра он приехал для проведения переговоров, проследовав из Замковой горы по неизвестным нам дорогам. С нашей стороны было заявлено, что до того момента, пока венгерский правитель не откажется от своего заявления, в переговорах нет никакого смысла. Кроме того, мы подчеркнули, что расцениваем удержание на Замковой горе под фактическим арестом сотрудников германского посольства и других немецких инстанций как «более чем недружественный шаг». По моему совету венгерской стороне был выдвинут ультиматум, предписывавший до шести часов утра исправить сложившееся положение. До того же времени мы потребовали убрать различные заграждения и разминировать улицу Винерштрассе, которая вела к немецкому посольству. Если бы это произошло, то наша задача по проведению внезапной операции по захвату Замковой горы с минимальными потерями сильно облегчалась.
Манера поведения венгерского офицера создала у нас впечатление, что внезапный разворот венгерского правителя, направленный против Германии, не нашел одобрения ни у этого человека, ни в самом венгерском военном министерстве. В словах парламентера содержался прямой намек на то, что далеко не все венгры на Замковой горе согласны со скоропалительным решением и радиообращением правителя. В целом разговор с венгерским офицером прошел в дружественном тоне, и в два часа ночи он уехал.
Около трех часов ночи я прибыл на командный пункт у подножия Замковой горы, припарковал свою машину повышенной проходимости и вновь собрал всех офицеров. Ночь была очень темной, и ее прорезали только слабые лучи карманных фонариков, освещавших карту с нанесенной обстановкой — требовалось уточнить последние детали проведения операции. Офицеры хорошо подготовились и отлично изучили все особенности местности. Нам принесли термос с горячим кофе, который мы разлили по крышкам наших полевых фляжек и с удовольствием выпили. Обжигающий напиток хорошо подействовал, согрев нас и сняв нервное напряжение.
Между тем у меня созрел окончательный план собственных действий. Он заключался в том, чтобы попытаться теми силами, которые я оставил себе, маршевой колонной просто подняться на гору, делая вид, что это в порядке вещей и ничего особенного не происходит. Солдатам надлежало оставаться в своих машинах, поскольку внешне все должно было походить на обыкновенный марш. Я понимал, что сильно рискую, поскольку в случае неприятельской атаки мои люди в машинах в первые минуты оказывались почти беззащитными. Но если я хотел закончить все быстро, то такой маневр мог себя с лихвой оправдать.
Я довел до своих офицеров свой план, отметив, что если он удастся, то тогда они смогут рассчитывать на мою скорую поддержку изнутри неприятельской обороны с вершины горы.
Затем я построил свою маршевую колонну с тем расчетом, что после того, как она проследует через Венские ворота и достигнет вершины Замковой горы, ей предстояло разделиться и на максимальной скорости устремиться по обеим параллельным улицам к площади перед замком. Подозвав к себе командиров рот и взводов, я еще раз строго предупредил их о необходимости соблюдения дисциплины открытия огня.
— На огонь неприятеля не отвечать, а постараться достичь указанных мною мест, — приказал я. — В своих действиях вам надлежит исходить из того, что венгры не являются нашими врагами.
Я сам возглавил колонну на своей машине, стоявшую в готовности к выезду на улицу Винерштрассе. Было около пяти часов тридцати минут утра, и начинался рассвет. За мной в колонну построились два танка, за ними взвод роты танкеток «Голиаф», а потом грузовики с солдатами, посаженными в машины повзводно. Оружие было поставлено на предохранитель, и люди, откинувшись на скамейках в кузовах, воспользовались короткой паузой и задремали. У этих бывалых фронтовиков нервы были просто стальными, и они, как всегда перед опасной операцией, не преминули воспользоваться возможностью, чтобы немного вздремнуть. Из осторожности я на всякий случай послал в штаб корпуса своего начальника штаба, чтобы он выяснил, не произошло ли каких-либо изменений. Вскоре он вернулся и доложил, что все оставалось по-прежнему. Время начала операции то же — шесть ноль-ноль.
До момента выдвижения оставалось всего несколько минут, и я направился к своей машине, в которой, наряду с Фелькерзамом и Остафелем, уже сидело пятеро моих проверенных в операции на Гран-Сассо бойцов — четыре унтер-офицера и один фельдфебель, — составлявших мою собственную ударную группу. У каждого из них на поясах были прикреплены ручные гранаты, а в руках, наряду с автоматами, они держали по панцерфаусту — новому средству поражения танков. Всех нас разбирало любопытство, как они справятся с подтянутыми на Замковую гору венгерскими бронемашинами, ведь в случае необходимости им предстояло познакомиться с эффективностью действия снарядов наших танков и панцерфаустов.
Я взглянул на наручные часы — до начала операции оставалась всего одна минута — и сделал правой рукой круговое движение, означавшее команду «Заводи!». Затем, уже стоя в своей машине, я несколько раз выбросил руку вверх, давая знак к началу движения.
Машины медленно тронулись с места и поползли наверх. Мне оставалось только надеяться, что ни одна из них случайно не напорется на мину. Ведь такое неизбежно привело бы к остановке колонны и могло нарушить мой прекрасный план. Я непроизвольно прислушивался, не раздастся ли позади меня взрыв. Наконец показались Венские ворота. По нашему указанию венгерские солдаты их открыли, с удивлением и любопытством взирая на нас. Мы добрались до плато.
— Постепенно увеличивайте скорость! — тихо скомандовал я своему водителю.
По правой стороне дороги располагалась венгерская казарма.
— Будет неприятно, если сейчас по нас откроют фланговый огонь, — пробурчал сидевший рядом со мной Фелькерзам.
Перед зданием казармы виднелись два пулеметных гнезда, а впереди — баррикады из сложенных мешков с песком. Однако никакого подозрительного движения мы не заметили. Сзади нас слышалось лишь рычание танковых моторов. Я свернул вправо на улицу, на которой располагалось немецкое посольство. Моя машина увеличила ход, но так, чтобы не оторваться от танков, следовавших за нами со скоростью примерно тридцать пять — сорок километров в час.
До крепости оставалось не более тысячи метров, и большую часть пути мы уже благополучно преодолели. На Замковую гору нам удалось добраться без единого выстрела. Наконец слева показалось массивное, стоявшее особняком здание венгерского военного министерства. Вдали послышалось несколько взрывов. Скорее всего, это было дело рук наших людей, захватывавших внизу вход в туннель. Наступали решающие минуты всей операции.
Мы миновали здание военного министерства и оказались на площади перед крепостью. День еще не наступил, и было довольно темно. Тем не менее на площади различались три венгерских танка. Моя машина промчалась мимо первого из них, и он поднял свою пушку вверх в знак того, что стрелять не будет.
Перед воротами крепости нас встретила баррикада, сооруженная из камней и высотой не менее метра. Я отъехал немного в сторону и подал сигнал, чтобы следовавший за мной танк со всей своей мощью обрушился на завал. Сами мы спешились и побежали вслед за ним. Натиска тридцатитонной машины баррикада не выдержала и развалилась. Танк перекатился через булыжники и направил свою длинную пушку на крепостной двор, не обращая внимания на шесть направленных на него противотанковых орудий.
Перепрыгивая через развороченные камни возле танка, мы устремились через выбитые ворота. Путь нам попытался преградить полковник венгерской гвардии с пистолетом в руках, но один из моих солдат выбил оружие у него из рук.
Справа от нас, похоже, был главный вход в замок, и мы бегом направились туда.
— Немедленно отведите нас к коменданту! — крикнул я венгерскому офицеру, попытавшемуся преградить нам путь.
Он повиновался и побежал рядом со мной наверх по широкой парадной лестнице, устланной красной ковровой дорожкой. На втором этаже мы свернули по коридору налево, и я сделал знак одному своему солдату, чтобы он остался и прикрыл нам тыл.
Венгр указал на одну из дверей, мы ворвались в небольшое фойе и увидели, что перед распахнутым окном на столе с пулеметом лежит какой-то человек и собирается открыть огонь по площади. Маленький и коренастый унтер-офицер Хольцер бросился к нему, схватил пулемет обеими руками и выбросил его в окно. Тот с громким стуком ударился о мостовую, а стрелок от удивления свалился на пол.
Справа виднелась дверь. Коротко постучав, я открыл ее, вошел в кабинет и увидел генерал-майора венгерской армии.
— Вы комендант? — спросил я его. — Я требую немедленной сдачи крепости и ответственно заявляю, что с этой минуты на вас ложится персональная ответственность за излишнее кровопролитие. Прошу вас объявить свое решение немедленно!
На улице послышались одиночные выстрелы, перекрывавшиеся отдельными пулеметными очередями.
— Вы сами видите, что сопротивление бесполезно, — продолжал напирать я, зная, что рота истребительной части «Центр» под командованием хладнокровного обер-лейтенанта Хунке последовала за мной и наверняка уже заняла все важнейшие узлы обороны венгерского гарнизона.
В этот момент появился и сам Хунке.
— Двор и главные подходы к нему заняты без боя, — доложил он. — Жду дальнейших распоряжений.
Тогда и венгерский генерал-майор принял наконец нелегкое для него решение.
— Я сдаю вам крепость и сейчас отдам приказ о немедленном прекращении огня, — заявил он.
Мы пожали друг другу руки и быстро договорились, что соответствующий приказ продолжающим сопротивление подразделениям гарнизона передадут два офицера — мой и венгерский. После этого я вышел в коридор, чтобы осмотреться. По моей просьбе меня сопровождали два венгерских майора, которые и потом оставались со мной в качестве офицеров связи.
Подойдя к расположенным поблизости апартаментам правителя Венгерского королевства, я с удивлением обнаружил, что они оказались пустыми. Мне объяснили, что около шести часов утра правитель уехал. Как стало известно позже, он отправился под защиту в располагавшийся на Замковой горе дом генерала войск СС Пфеффер-Вильденбруха[242], а семья правителя еще раньше нашла пристанище у папского нунция[243].
Однако это ничего не меняло, поскольку в наших планах предусматривалось только взятие под защиту резиденции правительства. Когда мы выглянули в окно, то у нас над головами просвистело несколько пуль. Позже Хунке доложил мне, что приказ о прекращении огня не был доведен до некоторых венгерских опорных позиций, но пары выстрелов из панцерфаустов хватило, чтобы и эти подразделения осознали, что благоразумнее было прекратить сопротивление.
Вся операция заняла не более получаса, и на Замковой горе вновь воцарилась тишина. Жители Будапешта, проживавшие в близлежащих кварталах, могли спокойно продолжить свой сон. Я связался со штабом корпуса по специальной линии и доложил об успешном завершении нашего предприятия. При этом мне показалось, что на другом конце провода раздался вздох облегчения — видимо, там не очень надеялись на мой план, который был рассчитан на внезапность.
Затем ко мне поступили доклады из венгерского военного министерства и министерства внутренних дел. Там тоже все прошло благополучно, только в военном ведомстве произошла короткая перестрелка.
Один за другим ко мне прибывали с докладами командиры боевых групп. Выяснилось, что тяжелые бои произошли только со стороны садов. К счастью, мы понесли лишь небольшие потери — у нас насчитывалось четверо убитых и двенадцать раненых. Тогда я попросил уточнить у коменданта крепости потери венгерской стороны. Венгры потеряли трех человек убитыми и пятнадцать ранеными. Оставалось только порадоваться, что обошлось без больших жертв.
Солдаты располагавшихся на Замковой горе батальонов регулярной венгерской армии, батальона гвардии и королевской стражи сложили свое оружие во дворе крепости, а офицеры по моему распоряжению оставили свои пистолеты при себе. Я попросил их собраться в одном из залов и обратился к ним с краткой речью, обратив внимание офицеров на то, что на протяжении столетий венгры не сражались с немцами и что мы всегда являлись верными товарищами по оружию.
— То, что произошло сегодня, не должно служить поводом для раздоров, поскольку речь идет о будущем новой Европы, — подчеркнул я. — Однако она может возникнуть только тогда, когда Германия будет спасена.
Мой австрийский акцент, судя по всему, придал дополнительный вес моим словам, что почувствовалось во время рукопожатий, которыми я обменялся с каждым из венгерских офицеров. После обеда они прошли торжественным маршем во главе своих подразделений мимо нас и отправились в места постоянной дислокации, а на следующий день принесли перед зданием военного министерства присягу новому правительству.
Командование корпусом отдало приказ, согласно которому моим подразделениям следовало и дальше оставаться на Замковой горе, и мне пришлось заняться размещением моих солдат. Когда Фелькерзам попросил камердинера венгерского правителя принести нам завтрак, то он скорчил такую рожу, что привел моего верного офицера в бешенство. Но мы отчаянно голодны и, несмотря на откровенное нежелание этого слуги нас обслуживать, добились своего и съели все с большим удовольствием.
Вечером я поприветствовал своих офицеров в одной из столовых крепости, где присутствовал также и начальник Винер-Нойштадтского военного училища. Он явно гордился тем, что его «орлы», как полковник любил называть своих фенрихов, так доблестно сражались. Мы явно вели себя гораздо скромнее, чем это было принято здесь раньше, хотя и пребывали в прекрасном расположении духа — с фронтов стали поступать хорошие новости. К тому же нам тоже удалось предотвратить тяжелый удар для германских армий в Венгрии.
Я наслаждался давно забытым покоем, нежась в широкой кровати, а после утренней горячей ванны с удовольствием приступал к дальнейшей работе. Конечно, при таких условиях можно было все организовать самым лучшим образом! Оставшееся тяжелое оружие, противотанковые и зенитные орудия я приказал собрать. Следовало также расположить посты охраны во всех важных местах и обучить их новым условиям несения службы. Необходимо было организовать охрану гауптвахты, а также телефонных и иных линий связи, обеспечить пропускной режим на воротах. Надлежало наладить повседневную работу на конюшнях, в садах и оранжереях, а также в других местах. Требовалось не дать разбежаться прежним венгерским служащим. В общем, дел хватало. Самое интересное заключалось в том, что даже в наиболее смелых мечтах я и представить себе не мог, что когда-нибудь стану комендантом Замковой горы в Будапеште!
Прибыл недавно назначенный венгерский военный министр Берегфи[244] и выразил мне слова благодарности от имени нового правительства. На это я ответил, что счастлив тем, что бой оказался настолько коротким и что великолепным историческим зданиям не причинено никакого ущерба. При этом я с содроганием представил себе, какие разрушения могли нанести снаряды, выпущенные из 650-мм мортиры, привезенной грубым в своем поведении господином Бах-Зелевским.
Мы договорились о проведении совместной церемонии погребения погибших немецких и венгерских солдат. При этом официальную сторону вопроса взяло на себя венгерское правительство. И я был ему благодарен за эту идею, поскольку она искореняла последние остатки неприязни между нами и венграми.
О былых австро-венгерских временах мне напомнил визит пожилого господина, облаченного в форму фельдцейхмейстера[245].
— Привет! — поприветствовал он меня. — Я слышал, что ты родом из Вены! Это очень радует. К тому же тебе удалось провернуть дельце с Муссолини! Прекрасно! Прекрасно!
Честно говоря, меня такой напор несколько ошеломил, и тут Фелькерзам шепнул мне на ушко, что это не кто иной, как эрцгерцог Фридрих из династии Габсбургов. Я попросил посетителя присесть и спросил, нет ли у него каких-либо пожеланий.
— О да! — заявил эрцгерцог. — У меня есть одна просьба. Мои лошади содержались здесь в дворцовой конюшне. Они могут там остаться?
— Ну конечно, ваше императорское высочество! — заверил его я. — Все останется по-прежнему! А мне можно как-нибудь взглянуть на ваших лошадей?
Несколько позже мне посчастливилось увидеть этих прекрасных скакунов в заполненной до отказа конюшне. Признаюсь, что если бы не визит данного милого господина, явившегося словно из далекого славного прошлого, то мне никогда бы не пришла в голову подобная идея, и я мог бы пропустить столь важную достопримечательность Будапешта.
В тот же вечер из главной ставки фюрера пришел приказ, согласно которому на следующий день, 18 октября, на специальном поезде мне надлежало доставить венгерского правителя в качестве гостя фюрера в замок Хиршберг возле города Вайльхайма в Баварии. На меня же возлагалась и ответственность за безопасность этого поезда. Так что с прекрасными денечками в Будапеште приходилось распрощаться.
Для обеспечения безопасности я приказал сопровождать поезд роте истребительной части «Центр», а своему курьерскому самолету, стоявшему на будапештском аэродроме, — перебазироваться на аэродром Мюнхен-Рим[246]. Мне хотелось вернуться как можно раньше, чтобы присутствовать на погребальной церемонии погибших во время взятия Замковой горы немецких и венгерских солдат.
На следующий день я поехал в штаб генерала войск СС Пфеффер-Вильденбруха, который по всей форме представил меня венгерскому правителю адмиралу Хорти в качестве коменданта поезда. Тогда я и узнал, что помимо членов семьи правителя должны были сопровождать венгерские генералы Брунсвик и Ваттай.
На вокзал мы поехали на машине, и надо сказать, что немногочисленные прохожие на улицах даже не обернулись вслед своему правителю, много лет управлявшему Венгрией. Перед вокзалом же стояло довольно много народу, но никто не поднял руки в знак его приветствия. Какое печальное прощание со своей столицей!
В поезде с нами ехал также высокий чин из германского министерства иностранных дел, который пригласил меня в салон-вагон правителя и представил супруге адмирала Хорти, а также его невестке, облаченной в одеяние сестры милосердия Красного Креста. Поездка проходила спокойно, и я проводил время в вагоне-ресторане в обществе обоих генералов, которые постоянно вспоминали далекие дни своей молодости.
— Все так и должно было произойти, — обращаясь ко мне, покорно говаривал один из них.
Между тем наступила ночь, и в Вене меня позвали к правителю, который заявил, что служащие германского министерства иностранных дел обещали ему посадить здесь в поезд его сына, и потребовал исполнить обещание. На это я честно ответил, что ничего не знаю и слышу об этом в первый раз. Справедливо рассердившись, адмирал повернулся и ушел к себе.
Из Мюнхена я постарался как можно скорее вернуться в Будапешт, а своих людей из роты истребительной части «Центр», которые ехали в поезде вместе с ранеными, отпустил во Фриденталь. На траурную церемонию 20 октября мне удалось приехать вовремя. Она проходила во дворе замка, послужившем весьма подходящим фоном для подобного мероприятия, а в почетном карауле стояло по роте немецкой и венгерской армий. Все семь гробов были накрыты полотнищами национальных цветов Германии и Венгрии. После окончания траурного мероприятия останки наших погибших солдат были перевезены на родину.
Когда через восемь дней после описанных событий я вновь появился в Винер-Нойштадтском военном училище, то в кармане у меня уже лежал весьма ценный приказ главной ставки фюрера. Дело заключалось в том, что я попросил перевести ко мне в истребительные части СС двадцать фенрихов и моя просьба была удовлетворена.
Начальник училища построил на плацу весь свой личный состав. Я вышел перед строем, довел до фенрихов содержание приказа и попросил добровольцев сделать шаг вперед. Записаться в мои истребительные части пожелало почти девяносто процентов всех молодых солдат. Тогда при помощи начальника училища я подобрал из них двадцать человек, имевших фронтовой опыт и проходивших ранее службу в нужных мне родах войск. Надо было видеть, какое разочарование было написано на лицах тех, кто не попал в число избранных. В то же время все фенрихи искренне радовались за своих товарищей, когда я зачитал приказ о присвоении всем двадцати звания лейтенант с одновременным переводом их в истребительные части СС, на что соответственно был уполномочен.
С адмиралом Хорти мне довелось встретиться еще раз уже после войны. Случилось это в Нюрнбергском дворце правосудия, когда мы оба были пленниками американцев. На Нюрнбергском процессе адмирал сидел в партере на скамье так называемых добровольных свидетелей. Добираться до зала суда этому самому бодрому из многих пожилых свидетелей помогал какой-то немецкий фрегаттенкапитен[247]. Он же оказывал ему помощь и в общей камере.
Когда меня из одиночной камеры хотели перевести в общую, а это было где-то в конце ноября 1945 года, адмирал Хорти сначала заартачился. Однако после нескольких дней промедления по приказу американского полковника Андруса, отвечавшего за безопасность, он все же согласился на мой перевод.
Фельдмаршал Кессельринг, который в камере играл роль «бывалого заключенного», посоветовал нам объясниться друг с другом, после чего состоялся более чем двухчасовой разговор, закончившийся полным взаимопониманием. Для меня же он принес еще и новую информацию.
Я честно заверил Хорти, что его персона в операции «Панцерфауст» не играла никакой роли. В свою очередь, и он поведал мне, что всегда старался проводить дружественную Германии политику, и рассказал о своих трудностях, которые к концу войны выросли до бескрайних пределов.
В общем, этот разговор еще раз подтвердил старую прописную истину, что для полного понимания дела всегда следует выслушать обе стороны.
Но все это было гораздо позже, а тогда, 20 октября 1944 года, мы с Фелькерзамом и Остафелем снова сидели в курьерском самолете, летевшем без всяких пересадок напрямую в Берлин. Там за прошедшие пять недель накопилось много вопросов, и никто кроме меня их разрешить не мог. Однако не успели мы приземлиться, как пришел приказ, предписывавший мне на следующий день явиться в главную ставку фюрера для отчета. Хорошо, что экипаж самолета согласился подождать до утра. На этот раз, идя навстречу пожеланиям Фелькерзама, я взял его с собой.
Мы вновь летели в Растенбург[248]. На этот раз полет напоминал боевой вылет, поскольку русские уже сильно вклинились на территорию Восточной Пруссии. Автомашина доставила нас сначала в «Березовый лес» — штаб-квартиру Гиммлера, располагавшуюся примерно в тридцати километрах северо-восточнее главной ставки фюрера. Здесь все готовились к эвакуации, так как фронт находился уже всего в каких-то двадцати километрах. Гиммлер как раз ужинал и принял нас в своем командном поезде. Внезапно поезд тронулся и поехал в сторону Растенбурга. Мы едва успели закончить свой доклад о событиях, произошедших в Будапеште, как прибыли в главную ставку фюрера. Здесь мы вышли и направились назад в «Березовый лес», чтобы переночевать там, поскольку в главной ставке фюрера нас ожидали только на следующий день.
На эту ночь вся штаб-квартира Гиммлера была в нашем распоряжении — во всем барачном городке находились только два ординарца да мы с Фелькерзамом. Уже лежа в постели, я смог в спокойной обстановке поразмышлять. Мне не мешала даже приглушенная артиллерийская канонада, свидетельствовавшая, что фронт совсем рядом. Теперь война перекинулась уже на немецкую территорию — русскому колоссу все-таки удалось пересечь границу.
«Может быть, настало время собрать все последние силы немецкого народа и его солдат, чтобы наконец на деле осуществить столь долго пропагандируемую «тотальную войну»? — подумал я тогда. — Может быть, немцам, занимающим разные точки зрения, пора замолчать и объединиться, чтобы общими усилиями отогнать назад к границам Германии врага на Востоке и всеми средствами не дать противнику на Западе продвинуться дальше?»
Эта пустая и брошенная штаб-квартира на Востоке впервые вселила в меня легкое чувство пессимизма, которое я так и не смог побороть. И вновь на меня обрушились мысли: «Хватит ли у нас сил и резервов, чтобы противостоять натиску со всех сторон? В состоянии ли такие единичные успехи, как наши в Венгрии, вообще оказать хоть какое-то влияние на общий ход великих событий?»
Глава 15
Русские приближаются к «Волчьему логову». — Наедине с Гитлером. — Наступать несмотря ни на что. — «Защитный вал от Азии». — План наступления в Арденнах. — Мое задание. — Строжайшее соблюдение тайны. — Инструктаж генерал-полковника Йодля. — Большие трудности. — Недопустимая оплошность высокой инстанции. — «Фау-1» на Нью-Йорк? — Планы Гиммлера. — Опрометчивое решение. — Я решаюсь противоречить. — Проблема точности определения цели
На следующий день с утра пораньше мы покинули наше просторное ночное пристанище. А вместе с нами уехали и последние два эсэсовца, поскольку через несколько часов этот район мог превратиться в прифронтовую полосу. В «Волчьем логове» нас еще не ждали. Я решил воспользоваться случаем и посетить пустовавшую в эти часы сауну, где ночные сомнения покинули меня.
После обеда мне приказали явиться в бункер Гитлера. Причем Фелькерзаму было предписано остаться в фойе, так как к фюреру следовало идти мне одному. Проход, который вел в бункер, производил впечатление входа в глубокий каземат, где голые бетонные стены без окон освещались мертвенным электрическим светом.
Справа от центрального прохода виднелась дверь, которая вела в приватные покои фюрера. Они представляли собой одновременно и жилое и спальное помещение. Фюрер принял меня, как всегда, очень любезно. На этот раз он казался более бодрым и свежим, чем прошлый раз, и, протянув мне обе руки, произнес:
— Вы провели блестящую операцию, дорогой Скорцени. Еще 16 октября я присвоил вам звание оберштурмбаннфюрера и наградил орденом Германский крест в золоте. Уверен, что вы хотите, чтобы и ваши люди получили достойную награду. Детали обговорите с моим адъютантом Гюнше[249]. Все уже заранее одобрено. А теперь расскажите мне подробности вашей операции.
С этими словами он отвел меня в небольшой уголок для отдыха, в котором нашлось место только для двух мягких кресел, маленького круглого столика и торшера.
Я докладывал все по порядку, остановившись на операции «Мышь», ультиматуме, начале акции «Панцерфауст» и внезапном нападении на крепость.
Затем фюрер пожелал узнать, как мы планировали применение роты танкеток «Голиаф», и, выслушав мой рассказ, заявил:
— Да, для подрыва небольших баррикад и ворот эти маленькие «Голиафы» просто незаменимы.
Особенно Адольф Гитлер порадовался моему успешному обращению к венгерским офицерам и от души рассмеялся, когда я рассказал ему о визите эрцгерцога. Внезапно он вновь стал серьезным, и мне показалось, что время моей аудиенции подошло к концу.
Я было встал, но Гитлер вновь усадил меня.
— Нет, нет! Останьтесь, Скорцени! — воскликнул он. — Сегодня я хочу поручить вам, быть может, самое важное задание в вашей жизни. В этот совершенно секретный план, в котором вам отводится большая роль, посвящены лишь единицы. В декабре Германия начнет большое, судьбоносное для страны наступление.
Далее Адольф Гитлер начал подробно излагать мне план и основной замысел последнего немецкого наступления на Западе, которое вошло в военную историю под названием Арденнская наступательная операция. Обстоятельства последних месяцев вынуждали германское командование делать основной упор в планировании боевых действий на оборону. Это было время непрерывных военных неудач, постоянных отступлений на Западном и Восточном фронтах. Пропаганда, особенно западных союзников, не переставала утверждать, что «Германия превратилась в смердящий труп» и ее окончательный разгром — это лишь вопрос времени. Причем сроки этого разгрома определят лишь сами союзники.
— Они не хотят понять, что Германия воюет в интересах всей Европы. Ради Европы она истекает кровью, чтобы поставить заслон перед Азией на ее пути на Запад, — в большом волнении заявил Гитлер.
Смысл дальнейших высказываний Гитлера сводился к тому, что народы Англии и Америки устали от войны. И если якобы «умершая Германия» внезапно восстанет из мертвых, если ее так называемый «труп» еще раз нанесет решительный удар на Западе, то можно рассчитывать на то, что под давлением своих народов и в результате осознания ошибочного утверждения собственной пропаганды западные союзники согласятся на заключение мира с Германией. Тогда бы он, Гитлер, смог повернуть все дивизии и армии на Восток и продолжить борьбу. В результате угроза Европе с Востока была бы навечно ликвидирована. Этой исторической задаче — служить Европе защитным валом от Азии — Германия была предана более тысячи лет.
Подготовкой широкомасштабного наступления в обстановке строжайшей секретности на протяжении последних недель занималось несколько офицеров Генерального штаба. Им надлежало все тщательно продумать и просчитать. Результатом данной наступательной операции должен был явиться возврат Германии утраченной стратегической инициативы, которая в последние месяцы принадлежала западным союзникам. По словам Гитлера, еще с момента начала продвижения союзников от Нормандии к немецким границам его не оставляла мысль о том, как замедлить и прекратить это продвижение путем проведения мощных контрударов. Он постоянно размышлял над этим даже в самые тяжелые дни, однако вследствие неблагоприятной обстановки на всех фронтах проведение таких контрударов было невозможным.
То, что противник на протяжении последних трех недель застрял на достигнутых рубежах, свидетельствовало о наличии серьезных трудностей в снабжении войск из-за растянувшихся тылов и о большой изношенности техники союзников в ходе непрерывных четырехмесячных боев и постоянного движения вперед. Именно это дало возможность укрепить наш фронт, который одно время практически был сломан.
— Почти абсолютное превосходство авиации союзников в воздухе обеспечило успех как самой их высадки, так и после нее. Именно в этом кроется причина того, что им удалось выиграть битву при вторжении, — подчеркнул Адольф Гитлер и после короткой паузы продолжил свой монолог.
Он говорил так проникновенно и убедительно, как никогда раньше. По мнению фюрера, немецкое командование могло рассчитывать на то, что из-за погодных условий осенью и в начале зимы активность неприятельской авиации по крайней мере на некоторое время снизится. План проведения наступления основывался на нестабильности погоды, которая нивелировала бы наши недостатки.
— Кроме того, мы задействуем две тысячи новых реактивных истребителей, которые находились в резерве именно для данного наступления, — закончил Адольф Гитлер эту часть своего выступления.
В его словах, возможно, усматривалось некое противоречие, на которое я тогда внимания не обратил. О том, что новые, превосходящие противника реактивные истребители вскоре появятся на фронте, говорилось многими, а это, в свою очередь, вселяло во всех нас большие надежды.
Начало неожиданного немецкого наступления, по мнению Гитлера, помешало бы формированию сильной французской армии. А семидесяти англо-американских соединений было явно недостаточно для фронта длиной семьсот километров. Отсюда следовало, что сильная концентрация немецких войск в благоприятном для них месте могла позволить осуществить прорыв обороны противника еще до того, как союзники сумеют укрепить свой фронт новыми французскими дивизиями.
Следовало также рассчитывать на то, что данное наступление в ближайшие месяцы могло создать благоприятные предпосылки для последующих действий. В любом случае тогдашнее положение на Западном фронте, в том числе в Голландии, сохранилось бы. На Восточном фронте положение таюке должно было стабилизироваться, что позволило бы высвободить части армии резерва, а это, в свою очередь, способствовало бы быстрому пополнению личным составом и техникой немецких соединений на Западном фронте. Кроме того, в начале наступления неприятельские армии в первой полосе обороны планировалось быстро уничтожить, чтобы создать таким образом необходимую глубину оперативного построения германских войск.
— Выбор места нанесения удара мы обсуждали несколько недель, — продолжал между тем фюрер.
По его словам, первоначально рассматривалось пять различных вариантов проведения наступления. Первому варианту было присвоено наименование «Голландия». Он предусматривал нанесение удара из района Венло в западном направлении на Антверпен. Второй вариант под кодовым наименованием «Северный Люксембург» предполагал наступление с севера Люксембурга сначала на северо-запад, а затем на север, поддержанное вторым ударом из района севернее Аахена. Третий вариант, получивший название «Люксембург», был рассчитан на осуществление наступления двумя колоннами, одна из которых выходила бы из центра Люксембурга, а другая из Меца с задачей встретиться в районе Лонгви. Четвертый вариант предусматривал нанесение удара также двумя колоннами, выходящими соответственно из Меца и Баккары, чтобы соединиться в Нанси. И наконец, пятый вариант с названием операция «Эльзас» рассматривал проведение опять-таки двух ударов — один из района восточнее Эпиналя, а другой из Монбельяра с соединением в районе Везуля.
Все сильные и слабые стороны каждого плана были тщательно проанализированы. В результате от трех последних отказались. Далее Адольф Гитлер заметил, что наиболее интересным представлялся первый вариант — «Голландия», но он содержал в себе большой риск, и поэтому остановились на втором варианте под кодовым наименованием «Северный Люксембург».
— Я рассказываю вам все это так подробно, чтобы вы прониклись важностью предстоящего задания и понимали, что мы все тщательно взвесили и проработали, — заявил Адольф Гитлер.
Мне с большим трудом удавалось зрительно представить себе карту с перечисленными планами, чтобы потом лучше вникнуть в дальнейшие разъяснения. Подобным способам оперативного планирования Генерального штаба я не очень доверял, ведь за прошедшие, а также предстоящие недели подготовки к наступлению план действий следовало согласовать с имеющимися силами, удерживавшими фронт, поскольку наличие стабильного фронта было необходимо для осуществления любой наступательной операции. Однако я помнил, что во время Французской кампании 1940 года именно в этом районе немецким войскам удалось совершить прорыв, и приобретенный тогда опыт являлся весьма ценным в дальнейшей подготовительной работе Генерального штаба.
— Вам и частям, находящимся под вашим началом, мы ставим в рамках этого наступления одну из самых важных задач, — заметил Адольф Гитлер. — В качестве передовых отрядов вы должны будете захватить один или несколько мостов на Маасе между Люттихом и Намюром. Эту миссию надлежит осуществить с помощью хитрости — вашим людям следует переодеться в американскую и английскую форму. Между прочим, во время нескольких диверсионных рейдов враг сумел с помощью этого приема нанести нам значительный урон. Только на днях мне доложили, что при взятии союзниками первого на западе Германии немецкого города Аахен подобный их переодетый отряд сыграл очень большую роль.
Фюрер на мгновение умолк, а потом продолжил:
— Кроме того, вам следует высылать небольшие переодетые группы, которые будут отдавать во вражеском тылу ложные приказы, нарушать линии связи, вводить в заблуждение неприятельские подразделения, а также сеять смятение в рядах союзников. Приготовления должны быть завершены к началу декабря. Подробности обсудите с генерал-полковником Йодлем.
Я собрался уже уходить, как Гитлер вновь остановил меня и сказал:
— Не сомневаюсь, что вы сделаете все от вас зависящее. А теперь самое главное — соблюдайте строжайшую тайну! О плане наступления знает только несколько человек. Для того чтобы окончательно скрыть приготовления войск, вам следует придерживаться версии, которую мы разработали в качестве прикрытия. Вы должны говорить, что германское командование еще в этом году ожидает большого наступления противника в направлении Кельна и Бонна. Все приготовления направлены на отражение этого удара.
После такого инструктажа у меня возникли некоторые опасения, и я высказал их по мере их появления:
— Мой фюрер! Столь малый срок, отводимый мне на подготовку к операции, подразумевает возникновение многих вопросов, которые придется решать по ходу их появления и импровизируя при этом. А как быть с другими задачами, стоящими перед истребительными частями? Выполнить все одновременно я просто не смогу.
Фюрер ответил не сразу, и я, воспользовавшись этим, развил эту мысль дальше, напомнив ему, в частности, о приготовлениях по осуществлению операции по захвату бельгийского форта Эбен-Эмаэль в 1940 году, которые длились целых полгода. Гитлер дал мне возможность высказаться, а потом сказал:
— Знаю, что этот срок крайне мал, но я рассчитываю, что вы совершите невозможное. На время подготовки вам будет выделен заместитель, но во время проведения самой операции на передовой должны быть вы сами. Однако я запрещаю вам лично идти во вражеский тыл. Вы не должны попасть в плен!
С этими словами фюрер встал и проводил мою скромную персону до небольшого боевого информационного поста бункера, находившегося слева от входа и где меня поджидал Фелькерзам. Здесь я был представлен генерал-полковнику Гудериану, который в то время был начальником германского Генерального штаба. Я со своей стороны представил фюреру Фелькерзама. К нашему обоюдному удивлению, Адольф Гитлер вспомнил, что Фелькерзам участвовал в операции в России, за что был награжден Рыцарским крестом.
Через пару часов нас принял генерал-полковник Йодль, который с помощью карты разъяснил некоторые подробности плана наступательной операции. Наступление должно было начаться из района между Аахеном и Люксембургом в направлении Антверпена и отрезать 2-ю британскую армию, а также американские части, ведущие бои в районе Аахена. При этом предусматривалось создать одну линию прикрытия к югу на рубеже Люксембург — Намюр — Лувен — Мехелен и другую к северу на рубеже Эйпен — севернее Люттиха — Тонгерен — Хасселт — Альберт-канал.
При благоприятных условиях цели наступления, города Антверпена, предполагалось достичь примерно за семь дней. Конечной задачей всей наступательной операции являлось уничтожение вражеских войск к северу от линии Антверпен — Брюссель и Бастонь.
Части, участвовавшие в наступательной операции, объединялись в группу армий «В» под командованием фельдмаршала Моделя[250]. Эта группировка включала в себя: 6-ю танковую армию СС под командованием генерала войск СС Зеппа Дитриха[251] на правом фланге, 5-ю танковую армию под командованием генерала фон Мантойфеля[252] в центре и 7-ю армию на левом, самом южном фланге. После короткой, но сильной артподготовки (мне сразу вспомнились шесть тысяч орудий, о которых буквально несколько часов назад говорил фюрер) армиям ставилась задача совершить прорыв в нескольких выгодных в тактическом отношении местах.
Для лучшего понимания общего замысла операции Йодль довел до нас задачи каждой армии:
— 6-я танковая армия С С должна была овладеть переправами через реку Маас по обе стороны Люттиха и создать там прочный оборонительный рубеж, с тем чтобы потом выйти к Альберт-каналу между городами Маастрихт и Антверпен, а затем захватить район севернее Антверпена;
— 5-й танковой армии ставилась задача форсировать реку Маас по обе стороны Намюра и выйти на рубеж Брюссель— Намюр — Динан, на котором предполагалось отразить контрудар неприятельских резервов с запада и прикрыть таким образом тыл 6-й танковой армии СС;
— 7-я армия, выйдя к реке Маас южнее Динана, должна была прикрывать фланги на юге и юго-западе.
Позднее наступление группы армий «В» планировалось поддержать с севера ударом группы армий «Н» под командованием генерал-полковника Штудента, находившейся в Голландии.
— А вы, Скорцени, по приказу фюрера будете выполнять специальную задачу в полосе боевых действий 6-й танковой армии, — подводя итог сказанному, заявил Йодль. — Поэтому для вас положение, которое должно возникнуть через сорок восемь часов после начала наступления, представляет особый интерес.
С этими словами генерал-полковник Йодль разложил на столе новую карту обстановки. Мы увидели, что через сорок восемь часов после начала наступления должен быть достигнут рубеж Эйпен — Вервье — Люттих с созданием двух плацдармов на другом берегу Мааса на направлении главного удара. При этом предполагалось, что северный фланг наступающей группировки будут контратаковать сильные резервы противника.
После этого генерал-полковник Йодль распрощался с нами и приказал в кратчайший срок представить ему список предполагаемого нами личного состава и техники, а также план проведения нашей операции. Остальные вопросы мне следовало обсудить с начальником управления кадров сухопутных войск, генерал-квартирмейстером и офицерами Генерального штаба. С моей стороны разговор с соответствующими начальниками больше использовался как повод для личного знакомства, поскольку многих я знал лишь понаслышке. Так я познакомился с генералами Бургсдорфом, Шмундтом, Варлимонтом, а также его преемником генералом Винтером. И мне хочется отметить особо, что в будущем эти высокопоставленные офицеры в рамках своих полномочий мне здорово помогали.
Особо следует рассказать об интересной беседе с полковником штаба генерала Винтера, с которым мы обсудили мою операцию с точки зрения международного права. Этот полковник также сослался на донесение из Аахена и заявил, что фюрер, скорее всего, решился на использование для маскировки формы противника исходя именно из данного сообщения.
— В любом случае мелкие группы представляют собой большую опасность, а переодетые солдаты рассматриваются противником в качестве шпионов, которых следует предавать суду военного трибунала, — отметил полковник.
Что касалось большинства моих частей, то, по мнению полковника, международное право запрещало лишь применение оружия при ношении формы неприятеля. Поэтому он посоветовал надевать моим людям под вражескую униформу немецкую, с тем чтобы в момент непосредственной атаки оставаться именно в ней. Я, естественно, решил прислушаться к советам этого специалиста.
Затем мне стало известно, что Верховное главнокомандование вермахта намерено разослать по всем вооруженным силам приказ о подготовке владеющих английским языком солдат и офицеров для использования в специальной операции. Лицами из числа этих добровольцев предполагалось пополнить мои части. Этот приказ потом явился классическим образцом недопустимой оплошности в отношении секретности предстоящих действий, допущенной высшими немецкими военными инстанциями.
Через несколько дней, уже во Фридентале, я по телексу получил копию этого приказа с расчетом рассылки и чуть было не рухнул со стула. Он был подписан одним из главных руководителей Верховного главнокомандования вермахта, а в верхнем углу красовался штемпель «Строго секретно». Наиболее его важные места звучали примерно так: «…всем частям вермахта доложить к… октября 1944 года обо всех сотрудниках, владеющих английским языком, которые добровольно готовы принять участие в специальной операции… и направить их в часть оберштурмбаннфюрера Скорцени во Фриденталь под Берлином». И такой приказ, судя по расчету рассылки, был разослан во все служебные инстанции вермахта как в тылу, так и на фронтах до дивизии включительно. Нетрудно было предположить, что во многих дивизиях приказ с грифом «Строго секретно» будет размножен и передан в полки и батальоны.
Со мной чуть не случился припадок бешенства, ведь было совершенно ясно, что о таком приказе вражеской разведке в любом случае станет известно. И я не ошибся. Уже после войны мне удалось узнать, что ровно через восемь дней текст этого приказа лежал на столе руководителей американских спецслужб. Однако я до сих пор не понимаю, почему они не извлекли никаких выводов и не приняли соответствующих контрмер.
По нашему мнению, такой приказ покончил со спецоперацией еще до момента ее начала. Я немедленно выразил свое мнение по этому поводу и передал письменный «горячий протест» в главную ставку фюрера, в котором «покорнейше» попросил отказаться от спецоперации. Однако между мной и теми инстанциями, в чьей компетенции находилось решение данного вопроса, прежде всего Йодлем и фюрером, возникло огромное препятствие под названием «предписанный порядок обращения в вышестоящие инстанции», обойти который было невозможно.
Этот «порядок» привел меня к обергруппенфюреру СС Фегелейну[253]. С обратной почтой я получил от него ответ о том, что повод моего возмущения является надуманным и что возможности вражеской разведки мною явно завышены. Поэтому докладывать об этом фюреру нецелесообразно. Спецоперацию никто отменять не будет, и мне надлежит продолжать подготовку ее проведения. Правда, через несколько дней у меня появилась возможность коротко изложить свои соображения рейхсфюреру СС Гиммлеру, но и он меня не понял, заявив:
— Согласен. Произошла глупость, но операция тем не менее должна быть проведена.
Мы днем и ночью трудились над разработкой плана по сути новой для нас по применяемым методам операции. Однако меня на целых полдня отвлекли от этого важного дела, приказав явиться в «свежеиспеченную» ставку рейхсфюрера СС Гиммлера неподалеку от города Хоэнлихен. Это был небольшой барачный лагерь в березовом лесу, где после короткого ожидания у адъютанта меня пригласили в кабинет рейс-фюрера.
Войдя, я кроме Гиммлера увидел доктора Кальтенбруннера, Шелленберга и обергруппенфюрера СС Прютцмана[254], которому меня представили. Кабинет был обставлен просто, но со вкусом — мебель из немецких мастерских, которую использовали во всех кабинетах германского вермахта, занавески с нехитрым рисунком, различные кованые предметы — вот и все убранство.
Попросив нас занять места за круглым столом, Гиммлер объявил предмет совещания — необходимо было повсеместно организовать народное движение «Вервольф»[255], о существовании которого на протяжении последних недель трубила германская печатная и радиопропаганда. До того времени высокие полицейские и эсэсовские чины в своих гау работали по организации данного движения на свое усмотрение, о чем и сообщил Гиммлер. Затем он посмотрел на меня и заявил:
— Хотя движение «Вервольф» находится в области ваших задач, Скорцени, у вас и без того, как мне кажется, хватает забот.
С таким заявлением трудно было не согласиться. Еще весной 1944 года во Франции и Бельгии была создана так называемая сеть вторжения. Агентам, являвшимся представителями населения вышеназванных стран и согласившимся работать на Германию либо из идейных соображений, либо из-за денег, вменялась задача по организации актов саботажа и диверсий в тылу войск союзников, вторжение на континент которых тогда уже ожидалось. Однако говорить о наличии какого-либо хорошего опыта или успехах не приходилось.
Кроме того, передо мной была поставлена задача наладить связь с движениями Сопротивления, направленными против союзников, и оказывать им всяческую поддержку. Однако и данное направление в моей работе находилось лишь в зачаточном состоянии. Его также можно было поставить в один ряд с другими начинаниями под общей вывеской «Слишком поздно».
Поэтому я мог с чистой совестью ответить Гиммлеру:
— Совершенно верно, рейхсфюрер. У меня действительно дел по горло, поэтому я попросил бы более четко ограничить поле моей деятельности. Если мне будет позволено высказать свое предложение, то я хотел бы, чтобы работа моей службы ограничивалась деятельностью за пределами Германии.
Гиммлер полностью со мной согласился и заявил, что назначил обергруппенфюрера СС Прютцмана начальником и организатором движения «Вервольф» с задачей расширить границы немецкого сопротивления. Однако в этой его деятельности мне надлежало оказывать ему всяческую организационную поддержку.
Как всегда на своих совещаниях, Гиммлер и на этот раз поинтересовался состоянием дел по разработке и развитию особого оружия в авиации и на флоте. Когда я сообщил, что закончена предварительная проработка вопроса, касающегося запуска «Фау-1» с подводных лодок, то Гиммлер буквально вскочил со своего стула, подошел к большому глобусу, стоявшему на его письменном столе, и спросил меня:
— Значит, мы можем обстреливать самолетами-снарядами «Фау-1» Нью-Йорк?
Я ответил, что если техническим специалистам удастся создать быстро монтируемую направляющую стартовой установки на большой транспортной подводной лодке, то теоретически это возможно. Гиммлер, который был человеком, отличавшимся скоропалительностью принимаемых решений, носивших порой взрывной характер, прервал меня и заявил:
— Тогда я немедленно свяжусь с фюрером и адмиралом Дёницем. Нью-Йорк необходимо подвергнуть обстрелу крылатыми ракетами «Фау-1» как можно скорее. Вам же, Скорцени, поручается взяться за это дело, не жалея ни сил, ни времени, и довести его до конца в кратчайшие сроки.
Хотя я и знал, что Гиммлер мгновенно принимает решения, но к столь быстрой его реакции не был готов. К тому же по различным причинам я считал решение рейсфюрера не совсем верным. Реакция же остальных присутствовавших показалась мне довольно любопытной. Они, являясь старше меня по званию, согласно военным канонам должны были высказаться первыми.
Прютцман явно не выказал к этому никакого интереса, что было вполне понятно. Ведь перед ним только что поставили довольно трудную задачу по развитию движения «Вервольф», и его мысли, естественно, крутились вокруг нового для него дела.
Доктор Кальтенбруннер хорошо владел собой, и по нему трудно было понять, одобряет он это решение или нет. С типичным для него нервным подергиванием он просто посмотрел на своего подчиненного Шелленберга, всем видом показывая, что тому пришла пора выразить свое мнение как начальнику германской разведки. Ведь речь шла о решении, имевшем большое политическое значение.
Шелленберг же явно старался подыграть рейхсфюреру. И делал он это и тогда, когда тот говорил или просто смотрел на Шелленберга, и тогда, когда Гиммлер поворачивался к нему спиной. Ему не требовалось даже произносить полагавшееся в таких случаях «Так точно, рейхсфюрер!». Все и так было написано на его лице. У него наверняка имелось понимание сути вопроса, но высказывать личное мнение до окончательного прояснения отношения к проблеме своего начальника он опасался. Поэтому этот хитрец приложил все свои «дипломатические способности», чтобы избежать щекотливого положения, в котором оказался.
Наконец очередь дошла и до меня. Того немногого времени, которым я располагал, хватило, чтобы сформулировать мои мысли, и, когда ходивший взад и вперед по кабинету Гиммлер посмотрел в мою сторону, я попросил слова:
— Рейхсфюрер, разрешите высказать несколько соображений по данному вопросу.
После этого я обратил внимание присутствовавших на то, что точность попадания в цель «Фау-1» к тому времени была еще очень низкой. Ведь головку наведения на самолет-снаряд требовалось устанавливать непосредственно перед запуском, а во время полета управлять крылатой ракетой никакой возможности не было. Приборы донаводки на цель еще только разрабатывались, и пока точность попадания ограничивалась радиусом восемь километров. Отклонение от цели еще больше увеличивалось при практиковавшемся тогда запуске этих крылатых ракет с воздуха с самолетов Не-111. Об этом ясно свидетельствовали результаты бомбардировок Англии с голландских воздушных баз.
При запуске с подводных лодок это отклонение стало бы еще большим — сказалась бы недостаточная точность определения места нахождения лодки в море в ночное время или в тумане, а также бортовая качка, неизбежно возникающая даже при небольшом волнении. Эти факторы при незначительном наборе скорости во время самого запуска «Фау-1» с длинной направляющей пусковой установки стали бы решающими. В результате даже с учетом большой растянутости Нью-Йорка по площади нет никакой гарантии в том, что самолет-снаряд вообще попадет в цель.
— К этому следует добавить еще кое-что, — продолжил я. — У немецкого люфтваффе нет возможности обеспечить безопасность воздушного района над местом запуска «Фау-1».
Ведь, по имеющимся разведданным, охранение Восточного побережья Америки и дальних подступов к нему в Атлантике американскими самолетами и радарами осуществляется безукоризненно, не оставляя даже небольшой щели.
Произнося эти слова, я наблюдал за реакцией присутствовавших. Гиммлер продолжал мерить шаги по кабинету и, казалось, не обращал внимания на сказанное. Он периодически останавливался у глобуса на письменном столе, а приближаясь к нашему столу, бросал на нас короткие взгляды через свое пенсне. Манера поведения рейхсфюрера не была мне знакома настолько, чтобы по мимике лица определить ход его мыслей.
Доктор Кальтенбруннер несколько раз мне подмигнул — скорее всего, он хотел меня подбодрить и побудить к дальнейшим высказываниям. А вот Шелленберг укоризненно качал головой, что меня совсем не удивило. Прютцман же вообще с головой ушел в содержимое своего портфеля.
Внезапно Гиммлер остановился и заявил:
— В применении «Фау-1» я вижу новые и очень серьезные возможности в достижении перелома в этой войне. Америка должна на себе почувствовать ее последствия. Эта страна купается в безопасности, и Рузвельт решил, что войну можно вести при помощи золота и возможностей американской промышленности. Американцы считают, что их страна находится далеко от всех опасностей, сопряженных с боевыми действиями. Поэтому шок от результатов обстрела их территории будет огромным. Народ не захочет, чтобы война перекинулась на Американский континент. Я оцениваю волю к сопротивлению у американцев как очень низкую, и эти новые неожиданные для них удары сломают ее окончательно.
Примерно так Гиммлер попытался объяснить мотивы своего внезапного решения. Тогда мне так и не удалось строго следить за ходом его мыслей. В то время у меня не было никаких возражений относительно ведения воздушной войны против американских городов — сказывалось отношение ко все усиливавшейся бомбардировке немецких населенных пунктов, превращавшей их в груды развалин. Однако я считал, что Гиммлер явно переоценивал воздействие на американский народ воздушных ударов с помощью «Фау-1».
Поэтому я выжидал благоприятный момент, чтобы снова сказать свое слово. И эту возможность Гиммлер мне предоставил.
— Рейхсфюрер! Я считаю весьма вероятным, что обстрелами американской территории мы добьемся обратного эффекта. Правительство Соединенных Штатов уже давно проводит пропаганду о том, что Германия угрожает США. После применения «Фау-1» по Нью-Йорку у американского населения на самом деле может возникнуть ощущение угрозы, а поскольку у большей его части в жилах течет англосаксонская кровь, то следует помнить об уроках, преподанных нам англичанами. Именно англичане показали, что во времена непосредственной угрозы их моральный дух и способность к сопротивлению многократно возрастают.
Заметив, что Гиммлер меня внимательно слушает, я решил воспользоваться этим и продолжил:
— Я тоже думаю, что последствия шока у американцев могут быть для нас полезными, но только в том случае, если те немногие запуски, которые мы можем организовать, будут направлены на конкретную цель. При этом наибольшего воздействия можно достичь, когда «Фау-1» поразит обозначенный объект в Нью-Йорке после предварительного объявления по немецкому радио в конкретный день и час. Эффект от такого воздействия возрастет как минимум вдвое.
После этого я добавил, что работы по совершенствованию целенаведения идут полным ходом. Немецкие ученые тогда трудились по двум направлениям. Первое касалось создания системы управления, вмонтированной в головную часть «Фау-1», которая позволяла бы регулировать параметры полета и воздействовать на сам полет по радио. При этом саму радиостанцию планировалось размещать в непосредственной близости от места запуска самолета-снаряда.
По второму направлению наши специалисты продвинулись гораздо дальше. Здесь предусматривалось устанавливать небольшой передатчик рядом с самой целью и активировать его на короткое время. Тогда соответствующее устройство, размещенное в головной части «Фау-1», наводило бы крылатую ракету по сигналу, исходящему от цели. Однако этот вариант был сопряжен с большими трудностями, связанными в том числе и с недостаточным по мощности элементом энергопитания. Была и вторая трудность, связанная с тем, что маленький передатчик следовало устанавливать на месте в строго определенное время и доставлять его требовалось агенту. Однако имевшийся опыт заброски агентов в Северную Америку свидетельствовал, что по этому вопросу необходимо было еще многое исправить — несколько агентов, недавно высаженных с подводной лодки на Восточном побережье США, были сразу же арестованы.
Мои сомнения по поводу целесообразности немедленной организации нанесения удара по Нью-Йорку разделил и доктор Кальтенбруннер, предложив подождать окончания работ по созданию системы наведения. Похоже было, что и Гиммлер проникся приведенными мною контраргументами. И хотя напрямую он не отменил своего прежнего приказа, и без того было ясно, что вопрос откладывался. Рейхсфюрер распорядился, чтобы я постоянно держал его в курсе относительно всех новых разработок и конструктивных изменений.
Однако события на фронтах войны развивались куда быстрее ожидаемых в Германии усовершенствований вооружений и исследований в этом направлении. Как известно, до применения «Фау-1» по территории США дело так и не дошло.
Сейчас, спустя несколько лет после поражения Германии, можно часто услышать такой вопрос: «Что бы произошло, если?..» Однако во многих случаях дискуссии на данную тему являются просто пустым времяпрепровождением, поскольку необходимые компоненты для принятия верных оценок отсутствуют. Ведь для правильного осмысления прошедшего необходимо сопоставление и взвешивание всех фактов, полученных из разных источников. В данном конкретном случае можно сказать лишь следующее — операция по нанесению удара по Нью-Йорку самолетами-снарядами «Фау-1» исход войны никоим образом не решила бы. Для этого нужны были иные средства, а имеющихся в наличии не хватало. К тому же они являлись не настолько уж и эффективными.
Глава 16
Движение Сопротивления. — Украинские партизаны против Красной армии. — Операция «Гриф». — Три боевые группы. — Спецрота. — Недостаток в людях и снаряжении. — Да, нет и о’кей. — Дикие слухи. — Атака на главную ставку союзников во Франции? — Эйзенхауэр в опасности? — Кафе «Дэ ля Пэ». — Три моста через Маас. — Где аэрофотоснимки? — Содействие Гитлера. — Скрытное развертывание. — Внезапная переброска на Запад. — Постановка задач у фельдмаршала Модели. — Занятие исходного положения
В последующие месяцы у меня было не так и много времени, чтобы заниматься специальным оружием или развивать движение Сопротивления из французов, бельгийцев, голландцев и норвежцев, пожелавших образовать на занятых союзниками территориях специальные группы. Однако, по моему мнению, это дело не имело почти никаких перспектив, ведь даже правительство Петэна во Франции обладало в то время лишь небольшим количеством сторонников. Я считал, что движение Сопротивления, не опирающееся на значительную часть населения, заранее обречено на неудачу и походит на мертворожденное дитя. В этом вопросе не могли помочь даже тайные схроны с оружием и средствами для проведения диверсий, во множестве оставленные еще адмиралом Канарисом по всей Западной Европе.
Несколько иначе складывалась обстановка в Восточной и Южной Европе, и прежде всего на Украине, где в районах, прилегавших к государственной границе между Советским Союзом и Польшей, УПА[256] действительно опиралась на широкие слои населения. Ее руководители в 1940–1941 годах были немцами арестованы, но в 1944 году — отпущены. УПА боролась со злоупотреблениями германских оккупационных властей, а позже храбро сражалась с вернувшимися частями Красной армии. По слухам, определенную ее часть составляли немецкие солдаты, отбившиеся от своих частей во время большого отступления германских армий летом 1944 года и добровольно сражавшиеся вместе с украинцами против русских.
Осенью 1944 года я поручил гауптману К. провести на Украине специальную операцию и проверить правильность этих слухов. С группой немецких солдат в составе восьми человек и оснащенной радиосредствами гауптман К. через Карпатский фронт просочился вглубь Карпатской Украины[257], а затем направился на восток. Операция длилась три недели, во время которых группа совершила рейд по глубоким тылам русских войск. После благополучного возвращения этой группы мы получили достаточно полную картину сложившейся ситуации.
УПА действительно смогла сформировать отряды, насчитывавшие порой более тысячи человек, и взять под контроль целые районы. Ее борьба с тыловыми частями русской армии осуществлялась методом «наскока». Оружие, боеприпасы и иное оснащение членам УПА приходилось добывать в ходе нападений на советские подразделения.
Гауптману К. удалось лично переговорить с некоторыми руководителями УПА и выяснить, что немецкие солдаты на самом деле сражались в рядах украинского освободительного движения и в основном выполняли роль младших командиров. Руководство УПА было готово обменять немецких солдат на поставки вооружения и другого оснащения. Ими были подготовлены даже аэродромы, на которых можно было забрать раненых и больных немецких солдат. Однако положение дел, связанное со снабжением фронтов бензином, настолько осложнилось, что на подобные операции просто не хватало горючего.
Несмотря на то что описанная выше операция и ей подобные, проводимые моими истребительными частями СС, мне очень нравились, сам я непосредственно заниматься их организацией не мог. Гораздо важнее были приготовления к предстоявшему контрнаступлению, забиравшие все мое время. И хотя я не принимал личного участия в формировании и подготовке своих боевых групп на выделенном нам полигоне Графенвёр[258], все же осуществлял общее планирование и разработку основополагающих приказов, находясь во Фридентале.
Для нашей операции, проводимой в рамках контрнаступления немецких войск, мы придумали кодовое наименование «Гриф» — название легендарной птицы, упоминавшейся в старинных немецких сказаниях. По моему плану наши истребительные части должны были получить организационную форму в виде танковой бригады, которую впоследствии стали называть 150-й танковой бригадой.
В основу планирования нашей операции был положен общий календарный график наступления, который в первый день предусматривал прорыв неприятельской обороны по всему фронту. На второй день нашим наступающим частям надлежало достигнуть реки Маас и форсировать ее. Как мы справедливо предполагали, остатки войск противника уже в первый день должны были быть полностью дезорганизованы и обращены в бегство.
Для меня и моих сотрудников было совершенно ясно, что нам придется импровизировать. Ведь тогда начало наступления было назначено на первые числа декабря 1944 года, а за пять остававшихся недель ни одна нормальная полевая группировка, не говоря уже о части, призванной решать специальные задачи, не могла полностью построить свой боевой порядок и наладить соответствующее взаимодействие. Такое просто было невозможно, и мы об этом знали. Однако наша совесть оставалась чиста, поскольку я обратил на это внимание фюрера еще во время постановки общей задачи. Во всяком случае, мы свое мнение высказали.
Поскольку нам приходилось считаться с возможностью возникновения различных неожиданных ситуаций, мы определили для себя три цели, по которым предстояло работать одновременно, — мосты у городов Энжи, Аме и Юи. В соответствии с этим полоса наступления 6-й танковой армии СС была разбита нами на три части, которые постепенно сужались, имея в качестве конечной точки вышеназванные мосты. Нашу 150-ю танковую бригаду мы также поделили на три боевые группы, присвоив им литеры «X», «Y» и «Z».
Создать 150-ю танковую бригаду на бумаге оказалось делом не таким уж и сложным. Куда труднее было оснастить ее. Уже на первое наше требование от генерал-квартирмейстера[259] немедленно пришел ответ, что оснащение трофейными танками не только целого танкового полка, но даже батальона не представляется возможным. Таким образом, уже в самом начале мы на себе испытали старую истину, о которой писал еще Гете: «В умении обходиться малым виден мастер». Но приятного в том, что приходилось начинать столь ответственную и сложную операцию с такого большого минуса, было мало.
В первом нашем предложении мы просили утвердить для 150-й танковой бригады следующую организационно-штатную структуру:
— две танковые роты по десять танков в каждой;
— три разведывательные роты по десять бронированных разведывательных дозорных машин в каждой;
— три мотопехотных батальона по две стрелковых и одной роте тяжелого оружия в каждом;
— одна легкая зенитная рота;
— две роты истребителей танков;
— один минометный дивизион;
— одна рота связи;
— штаб танковой бригады (желательно небольшой);
— одна специальная рота (для решения второй части задачи танковой бригады).
В целях экономии личного состава от обычных вспомогательных подразделений мы решили отказаться, тем более что срок проведения операции был ограничен. Общая численность бригады составляла около трех тысяч трехсот человек.
К этому прилагался подробный список требуемого количества трофейного оружия, боеприпасов, грузовых машин, инвентаря и формы одежды. Нам самим становилось не по себе, когда мы пытались представить, каким образом наши потребности будут удовлетворены в столь короткий срок, ведь наши трофейные запасы могли оказаться не столь обширными. Тем более что в последние месяцы немецкие части только отступали, а наступательных операций, во время которых трофеи могли быть захвачены в нужных нам объемах, не наблюдалось.
Когда 26 октября 1944 года я представил генерал-полковнику Йодлю на утверждение организационно-штатную структуру 150-й танковой бригады и список необходимого оснащения, то еще раз напомнил ему об отведенных нам коротких сроках и необходимости прибегать к импровизации. Кроме того, мною было заявлено, что, по моему мнению, операция «Гриф» только тогда будет иметь успех, если она начнется в первую же ночь после начала наступления, чтобы в полной мере использовать элемент внезапности. В свою очередь, было необходимо, чтобы дивизии первого эшелона выполнили задачи дня. В нашей полосе это означало преодоление Арденнских гор на широком фронте. Я вынужден был выдвинуть данное основополагающее требование как условие успешного выполнения своего задания. Кроме того, мне требовалось, чтобы штаб оперативного руководства вооруженных сил в обязательном порядке предоставил нам аэрофотоснимки мостов.
Разработанная нами организационно-штатная структура 150-й танковой бригады была одобрена. Я также получил обещание, что нам будет оказана всесторонняя помощь со стороны штаба оперативного руководства вермахта. Затем я еще раз осторожно задал вопрос, не стало ли противнику известно о наших планах вследствие того пресловутого приказа? Должен признать, что тогда изложил генерал-полковнику Йодлю свои выводы уже не в той жесткой форме, в какой они были представлены мной ранее в письменном виде, где содержались примерно такие выражения: «Любой обыкновенный солдат, допустивший столь грубое нарушение режима секретности, был бы непременно наказан самым строжайшим образом».
Однако Йодль заявил, что, несмотря на допущенную ошибку, отказываться от операции нельзя, но он обязательно подготовит специальный приказ, чтобы в будущем подобное не повторилось. Для меня же на перспективу будут предусмотрены два псевдонима, один из которых станет употребляться по четным, а второй — по нечетным дням. Один из них, звучавший как Солнечный, я помню и сейчас. К слову, идея издания этого приказа, который предписывал называть меня в переписке по псевдонимам, принадлежала постоянному офицеру связи Генриха Гиммлера в главной ставке фюрера группенфюреру СС Фегелейну.
Многого данный приказ, конечно, не исправил, но я был вынужден удовлетвориться хотя бы этим. Однако в дальнейшем возникла постоянная путаница с четными и нечетными днями, и в конце концов за мной окончательно закрепился псевдоним Солнечный. Так было проще и не портило идею прославленного Фегелейна.
Генерала Бургсдорфа я попросил выделить нам трех опытных командиров батальона. Самый старший из них должен был замещать меня на период формирования бригады. Подполковник Хардик, которого мне отрядили для этих целей, оказался отличным офицером, но никогда не занимался проведением подобных операций. То же можно было сказать и об остальных комбатах — подполковнике В. и гауптмане Ш. Однако все трое пришли в восторг от своих новых назначений, и поэтому я надеялся, что все пойдет как надо. Ведь мне прежде тоже не доводилось проводить подобную операцию.
Я изложил генералу Бургсдорфу еще одно свое соображение относительно того, что за четыре недели невозможно создать внутренне спаянную боеспособную часть, состоящую из добровольцев всех родов войск вермахта. Поэтому мне пришлось попросить его выделить нам в дополнение к добровольцам еще и несколько подразделений вермахта в полном составе, которые послужили бы основой для моей спешно создаваемой бригады. Моя просьба была услышана, и в скором времени мне, кроме всего прочего, выделили два батальона парашютистов люфтваффе, одну танковую роту и роту связи. К ним я добавил две усиленные роты из истребительной части «Центр» и свой 600-й парашютно-десантный батальон войск СС.
Когда через восемь дней ко мне во Фриденталь прибыла первая сотня добровольцев, то я чуть не впал в отчаяние.
«Как можно добиться успеха с такими людьми?» — подумал я.
Во Фридентале вновь прибывших начали проверять на знание языка и распределять их по группам в зависимости от показанных результатов. Однако группа категории номер 1, куда отбирали солдат с отличным знанием английского языка, увеличивалась с большим трудом — в день туда попадали всего один, максимум два человека.
По истечении двух недель отбор добровольцев в целом завершился, но его результат оказался ужасным — в группе категории номер 1, куда, как уже говорилось, отбирались люди с великолепными знаниями английского языка и американских идиоматических выражений, оказалось всего десять человек, в основном из числа бывших моряков. Бывшие моряки составляли также основную часть группы категории номер 2. В ней были собраны люди, которые говорили по-английски более или менее бегло. Но и их насчитывалось не более тридцати — сорока человек. Группа категории номер 3, куда отбирали солдат со средними знаниями английского, была уже больше и насчитывала сто двадцать — сто пятьдесят человек.
Группа категории номер 4 состояла из солдат, которые не до конца забыли то, чему их учили в школе, и насчитывала примерно двести человек. Другие же добровольцы оказались полностью непригодными либо по состоянию своего физического развития, либо из-за того, что, кроме слова «да», по-английски больше ничего произнести не могли.
В результате мне пришлось практически создавать бригаду «глухонемых», так как после направления в спецроту лучших ста двадцати человек другого варианта не было. Нам ничего другого не оставалось, как во время операции молча присоединиться к обратившимся в бегство американским колоннам, делая вид, что от свалившихся бед лишились дара речи.
В моих отчетах о состоянии дел с оснащением формируемой бригады личным составом и техникой, которые я вынужден был отсылать в штаб оперативного руководства вооруженных сил каждые три дня, эти цифры указывались честно.
Некоторых солдат, говоривших по-английски, мы на короткое время направили в школы переводчиков, а других на несколько дней — в лагерь американских военнопленных, где они должны были перенять американский сленг и манеры общения американских солдат. Однако из-за того, что эти «курсы» продолжались всего восемь дней, ожидать чудес в совершенствовании языковых навыков не приходилось.
Для основной же массы солдат, проходивших обучение на полигоне Графенвёр и вообще не владевших английским, языковая подготовка ограничивалась тем, что им вдалбливали в голову несколько крепких ругательств, которые были приняты у американских солдат, и значение слов «да», «нет» и «о’кей». Кроме того, их обучали также некоторым общеупотребительным командам, использовавшимся в американской армии. На этом возможности лингвистической маскировки бригады и ограничивались.
Еще хуже обстояло дело с оснащением. В первую очередь мне хочется описать трудности, с которыми мы столкнулись в вопросе обеспечения техникой. В скором времени нам стало совершенно ясно, что требуемого количества американских танков мы не получим. Забегая вперед, сразу скажу, что накануне начала наступления в нашем распоряжении было всего два танка «Шерман»[260]. Причем один из них сразу же вышел из строя из-за поломки в трансмиссии.
Уже после войны, когда я вычитал в газетах и журналах, что в 150-й танковой бригаде одних только танков «Шерман» насчитывалось свыше пятидесяти единиц, то меня охватила настоящая досада по поводу буйной фантазии журналистов. Пресса буквально с яростью обрушилась на операцию «Гриф», а ее сообщения ничего общего с действительностью не имели. Началась настоящая истерия, которая, как учит история, ни к чему хорошему не приводит и ничего общего с настоящей журналистикой не имеет.
Чтобы заменить недостающие трофейные американские танки, Берлин в лице генерал-инспектора танковых войск выделил нам двенадцать немецких танков «Пантера», и моим людям на полигоне Графенвёр пришлось их маскировать, приваривая вокруг пушек и башен листы железа, чтобы они хоть как-то по силуэту напоминали американские «Шерман». При этом было совершенно ясно, что такая маскировка могла сработать только ночью и то с большого расстояния, а также ввести в заблуждение, пожалуй, лишь совсем юных американских новобранцев.
Кроме того, с различных пунктов сбора трофейного оружия нам прислали десять американских и английских бронированных разведывательных дозорных машин. Однако долго ломать голову над тем, как использовать английские броневики, нам не пришлось — их моторы вышли из строя еще на полигоне. В результате у нас осталось только четыре американских БРДМ, к которым пришлось добавлять немецкие разведывательные машины. Подвижной же состав мотопехотной роты составили два американских и двенадцать немецких бронетранспортеров.
Постепенно по железной дороге нам в Графенвёр доставили тридцать джипов. Я был твердо уверен в том, что наши войска на Западном фронте обладали значительным количеством этих машин. Однако владельцы таких вездеходов, по всей видимости, не желали с ними расставаться и шли на различные ухищрения, чтобы обойти приказ о сдаче машин, в чем позднее мы смогли убедиться и сами. Оставалась еще одна слабая надежда раздобыть требуемое вооружение — в течение двадцати четырех часов до начала наступления самим захватить трофеи на фронте. Это было очень шатким, а потому весьма иллюзорным ожиданием, в котором пребывало и Верховное командование вермахта. Оно считало, что во время наступления немецким войскам удастся захватить технику и склады горюче-смазочных материалов противника.
С грузовыми машинами дело обстояло немногим лучше. В общей сложности нам передали не более пятнадцати американских грузовиков, и их пришлось дополнять немецкими марки «Форд», которые мы перекрасили в зеленый цвет, как это было принято в американской армии.
С вооружением нам повезло еще меньше — из числа необходимых американских винтовок мы получили только половину, а для противотанковых орудий и минометов американской армии не было боеприпасов. Однажды нам все-таки прислали несколько вагонов американских боеприпасов, но вследствие безалаберного хранения они взлетели на воздух, не дождавшись разгрузки. В результате все наши подразделения вынуждены были обходиться немецким оружием. Исключение составляла только спецрота.
Но все это были еще цветочки, ягодки же начались тогда, когда дело дошло до военной формы, которая для нас по вполне понятным причинам являлась самым ценным атрибутом — в глаза в первую очередь бросается именно униформа. Как-то раз нам прислали целую груду сваленных в кучу предметов обмундирования, но позже выяснилось, что это была английская форма. Затем привезли вагон шинелей. Однако и они оказались бесполезными, так как все американские солдаты носили так называемые полевые куртки. Когда же нам через начальника службы по делам военнопленных все же доставили груз с такими куртками, оказалось, что все они были снабжены треугольниками, которые носили военнопленные. Пришлось эти куртки немедленно возвращать. Показательным в данном вопросе явилось то обстоятельство, что только для меня, командира бригады, удалось раздобыть один американский армейский пуловер. Пуловер и ничего более!
Мы постарались одеть хотя бы спецроту, но и это удалось только наполовину. Оставалось лишь надеяться, что во время внезапного бегства противник побросает предметы своей экипировки. Но надежде этой сбыться было не суждено, и нам так и не удалось переодеть в форму противника большинство наших солдат.
Обо всех этих досадных неприятностях я регулярно докладывал в штаб оперативного руководства вермахта, понимая, что мои постоянные жалобы многим не понравятся. Но не будь этого, мне удалось бы добиться еще меньшего. Но наибольшую неприязнь к себе я вызвал тогда, когда в начале декабря доложил обо всем фюреру на совещании по обсуждению текущей обстановки — начало наступления к тому времени было перенесено на более поздний срок, и меня стали вновь привлекать на эти совещания. Гитлер метал гром и молнии, и больше всего досталось генерал-квартирмейстеру, отвечавшему за вопросы снабжения. Однако и это «высочайшее давление» не принесло желаемых результатов.
Между тем на полигоне, где шло формирование бригады, подполковник Хардик тщетно пытался наладить жесткую дисциплину. Дело заключалось в том, что в целях соблюдения режима секретности отведенный для нас участок местности был оцеплен и всякая почтовая переписка не разрешалась. В таких условиях естественно создалась благодатная почва для возникновения самых нелепых слухов о смысле проводившихся приготовлений и цели операции. К тому же солдатам стало известно о том, что в дальнейшем бригаду в бой поведу именно я, и они начали считать, что снова готовится акция наподобие той, которая была осуществлена в Италии.
Как подполковник Хардик ни старался, переломить ситуацию со слухами он не смог. Не помогли ни разговоры, ни принимаемые все более строгие меры. В результате слухи стали распространяться с такой скоростью, что грозили нарушить режим секретности. Когда он доложил о возникшей ситуации, я приказал ему прибыть во Фриденталь.
Об истинной цели и задачах предстоявшей операции знали только мы трое, но от того, что рассказал нам с Фелькерзамом в моем кабинете Хардик, у нас чуть было не встали дыбом волосы — настолько богато разыгралась фантазия у наших солдат. Одни из них утверждали, что вся наша бригада пройдет по всей Франции, чтобы освободить храбро сражающийся гарнизон, осажденный в Бресте[261]. Другие уверяли, что нам предстоит снять осаду с защитников Лорьяна и что они своими глазами видели планы ходов крепости, по которым предстояло туда проникнуть. И таких слухов было не меньше дюжины. Причем каждая версия имела своих сторонников, которые свято верили во все то, что утверждали. Мы не питали иллюзий и хорошо понимали, что разведке противника кое-что об этом стало известно. А если ко всему прочему добавить тот злополучный приказ Верховного главнокомандования вермахта, который засветил нас, то положение становилось еще менее приятным.
Таким образом, прежде всего предстояло ответить на вопрос: «Что следует сделать, чтобы пресечь подобные слухи?» Ведь одними наказаниями в такой ситуации не обойтись. Требовалось найти другой способ. После недолгого размышления мы пришли к выводу, что самый простой путь будет наиболее действенным. Решено было не опровергать эти слухи, ибо запрет привел бы только к их усилению, а пойти еще дальше и начать самим генерировать сплетни, содержание которых, естественно, диаметрально отличалось бы от действительности. Наш расчет сводился к тому, что офицеры неприятельской разведки сами запутаются в этих дебрях столь разнящихся сведений.
Между тем обучение солдат на полигоне Графенвёр продолжалось со всем усердием. Из присланных нам воинских частей непосредственно в 150-ю танковую бригаду мы отобрали самых лучших людей, а остальных оставили в резерве на случай непредвиденных обстоятельств. Если фронт противника против всех ожиданий не будет смят и проделывать проход для своих боевых групп пришлось бы нам самим, то этот резерв оказался бы весьма кстати.
Каждое подразделение в отдельности было уже сколочено еще во время пребывания на фронте. Теперь предстояло обучить солдат обращению с неприятельской техникой, и данную задачу мы решали на ежедневных послеобеденных занятиях. Кроме того, проходили тренировки по проведению внезапных ночных атак, а в ходе тактических учений отрабатывались вопросы по удержанию небольших плацдармов.
Наиболее трудно давались занятия, которые были призваны отучить наших людей от жесткой выправки, привитой немецкой системой подготовки новобранцев, отличавшейся чрезмерной дисциплиной. Немаловажную роль в учебном плане занимали также тренировки, которые должны были научить солдат различным мелочам, в том числе пользоваться жевательной резинкой, открывать пачки сигарет на американский манер и так далее.
Об истинной цели операции не знали даже командиры боевых групп подполковник В. и гауптман Ш. Они думали, что речь идет о подготовке замаскированной акции на случай большого наступления противника, а о готовящемся немецком наступлении не имели ни малейшего понятия. Это, конечно, являлось определенным недостатком, поскольку их нельзя было привлечь к планированию. Но с подобным положением вещей, в связи с необходимостью соблюдения режима строжайшей секретности, приходилось мириться.
Поскольку еще в середине ноября мы узнали, что оснащение бригады трофейным вооружением в целях маскировки будет крайне недостаточным, нам пришлось вносить определенные изменения в план осуществления операции. О замаскированной акции в полном смысле данного понятия не могло быть и речи. Поэтому упор необходимо было сделать на хитрость и использование камуфляжа. Противника следовало обмануть!
Но обман мог получиться лишь в том случае, если для неприятеля наше наступление явилось бы полной неожиданностью и он обратился бы в беспорядочное бегство. Поэтому при планировании мы исходили из того, что задачи первого дня наступающими частями будут обязательно выполнены. При этом основная часть солдат моей бригады, одетых в немецкую униформу, должна была двигаться в закрытых грузовых машинах. В американскую же форму нами планировалось переодеть только водителей и их напарников. В качестве последних предусматривалось использовать людей со средними знаниями английского из группы категории номер 3.
В полночь первого дня наступления три боевые группы в определенных для них полосах должны были опередить передовые наступающие части, выйти в районы сосредоточения возле мостов и выслать оттуда полностью замаскированные под противника разведывательные группы, чтобы еще раз проверить обстановку на мостах. Мы, конечно, не исключали, что в результате атаку придется проводить не на всех трех, а на двух или даже одном мосту. Поэтому северная боевая группа «X» под командованием подполковника В. должна была действовать самостоятельно. По нашему замыслу в случае необходимости под видом части противника ей предстояло перейти Маас по одному из мостов и занять исходный район западнее реки.
Атаку из исходных районов планировалось осуществить на рассвете в немецкой форме. Ведь когда в ходе отступления в рядах противника возникнет сумятица, то в достижении успеха можно было реально рассчитывать на элемент внезапности.
Особые заботы моего штаба вызывала спецрота и связанная с ней вторая часть нашего задания, заключавшаяся в создании смятения и беспорядка в рядах противника. Проблема состояла в том, что ни один доброволец из состава этой роты не имел ни малейшего опыта в подобных делах. Они не были ни обученными шпионами, ни диверсантами, и нам предстояло в течение нескольких недель преподать им все эти премудрости. Это было почти невыполнимой задачей!
Эту роту мы, естественно, укомплектовали из людей, лучше всего говоривших по-английски. Но это был единственный плюс, которым они обладали. Конечно, мы сообщили им о связанном с операцией риске. Речь шла о том, что если переодетого солдата в ходе акции возьмут в плен, то его без всяких сомнений отдадут под военно-полевой суд за шпионаж со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому у этих парней единственными побудительными мотивами участия в операции являлись энтузиазм и любовь к родине.
Исходя из этого мы решили по мере сил и возможностей беречь входящих в нее людей, однако заранее поставить им точные задачи не могли. Поэтому этим солдатам предоставлялось самое широкое поле для проявления инициативы. Ведь они могли послужить, что называется, «глазами» для наших наступающих частей и проделать весьма важную разведывательную работу. Кроме того, чтобы вызвать смятение в неприятельских рядах, им предстояло распространять ложные сообщения, преувеличивая начальные успехи германских дивизий, менять местами указательные столбы и таблички для дезорганизации маршевых колонн противника, передавать ложные приказы с целью усиления сумятицы, нарушать линии связи и взрывать склады с боеприпасами.
Мы проводили со спецротой деловые игры и специальные учения. Поэтому не было ничего удивительного в том, что именно ее солдаты стали источником новых слухов о предназначении 150-й танковой бригады. Однако данных занятий было явно недостаточно, и мне по-прежнему, к сожалению, приходилось считаться с возможностью попадания в плен одной или даже нескольких этих команд на джипах сразу после начала наступления. А времени на проведение специальных подробных инструктажей на предмет, как вести себя на допросах у представителей разведки противника, не хватало. Тем не менее я не очень опасался, что неприятелю удастся раскрыть через них конечные цели нашей операции, поскольку данные команды спецроты ничего, кроме слухов, не знали. Более того, мне представлялось, что большое число этих слухов только поможет сбить с толку разведку противника.
20 ноября 1944 года мне удалось в первый и последний раз побывать у своих солдат на полигоне Графенвёр. До обеда я посмотрел на то, как проводилась боевая учеба, и проверил оснащение всех трех боевых групп. Оно оказалось еще плачевнее, чем мне представлялось, и я надиктовал Фелькерзаму немало замечаний, которые требовали срочного исправления. В главной ставке явно не обрадовались моему донесению!
После обеда у меня состоялся довольно долгий разговор с командирами боевых групп, во время которого я сообщил им, что непосредственной задачей бригады является захват и удержание одного или нескольких мостов в тылу противника. Естественно, все это излагалось в свете якобы ожидаемого наступления союзников, когда в ходе боев в окружении мосты внутри котла начнут играть огромную роль.
Теперь у меня появлялась возможность хоть как-то привлекать командиров к тактическому планированию, да и само обучение подразделений приобретало более осмысленный характер.
Еще во время совещания мы услышали звуки мощных взрывов, а когда поступил доклад о том, что во время разгрузки на воздух взлетело несколько вагонов боеприпасов, то обсуждение насущных вопросов пришлось срочно свернуть. Однако ничего поделать было уже нельзя — подойти к горящим вагонам не представлялось возможным.
Из-за этого происшествия мое настроение резко ухудшилось. И тут мне доложили, что со мной наедине хочет переговорить один из офицеров спецроты лейтенант Н.
— Господин подполковник! — с очень серьезным выражением лица заявил он. — Я, кажется, знаю истинную задачу бригады.
Не скрою, во мне проснулось любопытство, и я с нетерпением ожидал, что последует за подобным заявлением.
«Неужели Фелькерзам или Хардик, единственные посвященные в тайну, проявили невольную несдержанность? Неужели вся операция находится под угрозой срыва?» — подумал я.
Но тут лейтенант Н., явно довольный эффектом, который произвели его первые слова, продолжил:
— Бригада пойдет на Париж, чтобы захватить располагающуюся там главную ставку союзников!
Такая «новость» вызвала у меня огромное недоумение, и я еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Однако в это мгновение у меня родилась мысль: «А ведь это отличный новый слух!»
Поэтому я решил подыграть офицеру и ограничился неопределенными междометиями.
— Так, так, хм, хм! — произнес я.
Этого хватило, чтобы офицер с воодушевлением продолжил:
— Учитывая, что я долго был во Франции и знаю Париж как свои пять пальцев, да к тому же великолепно говорю по-французски, разрешите, господин подполковник, предложить вам свою помощь. Вы можете на меня положиться. Я буду нем как могила.
— Хорошо. А вы уже продумали, как лучше осуществить операцию? Вам не кажется, что она несколько рискованна? — спросил я его.
— Операция вполне осуществима, — заверил меня разработчик нового плана. — Уверен, что вы, господин подполковник, все уже продумали. Что касается меня, то я тоже позволил себе поразмышлять и хочу предложить свой вариант решения задачи.
От такой самоуверенности у меня чуть было не отвисла челюсть, но я виду не подал и стал слушать лейтенанта Н. дальше. Он предложил переодеть в неприятельскую униформу только тех солдат, которые отлично владели английским языком, с тем чтобы они сыграли роль конвоиров колонны военнопленных. Таких колонн должно было быть несколько, и им предстояло проследовать прямо до Парижа, где в обговоренном месте они бы встретились. В составе колонн проследовали бы и немецкие танки под видом трофеев, которые якобы надлежало продемонстрировать главной ставке союзников.
Мне с трудом удалось остановить словесный поток лейтенанта, приводившего все новые и новые подробности своего плана. Несмотря на все безумие подобной ситуации, слушать молодого офицера все же было интересно. Его буйная фантазия, с которой он отвечал на мои возражения, просто удивляла и в некотором смысле даже радовала.
— Я сам неплохо знаю Париж и часто сиживал в кафе «Дэ ля Пэ», — заметил я.
В конце концов мне удалось его выпроводить, предложив проработать свой план до мельчайших подробностей.
— Мы с вами обязательно еще поговорим обо всем, а пока попрошу вас соблюдать строжайшую тайну, — заметил я на прощание.
Позже мне стало известно, что он так и не смог хранить молчание. Служба контрразведки союзников в течение нескольких недель наблюдала за кафе «Дэ ля Пэ», которое было упомянуто мною в нашем разговоре, рассматривая его как некий таинственный сборный пункт. Естественно, тогда в разговоре с лейтенантом я и предположить не мог, какие далекоидущие последствия будут иметь мои слова и что этот слух дойдет до главной ставки Эйзенхауэра. Кто бы мог подумать, что противник воспримет эту шутку настолько серьезно, что немедленно начнет принимать контрмеры! Выражаясь образно, можно сказать, что подобный слух походил на маленький камушек, брошенный в спокойные воды озера. Причем вызванные его падением небольшие волны, расходясь кругами по воде, стали безудержно уходить все дальше и дальше.
Для того чтобы получить более полную поддержку в решении вопросов оснащения моих частей и прояснении некоторых тактических вопросов будущей операции, еще в ноябре 1944 года я побывал на Западном фронте. В штаб-квартире главнокомандующего войсками Западного фронта фельдмаршала Рундштедта[262] в Цигенхайне[263] у меня состоялся разговор с начальником его штаба и штабным офицером оперативного управления Генерального штаба. Мне не приходилось ожидать, что здесь воспримут проводимую мной операцию с особым восторгом, ведь мероприятие «Гриф» планировалось осуществить в рамках наступления, которое у главнокомандующего западными войсками одобрения не получило. По моим сведениям, он высказывался за проведение наступательной операции меньшего масштаба в районе Аахена.
Тем не менее мне предоставили весьма полезную информацию о положении на фронте и о действовавших против нас соединениях противника. В свою очередь, рассчитывая на ценные советы, я изложил одобренный штабом оперативного руководства вермахта план операции «Гриф». Однако мой расчет не оправдался — господа не захотели даже вникнуть в него. Получив от них заверение, что они еще раз продублируют приказ о незамедлительной передаче в наше распоряжение всех трофеев, я поехал дальше.
Во время этой поездки мне довелось побывать и в штаб-квартире фельдмаршала Моделя, которому было поручено осуществление предстоявшего наступления. Там я застал только начальника штаба генерала Кребса[264], который в поте лица трудился над приготовлениями к будущему сражению. У меня создалось впечатление, что данный человек действительно верил в полный успех этого мероприятия, и мне вспомнились слова Адольфа Гитлера, произнесенные им, когда он излагал мне свои планы: «Скорцени, это будет битва, которая решит исход войны».
Складывалось ощущение, будто бы генерал Кребс лично слышал слова фюрера и полностью проникся ими. От него я также получил вполне серьезные заверения о готовности оказать помощь и поддержку нашим действиям. Генерал полностью одобрил способ проведения нашей операции и подбросил несколько новых мыслей относительно осуществления небольших акций силами истребительной части СС «Юго-Запад» незадолго до начала наступления.
Мы тоже думали о целесообразности нападения на трубопроводы с горючим, являвшиеся жизненными артериями полностью моторизованных американских армий. Эти трубопроводы, один из которых начинался в Булони, а другой в Гавре, шли от этих французских портовых городов напрямую по суше и заканчивались недалеко от линии фронта. Они являлись настоящим шедевром американских инженеров.
Мы хотели в срочном порядке сколотить небольшие диверсионные группы, с тем чтобы за несколько дней до начала наступления выбросить их с парашютами над территорией Франции и попытаться взорвать важные трубопроводы с горючим. Время поджимало, и у нас не было больше возможности заниматься тщательным отбором исполнителей — французов, желавших плечом к плечу сражаться вместе с немцами, становилось все меньше и меньше.
Аналогичное задание мною было поручено и 2-му управлению абвера «Запад», которое мне подчинили несколько месяцев назад. Правда, я не питал особых иллюзий насчет успеха этих акций, так как по-прежнему не доверял агентам, подобранным абвером. Тем не менее подобные мини-операции могли посеять в рядах контрразведки противника беспокойство, распылить ее силы и отвлечь внимание от основной нашей задачи.
В разведотделе штаба 6-й танковой армии СС, располагавшегося восточнее Рейна, я встретился со своим старым знакомым старшим офицером службы разведки, от которого получил все представлявшие для нас интерес сведения о противнике. Мы договорились также о том, что каждой головной танковой части будет придана одна моя команда на джипе. Эти команды могли выполнять чисто разведывательные задачи в интересах наступающих дивизий. После этого мне немедленно передали несколько джипов, которые оставались в армии в обход изданного приказа. Однако я был уверен, что это были не все джипы. Кому, как не мне, бывшему офицеру технической службы, было не знать, что осенью 1944 года положение с транспортным обеспечением во фронтовых частях являлось плачевным.
В середине ноября наступление, ранее назначенное на 1 декабря 1944 года, по срокам было отодвинуто сначала на 10-е, а потом на 16 декабря — не удалось вовремя закончить подтягивание войск, а оснащение пополненных личным составом дивизий оказалось незавершенным. Это послужило мне еще одним знаком того, что для данного наступления великая Германия на самом деле собирала последние резервы. Это относилось как к людям, так и к вооружению.
О таком положении дел я слышал еще на докладах обстановки у Адольфа Гитлера, на которых мне было приказано остаться. И каждый раз на них говорилось о том, что у одной дивизии не хватает танков, у другой — орудий, а у третьей — грузовиков. Это походило на бесконечную цепь требований, разорвать которую никак не получалось. Несчастному генерал-квартирмейстеру приходилось выслушивать упреки от всех присутствовавших на совещании командующих армиями. При этом у меня создалось устойчивое впечатление, что генерал-полковник Гудериан, бывший в то время начальником Генерального штаба сухопутных войск и отвечавший за Восточный фронт, где велись тяжелые бои, горько сожалел о каждом танке и о каждом батальоне, которые перебрасывались на Запад. В общем, наши возможности тогда напоминали простыню, слишком короткую для кровати, которую она должна покрыть. Получалось, что при желании прикрыть ноги, то есть Запад, приходилось оголять голову, то есть Восток.
В такой ситуации, когда меня вызывали на доклад в главную ставку фюрера, мне было нелегко постоянно жаловаться на нехватку оснащения, техники или вооружения. Но если уж приходилось докладывать истинное положение дел, касавшееся оснащения моей танковой бригады, то я резал правду-матку, какой бы горькой она ни была. А она сводилась к тому, что нам во всем приходилось импровизировать. Тем не менее я заверял, что, несмотря ни на что, мы сделаем все самым лучшим образом.
Адольф Гитлер всегда выслушивал мои доклады спокойно, а потом задавал вопросы соответствующим офицерам.
— Почему до сих пор не решен вопрос с трофейной техникой и оснащением? Почему не обеспечили горючим?.. — спрашивал он.
И таких «почему» было великое множество, но каждый раз слышался один и тот же ответ:
— Мы делаем все, что от нас зависит, и еще раз продублируем соответствующие приказы…
В начале декабря заслушивание докладов об обстановке проходило уже в комнате фюрера на втором этаже рейхсканцелярии. Данное помещение было значительно меньше, чем описанная выше комната в «Волчьем логове» в Восточной Пруссии, и всем присутствовавшим приходилось стоять, тесно прижавшись друг к другу. Постоянно на этих совещаниях находился уже только высший командный состав, а докладчиков вызывали из соседней комнаты по одному. Со мной в тот раз, как, впрочем, и всегда, на заслушивание прибыл и гауптман Фелькерзам, с которым мы договорились, что в этот раз я напомню об обещанных аэрофотоснимках трех мостов, которые нам так и не предоставили. Такое наше решение было связано с тем, что на заслушивании тогда присутствовал и рейхсмаршал Герман Геринг.
Представитель люфтваффе только что закончил доклад об обстановке в воздухе. Из него следовало, что численное превосходство противника не смогло уравновесить даже величайшее мужество наших летчиков. Адольфу Гитлеру, похоже, такая ситуация была хорошо известна, поскольку он докладчика почти не слушал. Внезапно выступавший произнес:
— В Арденнском наступлении планируется участие двухсот пятидесяти реактивных истребителей!
Я не поверил своим ушам. Неужели это все, что осталось от первоначального количества этих машин? Ведь в мою память отчетливо врезались слова фюрера, с которыми он обратился ко мне 22 октября 1944 года: «Две тысячи реактивных истребителя к началу наступления обеспечат нам превосходство в воздухе».
Но даже при упоминании значительно сократившегося числа реактивных истребителей фюрер никак не отреагировал. Создавалось впечатление, что он просто-напросто списал люфтваффе со счетов!
Тогда я никак не мог понять происходящего. При обсуждении вопросов, касавшихся наступления, фюрер явно был более живым, чем в сентябре и октябре 1944 года. Его лицо посвежело, и он уже не производил впечатления больного и внезапно состарившегося человека. При мыслях о последнем шансе — о предстоящем наступлении — Адольф Гитлер буквально преображался.
Однако позже мне стало известно, что к тому времени фюрер уже смирился с утратой люфтваффе господства в воздухе. В этом вопросе вождь Германии признал свое поражение.
Когда дошла очередь до меня и я подошел к столу с картой обстановки, то напомнил об обещанных еще несколько недель назад аэрофотоснимках. Тогда Адольф Гитлер вспылил и обрушился на рейхсмаршала с упреками. Тот долго не отвечал, и мне стало неловко. Ведь обычно подполковник не должен присутствовать при разносе столь высокопоставленного военного. Наконец Герман Геринг пообещал отправить на разведку реактивный истребитель, оснащенный специальной камерой. Дело заключалось в том, что обычному разведывательному самолету не удавалось пролететь над территорией, занятой противником, на протяжении уже нескольких недель. Настолько явным было превосходство неприятельской авиации в воздухе.
Через несколько дней я получил результаты наконец-то организованной воздушной разведки. Это были аэрофотоснимки мостов у городов Юи и Аме. Снимок третьего моста мне так и не предоставили. На фотографиях отчетливо просматривались позиции зенитных батарей и различные фортификационные сооружения. Теперь я мог вздохнуть с облегчением — в местах переправ через реку противник не возвел новых укреплений. В этом плане нас неприятных сюрпризов не ожидало.
Неожиданность произошла во время уже упоминавшегося совещания у фюрера. Когда я закончил свой обычный доклад относительно оснащения 150-й танковой бригады и были обсуждены еще кое-какие вопросы тактического характера, Адольф Гитлер внезапно обратился ко мне:
— Скорцени, я еще раз повторяю свой приказ относительно вас лично. Я категорически запрещаю вам пересекать линию фронта и самому принимать участие в акции. Вы будете осуществлять руководство операцией «Гриф» исключительно по радио. За выполнение данного приказа командующий 6-й танковой армией СС будет отвечать своей головой. Вам же надлежит располагаться на его командном пункте. Вы никоим образом не должны попасть в плен. У меня для вас есть еще другие ответственные задачи.
Этот повторный запрет, высказанный безоговорочным тоном, меня ужасно огорчил, так как мне казалось, что фюрер об этом больше не вспомнит. Его категоричный приказ явился настолько неожиданным в данной ситуации, что я даже забыл произнести положенные в таких случаях слова: «Так точно, мой фюрер!»
Как я вышел из комнаты для совещаний, уже не помню. Скорее всего, мое лицо приобрело красноватый оттенок. Как смотреть в глаза своим товарищам по оружию, если мне придется заявить им о том, что я сам лично участия в операции принимать не буду? Неужели мне придется сидеть возле радиостанции и не иметь возможности самому вмешаться в ход событий, если возникнет критическая ситуация? Неужто я буду вынужден находиться на командном пункте армии в то время, когда мои товарищи поведут отчаянный бой? Мне такое предстояло впервые!
Гауптман Фелькерзам понял мое замешательство в связи с отданным фюрером приказом. Ведь, как известно, приказ необходимо исполнять любой ценой! В утешение он только и сказал в присущей ему сухой прибалтийской манере:
— Суп едят не таким горячим, каким он бывает во время варки. Стоит только немного подождать.
В конце концов я решил, хотя это и далось мне нелегко, сообщить своим командирам боевых групп о приказе фюрера, но одновременно заявить, что в случае возникновения критической ситуации обязательно пробьюсь к ним с подкреплением. В любом случае мне не пристало отсиживаться в штабных кабинетах, мое место было поближе к фронту. Мне казалось, что командующий армией поймет меня.
Мой начальник штаба Карл Радл уже не раз горько упрекал меня за то, что на доклады к фюреру я брал с собой Фелькерзама, а не его. Ему тоже хотелось хоть раз поприсутствовать на таком мероприятии, увидеть и услышать Адольфа Гитлера. Пришлось пообещать ему, что в следующий раз он обязательно поедет со мной.
Уже вскоре Карлу Радлу повезло. Перед совещанием в фойе первого этажа флигеля рейхсканцелярии, куда за последнее время попала не одна вражеская бомба, мне удалось представить Радла находившемуся там рейхсмаршалу Герингу. Оказалось, что за произошедшее во время последнего моего доклада у фюрера рейхсмаршал совсем на меня не обиделся. Откровенно говоря, я испытал от этого громадное облегчение, поскольку являлся невольной причиной неприятных для Геринга упреков со стороны Адольфа Гитлера.
От рейхсмаршала я узнал о планирующемся воздушном десанте перед началом наступления. На рассвете первого дня наступательной операции батальон парашютистов предполагалось выбросить на высокой гряде западнее немецкого города Моншау в районе бельгийского населенного пункта Мон-Рижи с задачей захватить и удерживать важный перекресток дорог, чтобы воспрепятствовать переброске противником резервов с северного направления.
Я понял, что мне необходимо обговорить некоторые нюансы с командиром батальона, которого я знал еще по своей Итальянской операции. Ведь исключить того, что какая-нибудь из моих команд на джипах заблудится, было нельзя. Не хватало еще, чтобы она погибла от немецких пуль.
Не успел я поприветствовать фюрера в помещении для обсуждения текущей обстановки на втором этаже, как позади меня послышалось тяжелое дыхание. С присущей ему настойчивостью Карл Радл протиснулся сквозь ряды высокопоставленных офицеров и занял место за моей спиной. Фюрер пристально посмотрел на него, и я решил воспользоваться моментом.
— Мой фюрер! — заявил я. — Разрешите представить вам гауптштурмфюрера Карла Радла, моего бессменного начальника штаба, который был со мной еще в Италии.
С этими словами я подтолкнул ошеломленного Радла вперед, который вытянулся перед Адольфом Гитлером, выражаясь солдатским языком, в струнку. Фюрер пожал ему руку и снова повернулся к карте с нанесенной на ней обстановкой.
— Рассмотрим положение на Западном фронте, — сказал он.
В то время все внимание было привлечено к обстановке на Западе и предстоящему там наступлению. Сегодня я могу прямо сказать, что на совещаниях плохих новостей становилось все больше, а называвшиеся цифры, характеризовавшие количественные показатели состояния войск, — все меньше. То в результате налета неприятельской авиации на сортировочную станцию противнику удалось уничтожить эшелон с новыми танками, то по тем же причинам на несколько дней застрял поезд с боеприпасами, то еще что-то в этом духе. В общем, хороших новостей было не так уж и много.
Радовало, пожалуй, только то, что подтягивание немецких армий для противника пока оставалось вне поля зрения. Во всяком случае, если наши приготовления и были замечены, то союзники их недооценивали. Вражеский фронт оставался спокойным и совсем не получал подкреплений. Видимо, американцы готовились к продолжительному отдыху во время зимы.
Прогноз погоды на окончательно назначенный день наступления — 16 декабря 1944 года — был благоприятным. Синоптики обещали затянутое тучами небо с низкой облачностью. Это давало нам некоторые преимущества, поскольку препятствовало применению неприятельской авиации. Про себя же я радовался тому, что сильных морозов тоже не ожидалось. Ведь моя бригада была предназначена для проведения короткой операции и не имела ни зимнего обмундирования, ни соответствующего оснащения. Нам приходилось экономить каждый кубический сантиметр в объеме багажа.
8 декабря мои люди по железной дороге покинули полигон Графенвёр и специальными поездами были доставлены на полигон Ван южнее Кельна, где продолжили тренировки, поскольку я старался использовать для их подготовки каждый свободный день. 12 декабря туда же прибыли и мы с Фелькерзамом.
Мой заместитель подполковник Хардик встретил меня с радостью, ведь теперь он мог сложить с себя обязанности по командованию бригадой и заняться непосредственно своей боевой группой «Z». Он был настоящим сорвиголовой и смотрел на предстоящую операцию с оптимизмом. Поэтому мне не приходилось его подстегивать, скорее наоборот.
Хардик хотел сделать для меня приятный сюрприз и приготовил к пуловеру, единственному предмету моей маскировки, шапку и оливкового цвета американскую шинель, которая, к сожалению, оказалась мне слишком мала.
В Ване к нам с фронта прибыло еще несколько джипов, и дел у наших механиков прибавилось. Они с утра до ночи возились в мастерских, приводя технику в порядок. На время проведения нашей короткой операции им предстояло остаться на полигоне, поскольку там они представляли бы собой просто пустой балласт.
«Какие-то жалкие сто километров до Мааса мы преодолеем и без них», — думал я, ведь мое настроение, несмотря на все заботы, оставалось приподнятым.
Рядовой состав даже не подозревал, насколько приблизилось начало операции. Однако солдаты не могли не почувствовать, что столь быстрая их передислокация могла быть связана только со скорым применением. Да и мое появление тоже не осталось незамеченным.
— Скоро все начнется, господин подполковник? — спросил меня кто-то из солдат во время обхода расположения бригады.
Я, конечно, не мог сказать ему чистую правду и поэтому ответил так:
— Тебе лучше спросить у американцев на той стороне, когда они намереваются по нас ударить.
Тем временем гауптман фон Фелькерзам подготовил приказы о передислокации в ночь с 13 на 14 декабря в замок города Бланкенхайм. Уже во время марша стали заметны недостатки в обучении наших подразделений — многие машины отставали, но потом нас нагоняли. Всю ночь дороги были забиты маршевыми колоннами, а первый бивак мы разбили возле лесного массива юго-восточнее Бланкенхайма. Было холодно и сыро, и почва пропиталась влагой. В общем, ночевка в палатке в такое время года — это не для маменькиных сынков. Но наши солдаты являлись людьми бывалыми и прошли школу русской зимы. Поэтому здешние условия казались им не такими уж и суровыми.
Окрестности замка, в котором мы разместились, я уже знал, так как днем ранее в нем располагалась ставка фельдмаршала Моделя, где на совещании были отданы последние приказы командирам корпусов и дивизий. Всех беспокоил только один вопрос — как обстояли дела со снабжением войск, ведь при плохих дорожных условиях вплоть до самой реки Маас грамотно организованное снабжение, особенно танковых дивизий, становилось главной проблемой войск.
«Интересно, удастся ли ее решить?» — подумал я тогда.
На том совещании мы с Фелькерзамом являлись единственными офицерами, у которых не было золотых погон. Под его конец фельдмаршал Модель попросил меня довести до присутствовавших генералов основные моменты операции «Гриф» и коротко пояснить их. Командирам следовало быть в курсе дела, чтобы возвращающиеся команды моей спецроты не попали под огонь наших войск как неприятельские. Для этого мы сообщили им соответствующие опознавательные знаки. При возвращении днем солдаты должны были снять каски и держать их высоко поднятыми над головой. Ночью же опознавание предусматривалось путем подачи световых сигналов.
К сожалению, мои пояснения в некоторых дивизиях были включены в письменные приказы и в таком виде отправлены в войска. В результате уже в первый день наступления такой приказ оказался в руках противника. Его нашли у одного командира батальона, который попал в плен. Хорошо еще, что в этих приказах не назывались объекты, служившие целями наших боевых групп. В них просто говорилось, что будет проведена специальная операция под моим командованием с использованием переодетых под неприятеля немецких солдат. Можно только представить, какая суматоха началась в рядах контрразведки противника, предполагавшей наличие в собственном тылу большого числа моих диверсионных групп.
В четверг 14 декабря 1944 года я официально принял командование 150-й танковой бригадой. В избушке лесника мною были даны последние указания всем трем командирам боевых групп. Причем двое из них только тогда впервые узнали, что операция «Гриф» проводится в рамках наступления наших войск. Но они были бывалыми фронтовиками и не раз оказывались в сложной ситуации. Главное заключалось в организации надежной связи, что позволило бы принимать верные решения и обеспечивало успех.
Мы еще раз проговорили все детали операции и оценили наши возможности. Следовало позаботиться о том, чтобы у наших солдат не сдали нервы. Ведь один-единственный преждевременный выстрел мог погубить всю операцию, и в этом плане перед офицерами и унтер-офицерами стояла непростая задача.
Нашим боевым группам надлежало постоянно двигаться вперед, не сбиваясь с пути. Решение о том, как овладеть мостами, предполагалось принимать на месте исходя из сложившейся обстановки. Однако в затяжной бой втягиваться было нельзя, поскольку для этого наши силы являлись слишком слабыми. Впрочем, весь наш замысел строился на том, что к тому времени сплошной линии обороны у противника уже не будет и наши передовые части уже в первый день наступления глубоко вклинятся в его тыл.
Вся операция должна была проводиться в полосе ответственности 1-го танкового корпуса СС. Ближайшая задача его северных боевых частей в составе 1-го мотопехотного полка СС под командованием молодого полковника Пайпера и приданных ему подразделений заключалась в форсировании реки Маас на отрезке между городами Люттих и Юи. Пайпер тоже издал приказ на наступление, коротко и четко обозначив боевую задачу — его моторизованные части в такое-то время 16 декабря 1944 года атакуют противника на участке Лосхайм — Лосхаймер-Грабен (поселок на бельгийской границе) и прорывают его оборону, с тем чтобы овладеть и удерживать мосты через Маас южнее Люттиха. Бой надлежало вести без прикрытия флангов, не обращая внимания на развитие ситуации на фронте по обе стороны от полосы наступления и с использованием максимальной скорости танков вплоть до выхода к реке.
Запасы горючего в танковых дивизиях были столь малы, что даже при условии отсутствия серьезного сопротивления со стороны неприятеля их хватало только для достижения Мааса. Нам тоже пришлось поломать голову над тем, как распределить бензин между машинами так, чтобы все они смогли одновременно двигаться вперед. Резервами в топливе мы не располагали, однако поскольку мои боевые группы должны были прибыть к Маасу, не ввязываясь в какие-либо стычки с противником, то я надеялся, что горючего до достижения цели операции хватит.
У противника все было тихо. Видимо, до него еще не дошли сведения о наших ночных передвижениях — сказывались предпринятые меры маскировки. В дневное время движение по дорогам вообще было запрещено, чтобы неприятелю не стало известно о том, что на узком участке фронта сосредотачиваются две танковые армии. В ночь с 15 на 16 декабря все бронированные колонны выдвинулись еще вперед, заняв позиции в непосредственной близости от линии фронта.
Погода нам благоприятствовала — густая облачность не позволила неприятельским ночным самолетам-разведчикам что-либо заметить. К тому же в такой холмистой местности им приходилось летать довольно высоко, а туман, сгущавшийся над землей, вообще сводил видимость к нулю. Такие погодные условия мы расценили как доброе предзнаменование успеха всей нашей наступательной операции.
В штабе армии я договорился, что мой командный пункт будет сначала находиться в штабе 1-го корпуса возле городка Шмидтхайм. Там же я расположил радиостанцию и свой штаб, состоявший из четырех офицеров: офицера оперативного управления, офицера для поручений, офицера связи и офицера службы снабжения. Еще до рассвета все передвижения войск были завершены, а техника спрятана в лесах.
В ночь с 15 на 16 декабря мы не спали, временно расположившись в двух небольших комнатах маленького жилого домика на окраине Шмидтхайма. В наши расчеты входило, что уже через несколько часов после начала наступления нам предстоит перемещение. Мои пять радиостанций были развернуты поблизости на опушке леса.
Начали поступать первые сообщения от трех моих боевых групп. Они доложили, что заняли исходные позиции позади танковых частей и ждут моего приказа, чтобы переодеться в форму противника и приступить к началу операции. Однако связь была не столь устойчивой, как того требовала обстановка. Ведь на обучение, а также сколачивание групп радистов отводилось слишком мало времени, и нам приходилось держать кулачки, чтобы связь не подвела.
Несмотря на то что в головных частях наступающих войск находилось всего три команды радистов, в задачи которых входили прием моего приказа на начало движения и передача нам, а также войсковым подразделениям разведсведений об обстановке возле мостов через Маас, мы с нетерпением ожидали наступления времени «Ч». Нервное напряжение, знакомое каждому солдату перед началом атаки, охватило всех — от генерала до рядового.
Глава 17
16 декабря 1944 года. — Огневой налет из нескольких тысяч орудий. — Первые донесения. — Задача дня не достигнута. — Утомительное продвижение вперед. — Танки вступают в бой. — Отказ от главного плана. — Отсутствие горючего. — Первые диверсионные группы в тылу противника. — Мальмеди[265] очищено от неприятеля? — Воздействие слухов. — Ложное сообщение радио Кале. — Арест американских офицеров
В пять часов утра субботы 16 декабря 1944 года внезапный огневой шквал из тысяч орудий обрушился на позиции противника. Он длился недолго. Вскоре огневой вал начал перемещаться вперед, и германская пехота устремилась в атаку. В полосе наступления, в которой позже предстояло прорывать вражескую оборону частям под командованием Пайпера, был выброшен десант в составе 3-й парашютной дивизии.
Ожидание первых донесений всегда немного выматывает, ведь от них зависит дальнейшее развитие событий. Не в силах усидеть на месте, я отправился в штаб корпуса, чтобы получить информацию из первоисточника.
Примерно в семь часов поступили первые донесения. Нельзя сказать, что они слишком радовали, но все могло быстро перемениться. Судя по всему, огневой налет нашей артиллерии не нанес существенного урона неприятельским позициям возле поселка Лосхаймер-Грабен. Противник продолжал сопротивляться с исключительным упорством, и наши атакующие части продвигались вперед с большим трудом.
Вплоть до обеда поступали доклады об ожесточенных боях, но занять большие участки местности не удавалось. Во всяком случае, говорить о прорыве вражеской обороны по всему фронту не приходилось.
Мне неизвестно, почему командование тогда не ввело в бой танковые части. Они продвинулись вперед на несколько километров и стояли на исходных позициях нашей пехоты. Мои же боевые группы по-прежнему находились позади них.
Я послал офицера оперативного управления к моим боевым группам, чтобы он выяснил обстановку и доложил обо всем по радио. Вскоре от групп «X» и «Y» поступило сообщение о том, что он у них побывал. Внезапно появился взволнованный офицер связи и заявил, что получено донесение о гибели подполковника Хардика, командовавшего группой «Z».
Для бригады это явилось настоящим ударом! Не стало моего заместителя, стоявшего у истоков ее создания и знавшего особенности каждого подразделения! Этот бравый и образцовый солдат до конца выполнил свой долг. 150-я танковая бригада заплатила богу войны свою первую дань, и мы потеряли отличного боевого товарища и выдающегося офицера.
Позже выяснилось, что во время проведения рекогносцировки его машина подорвалась на мине. Хорошо еще, что в этой боевой группе как раз находился высланный мною офицер оперативного управления. Теперь ему предстояло взять командование на себя. Для меня это означало потерю своего лучшего штабного офицера, однако я понимал, что данное назначение будет им воспринято с радостью и лучшую кандидатуру на этот пост мне не найти. Вскоре от него поступил доклад:
— Командование группой «Z» принял.
В течение всего 16 декабря 6-й танковой армии так и не удалось достичь заметного успеха. Уже к обеду стало ясно, что для решающего прорыва необходимо вводить в бой танковые части. Чтобы прояснить обстановку, я поехал в Лосхайм. На дорогах царили невообразимые пробки, и офицеры вынуждены были идти в пешем порядке рядом со своими машинами, чтобы хоть как-то обеспечить движение. По пути мне тоже пришлось преодолеть с десяток километров пешком. В поселке отчетливо слышался шум сражения. В близлежащем лесу все еще вели бой парашютисты. Однако дальше к югу положение выглядело более благоприятно — там нашим войскам удалось продвинуться вперед достаточно далеко.
В Лосхайме мне повстречалась часть моей спецроты. Это были те люди, которых я оставил в своем непосредственном распоряжении. Теперь предстояло принять крайне важное решение — становилось ясно, что задача первого дня наступления выполнена не будет. Было бы логично отменить операцию «Гриф», но это мне претило, ведь мы готовили ее с таким трудом. Я никогда не принадлежал к тем людям, кто легко отказывается от задуманного! Впрочем, у меня оставалась еще надежда — если ночью в бой вступят танковые части, то успех мог быть достигнут. Поэтому я решил подождать еще двадцать четыре часа. За это время наши части могли преодолеть высокогорье и выйти к Маасу. Тогда захват мостов моими боевыми группами мог решить исход сражения.
Медленное развитие наступления привело к тому, что среди солдат спецроты стали наблюдаться неоднозначные настроения. Незначительная их часть, похоже, сделала для себя определенные выводы и была уже не готова работать с полной отдачей. Другая же, большая часть продолжала смотреть в будущее с оптимизмом, привлекаемая необычностью задачи. В целом люди горели решимостью провести операцию.
Из таких людей я отобрал тех, кто показался мне наиболее подходящим для распространения слухов и выполнения других специфических задач. В основном это были бывшие матросы, которые хорошо владели английским языком и имели соответствующий вид. Из них я составил три группы и приказал им отыскать дальше к югу возможность просочиться через оборону противника, выйти ему в тыл и выполнить там свою задачу исходя из особенностей обстановки. Кроме того, им надлежало провести разведку тех трех маршрутов, по которым предстояло продвигаться боевым группам в рамках нашей операции.
Вернувшись в Шмидтхайм, я доложил в штабы корпуса и армии о целесообразности переноса операции на двадцать четыре часа, а затем отправил в свои боевые группы радиограммы соответствующего содержания. Между тем в Шмидтхайм прибыли первые сто военнопленных. Это были крепкие в физическом отношении американские парни, попавшие в плен во время первой же атаки. Причем многие из них даже не вышли из своих блиндажей и теперь сидели, прислонившись к стене, лениво покуривая сигареты и жуя жевательную резинку.
Через переводчика я попытался переговорить с одним лейтенантом, но он ничего важного не знал, однако подтвердил, что наше наступление явилось для них полной неожиданностью. Кроме того, с помощью этого лейтенанта мне удалось перепроверить полученные от наших офицеров разведки сведения относительно расположения на переднем крае и в глубине обороны неприятельских частей.
При этой первой встрече с американцами я задумался над некоторыми очень важными вопросами. Понимают ли все эти солдаты из-за океана то, что происходит в Европе? Знают ли они, что исход войны, имеющий историческое значение, лежит на Востоке? Представляют ли они себе, к каким последствиям для Европы приведет продолжающееся ослабление Германии?
К сожалению, мне пришлось констатировать, что молодой американский офицер не имел обо всем этом ни малейшего понятия. Американская пропаганда все упростила и просто утверждала, что немцы были и остаются варварами, правит ими дьявол в человеческом обличье, намеревающийся завоевать весь мир, а немецкий народ в этом ему помогает. Поэтому во имя христианства и сохранения цивилизации необходимо нанести Германии сокрушительное поражение и создать такие условия, чтобы она никогда больше не возродилась. И именно к этому сводились мысли лейтенанта, о чем он мне откровенно и заявил.
Около полуночи 16 декабря на нашем участке фронта в сражение вступила танковая группа Пайпера, а южнее в бой пошли танки еще одной танковой группы. Первые известия об их продвижении следовало ожидать на рассвете, и я решил, не раздеваясь, прилечь на матрац, расстеленный прямо на полу, и почти сразу уснул. Последние мои мысли были заняты погодой. Останутся ли ее условия по-прежнему благоприятными для нашей операции? Ведь в течение последнего дня авиация противника нас не беспокоила, а для моих боевых групп это имело огромное значение.
Вскоре меня разбудили и доложили о возвращении одной из моих групп, перешедшей линию фронта еще утром. Новости, которые она принесла, были интересны в основном для командования фронтом. Утром ее людям надлежало явиться ко мне, а до того времени — спать. Это для солдат тогда являлось самым главным.
Уже в пять часов утра я снова был на командном пункте корпуса, и вскоре поступило первое боевое донесение, которое звучало так: «5:00 17 декабря. После сильного сопротивления противника овладели населенным пунктом «А». Похоже было, что наступление начинало набирать силу, поскольку и от танковой боевой группы, действовавшей южнее, также поступили добрые вести. Она продвинулась в западном направлении уже достаточно далеко.
На этот день было запланировано перемещение командного пункта корпуса в район бельгийского города Мандерфельд, и я проинформировал возвратившуюся группу о том, что отправляюсь в Лосхайм к своей спецроте. Дороги оказались еще более запруженными, чем накануне, и бесконечные цепочки машин еле продвигались вперед. Пройдя не больше ста метров, они останавливались в ожидании, и так повторялось вновь и вновь. В общем, картина была весьма неутешительной.
«Неужели передвижения всех этих громадных колонн действительно так необходимы?» — поневоле подумал я.
Вскоре мы опять застряли, едва добравшись до главной дороги. Терпение у меня лопнуло, и я решил вернуться в Шмидтхайм, с тем чтобы попытаться проехать в Далем по едва проходимым второстепенным дорогам. Но и там нас поджидало то же самое. Пришлось оставить машину и продолжить путь пешком, медленно продвигаясь в направлении городка Штадткилль. Время от времени мне приходилось терпеливо распутывать какую-нибудь путаницу из застрявших грузовиков. Заметив же какого-нибудь офицера, вальяжно развалившегося на мягком сиденье своей машины, я приказывал ему немедленно выйти и навести порядок в создавшемся столпотворении.
На крутых горных подъемах перед Штадткиллем движение полностью встало, и мне с трудом удалось пройти вперед. Стало ясно, что здесь срочно необходимо наводить порядок, чтобы не нарушить снабжение боеприпасами и горючим сражающихся на фронте частей. На последнем повороте дороги, резко спускавшейся к маленькому озерцу, я обнаружил причину этой немыслимой пробки. Путь полностью перегородил огромный, длиной не менее десяти метров, низкорамный прицеп люфтваффе, зацепивший несколько машин. Примерно тридцать человек пытались высвободить эту платформу на колесах, но безуспешно.
Из любопытства я поинтересовался, что за груз она везет, и был буквально поражен, услышав ответ. В прицепе оказались компоненты «Фау-1». Вероятно, их послали так далеко вперед в надежде, что уже в первый день наш фронт значительно продвинется в западном направлении, а потом отменить этот приказ забыли.
Помочь в сложившейся ситуации на дороге могло только радикальное решение, которое мною и было принято. Я приказал всем солдатам выйти из ближайших машин, и вскоре сотня рук трудилась над тем, чтобы выбросить содержимое прицепа в озеро. Затем мы перевернули платформу и сбросили ее с откоса. На все про все ушло не более пятнадцати минут — дорога была свободна.
Двигаться дальше по главной дороге мне было уже невмоготу, и я решил направиться по второстепенной улице Ормонтерштрассе, шедшей в сторону городка Кершенбах. По пути нам попадались бесчисленные неразминированные минные поля, и, памятуя о судьбе несчастного подполковника Хардика, передвигались мы здесь очень осторожно. На главной дороге, пролегавшей от города Прюм в сторону Лосхайма, я увидел последствия первого нашего огневого налета и брошенные американскими солдатами блиндажи. После такого шквала огня оказывать серьезное сопротивление здесь было уже некому. В стороне от проезжей части еще слегка дымились три танка «Шерман».
Вечером в штабе корпуса в Мандерфельде состоялся большой военный совет, на котором присутствовал и генерал-полковник войск СС Зепп Дитрих. Северной танковой группе удалось продвинуться вперед только после упорного сражения. В восемь часов утра она взяла Бюлленжан, а затем повернула на север и с тяжелыми боями только к вечеру овладела Энгельсдорфом. К моменту проведения совещания ее части атаковали город Ставло, но натолкнулись на упорное сопротивление неприятеля. Доклады с других участков фронта звучали не намного утешительнее.
Безусловно, наше неожиданное наступление застало противника врасплох. Однако выйти к Маасу одним решительным ударом не удалось, а рассчитывать на то, что неприятель начнет отход без сопротивления, не приходилось. О беспорядочном бегстве противника, дававшем реальный шанс на осуществление операции «Гриф», речь больше не шла. Нельзя было надеяться и на то, что в нашей полосе наступления немецкие части выйдут к Маасу на следующий день или через день — противник успел подтянуть резервы, которые уже вступили в бой.
В такой ситуации продолжать строить планы проведения нашей спецоперации было по меньшей мере безответственно. В подобном положении любая импровизация явилась бы наказуемым легкомыслием. Конечно, каждый солдат отказывается от запланированной операции с тяжелым сердцем. Со мной происходило то же самое. Однако, взвесив все за и против, я все же принял единственно правильное в той ситуации решение: сообщил в штаб армии, что 150-я танковая бригада проводить акцию не будет, и получил на это одобрение. Затем моим боевым группам была передана соответствующая радиограмма, предписывавшая разбить лагерь на месте пребывания и ждать дальнейших указаний.
Поскольку моя бригада находилась в зоне боевых действий, я передал ее в распоряжение 1-го танкового корпуса войск СС и попросил, чтобы нам поставили чисто пехотную задачу, соответствующую нашим возможностям.
Уже 18 декабря продвижение боевой группы Пайпера было остановлено. Возле города Труа-Пон, который удалось взять лишь в одиннадцать часов утра, противник мосты взорвал. После обеда наши войска овладели еще бельгийскими городами Ла-Глез и Стумон, однако в каждой получаемой от них радиограмме содержалось требование боеприпасов и горючего. Без срочного подвоза того и другого на дальнейшее продвижение вперед рассчитывать не приходилось.
Командование стало срочно принимать меры и формировать различные офицерские группы, с тем чтобы они обеспечивали продвижение всех автоцистерн, застрявших на дорогах. Для этих целей я тоже выделил своего офицера службы снабжения. В результате в течение ночи до боевых групп удалось доставить несколько таких цистерн. Но это являлось лишь каплей в море, и о продолжении наступления нечего было и думать.
На следующий день появилась новая проблема. Почти весь северный фланг наступавших войск оказался неприкрытым. Наиболее угрожающим оказалось положение на пересечении дорог возле населенного пункта Мальмеди, где противник, подтянув свежие резервы, мог нанести опасный контрудар в южном направлении. Тогда меня спросили, смогу ли я прикрыть это слабое место, предприняв атаку на город.
Однако, учитывая расположение моих боевых групп, проведение такой атаки было возможно не ранее утра 21 декабря. Ранним утром 19 декабря по радио я передал трем своим боевым группам приказ собраться в течение 20 декабря в районе Энгельсдорфа, а сам отправился на командный пункт 1-й танковой дивизии СС и обговорил с начальником оперативного отдела вопросы, связанные с проведением атаки.
Поскольку ее артиллерийская поддержка полностью исключалась, то было решено осуществить внезапную атаку на Мальмеди с двух сторон на рассвете 21 декабря. Нашей целью являлись холмы к северу от города, на которых нам надлежало оборудовать позиции и отражать возможные контратаки противника. Пока же обе дороги, подходившие к Энгельсдорфу с севера, охранялись всего двумя отделениями по девять человек в каждом. Положение, прямо скажем, было неутешительным.
19 декабря посланный мною в Мальмеди разведывательный отряд доложил, что город был занят накануне, по всей видимости, очень незначительными силами противника. Тогда у меня появилась надежда на удачное завершение атаки без применения тяжелого вооружения. Оставшихся у нас десяти танков — остальные из-за различных поломок вышли из строя — должно было хватить.
Командир этого разведотряда, старый морской волк и капитан военно-морского флота, доложил с похвальной, но в то же время озадачивающей откровенностью, что он вовсе не собирался заходить в город, а просто заблудился.
— На море со мной такого не случилось бы, — сухо бросил он.
Его рассказ сводился к тому, что, будучи облаченным в немецкую офицерскую шинель, он неожиданно оказался на окраине этого городка. Несколько прохожих поприветствовали его и спросили:
— Немцы идут?
Когда ему сказали, что он находится в Мальмеди, занятом американцами, этот моряк предпочел быстро ретироваться и благополучно добрался до Энгельсдорфа.
— Ну и натерпелись мы страху, — признался он. — Нам, скорее всего, помог счастливый случай, а не здравый смысл.
Из этого приключения я сделал важный вывод, что город почти не защищен.
Начиная со второго дня наступления новых групп за линию фронта мы не посылали. Я считал, что время использования спецроты уже прошло. По моим прикидкам, из девяти групп, посланных ранее для дезорганизации вражеских тылов, реально линию фронта пересекли только шесть или, самое большее, восемь. Как ни странно это звучит, но даже сегодня трудно назвать точное их количество, поскольку тогда я доверял далеко не всем получаемым от них донесениям. Было понятно, что многие из этих молодых солдат просто побоялись признаться в своей трусости, когда пришлось просачиваться через боевые порядки противника.
С другой стороны, я точно знал, что две из этих групп были взяты в плен. Пять других впоследствии представили мне такие исчерпывающие донесения, что подвергать сомнению их достоверность было глупо. А вот еще две группы в своих сообщениях действительность явно преувеличивали.
Из числа реально осуществленных мероприятий на некоторых мне хочется остановиться несколько подробнее. В частности, одна из групп доложила, что ей на самом деле уже в первый день наступления удалось пройти сквозь бреши, образовавшиеся в обороне противника, и добраться до Юи вблизи Мааса. Там она спокойно устроилась на пересечении дорог и, исполняя приказ, начала наблюдать за передвижением неприятельских войск. Командир группы, бегло говоривший по-английски, частенько даже отправлялся к перекрестку, чтобы ознакомиться с ситуацией непосредственно на месте.
Во время одной такой прогулки мимо проходил американский танковый полк, и его ничего не подозревавший командир решил справиться у нашего смельчака относительно дороги. Не моргнув глазом наш командир хладнокровно заявил:
— Эти «проклятые немцы» только что перерезали несколько дорог. Я сам получил приказ дождаться свою колонну, чтобы указать ей объезд.
С этими словами он показал дорогу, делавшую большой крюк. И танкисты послушались, направившись по пути, который указал им наш человек.
Возвращаясь, эта группа перерезала несколько свежих телефонных линий и сняла таблички, развешанные американской интендантской службой. Сутки спустя она вышла к немецким боевым порядкам в полосе ответственности 5-й танковой армии, принеся интересные наблюдения о сумятице, которая царила у американцев позади линии фронта в начале нашего наступления. А еще через несколько часов эти отважные солдаты были уже в Лосхайме, вернувшись в свою спецроту.
Через день служба германской радиоразведки подтвердила достоверность этой невероятно звучавшей истории. Американское командование полтора дня по радио разыскивало свой пропавший танковый полк.
Другая из этих специальных команд также удачно перешла через линию фронта и, быстро продвигаясь, никем не задержанная, переправилась через Маас возле Аме. Согласно ее наблюдениям, союзники, можно сказать, ничего не сделали для того, чтобы защитить мосты в этом районе. Во время своего выдвижения и возвращения группа перегородила три ведущие к переднему краю дороги, устроив на них завалы из бревен. Кроме того, она установила таблички и развесила на деревьях цветные ленты, которые в американской армии означали то, что дорога заминирована.
Мы смогли установить, что американцы на самом деле какое-то время не использовали эти дороги для осуществления снабжения своих передовых частей. А это означало, что немецкие части на данном участке получили существенную помощь.
Небольшой эпизод, произошедший с третьей группой, показал, насколько восприимчивыми были американские войска к разного рода слухам. 16 декабря она подошла к населенному пункту, располагавшемуся юго-западнее Энгельс-дорфа, где приготовились к обороне две американские роты, построив завалы на дорогах, оборудовав пулеметные гнезда и прочие позиции. Наши люди, должно быть, здорово перепугались от неожиданности, когда их остановил один американский офицер и спросил, что им известно о последних новостях с фронта, поскольку связи с вышестоящими штабами у него не было.
Взяв себя в руки, офицер моей спецроты, командовавший группой и одетый в форму американского сержанта, рассказал развесившему уши командиру американской роты настоящую небылицу. Испуг, который читался на лицах наших солдат, американцы, вероятно, посчитали результатом последней стычки с немецкими подразделениями, которую они якобы недавно пережили. Командир группы заявил, что «фрицы», как называли немецких солдат союзники, уже обошли этот населенный пункт как справа, так и слева, по сути отрезав подразделения в поселке от главных сил. Командир американской роты поверил в это и немедленно отдал приказ к отступлению. Чуть позже он выслал также разведывательную группу, придав ее нашей, с задачей найти свободную дорогу в западном направлении.
Еще одна группа нашей спецроты на пути следования к Маасу обнаружила склад боеприпасов. Ее солдаты спрятались поблизости до наступления темноты, а затем, искусно заложив взрывчатку, взорвали его. Немного позднее им посчастливилось обнаружить телефонный кабель-коллектор, который они перерезали в трех достаточно удаленных друг от друга местах.
Однако на обратном пути удача от них отвернулась. Пробыв в тылу противника целых два дня, солдаты этой группы при возвращении наткнулись на американцев, проводивших контратаку против головных частей северной немецкой танковой группы, дошедших до города Шеврон. В сумерках мои храбрецы на джипах попытались прорваться к своим.
Американцы открыли им вслед ураганный огонь и смертельно ранили нашего офицера. Трем же остальным членам моей группы удалось присоединиться к солдатам группы Пайпера и вместе с ними в ночь на Рождество 25 декабря вырваться из окружения и выйти к своим восточнее городка Ван.
Успех этих немногочисленных групп превзошел мои ожидания, вызвав в тылу неприятеля настоящую шпиономанию. Через несколько дней по радио союзников из Кале было передано сообщение, в котором говорилось о том, что американской контрразведке удалось раскрыть и ликвидировать в тылу союзников разветвленную немецкую шпионскую и диверсионную сеть под командованием Скорцени, похитителя Муссолини. Американцы объявили даже, что захватили более двухсот пятидесяти человек из состава моей 150-й танковой бригады.
Поскольку я ежедневно получал донесения от своих групп о наличии личного состава, меня это радиосообщение совсем не расстроило. Оно вызвало только любопытство насчет того, каким образом это насквозь лживое сообщение вообще могло появиться на свет.
В качестве ответа на этот вопрос у меня было только два возможных варианта. Первый сводился к тому, что приведенное в радиосообщении число захваченных пленных американцы просто выдумали. В этом случае они совершили большую психологическую ошибку. Нас столь большое число пленных напугать не могло, так как это легко проверялось. А вот среди американских солдат оно могло привести к росту и без того немалого количества самых разнообразных слухов. Ведь не трудно было предположить, что провозглашенные успехи собственной контрразведки их не только вдохновляли, но и позволяли думать о наличии других сотен еще нераскрытых шпионов в их рядах.
Второй вариант предполагал, что количество шпионов было названо верно. Но в этом случае среди арестованных насчитывалось гораздо больше американцев, чем немцев. Ведь во всей моей бригаде за все две недели проведения операции общее число пропавших без вести составило всего двадцать пять человек, восемь из которых приходилось на спецроту.
Уже после войны мне стало известно, что правильным являлось второе предположение — американская контрразведка в своем чрезмерном рвении арестовала большое число собственных солдат и офицеров.
В августе 1945 года в лагере возле города Оберурзель, в котором проводились допросы в интересах следствия, у меня состоялась беседа с одним американским капитаном, рассказавшим, что его самого в конце декабря 1944 года задержала своя же военная полиция. Прошло немало времени, прежде чем ему удалось отвести от себя подозрение в том, что он якобы являлся немецким шпионом и моим сотрудником.
Вместе с тем капитан признался, что сам виноват в этом. Во время совершения марша во Франции им был найден багаж одного немецкого офицера, из которого он взял пару офицерских сапог. Поскольку сапоги оказались ему впору, американец стал их носить. Охваченная же шпиономанией военная полиция узрела в этом повод счесть его немецким шпионом. Он был арестован и брошен в камеру, где с ним, по собственному признанию капитана, обходились довольно грубо.
— Те восемь дней, которые мне довелось провести в качестве американского военнопленного, подозреваемого в шпионаже, я никогда не забуду, — заверил меня этот капитан.
Когда я, в свою очередь, пожаловался ему на то, как со мной обходятся в качестве военнопленного, то нашел в его лице полное понимание. Впрочем, он ничего не обещал, и помощи от него никакой не было.
Еще с двумя первыми лейтенантами[266] я познакомился в 1946 году в Дахау. В декабре 1944 года они прибыли из Америки во Францию и следовали на передовую. Когда по пути эти молодые офицеры остановились в какой-то части на обед, то из вежливости похвалили приготовленную из консервов еду. Это, а также надетая на них новехонькая униформа показались подозрительными, и их арестовали прямо за столом, а затем препроводили в тюрьму. Ведь бывалые фронтовики едой из консервных банок были сыты по горло и мысленно ее проклинали, заранее ругая следующий обед.
Также осенью 1945 года, когда я находился в следственной тюрьме Нюрнберга, один американский сержант поведал мне, что его вместе с двумя другими солдатами арестовали неподалеку от Мааса. На их несчастье, у них в джипе ретивыми военными полицейскими были обнаружены немецкие камуфляжные куртки. Дело осложнилось еще и тем, что, как на беду, один из них являлся американцем немецкого происхождения, о чем свидетельствовал его характерный акцент. Арестованных продержали под стражей более десяти суток и даже устроили им очную ставку с четырьмя солдатами из 150-й танковой бригады. По рассказам этого сержанта, охота на немецких шпионов продолжалась до конца января 1945 года.
Работа американской контрразведки осложнялась еще и тем, что многие пленные немецкие солдаты носили в качестве своеобразных ветровок забытые некоторыми интендантами американские полевые куртки. В декабрьскую погоду, когда морозы сменялись оттепелью, они являлись самыми практичными предметами форменной одежды. Ведь на пятом году войны немецкое оснащение по качеству было хуже американского. Ношение такой куртки немецким солдатом у контрразведки союзников сразу же вызывало подозрение в принадлежности пленного к 150-й танковой бригаде. К счастью, это было не так. Во время более позднего военносудебного разбирательства относительно меня и девяти моих офицеров выяснилось, что никто из солдат трех боевых групп моей бригады не попал в плен в таком одеянии. Иначе нас непременно приговорили бы к расстрелу.
Глава 18
Слухи в качестве боевого средства. — Эйзенхауэр стал жертвой своей охраны. — Запоздалая встреча. — 21 декабря 1944 года. — Наступление и отступление. — Осечка у «Фау-1»? — Дивизион без боеприпасов. — Где же снабжение? — Абсолютное господство авиации союзников в воздухе. — Рождество под огнем
Во время допросов американских военнопленных в первые дни наступления мы обнаружили, что в применении спецроты совершили небольшую, но основополагающую ошибку. Эта неизвестная нам до той поры мелочь, возможно, и привела к аресту двух наших групп. Нам, немцам, которым с детства прививали необходимость соблюдения режима экономии, и в голову не могло прийти, что в американской армии не принято, как у нас, полностью загружать джипы. Мы считали, что в эти вместительные машины американцы сажали по четыре солдата и в соответствии с этим формировали группы на джипах. К нашему изумлению, выяснилось, что команда из четырех человек выбивалась из общих правил и выглядела подозрительно. Армия США была настолько хорошо оснащена в техническом отношении, что в джипе обычно размещалось два, максимум три человека.
Наибольшего, хотя и незапланированного, успеха мы добились в распространении слухов в тылу американских войск. Даже в январе 1945 года я получал агентурные донесения из Франции о том, что меня там продолжают разыскивать. Несмотря на то что Битва за Выступ, как назвали американцы наше наступление, закончилась, я якобы еще находился в неприятельском тылу.
Однако в полном объеме эти нелепые слухи стали мне известны только после войны. Почерпнув подробности из газетных статей и книг, а также из бесед с американскими офицерами, я сложил довольно целостную картину и мог бы озаглавить данную главу такими словами: «Слухи как действенное боевое средство».
Через два дня после того, как 15 мая 1945 года я добровольно сдался в плен, в Аугсбурге мне посчастливилось познакомиться с начальником службы контрразведки 7-й армии США полковником Шином. Он являлся одним из самых порядочных и достойных офицеров, которые меня допрашивали. На протяжении шести часов полковник пытался выудить все мои «секреты», особенно касавшиеся операции «Гриф». После того как он понял, что я ничего не скрываю, между нами состоялся серьезный и откровенный разговор. Это была беседа офицера с офицером.
Полковник Шин первым признал, что наша система формирования слухов работала очень хорошо и вызвала поистине огромную сумятицу в войсках союзников. Более того, он прямо сказал, что американские спецслужбы попали в данном вопросе впросак и допустили непростительный промах. От него я узнал, что меня разыскивали во Франции вплоть до начала февраля 1945 года, а моя фотография была размножена в десятках тысяч экземпляров и вывешена во всех городах и весях.
Полковник показал мне множество донесений, в которых их авторы уверяли, что видели меня лично. Мне запомнилось письмо одного аптекаря из города Т., который доложил, что я покупал у него таблетки аспирина. Другая чрезмерно активная «сыщица», французская крестьянка, сообщала о том, что продала мне продукты питания. Подобные заявления укрепляли мнение американской контрразведки в том, что я якобы находился у них в тылу и каким-то образом готовил нападение на главную ставку союзников.
После проверки меня на знание английского и французского языков полковник Шин окончательно убедился в несостоятельности всей этой, по его образному выражению, «трескотни».
Через несколько дней, уже в конце мая 1945 года, у полковника Шина состоялась пресс-конференция по данному вопросу, которая была освещена также и солдатской газетой «Старз энд страйпс»[267]. В своем выступлении полковник заверил репортеров, что немецкая сторона никогда не планировала организации нападения на главную ставку генерала Эйзенхауэра. Однако подобное заявление этого уважаемого военного не заставило умолкнуть распространителей данных слухов. В погоне за сенсацией о них продолжали писать еще целых два года. Естественно, что большинство этих публикаций ничего общего с истинной правдой не имело.
Позже был опубликован также мой ответ на вопрос относительно планов нападения на Эйзенхауэра, который мне задали во время первого допроса в Зальцбурге 16 мая 1945 года. Сегодня он звучит, пожалуй, несколько самоуверенно, но тогда я действительно считал его единственно верным и доказывающим мою правоту без всякого подтекста, заявив примерно следующее:
— Если бы у меня был приказ Верховного командования вермахта об организации нападения на главную ставку союзников, то тогда я на самом деле разработал бы соответствующий план, который все равно выглядел бы иначе, чем вы его изображаете. При наличии такого плана я непременно попытался бы его осуществить с помощью лучших германских подразделений. А если бы мы начали действовать, то наверняка провели бы операцию успешно, так как во время войны не может быть такой главной ставки, до которой нельзя было бы добраться. При определенной солдатской удаче такая операция вполне осуществима, и нам наверняка удалось бы взять в плен наиболее важных персон, а также захватить соответствующие документы.
Наши средства радиоразведки в феврале 1945 года доложили мне о том, что меня все еще разыскивают во Франции, то есть тогда, когда я уже командовал дивизией на Восточном фронте, обороняя плацдарм под городом Шведт на Одере. К тому времени хорошо работавшая русская разведка наверняка знала о моем там нахождении. Когда я заявил об этом одному высокопоставленному американскому офицеру в Нюрнберге, то он доверительно произнес:
— Я в курсе! Обмен разведсведениями с нашими русскими друзьями не всегда осуществлялся на должном уровне. Русские могли избавить нас от многой ненужной работы.
После войны во многих американских военных мемуарах я прочитал немало смешных и одновременно правдивых описаний трудностей, с которыми сталкивались союзники из-за продолжавшихся распространяться в их тылу нелепых слухов. Приведу один пример:
«Генерал Эйзенхауэр сам стал жертвой своей же охраны. Некоторое время, по сути, он являлся пленником в собственной ставке. Ему приходилось проживать в скромном домике, окруженном многочисленными кордонами, растянувшимися на большое удаление. Как пишет в своих военных воспоминаниях сам генерал, эти мероприятия по обеспечению его безопасности вскоре стали ему надоедать и казаться чрезмерными.
В своем рвении соответствующие службы дошли даже до того, что разыскали ему двойника. Им был офицер штаба Эйзенхауэра, внешнее сходство которого с главнокомандующим просто поражало. (После войны в американских газетах была опубликована даже фотография этого двойника.) Этот фальшивый генерал должен был ежедневно надевать генеральскую форму и на машине главнокомандующего отправляться в Париж, чтобы привлекать таким образом к себе внимание немецких шпионов».
Самое интересное заключалось в том, что тогда результаты деятельности немецкой агентуры на Западе были уже настолько неэффективными, что ни один офицер германской разведки не мог с точностью назвать тогдашнее местонахождение главной ставки союзников.
Как-то раз летом 1946 года меня вызвали из одиночной камеры лагеря Дахау на допрос. Навстречу мне поднялся полковник американской армии и произнес:
— Меня зовут полковник Р., и мне давно хочется с вами, полковник Скорцени, познакомиться. Давайте выйдем на свежий воздух. Я хочу, чтобы нас сфотографировали.
Довольно озадаченный столь неожиданным предложением, я недоверчиво спросил, для чего будут сделаны эти фотографии. На мой вопрос полковник ответил, что зимой 1944 года он являлся ответственным за обеспечение безопасности главной ставки союзников и тогда считал, что я каким-то непонятным образом попытаюсь добраться до Парижа и атаковать ставку.
— Господин полковник, — заметил я, — вы не считаете, что эти фотографии несколько запоздали? Если бы они были сделаны тогда, в 1944 году, и вы могли бы их предъявить в качестве доказательства того, что я являюсь вашим пленником, то целесообразность таких памятных фотографий была бы мне понятна. Но теперь, после войны, какая в них надобность?
Внятного ответа я не получил, однако, будучи воспитанным военнопленным, согласился выйти из барака, где к нам присоединилась неизвестная мне дама и было сделано несколько снимков.
Следует отметить, что в то время парижане совсем не заморачивались насчет страхов вокруг немецких шпионов и якобы предстоящего моего появления. Они вели себя так, как будто войны вообще не было, и в дни, когда для союзников положение под Арденнами являлось критическим, в Париже даже объявили о запрете выхода из города в ночные часы праздношатающихся горожан. Охранные и контрольные посты были многократно увеличены, а на улицах возведены дорожные заграждения, что сильно мешало движению городского транспорта. Объектом особого наблюдения и принятия мер предосторожности стало кафе «Дэ ля Пэ», которое я имел неосторожность упомянуть, и его ближайшие окрестности. Мне же оставалось только надеяться, что парижане из-за этого не очень на меня разозлились и уже забыли о причиненных им неудобствах, невольной причиной которых, сам того не желая, я стал.
Летом 1946 года я не думал, что встречу полковника Р. еще раз. Во время заседания военно-полевого суда в августе-сентябре 1947 года его назначили моим главным обвинителем, и мне тогда приходил в голову вопрос, не являлось ли это игрой судьбы. Хотя такое его назначение имело и определенное преимущество — и обвинитель и обвиняемый могли говорить и приводить свои аргументы исходя из собственного реального опыта. Поэтому вторая наша встреча с полковником свелась к оживленной словесной дуэли, что, возможно, для присутствовавших на слушаниях представляло интерес.
Во время Арденнской наступательной операции неуверенно чувствовал себя и командующий английскими войсками фельдмаршал Монтгомери. Как сообщалось в послевоенных газетных статьях, его часто останавливала военная полиция, задавая неудобные вопросы. Ведь тогда ходили слухи о том, что «один молодчик из банды Скорцени», как нас стали называть, вспомнив о былых временах в Чикаго, занимался шпионажем, облачившись в форму английского генерала. Поэтому каждого выезжавшего в Бельгию британского генерала буквально просвечивали под микроскопом, и фельдмаршал Монтгомери не являлся в этом вопросе исключением.
Наверное, пришла пора коротко поведать о конце моих приключений во время Арденнской наступательной операции. После обеда 20 декабря 1944 года в Энгельсдорф первой возвратилась моя боевая группа «У» под командованием Гауптмана Ш. и заняла исходный район возле главной дороги на Мальмеди. Прибыл и гауптман фон Фелькерзам, чья боевая группа была на подходе и возвращение которой ожидалось в ночные часы. На появление же третьей боевой группы под командованием подполковника В. в ближайшее время нам рассчитывать не приходилось — она была еще слишком далеко, а становившееся все хуже состояние дорог ускорению ее движения никоим образом не способствовало. Поэтому ее я мог рассматривать только в качестве возможного, но неуверенного резерва.
По Энгельсдорфу противник вел ожесточенный артиллерийский огонь, и я подобрал под свой командный пункт, одиноко стоявший на окраине населенного пункта, дом, располагавшийся на дороге, шедшей в сторону города Бельво. Он находился на обратном склоне холма и на первый взгляд лежал вне траектории полета вражеских снарядов. Нам даже почти не мешали звуки их разрывов во время обсуждения обстановки.
Для начала атаки я избрал время на рассвете, когда освещения для стрельбы уже было достаточно. Гауптману Ш. предстояло наступать на Мальмеди с юго-востока, а Гауптману фон Фелькерзаму — с юго-запада. Мой план заключался в том, чтобы овладеть первыми линиями траншей и по возможности пробиться к городу. В любом случае в этих боях планировалось задействовать только часть наших подразделений. Основные же силы должны были обойти противника и перерезать дороги севернее Мальмеди на гребне высот.
Боевая группа Фелькерзама прибыла только поздно ночью, так как пройти в Энгельсдорф ей помешал заградительный огонь неприятеля. Появились и первые потери. Около пяти часов утра ко мне поступили доклады с командных пунктов боевых групп о том, что они изготовились к атаке, и я пожелал обоим командирам удачи.
Во время начала атаки мне показалось, что с севера доносятся звуки сильной артиллерийской стрельбы. Я не ошибся — правый фланг моих наступавших подразделений попал под мощный заградительный огонь неприятеля, и атака захлебнулась. Поэтому гауптман Ш. принял решение прекратить атаку и вернуться на исходные позиции. Выслушав доклад, я, опасаясь последующего удара противника, приказал его боевой группе занять оборону примерно в четырех километрах севернее Энгельсдорфа. Кроме того, ей надлежало находиться в готовности продолжить атаку, если левому флангу удастся выполнить задачу.
Однако от левой боевой группы доклады не поступали достаточно долго. О том, что происходило впереди, позволяли догадываться только шум боя да прибывающие грузовики с ранеными. Когда совсем рассвело, я медленно пошел вперед и достигнул гребня высоты, но обзора на Мальмеди так и не получил. Зато оттуда хорошо были видны двойные повороты дорог на западе города, где шел безнадежный бой с превосходящими танками противника шести наших «Пантер», взявших на себя прикрытие левого фланга атакующих сил.
Гауптман фон Фелькерзам слыл человеком упорным и, по всей видимости, не хотел прекращать атаку. Однако вскоре начали возвращаться первые пехотинцы, от которых мне стало известно, что они наткнулись на хорошо оборудованные и сильно укрепленные позиции, взять которые без поддержки артиллерии не представлялось возможным. Наши танки вели бой, чтобы прикрыть отход. Тогда я приказал своим людям собраться за гребнем высоты и приготовиться к контратаке.
Во мне усиливалось желание скорее помочь Фелькерзаму, командовавшему этой боевой группой, который стал для меня настолько хорошим другом и соратником, что я не мог допустить его потери. Наконец он последним вместе с врачом нашей бригады поднялся на гребень высоты и, изможденный, а больше всего раздавленный неудачей, подошел ко мне. Я немедленно собрал всех офицеров на совещание, чтобы обсудить, как лучше организовать оборону на занимаемых позициях, а Фелькерзам осторожно опустился на влажную лесную почву — в то место, на котором сидят, ему попал осколок.
Наше совещание охраняло отделение, вооруженное панцерфаустами. Под самый конец обсуждения нас ожидала приятная неожиданность — хромая, пришел наш бравый маленький лейтенант, командовавший танковой ротой и которого мы считали убитым. В тот день его ранило не меньше семи раз, и вся его форма пропиталась кровью.
Он доложил, что рано утром ему удалось вклиниться в глубь обороны противника и продвинуться до его артиллерийских позиций, на которых он танками раскатал целую батарею. Только контратака вдвое превосходящих сил неприятеля вынудила его к отходу. При попытке остановить противника, чтобы дать возможность нашей пехоте оторваться, все танки его роты были подбиты.
В послеобеденные часы мы заняли неплотную оборону, растянув свои позиции по фронту почти на десять километров. Самым мощным нашим вооружением являлись минометы среднего калибра. Для введения противника в заблуждение я приказал несколько раз в день проводить разведку боем. Неприятельский артиллерийский обстрел заметно усилился и перерос почти в ураганный огонь, сосредотачиваясь на долине, Энгельсдорфе и дорожных магистралях.
Вечером я наведался на командный пункт дивизии, чтобы узнать обстановку. Начальник оперативного отдела находился в прицепе, который стоял во дворе отеля. Переговорив с ним, я решил зайти в здание, чтобы немного подкрепиться. В этом отеле еще до 17 декабря находился штаб американской бригады, который «любезно» оставил нам довольно приличные припасы. Не успел я пройти и тридцати шагов, отделявших прицеп от входа в отель, как послышался характерный свист и раздался взрыв. Снаряд угодил прямо в прицеп, из остатков которого мы вытащили раненого начальника оперативного отдела. Можно сказать, что он родился в рубашке, так как в спину ему вонзился осколок величиной с небольшой карандаш, не задев при этом жизненно важных органов.
Мой проверенный водитель фельдфебель Б. ждал меня при входе в отель. Я быстро связался со своим командным пунктом, чтобы узнать, все ли в порядке, а затем, дождавшись, когда отгремят следующие разрывы, мы запрыгнули в нашу машину, стоявшую под защитой стены дома.
Мотор взревел, и она тронулась с места. Ночь была такой темной, что хоть глаз выколи, и свет от городских огней едва различался в узких смотровых щелях нашего бронированного автомобиля. Поэтому мы тихо ехали посередине дороги.
Едва машина переползла через мост, как рядом раздалось три взрыва. Я почувствовал сильный удар по лбу и одним махом, руководствуясь больше интуицией, чем зрением, выпрыгнул из открытого автомобиля в придорожную канаву. Тут в нашу машину врезался ехавший навстречу грузовик с потушенными фарами. На мой зов откуда-то сзади послышался голос фельдфебеля Б., и в этот момент я стал ощущать, как что-то горячее течет по моему лицу.
Я осторожно провел рукой по лбу и наткнулся на висящий над правым глазом кусок окровавленного мяса. От страха по всему моему телу пробежал озноб.
«Неужели я лишился глаза?» — мелькнула мысль в моей голове.
Это было бы, пожалуй, самым худшим, что могло случиться. Ведь незрячие люди с раннего детства всегда вызывали во мне чувство глубокого сострадания, так как их участь представлялась просто ужасной. Не обращая внимания на близкие разрывы снарядов, я еще раз ощупал свое лицо под раной. Слава богу, глаз был на месте!
Присутствие духа вновь вернулось ко мне, и я решил повернуть назад, спросив своего водителя, можно ли ехать на нашей машине? Он ответил, что попробует, ведь из-за того, что радиатор от попадания осколков или столкновения мог быть поврежден, на коротком отрезке пути с двигателем ничего страшного случиться не могло. Через несколько минут мы вновь прибыли на командный пункт дивизии, напугав своим видом офицеров штаба.
В зеркале левым глазом я осмотрел свое лицо. Зрелище, прямо скажем, было не из приятных. Когда же мой водитель обнаружил на моей правой брючине несколько отверстий, то при более внимательном осмотре на бедре мы увидели две глубокие царапины от осколков. Мне оставалось только поздравить себя с тем, что все так легко обошлось. Время ожидания врача я провел с пользой, выпив бокал отличного коньяка и съев принесенный с полевой кухни отменный гуляш. Единственно, что несколько испортило настроение, так это то, что после трапезы мне не удалось выкурить сигарету — мои пропитались кровью и отсырели. Ситуация чем-то напомнила мою дуэль в удалые студенческие годы.
Когда пришел врач, то вместо того, чтобы порадоваться за меня, начал ругаться. Дескать, мне следовало лежать. Как будто это тогда уже имело значение! По дороге в главный медицинский пункт я, честно говоря, вздохнул с облегчением только тогда, когда мы миновали ту проклятую низину. Второе попадание снаряда наверняка закончилось бы гораздо хуже.
В главном медицинском пункте дивизии, размещавшемся в здании сельской школы, мне повезло — только что освободился один из четырех операционных столов, за которыми доктора днем и ночью работали не покладая рук. Ведь потери в нашей полосе наступления были очень большими. Я быстро навел справки насчет раненых моей 150-й танковой бригады. Насколько могли вспомнить врачи, мои люди с серьезными ранениями к ним не попадали. Исключение составил только начальник штаба боевой группы фон Фелькерзама лейтенант Айтель Лохнер, который поступил с тяжелым ранением в живот и находился без сознания. Его еще не прооперировали. Я решил позже обязательно навестить лейтенанта и послушно лег на операционный стол.
От сильной анестезии я отказался. И вовсе не из-за того, что хотел выглядеть героем, а потому, что мне необходимо было той ночью сохранить ясную голову на случай, если на нашем участке фронта что-то произойдет. Гораздо хуже было слушать стоны, доносившиеся с трех других столов. Мне пришлось собрать нервы в кулак, чтобы не обращать на них внимания. Боли я почти не чувствовал, она появлялась только тогда, когда врачи удаляли осколки костей. Затем меня начали зашивать и наконец туго перевязали голову.
Врачи хотели непременно отправить меня в тыловой госпиталь, но об этом не могло быть и речи — положение на моем участке оставалось очень серьезным. Я хорошо знал границы моих физических возможностей и поэтому заявил, что возвращаюсь в часть под свою ответственность.
В соседнем помещении я обнаружил скорчившегося на носилках Айтеля Лохнера. Стоило только мне наклониться к нему и произнести его имя, как случилось чудо — он пришел в себя и сразу же узнал меня.
— Что с вами, командир? — прошептал отважный лейтенант, позабыв о себе. — Вы тоже ранены?
Я с чистой совестью заверил его, что со мной ничего страшного не произошло, и спросил, как он себя чувствует.
— Благодарю, — ответил он. — Я скоро вернусь в строй, как только из моего живота удалят эти проклятые «железные бобы».
Звуки от разрывов снарядов стали раздаваться ближе. Все здание буквально сотрясалось до основания.
«Не самое лучшее место для бедных раненых!» — подумал я.
Той же ночью главный медицинский пункт дивизии пришлось эвакуировать, и наш боевой товарищ Лохнер не выдержал перевозки. Когда транспорт с ранеными прибыл на новое место, лейтенант был уже мертв.
Вернувшись в отель, я почувствовал, что мне срочно требуется лечь в постель. Пришлось удовлетвориться номером на втором этаже, хотя в двухэтажном здании это был не самый безопасный вариант — о пробиваемости американских снарядов мы знали не понаслышке!
Связисты быстро установили в моем номере телефонный аппарат, и я вызвал к себе своего офицера для поручений. Мне так и не удалось заснуть — мешали звуки от непрерывных разрывов снарядов и поднявшаяся у меня температура от перенесенного ранения.
Днем я направился в штаб корпуса и еще раз устно попросил о выделении нам тяжелого оружия, а на обратном пути на всякий случай прихватил с собой подполковника В., чья боевая группа, находясь в резерве, заняла позиции возле кайзеровских казарм. Ему предстояло заменить меня, если мне станет хуже. После этого я вернулся на свой старый командный пункт, где из-за постоянно усиливавшегося артиллерийского обстрела стало совсем неуютно. Мы постелили наши матрацы на полу и заделали окна толстыми жердями — слушать в комнате свист от осколков снарядов мне не хотелось.
В течение дня артиллеристы с той стороны стали причинять нам все больше хлопот. Сначала они в щепки разнесли прямым попаданием место, без которого не может обойтись ни один культурный человек, затем снаряд угодил в сарай, а потом осколком ранило нашу старую корову в заднюю ногу. Последнее разрешило наши сомнения насчет того, стоит ли забивать животное на мясо или нет. Обстоятельства вынудили нас это сделать, но мы все же оставили для сбежавшего хозяина коровы выправленную по всем правилам бумагу со штемпелем, повесив ее на двери коровника.
Удивительно, каким неполноценным и неуклюжим становится человек при ранении глаза. Он не может даже толком определить направление своего движения, поэтому я старался лишний раз не выходить из дома. Мы занимались подготовкой данных для стрельбы из орудий обещанного нам артиллерийского дивизиона. В ходе проведения разведки боем нам удалось установить местонахождение многих артиллерийских позиций американцев, и мы заранее радовались возможности ответить на их ураганный огонь.
Ночью нас разбудил какой-то новый шум. Когда мы выглянули наружу, то увидели в небе светящиеся в темноте языки пламени от ракет «Фау-1», летевших в сторону Люттиха. Это заставило меня примириться с неприятным инцидентом под Штадткиллем, когда мне пришлось перевернуть прицеп с комплектующими «Фау-1». Но это чувство примирения быстро улетучилось буквально следующей ночью — одна из этих опасных птичек ударила по холму в каких-то ста метрах от нашего дома. Хорошо еще, что она не взорвалась. Однако мы не знали, насколько безобидным окажется следующий отказ данного оружия. Слухи о том, что при монтаже головок наведения «Фау-1» в последнее время были выявлены многочисленные акты диверсий со стороны иностранных рабочих, похоже, не были беспочвенными.
Подполковник В., по всей видимости, являлся заговоренным, и мне становилось порой просто жутко — мало того, что снаряды его не брали, он их еще и притягивал. Так, накануне подполковник стоял возле своего дома вместе с двумя посыльными, и в этот момент разорвался снаряд. Одного посыльного убило на месте, другого тяжело ранило, а у него ни единой царапины! Совсем же недавно он сидел в своей машине на дороге напротив моего командного пункта. И вновь разорвался снаряд. Троих ранило, но подполковник В. остался цел и невредим!
23 декабря 1944 года я поехал в штаб 6-й танковой армии СС. Необходимо было обговорить вопросы, связанные с нашим плохим оснащением, ведь ранее длительное применение моих подразделений не предусматривалось. У нас не имелось полевых кухонь, и поэтому приходилось постоянно импровизировать, чтобы обеспечить людей горячим питанием. При начинавшихся холодах неприятным становилось также отсутствие термосов для переноски пищи. Требовалось и зимнее обмундирование. Об этом и об отсутствии артиллерии я хотел доложить лично.
Погода прояснилась, и для вражеской авиации создались благоприятные условия. Нам не раз приходилось останавливаться и прыгать в придорожные канавы. Поэтому мы продвигались вперед не так быстро, как хотелось, объезжая порой пробки прямо по полям. После города Нидер-Эммельс, когда нам опять пришлось лежать на животе, прячась от неприятельских самолетов, меня внезапно охватил жуткий озноб — за последние дни рана немного загноилась, и, возможно, это и послужило причиной моего недомогания.
Невдалеке виднелся одиноко стоявший крестьянский дом, и мы с обер-лейтенантом Г. решили зайти в него. Там мы увидели сидевших за столом немецких солдат. Оказалось, что у них сломалась машина и они зашли в избу погреться. Меня угостили горячим чаем, но озноб не прошел. Пришлось в штаб армии отправить одного офицера для поручений, а самому остаться. У хозяйки я попросил разрешения воспользоваться постелью, чтобы отлежаться. Хорошо, что при мне было несколько таблеток аспирина, а главное — бутылка рома, из которого мой водитель приготовил крепкий грог. Запив им пять таблеток аспирина, я рухнул в постель. Однако озноб не проходил, и меня трясло так, что кровать грозила развалиться.
Солдаты на кухне взяли надо мной шефство и приготовили еще одну порцию грога. Мои зубы буквально выбивали дробь, и мне удалось выпить не более половины. Отдав своим благодетелям остатки рома, я наконец забылся сном и к моменту возвращения своих людей был в состоянии поехать «домой», то есть на свой командный пункт.
Утром 24 декабря прибыл долгожданный минометный дивизион. И хотя накануне праздника любви и примирения думать о войне, смерти и разрушении было неправильно, поступившую в мое распоряжение артиллерию я воспринял как рождественский подарок. Мне было не до выслушивания форменного доклада майора, командовавшего дивизионом, и мы сразу приступили к делу, засев за карту.
Я начал показывать на карте майору места для размещения его батарей, а также разведанные цели и вначале не обратил внимания на его нерешительность. Он мялся и явно не осмеливался сказать что-то очень важное. Однако, когда я на прощание попросил его побыстрее занять огневые позиции и сразу же доложить мне об этом, командир дивизиона все же набрался мужества и заявил:
— Господин подполковник! Я вынужден доложить, что на весь мой дивизион имеется всего шестнадцать мин, а на подвоз боеприпасов рассчитывать не приходится.
От такого известия я чуть было не потерял дар речи, не зная, плакать ли мне или смеяться. Зачем мне артиллерия без боеприпасов? Этот рождественский дар поистине напоминал подарок, сделанный данайцами[268].
Естественно, я не стал изливать свой гнев на ни в чем не повинного майора, однако мой последовавший вслед за этим телефонный разговор с начальником артиллерии проходил на довольно повышенных тонах. Дивизион же по моему приказу до подвоза боеприпасов был размещен на запасных позициях возле кайзеровских казарм. Там он и оставался вплоть до того момента, когда нас сменили другие части.
Данный пример характерен для положения дел на многих участках фронта во время проведения Арденнской наступательной операции — необходимое снабжение отсутствовало практически везде. Не мне, конечно, судить о причинах этого. Возможно, виной тому было отвратительное состояние дорог, нехватка горючего для транспортных машин или господство неприятельской авиации в воздухе. А может быть, причина заключалась в отсутствии необходимых средств у самой Германии?
В таких условиях я вновь вспомнил слова Адольфа Гитлера, когда 22 октября 1944 года он ставил мне задачу на проведение так и не осуществленной операции «Гриф». Тогда фюрер заявил, что Организация Тодта[269] предприняла целый ряд всеобъемлющих мер по решению вопросов, связанных с организацией снабжения войск. Для обеспечения фронта ею якобы в достаточном количестве были подготовлены грузовики, работавшие на древесном газе, а на всех дорогах в районе наступления для этих машин созданы огромные запасы дров. Однако во время своих многочисленных поездок, когда в декабре мне пришлось исколесить прифронтовую территорию вдоль и поперек, никаких грузовиков Тодта, работавших на древесном газе, я так и не увидел.
К сказанному следует добавить еще один эпизод. Как-то раз под бельгийским городом Борн, где размещалась моя спецрота, я встретил полковника люфтваффе Г., который был награжден высшим германским орденом — Рыцарским крестом с бриллиантами. При нем находились штаб и сложные радиоустройства для управления с земли воздушными боями новых реактивных истребителей Ме-262[270]. В ясном небе днем и ночью кружились самолеты американских ВВС, но воздушные бои наблюдались крайне редко. На мой вопрос, почему такое происходит, полковник подтвердил, что у него еще ни разу не возникало возможности наведения наших истребителей со своего командного пункта, что было вполне объяснимо — для поддержки проведения Арденнской наступательной операции наши люфтваффе располагали всего сорока двумя новыми реактивными истребителями.
Вышесказанное ни в коей мере не является упреком в адрес всего германского люфтваффе. Я знаю, что в первый и второй день наступления наши презиравшие смерть летчики храбро атаковали аэродромы союзников. Но в большинстве своем они летали на устаревших Не-111 и им подобных машинах. Из этих полетов большинство пилотов назад не возвращалось. Следовательно, решимость и воля к победе у летчиков по-прежнему была. Не хватало только современных истребителей, слишком поздно запущенных в серию и выведенных из строя прямо на аэродромах во время налетов вражеской авиации.
Рождественский вечер особой радости не принес. Нам было не до праздника! Артиллерия противника вела непрерывный огонь, и каждую минуту могла начаться атака неприятеля, отбить которую мы вряд ли смогли бы — настолько неплотными являлись занятые нами позиции. Кроме того, по-прежнему не хватало продовольствия, а обещанного зимнего обмундирования нам так и не дали.
Мой юный офицер для поручений пошел за рождественской елкой. Отсутствовал он довольно долго, а когда появился, то притащил с собой верхушку от десятиметровой ели. В доме нашлась и одна свечка. В совокупности они все же сотворили рождественское настроение. Тем временем бывалый кок родом из Гамбурга суетился на кухне. Из филейной части забитой коровы на говяжьем жиру ему удалось приготовить настоящее праздничное жаркое. К нашему удивлению, он поставил на стол еще и бутылку вина, которую ему, как выяснилось, подарил энгельсдорфский пастор. В общем, получился настоящий праздничный стол, и на какое-то мгновение мы даже забыли о том, что шла война. Однако очень скоро грохот от разрывов снарядов и треск от врезавшихся в оконную защиту и стены дома осколков вернули нас к суровой действительности.
В первый праздничный день я навестил Фелькерзама на его командном пункте, который он расположил, как обычно, очень близко от первых линий наших траншей. Крестьянская изба, служившая ему пристанищем, находилась всего в каких-то трехстах метрах от переднего края, и по дороге нам не раз приходилось бросаться на землю. Разрывы снарядов всевозможных калибров неизменно сопровождали наш путь.
На рассвете вернулась высланная Фелькерзамом разведгруппа, которая неожиданно наткнулась на четырех разведчиков противника и внезапным броском взяла их в плен. У американцев была с собой переносная радиостанция, которую мы тут же наладили и передали в руки говорившему по-английски нашему солдату. В течение нескольких часов он вел с ничего не подозревавшими американцами переговоры, и только тогда, когда с той стороны стали настоятельно требовать возвращения разведчиков, мы дали рацию в руки настоящему сержанту, который попрощался со своими земляками со словами: «Сейчас я поеду в Германию».
В качестве рождественского сюрприза Фелькерзам прислал кофе и великолепный торт. Лишившийся всех своих танков бесстрашный командир танковой роты оказался отменным кондитером.
28 декабря 1944 года нас сменила пехотная дивизия, которая наконец-то прикрыла практически оголенный фланг армии, а ожидаемую атаку, которой мы так опасались, противник так и не организовал — возможно, благодаря постоянным дерзким вылазкам нам все же удалось ввести его в заблуждение относительно нашей численности. На отдых наша бригада временно расположилась возле города Шлирбах восточнее Сен-Вита. В скором времени ее должны были вообще снять с фронта.
В те дни из штаба армии поступил странный циркуляр, предписывавший нам провести расследование по поводу расстрела американских военнопленных и доложить о его результатах. Причиной этого странного приказа явилось пропагандистское сообщение радио Кале о расстреле 17 декабря 1944 года американских солдат на перекрестке дорог юго-восточнее Мальмеди.
150-я танковая бригада доложила, что допущена какая-то ошибка, и мы забыли об этом сообщении, поскольку методы военной пропаганды союзников были нам хорошо известны. По нашему мнению, подобный преднамеренный поступок военнослужащие германских сухопутных войск совершить просто не могли — немецкий офицер-фронтовик такого преступления никогда бы не допустил, а солдат не исполнил.
Глава 19
Окруженный Будапешт. — Снабжение через позиции противника. — Дерзкие операции. — Доклад у фюрера. — «Почетный лист». — И тем не менее добровольцы. — Потеря Фелькерзама. — Пропавшие без вести? — В тылу Восточного фронта
Все это время связь с Фриденталем не прерывалась. Наиболее важные вопросы мне передавали по телетайпу или по радио, а я, в свою очередь, по тем же каналам сообщал свое решение. Карл Радл, который вынужден был остаться в качестве моего заместителя в Берлине, полностью избавил меня от груза многочисленных мелочей, возникавших на родине в любой служебной инстанции. И я знал, что на него можно полностью во всем положиться.
С командирами малых боевых частей военно-морских сил еще несколько месяцев назад мы договорились, что всеми морскими специальными операциями будет руководить адмирал Хейе, а акциями, осуществляемыми во внутренних районах, то есть на реках и озерах, — командиры истребительных частей СС.
Еще осенью 1944 года мои истребительные части пополнились новой частью, получившей наименование истребительный отряд «Дунай», где были собраны опытные лодочники из бывшего ведомства абвера «Заграница». Этот новый истребительный отряд провел на Дунае спецоперацию под кодовым названием «Форель». Его люди при помощи буксируемых боевыми пловцами мин, а также «взрывных катеров» противодействовали судоходству по Дунаю даже тогда, когда река находилась уже под полным контролем русских. Если мне не изменяет память, то за те месяцы на дно было пущено множество кораблей, в первую очередь танкеров с горючим, общее водоизмещение которых составило свыше тридцати тысяч тонн.
В начале декабря, незадолго до моего отбытия на Западный фронт, из Верховного командования вермахта пришел запрос относительно того, можно ли с помощью истребительных частей СС организовать снабжение по водному пути гарнизона города Будапешта, который уже несколько недель вел отчаянные бои в условиях полного окружения. По воздуху из-за слишком сильно сузившегося пространства котла такое было невозможно. Речь шла преимущественно о доставке окруженным продовольствия, медикаментов и боеприпасов.
Данная операция пришлась мне по душе еще и потому, что командиром 8-й кавалерийской дивизии СС, входившей в состав будапештского гарнизона, являлся мой старый друг и бывший начальник по Русской военной кампании Йохен Румор. Мое настроение передалось и солдатам истребительного отряда «Дунай», которые решили отважиться организовать снабжение при помощи самого современного и быстроходного дунайского грузового судна, хотя при этом им пришлось бы два раза пробиваться через линию фронта. Экипаж корабля из восьми человек состоял из опытных дунайских шкиперов, а также капитанов и горел желанием сыграть с русскими злую шутку на «своей реке».
Буквально в последнюю минуту нам стало известно еще об одной трудности, о которой мы раньше не знали, — главный фарватер Дуная выше Будапешта оказался заминированным. Таким образом, кораблю предстояло либо искать проходы в немецких минных заграждениях, либо попытаться найти путь через боковые рукава реки.
Груз весом пятьсот тонн мои люди заботливо скомпоновали и разместили в трюме, а для осуществления операции была выбрана новогодняя ночь. Между тем фронт откатился уже до города Коморн[271], возле которого линию фронта предстояло пересечь в первый раз. Следует отметить, что этот дерзкий замысел удался и смельчаки смогли преодолеть там линию фронта, о чем было доложено короткой радиограммой в истребительную часть «Юго-Восток», в которую входил отряд «Дунай». Однако еще через два дня от них поступила новая радиограмма: «В семнадцати километрах от Будапешта наскочили на песчаную мель. Пытаемся доставить груз с помощью баркаса…»
Одному члену экипажа на маленькой шлюпке на самом деле удалось просочиться через линию фронта, проникнуть в осажденный город, раздобыть в нем моторную лодку большего размера и вернуться назад. Несколько ночей подряд эта лодка доставляла по частям столь важный груз окруженным, а затем мы получили последнюю радиограмму: «Вынуждены покинуть корабль, попытаемся пробиться к своим в город».
Примерно через неделю командир истребительной части «Юго-Восток» выслал разведгруппу в составе десяти человек с задачей выяснить дальнейшую судьбу корабля и наших боевых товарищей. Корабль они нашли именно в обозначенном в радиограмме месте — по непонятным причинам русские его не захватили. Как оказалось, оставшееся продовольствие было роздано жителям близлежащих сел, а экипаж покинул судно в организованном порядке.
Однако никто из команды корабля из осажденного Будапешта не вышел, и об истинных событиях тех дней мы так и не узнали. Восемь солдат погибли, спеша на помощь своим боевым товарищам. После неудачной попытки деблокировать окруженный Будапешт с юга осажденные попытались отчаянным рывком выйти из котла, во время которого мой друг генерал-майор Румор был ранен и, чтобы не попасть в плен, застрелился. Из десяти тысяч окруженных немецких солдат до германских передовых линий добралось всего сто семьдесят вконец изможденных человек.
Тогда же 31 декабря 1944 года меня вызвали на доклад в главную ставку фюрера, находившуюся уже на западе возле города Цигенхайн. Она представляла собой небольшой барачный лагерь, располагавшийся в лесу на склоне горы. К моему удивлению, настроение находившихся там офицеров было не таким уж и плохим, как можно было ожидать после последнего неудачного наступления.
Еще до обеда меня провели к Адольфу Гитлеру в небольшую комнату для совещаний. Увидев мою перевязанную голову, он немедленно поинтересовался степенью тяжести моего ранения и отправил меня к своему врачу доктору Штумпфеггеру[272]. Фюрер пожелал немедленно услышать заключение специалиста по моему ранению. Когда врач снял повязку и увидел сильно загноившуюся рану, а также воспалившийся глаз, то начал ужасно ругаться и заявил, что мне необходимо немедленно отправляться в лазарет, чтобы предотвратить заражение крови и возможную потерю глаза.
Мне удалось убедить доктора в том, что мой организм обладает большим запасом прочности, и тогда он решил опробовать на мне поистине варварский метод лечения. Несколько часов я лежал на операционном столе, где мою рану просвечивали каким-то сильным красным светом и делали многочисленные инъекции, призванные остановить процесс образования гноя. Столь радикальное лечение приятным назвать было нельзя, но оно в дальнейшем помогло и спасло мой глаз. Однако тогда на прощание этот врач мне честно заявил:
— Сейчас я не могу сказать, помогли ли инъекции. Следующие два месяца окажутся решающими. Вам следует обращать внимание на малейшее ухудшение зрения вашим правым глазом. Если такое начнет происходить, то это будет означать, что задет зрительный нерв, и тогда ваш правый глаз уже не спасти.
Слава богу, что в последовавшее за этим время мне было не до мыслей о хорошо проведенном лечении.
После обеда меня вновь вызвали к фюреру на доклад. К сожалению, мне нечем было особо порадовать его — задание то мы не выполнили. Об успехах же, вызванных распускавшимися нами слухами, тогда я тоже не мог сообщить ничего конкретного. Тем не менее мне показалось, что Адольф Гитлер остался доволен тем, как мы обеспечивали фланги. Свидетельством тому явились выданные им мне и моим трем командирам боевых групп «Почетные листы».
— Мы готовим большое наступление в юго-восточном направлении, — сказал фюрер на прощание, и мне стало ясно, что его мысли опять вернулись к Восточному фронту.
Я так и не понял, обманывал ли Адольф Гитлер сам себя специально, или на него воздействовали инъекции профессора Морелля?[273] Доктор Морелль, как никто другой, умел влиять на фюрера, и поэтому многие другие личные врачи Гитлера, среди них Карл Брандт и доктор Хассельбах, уже давно были озабочены состоянием здоровья вождя.
Как рассказал мне доктор Брандт, Морелль постоянно делал Адольфу Гитлеру стимулирующие инъекции, которые при длительном применении оказывали губительное воздействие на организм фюрера. Кроме того, доктор Брандт случайно узнал, что Адольф Гитлер уже долгое время ежедневно принимал несколько наименований желудочных препаратов, которые были безвредны только по отдельности. Когда же доктор Брандт отдал эти, безобидные на первый взгляд, таблетки на обследование, то обнаружилось, что они содержали следы мышьяка. Подобное же многолетнее употребление в очень малых дозах мышьяка неизбежно должно было вызвать у Гитлера необратимую болезнь. Брандт предупредил фюрера об этом, но Морелль вышел в данном споре победителем.
Это была последняя моя длительная беседа с фюрером. Он, так же как и круг его приближенных, должен был тогда понимать, что последнее слово в военном отношении осталось за Западом. Так и осталось невыясненным, что именно двигало союзниками, когда они резко обрывали любую возможность политического сближения с Германией. Причиной тому мог являться так называемый план Моргентау[274] или их стремление к немецкой «безоговорочной капитуляции». А может быть, это было следствием ожидания появления нового, решающего оружия?
Интересно бы знать, имелись ли в главной ставке фюрера соответствующие донесения? Ответить на подобные вопросы мог только сам Адольф Гитлер, но задать их ему мне было не с руки. Тем не менее, несмотря на всю свою озабоченность положением дел, от фюрера я вышел преисполненный оптимизмом.
Встретившийся мне в офицерской столовой фельдмаршал Кейтель выглядел удрученным, хотя и предложил на правах «хозяина дома» встретить Новый год в главной ставке фюрера. Однако я вежливо отказался от приглашения и еще вечером уехал. Полуночный звон колоколов застал меня уже в Кельне, а рано утром мне удалось оказаться снова в своей бригаде.
В начале января 150-я танковая бригада была расформирована, но большинство служивших в ней добровольцев предпочло остаться в моих истребительных частях СС. В этой связи нельзя не отметить то состояние духа, которое в те месяцы царило в германских вооруженных силах, — желание принять участие в специальных операциях изъявляло гораздо больше добровольцев, чем могли вместить в себя истребительные части.
Ранее, еще в ноябре 1944 года, я получил от Гиммлера разрешение вербовать в них добровольцев из всех воинских формирований и дислоцировавшихся на родине штабов войск СС. Он отправил всего лишь простой циркуляр, но результат от этого превзошел все ожидания — добровольно перейти в мою часть особого назначения изъявило желание от семидесяти до восьмидесяти процентов всего личного состава войск СС. Когда же в истребительные части решило перейти девяносто пять процентов сотрудников Главного оперативного управления СС, вербовка добровольцев приказом Гиммлера была вновь прекращена. Мне стало известно высказывание начальника Главного оперативного управления СС, который заявил: «Если так пойдет и дальше, то мне придется расформировать все войска СС».
Мы получили одобрение на перевод к нам такого большого числа добровольцев, что смогли полностью укомплектовать истребительную часть «Центр» и вновь пополнить личным составом 600-й парашютно-десантный батальон СС. А большего нам было и не нужно.
Тогда, в начале 1945 года, мне и всем офицерам моего штаба стало абсолютно ясно, что мы вступили в заключительную фазу войны. И когда в начале января русские предприняли большое наступление и добились в нем успеха, то это понимание переросло в уверенность, как и то, что развязка близится скорее с Востока, чем с Запада. Данная уверенность подкреплялась и решениями германского руководства, которые свидетельствовали о том, что оставшиеся в Германии оборонительные силы оно намеревалось использовать главным образом на Восточном фронте.
Уже несколько месяцев Фелькерзам донимал меня просьбами передать ему под командование истребительную часть «Восток». Я тоже считал, что лучшего командира для нее не найти, но до поры до времени отклонял их, так как не желал лишиться такого отличного работника в своем штабе. Когда же ко мне перевели командира полка дивизии «Бранденбург», то в его лице я нашел Фелькерзаму замену и дал согласие. Однако расставание с Фриденталем и всеми нами далось ему, как, впрочем, и всем моим штабным офицерам, нелегко.
Когда фон Фелькерзам 18 января 1945 года принял командование истребительной частью «Восток», дислоцировавшейся в районе населенного пункта Хоэнзальца[275], русские дивизии были уже совсем близко, и командир корпуса приказал ему оборонять его батальоном город до последнего. Вскоре Хоэнзальца оказался в окружении.
На основании поступавших радиосообщений я мог внимательно следить за ходом боя горстки солдат с намного превосходящими силами противника. Мне было понятно, что положение являлось безвыходным. Понимал это и всегда трезвомыслящий Фелькерзам. К сожалению, у меня не было возможности послать ему подразделения на помощь, и я смог выполнить только одну его просьбу — выслать несколько грузовиков с боеприпасами, которым с трудом удалось проехать в город.
Фелькерзам поддерживал связь только со мной и не имел возможности связываться с другими командными пунктами. В воскресенье 21 января я получил от него следующую радиограмму: «Город удержать невозможно. Следует ли мне подготовиться к прорыву из окружения?»
Я, естественно, взял на себя ответственность за изменение предыдущего приказа и дал свое согласие. Одновременно мною было дано указание попытаться осуществить прорыв той же ночью.
Никогда прежде меня так сильно не расстраивали сообщения, как та радиограмма, которую я получил в послеобеденные часы того же самого дня. Она была подписана майором Хайнцем, а ее текст гласил: «Фон Фелькерзам во время проводимой разведки, которой лично руководил, получил тяжелое ранение в голову. Принял командование батальоном на себя и буду прорываться из окружения этой же ночью».
Мои штабные офицеры чувствовали то же, что и я. Мысль о том, что случилось, не укладывалась у нас в голове — имя фон Фелькерзама было на слуху во всех истребительных частях СС. Из всего батальона во Фриденталь вернулись только два офицера и трое рядовых, которые вследствие перенесенных ими невзгод во время долгих скитаний по занятой противником территории походили на настоящие скелеты. Им пришлось переплывать через реки с ледяной водой и испытывать муки голода из-за отсутствия продовольствия. Однако стараниями нашего доктора они вскоре поправились.
От них мы и узнали о последних событиях в Хоэнзальце. Ночной прорыв, осуществлявшийся двумя клиньями, удался. Безнадежно раненного и находившегося без сознания Фелькерзама они разместили на тягаче, который во время боя потерялся и куда-то пропал. Больше его никто не видел. На следующую ночь русские атаковали основные силы батальона, и об их судьбе нам так и не удалось ничего узнать. В результате фамилии всех солдат батальона были занесены в длинный список с пометкой «Пропал без вести». Имя же Адриана фон Фелькерзама все чаще стало всплывать в наших разговорах. И каждый раз мы задавались одним и тем же вопросом — может быть, ему удалось выжить и он находится в русском плену?
Стремительно ухудшавшееся положение на Восточном фронте привело к тому, что проведение специальных операций в тылу противника утратило свою актуальность, хотя, возможно, они и имели большие шансы на успех. Ведь русские не могли в течение немногих недель основательно прочесать и очистить столь громадные захваченные территории.
Поступало немало сообщений, подтверждавших это. Русские стремились в первую очередь к продвижению вперед и овладению территорией, не заботясь об оставшихся у них в тылу районах. Немецкие телефонные линии продолжали работать на протяжении целых недель, и с нашей стороны можно было связаться с абонентами в тылу у противника. Как-то раз мне рассказали, что одна немецкая фирма в Литц-маннштадте, старинном польском городе Лодзь, позвонила даже в Берлин с просьбой уточнить, надо ли ей продолжать свою работу. Похоже, русские просто проследовали город и не оставили в нем никаких органов гражданского управления.
Мы понимали, что в первую очередь требовалось вывести из строя русские пути снабжения войск, то есть железнодорожные линии, вокзалы и дороги. При этом можно было добыть ценные сведения о передвижениях противника и о положении дел в его тылу. Поскольку подобные операции находились также в ведении Отдела иностранных армий Востока Генерального штаба сухопутных войск, то было проведено несколько совместных совещаний. Тогда я вновь встретился с генералом Кребсом, который был уже начальником штаба у генерал-полковника Гудериана. Он и познакомил меня с генералом Геленом[276].
Обер-лейтенанту Г., осуществившему специальную операцию в Румынии, теперь предстояло пробиться силами танкового взвода из Восточной Пруссии на территорию бывшего генерал-губернаторства[277]. Его группа должна была включать в себя примерно двадцать пять немецких и пятнадцать русских солдат. Однако события развивались столь стремительно, что мы так и не успели претворить в жизнь свой план — Восточная Пруссия была потеряна. Тогда Г. южнее Данцига усилил оснащение своей группы и при помощи штаба корпуса немецких войск, действовавших в том районе, перешел линию фронта. Несколько дней с ним поддерживалась связь по радио, но она внезапно оборвалась. В течение недель мы тщетно ожидали от нее сообщений и уже решили, что она безвозвратно пропала. Внезапно в середине февраля 1945 года я получил от нее радиограмму. Группа находилась в окруженном городе-крепости Кольберг в Померании, куда Г. возвратился, потеряв всего трех человек. Комендант крепости принял сначала его за русского шпиона и держал под арестом до тех пор, пока не удостоверился у меня относительно его личности и выполнявшегося им задания. В те дни на том участке фронта обнаружился весьма символический факт — несколько дней в крепость можно было попасть по узкому коридору, а обороняла его французская дивизия СС «Шар-лемань»[278]. Получалось, что французы держали этот коридор специально для немецких беженцев, в то время как немецкие солдаты Зейдлица[279] совместно с русскими пытались в ходе жестоких боев данный коридор закрыть.
То, что пережила группа Г. во время своего семисоткилометрового марша по русским тылам, заслуживает того, чтобы об этом было сказано несколько слов. Иногда им удавалась маскировка под румынскую особую часть. Их радист утонул, провалившись под лед вместе со своим грузовиком на Висле, и был похоронен с воинскими почестями на близлежащем кладбище под видом румынского лейтенанта. Затем группу разоблачили, и ей пришлось с боями уходить от преследования. Участвовавшие в нашей операции русские показали себя с наилучшей стороны — в самых опасных ситуациях они оставались Г. верны, а присущие им хитрость и находчивость не раз помогали выкрутиться из самых опасных положений. Трудно передать те радостные чувства, которые я позже испытал, вручая двоим из этих русских наручные часы в качестве ценного подарка.
По доходившим до нас сведениям, условия, в которых жили немцы на оккупированных русскими территориях, являлись настолько ужасными, что большую часть этих стариков, женщин и детей приходилось считать военными потерями. Тем удивительнее было слушать доклады Г. о том, какую большую помощь они получали от этих людей, которые сами испытывали нужду в самом необходимом. Особенно отличались женщины, порой рискуя даже жизнью.
Стоит также сказать и о той юношеской бесшабашности, с которой обер-лейтенант Г. осуществил данную весьма опасную операцию — все это время он не расставался со своим Рыцарским крестом и постоянно носил его, спрятав под кашне.
Глава 20
30 января 1945 года. — Приказ группы армий «Висла»[280]. — Немедленно на фронт. — На мосту через Одер. — Перехватывающие позиции. — Работы по укреплению плацдарма. — Эвакуация гражданских лиц. — Дивизия «Шведт». — Трудности в снабжении. — Вместе с русскими в городе Бад-Шенфлис[281]. — Ночные бои. — Дезертирство крайслейтера[282]. — Атаки и контратаки. — С докладом у Гиммлера. — Гиммлер остался оптимистом. — Вторжение русских на плацдарм. — Отчаянная оборона. — Тяжелое испытание на плацдарме. — На линии огня вместе с Герингом. — Английское радиовещание. — Отозван назад в Берлин
После обеда 30 января мне вновь пришлось засесть за свой письменный стол во Фридентале — требовалось просмотреть целую кучу документов. Моя секретарша, которой мне сегодня при написании этой книги так не хватает, едва успевала переписывать на чистовик тексты стенограмм. Причем смысл в этой нудной работе я до конца не понимал. Особенно меня раздражала необходимость еще раз переработать свое донесение Гиммлеру, которое, по мнению Шелленберга, было составлено слишком прямолинейно. Я и сегодня считаю, что всегда следует докладывать чистую правду даже в том случае, если она вышестоящим инстанциям не нравится.
Затем я пригласил к себе начальников оперативного отдела и тыла моего штаба, чтобы по возможности справедливо распределить между нашими истребительными частями выделенные на следующий месяц технику, снаряжение, вооружение, боеприпасы и горючее. К сожалению, мы не всегда могли удовлетворить справедливые запросы командиров частей — одеяло, образно выражаясь, которым нам приходилось укрываться, становилось все короче и короче.
В этот момент в приемной раздался телефонный звонок и меня соединили с главной ставкой Гиммлера, который тогда командовал группой армий «Висла». Из ставки мне передали срочный приказ следующего содержания: «Еще сегодня всем истребительным частям в полном составе выдвинуться в район города Шведт на Одере и создать на восточном берегу Одера плацдарм. Плацдарм должен быть такой величины, чтобы в дальнейшем с него можно было осуществить наступление. В ходе выдвижения следует освободить занятый русскими населенный пункт Бад-Фрайенвальде».
Этот приказ по странному стечению обстоятельств я запомнил почти дословно и последнее предложение в нем передал в точности. Для меня и сегодня остается загадкой, как себе представляли в штабе группы армий «Висла» освобождение города мимоходом, так сказать по пути? Мы с моими офицерами только молча переглянулись, ведь к срочным операциям нам было не привыкать!
В спешном порядке были подготовлены приказы подъема по тревоге истребительной части «Центр», дислоцировавшейся в городе Нойштрелитц, парашютно-десантного батальона и истребительной части «Северо-Запад», насчитывавшей всего одну роту. Было уже семнадцать часов, и я вызвал к себе всех командиров на двадцать один ноль-ноль. Но как выполнить приказ о выдвижении «еще сегодня», мы тогда не понимали.
Я пригласил к себе старшего офицера службы разведки, и на основе карты обстановки, которую он вел, мы попытались воссоздать картину, сложившуюся на Восточном фронте. Но это не получалось — взаимосвязанные донесения имелись только по отдельным немногочисленным точкам, и составить по ним полное представление было невозможно. Тогда мы решили связаться с главной ставкой фюрера, располагавшейся уже в Берлине на улице Вильгельмштрассе, и прояснить там ситуацию на Одере. Однако точно выяснить, был ли действительно занят противником город, указанный в приказе Гиммлера, нам так и не удалось. Тогда мы решили сосредоточиться на выполнении главной задачи и создать плацдарм, если, конечно, это было еще возможно. Ведь о положении наших войск в районе Шведта никаких сведений предоставлено тоже не было. Отсюда следовал вывод, что во время выдвижения полагаться следовало только на свою разведку.
Тяжелым бременем на наши плечи ложилась серьезная проблема — на чем вообще осуществлять выдвижение? Ведь после последней операции удалось отремонтировать далеко не все автомобили, и многие из них эксплуатировать было нельзя. В первую очередь следовало привести в порядок офицерские машины. Руководство располагавшейся поблизости авторемонтной базы пообещало организовать для нас ночную смену. Поскольку и я кое-что по своему прежнему опыту смыслил в этом вопросе, то вскоре большую их часть поставили на ход. К тому же авторемонтная база выделила нам несколько грузовиков.
В штабе царило лихорадочное оживление, и каждый без лишних напоминаний знал, что ему делать. С моим новым офицером оперативного управления гауптманом Хунке мы подготовили приказы на марш и проведение разведки. По нашим оценкам, если ничего не случится, выдвижение можно было начать только в пять часов утра следующего дня, ведь мы не являлись волшебниками.
Следовало также обсудить насущные вопросы по дальнейшей работе отдела «D» военного ведомства — на фронте могло стать так жарко, что времени на другие дела могло и не остаться. Поэтому я связался с майором Л., замещавшим меня в этом отделе, которому явно не понравилось, что его начальник вновь должен был уехать. Ведь он привык согласовывать со мной все важные вопросы, а поскольку мы отлично понимали друг друга, то дела спорились быстро. По возможности планы были составлены на перспективу, что оказалось не так уж и сложно — протяженность линии фронта теперь являлась не такой большой, как прежде. Кроме того, в случае необходимости он всегда мог приехать ко мне — на машине для этого потребовалось бы каких-нибудь пара часов. У нас в голове никак не укладывалось, что линия фронта проходила уже всего в шестидесяти километрах от столицы рейха. Однако с этим приходилось мириться.
После завершения всех неотложных дел мне захотелось выйти на воздух, который хорошо освежал голову, а ее надлежало иметь ясной. Я свистнул своему волкодаву по кличке Люкс, все это время лежавшему возле моих ног и наблюдавшему за царившей в моем кабинете кутерьмой, так как мне захотелось взять его с собой. Мы вместе покинули привычную ему казарменную территорию.
Истребительная часть «Центр» готовилась к убытию. Одна из рот грузила боеприпасы — на первое время было решено взять с собой три боекомплекта. Другая рота получала продовольствие из расчета шести парашютных норм на одного человека, и солдат такое явно радовало. Третья рота проверяла состояние тяжелого оружия. И хотя офицер артиллерийско-технической службы был уверен в том, что оружие сверкало чистотой и находилось в полном порядке, лишний раз убедиться в этом перед выступлением не мешало. Выделенный для проведения разведки взвод тем временем уже рассаживался по машинам, и я порадовался тому, что с Западного фронта нам удалось прихватить с собой несколько бронированных разведывательно-дозорных машин. Теперь они могли нам весьма пригодиться. Надо было видеть, с какой гордостью Люкс вышагивал рядом со мной, делая вид, что все понимает.
У всех наблюдалось приподнятое настроение — солдаты шутили, и это было добрым знаком. Проходя по жилым помещениям казарм, я радовался вместе с моими людьми, мысленно одобряя последнее наше новшество. Дело заключалось в том, что незадолго до описываемых событий мы организовали соревнование на лучшую жилую комнату, и мебель в каждой из них была подобрана согласно вкусу ее обитателей. Солдаты могли украшать свои спальные помещения, в том числе и цветами, на свой вкус. Поневоле на ум приходили мысли о том, что некоторым из солдат свои жилые помещения увидеть вновь не суждено. Но я старался не показывать виду, о чем думаю.
Особую радость доставляла мне встреча с моими проверенными соратниками по операции на Гран-Сассо. Все они стали унтер-офицерами или фельдфебелями и приветствовали меня особым образом, подчеркивая наше давнее единство. Весть о том, что мы отправляемся на Восточный фронт, мгновенно разнеслась по казармам, и все солдаты как один подхватили наш старый боевой клич: «Сделаем легко!» Мне предстояло повести их в смертельный бой, но я знал, что могу на них положиться.
Не успел я вернуться с обхода, как меня позвали к телефону. Разговор состоялся в канцелярии одной из рот. На проводе опять был штаб группы армий «Висла», в котором весьма удивились, что мы еще не выступили.
— Мы только что доложили в главную ставку фюрера о том, что вы уже следуете к Шведту, — послышалось из трубки.
На это я дал не очень уважительный, но единственно верный ответ:
— В таком случае вы дезинформировали фюрера. Я о выдвижении еще не докладывал.
В трубке вновь раздался повелительный голос:
— Повторяю приказ группы армий — вам надлежит выдвигаться немедленно!
После этого на другом конце трубку со злостью бросили. Сразу хочу сказать, что подобное в оставшуюся ночь происходило еще не один раз. Причем мои доводы о том, что для совершения марша у нас нет в наличии требуемого числа машин, никто не слушал. Когда я убедился в том, что все идет по плану, то сам позвонил в штаб группы и доложил о том, что начну выдвижение в пять часов утра, благоразумно умолчав о своем намерении не обращать внимания на то, что находится в стороне от нашего маршрута.
В назначенное время ровно в двадцать один ноль-ноль командиры прибыли во Фриденталь для получения приказов. Насколько мы могли судить, к определенному нами сроку все части должны были быть готовыми к выдвижению — личному составу, конечно, придется в кузовах потесниться, ну а машины тылового обеспечения могли последовать за нами и немного позже. О ходе подготовки к маршу мне докладывали каждый час — о сне в ту ночь никто не думал, а наша кухня, несмотря на погрузку своих принадлежностей, удивила всех, приготовив полночный ужин. Поскольку секретарши тоже были на службе, мы пригласили их отужинать вместе с нами, и они сильно украсили наше сугубо солдатское общество.
В три часа утра оба разведывательных взвода, один из Нойштрелитца, а другой из Фриденталя, отправились в путь. Поскольку скорость их передвижения была достаточно высокой, то в Шведте они могли оказаться уже в шесть часов, если, конечно, по пути ничего не произойдет. Мы рассчитывали, что получим доклад о сложившейся там обстановке самое позднее тогда, когда колонна главных сил будет на полпути к цели марша. Согласно отданному приказу на мотоцикле из Эберсвальде прибыл связной и доложил, что до этого города дорога свободна.
В четыре тридцать утра истребительная часть «Центр» построилась в маршевую колонну. Тогда же поступил доклад о готовности к маршу и из Нойштрелитца. На этот раз мы забирали с собой всех, кто мог носить оружие, оставив в местах постоянной дислокации только минимально необходимый штабной персонал и пару охранников — пожилых фолькс-дойче из Румынии. С нами хотели ехать даже секретарши и штабные работницы. Прозвучала короткая команда, и колонна тронулась.
Вскоре мне надоело плестись вместе с батальоном, и я рванул на привезенном с Западного фронта джипе вперед. Примерно через полчаса мне повстречался на мотоцикле связной из Шведта, который доложил, что путь свободен. Получалось, что все сообщения о форсировании русскими Одера на поверку оказались всего лишь слухами. Такое, к сожалению, зачастую происходит в критических ситуациях. Было только непонятно, почему у штаба группы армий «Висла» не имелось возможности перепроверить подобные донесения.
Уже около восьми часов утра я прибыл в Шведт, где возле моста через Одер меня ожидали разведывательные взводы. Мною им была поставлена задача перейти реку и провести разведку до города Кенигсберг в Ноймарке[283], чтобы узнать ситуацию в полосе обеспечения перед будущим плацдармом. После этого я встретился с комендантом Шведта. Им оказался полковник, мучившийся от последствий полученного ранения. Чтобы хоть как-то избавиться от боли в ампутированной ноге, как доверительно признался полковник, он был вынужден время от времени принимать морфий.
Мы вместе позвонили в штаб группы армий, чтобы прояснить порядок подчинения. Все разрешилось просто — полковник с его небольшим штабом получил другую задачу и должен был убыть со своими людьми уже 1 февраля. В мое же подчинение перешли три запасных батальона и один саперный батальон. Когда я распорядился доложить о состоянии их боеспособности, то выяснилось, что на эти батальоны рассчитывать было нельзя — в них остались исключительно больные или пожилые солдаты. Тех, кто был способен сражаться, уже давно передали во фронтовые части.
Я решил не дожидаться прибытия своих батальонов и быстро осмотреть территорию будущего плацдарма. Мост длиной в километр был переброшен через собственно Одер и канал. Между ними лежала пойма, по которой тянулась насыпная дорога. Река замерзла и покрылась толстым слоем льда, что при приближении русских сулило большие неприятности. Поэтому в качестве первостепенной задачи для саперного батальона я пометил себе подрыв этого ледяного настила. Батальоном командовал весьма шустрый призванный из резерва пожилой майор, который сразу же произвел на меня исключительно хорошее впечатление. Кроме того, следовало попытаться вызвать из Штеттина[284] ледоколы, чтобы они взломали лед на Одере. Также мне пришла в голову мысль о том, что при открытии шлюзов можно затопить пойму между рекой и каналом. Это в любом случае могло защитить от внезапного форсирования противником реки.
Затем я медленно поехал по дороге в сторону Кенигсберга, по которой двигался нескончаемый поток беженцев. Одни шли пешком, другие ехали на телегах, везя с собой все свое уцелевшее имущество. Это была картина такой беды, что у меня язык не повернулся спросить, откуда они следовали.
Однако среди беженцев были и солдаты, шедшие небольшими группами. Уставшие и порой даже без оружия, отбившись от своих частей, они являли собой остатки разбитой армии, которые теперь двигались в западном направлении.
В Кенигсберге наблюдалась та же картина. Улицы были забиты беженцами и отставшими от своих частей солдатами. Мои разведывательные взводы заняли наблюдательные позиции на улицах, идущих в восточном направлении, и я дал им указание отправлять всех беженцев по кратчайшей дороге через Одер в Шведт.
В небольшом населенном пункте Нидеркрениг на восточном берегу Одера я внимательно осмотрелся, поскольку в нем предполагалось расположить наш командный пункт, а затем направился обратно в Шведт. Еще на мосту мне бросилась в глаза группа из двадцати пяти кавалеристов на относительно хорошо ухоженных лошадях под командованием какого-то офицера. Увидев меня, он прискакал к моей машине и отрапортовал:
— Осмелюсь доложить. Лейтенант В. из 8-го кавалерийского полка с остатками своего взвода. Отбился от части.
Немного помедлив, лейтенант добавил уже не столь официально:
— Господин подполковник, не найдется ли у вас для нас задания?
Он еще спрашивал! У меня каждый человек был на счету!
— Отправляйтесь со своими людьми в казарму и хорошенько отоспитесь. Явитесь ко мне завтра утром!
Когда я вернулся в казарму, план дальнейших действий уже полностью созрел в моей голове — мне следовало немедленно организовать перехватывающие пункты, с тем чтобы они собирали всех отбившихся от своих частей солдат. Их надлежало распределить среди запасных батальонов и превратить эти подразделения в боеспособные части.
«Будем надеяться, что русские дивизии дадут нам время на это», — подумал я.
Располагавшимся в казарме ста восьмидесяти фенрихам выпускного курса я приказал нести патрульную службу и поставил перед ними две задачи. Во-первых, отправлять дальше в западном направлении беженцев из числа гражданского населения и оказывать им по возможности помощь, а во-вторых, собирать всех солдат и размещать их в казарме. Фенрихи немедленно приступили к исполнению приказа. В последовавшие дни и ночи они добросовестно выполняли порученное им дело, результаты которого превзошли все мои ожидания — пустовавшая до этого просторная казарма была забита до отказа, а все четыре батальона пополнены так, что превратились в настоящие боеспособные части.
Еще в тот же день после обеда мы с майором, командовавшим саперами, долго прикидывали наши дальнейшие шаги, нанеся на карту очертания будущего плацдарма применительно к местности. В результате у нас получился своеобразный полукруг радиусом шесть километров. Местность была холмистой и позволяла организовать прочную оборону. Однако требовалось срочно оборудовать позиции — сначала по внешнему периметру плацдарма, а потом для надежности и внутреннюю линию.
Для этого я затребовал полк «Трудовой повинности»[285], который прибыл уже на следующий день. Кроме того, для проведения фортификационных работ мы привлекли мужское население города и близлежащих окрестностей. Крестьянские телеги нам выделили в достаточном количестве, а саперный батальон обеспечил рабочих грамотными бригадирами. В общем, работа закипела.
600-й парашютно-десантный батальон СС я отправил в Кенигсберг с задачей занять позиции восточнее города и удерживать их во что бы то ни стало. В помощь ему был придан батальон фольксштурма[286] «Кенигсберг» под командованием крайслейтера НСДАП. Истребительной части «Центр» было приказано занять внутреннюю линию обороны, с тем чтобы в случае внезапного прорыва русских не допустить их дальнейшего продвижения внутрь плацдарма.
Все следующие дни мы лихорадочно трудились над созданием позиций, в чем нам старательно помогало местное население, понимавшее, что речь идет о защите его родной земли. Рытьем окопов занимался и стар и млад. Школьные учителя, врачи, госслужащие трудились рядом с сапожниками, торговцами и рабочими. Здесь на практике можно было видеть, что в идеале подразумевалось под понятием «народное единство».
Основную часть работ мы закончили в считаные дни. Укрытые пулеметные гнезда и блиндажи были возведены в точно указанных на местности точках, а после создания ходов сообщения рабочие приступили к сооружению второй линии обороны. Дальнейшее совершенствование оборонительных позиций взяли на себя уже сами солдаты. При этом командир саперного батальона показал себя поистине грамотным и неутомимым человеком, с которым мы часто вместе обходили готовящиеся позиции.
Бургомистру Кенигсберга я посоветовал эвакуировать гражданское население, поскольку внутри плацдарма жители всех населенных пунктов оказались бы под огнем. По моей просьбе бургомистр Шведта, еще совсем юный офицер запаса, занялся размещением беженцев. Я понимал, что сельскому населению будет тяжело сняться с насиженных мест, но другого было не дано — оставлять гражданских лиц в зоне будущих боевых действий являлось делом по меньшей мере безответственным.
Неожиданно в Кенигсберг прибыл батальон фольксштурма из Гамбурга, состоявший преимущественно из крепких портовых рабочих. Несмотря на то что их задействовали вдали от родного города, настроение у них было приподнятое. Во всяком случае, на первый взгляд. Тем не менее я понимал, что в боевом отношении многого от батальонов фольксштурма ожидать не приходилось. Однако для меня ценным являлся каждый человек, способный держать в руках винтовку и обращаться с панцерфаустом. Следует признать, что вооружение и оснащение гамбургского батальона стараниями комиссара обороны Гамбурга Кауфмана[287] являлось отличным, чего никак нельзя было сказать о кенигсбергском батальоне.
Чтобы знать точное местонахождение противника, выяснить его намерения и направления движения, мы с первого дня организовали активный разведывательный поиск, для чего оба батальона из состава истребительных частей СС выделили по небольшому отряду. Уже 1 февраля они доложили о первых боестолкновениях с противником южнее города Бад-Шенфлис[288]. Речь шла о небольших разведывательных группах неприятеля, которые были успешно атакованы нашими поисковыми отрядами. При этом обошлось без потерь — сказывалась отличная боевая выучка наших солдат.
3 февраля приведенные в состояние полной боевой готовности запасные батальоны расположились в отведенных им оборонительных позициях. Первый из них занял северный участок полосы обороны плацдарма с опорой на Одер, а второй — южный, также опираясь на реку, прикрывая таким образом наши фланги. В центре оборонительной полосы я расположил третий запасной батальон, а также два своих батальона, поскольку направление главного удара неприятеля, по моим расчетам, должно было исходить со стороны Кенигсберга.
К нам прибыл подполковник люфтваффе и доложил, что ему поставлена задача сформировать боевые подразделения из отбившихся солдат военно-воздушных сил. В течение недели он предоставил в мое распоряжение три роты, а также немало вооружения с авиационных баз.
Для установления прямой связи из главной ставки фюрера в Шведт прислали собственную группу связистов. По-видимому, этому участку фронта там придавалось особое значение.
«Что ж, теперь, по крайней мере, они получат достоверную информацию о передвижениях противника», — тогда подумалось мне.
Еще в одну из первых своих поездок в Кенигсберг я проехал мимо небольшого полевого аэродрома, где моим глазам предстала весьма нерадостная картина, свидетельствовавшая о беспорядочном бегстве его гарнизона, — некоторые слегка поврежденные взрывами самолеты стояли на краю летного поля, а вокруг ангаров валялось брошенное вооружение. Стоило ли после этого удивляться, что германская промышленность не успевала обеспечивать наши части новым оружием?
Самым непонятным было то, что все радиостанции оказались целыми, а рядом с ними лежали секретные радиоданные. Судя по всему, аэродром был покинут в спешке еще до 30 января. Если немецкое отступление проходило так везде, то удивляться тому, что русские продвигались вперед столь быстро, не приходилось.
Когда в тот же день вечером я вернулся в Шведт, то ко мне с докладом пожаловал некий подполковник люфтваффе, который ранее являлся комендантом кенигсбергского аэродрома. Видимо, его замучила совесть, и он не стал драпать на Запад. На мой вопрос о причинах столь панического бегства в условиях отсутствия какой-либо серьезной опасности подполковник заявил, что у него не было связи с вышестоящими инстанциями, а его генерал уехал еще несколько дней назад, не отдав никаких распоряжений.
У меня не было сомнений в том, что этого офицера за столь грубейший проступок, а может быть, даже за дезертирство следовало отдать под суд. Однако если военнослужащий люфтваффе предстал бы перед военно-полевым судом СС, то это легко могло привести к ненужным трениям между обеими составляющими вооруженных сил. Поэтому я немедленно позвонил командующему воздушным флотом генерал-полковнику фон Грайму и попросил его прислать ко мне офицера его штаба, чтобы тот сам дал ход этому делу.
Вопреки всем ожиданиям на следующий день генерал-полковник фон Грайм сам прилетел на своем «Физелер-Шторхе» и приземлился невдалеке от казарм. Выслушав мой подробный доклад о случившемся, он решил отдать подполковника под военно-полевой суд люфтваффе. В ходе же дальнейшего разбирательства выяснилось, что главная вина за случившееся лежала на начальнике подполковника — генерале. Его, так сказать, «преждевременный отъезд» предстал в весьма своеобразном свете, и дело генерала отдали на рассмотрение имперского военного трибунала. Подполковника же приговорили к тюремному заключению с одновременным отбытием наказания на фронте, и вскоре он прибыл в мою боевую группу «Шведт», где показал себя храбрым и дальновидным офицером. Стало окончательно понятно, что подполковник просто подпал под влияние своего начальника.
Вместо запрошенной артиллерии из группы армий «Висла» нам прислали три зенитных дивизиона люфтваффе. С их переподчинением под мое начало возникли большие бюрократические препоны. Дело заключалось в том, что эти три зенитных дивизиона прибыли из разных полков, а те, в свою очередь, входили в состав двух разных дивизий ПВО. С передачей приказов происходила настоящая чехарда, и вопросы, регулировавшие порядок подчинения, были разрешены только после моего звонка соответствующему командующему корпусом. Три подвижные зенитные батареи я распределил между своими боевыми группами и определил им позиции на плацдарме, а остальные зенитные батареи расположил на западном берегу Одера так, чтобы их можно было использовать как обычную полевую артиллерию.
Однако личный состав этих батарей требовалось срочно подучить. Хорошо еще, что из офицерского резерва группы армий мне прислали артиллерийского офицера. Этот гауптман родом из Мюнхена в прошлом был писателем, однако свое дело знал хорошо. За несколько дней в результате его упорных занятий с передовыми наблюдателями, солдатами орудийных расчетов и офицерами батарей ему удалось добиться многого и научить их тонкостям ведения огня по наземным целям. Были подготовлены исходные данные для стрельбы, и, когда русские через восемь дней замкнули свои железные клещи вокруг плацдарма, зенитчики оказали нам существенную помощь в тяжелых боях.
Вскоре назначили командира корпуса. Дело было в том, что южнее нас на западном берегу Одера заняла оборону дивизия из состава кригсмарине, а мою боевую группу переименовали в дивизию «Шведт». Эти две дивизии и объединили в корпус. Командовавший им генерал, чье имя я, к сожалению, уже не помню, оказался порядочным человеком и сразу мне очень понравился. Приехав ко мне для ознакомления с положением дел, он прямо сказал, что штаб корпуса по большей части являлся фикцией, поскольку в нем насчитывалось всего несколько офицеров. Этот «орган управления» не был даже способен наладить обмен информацией, а об организации снабжения и говорить не приходилось. Таким образом, нам следовало рассчитывать только на свои собственные силы.
Генерал согласился со всеми моими предыдущими распоряжениями и сделанной мною расстановкой сил, подчеркнув, что нам следует действовать так и дальше. Ему же, по его словам, осталось только издать приказ о разграничении зон ответственности между двумя нашими дивизиями.
Особенно ему понравились подготовленные нами мероприятия по блокированию местности. Уже распрощавшись со мной, генерал вскоре вернулся, так как его не выпустили из города часовые. В лицо они его не знали и к тому же добросовестно исполняли полученные инструкции, в которых прямо говорилось, что каждый покидающий пределы Шведта, независимо от того, являлся ли он офицером или гражданским лицом, обязан был предъявить пропуск от городского коменданта.
Назначение меня командиром дивизии означало и повышение уровня моей ответственности. На мои плечи легли не только вопросы обеспечения обороны, но и забота о проживавшем в полосе действия моего соединения гражданском населении. В этом большую поддержку мне оказал бургомистр Шведта, который каждый вечер приходил с докладом о накопившихся делах. С его помощью все они, как мне казалось, были благополучно разрешены. Я предусмотрительно приказал эвакуировать из города в первую очередь женщин с маленькими детьми, поскольку он в скором времени мог стать зоной боевых действий.
Гораздо сложнее оказались вопросы по организации снабжения войск. Все обеспечение дивизии я возложил на службы, оставшиеся во Фридентале, откуда каждую ночь приходили колонны машин с оружием, боеприпасами, оснащением и продовольствием. Нам пришлось добывать в Берлине даже снаряды к зенитным орудиям, ведь обозы с боеприпасами из группы армий к нам не приходили.
Я тщетно просил прислать нам противотанковые пушки. Их в группе армий просто не было. Однако совершенно случайно моему интенданту удалось узнать, что примерно в пятидесяти километрах к югу от Шведта располагалось предприятие, выпускавшее эти самые орудия. На фирме нашему начальнику материально-технической части пожаловались, что управление вооружений сухопутных войск не забирало у них пушки на протяжении нескольких недель. Возможно, в данном ведомстве поспешили отнести это предприятие к потерям, посчитав, что оно находится в досягаемости русских орудий.
Как бы то ни было, на фирме только обрадовались, когда мы забрали у нее двенадцать 75-миллиметровых противотанковых пушек. Они нам здорово помогли.
Аналогично обстояло дело и с нашими запросами насчет обеспечения моих частей пулеметами MG 42. Группа армий их тоже не могла поставить, и тогда наш ловкий начальник материально-технической части обнаружил огромный склад с этим оружием возле города Франкфурт-на-Одере. По слухам, в нем хранилось более десяти тысяч этих превосходных пулеметов, а фронтовые части, так же как и мы, прознав случайно про данное хранилище, удовлетворяли в нем свои потребности в вооружении. Наша дивизия «Шведт», естественно, не составила исключения. Об обоих случаях я, как положено, доложил в штаб группы армий. Однако о дальнейшей судьбе остававшегося невостребованным оружия мне неизвестно. Может быть, оно было оприходовано, а может быть, через несколько недель попало в руки русским в качестве желанного военного трофея.
В те дни из штаба группы армий пришел весьма странный, чрезвычайно срочный и особо секретный приказ, в котором говорилось, что в лесу восточнее города Бад-Шенфлис находятся два грузовика с важными документами. Их оставили там по ошибке одного имперского чиновника, и они ни в коем случае не должны были попасть к русским. Высланные ранее самолеты с задачей уничтожить автомобили вместе с документацией из бортового оружия и путем сбрасывания бомб их не обнаружили. В связи с этим дивизии «Шведт» предписывалось немедленно, не останавливаясь ни перед чем, пробиться в данный лес и либо забрать документы, либо их уничтожить.
Для выполнения столь необычного задания мне потребовалось прояснить несколько вопросов, и я узнал, что речь шла не об обычных имперских документах, как сообщалось прежде, а о партийной документации канцелярии Бормана. Тогда я потребовал, чтобы в операции в обязательном порядке принял участие соответствующий чиновник, который смог бы точно указать местонахождение грузовиков. Кроме того, необходимо было провести разведку, для того чтобы понять, возможно ли вообще провести бросок до леса. Мне вовсе не хотелось подвергать своих людей большому риску из-за этих документов и ошибки какого-то партийного деятеля. Мои солдаты были нужны для настоящих боев.
Наши разведывательные дозоры в последние дни уже не могли совершать рейды на удаление в шестьдесят — семьдесят километров, как прежде. Мы явно ощущали, как противник медленно, но неуклонно приближался к нашему плацдарму, и, по нашим прикидкам, Бад-Шенфлис уже должен был находиться в руках у русских — небольшая разведывательная группа рано утром уже на окраине города попала под обстрел неприятеля и потеряла одного человека.
После обеда я решил лично принять участие в проведении разведки, посадив в свой бронетранспортер группу солдат, которые были со мной еще в Италии. Кроме этих четырех бойцов я взял с собой в БТР также офицера оперативного управления гауптмана Хунке, а сверх того с нами увязался и мой пес Люкс. Он вообще сопровождал меня в каждой поездке.
Никем не замеченные, мы добрались до места, где утром наши разведчики попали под обстрел и вынуждены были повернуть назад. Судя по всему, русские уже успели обыскать погибшего тогда солдата на предмет наличия у него документов.
Спешившись, мы осторожно стали приближаться к городу, приказав водителям догнать нас позже. Дома на окраине выглядели брошенными, а вокруг царила полная тишина. Вскоре показались старинные средневековые ворота, и дорога свернула вправо по направлению к вокзалу, на проезжей части лежали два застреленных местных жителя. Наконец нам удалось заметить какого-то мужчину, боязливо выглядывавшего из окна. Из своего дома он вышел после долгого колебания, все еще не веря, что видит перед собой немецких солдат.
Убедившись, что перед ним действительно немцы, мужчина торопливо сообщил, что русские заняли город еще два дня назад, расположившись на вокзале. Там же наблюдалось и скопление танков. Неприятель наладил работу железнодорожной станции, и теперь по железной дороге непрерывно шли эшелоны с живой силой и техникой.
Мы решили сами убедиться в достоверности этих сведений. Троим солдатам была поставлена задача незаметно приблизиться к вокзалу через дворы, а второй группе я приказал проделать то же самое, следуя по дороге от ворот. Остальная часть разведывательного отряда должна была прикрывать их с тыла, заняв позиции возле ворот, к которым уже подтянулись наши машины.
Время тянулось медленно, и я в ожидании возвращения обеих групп не находил себе места. При более детальном осмотре местности возле ворот в глаза бросилась ужасающая картина — прямо на дороге лежал почти раздетый изуродованный труп женщины.
Со временем местные жители немного осмелели и отважились к нам приблизиться. В основном это были женщины и дети, а также несколько стариков, которые просили забрать их с собой. Однако с нашими двумя машинами это полностью исключалось, и я посоветовал им преодолеть несколько километров, чтобы добраться до Кенигсберга, пообещав, что в течение получаса мы обеспечим им свободную дорогу. Однако жители были настолько сбиты с толку, что, по всей видимости, не поняли моего предложения. Мне они показались какими-то апатичными — судя по всему, им пришлось пережить нечто ужасное. Постояв немного, они понуро потянулись назад в свои дома.
Наконец вернулись обе разведгруппы и доложили, что возле вокзала действительно стояло около пятидесяти танков. По мнению разведчиков, русские войска располагались в южной и восточной частях города. Мои солдаты тоже заметили лежавших на тротуарах и возле входов в дома убитых местных жителей. Однако улицы оставались пустынными.
Теперь мы знали достаточно — пробиться через русские части к лесу, где в грузовиках находились документы «особой важности», не представлялось возможным. Кроме того, русские наверняка уже обнаружили эти машины.
Тем временем местные жители разбрелись по своим домам, но рядом с нами продолжали стоять две женщины с грудными младенцами на руках. Они молчали, но выражение их глаз было красноречивее всяких слов. В них читалась мольба взять их с собой. Нам ничего не оставалось, как разместить этих несчастных на полу бронетранспортеров, после чего разведотряд тронулся в обратный путь. У каждого из нас на душе было тяжело, но мы ничем не могли помочь людям в уже занятом противником городе. Тело нашего погибшего боевого товарища также было размещено в БТР — его следовало похоронить со всеми воинскими почестями.
Тем временем русские опомнились, и позади нас послышался лязг гусениц их танков. Однако было уже поздно — мы скрылись в лесу.
Я взял за правило каждый вечер проводить со всеми своими командирами совещание по обсуждению обстановки, считая, что таким образом офицеры лучше узнают друг друга и проникнутся доверием ко мне. Только так из разрозненных подразделений можно было создать настоящую боеспособную дивизию. Каждый день я бывал во всех частях, чтобы и личный состав узнал меня.
Теперь нам предстояло выиграть еще немного времени до того, как развернутся бои за сам плацдарм, — каждый день отсрочки мог стать для нас решающим. Для введения русских в заблуждение относительно наших сил и очертания переднего края я решил занять несколько населенных пунктов за пределами плацдарма. Размещенные в них подразделения должны были отойти на заранее подготовленные основные позиции только после сильного напора неприятеля. В Кенигсберг, то есть на направлении предполагаемого первого удара противника, для усиления двух батальонов фольксштурма была направлена рота 600-го парашютно-десантного батальона, а также недавно пополненный пехотный батальон. Его командира, майора пехоты, я назначил там командовать.
Не успели наши подразделения занять в Кенигсберге позиции, как в тот же вечер русские силами до сорока танков и нескольких батальонов пехоты попытались взять город штурмом. Первый удар парашютно-десантной роте, несмотря на большие потери, удалось отбить. Однако в полночь противнику, подошедшему с двух сторон — с севера и юга, — удалось прорваться в город, и в нем развернулись ожесточенные уличные бои. Нашим солдатам с помощью панцерфаустов удалось подбить более десяти танков, однако им пришлось медленно, хотя и организованно отступать. К утру они оторвались от русских и заняли позиции на плацдарме. Этот первый бой показал мне, что даже недавно вновь воссозданные части оказались достаточно сплоченными и с каждым новым днем боев они могли стать еще сильнее.
Когда ранним утром я вернулся из Кенигсберга на свой тыловой командный пункт в Шведте, к великому моему удивлению, меня там поджидал командир кенигсбергского батальона фольксштурма. Судя по значку, он был крайслейтером НСДАП. Завидев меня, этот партийный деятель взволнованно доложил:
— Кенигсберг пришлось оставить!
Как мне стало известно, он поджидал меня еще с вечера. Этот «руководитель» просто-напросто сбежал, бросив своих людей на произвол судьбы. На военном языке такое называлось трусостью перед врагом и дезертирством, и я приказал арестовать его и отдать под военно-полевой суд дивизии. Случай был настолько ясным, что в исходе дела сомневаться не приходилось — суд вынес ему заслуженный смертный приговор.
Во время обстоятельного разговора с военным судьей выяснилось, что в отношении представителей партийной государственной власти имелось специальное распоряжение, согласно которому они могли быть осуждены только партийным судом. Однако мы пришли к единодушному мнению, что в данном случае речь шла не о партийном функционере, а о командире батальона фольксштурма. Поэтому приговор был подтвержден и публично приведен в исполнение.
Из Берлина мне сообщили, что Борман был взбешен подобным вторжением в компетенцию партийных органов. Возможно, здесь определенную роль сыграло также известие об утраченных документах. Как бы то ни было, меня предупредили, чтобы я был осторожен и готов к неприятностям. И действительно, уже на следующий день у нас объявился гаулейтер Штюрц[289]. Он обрушился на меня с такими упреками из-за своего крайслейтера, что мне пришлось на правах хозяина положения поставить его на место. После моего простого вопроса, остается ли безнаказанным дезертирство у партийных функционеров, он сдался. Ему пришлось убедиться, что мной двигало лишь стремление соблюсти закон.
Тем временем из Фриденталя ко мне прислали очень ценное пополнение. Из солдат, вернувшихся после учебы или отпуска, была сформирована штурмовая рота на бронетранспортерах под командованием обер-лейтенанта Швердта, которая оказалась весьма кстати. В последовавшие недели она являлась моим ударным резервом. Взвод снайперов, вернувшихся после прохождения специальной стрелковой подготовки, тоже являлся хорошим усилением.
К моему сожалению, вскоре генерала, командовавшего корпусом, сменил мой давний знакомый по операции в Будапеште обергруппенфюрер СС Бах-Зелевский. Он прибыл с работоспособным штабом, который немедленно завалил обе подчиненные ему дивизии нескончаемым потоком приказов. Вот только наладить полноценное снабжение дивизий этому штабу так и не удалось. Поскольку по многим вопросам у меня часто возникало другое мнение, то вскоре я оказался с вышестоящим штабом корпуса буквально на ножах. Меня разозлило прежде всего то, что ни один из штабных офицеров корпуса даже не потрудился изучить обстановку на месте и ни разу не побывал на плацдарме. В результате приказы отдавались, как говорится, вслепую. А вот с самим Бах-Зелевским мне удалось наладить относительно сносные отношения.
Он сам время от времени приезжал ко мне на тыловой командный пункт, располагавшийся в замке города Шведт. Поскольку меня часто не бывало на месте, то обергруппенфюрер выслушивал доклад одного из моих офицеров, выпивал бокал коньяка и уезжал. В результате вплоть до конца существования дивизии «Шведт» штаб корпуса меня ненужными визитами и бессмысленными приказами особо не беспокоил. Правда, и вопросами снабжения дивизии он тоже не занимался.
К 5 февраля нам пришлось оставить все передовые позиции. Исключение составила только деревня Ниппервизе. Теперь русские ежедневно атаковали плацдарм. С поразительным упорством они наступали в одних и тех же трех местах, пытаясь добиться прорыва нашей обороны. Каждый день нам приходилось отвечать контратакой, только вот русским танкам свои бронированные машины мы противопоставить не могли. Почти каждый раз они доходили до главной линии нашей обороны, где их останавливали панцерфаустники в ближнем бою. Из допросов пленных нам было известно, что против нас действовал русский гвардейский танковый корпус, на вооружении которого в равном соотношении состояли улучшенные Т-34 и американские танки, поставленные по ленд-лизу.
Так продолжалось каждый день — атака сменялась контратакой. Как-то раз двум русским танкам с севера удалось пробиться далеко вперед. От моста через Одер их отделяло всего несколько сотен метров, но тут их подбила наша зенитная батарея. Сопровождавшая же танки русская пехота под меткими выстрелами всего лишь взвода наших снайперов была вынуждена отступить.
В другой раз двум русским танкам удалось прорваться с юга, и они открыли огонь из своих пушек по замку Шведта. Их уничтожил из панцерфаустов новый командир батальона, лично бросившийся им наперерез. Подобные примеры творили среди личного состава подразделений настоящие чудеса. В общем, мои былые опасения рассеялись как дым — части дивизии сражались и держались очень стойко.
Однако роте люфтваффе под давлением превосходящих сил русских все же пришлось оставить деревню Ниппервизе — последний передовой пункт в системе нашей обороны. Об этом я, как и предписывалось, сообщил в своем вечернем докладе в штаб корпуса. Уже утром, когда поступил доклад о яростной атаке русских на город Грабов, из корпуса пришла радиограмма с запросом следующего содержания: «Отдан ли командир роты, командовавший в Ниппервизе, под суд, или его уже расстреляли?» Радиограмма оказалась за подписью Гиммлера.
Вне себя от ярости я срочно отправил ответ, гласящий, что командир роты не расстрелян и под суд отдан не будет, и уехал в Грабов на командный пункт парашютно-десантного батальона.
Там шли ожесточенные бои, в ходе которых главная линия обороны неоднократно переходила в руки неприятеля и отвоевывалась обратно в результате кровопролитных контратак. Мы несли большие потери, и мне дважды пришлось для восстановления положения задействовать свой резерв — штурмовую роту, нанося удар с фланга. И вновь русские шли в атаку, бросая в бой новые танки и свежие батальоны.
В таких условиях я совсем забыл об утренней радиограмме. Мы сидели в одной избе в подвале, стены которого под воздействием разрывов снаружи снарядов слегка вибрировали. Тут со мной связались с моего командного пункта и передали, что мне надлежит в шестнадцать часов прибыть с рапортом в штаб группы армий.
«Скорее всего, обозленный на меня штаб корпуса передал слово в слово мой не совсем вежливый ответ в группу армий», — сразу же догадался я, осознав, что вновь впал в немилость.
Однако в тот момент следовало думать о более важных вещах — на левом фланге со стороны дороги, прилегавшей к городу, русским вновь удалось вклиниться в нашу оборону и создать угрозу прорыва в сам Грабов. Они закрепились в зарослях кустарника и на садовых участках, немедленно отрыв свои одиночные окопы.
Вдоль дороги атаковали русские танки, и мы бросили в бой две вовремя подоспевшие противотанковые пушки, а также зенитные орудия для стрельбы прямой наводкой. Наши солдаты с панцерфаустами в руках, словно индейцы, прокрались в тыл наступавшим танкам, и возникавшие столбы черного дыма начали свидетельствовать о выводе их из строя.
Местность по левую сторону от дороги пришлось отвоевывать буквально шаг за шагом, ведя бой за каждый одиночный окоп. Просто удивительно, с каким упорством сражались здесь русские — лишь немногим из них удалось вернуться назад.
Когда мы отвоевали позиции своей главной линии обороны, стало смеркаться. Я бросил взгляд на часы и оторопел — было уже восемнадцать часов! Рейхсфюрер ожидал меня уже битых два часа!
Пришлось срочно уезжать, хотя по дороге к Грабову и самому городу противник вел ожесточенный артиллерийский огонь. Люкс показал себя как настоящий фронтовой пес — прокравшись вдоль забора, он на ходу запрыгнул в бронетранспортер. После этого машина, громко лязгая гусеницами, на полном ходу проследовала мост и устремилась к Шведту. Там я быстро скинул свою зимнюю маскировочную одежду, надел повседневную униформу, которую водитель прямо на мне почистил щеткой, и мы помчались в Пренцлау.
Я был там уже в двадцать часов тридцать минут и немедленно доложил о своем прибытии. Большинство офицеров отнеслось ко мне как к только что разжалованному преступнику. У адъютанта Гиммлера я выяснил, что требование явиться с докладом действительно было вызвано утренней радиограммой и что рейхсфюрер сильно разгневан моей непунктуальностью.
— Теперь вам следует какое-то время подождать, — сказал адъютант и отпустил меня.
После этого я отправился в офицерскую столовую, где, по крайней мере, ординарцы были со мной приветливы, принеся мне хороший кофе, коньяк и сигареты.
Меня вызвали на удивление быстро. Я проследовал в уже знакомый кабинет, в котором в свое время проходило совещание относительно использования «Фау-1» с подводных лодок, и по всей форме доложил Гиммлеру о своем прибытии. Рейхсфюрер не обратил внимания на мое приветствие и сразу же громко начал ругать меня.
— Наглость… неповиновение… разжаловать… отдать под суд! — доносились до меня его яростные выкрики.
Я же замер по стойке «смирно» и ждал, когда мне будет позволено заговорить.
«Самый лучший вид обороны — это наступление», — подумалось мне.
Во время своей гневной речи Гиммлер прохаживался по кабинету. Наконец он остановился напротив меня, и тогда, набрав в легкие воздух, я коротко доложил ему о произошедшем в Ниппервизе.
— Офицер действовал по моему приказу, отойдя на позиции на плацдарме, — заявил я и обрушился на штаб корпуса, высказав все, что у меня накопилось за прошедшие дни. — Из штаба корпуса дивизия «Шведт» получала только массу бессмысленных приказов и ни одного килограмма столь необходимого обеспечения.
Этими словами я закончил свои упреки в адрес офицеров штаба корпуса, удивившись тому, что Гиммлер позволил мне высказаться.
— Но вы заставили меня ждать вас целых четыре часа, — немного помолчав, снова начал рейхсфюрер.
Тогда мне пришлось объяснить ему, что задержка вызвана тяжелыми боями, во время которых я не мог покинуть свой пост.
Внезапно гнев рейхсфюрера куда-то улетучился, его настроение кардинально переменилось, и он попросил подробно доложить о положении дел на плацдарме. Гиммлер слушал меня очень внимательно, следя за моим докладом по карте. Когда же я заявил, что для проведения контратак мне не хватает танков, он обещал выделить нам дивизион самоходных артиллерийских установок. В результате мне удалось добиться гораздо большего, чем можно было ожидать. Однако об этом я решил благоразумно промолчать.
Рейхсфюрер пригласил меня даже на ужин, а когда мы вышли из его кабинета, то дружески положил мне руку на плечо. Надо было видеть растерянные лица офицеров его штаба, которые ожидали появления как минимум «разжалованного Скорцени»!
Во время ужина разговор зашел о плохой работе отдельных служб и о предательстве в собственных рядах. О последнем мне тоже было что доложить. Дело заключалось в том, что во время прослушивания радиопереговоров экипажей танков противника мои связисты отчетливо слышали немецкую речь. Таким образом, слухи о сражавшейся на стороне русских армии Зейдлица в какой-то степени подтверждались. По крайней мере, можно было говорить о наличии в войсках противника отдельных немцев.
К слову говоря, позднее мои солдаты после отбитой ночной танковой атаки неприятеля услышали из одного танка команды на отход, произносившиеся на немецком языке. Попавшие же в плен к русским, а затем бежавшие двое военнослужащих из состава 600-го парашютно-десантного батальона рассказали, что их допрашивало несколько немецких офицеров.
Ужин подошел к концу, Гиммлер встал, чтобы попрощаться, и тогда я быстро произнес:
— Рейхсфюрер, мы говорили с вами о разных проблемах. Вы же знаете гораздо больше, чем я. Скажите, в таких условиях мы выиграем войну?
Его ответ я запомнил дословно.
— Поверьте мне, Скорцени, войну в конце концов мы все же выиграем.
Поскольку никаких дальнейших слов в обоснование такого оптимизма не последовало, мне ничего другого не оставалось, как, испросив разрешения, удалиться.
Скорее всего, выводы, которые часто делались в главной ставке, опирались в большинстве своем на домыслы и различные предсказания. Вера Гиммлера основывалась также на убеждении, что и русские когда-нибудь исчерпают свои резервы. Правда, точных сроков этого он не называл. Исходя из такого ошибочного расчета рейхсфюрер преждевременно начал и наступление в Померании в феврале 1945 года. Фланговый удар, призванный смять противника, натолкнулся на свежие и сильные резервы русских, которых, по мнению Гиммлера, у неприятеля быть уже не могло.
В главную ставку Гиммлера в феврале меня вызвали еще раз. Тогда мне было приказано явиться в двадцать два часа на совещание, в котором приняли участие министр Шпеер и командир 200-й бомбардировочной эскадры люфтваффе полковник Баумбах. Мне они уже были знакомы — министр Шпеер всегда относился с большим пониманием к моим пожеланиям, и мне он казался весьма порядочным человеком, а с Баумбахом мы тесно сотрудничали достаточно давно.
В тот день обсуждался вопрос по активизации ведения воздушной войны против России, поскольку министр Шпеер заверял, что сможет обеспечить люфтваффе необходимым количеством боевых самолетов. Ведь широкомасштабные подготовительные работы для этого проводились уже в течение нескольких месяцев — были изготовлены модели требуемых машин и проведены точные расчеты по выпуску необходимых специальных бомб. Однако насколько далеко наша промышленность продвинулась в этом вопросе, оценить я не мог.
Сроком возможного начала таких действий называлась первая неделя апреля, и Гиммлер вновь показался мне излишне самоуверенным. А вот министр Шпеер производил впечатление очень уставшего человека, чьи силы были на пределе. Когда же я попытался узнать о производстве секретного оружия, то получил весьма туманные ответы.
— Вскоре все решится, — заметил министр на прощание.
Однако о планах применения авиации против России в последующем я больше ничего не слышал.
С помощью дивизиона самоходных артиллерийских установок с территории плацдарма нам удалось провести немало очень успешных вылазок. В частности, во время одной из таких атак мы натолкнулись на изготовившийся к наступлению огнеметный батальон и полностью его уничтожили, а его командира, русского капитана, взяли в плен. Во время его допроса, в котором я принял участие, стало понятно, как сильно изменилась неприятельская пропаганда в отношении прославления национальных особенностей русского народа. И надо признать, что в этом вопросе противник добился значительных успехов. Перед нами стоял не столько убежденный марксист, который по идее должен был мыслить в духе интернационализма, сколько русский шовинист. Манера поведения этого офицера во время допроса, как ни странно, мне понравилась.
В другой раз мы взяли штурмом находившийся за пределами границ плацдарма населенный пункт Ханзеберг и захватили в качестве трофеев большое число минометов, противотанковых пушек и пулеметов. Их оказалось так много, что в штабе корпуса нам даже не поверили. Однако позднее его офицеры смогли своими собственными глазами убедиться в Шведте в достоверности этих сведений.
Третью атаку мы предприняли на перекресток дорог возле Кенигсберга. Наши солдаты между собой называли его «костомолкой». Бой со становившимся все более ожесточенным противником продлился почти два дня. Ночью несколько самоходок и рота истребительной части СС «Северо-Запад» в пылу боя продвинулись слишком далеко и оказались на одном из холмов в окружении, из которого им удалось пробиться только на следующий день.
К сожалению, через десять дней дивизион самоходных артиллерийских установок от нас отозвали. Но, несмотря на это, мы старались проводить активные наступательные действия и всегда добивались успеха.
Когда русские танки все же прорывались через наш передний край, то иногда одному или двум из них удавалось продвинуться до густых зарослей кустарника в центре плацдарма. Их изолированные от своих сил экипажи продолжали вести бой и маскировались так мастерски, что на обнаружение их укрытия часто уходил не один день. Но и после этого они продолжали упорно сопротивляться. То же можно сказать и о русских снайперах, которые ночью просачивались в наш тыл через оборонительные линии и на протяжении многих дней доставляли нам немало неприятностей. Стоило только неосторожно высунуться из окопа, как тут же звучал меткий выстрел. Хорошо еще, что у нас был взвод снайперов, которые им успешно противодействовали. Мне до сих пор непонятно, почему у нас в сухопутных силах уделяли столь мало внимания боевому использованию снайперов, область применения которых предлагала поистине безграничное количество вариантов.
Происходившему на плацдарме возле Шведта рейхсмаршал Геринг уделял особое внимание, ведь его представительское имение в Каринхалле находилось немного западнее. Ежедневно в два часа ночи оттуда поступал последний звонок по уточнению обстановки. Однажды по его поручению меня даже спросили, нет ли у меня каких-нибудь пожеланий. Тогда я ответил, что неплохо было бы получить подкрепление.
Уже на следующий день к нам прибыл недавно переоснащенный батальон из дивизии «Герман Геринг»[290], сплошь состоявший из молодых и крепких парней. Командовал батальоном награжденный Рыцарским крестом с дубовыми листьями майор, который сразу же попросил выделить ему самостоятельный участок фронта. Когда же я поинтересовался насчет его фронтового опыта в качестве пехотного офицера, то выяснилось, что до недавнего времени он являлся летчиком-истребителем. Оказалось также, что большинство его солдат в пехоте никогда ранее не служило. Поэтому использовать батальон так, как хотел его командир, с моей стороны было бы преступлением. Несмотря на протесты майора, я разделил батальон на небольшие группы, которые придал своим лучшим частям в качестве усиления. Когда через две недели батальон снова отозвали, то этот летный офицер был мне благодарен — его солдаты не понесли больших потерь и за короткий срок приобрели практический опыт. В результате батальон превратился во вполне пригодное для фронта воинское подразделение.
Буквально с каждым днем бои становились все ожесточеннее и ожесточеннее — русские продолжали атаковать нас в одних и тех же местах. К тому же промозглая влажная и холодная погода предъявляла серьезные требования к физическим возможностям солдат оказывать сопротивление. Тем не менее, несмотря на то что мы пополнили свои подразделения людьми, отбившимися от своих частей и буквально скитавшимися по полям и лесам, за все время, к моему удивлению, было отмечено не более семи случаев дезертирства. Думается, не стоит говорить, что такие солдаты были отданы под дивизионный военно-полевой суд. Насколько я помню, четверых из них приговорили к смертной казни, и после утверждения корпусом приговор был приведен в исполнение. Не наблюдалось также и ослабления воинской дисциплины. Наоборот, по мнению бывалых командиров, подразделения сражались настолько хорошо, что складывалось впечатление, будто бой вела дивизия, спаянная многомесячным пребыванием на фронте.
В парках Шведта были заложены кладбища для погибших героев. И хотя по сравнению с другими участками фронта наши потери являлись относительно небольшими, ряды могил множились и множились, что меня сильно удручало. В этой связи нельзя не сказать еще об одном моменте, характеризовавшем сплоченность личного состава моей дивизии, — на территории, занятой противником, или на нейтральной полосе не остался лежать ни один павший солдат. По ночам боевые группы притаскивали мертвых боевых товарищей в свое расположение, и их хоронили со всеми воинскими почестями. Поэтому мне горько осознавать, что, насколько мне известно, сегодня в Шведте солдатские захоронения в парках сровняли с землей.
Однажды к нам в пополнение прибыла казачья рота под командованием русского полковника С., которая провела несколько смелых ночных рейдов. Затем мне переподчинили румынский полк, и румыны сражались не хуже своих немецких товарищей по оружию. В рядах же батальонов истребительных частей СС дрались норвежцы, датчане, голландцы, бельгийцы и французы. Поэтому можно сказать, что под Шведтом действовала настоящая европейская дивизия, олицетворявшая собой объединенную Европу. Хотя не стоит исключать, что для подлинного достижения этой грядущей цели у большинства солдат, возможно, не хватало чувства локтя, появляющегося в совместных боях. В любом случае мы это единство испытали на себе, и, несмотря на суровость тех дней, оно продолжает жить в наших воспоминаниях и до сих пор вызывает светлые и теплые чувства.
Как-то раз случился большой аврал — в сумерках русским большими силами удалось прорвать главную линию нашей обороны и вклиниться в нее вдоль дороги на Кенигсберг. Через несколько же часов они захватили населенный пункт Грабов и оказались буквально в трех километрах от Одера. Наши солдаты на внутренней линии обороны были готовы к отражению атаки. Собрав в кулак последние резервы, штурмовую роту и подразделения саперного батальона, я перешел в контратаку, но она была отбита. Удалась только третья попытка с фланга, и мы подошли вплотную к Грабову. Завязался ожесточенный бой буквально за каждый дом. В тумане путь нам освещали горящие избы и танки, но продвижение вперед осуществлялось очень медленно — русские оказывали отчаянное сопротивление возле каждого забора и живой изгороди. Было уже совсем темно, когда нам удалось полностью восстановить положение и занять наши старые главные оборонительные позиции.
Работы у санитаров заметно прибавилось, а у полуразрушенной часовни мы сложили наших павших солдат, среди которых находилось не меньше четырех моих боевых товарищей по Гран-Сассо. Мне ничего другого не оставалось, как молча пожать руку обер-лейтенанту Швердту, которому они были наиболее близки.
Когда мы спустились в отвоеванный подвал, служивший командным пунктом парашютно-десантного батальона, то, к величайшему моему удивлению, оказалось, что телефонная связь все еще работала. Я немедленно связался с командным пунктом своей дивизии, чтобы сообщить об успешном завершении атаки, и тогда мне доложили, что меня на протяжении нескольких часов ожидает рейхсмаршал Герман Геринг.
— Сейчас буду, — ответил я и бросил трубку.
Я нашел рейхсмаршала на казарменном дворе восседавшим в своей машине с открытым верхом в окружении солдат. Мне бросилось в глаза, что на его серой форменной одежде не было видно ни одной награды. После моего доклада об обстановке он во что бы то ни стало захотел проехаться по плацдарму. Я согласился, однако его окружение явно не пришло от этого в восторг, а какой-то генерал шепнул мне на ухо:
— Под вашу ответственность.
В ответ я только пожал плечами, радуясь про себя первому посещению моего плацдарма столь высокопоставленным лицом.
Проехав Нидеркрениг, я дал знак обеим машинам остановиться — здесь дорога противником могла просматриваться, и мне не хотелось рисковать, подвергая рейхсмаршала опасности обстрела со стороны русской артиллерии. Мы спешились и дальше к горящему селу стали красться друг за другом по придорожной канаве, не раз ложась рядышком на вспаханное поле, когда снаряд с той стороны ударял слишком близко.
Еще издали мы увидели на дороге горящий русский танк, а потом подошли к расчету 88-мм зенитного орудия люфтваффе.
— Да, ребята, ловко это у вас получилось, — проговорил Геринг, указывая рукой на танк.
Он пожал каждому зенитчику руку, а затем выдал расчету шнапс и сигареты. В нескольких сотнях метров на огневых позициях стояла противотанковая пушка. Орудийный расчет из истребительной части СС «Центр», завидев рейхсмаршала, застыл по стойке «смирно».
— Как жаль, что вы не подстрелили этот танк, — заметил Геринг.
— Осмелюсь доложить, господин рейхсмаршал! — покраснев от возбуждения, выпалил унтер-офицер, командовавший расчетом. — Мы поразили его дважды!
Геринг улыбнулся и нашел чем угостить и этих солдат.
Наконец мы очутились в селе, и рейхсмаршал принялся внимательно изучать следы прошедшего боя. Особенно его интересовали танки.
«Хорошо, что мы не взорвали их, как обычно», — подумал я, ведь у нас было принято взрывать подбитые танки после каждого боя.
Геринг с трудом спустился на командный пункт батальона, где тоже раздал подарки. Мой начальник оперативного отдела, слывший заядлым курильщиком, получил от него целый ящик сигарет самого лучшего сорта. Начало смеркаться, и я дал команду, чтобы машины подъехали к нам. В Шведте возле моста мы с рейхсмаршалом распрощались.
Между тем русские привели в порядок полевой аэродром возле Кенигсберга, а мы с помощью дальнобойных 105-мм зенитных орудий пытались помешать его эксплуатации. Для этого на одной из церковных колоколен был оборудован наблюдательный пункт, откуда по телефону шли доклады о каждом заходящем на посадку самолете. Нам казалось, что даже нескольких точных попаданий по взлетно-посадочной полосе окажется достаточным для того, чтобы спровоцировать аварии, ведь в отдельные дни русские боевые летающие машины начали доставлять нам заметное беспокойство.
В один относительно спокойный день я решил наконец-то отоспаться и улегся на кровать, стоявшую в моем кабинете. Внезапно меня разбудил какой-то резкий звук, донесшийся от окна. Оказалось, что русский летчик выпустил по фасаду здания длинную пулеметную очередь и две пули попали в окно моей комнаты. Мой пес тоже счел такой способ побудки неприемлемым и выразил свое мнение злобным рычанием.
Как-то вечером мы поймали сообщение английского радио, которое нас сильно насмешило. В нем говорилось: «Известный оберштурмбаннфюрер СС Скорцени, осуществивший в свое время операцию по спасению Муссолини, недавно был произведен в генерал-майоры. Одновременно ему поручена организация обороны Берлина. Таким образом, он стал самым могущественным человеком в столице германского рейха». А поскольку подобные новости всегда сопровождались некоторой порцией перца, то в конце было добавлено: «В настоящее время Скорцени начал зачистку северной части Берлина от неблагонадежной части населения».
Позднее, к великому своему удивлению, я узнал, что в то время в рейхсканцелярии действительно рассматривался вопрос о привлечении меня к обороне Берлина. Мое имя на самом деле просто упоминалось. На основании этого, возможно, и родилось при добавлении некоторой фантазии вышеупомянутое сообщение. Вот только оставалось загадкой, каким образом сведения из рейхсканцелярии так быстро дошли до Англии?
Бывшую офицерскую клуб-столовую в Шведте мы превратили в дом отдыха для особо храбрых солдат. Теперь здесь могли провести пару дней короткого отпуска двадцать фронтовиков одновременно. Тот, кто по собственному опыту знает, что означает для солдата кровать с белоснежными простынями, душевая и красиво накрытый стол, поймет, с каким воодушевлением было встречено в войсках известие об открытии этого солдатского дома. Особо стоит заметить, что мне пришлось преодолеть немалые трудности в получении разрешения для использования в данном доме отдыха дворянских серебряных столовых приборов.
По истечении нескольких недель я перестал опасаться, что когда-нибудь фронт на нашем плацдарме окажется прорванным. Мне даже стало казаться, конечно чисто теоретически, что я так и доживу до глубокой старости в Шведте. Целыми днями напролет мне приходилось разъезжать по плацдарму, посещая позиции или наблюдая за отражением русских атак. Вечером же наступал черед для решения штабных вопросов, а по ночам — заниматься делами истребительных частей СС и отдела «D» военного ведомства. Каждый день приносил с собой всевозможные проблемы, которые требовали моего вмешательства. Хорошо еще, что повседневные заботы по организации обороны в полосе моей дивизии не позволяли задуматься о положении дел на фронте в целом.
Поэтому пришедший 28 февраля 1945 года приказ, предписывавший мне вернуться в Берлин, явился для меня большой неожиданностью. Это произошло по инициативе главной ставки фюрера. Мои же попытки забрать с собой некоторые свои подразделения окончились неудачей, и я начал догадываться, что вижу оба своих батальона и части особого назначения в составе дивизии в последний раз. В течение сорока восьми часов мне предписывалось передать дивизию другому командиру.
Глава 21
Катастрофа на Западе. — Ремагенский мост. — Операция боевых пловцов. — Холодные воды Рейна. — Последняя встреча с фюрером. — Рыцарский крест с дубовыми листьями. — Перевод в «Альпийскую крепость». — У фельдмаршала Шернера[291]. — Последний визит в Вену. — Русские в моем родном городе. — Тяжелое прощание. — Верхняя Австрия. — 20 апреля 1945 года. — «Фюрер умер, да здравствует Германия!» — Приказ о перемирии
В Берлине поначалу я никак не мог войти в прежний режим. Штабная работа за письменным столом меня уже давно не привлекала. Да к тому же она сильно осложнилась, так как большую часть людей из моего штаба перевели в город Хоф в Баварии. Вопросы же снабжения решались все труднее, поскольку даже при самой хорошей организации работ полностью ремонтировать железнодорожные сооружения после налетов авиации союзников не удавалось. Движение поездов тогда уже осуществлялось с большими опозданиями и по объездным путям.
Как-то раз на Ораниенбург был совершен опустошительный налет, и ковровая бомбардировка проходила буквально в километре от Фриденталя.
«Возможно, этот своеобразный «привет с неба» передавался нам?» — тогда подумал я и уже вечером получил ответ на этот вопрос.
Английское радио передало, что в тот день целью налета авиации союзников являлась штаб-квартира известного похитителя Муссолини Скорцени и что в результате этой бомбардировки она полностью уничтожена. Мы не стали опровергать данное сообщение, однако позднее по Фриденталю было проведено еще две бомбардировки. Причем последняя частично оказалась успешной — русским досталось пустое и выгоревшее дотла здание бывшего нашего штаба.
7 марта 1945 года на Западном фронте произошла настоящая катастрофа — возле города Ремаген в руках американцев оказался мост через Рейн, и все усилия немецкой авиации уничтожить мост с воздуха успехом не увенчались. И вот однажды вечером меня вызвали в рейхсканцелярию, где генерал-полковник Йодль приказал мне немедленно задействовать моих боевых пловцов, заявив, что необходимые самолеты для их переброски из Вены в западном направлении уже затребованы.
В первый раз за все время моей службы я воспринял данное задание как невыполнимое. Дело заключалось в том, что в то время года температура воды в Рейне составляла всего шесть — восемь градусов по Цельсию, а американский плацдарм протянулся вдоль течения реки почти на десять километров. Поэтому мне пришлось прямо заявить, что шансов на успех достаточно мало.
— Я доставлю на место своих самых лучших людей, а там пусть они сами решают, стоит ли браться за это дело, — сказал я.
Лейтенант С., командовавший истребительным отрядом «Дунай», все же решил со своими людьми провести данную почти невыполнимую операцию. Прошло еще несколько дней, пока с побережья Северного моря к Рейну доставили буксируемые мины-торпеды. Причем во время перевозки многие транспорты были атакованы вражескими истребителями-бомбардировщиками и до места назначения так и не добрались. К тому времени, когда все было готово, американский плацдарм протянулся вдоль реки уже на шестнадцать километров.
Темной холодной ночью операция началась, и люди поплыли в ледяной воде. Некоторые из них, окоченев от холода, навсегда исчезли в волнах. По реке то и дело шныряли лучи мощных прожекторов, и вскоре группу стали обстреливать с берега. Появились первые раненые. Можно только представить, какое разочарование испытали пловцы, когда почти у цели обнаружили несколько недавно построенных американцами понтонных мостов. Тем не менее подрывные заряды были установлены. О том, правильными ли оказались движения окоченевших пальцев, не могли сказать даже немногие выжившие, полумертвыми выползшие на берег и попавшие в плен[292].
По этому и другим вопросам мне часто доводилось бывать в рейхсканцелярии. Однажды, коротая часы ожидания, я находился в секретариате фюрера, где доктор Штумпфеггер обследовал мой глаз. Вскоре там появилась молодая, элегантно одетая женщина, и меня ей представили. Это была Ева Браун, о существовании которой до того времени я и не подозревал. Она произвела на меня приятное впечатление. Лучше узнать ее мне, к сожалению, не удалось, хотя она и пригласила меня провести один из вечеров вместе с ней и ее сестрой, поскольку много обо мне слышала. Но я так и не воспользовался ее приглашением.
От доктора Штумпфеггера я узнал, что на таких вечерах присутствовал и группенфюрер СС Фегелейн. В поздние ночные часы, хорошо подвыпив, он якобы вел себя с находившимися там подчиненными довольно грубо, а мне не хотелось оказаться в подобной ситуации.
Где-то в конце марта 1945 года в фойе большого зала по обсуждению текущей обстановки мне пришлось дожидаться одного офицера Генерального штаба вермахта. Когда я ненадолго вышел в большой коридор рейхсканцелярии, обсуждение обстановки уже закончилось и в нем появился Адольф Гитлер. При взгляде на этого уставшего и сгорбленного человека меня охватил ужас. Увидев меня, он подошел ко мне и протянул обе руки.
— Скорцени, я должен поблагодарить вас и ваших людей за ваши свершения на фронте возле Одера, — заявил фюрер. — Многие дни ваш плацдарм являлся единственным лучиком света. Я наградил вас Рыцарским крестом с дубовыми листьями и хочу через несколько дней вручить его вам лично. Тогда вы и расскажете мне о том, что там происходило.
Я пробормотал слова благодарности, и фюрер в окружении своей свиты спустился в глубокий бункер.
Другим вечером, как раз после очередной воздушной тревоги, я поехал в бункер, располагавшийся в зоопарке и переоборудованный под госпиталь люфтваффе, чтобы навестить там своего начальника оперативного отдела гауптмана Вернера Хунке. У него было сотрясение мозга, но он уже пошел на поправку и в скором времени собирался к нам вернуться. Там я познакомился с пилотом «Штуки» полковником Руделем. Он один подбил столько неприятельских танков, что их хватило бы не на один полк. Несколько дней тому назад после ранения ему ампутировали ногу, но молодой офицер хотел снова летать.
В этом импровизированном госпитале лежала и заболевшая Ханна Райч. Мне было известно, насколько ценил ее как пилота генерал-полковник фон Грайм, и когда она от меня услышала, что ему ее очень не хватает, то лицо этой отважной летчицы буквально засияло. Такой Ханну я еще не видел, но она по-прежнему оставалась редким идеалистом.
— Поскольку я вновь могу летать, то хочу сменить какого-нибудь солдата, — заявила она на прощание. — Скоро снова буду на фронте, где и положено находиться немецкому солдату.
Тем временем стрельба зенитных установок на крыше прекратилась, и я засобирался в обратный путь.
Несколько дней спустя, точнее 31 марта 1945 года, вышел приказ о переводе моего штаба в так называемую «Альпийскую крепость». По прибытии я должен был получить дальнейшие указания. Поскольку неизбежный конец становился виден все отчетливее, то можно было предположить, что туда планировалось перевести главную ставку фюрера для руководства последними ожесточенными боями.
Тогда я вновь попытался вызволить с Восточного фронта своих солдат, имевших опыт ведения боевых действий в горах. После длительных переговоров мне все же удалось вернуть командира истребительной части «Центр» и двести пятьдесят человек. Таким образом, с двумя ротами нам предстояло начинать все сначала.
В Хофе, где я пребывал в ожидании дальнейшей передислокации своего штаба, ко мне пришел новый приказ. Он предписывал окольными путями прибыть в штаб генерал-полковника Шернера, а оттуда отправляться в Остмарку. В штабе Шернера я должен был обсудить возможности использования истребительной части СС «Восток II». Это новое формирование уже находилось в стадии становления взамен потерянной в Хоэнзальце истребительной части СС «Восток».
Экипаж моего прошедшего огонь и воду «Фольксвагена» кроме меня составили: сопровождающий офицер, радист, а также мой проверенный водитель фельдфебель Б. 10 апреля 1945 года я прибыл в главную ставку группы армий «Центр» как раз в то время, когда пришел приказ о производстве Шернера в фельдмаршалы. После короткого знакомства с ним мне стало ясно, почему этого человека одни ненавидели за его упрямство, а другие обожали за смелость. Вскоре все вопросы, связанные с запланированными двумя операциями по выводу из строя важных мостов в тылу противника, были обговорены, а еще через неделю успешно осуществлены.
В штабе я услышал о сложившейся критической ситуации в Вене и о том, что неприятелю удалось прорваться в город. Дела, связанные с истребительной частью «Юго-Восток», призывали меня отправиться в Вену. К тому же мне хотелось навестить свою мать и вывезти ее из фронтовой зоны. А кроме того, возможно, мною двигало тайное сентиментальное чувство, в котором я не хотел сознаваться даже самому себе, — мне не терпелось еще раз взглянуть на свой родной город.
Пробыв в пути не более шести часов, я оказался на магистрали Вена — Флоридсдорф со стороны города Корнойбург. Наблюдавшаяся на этой дороге картина беспорядочного бегства меня глубоко потрясла. Среди беженцев были и солдаты, явно действовавшие не по приказу.
Возле противотанкового заграждения мы сделали короткую остановку. Я видел, что кругом в придорожных канавах сидели и лежали раненые. Тут на запряженной лошадьми повозке показался какой-то толстый фельдфебель, который, судя по его объемам, всю войну провел в кресле за письменным столом. За ним следовало еще пять таких же повозок. На мое требование остановиться он сделал вид, что не слышит, и проехал бы мимо, если бы мой радист не ухватил лошадь за упряжку.
— Вы не хотите взять с собой раненых? — спросил я, едва сдерживая гнев.
На мой вопрос толстяк, указав рукой на телегу, ответил:
— Все занято!
Кровь бросилась мне в голову, когда я увидел его поклажу — мягкую мебель, кресла, ночной столик и другое «военное» добро. Сидевшую там симпатичную девушку я еще мог ему простить, но остальное…
— Немедленно разгрузить повозку! — прозвучала моя команда с угрозой в голосе.
Оружие у фельдфебеля и других «героев» мне пришлось отобрать.
— Стрелять вам все равно больше не придется, — заявил я и раздал конфискованное оружие легкораненым, которых подозвал к себе.
С их помощью мы быстро разгрузили повозки, а на освободившееся место положили тяжелораненых. Усадив на козлы легкораненых, я строго распорядился:
— Езжайте до ближайшего госпиталя и по дороге заберите с собой столько раненых, сколько сможете.
Взгляды, которые бросали на меня вояки, лишившиеся своих средств передвижения, трудно было назвать дружелюбными. Я понимал, что перспектива дальнейшего следования в пешем порядке им пришлась явно не по душе. В критических ситуациях и когда страх за собственную жизнь одолевает человека, все маски спадают и наружу проступает его истинное лицо.
Начали сгущаться сумерки, когда по Флоридсдорфскому мосту я въехал в город. Слышался отдаленный гул канонады, а поднимавшиеся в небо столбы дыма указывали на места горевших домов. Обстановка была неясной, и мы быстро направились к штабу корпуса, располагавшемуся в здании бывшего военного министерства на Штубенринге. Кругом было темно, и часовой пояснил, что командный пункт переехал в Хофбург.
По темным, безлюдным улицам, на которых не горел ни один уличный фонарь, я поехал туда. Складывалось впечатление, что город вымер, проступали только очертания фасадов домов, многие из которых лежали в руинах. Все свидетельствовало о том, что Вена сильно пострадала от неприятельских бомбардировок. Возле площади Шведенплац дорога по набережной была перекрыта — дом, в котором проживал мой брат, оказался наполовину разрушенным, и его обломки преграждали нам путь.
В венском штабе истребительной части СС «Юго-Восток» мне доложили, что ее командир еще в полдень того же дня окончательно перебрался на командный пункт в городе Креме, а истребительному отряду «Дунай» пришлось освободить тренировочный центр в бассейне Дианабад. Я дал себе слово, что на обратном пути обязательно к ним заеду.
На просторной территории Хофбурга стояло множество машин. В одном из подвалов дворцового комплекса я обнаружил офицеров, занятых своими делами, от которых узнал, что войскам противника удалось прорваться в пригороды Вены во многих местах, но их атаки удалось отбить. Однако более конкретные сведения никто сообщить мне не смог. Между тем наступила полночь, и я решил быстро наведаться на свое предприятие в Майдлинге, помчавшись по совершенно безлюдным улицам, то и дело объезжая многочисленные препятствия. Уже на подъезде слева стали отчетливо слышны звуки боя, а дорогу перегородила баррикада.
Я решил осмотреться и вышел из машины. Внезапно в темноте возникли две фигуры венских полицейских с касками на голове и автоматами в руках.
— Мы защищаем здесь баррикады, — хмуро проговорили они. — В районе Южного вокзала уже орудуют русские. Говорят, что нашим удалось их окружить.
Однако на всем пути я не встретил ни одного оборонительного сооружения или занявшего позиции подразделения и не мог себе представить, как будут развиваться события дальше.
«Можно ли успешно оборонять Вену в таких условиях?» — тогда подумал я.
По объездным путям мне все же удалось добраться до своей фирмы в Майдлинге. Пройдя по двору, я поднялся в помещение моего старого офиса, оставив людей сидеть в машине — следовало соблюдать осторожность, поскольку шум боя слышался уже совсем близко. Наверху мне встретился мой компаньон с секретаршей, которые, увидев меня, очень удивились. Моего ночного появления здесь явно никак не ожидали.
То, что они мне поведали, оптимизма не вселяло — телефонная связь, электричество и газ уже с утра были отключены. Стали наблюдаться случаи разграбления общественных зданий, а власти непонятно почему запретили частным лицам покидать город на своих машинах. Однако, судя по моим наблюдениям, этому предписанию последовали далеко не все венцы. Еще более удивительным оказалось то, что имевшиеся на городских складах запасы продовольствия населению розданы не были. В общем, стало ясно, что в ближайшие дни здесь никаких работ больше производиться не будет.
Мы сидели при свечах и пили приготовленный на спиртовке чай, за что я был им очень благодарен. Разговор крутился вокруг того, что ожидает нас в будущем, и, кроме мрачных мыслей, в голову ничего не приходило. Никак не верилось, что Вена превратилась в поле боя, а линии фронта пролегали везде по территории рейха. Неужели в этом заключался смысл всех тех жертв, которые понес немецкий народ за прошедшие пять лет? Неужели миллионы жизней были отданы зря? Однако солдату над такими вопросами лучше не задумываться — они только мешают ему в выполнении его долга.
Затем мы спустились в располагавшийся во дворе гараж, где с начала войны стоял мой автомобиль. Там собралось около пятидесяти мужчин и женщин из окрестных домов — похоже, в ту ночь Вена совсем не спала. Среди них было много людей, знавших меня еще раньше, в том числе и рабочих с моего предприятия.
«Сколько же воды утекло с тех пор, когда мне довелось начинать здесь свой профессиональный путь?» — подумал я и тут же сам ответил на свой вопрос.
От прежней жизни меня отделяло более пяти долгих военных лет.
Тут ко мне подошел мой водитель и прошептал на ухо:
— Внизу по главной дороге по направлению к городу двигаются танки. Не думаю, что это наши.
Пришло время уезжать, так как у меня совсем не было желания попасть в плен. На прощание ко мне потянулось множество рук, а один рабочий заявил:
— Желаю вам, господин инженер, благополучно выбраться из этой передряги! И не забывайте про нас!
Хорошо, что я отлично ориентировался в Вене. Следуя все время по объездным путям, мы постоянно наталкивались на никем не занятые баррикады. Между тем звуки от выстрелов танковых пушек доносились все отчетливее. В нескольких местах вспыхнул пожар, и мне стало неуютно в этом казавшемся мертвом городе, с апатией ожидавшем решения своей судьбы. Однако это была не игра в кошки-мышки. Русские действительно наступали, и если бы они захотели, то вполне могли промаршировать прямо по городу.
Я вернулся в Хофбург, где встретился с адъютантом гаулейтера Бальдура фон Шираха обер-лейтенантом X. и коротко рассказал ему о том, что мне довелось пережить и увидеть.
— Этого не может быть, — не поверил он. — Если судить по донесениям, то фронт мы удерживаем прочно.
Затем он отвел меня к своему гаулейтеру.
Помещение, которое тот занимал, для командного пункта по обороне осажденного города показалось мне слишком роскошным. Не стоило забывать, что Бальдур фон Ширах являлся одновременно и рейхскомиссаром по обороне. Поэтому я сообщил ему то же самое, о чем поведал его адъютанту, добавив при этом:
— Я нигде не видел ни единого немецкого солдата. На баррикадах никого нет! Русские могут идти туда, куда им вздумается!
Ответ гаулейтера меня ошеломил.
— Исключено! — самоуверенно заявил он.
Затем фон Ширах принялся объяснять мне, что среди прочих войск город обороняли две дивизии СС. Возможно, он вообще слабо представлял, сколько километров по фронту могла держать уже обескровленная и истощенная предыдущими сражениями дивизия при ведении уличных боев. У меня не было сомнений в том, что солдаты дивизии СС отчаянно сопротивлялись, но были ли они способны остановить неприятеля? Вот в чем заключался вопрос. Поэтому я предложил фон Шираху самому съездить на рекогносцировку или хотя бы послать туда на разведку кого-нибудь другого.
Однако фон Ширах, занятый своими мыслями, меня не слышал. Он принялся на карте показывать подходящие с севера дивизии и замкнул клещи вокруг города дивизией, наступавшей с запада, изложив мне план по деблокированию Вены, сильно напоминавший освободительное сражение времен войны с турками 1683 года. Тогда спасителем Вены явился граф фон Штаремберг[293].
Подобное изложение оперативной обстановки на карте при свечах в глубоком подвале старинного кайзеровского замка поневоле навеяло мне мысли о призраках. Уж не оперировал ли гаулейтер призрачными дивизиями? Ведь я точно знал, что никаких войск в наличии не было.
После этого я удалился, но слова этого бывшего предводителя имперской молодежи до сих пор стоят в моих ушах.
— Здесь я буду сражаться до последней капли крови! — заявил он мне на прощание.
В соседней комнате сидело несколько старых друзей фон Шираха, как оказалось, все они были искусствоведами. Я не стал отказываться от предложенного мне перекуса и с удовольствием начал жевать. Тут в комнату вошел приехавший после ночного осмотра Вены заместитель гаулейтера Шаритцер, облаченный в солдатскую форму. Он подтвердил мои сведения и добавил, что отдельные офицеры венского штаба корпуса установили связь с русскими. Естественно, возникал вопрос: зачем? Неужели они на самом деле рассчитывали на то, что им удастся предотвратить неизбежное? Но это было возможно лишь в том случае, если бы они могли опираться на реальные войска. Ведь даже штрафной батальон не исправит положения, если его солдаты не хотят больше воевать.
Я решил съездить к своему дому в Деблинге[294] и у церкви Шотландского монастыря увидел два немецких танка. Дальше же везде наблюдалась одна и та же картина — пустынные улицы и никем не занятые баррикады, проехать через которые было довольно затруднительно. Стояла жуткая тишина, прорезаемая только отдаленными артиллерийскими выстрелами.
В своем доме я собрал все имевшееся охотничье оружие, которое, возможно, могло нам в ближайшие месяцы пригодиться. В остальном же все осталось как прежде, ведь офицерам запрещалось эвакуировать мебель из оставляемых территорий. И я четко придерживался данного предписания.
«Что ж, дом достанется врагу готовым для проживания или разграбления», — с грустью подумалось мне тогда.
Мой водитель начал снаружи подавать знаки, чтобы я поторопился — выстрелы заметно приблизились. Возможно, отдельные русские подразделения стали продвигаться со стороны Венского Леса. Но на настоящий бой это было не похоже, и где проходила линия фронта, я определить не мог. Мы запрыгнули в машину и поехали дальше по городу, а добравшись до многоквартирного дома, в котором проживала моя мать, обнаружили, что он наполовину разрушен. Однако мои первоначальные опасения не подтвердились — некоторые жители успокоили меня, сказав, что моя мать покинула Вену еще несколько дней назад.
После этого я вновь вернулся в Хофбург и обрисовал адъютанту положение дел на западе города.
— Завтра Вена окажется в руках русских, — выразил я свое мнение.
В пять часов утра 11 апреля мы снова были на Флоридсдорфском мосту, перекинутом через Дунай. Я осмотрелся еще раз, различая отблески пожарищ и звуки выстрелов артиллерийских орудий. В это время часовой на мосту начал куда-то стрелять. На этом мое прощание с Веной закончилось. Что-то сломалось внутри, и через несколько дней от былого порыва души не осталось и следа.
До Верхней Австрии мы добрались по проселочным дорогам, которые не были забиты, как другие. Оттуда в главную ставку фюрера я отправил радиограмму следующего содержания: «По моему мнению, Вена будет потеряна еще сегодня. Неупорядоченный отход на дорогах необходимо отрегулировать патрулями».
При этом я понимал, что вторгаюсь в вопросы, которые находились в ведении других инстанций. Однако у меня было указание докладывать важные сведения напрямую на самый верх, что я и делал без всяких прикрас.
Остаткам истребительных частей «Юго-Восток» и «Юго-Запад» я приказал перебазироваться в «Альпийскую крепость». От них, правда, мало что осталось вследствие постоянного применения на фронте для прикрытия отхода наших войск. Многие подразделения все еще принимали участие в боях, переданные в подчинение тому или иному корпусу. Мне же казалось, что последние сражения развернутся вокруг «Альпийской крепости», в исходе которых сомневаться не приходилось. Или в главной ставке фюрера имелось другое решение? Очень хотелось в это верить.
В Верхней Австрии патрульная служба была организована, и вскоре нескончаемый поток беженцев повернули на второстепенные дороги и упорядочили. Таким образом, главные магистрали освободились для осуществления снабжения войск. Отбившихся же от своих частей солдат собирали и формировали из них новые части. Занималась этими вопросами дивизия, которая заняла промежуточные позиции возле города Энс, развернув фронт в восточном направлении.
Мне, конечно, интересно было узнать, что на самом деле представляла собой легендарная «Альпийская крепость». Здесь в предгорьях на протяжении нескольких недель возводились различные укрепления. Вот только неясным оставался вопрос — не забыли ли сделать достаточные запасы продовольствия? Созданы ли резервы вооружения и боеприпасов или построены специальные производства? Оказалось, что всеми этими приготовлениями только начали заниматься.
«Не поздновато ли?» — невольно мелькнула мысль тогда у меня.
Еще недавно мне представлялось все это совсем по-другому. Я считал, что необходимые приготовления закончены уже давно. Во всяком случае, именно такое впечатление у меня сложилось во время различных разговоров в Берлине. Теперь же я не видел даже наметок на какой-либо единый план действий. Судя по всему, каждый гаулейтер и имперский комиссар по вопросам обороны думал только о своем гау. А вот единый центр, из которого осуществлялось бы общее руководство, отсутствовал.
Обещанный мне Рыцарский крест с дубовыми листьями был доставлен из Берлина специальным курьерским самолетом, и меня распирало от гордости за это напоминание о днях, проведенных на плацдарме возле города Шведт на Одере. На подходе являлось и повышение меня в звании до полковника, но этого так и не произошло.
В середине апреля приказ о передислокации на юг получил и гауптштурмфюрер Радл, и мы с распростертыми объятиями поприветствовали друг друга в Линце. Когда же о прибытии двухсот пятидесяти солдат доложил и гауптман Ф., наш небольшой отряд снова был в сборе.
Как-то раз я получил приказ прибыть в штаб группы армий «Юг», располагавшийся возле озера Кенигсзее, где, судя по всему, занимались подготовкой сражения за «Альпийскую крепость». В качестве места размещения главной ставки было выбрано высокогорное плато Герлос. Мне же поручили создать костяк специального «Охранного корпуса СС «Альпенланд» из остатков моих истребительных частей. Для этого многого не требовалось — если бы нам выделили войска, то охранный корпус стал бы сражаться там, где бы ему приказали.
О положении дел на Севере мне точно ничего известно не было. Ходили слухи, что в этой части Германии создан некий оборонительный бастион. Говорили о североморской крепости «Шлезвиг-Гольштейн», о цитаделях «Дания» и «Норвегия». Но все эти сбивчивые разговоры носили какой-то расплывчатый характер.
20 апреля 1945 года вышел приказ, который гласил: «Берлин останется немецким! Вена снова будет немецкой!»
Это было то самое 20 апреля, когда в центре Берлина разорвался первый русский снаряд. Для всех разумных людей эхо этого разрыва прозвучало подобно гонгу, возвещавшему о наступлении конца, и я никогда не забуду слова из призыва Геббельса, посвященного приходившемуся на тот день дню рождения Гитлера: «Верность — это мужество перед лицом судьбы».
Что уготовлено нам судьбой и какова судьба Европы? Являлось ли полное поражение Германии, надвигавшееся с каждым днем, подлинным решением всех вопросов? Неужели для преодоления вечной разобщенности Европы нельзя было найти другого, более позитивного пути? В том, что исход войны являлся предрешенным, сомневаться не приходилось. Вот только оставался неясным вопрос — кому будет на руку грядущий мир?
До нас дошла новость, которой мы не поверили, — якобы Герман Геринг поставил перед фюрером ультиматум и был после этого арестован. Это явно была какая-то ошибка или недоразумение.
«Неужели в Берлине всех охватило ожидание конца света? — подумал я. — Война не должна закончиться разложением и хаосом. Управляемость должна сохраняться до самого конца».
30 апреля по радио передали известие о смерти Адольфа Гитлера, погибшего в столице германского рейха — Берлине, окруженном русскими войсками. Тогда я собрал весь личный состав своего штаба и сообщил об этой новости. Не сомневаюсь, что мои люди ожидали от меня большего, однако что еще мне оставалось сказать? Мою короткую речь можно передать такими словами: «Фюрер умер, да здравствует Германия!»
Было объявлено о создании нового правительства во главе с гроссадмиралом Дёницем. Война, если то, что тогда происходило, можно назвать этим словом, продолжалась, а поскольку руководство вермахта не было согласно с уготовленной ему судьбой — безоговорочной капитуляцией, то бесполезная битва грозила затянуться до горького конца.
Мы могли себе еще представить, что, пока существует немецкое правительство, которое отдает соответствующие приказы, нам предстоит сражаться дальше до тех пор, пока не исчезнет последний не занятый врагом клочок Германии. Но задать вопрос о смысле этой борьбы не отваживались.
В эти дни капитулировали германские войска в Италии, но штаб группы армий «Юг», похоже, об этом ничего не знал. Ведь 1 мая я получил приказ об организации обороны перевалов в Южном Тироле.
Однако было уже поздно! Когда армия капитулировала, организовать новую линию обороны невозможно, и у моих офицеров хватило благоразумия немедленно вернуться назад.
Стал известен и последний приказ гроссадмирала Дёница, провозгласивший перемирие начиная с 6 мая 1945 года. С этого времени любые передвижения войск запрещались. Тогда я решил вместе с наиболее близкими мне людьми уйти в горы, отдав своим частям четкий приказ об ожидании моих дальнейших указаний.
Глава 22
Добровольная сдача в плен. — «К ночи вас повесят!» — Все еще опасен? — Закованные офицеры. — Пальцы на спусковом крючке. — Неприятный допрос. — И снова вопрос: «Гитлер действительно мертв?» — Через мельницу контрразведки. — Личный досмотр. — В тюремной камере. — Достоверность пропагандистских передач союзников
Вечером 6 мая мы разместились в небольшом домике возле старинного города Радштадт. Со мной находились подполковник В., Радл, Хунке и трое солдат. Поскольку заранее там ничего не было подготовлено, то связь с долиной было решено поддерживать через двух девушек из «Трудовой повинности». Теперь нам следовало постепенно привыкать к мысли, что все кончено и война Германией проиграна. Только вот оставался вопрос — пойдет ли это Европе на пользу?
Эти первые «мирные дни» в горах, где под солнечными лучами искрился снег, походили на отпуск. И все бы ничего, если бы не груз оставшихся забот. Мы не понимали, что нам делать дальше, а на мне лежала еще ответственность за людей, которые продолжали ждать моих последних указаний. Каждый из нас предавался своим мыслям. А что нам еще оставалось? Но всем не давал покоя вопрос — сделали ли мы действительно все от нас зависящее?
Не скрою, меня посещали мысли о побеге за границу или о том, чтобы покончить счеты с жизнью. Мне бы не составило большого труда улететь с любого аэродрома на Ю-88[295] в какую-нибудь безопасную страну, но это означало бы только одно — бросить в беде своих боевых товарищей, предать родину и семью. Что же касалось самоубийства, на которое в те времена решились многие, то я считал своим долгом остаться со своими людьми.
С другой стороны, мне нечего было утаивать от своих прежних врагов, ведь я ничего противоправного не совершил. Так что бояться мне было нечего. Я всего лишь служил моей родине и выполнял свой долг. Для меня и моих боевых товарищей начиналась новая жизнь.
Из долины пришла весть о том, что американцы заняли Радштадт и Аннаберг, организовав лагерь для военнопленных. Таким образом, наша дальнейшая судьба была предрешена.
Вермахту больше приказов от правительства Дёница не поступало. Мы даже не знали, продолжает ли оно вообще свое существование. Поэтому нам приходилось действовать самостоятельно, а поскольку плена все равно было не избежать, то мы решили покончить со всем этим как можно быстрее.
Я предполагал, что американцы до сих пор заняты моими поисками, и отправил командованию войсками США, располагавшемуся в долине, послание, в котором сообщал о бессмысленности и бесполезности моих поисков, так как в скором времени сам добровольно сдамся в плен.
Мы понятия не имели о том, как с нами станут обращаться в плену. В любом случае на свободе, в горах, было лучше. Поэтому я решил понаслаждаться вольной жизнью еще несколько дней. К тому же следовало ответить себе на ряд мучивших всех вопросов, в том числе: «Как такое вообще могло произойти?» Прошлое никак не хотело нас отпускать.
Одно для нас, немецких солдат, было ясно — времена государства, в котором национализм играл главенствующую роль, остались в прошлом, и нам следовало подумать о своем будущем. И немцам, и бывшим противникам надлежало найти путь к общеевропейским идеалам. При этом мы не должны были отказаться от своих идейных убеждений, просто их следовало поднять на более высокий уровень. Всеми нами владело твердое убеждение, что новое мышление должно вырасти из оставшегося после войны хаоса.
Поздний снег под лучами майского солнца быстро растаял, и дорога в долину просохла. Тогда мы отправили в американскую часть второе послание и попросили предоставить нам на десять часов утра 15 мая 1945 года машину для поездки в штаб дивизии армии США в Зальцбург, чтобы сдаться в плен. Нами было также высказано предложение позволить нам собрать все наши подразделения «охранного корпуса СС «Альпенланд» для сдачи в плен в организованном порядке.
Было решено, что вместе со мной поедут только гаупт-штурмфюрер Радл, гауптман Хунке и в качестве переводчика фенрих П. Остальным же надлежало для сдачи в плен присоединиться к группе, находившейся в долине возле Радштадта. Собрав свое оружие, мы организованно спустились в долину, где возле Аннаберга увидели расположившиеся в стороне от дороги подразделения вермахта. Они ждали дальнейших приказов, теперь уже от американцев.
В канцелярии американской части мы доложили о своем прибытии. Находившийся там сержант был очень занят, поскольку его часть только что получила приказ на передислокацию. Тем не менее он выделил нам машину для поездки в Зальцбург. Водитель, если мне не изменяет память, оказался родом из Техаса и весьма добродушным парнем. Возле одной из гостиниц он остановился, чтобы купить бутылку вина. Я пошел вместе с ним и оплатил покупку. Всю дальнейшую дорогу он к ней прикладывался, а потом отдал нам, что-то произнеся по-английски.
— Пейте, ребята, вас все равно сегодня к ночи повесят! — перевел его слова фенрих.
«Поистине дружеское приглашение», — подумал я, сделал глоток и, повернувшись к своим боевым товарищам, передал им бутылку со словами:
— За наше здоровье!
В Зальцбурге, несмотря на большое число указателей, штаб дивизии нашему провожатому найти так и не удалось. Тогда он высадил нас возле отеля, в котором разместились американцы, развернулся и был таков. Возле гостиницы стояло несколько безоружных немецких офицеров, которые с любопытством уставились на наше вооружение. Поскольку было время обеда, нам пришлось подождать. Наконец мы были приняты каким-то американским майором. Он выслушал наше предложение и, судя по всему, с ним согласился, поскольку выделил нам в провожатые лейтенанта.
Мы должны были доехать до городка Санкт-Иоганн-им-Понгау, явиться в местную немецкую комендатуру и уладить там все вопросы, связанные с выделением транспорта и подготовкой маршрутных листов. После этого нам предстояло собрать наши подразделения возле Радштадта.
По дороге лейтенант дал мне понять, что он знает, кто я. Это меня совсем не удивило, ведь в Зальцбурге мы доложили о себе по всей форме. В общем, между нами завязался оживленный разговор, насколько это позволяли мои знания английского, и в целом такая сдача в плен меня пока вполне устраивала. Вот только не понятно было, пойдет ли дело так и дальше?
В комендатуре Санкт-Иоганна наблюдалось большое оживление, а ко всему прочему там всем распоряжался какой-то немецкий генерал, который удивился нашему появлению не меньше, чем офицеры вермахта возле гостиницы в Зальцбурге. Здесь я впервые увидел, как немецкий генерал при виде сопровождавшего нас американского лейтенанта вскочил с места и услужливо вытянулся во фрунт. Такого видеть мне еще не приходилось! Стоило американскому лейтенанту вмешаться, как дело, похоже, сдвинулось с мертвой точки — нам пообещали подготовить соответствующие маршрутные листы и выделить транспорт. Затем лейтенант попрощался и уехал назад в Зальцбург.
Когда маршрутные листы были готовы, генерал отказался их подписывать и отослал нас в американский батальон, располагавшийся в городе Верфен. Это показалось мне подозрительным, и я приказал Хунке остаться, чтобы выбить обещанные автомашины. Мы же с Радлом собрались ехать в Верфен.
— Если через три часа мы не вернемся, тогда извести об этом наши войсковые группы охранного корпуса СС «Альпенланд», — сказал я Хунке.
Ведь в таком случае это означало бы, что нас задержали. Тогда о сборе нами наших подразделений не могло бы идти и речи, и каждой группе следовало предоставить право выбора — либо сдаться в плен, либо попытаться поодиночке пробиться домой.
Штаб американского батальона в Верфене расположился в высоком просторном особняке. Радл с фенрихом остались в первом вестибюле, а меня провели во вторую переднюю, где я доложил о своем прибытии какому-то капитану и попросил его подписать документы. Он удалился.
Ожидание в одиночестве показалось мне особенно утомительным. Ведь я не знал, что в это время шла подготовка к дальнейшему развитию событий. Наконец меня провели в большую столовую, где за столом сидело два американских офицера с переводчиком. На карте, висевшей на стене, я показал места, где располагались мои боевые группы, и попросил подписать маршрутные листы.
Внезапно все три двери, а также окна в зале распахнулись, и со всех сторон на меня уставились стволы пулеметов. Только тогда переводчик потребовал сдать оружие. Я переслал ему по столу свой пистолет со словами:
— Осторожно! Он заряжен!
Он с опаской дотронулся до него и боязливо потянул к себе.
После личного досмотра меня вывели во двор, куда подъехала внушительная кавалькада машин. Во главе ее находилась бронированная разведывательно-дозорная машина, дуло пушки которой было развернуто назад. В нее мне, видимо, и предстояло сесть. За БРДМ следовали два джипа, а потом снова бронированная разведывательно-дозорная машина с дулом, развернутым вперед.
Мои боевые товарищи Радл и фенрих стояли немного в стороне, и я увидел их растерянные и побледневшие лица. Указав головой на автоколонну, я с сарказмом произнес:
— Слишком много чести для нас!
Спереди, рядом с водителем сидел офицер (он явно помешал бы при стрельбе по мне из пушки), а возле меня пристроился сопровождающий и со свирепым выражением лица направил дуло своего автомата мне в живот. Модель этого оружия я хорошо знал и поэтому сразу увидел, что оно не было поставлено на предохранитель. Ко всему прочему, детина держал палец на спусковом крючке.
В задние машины по одному посадили других моих друзей, и колонна тронулась. Между тем стало смеркаться, и когда мы приехали в Зальцбург, то стало совсем темно. Машины свернули в фешенебельный квартал города с виллами, и мне бросилась в глаза картина, от которой я уже отвык, — окна были ярко освещены и широко распахнуты. Длившееся годами затемнение ушло в прошлое.
Нас завели в палисадник. Я прикурил сигарету и стал ждать дальнейшего развития событий. Внезапно сзади на нас троих напрыгнули какие-то люди, скрутили и связали руки за спиной. Затем меня отвели на второй этаж дома.
В комнате с окном, выходившим на палисадник, за столом сидели два офицера и переводчик. Перед окном в ряд стояли стулья, на которых пристроились три господина в форменной одежде без знаков отличия, с блокнотами в руках.
«Репортеры», — догадался я, поскольку сзади них разместились операторы с камерами.
По бокам от меня встали охранники, направив свои автоматы прямо на мой пупок. Все уставились на меня, словно на только что пойманное дикое животное. От вспышек фотокамер я чуть не ослеп, но мне все еще было невдомек, что предстоял первый мой допрос.
Один из офицеров в чине капитана хотел начать задавать вопросы, но я запротестовал — во-первых, из-за того, что на мне были наручники, а во-вторых, из-за пропажи моих наручных часов. После нескольких телефонных переговоров оковы с меня сняли, а часы вернули. Тогда капитан снова попытался начать допрос. И вновь я попросил минуту терпения и, к удивлению всех присутствовавших, направился к окну, поражаясь про себя, что еще не получил несколько пуль в спину.
Подойдя к окну, я крикнул своим боевым товарищам:
— Вы все еще связаны?
Снизу раздался бас Радла (пусть он простит меня, если у него был баритон, так как всем известно, что я не отличаюсь музыкальным слухом):
— Да, черт побери!
Тогда я повернулся кругом и обратился к присутствовавшим в комнате:
— Мои требования относятся и к моим друзьям. От меня вы не услышите ни слова до тех пор, пока их не развяжете!
Я оставался стоять у окна до тех пор, пока снизу вновь не донесся голос Радла:
— Все в порядке! Большое спасибо!
После этого я вернулся к столу, сел и попросил задавать вопросы. Сначала меня стали расспрашивать о моих персональных данных, а затем словно пистолетный выстрел прозвучали слова:
— Вы хотели убить генерала Эйзенхауэра?
Прежде чем ответить отрицательно, я чуть было не расхохотался, а затем привел, на мой взгляд, очень простое доказательство:
— Если бы мне приказали атаковать главную ставку союзников, то я сначала разработал бы соответствующий план операции, а потом попытался бы его осуществить. В последнем случае мне это возможно бы и удалось.
Репортеры быстро начали записывать каждое мое слово.
Затем дознаватель принялся интересоваться операцией по освобождению Муссолини. Один вопрос следовал за другим, и я едва успевал отвечать. Больше всего его интересовали детали воздушного десанта, а также то, почему итальянцы не стреляли. Мне пришлось ответить, что такую возможность мы учитывали. При этом дознаватели и репортеры многозначительно покачали головой.
— В 1940 году наши воздушно-десантные части провели известную лихую и блестящую операцию по высадке десанта в форте Эбен-Эмаэль[296]. Тогда ошеломленный гарнизон произвел первый выстрел лишь через три минуты. Поэтому в Италии я рассчитывал как минимум на такой же эффект. Тем более что в той местности, без сомнения, никто не ожидал десанта с воздуха. Вот теми самыми минутами замешательства мы и воспользовались.
Судя по реакции, последовавшей за моим пояснением, такой ответ дознавателей устроил.
Затем последовал вопрос, который меня сильно удивил. Однако в последующем его слово в слово задавали мне сотни раз:
— Вы верите в то, что Адольф Гитлер мертв?
— Да, я убежден, что Гитлер мертв.
— У вас есть тому доказательства? Откуда вам это известно?
На такие вопросы я, естественно, мог привести только косвенные доказательства, связанные с сообщениями по радио и основанные на предположениях о том, что Гитлер, очевидно, не хотел пережить такого исхода войны. Затем вопросы попытались задать репортеры, но капитан оборвал их, и меня снова увели.
Едва я подошел к своим товарищам, все еще стоявшим в палисаднике, как нападение на нас повторилось. Не успели мы оглянуться, как наши руки опять оказались связанными. Я ощупал свое запястье — часы снова исчезли. Мои протесты по этому поводу, которые я обратил к открытому окну, на этот раз никакой реакции не возымели. В мою спину уперлись дула двух автоматов, и меня вытолкали на дорогу, где стояла какая-то машина с включенными фарами, в свете которых нас построили в шеренгу. Была ли это та самая бронированная разведывательно-дозорная машина, на которой нас сюда привезли, в лучах яркого света мне разобрать не удалось. Мы с полкилометра шли пешком до караульного помещения, где нам разрешили усесться верхом на стулья. На мой протест относительно пут, связывавших наши руки, я смог выучить еще одно новое выражение, которое, судя по всему, у американцев было весьма распространено:
— Заткнись!
В караулке, сидя верхом на стуле, нам пришлось провести около часа. Затем нас погрузили в машину и перевезли в новое караульное помещение, походившее на зал какой-то пивной, где уже находились два человека. Несмотря на яркий свет, один солдат на широкой деревянной лавке спал сном праведника, а лежавший на красной кушетке майор, наоборот, ворочался с боку на бок. Нас троих подвели к чрезвычайно узкому деревянному брусу, водруженному вдоль стены, и заставили сесть. При этом наши руки оставались по-прежнему связанными за спиной, и мы, усаживаясь, расцарапали их себе до крови, поскольку расстояние до стенки не превышало десяти сантиметров.
Такое сидение становилось все более мучительным. Однако на любое наше движение караульный реагировал грозным жестом и окриком. Я хотел было сдвинуть со лба свою фуражку о плечо соседа, но и это оказалось под запретом. Когда же мне удалось перекинуть ногу за ногу, чтобы положить на нее голову, то караульный подлетел с такой яростью, что я думал, его хватит удар. При этом у него имелась весьма неприятная привычка держать указательный палец на спусковом крючке своего автомата, который вряд ли был поставлен на предохранитель.
Ситуация вовсе стала критической, когда фенрих П. попросился по нужде. Несмотря на то что он начал объяснять необходимость этого действа классическими английскими словами, в ответ раздавалось только:
— Заткнись!
При этом караульный бешено потрясал своим автоматом. При виде этой сцены я чуть было не вышел из себя. Еще немного, и я бросился бы на караульного, но как всегда спокойный Радл удержал меня от этого безрассудства. Хорошо еще, что в тот день мы, кроме кусочка шоколада, ничего не ели и не пили.
Со временем я совсем успокоился, правда, рук уже не чувствовал. Поскольку разговаривать нам не разрешали, то каждый погрузился в свои думы. Первый день закончился скверно! Оставалось только надеяться, что это испытание нашего терпения служило преддверием чего-то хорошего.
В таких условиях было вполне естественно, что я опять принялся размышлять о конце войны и обо всех наших чаяниях. Думы походили на бесконечный мрачный водоворот, но потом мне в голову пришла одна мысль, развернувшая меня в позитивную сторону, — там, где приходит конец, неизбежно наступает начало. Если, конечно, продолжать жить дальше. И в поиске этого нового начала как раз и заключается смысл бытия. Разве не прекрасно начать все сначала? Извлечь уроки из прошлого и сотворить лучшее новое?
Прошла и та ночь, и, когда первые утренние лучи света забрезжили за окном, все вокруг стало выглядеть несколько веселее. Я даже пожалел нашего караульного, про которого его товарищи, видимо, забыли и ему пришлось бессменно провести на посту всю ночь. Стул, на котором он сидел, мог показаться ему тоже слишком твердым. Было уже около девяти часов утра, когда меня отвели наверх. Видимо, с тех пор я и заимел новую привычку — ценить время.
В чьей-то бывшей квартире меня уже поджидал майор армии США. На этот раз репортеров не было. Он хотел сразу приступить к вопросам, но я настоятельно дал ему понять, что у меня есть срочные пожелания. Прежде всего требовалось снять путы с рук, иначе ни о каком допросе не могло быть и речи. Это было исполнено. После того как я растер затекшие запястья и к рукам вернулась прежняя чувствительность, мне ничего не оставалось, как потребовать, чтобы меня отвели в известное место. Там я понял, что пленный не может рассчитывать на интимную обстановку.
Когда я вернулся, то уже без всяких просьб на столе передо мной поставили чашку горячего чая и положили ломоть белого хлеба. За этим завтраком и началась моя беседа с майором, который принялся задавать мне все те же вопросы. Под конец он опять поинтересовался, жив ли Гитлер. И снова на мой отрицательный ответ майор недоверчиво покрутил головой.
Затем я осторожно начал его расспрашивать, правда ли, что у них принято держать пленных офицеров связанными и обращаться с ними так, как с нами. На это майор ответил, что он сожалеет о таком отношении, и заявил, что меня переводят в вышестоящий штаб, где обхождение будет не таким суровым. Мои руки опять связали, но уже не столь крепко, как прежде.
Когда меня вывели во двор, то я вновь увидел своих боевых друзей. Фотографы были тут как тут и беспрерывно щелкали затворами своих фотокамер. Складывалось впечатление, что им за это хорошо платили. Судя по всему, отправки ожидали также и три генерала германских сухопутных войск.
Затем из здания вышел странно одетый человек в домашних тапочках на босу ногу и пальто из темно-зеленого сукна с наглухо застегнутым воротником. Из-под пальто выглядывала голубая пижама, а на голове красовалась тирольская шляпа с кистью из волос серны. Приглядевшись, я узнал в нем имперского министра доктора Лея[297] и, несмотря на всю серьезность ситуации, не смог сдержать улыбки.
Затем подъехала колонна машин, в голове которой на этот раз был только джип с вмонтированным в него пулеметом. Появился какой-то высокопоставленный офицер и принялся рисовать прямо на песке замысловатый рисунок, что-то объясняя окружившим его офицерам и солдатам.
Мы с моими товарищами, у которых руки тоже были связаны, воспользовались ситуацией и перекинулись парой слов. Внезапно Радл прошептал:
— Сейчас они вывезут нас куда-нибудь и расстреляют!
Рисунок, начертанный на песке, издали действительно походил на подобное указание.
— Тогда нам стоит попробовать сбежать. Лучше уж быть застреленным при попытке к бегству, чем так. Когда колонна свернет на проселок, тогда самое время, — продолжал шептать Радл.
Я согласно кивнул. И хотя перспектива быть «застреленным при попытке к бегству» меня вовсе не воодушевляла, все же это было лучше, чем оказаться в роли бычка, которого ведут на убой.
Первая машина была предназначена для меня. Здесь явно не придерживались очередности согласно степени старшинства! Затем в джипы по одному усадили Радла и П. Потом очередь дошла до доктора Лея и в самом конце — до трех генералов. В мою машину уселся американский капитан, а по бокам заняли места два конвоира, направив на мой живот свои автоматы и держа пальцы на спусковых крючках.
Колонна двигалась по центральным улицам Зальцбурга, но прохожие, видимо уже успев привыкнуть к такому зрелищу, не обращали на нее никакого внимания. Только изредка то тут, то там поднималась рука, чтобы осторожно помахать нам. Родина прощалась с нами.
Днем стало очень жарко, и время от времени колонна останавливалась, чтобы люди могли передохнуть. На одной из таких остановок мы лежали на траве возле обочины дороги, с которой машины никуда не собирались сворачивать. Так что наши предположения оказались неправильными. Я грыз кусок шоколада, который Радлу разрешили достать из его сумки, и пытался незаметно крутить запястьями под наручниками.
В свое время мне запомнился отрывок из книги Эдгара Уоллеса[298], где описывался особый трюк, к которому прибегали опытные преступники. Во время защелкивания на них наручников они слегка выкручивали свои руки, а потом легко выскальзывали из этих браслетов.
Утром, когда мне надевали наручники, я постарался держать свои руки описанным в книге образом, и теперь мне действительно удалось сдвинуть на левой руке свои оковы до костяшек пальцев. Таким образом, мною было получено доказательство того, насколько полезной может оказаться хорошая детективная литература.
После обеда мы приехали в Аугсбург, где машины остановились во дворе большого пятиэтажного офисного здания. Меня и моих друзей препроводили в небольшое фойе офиса, располагавшегося на втором этаже. Вскоре туда прибыла целая куча старших офицеров, из которых я помню только полковника Шина. О нем мною уже говорилось. Среди прочих были также два майора, имена которых в моей памяти не отложились. Да это и не имеет значения, поскольку они, скорее всего, назвали вымышленные фамилии.
После моих протестов по поводу закованных рук наручники с нас сняли, а полковник Шин дал честное слово, что такого больше не повторится и отныне с нами будут обращаться как с военнопленными. Затем в соседней комнате начался многочасовой допрос, который по очереди вели полковник Шин и еще один майор. Должен признать, что оба этих офицера к разговору со мной подготовились очень хорошо — свои вопросы они задавали по существу.
Вначале их интересовала организационная структура моих частей. Я подтвердил также фамилии своих сотрудников, которые им были известны, и надо сказать, что полковник Шин с пониманием отнесся к моему отказу назвать остальных. Затем оба офицера захотели узнать подробности организации и проведения операции «Гриф». В этом вопросе скрывать что-либо уже не имело смысла, и я мог говорить совершенно открыто.
Во время очередного перерыва меня оставили в комнате одного, и когда я выглянул в окно, то увидел подъехавший грузовик, битком набитый пленными. Среди них было и несколько женщин. К моему удивлению, там находился также один из моих офицеров-специалистов обер-лейтенант К., отвечавший во Фридентале за строительные вопросы.
«Странно», — тогда расстроенно подумал я, однако в дальнейшем в течение всего времени моего плена только радовался при виде знакомых лиц даже издали.
В конце допроса на мне опробовали новый трюк, чтобы получить ответ на все тот же вопрос.
— Нам точно известно, что вы в конце апреля 1945 года находились в Берлине. Что вы там делали? — внезапно поинтересовался полковник Шин.
На это я ответил, что покинул Берлин в конце марта и больше там не появлялся.
Тут вмешался майор:
— Однако Радл утверждает обратное!
— Тогда приведите моего начальника штаба сюда, чтобы, глядя ему в глаза, я смог сказать, что он лжет. Он неотлучно находился рядом со мной и хорошо знает, что мы были в то время в Австрии!
В комнате на короткое время повисла тишина, обмануть меня не удалось. Затем мне предложили сигарету, и полковник Шин продолжил:
— Полковник Скорцени! Нам известно, что именно вы вывезли Гитлера из Берлина. Где вы его спрятали?
Этот вопрос меня также врасплох не застал, так как ответ был уже подготовлен заранее.
— Полковник! Во-первых, Гитлер мертв. В этом нет никаких сомнений, а во-вторых, если бы я его вывез, то тогда остался бы с ним и не сдался добровольно в плен.
Полковник Шин был явно таким ответом удовлетворен, но на лице майора отчетливо читался немой вопрос: «Уж не являлась ли добровольная сдача в плен одним из его очередных трюков?»
Примерно так со мной обращались довольно часто, когда один и тот же вопрос в разных вариантах задавали и генералы, и караульные, и дотошные журналисты, и еще более любопытные женщины, и дознаватели. Таким же способом ответ на него хотели получить англичане, русские, французы, бельгийцы, голландцы и даже австрийцы. Но от меня все они слышали почти одинаковые слова. Однако абсолютное большинство этих людей мне не верили и с сомнением качали головой. Данный вопрос продолжает меня преследовать и сегодня.
Моих боевых друзей допрашивали примерно таким же образом. Затем мы вместе сидели в фойе и ели полагавшийся нам арестантский паек под дулами автоматов, что являлось своеобразным бесплатным десертом. Видимо, они считали нас весьма опасными парнями! Потом нас ожидало новое мероприятие, характерное для жизни военнопленных, — нас стали фотографировать таким же образом, как это было принято в Германии для изготовления фотоальбомов преступников.
Однако в тот день неожиданности на этом не закончились. Меня привели в новое, более просторное помещение, где для проведения очередной процедуры допроса собрались, скорее всего, все сотрудники американской контрразведки в Аугсбурге. В костюме Адама мне пришлось проделать несколько гимнастических упражнений, во время которых напоказ выставлялись самые интересные места моего тела. И хотя я считался у них известным диверсантом, секретного оружия и других запрещенных вещей на моем теле они не обнаружили. Исключение составили, пожалуй, мои благоприобретенные шрамы, которые тоже были тщательно зафиксированы и внесены в протокол. После этого мне вернули мою одежду и на автомобиле отвезли в городскую тюрьму.
Нас разместили в разных камерах. Мне же предоставили часовую прогулку, чтобы я мог ознакомиться с тюремными достопримечательностями. И только после этого у меня появилось время поразмышлять над своим вторым днем пребывания в плену. Прямо стоит сказать, что от полученного опыта я был не в восторге. Однако, поскольку вскоре мне предстояло посетить более высокую инстанцию — саму главную ставку союзников, то ко мне вернулся мой оптимизм. Ведь чем выше был уровень допросов, тем лучше являлось обхождение. Всю ночь я проспал мертвецким сном без сновидений.
На следующий день меня одного привезли в то же здание, что и накануне, и в ходе многочасового допроса была еще раз выспрошена организационная структура моих истребительных частей и отдела «D» военного ведомства. При этом мне приходилось порой вносить существенные изменения в представления американцев об их целях и задачах. Я обратил внимание, что нам придавали гораздо больший вес и значение, чем мы этого заслуживали.
Особенно моих дознавателей интересовала денежная сторона нашего обеспечения. Мне показалось, что объемы финансирования ими были преувеличены в десять тысяч раз. Полковник Шин был буквально потрясен, когда узнал от меня чистую правду, что мне платили всего пятьсот рейхсмарок. В переводе на доллары это была лишь незначительная сумма.
После обеда разговор зашел на политические темы и наряду с другими мне задали такой вопрос:
— Разве вы не слушали наше радио? Почему вы не верили тому, о чем оно вещало?
На такой вопрос я дал весьма основательный ответ, подкрепив его соответствующими доказательствами. В частности, мною было сказано:
— Я знал, что пропагандистские передачи союзников далеко не всегда сообщали истинные факты. Мне ежедневно на стол клали сводку радиопередач, которые осуществляли радиостанции всего земного шара. Когда у меня было время, то я их читал.
После этого я привел множество примеров, когда лично осуществлял проверку достоверности передававшихся ими сведений. Пожалуй, наиболее убедительно прозвучало мое заявление, сделанное в самом конце:
— Видите ли, полковник Шин, если бы я полностью доверял содержанию ваших радиопередач, то моя операция по освобождению Муссолини никогда бы не завершилась успехом. Вы ведь передали, что его в качестве пленника союзников 11 сентября 1943 года увезли на борту итальянского военного корабля в Африку. Проведенные мною элементарные расчеты показали, что данное сообщение не соответствовало действительности. 12 сентября Муссолини все еще был в Италии, а вечером того же дня уже свободным человеком улетел в Германию.
Глава 23
В главной ставке союзников в Висбадене. — Неожиданная встреча с доктором Кальтенбруннером. — Нескончаемые допросы. — Погоня за сувенирами. — В висбаденской тюрьме. — Арестантская рутина. — Полковник Фишер. — Номер заключенного 31 G 350 086. — Лагерь в Оберурзеле. — Допрос, заснятый на пленку. — Встреча с Радлом
На следующий день нас отправили в Висбаден. На этот раз наш эскорт был не столь внушительным, как накануне, — мы ехали всего на двух джипах. Однако обещание, данное полковником Шином, по-видимому, офицера сопровождения не касалось, и, несмотря на наши протесты, на нас вновь надели наручники. Во время той поездки мне довелось познакомиться с манерой быстрой езды американских водителей. Это было впечатляюще! Наш шофер оказался лучшим гонщиком, чем тот, который управлял машиной с Радлом и П. Вскоре мы ее потеряли из виду, и она так и не догнала нашу, хотя мы сделали довольно длительную остановку, во время которой я даже подогрел в консервной банке кофе на горячем моторе.
В Висбаден мы прибыли вечером и свернули на улицу Бодельшвингштрассе. После того как на меня вдоволь насмотрелись охранники и другие тюремщики, я был препровожден к новому месту своего «проживания», в котором мне предстояло провести несколько недель. Мое жилище представляло собой убогий деревянный домик, воздвигнутый возле жилого здания. Всего в ряд было расположено пять таких лачуг. Мне вновь пришлось раздеться и проделать несколько вольных упражнений, однако на этот раз форму, которую уже основательно обыскали, мне не вернули. Взамен ее я получил жесткую и не совсем по размеру арестантскую робу. Затем дверь за мной захлопнулась.
В помещении возле стен стояли две походные кровати, отделенные друг от друга откидным столиком. Я сел на одну из коек и задумался: «Что принесут с собой следующие дни?»
Тут дверь снова распахнулась, и вошел сержант, который раньше был учителем немецкого языка в средней школе, и ознакомил меня со строгими правилами поведения. В частности, при стуке в дверь я должен был вскочить, встать лицом к стене и крикнуть: «О’кей!» При неточном соблюдении этого требования меня лишили бы еды.
Затем сержант ушел, и я снова остался в одиночестве. В домике было жарко и царил полумрак, поскольку окна по вполне понятным причинам не открывались. Кровать была жесткой и неудобной, а о подушке я мог только мечтать. Но человек быстро ко всему привыкает, и мне все-таки удалось уснуть.
Ночью дверь снова распахнулась, и мне подселили другого арестованного. Он тяжело опустился на вторую кровать, но в темноте разобрать, кто это был, мне не удалось. Однако я не стал удовлетворять свое любопытство, поскольку очень хотел спать.
При пробуждении моему удивлению не было предела — напротив меня лежал шеф Главного управления имперской безопасности обергруппенфюрер СС доктор Кальтенбруннер. Не думаю, что нам хотели сделать приятное, поскольку мы были земляками. Скорее всего, нашими тюремщиками двигали совсем другие причины, о которых догадаться было не так уж и трудно. В камеру наверняка вмонтировали спрятанные микрофоны в надежде подслушать что-нибудь интересное. Мне хватило одного взгляда из окна, чтобы удостовериться в правильности своей догадки — по земле тянулся целый пучок проводов.
Когда мой сосед проснулся, то и его удивлению не было предела. На другом конце провода наверняка хорошо расслышали возгласы приветствия, которыми мы обменялись, а также слова возмущения по поводу того, как с нами обходились в последние дни. Мы не говорили о делах, составлявших государственную тайну, но своим шарканьем ногами по деревянному полу доставили массу «удовольствия» нашим соглядатаям, создавая в микрофонах сильные и неприятные помехи!
Вместе с Кальтенбруннером мы провели около пяти дней, и он рассказал, что его в весьма лояльной форме допрашивал тогда профессор истории одного британского университета. Однако я не разделял оптимизма своего земляка, который внушила ему такая манера общения. В любом случае в своих разговорах мы не касались тем, связанных с недавним прошлым. Этого в избытке хватало каждому из нас на допросах.
Мы предпочитали говорить о наших прекрасных студенческих годах и о своих общих австрийских знакомых. Кроме того, с помощью словаря нам было интересно читать газетные статьи на английском языке. При этом, к нашему изумлению, выяснилось, что многие американские слова в выданном нам оксфордском словаре не значились.
За время моего пребывания в деревянном домике меня допрашивали три человека. Первого, в звании лейтенанта, я почти не помню. Второму нравилось, когда его величали капитаном. По секрету он поделился со мной, что вынужден носить гимнастерку без знаков отличия только для маскировки. Однако позднее выяснилось, что на самом деле этот человек являлся гражданским служащим и когда-то проживал в Берлине, имея германское подданство. Мне он представился как мистер Бове, и в целом мы с ним поладили. Третьим дознавателем был англичанин в чине полковника, назвавшийся Фишером, но на самом деле фамилия у него была схожа с названием всемирно известного банкирского дома — «Р…». Сама его принадлежность к британской секретной службе обязывала его быть на уровне. Он являлся самым хорошо образованным из всех моих дознавателей.
Вскоре мистер Бове решил облегчить себе жизнь и стал ежедневно давать мне своеобразное «домашнее задание». Я должен был письменно излагать на бумаге все, что знаю по той или иной теме допроса, и на следующий день ему эти листы передавать. Если мне удавалось, по его оценке, написать достаточно много и достоверно, то получал в виде поощрения сигареты, газеты, а иногда и для прочтения книгу некогда запрещенного в Третьем рейхе писателя. В зависимости от этого мои запасы сигарет и литературы то увеличивались, то сокращались. Однако в целом объемы поощрения меня вполне устраивали, а это свидетельствовало о том, что дознаватель был мною доволен. Когда в 1948 году в Нюрнберге мы с ним снова встретились, то я не мог сказать, что он был мне неприятен.
С полковником же Р., он же Фишер, допросы проходили в более изощренной форме. Однако, по сути, ему не удавалось извлечь из меня больше сведений, чем мистеру Бовсу. Особенно злило полковника то, что мое подразделение, отвечавшее за вопросы снабжения, сосредоточило в одной из горных штолен под Зальцбургом существенные запасы взрывчатых веществ, вооружения и боеприпасов, а потом завалило вход. А ведь мы делали это совершенно открыто, и население во всей округе об этом знало. В конце войны мне казалось, что взрывчатым веществам лучше покоиться там, чем быть растасканными по сараям и погребам. Тем не менее этот факт полковник Р. вменял мне чуть ли не как военное преступление средней тяжести.
— Я не думал, что наличие у немецких солдат во время войны взрывчатых веществ является военным преступлением, — возражал я.
В ответ полковник злился еще больше, и поэтому надо признать, что «высоколобым интеллектуалам» из английских спецслужб следовало бы лучше овладевать манерами достойного поведения.
Гнев полковника Р. излился на меня в полной мере тогда, когда он съездил в Зальцбург и привез из открытой тем временем штольни различные образцы вооружения, в том числе ручную гранату с ниполитом[299] со взрывателем ударного типа. Полковник решил предъявить ее мне в качестве улики, а я, хорошо разбиравшийся в подобных вещах, начал перебрасывать гранату из одной руки в другую.
Полковник побледнел, принялся кричать и стал обвинять меня в том, что я якобы хотел взорвать его вместе с домом. Однако подобное обвинение было беспочвенным, так как я дорожил своей жизнью и не стал бы подвергать себя опасности подобным образом. Пришлось высказать полковнику свое мнение насчет его поведения. Это вконец испортило наши отношения, и он начал обвинять меня в том, что мне выделялось слишком много взрывчатых веществ.
— Полковник, в таком случае и вам не стоило снабжать таким количеством взрывчатки движения Сопротивления во Франции, Бельгии и Голландии, — в ответ возразил я. — Как вы можете сами убедиться, абсолютное большинство этих опасных штучек изготовлено из материала, извлеченного из изделий с надписью: «Сделано в Англии». Эту марку взрывчатки мы всегда оценивали высоко.
Возможно, переводчик при переводе моих слов допустил неточность или ошибку, так как тот допрос вскоре завершился.
Мне кажется, что читателю будет интересно узнать и некоторые другие подробности из жизни военнопленного, касающиеся питания, помывки и проведения допросов. Правда, о последних я уже коротко написал.
Особого внимания заслуживает, пожалуй, манера раздачи питания. Стук в дверь раздавался три раза в день. Со временем правило, о котором я уже рассказывал, несколько смягчилось, и мне уже не требовалось каждый раз вскакивать и вставать лицом к стене. После стука в дверь в камеру заходил конвойный из числа филиппинцев, служивших в американской армии, и, глядя на меня наполненными страхом глазами, чуть ли не бросал поднос с едой на порог, что каждый раз приводило к ее расплескиванию. Затем он с непостижимой быстротой скрывался за дверью. У меня сложилось впечатление, что этот филиппинец, оказавшись снаружи, каждый раз радовался тому, что остался жив. Видимо, ему внушили, что мы являемся гораздо опаснее тех диких зверей, которые водятся в джунглях у него на родине.
Для того чтобы помыться и привести себя в порядок, нас по одному приводили к специальному деревянному домику. При этом дверь оставалась открытой, а по ее бокам выстраивались два конвоира с автоматами в руках. Судя по всему, у них имелся приказ начинать подгонять нас уже с первой минуты. Окрики «Быстрее!» раздавались со все более короткими интервалами и на третьей минуте превращались в настоящее рычание, сопровождаемое угрожающими жестами. На все про все отводилось не более четырех минут.
Для использованной воды и всего остального в углу стояла параша, по наполняемости которой, несмотря на строгую изоляцию арестованных, можно было судить об их числе. На стуле красовался таз, какими пользовались в солидных бюргерских домах в середине прошлого столетия. По влажности полотенца также легко определялось количество предыдущих пользователей. Имелось и мыло красного цвета. Нам с гордостью давали понять, что его поставляли из России — великого союзника и большого друга американцев. Брил нас один-два раза в неделю американец итальянского происхождения, который очень напоминал персонаж из пьесы Бомарше Фигаро[300]. Со временем я даже привык к его манере забывать привинчивать нижнюю часть к лезвию опасной бритвы.
Было бы неправильным не сказать о том, что мистер Бове исполнил две мои просьбы. Во-первых, через несколько дней мне вернули мою униформу и нательное белье. Правда, подкладка на форменной гимнастерке оказалась оторванной и висела на нескольких нитках, но я был рад и этому. Удручало только отсутствие сменного белья, которое находилось в багаже у Радла и пропало вместе с моими туалетными принадлежностями.
— Вы должны понять, что люди хотят иметь о вас на память сувениры, — утешил меня мистер Бове и подарил свой носовой платок.
Во-вторых, примерно через две недели мне разрешили ежевечерние десятиминутные прогулки в саду возле маленькой ротонды, вокруг которой выставлялось до десяти часовых. Иногда такие желанные прогулки не проводились — видимо, в те вечера людей для охраны не хватало.
На другие же мои просьбы, которые обычно излагают заключенные, мистер Бове неизменно отвечал:
— Извините, это против правил, но я посмотрю, что можно для вас сделать.
Под роспись мне выдали перечень изъятых у меня орденов и ценных предметов. К сожалению, он оказался далеко не полным. Тогда на отдельном листе мне разрешили составить список недостающих вещей и пообещали провести соответствующее расследование. Однако я понимал, что оно, скорее всего, закончится ничем, так как с момента моего ареста прошло слишком много времени и сменилось немало мест моего содержания под стражей. Уже позднее в Нюрнберге, где мне выдали копию перечня изъятого у меня имущества, выяснилось, что его остатки похитил некто, представившийся моим боевым товарищем. Тогда на моем богатстве был поставлен окончательный крест.
12 июня, в мой день рождения, было особенно жарко, и вечером сержант на целых полчаса открыл дверь и лично стоял на посту. Несмотря на строгий запрет, мне удалось перекинуться с ним парой слов и выяснить, что он был родом из Венгрии. Услышав о том, что я из Вены, сержант бросил к моим ногам блок сигарет «Кэмел». Этот момент я никогда не забуду!
Дни становились все жарче, а пребывание в деревянном домишке — все неприятнее. Жаль, что день рождения отмечают не каждый день, а то бы дверь для проветривания помещения открывали бы каждый вечер. Между тем в допросах целую неделю наблюдался перерыв, и мне уже начало казаться, что они закончились. Однако 21 июня (дата мною приведена точно, так как я вел на клочке бумаги своеобразный календарь и умудрился сохранить его, несмотря на все обыски) сержант вновь позвал меня на допрос. На мое желание одеться он дал дельный совет оставаться в том виде, в каком я был, и обратить внимание вышестоящего начальства на невыносимую жару в своей камере. Меня нельзя отнести к людям, которым хорошие рекомендации надо повторять дважды.
Наверное, мое одеяние со стороны казалось весьма смешным, хотя и красноречивым. Оно состояло из деревянных сандалий на босу ногу и насквозь пропитанной потом пижамы с бесчисленным количеством дырок. В общем, когда меня привели в большой зал особняка, мне было очень стыдно. Я оказался перед тремя генералами, а также многими старшими офицерами армии США и выдавил из себя несколько извиняющихся слов. Мой намек был понят, и, видимо, они извинили меня, поскольку предложили выпить виски. Будучи человеком воспитанным и любителем этого напитка, отказаться я не смог.
Офицеров интересовали чисто военные вопросы, связанные с Арденнской наступательной операцией. Причем в ходе этого допроса новые моменты прояснили для себя не только дознаватели, но и я. Мне, в частности, окончательно стало понятно, насколько неожиданным для бывшего противника явилось наше наступление и как близки мы были от поставленной перед нами цели — выйти к Маасу. Американцы признавали высокую боеспособность немецких частей и прямо говорили о том, что к моменту начала Арденнской наступательной операции у них было о нас совсем другое мнение.
Допрашивавшие меня офицеры также подтвердили, что распускавшиеся нами слухи явились новым видом ведения войны, неожиданно показавшим высокую эффективность. В конце допроса меня вновь спросили, планировалось ли осуществить нападение на главную ставку союзников, на что я опять ответил отрицательно.
Тогда мне впервые показалось, что мои ответы вызывают доверие, и у меня возникло ощущение разговора с серьезными людьми. В дальнейшем при ведении бесед с представителями данной группы дознавателей я часто чувствовал уважение их, как победителей, по отношению к нам, как к побежденным.
После того допроса мне показалось, что офицеры постарались мне помочь, поскольку меня определили в более прохладную камеру. Однако, как это часто бывает, добрая воля отдельных людей натолкнулась на противодействие системы — на следующий день меня перевели в городскую тюрьму Висбадена, где вскоре оказались и оба моих боевых друга.
Там я начал привыкать к пребыванию в одиночной камере. Для тех, кто такого не испытал, хочу сказать, что первым делом следует перестать обращать внимание на прутья решетки и отсутствие хоть какого-то вида из окна. Однако дается это совсем нелегко. Поэтому тюремное начальство должно меня простить — уже в первую ночь я постарался обеспечить себе лучший обзор.
Во время авианалетов здание тюрьмы тоже пострадало, и часть его почти не использовалась. Однако, как назло, именно в моей камере вмонтированная перегородка из армированного стекла перед решеткой осталась целой и полностью закрывала вид из окна. Сразу же после заселения в это жилище я тщательно обследовал его и обнаружил обломок ручки от ложки, как нельзя лучше подходивший для удаления замазки, которой была заделана стеклянная перегородка. Всю ночь я трудился не покладая рук, и к утру два куска армированного стекла были удалены. Мои усилия себя оправдали, и мне открылся небольшой обзор на оба тюремных двора.
Еще раньше мы условились с Карлом Радлом об особом свисте, служившем нам опознавательным сигналом. Уже с первой попытки я услышал ответ, и, как впоследствии признался Радл, отсутствие в моем свисте всякого намека на музыкальный слух позволило ему сразу определить, что он исходил именно от меня.
По звуку я понял, что Радла поместили ниже на втором этаже и слева от меня. А вот фенриха П., как выяснилось позднее, перевели в специальный лагерь. Вскоре нам удалось установить с ним связь и передать, что мы живы, здоровы и не теряем мужества. А это тогда было главным.
В нашем положении нам с трудом удавалось подавить в себе чувство зависти по отношению к тем товарищам по оружию, которые содержались в лучших условиях. Во дворе я разглядел шесть или восемь, не помню точно, таких же деревянных лачуг, как и та, в которой меня держали прежде. Только здесь в течение дня заключенные могли передвигаться по внутренней территории свободно. Их запирали только вечером, а между домиками различался даже небольшой лужок.
Со временем я узнал, кто был моими товарищами по несчастью. Кроме двух высоких эсэсовских чинов среди них были три посланника министерства иностранных дел, несколько офицеров Генерального штаба, один фельдфебель и двое гражданских — венгр и какой-то индус.
В конце концов мне даже стало доставлять удовольствие наблюдать за игрой в бридж на лужайке или за вольными упражнениями какого-нибудь спортсмена на травке. Я был рад возможности видеть все происходящее и думаю, что некоторые другие заключенные могли такому моему одиночеству позавидовать.
Мне было разрешено два раза в день совершать короткие прогулки во втором, отдельном и довольно большом, тюремном дворе. Караульные здесь оказались более дружелюбными, и часто мои пятнадцатиминутные прогулки на свежем воздухе превышали предписанный лимит времени. Однако совершал я их всегда в одиночестве.
Во дворе, как напоминание о прошедшей войне, имелся также противопожарный пруд, вырытый на случай бомбежки. К сожалению, из гигиенических соображений мне было запрещено им пользоваться. Во время этих прогулок я наблюдал за окнами, и мне удалось увидеть нескольких офицеров моих истребительных частей СС. Постепенно я познакомился и со всем тюремным персоналом.
Некоторые порядки, которые были заведены в висбаденской тюрьме, тоже заслуживают более подробного описания. Тюремные постройки оказались очень старыми, и гигиенические сооружения не составляли исключения. Но и в этом вопросе мне в какой-то степени повезло. Со временем я хорошо познакомился с отдельными охранниками, которые по меньшей мере один раз в день запирали меня в маленьком помещении с табличкой на двери «Только для американцев».
На весь коридор с тридцатью камерами и пятьюдесятью заключенными в них имелась всего одна раковина. Судя по следам, в ней мылась вся посуда из-под еды и другие емкости из камер. Как выглядело это помещение, когда случался засор, не поддается никакому описанию. Умывание же в самих камерах осуществлялось над маленькими и насквозь проржавевшими горшками для стирки, взятыми не иначе как в средневековых монашеских кельях.
Однако в конце концов человек привыкает ко всему, и я, как и мои предшественники, начал вести свой календарь проведенных в камере дней, отмечая на стене целые недели. Судя по отдельным следам, кое-кому из прежних сидельцев довелось пробыть в заключении более двадцати лет.
В камере этажом ниже находился бывший обер-лейтенант люфтваффе. Как мне стало известно, его поместили сюда за то, что в свое время он являлся офицером национал-социалистического руководства, отвечавшим за вопросы политического воспитания личного состава. Мир тесен, и мы в процессе общения «из окна в окно» нашли общих знакомых — от него я узнал новости, касавшиеся ряда моих студенческих друзей. По непонятным причинам бедолагу лишили табачного довольствия, и я, естественно, пришел ему на помощь, расширив дыру в окошке и аккуратно сбрасывая ему свои подарки. Пачки сигарет точно приземлялись на узкий выступ в стене возле его окна.
В этой тюрьме меня допрашивали также два французских офицера, от которых я узнал, что один из офицеров моей истребительной части «Юго-Запад» попал в плен к французам и отказывался давать какие-либо показания.
— Надеюсь, вы не рассчитываете на то, что я отдам ему соответствующий приказ? — съязвил я.
В ответ, будучи воспитанными людьми, они заметили, что рассказали мне об этом для того, чтобы похвалить его за стойкость. От них мне также стало известно, что один из наших людей, некий Н., оказался двойным агентом и получал денежное вознаграждение от обеих сторон. Следует заметить, что мы подозревали о ведении им двойной игры еще во время войны, но для окончательных выводов у нас не хватало доказательств. В целом атмосфера проводимых французами допросов была дружелюбной и позволяла надеяться на то, что в будущем народы Франции и Германии будут жить как добрые соседи.
Мистер Бове также не забывал про меня и иногда навещал, задавая все те же вопросы. Как бы то ни было, за те недели, в которые я выступал в роли подследственного, мне удалось сделать немало интересных наблюдений относительно моих следователей и применявшихся ими методов ведения допроса. Однако в течение последовавших трех лет я вынужден был прийти и к другому выводу — заключенный никогда не освоит в полной мере используемые ими приемы.
Несколько с другой стороны показал себя полковник Р., он же Фишер. Как уже говорилось ранее, наши отношения с ним не сложились. Он появился вновь где-то в середине июля и потребовал, чтобы я поставил свою подпись под протоколом, содержавшим всего три вопроса, на которые мне надлежало ответить либо «да», либо «нет».
Я точно знал, какие ответы ожидает получить от меня полковник, но ответить так, как ему хотелось, не мог, поскольку это противоречило бы действительности. Тогда Р. дал мне еще один час на размышление, отправив обратно в камеру и как бы в невзначай заметив, что в Англии применяются совершенно иные методы допроса и он еще сегодня может устроить так, чтобы меня на самолете отправили в Великобританию тем же вечером.
В камере я быстро написал ответы на том весьма сомнительном в правовом отношении документе. Мне было хорошо известно, как часто мои боевые товарищи проявляли слабину в подобных и еще более сложных ситуациях, поскольку в течение всего времени моего заключения сотни раз об этом слышал. Я их не осуждаю, так как по себе знаю, насколько тяжелые внутренние усилия приходится предпринимать, чтобы оставаться сильным.
Через час документ забрали, и я стал ожидать своей отправки в Англию, нервно выкуривая одну сигарету за другой. Связано это было не только с тем, что я нервничал, но и с необходимостью израсходовать все свои запасы, поскольку у нас, военнопленных, имелось проверенное жизнью правило — не брать с собой ничего лишнего при переводе в другое место, ведь там все равно отберут.
Трудно передать словами мое изумление, когда дверь распахнулась и в камеру вошло несколько сержантов американской армии. Напрасно я ожидал уже хорошо известную команду «Пошли!». Вместо этого они принялись похлопывать меня по плечу и вручили целый блок сигарет. Насколько мне удалось понять, оказалось, что полковник Р. назвал меня «отличным парнем».
Следует также подчеркнуть, что за время пребывания в висбаденской тюрьме мне пришлось еще раз подписать акт наличия у меня остатков ценных вещей. И снова я вынужден был составить опись недостающих предметов, которая становилась все длиннее и длиннее. Там же мне присвоили персональный номер заключенного, следовавший за мной в последовавшие годы, — 31 G 350 086. Его я помню до сих пор.
30 июля 1945 года большую часть военнопленных, содержавшихся в висбаденской тюрьме, стали переводить в другое место. Этот перевод осуществлялся по очень сложному плану. Пленных разделяли на специальные группы и заводили в особое помещение, а после ожидания, длившегося по нескольку часов, распределяли по поджидавшим их автомобилям.
Одному пожилому незнакомому генералу во время ожидания мне удалось незаметно передать несколько сигарет. Такой счастливой физиономии я еще никогда не видел, ведь люди преклонного возраста переживают смену привычек гораздо тяжелее молодых.
Уже на улице перед посадкой в машину я свистнул условленным с Радлом образом и, услышав ответ, понял, что и его тоже переводят.
Нас повезли в близлежащий бывший летный пересыльный лагерь возле города Оберурзель, где в деревянных бараках были оборудованы тюремные камеры. Они оказались меньшего размера, чем в висбаденской тюрьме, но зато гораздо чище. На двери моей камеры красовалась табличка с цифрами 94, а на белой картонке вместо фамилии виднелась красная черта. Я заметил, что имелись также и синие, и зеленые, и даже двойные красные черточки. Мне так и не удалось до конца разгадать, что они означали, однако позднее на основании различных признаков мною был сделан определенный вывод — красные черточки служили предупреждением и, скорее всего, могли читаться так: «Осторожно! Опасный заключенный!»
Приятным сюрпризом оказались прекрасно оборудованные душевые. Однако и здесь уже ставшие почти родными окрики «Быстрее!» не давали в полной мере насладиться приятным ощущением, возникавшим от падающих водяных струй.
Несколько новыми для меня оказались звуковые сигналы, которые нужно было подавать изнутри камеры при необходимости выйти в туалет. Иногда звучал ответный сигнал, означавший, что необходимо сжать зубы и ждать. При повторной попытке подать сигнал дерзость наказывалась ожиданием как минимум до вечера. Лично с меня хватило одного такого эксперимента.
Своеобразной являлась и процедура открытия окон. Делать это приходилось, положившись на свои столярные умения. Однако следовало проявлять немалое проворство, чтобы успеть закрыть окно при неожиданном открытии двери. Но это стоило того — мои товарищи по несчастью могут подтвердить, какую радость мы испытывали от свежего воздуха и при взгляде на вечерний Таунус[301]. Этот вид не могла испортить даже колючая проволока, которой в два ряда был обнесен высокий забор, располагавшийся всего в нескольких шагах от стен барака.
Из новостей, шепотом передававшихся вечерами от окна к окну, я узнал, что в лагере находилась и Ханна Райч. И хотя мне было непонятно, за какие такие преступления могли поместить сюда эту отважную летчицу, все равно радовало, что она по крайней мере жива.
Тот факт, что разозлившийся на меня непонятно за что сержант-надзиратель перед отходом ко сну трижды вытаскивал из моей камеры соломенный матрац, я расценил как знак, сулящий перемены. Матрац мне возвращали только на следующий день, и то после жалобы другому сержанту. К сожалению, деревянные нары с поперечными досками являлись слишком короткими и не позволяли разложить его от начала до конца. Это было несколько неприятно.
Кормили нас один раз в день, давая миску с неким подобием овощного айнтопфа и чашку кофе. Жаль только, что полагавшийся кусок хлеба обычно плавал в миске. Однако все это я воспринимал с юмором, который всегда оставался со мной в любых ситуациях.
2 августа 1945 года случилось нечто неординарное — два шустрых «гвардейца» привели меня в комнату для допросов, где по углам были кинокамеры с микрофонами, а за столом сидел капитан с переводчиком. Затем начались съемки настоящего игрового фильма с той лишь разницей, что кинозвезде не полагалось никакого гонорара. Присутствовала даже хлопушка-нумератор. Прошло не менее полутора часов, а съемки все продолжались — то вопросы задавались невпопад, то переводчик допускал ошибку. Тогда я предложил обсудить режиссуру и порядок поступления вопросов, касавшихся наступления под Арденнами и операции по освобождению Муссолини. После этого все пошло как по маслу, однако смысл киносъемки моего допроса мне так и остался непонятен. О том, что допросы других заключенных снимались на кинопленку, я ничего не слышал.
На следующий день меня стал допрашивать подполковник армии США Бертон Эллис. Темой допроса являлась Арденнская наступательная операция, получившая у американцев название Битва за Выступ, а главный вопрос, вокруг которого крутилось дознание, звучал так: «Отдавало ли командование 6-й танковой армии СС приказ о расстреле американских военнопленных?»
На этот вопрос у меня был один ответ, заключавшийся в том, что сам я такой приказ в глаза не видел и в существование его не верю. Мною неоднократно подчеркивалось, что отдача подобного приказа частям германских войск, как и его исполнение немецкими солдатами, полностью исключалась. Если бы такое произошло, то об этом все бы знали. Я сослался также на циркуляр командования 6-й танковой армии СС, разосланный во все немецкие части и в котором содержался точно такой же вопрос, заданный на основании подобного утверждения неприятельского радио Кале. На мой взгляд, этот циркуляр тоже подтверждал отсутствие какого-либо злого умысла со стороны немецкого командования.
Допрос проводился в течение четырех часов и на столь повышенных тонах, каких я еще не слышал.
В течение последовавших недель было проведено еще пять допросов, крутившихся вокруг Арденнской наступательной операции, которые, однако, носили чисто деловой характер и проводились более дружелюбно. От дознавателей я узнал много нового о сильном воздействии распускавшихся нами слухов. Их жертвами оказались даже два американских офицера, которые очутились за решеткой за их мнимую принадлежность к 150-й танковой бригаде.
11 августа оказалось особо радостным днем. В то утро дверь внезапно распахнулась, и я увидел на пороге своего друга Карла Радла, которого втолкнули в мою камеру. Он тоже опешил от удивления. Мы оба, не сговариваясь, уже несколько недель подряд просили мистера Бовса разместить нас вместе, поскольку наши допросы якобы были окончены. И вот нам удалось добиться своего!
Естественно, нам было что рассказать друг другу, и время, которое в одиночестве тянется так медленно, потекло гораздо быстрее. Теперь мы вместе совершали наши ежедневные прогулки, вместе мылись в темпе скорого поезда и вместе смеялись над всем тем, что поодиночке нас так сильно раздражало.
Между тем нас перевели в крыло А в камеру номер 5А, а из окна, когда оно было открыто, стал просматриваться плац, на котором нам разрешалось совершать пешие прогулки. По этим прогулкам, позволявшимся только избранным, мы поняли, что наши «акции» заметно подросли. Вот только было неясно, в каком именно смысле.
Произошли и другие изменения, принесшие разнообразие в нашу скучную жизнь. Как-то раз по нашу душу прибыли особо высокие гости, и сержант проинструктировал нас, чтобы мы по условленному стуку встали в камере спиной к двери с поднятыми руками. В этой связи мне показалось, что через три месяца после капитуляции команда «Руки вверх!» сильно запоздала. Но делать было нечего, и нам пришлось подчиниться.
10 сентября наше совместное пребывание в камере неожиданно закончилось. Караульный рывком открыл дверь и, ткнув пальцем в мою сторону, крикнул:
— Шевелись! Даю пять минут на сборы!
Паковать мне было нечего — за все время мне удалось разжиться всего лишь второй рубашкой. Так что все оставшееся время ушло на прощание. Снаружи на меня вновь надели наручники, усадили в машину и отвезли на аэродром. Только там, увидев других пассажиров самолета, я понял, куда мы направлялись — в Нюрнберг!
Глава 24
Полет в Нюрнберг. — Геринг в камере напротив. — Борьба с депрессией. — Рудольф Гесс[302]. — Отец Сикстус. — В «свободном крыле для свидетелей». — Идолы, свергнутые с пьедестала. — Меры безопасности. — Кто угрожал Нюрнбергу? — В Дахау. — «Охраняется как кобра». — Снова в Нюрнберг. — Лагерь Регенсбург. — Поездка по немецкой территории. — Опять в Регенсбург
В двухмоторном самолете было много знакомых лиц. Среди них находились: гроссадмирал Дёниц, генерал-полковник Гудериан, оберстгруппенфюрер Зепп Дитрих, министр Зельдте[303], которого я видел только на фотографиях, Бальдур фон Ширах, доктор Кальтенбруннер и другие. Стояла чудесная летная погода, но полностью отдаться приятным ощущениям от полета я не смог — не давала неопределенность будущего. Лица других пассажиров тоже были серьезными.
С нюрнбергского аэродрома нас на машинах Красного Креста доставили во Дворец правосудия, а перед этим сопровождавший нас американский капитан снял с меня наручники — видимо, ему самому такая мера предосторожности показалась нелепой. Тогда никто и не думал, что не всем, кто переступал порог этого здания, было суждено вернуться обратно. В одном из помещений дворца нас встретил комендант тюрьмы полковник Андрус.
Из всех прибывших погоны на униформе были только у гроссадмирала Дёница и у меня. Однако, после того как нам разъяснили, что в этом месте все прибывшие являются простыми заключенными, мы со смирением позволили снять с нас данные атрибуты былой принадлежности к германскому вермахту.
Меня поместили в камеру номер 31 на нижнем этаже. Через открытую откидную крышку тюремной двери я с любопытством принялся изучать свое новое окружение. Взгляд упал на дверь камеры, располагавшейся прямо напротив моей, в проеме которой стоял Герман Геринг. Видимо довольный своим размещением, он кивнул мне. Надо признать, что в тюрьме Дворца правосудия все было организовано наилучшим образом, и в первые дни мне такие перемены даже нравились.
Через два дня меня перевели в камеру номер 97 на втором этаже, которая хорошо проветривалась и откуда можно было видеть небо и верхушки деревьев. Иногда сюда долетали даже звуки музыки с далекой ярмарочной площади.
«От сильного ветра ночью начался шторм…» — играла старинная шарманка.
То, что мне довелось в те месяцы пережить, о чем я думал и что чувствовал — всего этого с лихвой хватило бы для написания отдельной книги. Это было суровое время, когда на многие мучительные вопросы ответ мне приходилось искать самому. Но тем оно и дороже — сегодня я не представляю, что бы случилось, если бы это время у меня изъяли. Ведь в те месяцы мною были сделаны очень важные выводы, которыми я руководствовался в своей будущей жизни.
Я и сегодня не могу сказать, что именно явилось причиной невиданного ранее духовного самобичевания, которое началось у меня в первые недели пребывания в Нюрнберге. Мне все представлялось в черном цвете — и мое будущее, и мое прошлое. Возможно, сказывалась атмосфера самого процесса, а может быть, причиной явилось разочарование в тех людях, которых ранее я ценил очень высоко.
Не исключено также, что глубокую депрессию во мне вызвали оторванность от внешнего мира, отсутствие вестей о моей семье, а также сам факт неслыханного ранее падения моей родины. Я чувствовал только, что сам должен справиться с охватившим меня унынием. В этом вопросе никто не мог помочь, даже самый лучший боевой товарищ и друг. Постепенно мне удалось взять себя в руки и вновь стать хозяином своей жизни — мужество и присущий мне жизненный оптимизм снова вернулись.
Иногда во время прогулок по тюремному двору я видел Рудольфа Гесса. Его рука была постоянно прикована наручниками к руке конвойного, а сам он, отрешенно устремив взор куда-то вдаль, мерил тюремный двор быстрыми шагами. Однако Гесс не производил впечатления умалишенного человека. Мне показалось, что вся его манера поведения являлась не чем иным, как застывшей маской, которую он надел на себя по собственной воле. Позднее мне довелось разговаривать со многими людьми, знавшими Рудольфа Гесса в прошлом. И каждый раз возникал вопрос: а не мог ли он все-таки полететь в Англию по заданию Гитлера, который обязал его хранить молчание?
Некоторые допросы, проведенные представителями стороны обвинения, видимо, показали, что моих знаний недостаточно для использования в ходе готовящегося процесса. На протяжении нескольких недель я был лишен того разнообразия, которое привносит с собой в жизнь заключенного вызов к дознавателю. Про меня как будто забыли. Однако, когда 20 октября 1945 года от полковника Андруса в мою камеру и камеры ряда других узников проникла весть о том, что нас не рассматривают в качестве военных преступников, а держат как свидетелей, которые могут понадобиться еще какое-то время, я счел это вполне справедливым.
Ни самоубийство доктора Лея, а затем и доктора Конти[304]не привели к каким-либо серьезным изменениям в настроении заключенных. Тогда для узников приготовили весьма неприятное новшество — по ночам камеры стали освещать ярким светом от лампы через откидную крышку тюремной двери. При этом прятать лицо под одеялом запрещалось. Во время сна оно всегда должно было быть видно караульному, находившемуся в коридоре.
Как-то раз ночью меня несколько раз будил один такой особо добросовестный караульный, который затем привел в мою камеру дежурного офицера. Мне удалось убедить его, что у меня не было намерения прятать свою голову. Все дело заключалось в моем высоком росте, из-за которого мне приходилось использовать для сна каждый сантиметр нар. Караульный отстал только тогда, когда я подтвердил свои слова непосредственным показом. После этого мне разрешили спать дальше.
Однажды меня привели в особенно большое помещение для допросов, в котором находилось довольно много пожилых людей в форме, в том числе и генерал армии США. Меня вновь заставили во всех подробностях повторить весь ход подготовки и проведения операции в Италии. Под конец генерал задал ряд уточняющих вопросов, выдававших в нем профессионала. Позже мне стало известно, что это был сам генерал-майор Уильям Донован, который во время войны являлся начальником Управления стратегических служб и ведал в американской армии теми же вопросами, какими мне приходилось заниматься в немецкой. В скором времени ему предстояло принять участие в работе Нюрнбергского военного трибунала в качестве помощника судьи от США.
Любой бывший узник нюрнбергской тюрьмы непременно вспомнит об одном человеке, которого тогда знал каждый. Я имею в виду католического тюремного священника капитана отца Сикстуса О’Коннора. Уже сама фамилия говорила о его ирландском происхождении. Об этом же свидетельствовал и его темперамент. Он регулярно через равные промежутки времени посещал в камерах тех заключенных, которые этого хотели, и никогда без пожелания не заводил разговор на религиозные темы. Одна только манера человеческого участия в судьбе узников превращала их в его друзей. Только с ним можно было поговорить на темы, не касавшиеся прошлого и самого процесса судебного разбирательства. В результате ему удавалось разомкнуть тесный круг мрачных мыслей, в плену которых незаметно для себя оказывался каждый заключенный. Если у кого-то под воздействием страха внезапно просыпались религиозные чувства, то отец Сикстус, как мне кажется, сразу же различал искренность таких проявлений. А если они исходили из конъюнктурных соображений, то он их не принимал. Отец Сикстус не являлся ловцом душ для своей церкви.
Описывая события в Нюрнберге, нельзя не сказать о персонале тюрьмы из числа немцев. Это были немецкие солдаты, попавшие в плен, а затем отпущенные на свободу и добровольно пожелавшие остаться в качестве гражданских служащих. За редким исключением, их поведение в отношении всех заключенных отличалось корректностью и дружелюбием. Среди них оказались и два моих земляка. Они относились ко мне особенно хорошо, что действительно было очень трогательно. Их небольшие, естественно запрещенные, знаки внимания, выражавшиеся то в передаче кусочка пирожного или чашечки крепкого кофе, то в брошенной невзначай шутке, помогли мне пережить немало тяжелых часов. Один из них прежде был рабочим в Вене, а другой — мелким крестьянином в Нижней Австрии, и я должен честно признаться, что меня буквально распирало от гордости, когда они в разговоре между собой называли меня «наш Скорцени». У меня возникало тогда такое чувство, будто меня уже после войны наградили высоким орденом.
21 ноября меня неожиданно перевели в так называвшееся «свободное крыло для свидетелей». Правда, до того я написал два соответствовавших прошения. Возможность вновь оказаться среди людей и целыми днями вести разговоры с ними явилась для меня большим облегчением. Удивительным оказалось лишь то, что среди шестидесяти, а то и восьмидесяти обитателей крыла для свидетелей лишь единицы могли служить примером и эталоном поведения для меня и еще пары таких же относительно молодых сидельцев.
Нам, настоящим фронтовикам, а также людям рассудительным, уже давно стало ясно, что многие наши так называемые «вожди» никоим образом не являлись полубогами. Во многих случаях они вообще не заслуживали того, чтобы их так называли.
Эти «вожди» были обыкновенными людьми со своими ошибками и слабостями. Но мы все же ожидали, что после крушения Германии они по крайней мере сохранят выдержку и станут защищать все то, что годами прославляли, не терпя никаких возражений. Меня буквально потрясло, что именно здесь, в Нюрнберге, оказалось немало бывших «вождей» высокого ранга, которые повели себя как жалкие слабаки.
Приведу лишь один пример, поскольку в этой книге я не хочу перебирать грязное белье. Речь идет о бывшем рейхс — лейтере Аманне[305], который не постеснялся на полном серьезе заявить, что Адольф Гитлер буквально заставил его построить себе на озере Тегернзее имение стоимостью полтора миллиона рейсмарок. Ему якобы такая роскошь была не по душе. Для полноты следует добавить, что он являлся постоянным распространителем самых нелепых слухов о ближайшем окружении Гитлера. Лично я сам был свидетелем, когда отец Сикстус сказал по этому поводу, что ему такие рассказы совсем не интересны, а Аманна Бог простит.
Раз в неделю нас отводили в подвальные помещения, где были оборудованы душевые. Уже в первый раз по пути туда мне бросилась в глаза кипа простыней, и я подумал: «Неужели нас решили побаловать постельным бельем?»
Три недели при взгляде на это богатство меня мучил данный вопрос, и в конце концов я не выдержал, схватив из стопки при возвращении в камеру три простыни. Две из них в тот же вечер были мною подарены — одной удостоился болевший и не встававший с постели уже несколько дней фельдмаршал Бломберг[306], а другой — мой земляк, бывший министр генерал Глейзе фон Хорстенау[307]. На следующее утро оба они заверили меня, что никогда еще им не доводилось так хорошо выспаться. Я был рад этому, а добытая простыня сопровождала меня в течение всех трех лет моей неволи.
Прошли Рождество и Новый год, а в феврале 1946 года нам сделали еще одно послабление, разрешив почтовую переписку с родными и близкими. Теперь, по крайней мере, мы знали, живы они или нет и где находятся. Иногда некоторые из нас получали и печальные известия о том, что адресат умер или пропал без вести.
Как-то раз мы заметили непонятные и проводившиеся в спешном порядке военные приготовления — при въезде в тюремный двор из деревянных кольев сооружались противотанковые заграждения, а по углам из мешков с песком — пулеметные гнезда. Даже в переходах внутри здания площадки для часовых укреплялись бронеплитами, а численность охраны во много раз возросла.
Мы с огромным удивлением взирали на все это и не могли найти объяснения происходившему. Так продолжалось до тех пор, пока в камеру не вошел улыбающийся отец Сикстус. То, что рассказал святой отец, даже мне показалось невероятным. Дело заключалось в том, что в офицерской кают-компании он познакомился с одним генералом, имевшим хорошие контакты с руководством, осуществлявшим данные меры по усилению безопасности.
Генерал разъяснил окружившим его офицерам причины столь неожиданных приготовлений. Якобы недалеко от Нюрнберга стали собираться немецкие вооруженные подразделения с тем, чтобы атаковать Дворец правосудия и освободить содержавшихся в нем заключенных. И хотя такое уже само по себе относилось к области фантастики, отец Сикстус огорошил нас еще больше — утверждалось, что во главе этого войска стоял не кто иной, как сам подполковник Скорцени, прославившийся мастерски проведенной операцией по освобождению Муссолини!
Отец Сикстус, естественно, заметил генералу, что упомянутый им человек уже с сентября прошлого года находится здесь же, в нюрнбергской тюрьме. Ответ генерала удивил даже священника. Он заявил, что ручается за достоверность имеющихся у него сведений и сидящий в камере Скорцени не настоящий. То, что я не являюсь двойником, было выяснено только после обстоятельного допроса, когда мне задали целый ряд уточняющих вопросов. Тем не менее предпринятые меры повышенной безопасности оставались в силе еще несколько недель.
Мне так и не удалось до конца выяснить, откуда пошли столь фантастические слухи. Некоторую зацепку я нашел через несколько месяцев, когда в лагере возле города Регенсбург в Баварии встретил своего бывшего офицера связи М. Он рассказал мне, что после окончания войны ему удалось, минуя лагерь для военнопленных, пробраться к семье в Нюрнберг и спокойно проживать там до тех пор, пока до него не дошли вести о том, что я нахожусь во Дворце правосудия. Тогда вместе с несколькими другими бывшими солдатами М. решил прийти мне на помощь.
Они разработали весьма благородный, но в целом неосуществимый план моего освобождения. Из-за болтливости одного из посвященных замысел был раскрыт и всех заговорщиков арестовали. После серии допросов всех их отправили в лагерь для военнопленных. Я так и не смог до конца прояснить, был ли этот план по моему освобождению связан с мероприятиями по укреплению безопасности Дворца правосудия или нет. Но в любом случае такую возможность исключать нельзя.
В начале мая 1946 года мое пребывание в Нюрнберге внезапно окончилось и мне приказали срочно собираться. Между тем мой багаж несколько увеличился — поскольку наша форма совсем поизносилась и превратилась в лохмотья, нам выдали бывшие в употреблении предметы одежды и умывальные принадлежности армии США. Однако все мое имущество помещалось всего лишь в две небольшие картонные коробки. Меня усадили в русскую машину, представлявшую собой настоящую клетку для диких зверей, и повезли в южном направлении.
Ночью мы прибыли в Дахау и прямиком направились в тюрьму. Я снова оказался в одиночной камере и мучился вопросом: «За что?»
Ответ через несколько дней мне дал новый дознаватель, некий мистер Гарри Т. Допрос вновь вертелся вокруг Арденнской наступательной операции. Его интересовало, какие приказы армии мне были известны, с какими словами к нам обращался командир корпуса и многое другое. Я отвечал исходя из того, что помнил. Однако, судя по всему, мои ответы его не устраивали.
В последовавшие дни он стал более настойчивым, намекнув при этом, что военный трибунал в Дахау ничего против меня не имеет. Одновременно мистер Гарри Т. подчеркнул, что подследственному всегда выгодно оказывать помощь следствию в поисках правды. На это я ответил, что установление правды находится и в моих интересах и именно поэтому мои показания всегда правдивы. Вопреки ожиданиям следователя мне не раз приходилось подчеркивать, что ни о каких устных и письменных приказах о расстрелах пленных я ничего не знаю.
Как-то раз этот мистер продемонстрировал мне показания одного майора 1-й танковой дивизии СС, которые якобы касались меня лично и содержали серьезные обвинения. Затем дознаватель намекнул, что может отдать данный документ мне и не станет возражать, если я его уничтожу. Взамен мне было предложено оказать следствию помощь.
Я же ответил, что в таких важных делах, как дача показаний в суде, не желаю заключать какие-либо сделки. К тому же показания какого-то неизвестного майора меня совсем не интересовали.
На мое несчастье, именно в те дни у меня вновь воспалился желчный пузырь, а тюремному врачу из числа немцев на протяжении нескольких дней не удавалось добиться моего перевода в лагерный лазарет. Когда же я все-таки оказался в госпитале, то ни о каком отдыхе не было и речи.
Меня поместили в отдельную палату, а возле моей кровати днем и ночью безотлучно дежурил один из американских солдат. Все американцы по отдельности были отличными ребятами, но, видимо, совсем не знали, что больному по ночам полагается спать. То, заступая на ночное дежурство, они приносили радиоприемник, поскольку нести службу под музыку гораздо веселее, то организовывали рядом с моей кроватью партию в покер, которая, естественно, быстро не заканчивалась. А у одного караульного приключилось давно напрашивавшееся злоключение с оружием — внезапно раздался выстрел в потолок. Хорошо еще, что его автомат не был поставлен в режим автоматического огня. Так же «весело» проводили ночи и больные в соседних палатах.
Однажды караульный принес с собой экземпляр газеты «Старз энд страйпс» и с гордостью показал мне статью с моей фотографией под заголовком: «Охраняется как кобра». В статье, насколько я понял, говорилось, что мне пять раз удавалось бежать из плена и поэтому ко мне приняты особо строгие меры по охране. Это многое объясняло!
Я написал жалобу, но ответа не последовало. Только с третьего раза мне удалось добиться успеха — охрану сняли и меня перевели в общую палату.
Когда стали известны результаты расследования по делу, касавшемуся событий в Мальмеди, мы восприняли их сначала как судебную ошибку, так как много слышали о том, как обходились с нашими пленными товарищами по оружию в тюрьме города Швабиш-Халль и каким образом добывались различные «признания». Нам оставалось только предположить, что суду эти обстоятельства были неизвестны, и надеяться, что во время пересмотра дела правда все же восторжествует.
Меня вернули в Нюрнберг так же неожиданно, как до этого перевели в Дахау. По требованию врача транспортировка осуществлялась на носилках. Между тем в крыле для свидетелей наблюдался настоящий аврал — число узников в каждой камере увеличилось вдвое, ведь процесс шел уже над организациями, объявленными преступными. Для стороны защиты требовалось, чтобы я дал несколько аффидевитов[308].
В исходе большого процесса никто не сомневался. Однако случай, когда в качестве преступных рассматривались целые организации, был настолько новым, что мы никак не могли себе представить, как такой процесс будет проходить.
Через несколько недель вновь состоялось переселение в другое место — примерно девяносто заключенных нюрнбергской следственной тюрьмы были посажены на три грузовика и отправлены в лагерь Нюрнберг-Лангвассер. Однако радость от предвкушения относительно свободной лагерной жизни оказалась недолгой. Уже через два часа нас с фельдмаршалом Кессельрингом отделили от остальных пленников и посадили в одиночные камеры. А еще через восемь дней меня отправили в лагерь Регенсбург, в котором сначала поместили в одиночку и только потом наконец-то перевели в так называемый «свободный лагерь».
В один из дней меня навестил там мистер Гарри Т., который повел себя со мной как старый приятель и торжественно заявил, что теперь он работает на стороне защиты в процессе по делу Мальмеди в интересах бывшего командира 1-го танкового корпуса СС генерала Присса[309], которого осудили на длительный срок тюремного заключения. От меня требовалось дать под присягой письменные показания и описать, какие приказы издавались во время Арденнской наступательной операции. Через несколько дней он собирался вновь заехать и забрать мое заявление.
Дело показалось мне весьма странным, но проверить справедливость его утверждений я не мог. Как соблюдавшему закон военнопленному, мне пришлось повиноваться и такое показание написать.
Пребывание в лагере подействовало на меня весьма благотворно, а мои товарищи по несчастью оказывали мне столь большое доверие, какого я никак не ожидал. Они часто просили меня высказать свое мнение насчет прошлого и будущего, но поскольку тогда я еще сам толком не разобрался во многих вопросах, то, возможно, их надежды не оправдывал. Однако в одном я все же преуспел — мне удалось передать им часть своего оптимизма при взгляде на будущую жизнь. При том настроении отчаяния, в котором пребывали многие, это было очень важно. Они не видели выхода из сложившейся ситуации и утратили веру в справедливость. Я же утешал их, уверяя, что маятник жизни обязательно выведет всех на светлую сторону, но для этого требуется время. Настоящая мудрость заключается именно в умении ждать!
Австрийцы в лагере, в том числе и я, ждали своей репатриации. И вот однажды нас в количестве примерно двухсот пятидесяти человек посадили в товарный вагон и отправили в лагерь возле Дармштадта, в котором, насколько было известно, находился Карл Радл. Эта поездка по немецкой территории мне понравилась — я был назначен уполномоченным, призванным решать возникавшие вопросы с американской и польской охраной эшелона. Для многих из нас эта поездка впервые за долгое время давала возможность коротко пообщаться с немцами на воле — железнодорожными рабочими и пассажирами других поездов. В частности, мне удалось познакомиться с машинистом и кочегаром нашего паровоза, которым охрана сказала, кто я такой. Этот короткий разговор вернул мне утраченную было веру в наш народ.
Жесткий пол товарного вагона и сильная тряска не давали нам спать, и я провел две ночи без сна. Во время долгих разговоров мы неизменно задавались вопросами: «Кого в Дармштадте начнут первыми репатриировать, немцев или австрийцев? Разве добропорядочные австрийцы и добропорядочные немцы не одинаковы? Разве не являлось нелепостью возрождение границы между этими братскими народами, когда нашей общей мечтой было добровольное упразднение пограничных столбов во всей Европе?»
Любой национальный эгоизм мог только затормозить процесс оздоровления, если вообще не помешать ему.
Мои размышления привели меня, правда несколько позже, к убеждению, что большинству моих боевых товарищей необходимо было пройти через жернова германской денацификации. Ко мне это тоже относилось. Моей стране, которой я желал самого лучшего и ради которой не жалел себя самого, предстояло определить, не нанесено ли ей вреда в результате моих действий. Я решил пережить плохие дни вместе со своими людьми и остаться в Германии. Строка из национального гимна «И тем более во времена бедствий!» должна была превратиться не просто в пустое сотрясение воздуха.
Но пока непреодолимая сила не давала мне возможности исполнить свое решение. На протяжении многих часов мы стояли на дармштадтском вокзале в ожидании приказа о начале марша к находившемуся поблизости лагерю. (Как мне позднее стало известно, в лагере среди военнопленных распространился слух: «Скорцени у ворот!») Все проголодались, поскольку провиант, выданный на дорогу, закончился. По моей просьбе девушки из привокзальной станции Красного Креста сжалились над нами и, несмотря на тяжелое положение с продовольствием, сварили нам суп и даже угостили хлебом с салом.
Затем неожиданно раздалась команда «По вагонам!» и нас опять повезли назад в Регенсбург. Наше передвижение по Германии прошло под девизом: «Да здравствует бессмертная бюрократия!» Ведь, как оказалось, о прибытии в Дармштадт моего эшелона не было доложено по инстанции положенным образом, и поэтому его отправили обратно.
Глава 25
Снова в одиночной камере в Висбадене. — Опять в Оберурзеле. — Прикованный в грузовике. — Одиночная камера в Дахау. — Хирургическая операция под охраной. — Заключенные женщины
В Регенсбурге я пробыл недолго, и уже через несколько дней пришел приказ о моей транспортировке. В сопровождении ряда товарищей по несчастью я отправился к американскому коменданту лагеря, где мне вновь пришлось громко протестовать, когда на меня опять хотели надеть наручники. Капитану такая предосторожность тоже показалась излишней, и он более часа дозванивался до своего начальства, чтобы получить разрешение на отмену данного распоряжения. Однако в просьбе ему отказали, и он был вынужден подчиниться. Тем не менее сопровождавший меня сержант, видимо, получил специальное указание от капитана, поскольку буквально через пять минут после того, как мы покинули Регенсбург, от этих позорных железных оков меня избавили.
До Висбадена, цели нашей поездки, в тот вечер мы не добрались и остановились на ночлег в доме водителя, немца из числа интернированных лиц. Его семья приняла меня как родного сына. Впервые после войны я сидел за накрытым столом, ел из тарелок и снова пользовался ножом и вилкой. Пришлось вновь привыкать к тому, о чем за годы заключения мне пришлось позабыть.
На следующий день я опять оказался в той же висбаденской тюрьме, в которой сидел раньше. К тому времени она уже была передана немецкой администрации. Правда, американцы оставили в ней для своих нужд небольшой отсек. Посетивший мою камеру капитан армии США сообщил, что со мной хочет переговорить какой-то подполковник.
Здоровье мое пошатнулось, и я чувствовал себя неважно — желчная колика беспокоила меня все чаще. Не помогало даже строгое соблюдение «щадящей диеты», имевшейся в то время в тюрьме. Хорошо еще, что надзиратели из числа немцев, которые в прошлом практически все были солдатами, обходились со мной весьма корректно — чувствовались отголоски былого войскового товарищества. Других обитателей тюрьмы в лицо я не видел. Но в ночные часы неизвестные благожелатели постоянно снабжали меня то сигаретами, то каким-нибудь лакомством, то газетами.
Завернувшись в свой спальный мешок, собственноручно сшитый из покрывала, я читал статьи о приведении в исполнение приговоров в Нюрнберге. Означало ли это окончание трагедии, приключившейся с Германией? Означало ли это конец борьбе за создание идеальной картины всемирной справедливости?
Оставалось непонятным, к каким последствиям могло в будущем привести беспрецедентное в исторической практике осуждение целых организаций в качестве «преступных»? Хорошо еще, что у судий хватило ума не приговаривать к этому Генеральный штаб. Однако сам факт, что данный орган, имеющийся у каждого государства и выполняющий везде одинаковые функции, фигурально говоря, оказался на скамье подсудимых, явился событием, значение которого трудно недооценить. Потрясал также всеобщий характер приговоров в отношении миллионов людей. Где находилась конечная черта, которую следовало подвести, если подобное начнется вновь?
Через неделю меня опять перевели в уже знакомый мне лагерь для допросов возле города Оберурзель. На этот раз транспортировка осуществлялась без наручников и в более удобных условиях. Подполковник, хотевший со мной переговорить, ко мне так и не заглянул. Был уже октябрь 1946 года, и из разговора конвойных, который я случайно услышал, стало ясно, что в лагере находились уже совсем другие заключенные, чем в 1945 году.
Немецкая речь в лагере слышалась редко, поскольку основной контингент заключенных составляли иностранцы. Среди них было достаточно много женщин. Длившийся часами истерический плач одной из них в камере, располагавшейся поблизости от моей, действовал мне на нервы. Разговорами из своего окна я тщетно пытался ее успокоить — она ни слова не понимала по-немецки. Не пригодились и мои знания английского и французского, так как эта женщина, очевидно, была родом из страны, находившейся по другую сторону железного занавеса, который хотя и незаметно, но уже начал опускаться.
Организация лагерной жизни и питание в ставшей интернациональной «базе отдыха» стали намного лучше. Для мытья и отправления других надобностей меня, как и ранее, сопровождали два свирепого вида охранника с автоматами в руках, держа по-прежнему палец на спусковом крючке. Однако ставший уже привычным окрик «Быстрее!» подкреплялся еще и пинком ноги по открытой деревянной двери. То обстоятельство, что на мои сигналы охрана откликаться стала значительно дольше, могло объясняться необходимостью вызова двоих конвойных и подготовкой их к возможному бою.
Табак мне выдавали по одному пакету в неделю, а поскольку благодаря особым навыкам у меня получалось скрутить из него до ста сигарет, то спичек постоянно не хватало. Мне не хотелось превратиться в курильщика, прикуривающего одну сигарету от другой, и я искал другой выход. Вскоре он был найден. Поскольку отопление в камере являлось электрическим и работало постоянно, то я отогнул края жестяного ящичка, и в моем распоряжении оказался великолепный прикуриватель.
Как-то раз меня временно перевели в соседнюю камеру, где были слышны громкие удары молотом, раздававшиеся со стороны моего прежнего узилища. Когда я вернулся обратно, то оказалось, что с внешней стороны стены были укреплены стальными листами. Какая бесполезная работа! Я совсем не собирался их ломать, а пробиваться ко мне извне никому бы и в голову не пришло!
Ожидаемый визит американского офицера все откладывался. И вот однажды вновь прозвучала команда:
— Вставай! Тебе на сборы десять минут!
В кузове грузовика, в котором я должен был ехать, охрану составляли всего двое конвойных. Поэтому меня на сиденье развернули и приковали к его спинке наручниками. Позднее, когда охранники убедились, что в такой позе долго находиться невозможно, мне пришлось лечь на пол, и они пристегнули мои руки к двум канистрам с бензином. Я только потом понял истинную причину их действий — конвойные просто не хотели провести бессонную ночь и сладко проспали много часов подряд, уверенные, что с моей стороны им ничего не грозит.
Ранним утром я вновь оказался в Дахау. К моему изумлению, меня определили в так называемую свободную зону. За те сорок восемь часов, которые я там провел, уснуть мне так и не удалось — со мной хотели пообщаться многие мои старые боевые товарищи и еще больше незнакомых военнопленных. Сколько нового мы сказали друг другу! Однако в ходе бесед я обратил внимание, что у многих бывших солдат появились признаки «болезни колючей проволоки»[310]. Люди переставали понимать, что происходящие с ними события можно рассматривать совсем с другой стороны, нежели через призму ограничивающего пространство ограждения. На мой взгляд, все выглядело далеко не в таком черном цвете, как видели мир пробывшие в плену более года мои боевые друзья.
В те месяцы американцы стали использовать на различных подсобных работах достаточно много немцев. Через одного такого немца, бывшего солдата, спустя два дня мне и передали приказ явиться с вещами к воротам лагеря. На этом моя «вольная» жизнь закончилась — меня снова отправили в тюрьму и поместили в одиночку. Тюремным начальством я был встречен как «старый жилец» и определен в свою прежнюю камеру за номером 10. Однако ожидаемый мною визит подполковника вновь не состоялся.
Проходили день за днем, и официальные инстанции, казалось, обо мне вовсе позабыли. Осталась непонятной и причина моего перевода в одиночную камеру. Однако мои боевые товарищи, которым разными путями удавалось поддерживать со мной контакт, старались мне помочь любыми возможными способами — раздатчики пищи передавали для меня то дополнительную порцию еды, то часть даров, пришедших «с воли». И надо признать, что в таких условиях, в которых я оказался, каждый знак проявления боевого братства ценился на вес золота.
Ко всему прочему, и американский сержант из числа тюремной охраны тоже иногда закрывал глаза на мои ухищрения. В частности, уже весной во время моих ежедневных кратких прогулок он делал вид, что не замечает, как я подкрадываюсь к грядкам с редиской. Их небольшая горсть хотя бы частично восполняла долгое отсутствие витаминов.
— Вам нравится редиска? — как-то раз спросил сержант и продолжил делать вид, что ничего не видит.
Между тем состояние моего здоровья продолжало ухудшаться, а тюремному врачу, интернированному австрийцу, никак не удавалось добиться моего перевода в лазарет. Такое могли разрешить только в том случае, если бы мне срочно понадобилось хирургическое вмешательство. Поэтому когда врач, к которому я испытывал большое доверие, посоветовал сделать операцию, то я наконец решился, и меня перевели в одиночную палату лагерного госпиталя.
Днем и ночью возле моей кровати находился часовой, хотя я тогда не мог даже ползать. Операцию мне начали делать 6 декабря 1946 года, и, чтобы я не сбежал с операционного стола, часовой был выставлен рядом с ним прямо в операционной. Во время медленного пробуждения после наркоза, когда сознание наполовину вернулось, я принялся ругаться самыми последними словами. И хотя боль снова вернулась, это принесло мне большое облегчение. А еще через несколько дней у меня началось воспаление легких, но мой выносливый организм выдержал и это испытание.
Затем последовало длительное выздоровление, и понадобилось несколько недель, чтобы я снова смог передвигаться. Не успели силы ко мне вернуться, как меня выписали из госпиталя и перевели в так называемую следственную тюрьму. Это строение, воздвигнутое уже после войны в 1946 году, во всех отношениях было намного хуже, чем старое здание лагерной тюрьмы Дахау, где камеры по сравнению с новыми выглядели как гостиничные номера.
Моя новая камера оказалась недопустимо мала — два с половиной метра в длину, метр сорок в ширину и два метра двадцать сантиметров в высоту. Она была целиком из бетона и имела вентиляционное отверстие размерами пятнадцать на шестьдесят сантиметров. Вся обстановка состояла из двух расположенных друг над другом нар и раковины. Но хуже всего было то, что пол в коридоре был выложен из досок, по которым всю ночь громыхали сапогами польские часовые.
Разрешенные мне ежедневные десятиминутные прогулки я не использовал, так как ходить все еще было трудно. Примерно через восемь дней меня вызвали в прокурорское отделение процесса над военными преступниками. К моему великому удивлению, начальником отделения оказался один из лучших защитников по мальмедскому делу подполковник Д., который спросил меня, по какой причине я оказался в изоляторе. Но это было мне и самому интересно, и я лишь ответил:
— Я тоже хотел бы это знать!
Тогда подполковник Д. заявил, что, по его сведениям, в отношении меня никакого следствия не проводится и мне надлежит немедленно покинуть следственный изолятор. Я, естественно, с ним согласился.
Однако моим надеждам на перевод в «свободный лагерь» сбыться было не суждено. Тюрьма и камера номер 10 вновь встретили меня как старого знакомого, распахнув свои объятия. Тут пришла весточка о моем прежнем начальнике штаба Карле Радле. Его также перевели сначала в Висбаден, а затем в Дахау, где поручили заниматься интересным делом. Совместно с некоторыми другими моими людьми, которых американское начальство называло не иначе как «парнями Скорцени», он организовал в лагере производство по выращиванию овощей. Поэтому иногда одному только ему известными тайными путями Радл стал передавать мне немного «зеленки». Так мы называли все, что было связано с овощами.
Настроение у более трехсот арестантов, сидевших в тюрьме Дахау, зачастую было просто отвратительным. Многих в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос, и они не знали о своей дальнейшей участи. А вот у девушек из числа заключенных, как ни странно, настрой, наоборот, был хорошим, и для многих мужчин они являлись примером. Среди них насчитывалось много бывших секретарш и хозяйственных работниц, которые на самом деле не понимали, за что их подвергли длительному тюремному заключению.
Глава 26
Обвинение, — Неизвестные сообщники, — Немецкие и американские защитники, — «Подвешивающий Г.», — Спор о моей голове, — Неожиданные свидетели обвинения, — Показания британского офицера, — На стуле свидетеля, — Заключительные речи, — Оправдательный приговор. — Снова среди боевых друзей. — Исторический отдел. — Скорцени, он же Абель. — Осевая Салли. — Отпуск под честное слово. — Слухи о Гитлере. — Добровольно перед комиссией по денацификации. — Отложено семь раз. — С меня достаточно! — Выход на свободу
Наступил уже месяц март, когда в сопровождении упоминавшегося ранее мистера Гарри Т. в мою камеру вошел долгожданный подполковник. На мой вопрос, обращенный к мистеру Гарри Т., работает ли он на стороне обвинения или защиты, тот ответил, что трудится уже в следственной комиссии. Три долгих допроса, касавшиеся моей акции во время наступления под Арденнами, этот подполковник провел весьма дотошно, и у меня возникло ощущение, что столь подробное рассмотрение операции «Гриф» происходит в последний раз. Но меня это совсем не беспокоило, так как я знал, что не совершил ничего противоправного.
Подписав последний протокол, я попросил подполковника быть со мной откровенным и честно сказать, было ли допущено 150-й танковой бригадой нарушение законов военного времени или нет. На это бывалый фронтовик, каким оказался данный офицер, ответил, что, на его взгляд, никаких противоправных действий мы не совершили, но окончательное решение по данному вопросу вынесет вышестоящая инстанция и его следует ожидать примерно через четыре недели.
В камере я нанес на своем «настенном календаре» названный им срок, но проходили неделя за неделей, а вестей никаких не поступало.
Мне было известно, что часть военнослужащих из состава 150-й танковой бригады содержится в Дахау, однако я не предполагал, что это может быть связано с готовящимся процессом надо мной и моими офицерами.
Где-то в середине июля 1947 года меня привели к коменданту тюрьмы, и я увидел большое число незнакомых мне людей. Исключение составляли только полковник Р., который в свое время со мной фотографировался, и мистер Гарри Т. Корреспонденты держали свои фотоаппараты наготове, и, судя по всему, здесь готовилось какое-то очень важное действо. Когда же в помещение, как было объявлено, ввели еще восемь арестованных из числа немецких солдат 150-й танковой бригады (еще один был тяжело болен, лежал в госпитале, и мы его до конца процесса так и не увидели), стало ясно — нам собираются предъявить обвинение.
Я внимательно вгляделся в лица своих сообвиняемых и убедился в том, что шестерых из них вижу первый раз в жизни. Между тем полковник Р. начал зачитывать обвинительное заключение, а мистер Гарри Т., который, видимо, вновь начал работать на стороне обвинения, — переводить текст на немецкий. Второй пункт обвинения в моей голове вообще никак не укладывался. В нем говорилось о наличии какого-то совместного плана и заговора, а в конце прозвучало: «…жестоко обошлись с американскими военнопленными, которых они пытали и убили. Имена и общее число жертв не установлено. Однако их было не менее ста».
Дальнейший текст обвинительного заключения я почти не слушал. Судя по всему, его второй пункт потряс моих боевых товарищей не меньше, чем меня, — за два года моего заключения на всех допросах я категорически отвергал что-либо подобное. Здесь следует оговориться, что чтение обвинительного заключения заняло несколько дней.
В течение этих дней я ожидал каких-либо доказательств по данному пункту, но так и не дождался. В результате в последний день предъявления обвинения полковник Р. был вынужден снять пункт номер два, а председатель суда сделал полковнику замечание, особо подчеркнув, чтобы этот пункт больше нигде не фигурировал. Позднее в одной доверительной беседе мне стало известно, что обвинение в убийстве военнопленных выдвинули лишь для того, чтобы состряпать в отношении нас обвинительное заключение. Меня это просто возмутило! И даже объяснение, что в 1947 году начали проводить только те процессы, которые были связаны с обвинением в убийстве, меня ни в коей мере не удовлетворило.
После оглашения обвинительного заключения нас вывели в тюремный двор, где я решил познакомиться с шестью неизвестными мне сообщниками и выяснил, что их «пристегнули» для количества. Затем журналисты стали задавать мне вопросы, на которые получали только однозначные ответы. Мне с трудом удалось скрыть от них бушевавшую внутри меня ярость, когда вопросы коснулись второго пункта обвинения. Газетчикам я сказал примерно так:
— Обвинять нас в составлении плана и заговоре с целью совершения убийства — это полная чушь! Из девяти так называемых соучастников шестерых я вижу впервые в жизни.
Данная смелая оценка ситуации вылилась затем в известных газетах в крупные заголовки: «Скорцени характеризует процесс как полную чушь». Конечно, подобное выражение с моей стороны являлось определенной дерзостью, но, говоря так, я и не мыслил давать подобную оценку всему процессу.
Последовавшие после предъявления обвинения три дня прошли для нас (пяти офицеров ВМС, трех офицеров сухопутных сил, одного офицера войск С С и меня) в тягостном ожидании. Нам были выделены три американских защитника: подполковник Роберт Д. Дерст, подполковник Дональд Макклюр и майор Л.И. Хорвитц. Разбив нас на группы, они проводили весьма изощренные допросы, однако их цели были мне непонятны. Ответ на данный вопрос я получил от нашего главного защитника подполковника Роберта Д. Дерста только в последний день допросов. Тогда он впервые протянул мне руку для рукопожатия и заявил, что больше не сомневается в нашей невиновности и будет защищать нас как близких ему людей. Стоит отметить, что этот человек сдержал данное им слово.
Позже он объяснил, что согласно судебному порядку, который должен был соблюдаться и во время дознания, проводившегося в Дахау, ему как защитнику в ходе объективного расследования предписывалось тоже заниматься поисками правды. Поэтому он и проводил с нами столь жесткие допросы.
Вскоре к трем американским защитникам добровольно присоединились еще семь немецких адвокатов. Я честно сказал им, что на денежное вознаграждение с нашей стороны им рассчитывать не следует, поскольку все мы являемся настоящими нищими. Самое большее, что мы могли сделать, — это выдать ничем не подкрепленную расписку о расчетах в будущем.
Большую радость я испытал, когда через несколько дней из Зальцбурга к нам прибыл мой земляк доктор Пейрер-Ангерман, которого отличала исключительная честность. Выяснилось, что в Зальцбурге он добился своего ареста, чтобы вместе с другими пленными попасть в Германию, а затем в Дахау.
— В Зальцбурге, прежде чем решиться на такой шаг, я сначала навел справки насчет вас, — честно признался он после приветствия. — Все отзывы были только положительными.
Еще через несколько дней нам пришлось принять два весьма нелегких решения. Дело заключалось в том, что подполковник Дерет честно сказал мне, что может рассчитывать на успешное завершение процесса только в случае нашей совместной работы. Дерет потребовал от нас письменное согласие на то, что только он может определять способ ведения защиты и никакой другой защитник без его одобрения не вправе что-либо предпринимать. С другой стороны, подполковник обязывался перед принятием любого решения советоваться со мной, как лидером обвиняемых. Для меня это означало взвалить на себя тяжелейший груз ответственности за судьбу, а может быть, и жизнь своих боевых друзей. По желанию подполковника Дерста место для свидетелей на процессе должен был, по возможности, занимать я один и брать защиту всех на себя.
Мне пришлось размышлять достаточно долго, прежде чем дать окончательный ответ, и я решил согласиться лишь в том случае, если мои товарищи по несчастью уполномочат меня на это после демократически проведенного голосования. Сразу скажу, что все обвиняемые согласились предоставить подполковнику Дерсту широкие полномочия и выказали мне полное доверие, уполномочив меня представлять их интересы.
Первым видимым последствием такого шага явилось сложение тремя немецкими адвокатами с себя полномочий по нашей защите, так как не были согласны с предоставлением американскому адвокату таких широких прав. Начало, прямо скажем, было не из лучших, но, как показало время, принятое нами решение оказалось правильным.
Недели перед началом процесса прошли нервозно — одна дурная весть сменялась другой. Первоначально подполковника Дерста состав трибунала из девяти человек весьма устраивал. Мне же очень не понравилось то, что представитель обвинения по мальмедскому процессу подполковник Эллис, с которым отношения у нас не сложились, стал в Дахау начальником группы по расследованию военных преступлений.
Через несколько дней ко мне пришел расстроенный подполковник Дерст и сообщил, что состав трибунала изменился и все судебные заседатели находятся под влиянием председательствующего полковника Г. Когда же «солдатское радио» донесло, что за председательствующим закрепилось говорящее о многом прозвище «подвешивающий Г.», меня это совсем не обрадовало. Поэтому мне скрепя сердце пришлось согласиться на предложение подполковника Дерста подать протест по поводу назначения полковника Г. и других членов трибунала с требованием их отвода. Я понимал, что последствием этого явится усиление враждебного к нам отношения, но делать было нечего. В результате четыре или пять судебных заседателей, не помню точно, были заменены, однако председательствующим остался полковник Г. Новые же заседатели являлись заслуженными фронтовыми офицерами и, как показали дальнейшие события, выносили решение исходя из своих убеждений.
В скором времени подполковник Дерст, рискуя своей репутацией, организовал из состава гражданских служащих группы по расследованию военных преступлений свой собственный штаб. Против одного члена его штаба мы решительно возразили, поскольку недавно он арестовал некоего офицера сухопутных сил, проходившего свидетелем по нашему делу, и подверг его допросу в интересах обвинения. У нас не укладывалось в голове, каким образом этот человек мог входить в штаб и полноценно нас защищать. Была отклонена и кандидатура второго американца, так как нам стало известно, что в городе Швебиш-Халль он активно проводил допросы моих боевых товарищей из 1-й танковой дивизии СС, представляя сторону обвинения. Мы пошли на этот шаг, несмотря на то что его участие в деле на стороне защиты могло склонить чашу весов на процессе в нашу сторону.
В тюрьме нас по трое расселили в трех камерах, и мы лихорадочно приступили к подготовке своей защиты. Однако основную работу предстояло проделать уже в ходе самого процесса, так как до того времени ни одного документа, имевшегося у стороны обвинения, нам не показывали. Поэтому пока в ответ на пункты обвинения, составленные лишь из общих фраз, пришлось ограничиться только правдивым изложением имевших место событий.
В первом пункте обвинительного заключения нам ставилось в вину то, что мы сражались, переодевшись в военную форму противника. Подобное не совсем соответствовало действительности, но как доказать это, мы не знали, поскольку до нас довели только общую формулировку.
В других пунктах содержалось обвинение в том, что мы якобы украли у американских военнопленных оборудование, предметы вооружения и медицинские сумки с красным крестом. Но ведь все наше оснащение, которого так не хватало, нам выдали по запросу штаба оперативного руководства вермахта, отдавшего приказ на проведение операции. Однако как строить свою защиту, если мы не знали конкретных фактов, на которых строились эти пункты обвинения?
Радовало только одно — после предъявления обвинения настроение американских и польских охранников по отношению к нам не ухудшилось. Мне было с чем сравнивать, так как после тридцати месяцев пребывания в Дахау я стал чуть ли не «почетным» заключенным. Конечно, ожидать, что караульные, которые все это время охраняли меня, возлюбят своего арестанта, не приходилось. Однако ощущение, что я стал пользоваться уважением у этих солдат, все же возникало. А этого для меня было вполне достаточно.
Мне стало несколько не по себе, когда до меня дошло известие о том, что на исход процесса сделано бесчисленное количество ставок. Пари между американцами, представлявшими стороны обвинения и защиты, заключались на весьма значительные суммы в долларах. И если бы этот тотализатор могли организовать обвиняемые, то он мог бы превратиться в весьма прибыльное дело. Однако, к сожалению, мы вынуждены были принимать в нем участие лишь опосредованно, как объекты ставок, хотя в конечном счете речь шла о наших головах и свободе. Тем не менее имелась в этих пари и положительная сторона — по коэффициентам ставок, которые с самого начала были в нашу пользу и к концу процесса поднялись до одного к десяти, мы могли измерять рост наших шансов на успех.
Большая трудность заключалась в достижении единомыслия и сплачивании всех нас в одну команду. К сожалению, среди моих товарищей по несчастью не было офицеров, которых бы я хорошо знал, — по странному стечению обстоятельств, к нашему процессу в качестве обвиняемых не был привлечен ни один из сотрудников моего бывшего штаба. А ведь вначале интересы каждого значительно отличались, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы превратить всех обвиняемых в своих соратников. Вот только один пример.
Однажды ко мне подошел один из наших обвиняемых лейтенант ВМС М. и признался, что отец у него — немец, а мать — англичанка. Он давно считал себя противником Третьего рейха и записался добровольцем в мою бригаду, для того чтобы при первой возможности перейти на сторону противника. После того как его взяли в плен, М. так прямо и заявил. Кроме того, он затаил беспричинную злобу и на меня, хотя и видел всего один раз. Однако за время пребывания в плену у него открылись глаза, и, когда лейтенант ближе познакомился со мной, его отношение ко мне изменилось.
— Несмотря на мои прежние взгляды, вы можете полностью доверять мне, как верному и преданному товарищу, — сказал он.
Забегая вперед, скажу, что М. остается моим другом и сегодня, а все мы превратились в единую проверенную жизнью команду, связанную такими крепкими узами, разорвать которые никто не способен.
В рамках данной книги рассказать обо всех подробностях проходившего над нами процесса невозможно. Однако следует отметить, что поскольку во многих немецких газетах того времени печатались только заметки, освещавшие первые его дни, когда нам было предъявлено обвинение, то вынесенное в отношении нас судебное решение явилось большой неожиданностью. Если бы пресса не гонялась за сенсационными заголовками, а освещала ход самого процесса несколько подробнее, то такого бы не случилось.
Слушание дела началось 18 августа 1947 года. Первым свидетелем обвинения выступил мой давний начальник штаба и друг Карл Радл. И хотя он только подтвердил подлинность телеграммы штаба оперативного руководства вермахта, которую никто не оспаривал, широкие круги общественности об этом не узнали. Остались только фотографии и газетные заголовки: «Начальник штаба обвиняет своего бывшего шефа». Однако я-то знал, насколько тяжело далось Радлу спокойствие при его вынужденном выступлении в суде.
Не лучше чувствовали себя на мальмедском процессе и некоторые приговоренные к смертной казни боевые товарищи, когда их принудили выступить на суде в качестве свидетелей обвинения. Об этом в ходе трибунала открыто заявил главный обвиняемый полковник Пайпер, что требовало немалого мужества. Впрочем, ни один из них не сказал ничего изобличающего, и мы, в свою очередь, недоумевали, зачем вообще потребовалось выставлять их в качестве свидетелей? Когда позднее, к моему удивлению, подполковник Дерст первым публично и весьма резко обрушился на процедуру ведения расследования в ходе мальмедского процесса (я действительно ничего не знал о его намерении), то мы от души порадовались, что это хоть как-то поможет осужденным.
Показания майора К., звучавшие весьма зловеще, тоже рассыпались как карточный домик. Сам К., содержавшийся в Ландсбергской тюрьме, из-за болезни предстать перед судом не смог. Я, естественно, обратил внимание на отсутствие важного свидетеля. Тогда мистер Гарри Т., будучи помощником стороны обвинения, выйдя на место свидетеля, поклялся, что К. дал ему показания добровольно, что и было зафиксировано надлежащим образом.
В тот же день одному американскому помощнику стороны защиты удалось в Ландсберге допросить К. Позже, уже выступая на месте свидетеля, он под присягой заявил, что предъявил майору К. рассматриваемый документ и тот поклялся, что никогда не пописывал этот протокол и видит его в первый раз.
Показания же одного американского офицера о том, что во время немецкого наступления под Арденнами он попал в плен и похудел там на полтора килограмма, серьезно нам навредить не могли. Так же мало затронуло нас и утверждение одного американского лейтенанта о том, что некоторые немецкие солдаты во время боев носили поверх униформы американские полевые куртки. Во время перекрестного допроса стороной защиты он честно признал, что взятые ими в плен солдаты при допросах называли в качестве своей части 1-ю танковую дивизию СС, а не 150-ю танковую бригаду. Как выяснилось в ходе дальнейшего разбирательства, американские полевые куртки на Западном фронте из-за нехватки зимнего обмундирования вообще носили многие немецкие солдаты.
После окончания выступлений свидетелей стороны обвинения подполковник Дерст в первый раз внес прошение о вынесении оправдательного приговора в отношении всех обвиняемых по всем пунктам обвинения. Однако его ходатайство было отклонено.
Выступление первого свидетеля стороны защиты явилось для всего трибунала, и прежде всего для нас, обвиняемых, большой неожиданностью. Им оказался британский офицер Эдуард Йо-Томас, игравший во время войны руководящую роль во французском движении Сопротивления по заданию английской разведки.
В рассказе этого офицера была дана наглядная картина того, как во время войны осуществлялись смелые операции, проводившиеся английскими солдатами, переодетыми в форму противника. Оказалось, что для достижения победы в проведении подобных акций не было ничего запретного! А необходимое для них оснащение добывалось любой ценой!
К сожалению, у меня не было возможности пожать руку этому британскому офицеру, когда он заявил трибуналу:
— Господа! Полковник Скорцени и его офицеры всегда вели себя достойно!
Между прочим, добровольно выступить в том же духе в трибунале на стороне защиты вызвались еще три американских офицера из гарнизонов, располагавшихся вблизи Мюнхена. Но этого не потребовалось.
После дачи показаний еще несколькими свидетелями защиты пришла моя очередь выступить от имени всех моих товарищей по несчастью, для чего меня провели к месту свидетеля, воздвигнутого в центре зала суда. Главный защитник подполковник Дерст дал мне возможность в свободной форме изложить трибуналу сведения о том, как отдавался приказ, готовилась и осуществлялась операция «Гриф». Причем при помощи огромной, во всю стену, топографической карты местности мое выступление удалось сделать наглядным. После этого даже перекрестный допрос главного обвинителя полковника Р. был проведен достаточно вежливо и корректно.
К сожалению, у меня не было возможности подробно остановиться на вопросе, связанном со слухами относительно плана по якобы готовившемуся нами нападению на главную ставку союзников, поскольку суд принял протест стороны обвинения, в котором содержалось заявление, что на эту тему распространяться не следует.
Огромное впечатление произвела заключительная речь представителя стороны защиты подполковника Дональда Макклюра, который закончил ее следующими словами:
— Господа! Если бы мне на фронте довелось командовать такими людьми, как эти обвиняемые, я гордился бы этим!
Оправдательный приговор для всех обвиняемых был зачитан в переполненном зале суда 9 сентября 1947 года. Я хотел было пожать руку своему защитнику, но тут ко мне подошел главный обвинитель полковник Р. и, поздравив меня, заявил, что, выдвигая обвинение, он только исполнял свой долг и следовал отданному ему приказу, который выполнял без особой охоты!
— Тогда, полковник, вы должны понимать и нас, немцев. Ведь мы тоже только исполняли свой долг и повиновались отданным нам приказам, — ответил я.
Такой благородный шаг моего противника по процессу и его поздравление, шедшее от всего сердца, примирило меня с тем, что мне довелось пережить. Поэтому, когда в прессе появилось сообщение о том, что полковник Р. назвал меня «самым опасным человеком в Европе», я воспринял лишь как досадную ошибку. Однако подобная незаслуженная оценка всегда вытаскивалась на свет, когда в публиковавшихся обо мне небылицах, которым не было конца, не хватало броского заголовка.
Через несколько часов после вынесения оправдательного приговора мы вновь собрались в стенах тюрьмы, но на этот раз уже не в той ее части, где находились одиночные камеры. Нас от всей души поздравили не только охранники, но и осужденные товарищи по несчастью, и нашей радости, буквально струившейся из глаз, не было предела. А еще через пару часов нас перевели в так называемый свободный американский лагерь.
Прием, который там нам устроили, я никогда не забуду — каждый старался нас угостить, чем мог. Из посылок, полученных из дома, один приносил кусок пирога, другой — колбасу, третий — последнее яблоко. Но больше всего расстарались мои боевые друзья — меня поджидало приготовленное Радлом и Хунке угощение «по-венски»!
Потребовалось несколько дней для того, чтобы мы наконец осознали, что худшее уже позади. Между тем военнослужащие сухопутных сил и ВМФ начали готовиться к отправке домой, и из нашей группы обвинявшихся под стражей остались только один офицер войск СС и я, так как мы подпали под распоряжение о так называемом автоматическом аресте. Поскольку в таком же положении находились сотни тысяч других солдат войск СС, то вынужденное пребывание в лагере было воспринято нами не так тяжело.
Попрощаться со своими товарищами по процессу, которые отправились за документами об освобождении, мне не удалось — пришел приказ, прозвучавший подобно удару грома среди ясного дня: «Собрать вещи и через пятнадцать минут явиться к воротам лагеря!»
В обед 12 сентября 1947 года, как сейчас помню, что это была пятница, я снова оказался в тюрьме как подозреваемый в совершении военных преступлений. Так что подготовленный прощальный ужин, приуроченный к четвертой годовщине нашей операции по спасению дуче, прошел без меня.
К сожалению, мой американский защитник подполковник Дерст не мог мне помочь в исправлении этой досадной ошибки. Ему больше не разрешали со мной общаться. Между тем в газетах появились крупные заголовки: «Только что оправданного полковника Скорцени, по-видимому, ожидает выдача Дании или Чехословакии!» В мою виновность, похоже, не верило даже тюремное начальство, и обращение со мной было весьма предупредительным.
Один польский офицер, сидевший в тюрьме по подозрению в шпионаже в пользу русских и с которым его земляки из числа охранников, естественно, обходились очень хорошо, предложил мне совершить вместе с ним побег. Я отклонил это предложение, как, впрочем, и все предыдущие. Ошибка должна была разъясниться, и мне не хотелось усложнять ситуацию перед выходом на свободу.
Через две недели все действительно встало на свои места. Оказалось, что Дания никогда не выдвигала требования о моей выдаче, и чиновники, заваленные бумажной работой, скорее всего, ошиблись. Да иначе и быть не могло, ведь я еще раньше дал датским офицерам слово, что в любое время, даже будучи на свободе, готов по первому требованию приехать в Данию и выступить в качестве свидетеля. Вопрос с Чехословакией разрешился еще проще. Через четырнадцать дней усердных поисков выяснилось, что никакого документа, направленного против меня с этой стороны, не существует.
Я снова вернулся в свободный лагерь, что явилось дополнительным поводом для дружеского праздника, который был организован так, насколько это позволяли лагерные условия. Однако потребовалось еще две недели, пока местная бюрократия окончательно вычеркнула меня из списков военных преступников.
С этого момента весь персонал американской администрации лагеря, вплоть до коменданта, стал относиться ко мне очень хорошо. Один сержант, увидев, насколько поизносилась моя арестантская роба, разрешил мне пошить в лагерной швейной мастерской костюм из немецкой военной ткани. Другой пригласил меня на чашечку кофе, а третий передал книги. В ходе разговоров с ними я вновь ощутил себя солдатом среди солдат, хотя пока по-прежнему разделял ту же участь, что и другие военнопленные.
Об историческом отделе американской секретной службы, располагавшемся в Нейштадтена-Лане и занимавшемся при помощи немецких офицеров военно-историческими исследованиями, мы слышали довольно часто. Как-то раз мне и Радлу тоже предложили написать соответствующую работу, касавшуюся операции по освобождению Муссолини. Нам хотелось в те трудные времена быть вместе, так же как и тогда, когда мы стояли плечом к плечу и сообща сражались. Поэтому мы добились перевода в Нейштадт, чтобы находиться в таких же условиях, как и другие офицеры.
Отправка нас из Дахау в Нейштадт была осуществлена вместе с другими оправданными в автозаке. Столь недостойный и уже ничем не оправданный способ транспортировки поспособствовал тому, что с Дахау мы расстались с легким сердцем. Несмотря на благополучное завершение процесса, это место оставило в нашей памяти не самые лучшие воспоминания.
К нашему удивлению, нас опять доставили в лагерь возле города Оберурзель, в котором ранее проводились допросы в интересах следствия. А поскольку время было позднее, то мы снова оказались в одиночных камерах. Причем по новым правилам одежду и обувь следовало оставлять уже возле порога. На следующий день нас с Радлом поместили в общую камеру. Тогда мы решили, что в таких условиях работать на исторический отдел не будем, и ясно дали это понять начальнику отдела полковнику Поттеру, когда он вместе с несколькими офицерами нанес нам визит. С нашим требованием о предоставлении лучших условий для проживания полковник согласился, однако прошло несколько дней, пока для нас подготовили помещение в доме под названием «Аляска», где проживали еще три человека.
Перед этим, исходя из требований соблюдения строжайшей секретности, нам присвоили псевдонимы. Радла стали называть Бейкером, а меня — Абелем.
В «Аляску» мы перебрались как раз перед ужином, где двое старых знакомых по операции в Италии с подчеркнуто серьезными лицами представились как Рентген и Зебра. В ответ, кусая губы, чтобы не расхохотаться, нам пришлось назваться Бейкером и Абелем.
За ужином присутствовала и дама, которую, как выяснилось позднее, звали мисс Милдрет Гиллард. Во время войны она работала на немецком радио под псевдонимом Осевая Салли, распространяя антибольшевистскую пропаганду для своих американских соотечественников. Из-за этой конспирации уже через пять минут за столом возникла довольно неловкая обстановка, но не для меня — один разлюбезный сержант прямо с порога громко и отчетливо произнес мое настоящее имя.
За время длительного заключения нервы и здоровье Осевой Салли заметно сдали. Однако, несмотря на поседевшие волосы, она по-прежнему оставалась довольно привлекательной женщиной, готовой поболтать на любые темы. С ее помощью мы совершенствовали свой плохой английский и часто проводили вечера у нее в комнате, болтая о пустяках за партией в бридж, чашечкой подогретого кофе, оставшегося с завтрака, и румяным ломтиком тоста, искусно приготовленным на электрической плитке.
В течение года в «Аляске» сменилось много квартирантов, но мисс Гиллард оставалась. У нее я впервые узнал о судьбе многих немцев, пребывавших в нашем доме в качестве вынужденных гостей то или иное время. Когда же нам удалось выпросить радиоприемник, то мы вообще стали проживать в своей комнате как в номере люкс, чему способствовали прихваченные простыни из Дахау.
6 декабря 1947 года мисс Гиллард, Радл и я сидели за ужином, а двое других обитателей «Аляски» были в отпуске. Внезапно мне сообщили:
— Полковник Скорцени, к вам приехала жена!
Благодаря ошибке дежурного офицера, которая, вероятно, имела для него неприятные последствия, она прогостила в «Аляске» целых три дня. Мы вместе отпраздновали ее день рождения, о котором я уже успел позабыть — слишком много времени прошло после нашей последней встречи.
На Рождество 1947 года нам с Радлом на четырнадцать дней предоставили отпуск под честное слово. Сразу хочу сказать, что его мы, естественно, сдержали и прибыли назад в точно назначенный срок.
Эти дни явились моим первым послевоенным знакомством с гражданской жизнью немцев вне пределов территории, огражденной колючей проволокой. Зима тогда выдалась голодной, и беда, в которой оказались люди на воле, оказалась значительно большей, чем мы предполагали.
Первый визит был нанесен Ханне Райч, которая, как нам сообщили, проживала в Оберурзеле. У нее я познакомился со священником Римско-католической церкви, и мы имели с ним весьма обстоятельный разговор, хотя во время войны и находились по разные стороны линии фронта. Это была моя первая длительная и свободная беседа с бывшим противником. Тем не менее к концу мы расстались как мужчины, которые друг друга уважают и понимают.
Затем я наведался в Висбаден и Берхтесгаден к своим старым друзьям, которые с радостью приветствовали меня и познакомили с новыми хорошими людьми. Настроение поднимали и служащие американской военной администрации, у которых мне следовало отмечаться. Они были весьма дружелюбны и предупредительны. А вот разговоры со случайными прохожими огорчали, поскольку из них становилось ясно, какие глубокие раны нанесла война. Но я открыто смотрел людям в глаза, так как был так же беден, как и они, — мне тоже пришлось потерять все нажитое. Стыдно было только перед инвалидами войны.
В феврале 1949 года наша работа в интересах «исторического отдела» завершилась.
Дух мертвого Гитлера продолжал бередить умы отдельных граждан. Так один бывший солдат люфтваффе взбудоражил всех своим рассказом, родившимся в его явно воспаленном мозгу и приведшим к тому, что в Оберурзеле появилась небольшая комиссия. В ее задачу входила проверка правдивости заявлений этого человека, сводившихся к тому, что в первых числах мая 1945 года он якобы стоял часовым на посту на частном аэродроме Скорцени, располагавшемся в районе санатория СС Хоэнлихен. Солдат утверждал, что своими глазами видел, как я прилетел вместе с Гитлером на «Аисте». Надеюсь, что этому несчастному не пришлось расплачиваться за подобную чушь слишком долгим пребыванием в психиатрической больнице.
В феврале 1949 года газеты пестрели новыми небылицами на ту же тему, утверждая, что один мой офицер проговорился о том, что по моему приказу он якобы посадил Гитлера на Ю-52 и лично сопровождал его сначала из Берлина в Данию, а потом оттуда в Испанию. Однако над территорией Южной Франции самолет был сбит, а сам офицер отделался ранением в голову.
Следует отметить, что никакого такого офицера яви глаза не видел, но это не помешало мне вновь оказаться в Нюрнберге. Там сразу выяснили беспочвенность подобных утверждений, но, когда мы поздней ночью вновь очутились в знакомой камере нюрнбергской тюрьмы, нас поджидал еще один сюрприз — на охрану заступила рота чернокожих солдат армии США. Сразу хочется сказать, что более предупредительного обхождения я еще не встречал. Если в 1945 году во время процесса над главными военными преступниками у меня возникало ощущение, что охранявшим нас белым солдатам, судя по их поведению, внушили, будто они имеют дело с бандитами или дикими зверями, то негры такой пропагандистской обработке явно не подвергались. К тому же они не пытались выторговать для себя сувениры, как это сплошь и рядом имело место двумя годами ранее.
Крыло для свидетелей в нюрнбергской тюрьме было заселено уже заметно слабее, чем в прежние времена, но собранный в нем контингент отличался более интересными людьми — учеными и специалистами в области экономики, сталелитейной, а также химической промышленности. Поэтому за те часы, которые мы провели за разговорами на самые серьезные темы, я многому научился, и это весьма пригодилось мне в будущем.
Тогда только что завершился трибунал над Фликом[311], а вот процесс над «ИГ Фарбен»[312] и Вильгельмштрассе[313] шел полным ходом, и меня, вероятно, привлекли в качестве свидетеля, чтобы я дал показания по делу Шелленберга.
Сам Шелленберг очень испугался данному обстоятельству, видимо полагая, что я захочу отомстить ему за его прошлые довольно резкие высказывания в мой адрес. Такого же мнения, скорее всего, придерживались и другие господа, сидевшие в нюрнбергской тюрьме. Все они, как оказалось, плохо разбирались в людях.
Шелленберг мог быть спокойным — я на самом деле не знал ни одного факта, который мог бы заинтересовать Нюрнбергский трибунал с точки зрения осуждения военных преступлений в отношении союзников. Правда, мне пришлось отклонить просьбу Шелленберга сказать о том, что он, пусть косвенно, якобы участвовал в покушении на Гитлера 20 июля 1944 года. И хотя это могло послужить смягчающим обстоятельством, я хотел придерживаться чистой правды, описывая столь серьезные исторические события.
В те дни у меня состоялись две весьма познавательные и запоминающиеся беседы с главным американским обвинителем профессором доктором Робертом Кемпнером. Разговор шел главным образом опять-таки о Гитлере, но у него просматривался интерес и к моей скромной персоне. Ему я мог поведать только о том сильном впечатлении, какое произвел на меня фюрер в 1943 году, не забыв рассказать и о последней с ним встрече, когда он показался мне сломленным, можно даже сказать, раздавленным грузом проблем, больным и согбенным стариком.
Профессору Кемпнеру я раскрыл также причину, заставлявшую меня, как и многих других солдат, сражаться до конца.
— Для порядочных людей в определенных условиях имеется только один путь. Тот же, кто при тех же обстоятельствах старается усидеть одновременно на двух стульях, возможно является человеком, умеющим красиво жить, но не тем, кого стоит уважать, — заявил я.
Мне показалось, что профессор Кемпнер понял мою точку зрения, о чем свидетельствовали его слова, сказанные на прощание и являвшиеся лучшим комплиментом, услышанным мною из уст бывшего противника.
— Полковник Скорцени! По большому счету вы правы! — сказал он.
После последнего пребывания в Нюрнберге мы с Радлом опять же вместе добровольно отправились в немецкий лагерь для интернированных лиц возле Дармштадта, чтобы пройти жернова денацификации. Наша совесть была чиста, поскольку мы никогда не действовали во вред Германии или Гессена[314], и бояться нам было нечего, так как союзники, которые когда-то являлись нашим противником, через мое оправдание получили письменное свидетельство о том, что мы, как честные немцы, просто выполняли свой долг.
Не касались нас и вынесенные Нюрнбергским трибуналом обвинительные приговоры в отношении организаций. Ведь за нашими плечами уже были почти три года интернирования. Однако здесь нет смысла описывать превратности лагерной жизни, которые испытали на себе миллионы немецких солдат. Возможно, по сравнению с лагерем для интернированных лиц возле Дармштадта условия содержания в других лагерях были где-то лучше, а где-то хуже. Главное заключалось в том, что гражданский персонал и охрана в этом лагере относились ко мне по большей части весьма прилично, ведь служба здесь являлась для них источником заработка на кусок хлеба, и они вынуждены были добросовестно исполнять свои обязанности, чтобы не оказаться без работы.
Вскоре для прохождения комиссии по денацификации нам назначили председательствующего. Это был офицер запаса, который нас хорошо понимал и намеревался провести необходимую процедуру быстро и корректно, ведь мы оставались последними из моего отряда, не представшими перед комиссией. А поскольку все мои бывшие подчиненные уже вышли из лагерей, то я посчитал, что настало время и для нас с Радлом смотреть на колючую проволоку с внешней стороны ограждения.
Чтобы не сидеть без дела, мы добровольно записались на работы по расчистке Дармштадта и быстро нашли общий язык с жителями и строительными рабочими, с которыми нам приходилось общаться. Однако дармштадтцы не понимали причин столь затянувшегося времени нашего интернирования и старались маленькими знаками внимания выразить нам сочувствие — то останавливали машину, чтобы подобрать нас, то угощали сигаретами, которые приносили мне студенты технического университета, несмотря на то что на черном рынке они стали очень дорогими, то передавали кусок пирога с чашечкой кофе. Последним нас снабжали в обеденный перерыв сердобольные женщины из соседних домов.
Надежды на быстрое рассмотрение нашего вопроса не оправдались. Первый назначенный срок на апрель 1948 года был перенесен, поскольку одному высокому чиновнику из особого комитета пришло в голову, что операцию по освобождению Муссолини следует рассматривать как политическое дело. К такой идее не пришел в лагере в Дахау даже самый ненавидящий нас дознаватель из числа иностранцев. Второй срок тоже перенесли по указанию сверху, так как за полчаса до начала слушаний якобы открылись новые важные обстоятельства. В результате у меня стало закрадываться сомнение в правильности своего решения подвергнуть себя подобной процедуре. Однако, когда был назначен новый главный обвинитель, я решил попробовать еще раз и во время длительной беседы с ним где-то в июне 1948 года сделал соответствующее предложение. Оно сводилось к тому, чтобы рассмотреть все в законном порядке до начала слушаний, как это было принято в нормальном судебном производстве, поскольку против меня было выдвинуто целых два персональных обвинения.
Я был убежден, что смогу опровергнуть все пункты обвинения уже в ходе предварительного расследования и поставить тем самым комиссию по денацификации в неловкое положение. Вместе с тем я настаивал на привлечении лжесвидетеля к ответственности, если преднамеренный оговор будет установлен.
В моем присутствии в криминальную полицию города Гейдельберга была отправлена телеграмма с просьбой проверить показания некоего солдата, который под присягой засвидетельствовал, что я приговорил его к смертной казни за отказ от участия в своей операции. Через несколько недель оттуда пришел ответ, что дело за отсутствием состава преступления закрыто. Тогда я потребовал наказать лжесвидетеля, но от меня отделались общими фразами, заявив, что у комиссии по денацификации есть дела поважнее. Пришлось главному обвинителю прямо сказать, что мое терпение вот-вот лопнет и в один прекрасный день я просто исчезну из лагеря.
Полностью отказался от предыдущих показаний и второй свидетель обвинения, гауптман Г. Со слезами на глазах он признался, что оболгать меня и Радла ему пришлось под давлением. Однако и он не был привлечен за лжесвидетельство.
Тем временем разбирательство в отношении меня отложили уже в седьмой раз, и нервы мои были на пределе. Однако я решил попробовать еще раз и в ходе продолжительных бесед подвести основу под решение вопроса. Однако стоило мне заикнуться о том, что мои действия диктовались военной необходимостью, как обвинитель прервал меня и заявил:
— Я в этом не разбираюсь и знать ничего не хочу! Меня это не интересует!
Тогда мое терпение лопнуло. Я так прямо и сказал, предупредив, что в этом случае скоро покину пределы лагеря. Об этом намерении при возвращении от обвинителя было сказано и каждому встретившемуся на моем пути лагерному сотруднику. Это было 25 июля 1948 года.
В последнюю ночь за колючей проволокой я много думал о времени незаконного лишения свободы. Несмотря на все мерзости, которые мне пришлось пережить, ненависти я не испытывал. Наоборот, пришло понимание, что вчерашний неприятель, сражавшийся за свои убеждения с открытым забралом, завтра может превратиться в настоящего друга. Ведь взаимопонимание невозможно только с трусливым и коварным врагом.
27 июля 1948 года я отправился в путь-дорогу, найдя выход без всякой посторонней помощи и подкупа, без кусачек и веревочной лестницы. Мною был сделан решительный шаг, который вел к новой жизни и свободе!
Приложения
Приложение 1
Таблица соответствия воинских званий войск СС, вермахта и рабоче-крестьянской Красной Армии
Приложение 2 6-е управление РСХА
Начальники:
Гейнц Йост (27 сентября 1939 г. — 22 июня 1941 г.);
Вальтер Шелленберг (22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г.).
Формирование управления начато в сентябре 1939 г., и к февралю 1940 г. было создано восемь групп:
К январю 1941 г. структура управления претерпела серьезные изменения и приобрела следующий вид:
В 1942 г. ведомства уполномоченных по зонам ответственности СД были расформированы и проведена очередная реорганизация групп.
В 1942 г. были сформированы еще две группы:
Приложение 3 Операция «Березино»
Цель операции — заставить немцев поверить в наличие в тылу советских войск в районе Минска крупной военной части вермахта и отвлечь на ее поддержку максимально возможное количество материальных ресурсов врага. Окруженная группировка должна была стать (по мнению гитлеровцев) подходящей базой для диверсионных групп, поэтому среди прочих ставилась задача выманить в ее расположение как можно большее количество парашютистов-диверсантов, ориентированных на осуществление диверсий в советском тылу и организацию разведывательной сети.
Завершением операции должен был стать выход окруженной группировки в расположение немецких частей, в ходе которого предполагалось ввести в открытый немцами проход соответствующим образом подготовленное и экипированное спецподразделение Красной армии с целью прорыва фронта.
Осуществление операции было возложено на 4-е управление НКВД. Руководил операцией начальник управления Судоплатов П.А. Операция получила кодовое наименование «Березино». Не все замыслы удалось воплотить в жизнь, однако и то, что было сделано, ныне преподается в спецшколах как филигранная работа специалистов высочайшего уровня.
В первую очередь следовало подобрать подходящую кандидатуру на должность командира группировки. Это должен был быть реально существующий немецкий офицер, достаточно высокого ранга, чья способность сплотить вокруг себя людей и вести их за собой по тылам противника в течение долгого времени не вызывала бы у немцев никаких сомнений. В то же время нужен был человек, сознательно принявший решение о сотрудничестве с советскими спецслужбами и готовый в случае непосредственного контакта с соответствующими представителями из Берлина сыграть роль командира части, героически сражающейся в тылу врага.
Подходящую кандидатуру нашли в подмосковном лагере 27/1. Это был подполковник вермахта Шерхорн, который считал, что Германия скоро потерпит поражение, и согласился на сотрудничество. В первых числах августа 1944 года его доставили в Москву.
Для справки: Шерхорн Генрих Герхардт, 1897 года рождения, подполковник, профессиональный военный, командир полка тыловой охраны, член НСДАП с 1933 года. Взят в плен под Минском 9 июля 1944 года. Присвоен псевдоним Шубин.
18 августа 1944 года была заброшена первая «наживка». «Надежным источником» был агент Макс, работавший на абвер с февраля 1942 года. На самом деле это был сотрудник НКВД Александр Демьянов, успешно внедренный в ряды абвера. В интересах операции «Березино» офицера связи Генштаба РККА «откомандировали» в Минск, где тот участвовал в допросе пленного немецкого офицера. В ходе допроса Демьянов якобы и узнал о сражающейся в тылу Красной армии группе подполковника Шерхорна. Неделю хранил Берлин молчание, проверяя по своим каналам наличие в составе вермахта такого подполковника и его послужной список. 25 августа Максу пришла ответная радиограмма, в которой его просили установить связь с группировкой и сообщить координаты выброски груза и парашютно-десантной группы. Немцы наживку проглотили. Операция началась.
Для приема «гостей» и груза в место предполагаемой дислокации «части Шерхорна» (д. Глухое Минской области) вылетела сформированная группа под командованием майора Борисова Г.Б. В состав группы входили 16 ведущих сотрудников 4-го управления, 10 этнических немцев — антифашистов, уже долгое время сотрудничающих с советской разведкой, и 20 автоматчиков ОМСБОНа. Вот таков был состав всей «армии Шерхорна».
На одной из оставленных советскими партизанами баз в районе озера Песочное был срочно оборудован «штаб» Шерхорна. Привезенных немцев переодели в форму солдат вермахта. Группу снабдили трофейными продуктами питания и предметами личного обихода. Прилетевшие немецкие агенты должны были как можно дольше оставаться в неведении, что эта «скрывающаяся в белорусском лесу часть» — не более чем бутафория. Весь район проводимой операции был оцеплен патрулями, чтобы исключить даже возможность какой-либо случайности. Но всего предусмотреть невозможно.
Опасность пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали. Не немецкие агенты, а бдительные советские граждане чуть было не погубили операцию «Березино» в самом ее начале. Они сообщили наркому НКГБ Белоруссии Цанаве Л.Ф. о появлении в районе озера Песочное военного формирования, состоящего из солдат вермахта, пособников гитлеровцев и дезертиров Красной армии.
К счастью, нарком не стал торопиться и не дал указание ликвидировать формирование, а сообщил об этом в Москву. Из Москвы он получил неожиданный ответ, что в районе озера Песочное проводится спецоперация. Также Цанаве Л.Ф. предписывалось оказывать проводящим операцию сотрудникам всяческое содействие.
В ночь с 15 на 16 сентября 1944 года в указанном Максом районе приземлились три парашютиста. Прибывших встретили и препроводили в «штаб». Старший группы Курт Киберт рассказал Шерхорну, что о мужественных солдатах вермахта, сражающихся в тылу советских войск, было доложено самому фюреру и тот потребовал сделать все возможное для спасения верных ему солдат. После этого «гостям из Берлина» открыли глаза на истинное положение дел. На следующий день в Берлин ушла радиограмма, сообщавшая, что группа подтверждает наличие отряда Шерхорна и что один из парашютистов серьезно пострадал при выброске и находится без сознания (отказался от сотрудничества).
Убедившись в реальном существовании части Шерхорна, немецкое командование принялось усиленно снабжать ее оружием, боеприпасами, медикаментами и продовольствием. Для ее снабжения Геринг выделил четыре транспортных самолета. В течение первого месяца к Шерхорну прибыли еще шестнадцать агентов, некоторые из них были завербованы НКВД и включились в «игру». Операция начала набирать обороты.
В Германии за судьбой Шерхорна и его солдат внимательно следили, и главным действующим лицом с немецкой стороны был оберштурмбаннфюрер СС Отто Скорцени. Скорцени решил все перепроверить и забросил восемь агентов, о которых Шерхорну не сообщалось. Агентам ставилась задача скрытно пробраться в указанный район и доложить об истинном положении дел. Все они были пойманы, некоторые завербованы и стали частью операции «Березино».
В декабре 1944 года разросшийся «отряд Шерхорна» разделился на три колонны, и гитлеровцам пришлось опекать уже три группы. Немецкие радисты постоянно засекали переговоры групп между собой и их слезные просьбы о помощи (в поте лица работали радисты на Лубянке).
Командование вермахта высоко оценило мужество «бойцов Шерхорна». В одном из контейнеров чекисты обнаружили Железные кресты с незаполненными наградными листами. Сам Шерхорн приказом фюрера от 16 марта 1945 года был произведен в полковники, а 23 марта награжден Рыцарским крестом Железного креста.
5 мая 1945 года радист на Лубянке принял последнюю радиограмму для «группы Шерхорна», в которой командование вермахта благодарило полковника и всех его солдат за мужество и верность долгу, а также с сожалением ставило их в известность о прекращении дальнейшей поддержки.
В общей сложности с сентября 1944 по май 1945 года немцами в советский тыл было совершено 39 самолето-вылетов и выброшено 22 германских разведчика, которые были арестованы, 13 радиостанций, 255 мест груза с вооружением, боеприпасами, обмундированием, медикаментами, продовольствием и 1 миллионом 777 тысячами рублей.
Так закончилась операция «Березино» — грандиозный блеф, так и не раскрытый германской разведкой.
Примечания
1
НСДАП — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия в Германии, существовавшая с 1920 по 1945 г. С июля 1933 г. до мая 1945 г. являлась правящей и единственной законной партией в фашистской Германии. Распущена по решению созданного союзниками по антигитлеровской коалиции оккупационного Контрольного совета. На Нюрнбергском процессе ее руководящий состав был объявлен преступным, а идеология НСДАП названа одной из главных причин войны. (Здесь и далее примем, ред.)
(обратно)2
Рыцарский крест — в фашистской Германии первая степень ордена Железного креста, учрежденного по приказу Гитлера в 1939 г.
(обратно)3
Антанта (от фр. entente — согласие) — военно-политический блок России, Великобритании и Франции, созданный в 1904–1907 гг. в качестве противовеса Тройственному союзу (военно-политическому блоку Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившемуся в 1882 г.) и завершивший размежевание великих держав накануне Первой мировой войны.
(обратно)4
Немецкая Австрия — часть Австро-Венгрии с преимущественно немецкоязычным населением.
(обратно)5
Автор имеет в виду события в Вене, поводом для которых послужило решение суда от 14 июля 1927 г. об оправдании фашистских бандитов, расстрелявших рабочих в небольшом пограничном городке, вызвавшее взрыв возмущения. Заводы встали, рабочие вышли на улицу, двинулись ко дворцу юстиции и подожгли его. 15 и 16 июля в предместьях Вены в рабочих кварталах возникли баррикады и дело дошло до вооруженных столкновений с полицией. Восстание было жестоко подавлено.
(обратно)6
Хеймвер — националистическое, военизированное объединение Союз защиты родины, созданное в основном из солдат, демобилизованных после Первой мировой войны, и действовавшее в Австрии с 1919 по 1938 г.
(обратно)7
Дольфус Энгельберт (1892–1934) — австрийский политический деятель, лидер Христианско-социальной партии, позднее Отечественного фронта, канцлер Австрии в 1932–1934 гг.
(обратно)8
Южный Тироль и сейчас является немецкоговорящей провинцией, расположенной на самом севере Италии.
(обратно)9
Лагерь для военных преступников в Дахау находился в американской зоне оккупации Германии на месте бывшего нацистского лагеря смерти.
(обратно)10
Шушниг Курт Алоис Йозеф Иоганн фон (1897–1977) — преемник Дольфуса, федеральный канцлер Австрии в 1934–1938 гг. вплоть до кризиса 1938 г., который привел к аннексии страны нацистской Германией.
(обратно)11
Берхтесгаден — город в Германии в земле Бавария в предгорьях Альп.
(обратно)12
Отечественный фронт — ультраправая австрофашистская политическая партия, основанная в 1933 г. Дольфусом. После запрета всех других политических партий и ликвидации парламентской демократии Отечественный фронт занимал монопольное положение в австрийской политике.
(обратно)13
Инсбрук — столица Тироля, западной федеральной провинции Австрии.
(обратно)14
Зейсс-Инкварт Артур (настоящее имя Артур Зайтих, 1892–1946) — австрийский политик и юрист, обергруппенфюрер СС. В Австрии занимал посты министра внутренних дел, федерального канцлера и министра обороны, а также исполняющего обязанности федерального президента. После аннексии страны нацистской Германией поступил на государственную службу Третьего рейха. По приговору Нюрнбергского трибунала признан военным преступником и казнен за преступления против человечества.
(обратно)15
Миклас Вильгельм (1872–1956) — президент Австрии с 1928 г. до аннексии Австрии Германией в 1938 г.
(обратно)16
Охранные отряды — отряды СС.
(обратно)17
Флоридсдорф — 21-й район Вены в северной части города.
(обратно)18
Бургтеатр — венский придворный театр, учрежденный в 1741 г. указом императрицы Марии-Терезии.
(обратно)19
Национал-социалистический механизированный корпус — полувоенная организация в составе НСДАП.
(обратно)20
С А — штурмовые отряды, сокращенно СА, или штурмовики. Также известны как коричневорубашечники (по аналогии с итальянскими чернорубашечниками).
(обратно)21
Гау — область или округ. Во времена правления Гитлера слово «гау» обозначало партийные округа Германии, а гаулейтерами называли руководителей региональных отделений НСДАП. Со временем гау все больше превращалось из единицы партийного управления территорией в административно-хозяйственную единицу. После 1945 г. гау перестало употребляться в официальных текстах. Сегодня так называют филиалы физкультурных объединений Германии и Австрии. Однако в Австрии в разговорной речи «гау» до сих пор используется в своем устаревшем значении, несмотря на то что официально административными единицами Австрии являются округа.
(обратно)22
Вертерзее — крупнейшее озеро Каринтии, самой южной федеральной земли Австрии, расположенное близ границы со Словенией.
(обратно)23
Аншлюс — присоединение. Термин, применяемый исключительно для определения аннексии Гитлером Австрии.
(обратно)24
3 сентября в ответ на нападение Германии на Польшу Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой начала войны принято считать 1 сентября 1939 года — день вторжения в Польшу.
(обратно)25
Пресбург — ныне это город Братислава, столица Словакии.
(обратно)26
Люфтваффе — название германских военно-воздушных сил в составах рейхсвера, вермахта и бундесвера. В русском языке это название обычно применяется к ВВС вермахта периода так называемого Третьего рейха.
(обратно)27
Войска СС, или ваффен-СС, — военные формирования СС, которые вначале назывались «резервными войсками СС». Для отличия от вермахта к воинским званиям служивших в них военнослужащих первоначально добавлялось словосочетание «резервных войск СС».
(обратно)28
Лейбштандарт СС «Адольф Гитлер» — полк личной охраны Гитлера, на базе которого была создана 1-я танковая дивизия с аналогичным названием, развернутая во время войны в танковый корпус.
(обратно)29
Автор имеет в виду начальный период Второй мировой войны, вошедший в историю с легкой руки французского журналиста Ролана Доржелеса под названием «Странная война», когда, объявив 3 сентября 1939 г. войну Германии, напавшей на Польшу, Франция и Англия не проявляли военной активности на суше.
(обратно)30
Хамм — город на западе Германии, расположенный ныне в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
(обратно)31
Имеется в виду дивизия усиления СС, которая была образована 10 октября 1938 г. путем объединения «частей усиления СС» с частью соединений СС «Мертвая голова», преобразованная в 1940 г. в дивизию СС «Райх», а в 1942 г. во 2-ю моторизованную дивизию СС «Райх».
(обратно)32
Аахен, или Ахен, — городок, расположенный рядом с голландской и бельгийской границей. В VIII в. он стал столицей империи Карла Великого, вошел в историю как резиденция императоров и королей.
(обратно)33
Люттих — прежнее немецкое название города Льеж в восточной части Бельгии в 100 км от Брюсселя.
(обратно)34
Динан — город и муниципалитет в Бельгии, расположенный на реке Маас в провинции Намюр.
(обратно)35
Айнтопф — густой суп, заменяющий и первое, и второе блюда. В его состав входят разнообразные овощи, мясные и колбасные продукты. Рецепт немецкой кухни.
(обратно)36
Имеется в виду Второе Компьенское перемирие (или Компьенское перемирие 1940 г.) — перемирие, заключенное 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу между нацистской Германией и Францией, завершившее успешную кампанию немецких войск во Франции (май — июнь 1940 г.). Результатом перемирия стало разделение Франции на оккупационную зону немецких войск и марионеточное государство, управляемое режимом Виши. Гитлер намеренно настоял на том, чтобы перемирие было заключено в Компьенском лесу, так как там было подписано Компьенское перемирие 1918 г. между Германией и войсками стран Антанты, которое предусматривало окончание боевых действий Первой мировой войны на невыгодных для Германии условиях.
(обратно)37
«Прекрасные дни в Аранхуэсе» — автор проводит аналогию с одноименной пьесой австрийского писателя и драматурга Петера Хандке, в которой повествуется о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
(обратно)38
Таблица соответствия воинских званий войск СС, вермахта и РККА, приведена в приложении 1.
(обратно)39
Фюрер — в переводе с немецкого означает «вождь», в фашистской Германии в 1934–1945 гг. — официальный титул главы государства и руководителя национал-социалистической немецкой рабочей партии.
(обратно)40
Операция «Зеелеве» (операция «Морской лев») — кодовое название планировавшейся Гитлером десантной операции по высадке на Британские острова.
(обратно)41
Хауссер Пауль (1880–1972) — немецкий военный деятель, генерал-лейтенант рейхсвера, оберстгруппенфюрер СС и генерал-полковник войск СС. Один из создателей и руководителей войск СС.
(обратно)42
Темешвар — венгерское название румынского города Тимишоара.
(обратно)43
Банат (Баншаг) — историческая область в Центральной Европе, разделенная между Сербией, Румынией и Венгрией.
(обратно)44
«Штука» — немецкий самолет-пикировщик «Юнкере Ю-87», имевший у русских прозвище «певун», «лаптежник», реже — «лапотник».
(обратно)45
Брест-Литовская крепость была возведена на четырех островах, образованных рукавами рек Мухавец и Западный Буг. Вступила в число действующих крепостей первого класса Российской империи 26 апреля 1842 г. В настоящее время находится в черте города Бреста (Республика Беларусь).
(обратно)46
В апреле 1940 г. город Лодзь был переименован фашистами в Литцманнштадт в честь германского генерала Карла Литцманна, убитого недалеко от Лодзи в 1915 г.
(обратно)47
«Семь столпов мудрости» — беллетризованные мемуары британского офицера Т.Э. Лоуренса о времени арабского восстания против Османской империи в 1916–1918 гг.
(обратно)48
Имеется в виду Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа, подписанный в Москве 23 августа 1939 г., согласно которому стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны.
(обратно)49
Автор указывает центральноевропейское время, называемое иногда среднеевропейским временем.
(обратно)50
22 июня 1941 г. дивизия СС «Райх» входила в состав 46-го моторизованного корпуса 2-й танковой группы группы армий «Центр». По состоянию на июль 1941 г. в составе корпуса кроме дивизии СС «Райх» действовали 10-я танковая дивизия и пехотный полк «Гроссдойчланд». Командовал корпусом генерал танковых войск Генрих фон Фитингхоф.
(обратно)51
Ельнинская операция была частью крупномасштабного наступления советских войск трех фронтов: Западного (командующий нарком обороны СССР маршал Тимошенко С.К.), Резервного (командующий генерал армии Жуков Г.К.) и Брянского (командующий генерал-лейтенант Еременко А.И.). Брянский фронт был сформирован 14 августа 1941 г. на стыке Центрального и Резервного фронтов для прикрытия Брянского направления.
(обратно)52
Ко времени проведения Ельнинской операции в Красной армии артиллерийские корпуса еще не были созданы. Имеются в виду полки артиллерии Резерва Главного командования РККА.
(обратно)53
Ромны — город на Украине примерно в 230 км восточнее Киева.
(обратно)54
По немецким данным, под Киевом к 24 сентября 1941 г. было взято в плен 665 тыс. человек. По данным, опубликованным в 1993 г. Генеральным штабом Вооруженных сил РФ, советские потери составили свыше 700 тыс. человек, из них 627,8 тыс. безвозвратно.
(обратно)55
На самом деле Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина была создана как массовая детская организация и комсомольцев в себя не включала. Комсомол осуществлял руководство деятельностью пионерской организации и объединял в своих рядах молодежь более старшего возраста.
(обратно)56
Гжатск — с 1968 г. город Гагарин.
(обратно)57
Имеется в виду окружение сил Западного и Резервного фронтов РККА в октябре 1941 г., когда немецкой группе армий «Центр» удалось прорвать оборону советских войск и окружить западнее Вязьмы четыре армии в составе 37 стрелковых дивизий, 9 танковых бригад и 31 артиллерийского полка РГК. Потери убитыми и ранеными Красной армии превысили 380 тыс. человек, а в плен попало свыше 600 тыс. советских солдат и офицеров. Дорога на Москву была открыта, и советское командование вынуждено было предпринять экстренные меры по укреплению Можайской линии обороны и восстановлению нарушенного фронта, бросив против немецких танковых дивизий плохо вооруженных ополченцев и курсантов военных училищ.
(обратно)58
«Сталинский орган» — жаргонное наименование, которое немецкие солдаты дали советской «Катюше».
(обратно)59
«Небельверфер» (дословно «туманомет») — германский буксируемый реактивный миномет. Вместе с советскими «Катюшами» шестиствольный Nebelwerfer 41 был первым массово использовавшимся ракетным минометом. Советские солдаты шутливо называли его «Ванюшей».
(обратно)60
«Фольксваген» — немецкая автомобильная марка.
(обратно)61
Имеются в виду военно-транспортные самолеты люфтваффе Ю-52 (Ju-52).
(обратно)62
Буш Вильгельм (1897–1966) — немецкий евангелический пастор, проповедник и писатель.
(обратно)63
Дифференциал (лат. — разность, различие) — механизм в составе трансмиссий транспортных и технологических машин.
(обратно)64
Имеется в виду уже упоминавшаяся 150-мм реактивная установка Nebelwerfer 41. Однако реактивных мин в подобном снаряжении она не имела. Существовало пять типов реактивных мин, предназначавшихся для широкого круга задач: газовые, применявшиеся для постановки дымовых завес (первоначальное применение); осколочно-фугасные — для поражения живой силы противника и легких укреплений; зажигательные — для поражения объектов огнем путем разброса на местности нефтепродуктов и их воспламенения; агитационные — для разбрасывания листовок, а также химические — снаряженные отравляющими веществами (не применялись).
(обратно)65
Имеется в виду проведенный во время битвы под Москвой парад на Красной площади, состоявшийся 7 ноября 1941 г. в честь 24-й годовщины Октябрьской революции и оказавший в том числе большое деморализующее воздействие на немецко-фашистские войска.
(обратно)66
Имеется в виду так называемый Легион французских добровольцев против большевизма, а точнее 638-й пехотный полк, сформированный во Франции и принявший участие в боевых действиях против СССР на Восточном фронте Второй мировой войны на стороне фашистской Германии.
(обратно)67
Часть особого назначения «Фриденталь» — подразделение войск СС специального назначения, формирование которого началось 18 апреля 1943 г. в старинном замке Фриденталь, расположенном в нескольких километрах от Ораниенбурга (пригорода Берлина). Название получила по месту своего расквартирования. Основой формирования принципиально нового разведывательно-диверсионного подразделения стали военнослужащие егерского батальона СС, позже получившего номер 500. 17 апреля 1944 г. подразделение было преобразовано в Егерский батальон СС 502. В его состав вошли три стрелковые и одна легионерская рота. В 1944 г. подразделение было переподчинено 6-му управлению РСХА и развернуто в диверсионно-штурмовую бригаду из шести батальонов.
(обратно)68
Имеется в виду 3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова», сформированная с 16 октября по 1 ноября 1939 г. в Дахау по штату моторизованной пехотной дивизии из частей СС «Мертвая голова» охраны концентрационных лагерей, оборонного батальона СС Данцига и других подразделений. В апреле 1941 г. дивизия была переименована в моторизованную пехотную дивизию СС «Мертвая голова», а в ноябре 1942 г. преобразована в 3-ю панцергренадерскую дивизию СС «Мертвая голова». 22 октября 1943 г. дивизия переклассифицирована в 3-ю танковую дивизию СС «Мертвая голова».
(обратно)69
Касабланкская конференция 1943 г. — секретные переговоры, проходившие с 14 по 24 января 1943 г. в марокканской Касабланке между президентом США Франклином Д. Рузвельтом, премьер-министром Великобритании, а также членами Объединенного комитета начальников штабов США и Великобритании. Глава советского правительства И.В. Сталин был тоже приглашен на встречу в Касабланку, но в столь ответственный для СССР момент победного завершения Сталинградской битвы не смог на ней присутствовать. В результате переговоров стороны договорились о первоочередном завершении войны в Африке, чтобы затем использовать освободившиеся войска для высадки на Сицилию. Наступательная операция союзников на Европейском континенте была перенесена на 1944 г. США заявили о приоритете своих наступательных планов на Тихом океане, не исключая при этом своего участия в досрочной наступательной операции на суше в Европе при соответствующих военных успехах СССР. Также было принято решение об усилении воздушных бомбардировок промышленных и стратегических объектов, а также городов Германии. Тогда же западные союзники впервые изложили для прессы требование безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии.
(обратно)70
Верховное главнокомандование вермахта — центральный элемент управленческой структуры вооруженных сил Германии в 1938–1945 гг.
(обратно)71
Абвер — орган военной разведки и контрразведки Веймарской республики и Третьего рейха. До 1944 г. входил в состав Верховного главнокомандования вермахта.
(обратно)72
Главное управление имперской безопасности — руководящий орган политической разведки и полиции безопасности Третьего рейха.
(обратно)73
Ницше Фридрих Вильгельм (1844–1900) — немецкий мыслитель, классический филолог, композитор, поэт, создатель самобытного философского учения, которое носит подчеркнуто неакадемический характер и включает в себя особые критерии оценки действительности, поставившие под сомнение основополагающие принципы действующих форм морали, религии, культуры и общественно-политических отношений.
(обратно)74
СД — служба безопасности рейхсфюрера СС — часть национал-социалистического государственного аппарата в Третьем рейхе. Основана в 1931 г. как спецслужба НСДАП и связанных с ней отрядов СС. С 1939 года подчинялась Главному управлению имперской безопасности.
(обратно)75
Имеется в виду трансиранский маршрут доставки грузов из США и Великобритании в СССР во время Второй мировой войны.
(обратно)76
Группа VI С в составе 6-го управления РСХА первоначально занималась вопросами разведывательной работы на Востоке, а с января 1941 г. — разведкой в зоне влияния СССР и Японии. Более подробно см. приложение 2.
(обратно)77
Имеется в виду озеро Намак.
(обратно)78
«Юнкере Ю-290» — немецкий дальний морской разведчик.
(обратно)79
Турция в годы Второй мировой войны занимала позицию нейтралитета и присоединилась к антигитлеровской коалиции лишь на последнем этапе войны.
(обратно)80
Маунтбеттен Луис (Луи) Френсис Альберт Виктор Николас, 1-й граф Маунтбеттен Бирманский (1900–1979) — британский военно-морской и государственный деятель, адмирал флота.
(обратно)81
15 апреля 1943 г. Отто Скорцени был командирован в РСХА и назначен командиром особых учебных курсов СС «Ораниенбург», заменив на этом посту гауптштурмфюрера СС Питера ван Вессема. К этому времени личный состав курсов был разбит на три роты — одну моторизованную и две пехотные. Из 300 диверсантов 85 % были немцами, а 15 % — иностранцами и так называемыми фольксдойче (этнические немцы, которые по нацистской классификации лиц принадлежали к германской расе и проживали во многих странах Европы). 20 апреля 1943 г. Скорцени был произведен в гауптштурмфюреры СС. В послевоенные годы он многократно отрицал свою тесную связь с РСХА и СД, а также непосредственное подчинение Вальтеру Шелленбергу как начальнику управления. Более того, в 1958 г. Скорцени предложил 100 тыс. марок любому, кто представит ему его фотографию в форме СД. А поскольку Скорцени ходил исключительно в форме войскового офицера боевых частей войск СС, то он был уверен, что такой фотографии быть не может.
(обратно)82
Кальтенбруннер Эрнст (1903–1946) — начальник Главного управления имперской безопасности СС и статс-секретарь имперского министерства внутренних дел Германии в 1943–1945 гг. Присвоены звания — обергруппенфюрер СС и генерал полиции (с 1943 г.), генерал войск СС (с 1944 г.). За многочисленные преступления против мирного населения и военнопленных приговорен Международным военным трибуналом в Нюрнберге к смертной казни через повешение.
(обратно)83
Гестапо («тайная государственная полиция») — политическая полиция Третьего рейха в 1933–1945 гг. Организационно входило в состав министерства внутренних дел Германии и, кроме того, с 1939 г. в Главное управление имперской безопасности (РСХА). Деятельность гестапо была выведена из-под надзора административных судов, в которых обычно обжаловались действия государственных органов. В то же время само оно обладало правом превентивного ареста — заключения в тюрьму или концентрационный лагерь без судебного решения.
(обратно)84
Остмарк, дословно «Восточная марка» — наименование Австрии после аншлюса на жаргоне немецких фашистов.
(обратно)85
«Стэн» — британский пистолет-пулемет, созданный в 1941 г. Являлся наиболее массовым пистолетом-пулеметом армии Великобритании и ее доминионов в ходе Второй мировой войны. Находился на вооружении английской армии до начала 1960-х гг.
(обратно)86
Пулемет MG 42 — немецкий единый пулемет времен Второй мировой войны, стрелявший самым распространенным на тот момент в Германии винтовочным патроном — 7,92x57 мм. Был создан в малоизвестной компании «Фабрика металлических и лакированных изделий Йоганнеса Гросфуса» в городе Дебельн. Среди советских фронтовиков и союзников получил прозвища Косторез, пила Гитлера, Эмга, или Крестовик.
(обратно)87
Барон фон Фелькерзам Адриан (1914–1945) — германский разведчик-диверсант, штурмбаннфюрер СС, внук русского контр-адмирала Д.Г. фон Фелькерзама.
(обратно)88
Канарис Вильгельм Франц (1887–1945) — немецкий военный деятель, адмирал, начальник службы военной разведки и контрразведки в нацистской Германии в 1935–1944 гг. Участник заговора против Гитлера. Казнен 9 апреля 1945 г.
(обратно)89
Фенрих — в нацистской Германии кандидат в офицеры, курсант выпускного курса офицерского училища.
(обратно)90
Месопотамия — историко-географический регион на Ближнем Востоке, расположенный в долине рек Тигра и Евфрата.
(обратно)91
Суэцкий канал — бесшлюзовый судоходный канал в Египте, открытый для судоходства 17 ноября 1869 г. и соединяющий Средиземное и Красное моря. Зона канала считается условной границей между двумя материками, Африкой и Евразией.
(обратно)92
Шпеер Альберт (1905–1981) — государственный деятель Германии, личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружений и боеприпасов (со 2 сентября 1943 г. — рейхсминистр вооружений и военного производства). Во время Нюрнбергского процесса против главных военных преступников был одним из немногих обвиняемых, которые признали свою вину. Приговорен к двадцати годам тюремного заключения.
(обратно)93
Штудент Курт (1890–1978) — германский генерал-полковник, участник Первой и Второй мировых войн. Во время Первой мировой войны считался летчиком-асом, одержав 6 воздушных побед. Основатель и первый командующий германскими воздушно-десантными войсками.
(обратно)94
«Хейнкель Не-111» — немецкий средний бомбардировщик, один из основных бомбардировщиков люфтваффе (существовали также модификации торпедоносцев и штурмовиков).
(обратно)95
Фраскати — город в Италии с северной стороны Альбанских гор, в 21 км от Рима.
(обратно)96
Кессельринг Альберт (1885–1960) — генерал-фельдмаршал люфтваффе. Кессельринг, участвовавший в обеих мировых войнах, стал одним из самых успешных командиров Третьего рейха. Получил прозвища Улыбчивый Альберт у союзников и Дядя Альберт у своих солдат, так как был одним из самых популярных немецких генералов Второй мировой войны.
(обратно)97
Аэропорт Берлин-Темпельхоф — аэропорт в Берлине, функционировавший с 1920-х гг. по 2008 г.
(обратно)98
«Юнкере Ю-52» — немецкий пассажирский и военно-транспортный самолет, производившийся фирмой Юнкерса в 1932–1945 гг. Самолет получил неофициальные прозвища: «Тетушка Ю» и «Железная Анни».
(обратно)99
«Вольфсшанце» («Волчье логово») — главная ставка фюрера и командный комплекс Верховного командования Вооруженными силами Германии в лесу Гёрлиц, в 8 км восточнее города Растенбург (сейчас это польский город Кентшин).
(обратно)100
Шнайдемюль — ныне польский город Пила.
(обратно)101
Данциг — ныне город Гданьск (Польша); Инстербург — Черняховск (Калининградская область России); Позен — Познань (Польша).
(обратно)102
Мазурское поозерье — озерное плато на северо-востоке Польши, формирующее юго-восточную часть Балтийской гряды между нижним течением реки Вислы и средней частью бассейна реки Неман.
(обратно)103
Гинденбург, полное имя Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург — немецкий военный и политический деятель. Главнокомандующий на Восточном фронте против России, начальник Генерального штаба во время Первой мировой войны. Прусский генерал-фельдмаршал, рейхспрезидент Германии. Первый в истории Германии человек, избранный главой государства на прямых всенародных выборах.
(обратно)104
Лётцен — ныне город Гижицко в Польше.
(обратно)105
Кейтель Вильгельм Бодевин Йоханн Густав (1882–1946) — немецкий военный деятель, начальник Верховного командования вермахта (вооруженных сил Германии), генерал-фельдмаршал. Подписал Акт капитуляции Германии, свидетельствующий о полном и безоговорочном поражении Германии в Великой Отечественной и Второй мировой войне в Европе. Международным военным трибуналом в Нюрнберге обвинен в преступлениях против человечества и, как один из главных военных преступников, казнен через повешение 16 октября 1946 г.
(обратно)106
Дюрер Альбрехт (1471–1528) — немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. Первый теоретик искусства среди североевропейских художников. Оставил заметный след в военно-инженерном искусстве.
(обратно)107
Антикоминтерновский пакт — договор, заключенный в Берлине 25 ноября 1936 г. между Германией и Японией, создавший двусторонний блок этих государств, направленный против Коммунистического интернационала с целью не допустить дальнейшего распространения коммунистической идеологии в мире.
(обратно)108
Дуче — итальянский титул, который носил Бенито Муссолини, глава Национальной фашистской партии. Титул был учрежден в 1925 г., и Муссолини получил его, сохранив за собой пост главы Совета министров Италии, что позволило ему стать фактическим главой итальянского государства, несмотря на наличие де-юре правящего монарха Виктора Эммануила III.
(обратно)109
Бадольо Пьетро (1871–1956) — маршал Италии (25 июня 1926 г.), герцог Аддис-Абебский, маркиз Саботино, премьер-министр, который принял власть над страной после свержения Муссолини в 1943 г., объявил нейтралитет и вывел Италию из Второй мировой войны.
(обратно)110
В то время немецкими войсками на юге Италии командовал генерал-фельдмаршал Кессельринг.
(обратно)111
В СС было три ветви. Первая образовалась из военизированных отрядов СС, появившихся сначала в виде полка личной охраны фюрера лейбштандарт С С «Адольф Гитлер» и выросших в дальнейшем в войска СС, насчитывавших 38 чисто эсэсовских дивизий. Вторую ветвь составляли охранные части «Мертвая голова», которые управляли тюрьмами и концентрационными лагерями, а третью, второстепенную, ветвь представляли так называемые «общие СС», в чьи функции входил подбор рекрутов в активные ветви СС и добывание денег в различных добровольных организациях. В 1936 г. рейхсфюрер СС Гиммлер стал начальником всей германской полиции и объединил под своим контролем собственную службу безопасности — СД, тайную государственную полицию (гестапо), криминальную полицию (крипо), а также городскую и сельскую полицию, а с 1943 г. Гиммлер к тому же был министром внутренних дел Германии. В 1942 г. для действия на оккупированных территориях в составе СС были созданы карательные части особого назначения — эйнзацгруппы, а летом 1944 г. в ведение С С перешла и военная разведка и контрразведка абвер.
(обратно)112
Романские языки — группа языков и диалектов, входящих в италийскую ветвь индоевропейской языковой семьи и генетически восходящих к общему предку — латыни. Название «романский» происходит от латинского слова Romanus (римский).
(обратно)113
Любимой собакой Гитлера была немецкая овчарка по кличке Блонди, подаренная в 1941 г. фюреру начальником партийной канцелярии НСДАП Мартином Борманом. Ее жизнь оборвалась в одно время с хозяином. Яд, который принял Гитлер, изначально был испытан на Блонди.
(обратно)114
Земмеринг — первая в мире горная железная дорога. Наиболее старый участок длиной 42 км, построенный в 1848–1855 гг., проходит через Земмерингский перевал между Мюрццушлагом и Глоггницем в высокогорной местности. Учитывая весьма сложный рельеф и значительные перепады высоты, является одним из выдающихся достижений гражданской инженерии XIX в.
(обратно)115
Шлоссберг — исторический центр города Грац, представляющий собой гору высотой 122 м, с превосходным парковым ансамблем.
(обратно)116
Пола — историческая провинция Италии на западном побережье полуострова Истрия (современная Хорватия), существовавшая в 1920–1947 гг.
(обратно)117
Замок Святого Ангела — римский архитектурный памятник, также известный как Мавзолей Адриана, иногда называемый Печальный замок, представляющий собой высокое цилиндрическое здание в парке Адриано на берегу Тибра.
(обратно)118
Барон фон Рихтгофен Вольфрам (1895–1945) — германский военачальник, генерал-фельдмаршал авиации. 12 июня 1943 г. Гитлер назначил Рихтгофена командующим 2-м воздушным флотом в Италии. 27 октября 1944 г. он был освобожден от должности и зачислен в резерв ОКБ.
(обратно)119
Тускулум, или Тускул, — один из важнейших городов древнего Лация. Стоял в Альбанских горах в кальдере потухшего вулкана на высоте 670 м над уровнем моря в 24 км к северо-западу от Рима.
(обратно)120
Имеются в виду самолеты «Мессершмитт» Ме-323 — немецкие тяжелые военно-транспортные самолеты грузоподъемностью до 11 т. Самый тяжелый сухопутный самолет времен Второй мировой войны.
(обратно)121
Имеется в виду Умберто II по прозвищу Майский король (1904–1983) — четвертый и последний король Италии (из Савойской династии). Маршал Италии. Занимал престол чуть более месяца, с 9 мая по 12 июня 1946 г., между отречением своего отца Виктора-Эммануила III и объявлением итогов референдума об отмене монархии, на котором победил республиканский строй.
(обратно)122
Абиссиния — неофициальное название Эфиопии, употреблявшееся в прошлом и иногда встречающееся в современной зарубежной литературе.
(обратно)123
Чиано Джан Галеаццо, 2-й граф Кортелаццо и Буккари (1903–1944) — итальянский политик и дипломат периода фашизма, зять Бенито Муссолини. Получив юридическое образование, служил атташе в Рио-де-Жанейро, где познакомился и в 1930 г. обвенчался с дочерью Муссолини Эддой. Вернувшись через несколько лет в Италию, получил пост министра прессы и пропаганды, а в 1936–1943 гг. являлся министром иностранных дел. Чиано был среди тех, кто проголосовал за смещение Муссолини, за что марионеточное фашистское правительство приговорило его к смерти.
(обратно)124
Большой фашистский совет — правительственная структура в Италии во времена правления Бенито Муссолини. Образован в декабре 1922 г. после фашистского переворота и назначения Муссолини премьер-министром страны.
(обратно)125
Чернорубашечники — вооруженные отряды Национальной фашистской партии в Италии, созданные после Первой мировой войны и действовавшие до конца Второй мировой войны.
(обратно)126
Риббентроп Ульрих Фридрих Вилли Иоахим фон (1893–1946) — министр иностранных дел Германии (1938–1945), советник Адольфа Гитлера по внешней политике. Казнен через повешение 16 октября 1946 г. по приговору Нюрнбергского трибунала.
(обратно)127
Йодль Альфред (1890–1946) — начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта, генерал-полковник (с 1 февраля 1944 г.). 8 мая 1945 г. подписал Акт капитуляции Германии. Нюрнбергским трибуналом признан одним из главных военных преступников и по решению суда был повешен.
(обратно)128
Дёниц Карл (1891–1980) — немецкий военный и государственный деятель, гроссадмирал (с 1943 г.), командующий подводным флотом (1939–1943), главнокомандующий военно-морским флотом нацистской Германии (1943–1945), после самоубийства Гитлера — глава государства и главнокомандующий вооруженными силами нацистской Германии с 30 апреля по 23 мая 1945 г. За военные преступления приговорен Нюрнбергским трибуналом к 10 годам лишения свободы.
(обратно)129
Геринг Герман Вильгельм (1893–1946) — политический, государственный и военный деятель нацистской Германии, рейхсминистр имперского министерства авиации, рейхсмаршал Великогерманского рейха (с 19 июня 1940 г.), группенфюрер СА. Геринг являлся одним из наиболее влиятельных людей в нацистской Германии, согласно декрету от 29 июня 1941 г. он официально являлся «преемником фюрера», однако 23 апреля 1945 г. по приказу Гитлера был лишен всех званий и должностей, а также исключен из партии. Приговором Нюрнбергского трибунала признан одним из главных военных преступников и приговорен к смертной казни через повешение, но накануне казни покончил жизнь самоубийством.
(обратно)130
Принц Филипп Гессенский (1896–1980) — глава Гессенского дома (с 1940 по 1980 г.). Также титулярный король Финляндии и ландграф Гессенский (1940–1980), титулярный великий герцог Гессенский и Рейнский (1968–1980). Внук германского императора Фридриха III и правнук королевы Великобритании Виктории, а также зять короля Италии Виктора-Эммануила III.
(обратно)131
Корветтен-капитан — соответствует воинскому званию капитан третьего ранга.
(обратно)132
Анцио — город-порт на треугольном выступе Тирренского моря в Италии, расположенный в регионе Лацио в провинции Рома в 56 км от Рима.
(обратно)133
Боуден-трос — гибкий трос, используемый для передачи механической силы за счет перемещения троса (как правило, стального) внутри гибкой трубки, называемой рубашкой.
(обратно)134
Перемирие союзников с Италией во время Второй мировой войны, повлекшее за собой капитуляцию итальянских вооруженных сил, было подписано 3 сентября 1943 г. Публично об этом было объявлено 8 сентября 1943 г.
(обратно)135
Эйзенхауэр Дуайт Дэвид (1890–1969) — американский государственный и военный деятель, генерал армии (1944), 34-й президент США (1953–1961).
(обратно)136
Главное командование союзных сил — орган стратегического руководства группой армий союзных войск США и Великобритании на Средиземноморском театре военных действий во время Второй мировой войны, созданный для координации боевых действий в августе 1942 г. в Великобритании под командованием генерала Д. Эйзенхауэра.
(обратно)137
Штабс-врач — воинское звание, соответствующее капитану медицинской службы.
(обратно)138
Имеется в виду немецкий самолет-корректировщик, который немецкие солдаты за длинные шасси называли «Шторх» — «Аист».
(обратно)139
Имеются в виду немецкие автоматические винтовки парашютистов образца 1942 г. FG-42, которые были разработаны специально для десантников люфтваффе.
(обратно)140
Истребительные части СС были сформированы в мае — июне 1944 г. по указанию Гиммлера для подготовки и выполнения особо важных заданий по террору, шпионажу и диверсиям в тылу противника. Комплектование и оперативное руководство практической деятельностью нового органа было поручено Скорцени, который был к тому времени начальником группы VI S в 6-м управлении РСХА и одновременно возглавлял группу D Военного управления РСХА (бывшая управленческая группа абвера «Заграница»). Истребительные части СС включали в себя пять отдельных групп: 1) истребительную часть СС «Центр» (Mitte), сформированную 10 ноября 1944 г. на базе 502-го егерского батальона СС; 2) истребительную часть «Северо-Запад», созданную на базе подразделения дозорного корпуса «Северная Франция»; 3) истребительную часть «Восток», основу которой составили военнослужащие из диверсионной части дозорного корпуса эйнзацгруппы «Балтика» в качестве егерского батальона СС «Восток; 4) истребительную часть «Юго-Восток», созданную из диверсионной части дозорного корпуса «Карпаты»; кроме эсэсовцев, часть была доукомплектована моряками ВМФ Германии; 5) истребительную часть «Юго-Запад», сформированную из диверсионных частей дозорного корпуса «Южная Франция». В сентябре 1944 г. все истребительные части СС были переданы в войска С С, а в конце войны истребительные части вновь переподчинили оперативному штабу «Фриденталь», который в апреле 1945 г. был преобразован в Охранный корпус «Альпенланд».
(обратно)141
Имеется в виду так называемое «Немецкое еженедельное обозрение» — немецкий пропагандистский киножурнал времен Второй мировой войны, выпускавшийся в 1940–1945 гг. Демонстрировался в кинотеатрах перед просмотром кинофильмов в обязательном порядке. Еженедельно рассылалось по 2000 фильмокопий плюс копии на иностранных языках для союзников, нейтральных стран, оккупированных территорий и лагерей военнопленных.
(обратно)142
Имеется в виду «Физелер Fi-156 Шторх», более известный как просто «Шторх» — малый немецкий самолет, созданный и использовавшийся массово в Третьем рейхе, а также союзных с ним странах в период с 1937 по 1945 г.
(обратно)143
Палаццо Венеция — исторический дворец, резиденция семьи Барбо, а также бывшее представительство Венецианской республики в папском Риме. Сегодня в палаццо расположен Национальный музей.
(обратно)144
Рокка-деле-Каминате — замок, расположенный на холме в муниципалитете Мельдола, являвшийся летней резиденцией Бенито Муссолини в 30-х гг. XX в.
(обратно)145
Республиканская фашистская партия — итальянская фашистская политическая партия, основанная в сентябре 1943 г. в качестве преемницы Национальной фашистской партии (НФП). В 1943–1945 гг. — правящая и единственная законная партия Итальянской социальной республики (государства, образованного на оккупированной нацистской Германией территории Северной и частично Центральной Италии).
(обратно)146
Караванке — горный хребет в Южных Известняковых Альпах. В настоящее время формирует естественную границу между Австрией и Словенией.
(обратно)147
Асперн — селение на левом берегу Дуная напротив Вены.
(обратно)148
В настоящее время там расположен Венский международный аэропорт Вена-Швехат.
(обратно)149
Венский-Нейштадт — город в 50 км к югу от Вены.
(обратно)150
Рыцарский крест Железного креста — высший орден Третьего рейха как признание особой храбрости в бою или успехов в руководстве войсками во время Второй мировой войны.
(обратно)151
Фон Ширах Бальдур Бенедикт (1907–1974) — немецкий партийный и молодежный деятель, рейхсюгендфюрер (1933–1940), затем гаулейтер Вены.
(обратно)152
Аэродром Мюнхен-Рим — аэропорт Мюнхена, который был построен в 1936 г. и функционировал до открытия нового мюнхенского аэропорта в 1992 г.
(обратно)153
Савойская династия — род, правивший с XI в. графством Савойя и маркграфством Суза, с 1416 г. — Савойским герцогством, с 1720 г. — Сардинско-Пьемонтским королевством и с 1861 г. до конца Второй мировой войны — Итальянским королевством.
(обратно)154
Хевель Вальтер (1904–1945) — немецкий дипломат во время Второй мировой войны, активный член НСДАП, один из немногих близких друзей Адольфа Гитлера.
(обратно)155
Чемберлен Хьюстон Стюарт (1855–1927) — англо-немецкий писатель, социолог, философ, один из основоположников расизма.
(обратно)156
Клемансо Жорж Бенжамен (1841–1929) — французский политический и государственный деятель, журналист, премьер-министр Франции. За жесткий характер и непримиримость к политическим противникам получил прозвище Тигр.
(обратно)157
Имеется в виду арест Муссолини и государственный переворот в Италии, произошедший 25 июля 1943 г.
(обратно)158
Крайна — историческая область, ныне занимающая большую часть территории государства Словения. До 1947 г. Внутренняя Крайна и Словенское Приморье (в совокупности известные как Юлийская Крайна) являлись составной частью Италии.
(обратно)159
Истрия — название полуострова в Адриатическом море, в северной части Хорватии. Небольшие части полуострова принадлежат Словении и Италии.
(обратно)160
Инсбрук — город в Австрии, административный центр федеральной земли Тироль, расположенный на западе страны на берегу реки Инн.
(обратно)161
Имеется в виду «Юнкере W 34h» — легкий транспортный и учебный одномоторный цельнометаллический моноплан с неубирающимся шасси.
(обратно)162
Гарда, или Лаго-ди-Гарда, — самое большое озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножия Альп.
(обратно)163
Айнтопф-воскресенье — традиция, заключавшаяся в том, что все немецкие семьи должны были готовить каждое второе воскресенье месяца густой суп. При этом сэкономленные деньги отдавались в кассу взаимной помощи.
(обратно)164
Режим Виши — коллаборационистский режим в Южной Франции времен оккупации Северной Франции нацистской Германией после поражения в начале Второй мировой войны и падения Парижа в 1940 г. Существовал с 10 июля 1940 г. по 22 апреля 1945 г. (де-факто до 25 августа 1944 г.). Официально придерживался политики нейтралитета.
(обратно)165
Одноместная торпеда «Негер» — пилотируемая торпеда времен Второй мировой войны. Конструктивно «Негер» основывалась на торпеде G7e, боевая часть которой была заменена на пластиковую кабину. Плавучести «Негера» хватало, чтобы держаться на поверхности воды, неся на себе еще одну торпеду G7e, подвешенную снизу.
(обратно)166
Райч Ханна (1912–1979) — немецкая летчица-испытательница.
(обратно)167
Мильх Эрхард (1892–1972) — немецкий военный деятель, генерал-фельдмаршал (19 июля 1940 г.). Заместитель Германа Геринга, генеральный инспектор люфтваффе. Осужден американским военным трибуналом за военные преступления к пожизненному заключению, был досрочно освобожден в 1955 г.
(обратно)168
Оберг Карл Альбрехт (1897–1965) — высший руководитель СС и полиции во Франции, обергруппенфюрер СС и генерал полиции (1 августа 1944 г.), а также генерал войск СС (10 марта 1945 г.).
(обратно)169
Петэн Анри-Филипп-Бенони-Омер-Жозеф (1856–1951) — французский военный и государственный деятель, маршал Франции (21 ноября 1918 г.); видный участник Первой мировой войны. В 1940–1944 гг. возглавлял авторитарное коллаборационистское правительство Франции, известное как режим Виши.
(обратно)170
Де Голль Шарль Андре Жозеф Мари (1890–1970) — французский военный и государственный деятель, генерал. Во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления. Основатель и первый президент Пятой республики (1959–1969).
(обратно)171
Имеется в виду 9-я танковая дивизия СС «Хоэнштауфен», сформированная 31 декабря 1942 г. во Франции как 9-я танково-гренадерская дивизия СС из резерва лейбштандарт СС «Адольф Гитлер» и пополнявшаяся за счет добровольцев со всей Германии. Дивизия получила имя «Хоэнштауфен» в честь императоров Первого рейха Гогенштауфенов. 5 мая 1945 г. остатки разгромленной дивизии сдались американским войскам.
(обратно)172
Полиция в фашистской Германии была разделена на две службы: полицию порядка и полицию безопасности.
(обратно)173
Виши — французский город, расположенный в департаменте Алье региона Овернь к юго-востоку от Парижа. В прежние времена Виши принадлежал исторической провинции Бурбонне.
(обратно)174
— й егерский батальон под командованием оберштурбаннфюрера СС Фукса дислоцировался в местечке Фриденталь. Батальон имел в своем составе четыре роты солдат спецподразделений СС.
— ю роту батальона составляли немцы, обучавшиеся диверсионному делу. 2-я рота состояла также из немцев и использовалась в качестве пехотного подразделения для проведения больших диверсионных операций. 3-я рота батальона несла охрану территории штаба и расположения батальона. 4-я рота состояла из бывших советских граждан, французов, чехов, словаков и поляков для совершения диверсий и актов саботажа на соответствующих территориях.
(обратно)175
Мандарин — название чиновников в имперском Китае, данное им португальцами.
(обратно)176
— я флотилия MAC — специальное подразделение военно-морских сил Италии для проведения разведывательных и диверсионных операций против военно-морских сил противника и его инфраструктуры. Считается одним из самых эффективных и новаторских специальных подразделений на море в годы Второй мировой войны.
(обратно)177
Князь Боргезе Юнио Валерио Шипионе (1906–1974) — итальянский военный и политический деятель, капитан второго ранга. В 1945–1949 гг. отбывал срок в тюрьме.
(обратно)178
Абвер-2 — самый засекреченный отдел германской военной разведки, который вел работу по следующим направлениям: подготовка диверсантов и террористов и их заброска в тыл противника; разработка и изготовление на специальных предприятиях массовых и индивидуальных средств террора; организация диверсий и терактов, создание специальных отрядов из национальных меньшинств в тылах государств, воюющих с фашистской Германией; а также организация специальных воинских формирований из числа лиц немецкой национальности и представителей национальных меньшинств для захвата в тылу противника стратегически важных объектов с целью их уничтожения или сохранения до подхода передовых армейских частей.
(обратно)179
Хейе Гельмут Гвидо Александр (1895–1970) — германский военно-морской деятель, вице-адмирал, политик ФРГ.
(обратно)180
Гроссадмирал — высшее военно-морское звание в Австро-Венгрии (1867–1918), Германской империи (1871–1918) и Третьем рейхе (1933–1945). Ему соответствовало звание генерал-фельдмаршала в сухопутных войсках.
(обратно)181
Самоходная мина «Голиаф» — немецкая танкетка без экипажа, управлявшаяся на расстоянии по проводу. Эта гусеничная самоходная мина имела примерные размеры 150x85x56 см. Конструкция несла 75—100 кг взрывчатых веществ и была предназначена для уничтожения танков, плотных пехотных формирований и разрушения зданий.
(обратно)182
Имеется в виду морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 г. в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии как часть стратегической операции «Оверлорд».
(обратно)183
Верховное командование кригсмарине — высший орган управления ВМФ Германии до и во время Второй мировой войны. Создано 1 июня 1935 г.
(обратно)184
— я бомбардировочная эскадра была образована 21 февраля 1944 г. приказом Главного командования люфтваффе. Однако никаких бомбардировщиков в ней не было, и название «бомбардировочная» было лишь маскировкой ее истинного назначения.
(обратно)185
Имеется в виду полигон Пенемюнде — ракетный центр Третьего рейха под городком Пенемюнде на северо-востоке Германии, созданный в 1937 г., где была создана первая в мире баллистическая ракета «Фау-2», сконструированная Вернером фон Брауном.
(обратно)186
«Бюккер Ви 131 Юнгманн» — учебно-тренировочный самолет, а также ночной бомбардировщик, использовавшийся для борьбы с партизанами и беспокоящих ночных налетов на советские войска.
(обратно)187
«Фау» (возмездие) — обозначение ракет различных типов. Фашисты утверждали, что эти снаряды были запущены в производство с целью отомстить за массированные бомбардировки германских городов, забывая, что именно они начали атаки с воздуха на мирные города, в том числе и Лондон.
(обратно)188
Рехлин — местечко на северо-востоке Германии в земле Мекленбург — Передняя Померания.
(обратно)189
Барон Фрейтаг фон Лорингофен Бессель (1899–1944) — начальник отдела абвер-2, в ведение которого входила организация диверсий и саботажа в тылу противника, а также руководство действиями дивизии «Бранденбург-800». Один из участников заговора офицеров против Гитлера. 26 июля 1944 г. после неудачного покушения на Гитлера (20 июля 1944 г.) покончил с собой.
(обратно)190
Хансен Георг Александр (1904–1944) — сотрудник германской военной разведки, возглавлявший с марта 1943 г. 1-й отдел военной разведки абвера. После ликвидации абвера 12 февраля 1944 г. назначен начальником военного управления РСХА. Участник заговора против Гитлера.
(обратно)191
Авранш — город-порт на северо-западе Франции в регионе Нормандия.
(обратно)192
Броз Тито Иосип (1892–1980) — югославский революционер и политический деятель. Лидер Югославии с 1945 г. вплоть до своей смерти в 1980 г.
(обратно)193
Макй — часть движения Сопротивления во Франции нацистским оккупационным войскам во время Второй мировой войны, представлявшая собой по преимуществу вооруженные группы партизан, действовавших в сельской местности.
(обратно)194
Гебхардт Карл Франц (1897–1948) — группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС, личный врач и школьный друг рейхсфюрера СС Гиммлера. Один из главных организаторов и участников медицинских экспериментов над заключенными концлагерей во время Второй мировой войны. По приговору Нюрнбергского процесса над врачами повешен.
(обратно)195
Имеется в виду Итальянская социальная республика — марионеточное государство, образованное в сентябре 1943 г. на оккупированной Германией территории Северной Италии после освобождения из-под ареста Бенито Муссолини, который и возглавил новое правительство. Вновь созданная Республиканская фашистская партия стала правящей и единственно законной в стране. В приведенном названии автор, видимо, основывается на программном выступлении Муссолини на первом заседании Совета министров Итальянской социальной республики 28 сентября 1943 г., где он заявил: «Действующее правительство среди своих главных задач ставит подготовку к созыву Учредительного собрания, которое должно будет освятить программу партии созданием Республиканского фашистского государства».
(обратно)196
Гарньяно — местечко на озере Гарда, где расположен дворец Фельтринелли, бывшее здание правительства дуче.
(обратно)197
Муссолини Бруно (1918–1941) — второй сын Бенито Муссолини и Ракеле Муссолини, пилот ВВС, генеральный директор авиакомпании L.A.T.I. Принимал участие в бомбардировках Абиссинии. Погиб в авиакатастрофе вблизи аэропорта Сан-Джусто в Пизе, врезавшись в дом.
(обратно)198
Грациани Родольфо (1882–1955) — итальянский военный и государственный деятель, маршал Италии (с 1936 г.), занимал ряд государственных должностей в колониальных владениях Италии, участник Северо-Африканской кампании, в 1943–1945 гг. — военный министр Итальянской социальной республики.
(обратно)199
Паволини Алессандро (1903–1945) — итальянский политик и журналист, член фашистского правительства Италии в период Второй мировой войны, проявлял жестокость в отношении противников фашизма. Казнен партизанами.
(обратно)200
Дьеп — город на северо-западе Франции в регионе Нормандия, расположенный в 170 км к северо-западу от Парижа.
(обратно)201
Роммель Эрвин Ойген Йоханнес (1891–1944) — немецкий генерал-фельдмаршал (с 1942 г.) и командующий войсками стран оси в Северной Африке. За умение разгадывать ловушки противника и умелые действия за ним закрепилось прозвище Лис Пустыни. После неудавшегося покушения на Гитлера один из заговорщиков назвал имя Роммеля, хотя непосредственного участия в заговоре он не принимал. Учитывая выдающиеся заслуги генерал-фельдмаршала, ему был предоставлен выбор между «народным трибуналом» и самоубийством. 14 октября 1944 г. Роммель был вынужден принять цианистый калий.
(обратно)202
Коллер Карл (1898–1951) — немецкий генерал авиации и начальник Генерального штаба ВВС нацистской Германии во Второй мировой войне.
(обратно)203
DFS-230 — транспортный планер люфтваффе времен Второй мировой войны. Именно благодаря модели DFS-230 10 мая 1940 г. была осуществлена первая в мире операция ВДВ, в результате которой был захвачен бельгийский форт Эбен-Эмаэль.
(обратно)204
Донован Уильям Джозеф по прозвищу Дикий Билл (1883–1959) — американский юрист и сотрудник спецслужб, руководитель Управления стратегических служб во время Второй мировой войны и некоторое время после.
(обратно)205
Аграм — прежнее австро-венгерское название города Загреба.
(обратно)206
Баня-Лука — ныне столица Республики Сербской.
(обратно)207
Фромм Фридрих (1888–1945) — немецкий военный деятель, генерал-полковник. Командующий армией резерва (1939–1944). Фридрих Фромм был посвящен в планы заговора 20 июля против Адольфа Гитлера, но отказался от активного участия в операции «Валькирия», хотя и не препятствовал ее подготовке. Он был готов поддержать заговорщиков лишь в случае смерти Гитлера. Казнен 12 марта 1945 г. в каторжной тюрьме в Бранденбурге.
(обратно)208
Бендлерштрассе — улица в Берлине, где находилось здание военного министерства, синонимом которого она и служила, так же как Вильгельмштрассе в отношении рейхсканцелярии.
(обратно)209
Гудериан Гейнц Вильгельм (1888–1954) — военный теоретик, генерал-полковник германской армии (с 1940 г.), генерал-инспектор бронетанковых войск (с 1943 г.), начальник Генерального штаба сухопутных войск (с 1945 г.).
(обратно)210
Ольбрихт Фридрих (1888–1944) — генерал пехоты германской армии (с 1940 г.). Один из лидеров выступления военных против Адольфа Гитлера 20 июля 1944 г. Расстрелян по приказу генерала Фромма вместе с фон Штауффенбергом, Мерцем фон Квирнхаймом и обер-лейтенантом фон Хафтеном, участвовавшими в покушении на Гитлера.
(обратно)211
Бек Людвиг Август Теодор (1880–1944) — генерал-полковник германской армии (с 1938 г.), начальник Генерального штаба сухопутных войск в 1935–1938 гг. Лидер выступления военных против Адольфа Гитлера 20 июля 1944 г. Поздно вечером заговор был подавлен, а его руководители, включая генерала Бека, арестованы. Около 23 часов 15 минут Бек обратился с просьбой к командующему армией резерва генералу Фридриху Фромму (участвовавшему в подавлении заговора) разрешить ему покончить с собой. Однако попытка самоубийства оказалась неудачной — Бек только ранил себя. В полубессознательном состоянии он попросил дать ему другой пистолет, но и вторая попытка не привела к смертельному исходу. Тогда Фромм приказал одному из своих подчиненных добить старого генерала выстрелом в шею.
(обратно)212
Граф фон Штауффенберг Клаус Филипп Мария Шенк (1907–1944) — полковник вермахта, один из основных участников группы заговорщиков, спланировавших заговор и осуществивших покушение на жизнь Адольфа Гитлера 20 июля 1944 г. Именно он привел в действие взрывное устройство на совещании в главной ставке Гитлера. В результате взрыва 17 человек, присутствовавших на совещании, получили ранения, еще четверо погибли, а сам Гитлер чудом отделался легкой контузией и ранением. Как участник заговора против Гитлера расстрелян по приказу генерала Фромма.
(обратно)213
Операция «Валькирия» в начальном варианте разрабатывалась для подавления восстаний и волнений среди недовольных жителей Германии, что являлось одной из задач резервной армии. Этим и решили воспользоваться заговорщики, присвоив заговору против Гитлера данное название.
(обратно)214
Юттнер Ганс (1894–1965) — один из высших офицеров СС, обер-группенфюрер СС и генерал войск СС. 30 января 1943 г. был назначен начальником Главного оперативного управления СС, а после заговора против Гитлера — начальником штаба командующего армией резерва.
(обратно)215
Таурогенская конвенция — договор, заключенный 30 декабря 1812 г. между прусским генералом Йорком фон Вартенбургом и российским генералом И.И. Дибичем-Забалканским о взаимном нейтралитете в последние дни Отечественной войны 1812 года. В результате соглашения, заключенного без ведома прусского короля, генерал Йорк самостоятельно направил политику своего государства к разрыву с Наполеоном.
(обратно)216
Монтгомери Бернард Лоу (1887–1976) — британский фельдмаршал (с 1944 г.). Один из немногих полководцев, успешно воевавших против Эрвина Роммеля. Автор прорыва фронта итало-немецких войск под Эль-Аламейном (23 октября 1942 г.), кавалер советского ордена «Победа» (1945 г.).
(обратно)217
«Черчилль», А22 — тяжелый по массе пехотный танк армии Великобритании периода Второй мировой войны. Поставлялся в СССР по программе ленд-лиза. Спроектирован в 1939–1940 гг., серийно производился с 1941 по 1945 г. и стал одним из наиболее многочисленных британских танков Второй мировой войны. «Черчилль» отличался невысокой скоростью, однако мощное бронирование обеспечивало эффективность боевого применения вплоть до конца войны.
(обратно)218
Базель — второй по величине после Цюриха город в Швейцарии.
(обратно)219
Имеется в виду белорусская стратегическая наступательная операция советских войск «Багратион», проводившаяся с 23 июня по 29 августа 1944 г.
(обратно)220
Речь идет о специальной операции 4-го управления НКВД под кодовым наименованием «Березино», проводившейся с целью заставить немцев поверить в наличие в тылу советских войск крупной германской воинской части, отвлечь на ее поддержку максимально возможное количество материальных ресурсов врага и выманить в ее расположение как можно большее число немецких парашютистов-диверсантов. Подробнее см. приложение 3.
(обратно)221
Динабург — старое до 1893 г. название латвийского города Даугавпилс, который в 1656–1667 гг. назывался Борисоглебов (по русским летописям Невгин), а до 1920 г. — Двинск.
(обратно)222
Вартегау — название Западной Польши после ее аннексии фашистской Германией.
(обратно)223
августа 1944 г., сразу после окончания Ясско-Кишиневской операции, войска 2-го Украинского фронта начали Румынскую операцию, получившую название Бухарестско-Арадская. К моменту начала наступления юго-восточнее Трансильвании находилось шесть немецких дивизий — все, что осталось от группы армий «Южная Украина». Но в самой Трансильвании, а также на венгеро-румынской границе имелись значительные части союзной Германии венгерской армии общей численностью свыше 20 дивизий.
(обратно)224
Флепс Артур Мартин — обергруппенфюрер СС, который в то время командовал 5-м горнострелковым добровольческим корпусом СС.
(обратно)225
Фон Грайм Роберт (1892–1945) — генерал-полковник, командующий воздушным флотом люфтваффе на Восточном фронте. В последние дни войны Гитлер лично произвел его в генерал-фельдмаршалы, назначив главнокомандующим люфтваффе. Грайм сдался в плен американским войскам в мае 1945 г. и был настолько подавлен поражением, что 24 мая 1945 г. застрелился, находясь в госпитале в Зальцбурге.
(обратно)226
Хорти Миклош (1868–1957) — правитель Венгерского королевства в 1920–1944 гг., вице-адмирал.
(обратно)227
Варшавское восстание против гитлеровских оккупантов проходило с 1 августа по 2 октября 1944 г. Оно было организовано командованием Армии крайовой и представительством польского правительства в изгнании в Лондоне. В восстании приняли участие все действовавшие в то время в городе подпольные организации — отряды Национальных вооруженных сил и сформированные левыми силами отряды Армии л годовой.
(обратно)228
Орден «За заслуги» — высшая военная награда Пруссии до конца Первой мировой войны. Неофициально назывался «Голубой Макс». Награда была учреждена в 1740 г. прусским королем Фридрихом Великим, который дал ему французское название, поскольку это был основной язык прусского двора того времени.
(обратно)229
Кицбюэль — старинный австрийский горнолыжный город-курорт в Тироле.
(обратно)230
Имеется в виду Замковая гора в Будапеште — исторический центр в районе Буда, где находятся Королевский дворец, дворец Шандора (резиденция венгерского президента), а также подземный лабиринт.
(обратно)231
Клеманн Ульрих (1892–1963) — генерал артиллерии, командующий 4-м танковым корпусом (в Венгрии). 28 ноября 1944 г. корпус переименован в танковый корпус «Фельдхеррнхалле».
(обратно)232
Винер-Нойштадт — город в Нижней Австрии.
(обратно)233
«Панцерфауст» («Танковый кулак») — немецкий одноразовый гранатомет времен Второй мировой войны.
(обратно)234
Мария-Терезия-Вальбурга-Амалия-Кристина (1717–1780) — эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии с 25 июня 1741 г., королева Богемии с 20 октября 1740 г. (имела эти титулы лично, по наследству). Супруга, а затем вдова Франца I Стефана Лотарингского, избранного императором в 1745 г. Основательница Лотарингской ветви династии Габсбургов.
(обратно)235
Хорти Миклош (младший), полное имя Миклош Ласло Янош Бенедек Хорти (1907–1993) — младший сын регента Венгрии Миклоша Хорти.
(обратно)236
Фон дем Бах-Зелевский Эрих Юлиус Эберхард (1899–1972) — обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции. С 1941 г. командовал войсками СС в Центральной России и Белоруссии, а с октября 1942 г. — всеми антипартизанскими силами на востоке. В августе — ноябре 1944 г. командовал корпусной боевой группой «Фон дем Бах», подавлявшей восстание поляков в Варшаве.
(обратно)237
Имеется в виду командующий 1-й венгерской армией генерал-полковник Бела Миклош фон Дальноки.
(обратно)238
Винкельман Отто (1894–1977) — немецкий военный и государственный деятель, доктор права, обергруппенфюрер СС и генерал-майор полиции, а также генерал войск СС.
(обратно)239
Венк Вальтер (1900–1982) — один из самых молодых генералов германской армии во Второй мировой войне. Принимал участие в битве за Берлин. Сдался со своей армией американцам, чтобы не попасть в советский плен.
(обратно)240
Имеется в виду Феликс Борнемисса, близкий друг молодого Миклоша Хорти, который после ареста командой Скорцени попал в концлагерь Маутхаузен.
(обратно)241
Имеется в виду 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Мария-Терезия», сформированная 29 апреля 1944 г. из венгерских «добровольцев» (фактически из военнообязанных венгерских граждан — немцев, так называемых фольксдойче). Названа в честь императрицы Марии-Терезии из династии Габсбургов. Дивизия была в основном разгромлена советскими войсками при взятии Будапешта в феврале 1945 г.
(обратно)242
Пфеффер-Вильденбрух Карл (1888–1971) — командир соединений войск СС, обергруппенфюрер СС, а также генерал войск СС и полиции, кавалер Рыцарского креста Железного креста с дубовыми листьями. С 30 августа 1944 г. командовал частями СС в Венгрии, а в декабре 1944 г. был назначен командиром 9-го хорватского горного корпуса СС, дислоцировавшегося в Будапеште.
(обратно)243
Нунций (лат. вестник) — постоянный дипломатический представитель папы римского в государствах, с которыми Ватикан поддерживает официальные дипломатические отношения. Соответствует рангу чрезвычайного и полномочного посла.
(обратно)244
Берегфи Карой (1888–1946) — венгерский политический и военный деятель, нацист, венгерский националист, министр обороны Венгрии в 1944–1945 гг.
(обратно)245
Фельдцейхмейстер — воинское звание генерала артиллерии в императорской, австрийской и австро-венгерской армии.
(обратно)246
Аэропорт Мюнхен-Рим — аэропорт Мюнхена, функционировавший до открытия нового мюнхенского аэропорта в 1992 г.
(обратно)247
Фрегаттенкапитен — воинское звание старшего офицерского состава в военно-морских силах Германии. Соответствует званию капитана второго ранга в ВМФ других стран, а также званию подполковника в сухопутных войсках и авиации.
(обратно)248
Растенбург — ныне польский город Кентшин. В 7 км восточнее от него на территории бывшей Восточной Пруссии находился въезд в главную ставку Гитлера.
(обратно)249
Гюнше Отто (1917–2003) — адъютант Адольфа Гитлера. В 1940–1941 гг. — офицер-ординарец. В 1941–1942 гг. обучался в офицерской академии СС в Бад-Тёльце, по окончании которой произведен в штурмбаннфюреры СС. В составе лейбштандарта СС «Адольф Гитлер» участвовал в боях на советско-германском фронте командиром моторизованной роты. С 12 января 1943 г. — личный адъютант Адольфа Гитлера по войскам СС. Последний человек, видевший Гитлера живым.
(обратно)250
Модель Отто Мориц Вальтер (1891–1945) — германский военачальник, генерал-фельдмаршал, отличавшийся крайней жестокостью в обращении с советским гражданским населением. Он активно сотрудничал с карательными отрядами СС и с их программами «переселения» евреев. За свои действия по восстановлению обороны на критических участках фронта получил прозвище Пожарный фюрера. Когда в апреле 1945 г. союзные войска в Рурской операции окружили и полностью разгромили подчиненные Моделю войска, покончил жизнь самоубийством.
(обратно)251
Дитрих Йозеф (Зепп) (1892–1966) — немецкий военачальник времен Третьего рейха, оберстгруппенфюрер СС и генерал-полковник войск СС. 8 мая 1945 г. сдался в плен американцам. Осужден к пожизненному лишению свободы, что впоследствии было заменено лишением свободы на срок 25 лет.
(обратно)252
Барон фон Мантойфель Хассо-Эккард (1897–1978) — генерал танковых войск вермахта. В конце апреля 1945 г. Мантойфель отвел свою армию на запад и сдался союзникам 3 мая 1945 г. Пробыл в плену до сентября 1947 г. В 1953–1957 гг. был депутатом бундестага от Свободной демократической партии, где выступил с предложением переименовать вооруженные силы ФРГ в бундесвер.
(обратно)253
Фегелейн Ганс Георг Отто Герман (1906–1945) — обергруппен-фюрер и генерал-лейтенант войск СС. Супруг младшей сестры и тем самым зять Евы Браун. Расстрелян в последние дни войны по приказу Адольфа Гитлера.
(обратно)254
Прютцман Ганс Адольф (1901–1945) — обергруппенфюрер СС, генерал полиции и войск СС. Занимая высший пост в латвийской оккупационной администрации, был ответствен за помещение в гетто и дальнейшее уничтожение десятков тысяч евреев.
(обратно)255
«Вервольф» (волк-оборотень) — немецкое ополчение для ведения партизанской войны в тылу наступающих войск противника, созданное в самом конце Второй мировой войны. Оно также было задействовано при обороне городов. Формировалось по типу фольксштурма из стариков и подростков в возрасте 14–16 лет. Ополченцы проходили краткий курс начальной военной подготовки, оказания медицинской помощи, использования местности для ведения боевых действий, диверсионной тактики ведения боевых действий.
(обратно)256
УПА — Украинская повстанческая армия (УПА-ОУН-Б), партизанская армия Организации украинских националистов бандеровского движения. Главным командиром УПА в 1943–1950 гг. был Роман Шухевич.
(обратно)257
Карпатская Украина — непризнанное государство, провозглашенное 15 марта 1939 г. в городе Хуст на территории одноименной автономной земли из состава «второй» Чехословацкой республики и просуществовавшее ровно один день — до 16 марта, когда этот город захватили венгерские войска (по другим сведениям — до 18 марта, когда Венгрией была оккупирована вся территория Карпатской Украины).
(обратно)258
Графенвёр — город в Германии в земле Бавария. В настоящее время на полигоне возле этого города расположен штаб 7-го Объединенного центра подготовки многонациональных сил, тренировочный лагерь армии США, в том числе и танковый полигон.
(обратно)259
Генерал-квартирмейстер — ответственный за снабжение старший офицер штаба при Главном командовании сухопутных войск.
(обратно)260
М4 «Шерман» — основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Широко использовался в американской армии, а также в больших количествах поставлялся союзникам (в первую очередь Великобритании и СССР) по программе ленд-лиза.
(обратно)261
Имеется в виду город на западе Франции.
(обратно)262
Фон Рундштедт Карл Рудольф Герд (1875–1953) — немецкий генерал-фельдмаршал времен Второй мировой войны. Командовал крупными соединениями в европейских кампаниях. В начальной фазе операции «Барбаросса» во время нападения фашистской Германии на СССР командовал группой армий «Юг».
(обратно)263
Цигенхайн — город-коммуна в Германии в земле Рейнланд-Пфальц.
(обратно)264
Кребс Ганс (1898–1945) — генерал-лейтенант пехоты и последний начальник штаба Верховного командования сухопутных войск вермахта во Второй мировой войне. Застрелился 1 мая 1945 г.
(обратно)265
В пригороде бельгийского города Мальмеди 17 декабря 1944 г. эсэсовцы совершили военное преступление, организовав массовый расстрел военнопленных.
(обратно)266
Первый лейтенант — офицерское звание в армии США, соответствующее старшему лейтенанту.
(обратно)267
«Старз энд страйпс» — ежедневная газета министерства обороны США. Издается с 1861 г. Предназначена для контингентов вооруженных сил США, дислоцированных за рубежом. Существует четыре издания: европейское, ближневосточное, корейское и японское, различающиеся несколькими полосами информации местного значения.
(обратно)268
Автор намекает на крылатое выражение: «Бойтесь данайцев, дары приносящих».
(обратно)269
Организация Тодта — военно-строительная организация, действовавшая в Германии во времена Третьего рейха.
(обратно)270
Ме-262 — «Мессершмитт Ме-262» — первый в мире серийный турбореактивный самолет, вооруженный 30-мм пушкой.
(обратно)271
Коморн — историческое немецкое название города на обоих берегах Дуная. После Первой мировой войны этот город, ранее принадлежащий Австро-Венгрии, был разделен на два отдельных города: северная, большая часть Коморна отошла к Чехословакии (в наши дни это Словакия) и получила название Комарно. Южная часть отошла к Венгрии, получив название Комаром. Оба города соединены железнодорожным и автомобильным мостами через Дунай.
(обратно)272
Штумпфеггер Людвиг (1915–1945) — немецкий хирург, оберштурмбаннфюрер СС, один из лечащих врачей Гитлера, остававшийся с ним до последних дней Третьего рейха.
(обратно)273
Морелль Теодор Гилберт (1886–1948) — личный врач Адольфа Гитлера в 1936–1945 гг., который в любом случае недомогания предписывал Гитлеру инъекции и сам их делал. С его именем связано огромное количество слухов и подозрений. Большинство наблюдателей считало его шарлатаном.
(обратно)274
План Моргентау — программа послевоенного преобразования Германии, предложенная министром финансов США Генри Моргентау. План Моргентау предусматривал расчленение Германии, переход важных промышленных районов под международный контроль, ликвидацию тяжелой промышленности, демилитаризацию и превращение Германии в аграрную страну.
(обратно)275
Хоэнзальца — ныне польский город Иновроцлав.
(обратно)276
Гелен Рейнхард (1902–1979) — немецкий военный деятель, генерал-лейтенант (с 9 апреля 1945 г.) вермахта в период Второй мировой войны, один из руководителей разведки на Восточном фронте. После войны являлся создателем Организации Гелена, позже преобразованной в Федеральную разведывательную службу Германии (BND). Первый президент Федеральной разведывательной службы ФРГ.
(обратно)277
Генерал-губернаторство (1939–1945) — административно-территориальное образование на территории Польши, оккупированной в 1939 г. нацистской Германией.
(обратно)278
— я гренадерская дивизия СС «Шарлемань» (1-я французская) — пехотная дивизия войск СС. Названа в честь Карла Великого. Большая часть солдат и офицеров дивизии была добровольцами, мобилизованными во Франции. Дивизия вела боевые действия в конце войны и уничтожена советскими войсками совместно с войсками союзников. Некоторая часть солдат дивизии попала в плен к американцам.
(обратно)279
Фон Зейдлиц-Курцбах Вальтер (1888–1976) — немецкий военный деятель, генерал артиллерии. Был взят в плен во время ликвидации Сталинградского котла. Находясь в лагере военнопленных, принял решение пойти на сотрудничество с советскими властями с целью содействия свержению Гитлера, которого он считал виновным в гибели 6-й армии. Полагал, что воинская присяга была принесена им и другими военнослужащими на верность Германии, а не Гитлеру, а сам фюрер нарушил ее, предав своих солдат под Сталинградом. 12 сентября 1943 г. на учредительной конференции в Лунево был избран председателем Союза немецких офицеров, действовавшего под советским контролем. Затем стал также заместителем председателя Национального комитета «Свободная Германия», ведущую роль в котором играли коммунисты.
(обратно)280
Группа армий «Висла» создана 24 января 1945 г. на основе штаба группы армий «Верхний Рейн» для обороны Берлина. Остатки группы армий «Висла» были взяты в советский плен в первых числах мая 1945 г.
(обратно)281
Город Бад-Шенфлис по итогам Второй мировой войны отошел Польше и был переименован в город Тшинсько-Здруй.
(обратно)282
Крайслейтер — руководитель районной партийной организации НСДАП в округе (крайсе). Как и рейхслейтеры и гаулейтеры, крайслейтеры назначались непосредственно Гитлером.
(обратно)283
Кенигсберг в Ноймарке — ныне город Хойна в Польше.
(обратно)284
Штеттин — главный город прусской провинции Померания на обоих берегах Одера. Ныне это город Щецин в Польше.
(обратно)285
«Трудовая повинность» — военизированная организация в фашистской Германии.
(обратно)286
Фольксштурм — отряды народного ополчения Третьего рейха, созданные в последние месяцы Второй мировой войны и существовавшие с 14 октября 1944 г. по 9 мая 1945 г. Всего было создано около 700 батальонов.
(обратно)287
Кауфман Карл Отто Курт (1900–1969) — партийный и государственный деятель в фашистской Германии, гаулейтер и рейхсштатгальтер Гамбурга, обергруппенфюрер СС.
(обратно)288
Бад-Шенфлис — ныне это польский город Тшциньско-Здруй.
(обратно)289
Штюрц Эмиль Эрих Артур Герман (1892–1945) — гаулейтер гау Курмарк, обер-президент Бранденбурга, обер-президент Позена — Западной Пруссии, обергруппенфюрер Национал-социалистического механизированного корпуса — полувоенной организации в составе НСДАП.
(обратно)290
Дивизия «Герман Геринг» — 1-я парашютно-танковая дивизия «Герман Геринг», созданная на базе полицейского батальона. Это элитное формирование люфтваффе лично подчинялось рейхсмаршалу Герману Герингу и за период своего существования было развернуто в танковый корпус.
(обратно)291
Шернер Фердинанд (1892–1973) — последний генерал-фельдмаршал армии Третьего рейха и единственный, кто дослужился в германской армии до этого высшего воинского звания, начав службу рядовым солдатом. Был взят в плен американскими войсками и в конце мая 1945 г. передан советскому командованию. Содержался в Бутырской, Лефортовской и Владимирской тюрьмах. 11 февраля 1952 г. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Шернера к 25 годам заключения в советских лагерях. В апреле 1952 г. указом Президиума Верховного Совета СССР приговор был сокращен до 12,5 года заключения, а 7 января 1955 г. он был отпущен в ФРГ. В 1957 г. Мюнхенским судом был приговорен к 4,5 года лишения свободы за вынесенные Шернером расстрельные приговоры подчиненным ему немецким солдатам. После отбытия наказания жил в безвестности в Мюнхене до своей смерти.
(обратно)292
Ремагенский мост был построен между Ремагеном и Эрпелем в годы Первой мировой войны. В 1945 г. отступающие немецкие войска мост взорвали, и от него остались лишь опорные конструкции, а также башня на берегу со стороны Ремагена. После окончания Второй мировой войны мост не стали восстанавливать, а его опоры, уцелевшие после взрыва, были демонтированы. О трагических событиях, происходивших здесь, американский режиссер Джон Гиллермин снял фильм «Ремагенский мост».
(обратно)293
Фон Штаремберг Эрнст Рюдигер (1638–1701) — австрийский фельдмаршал из рода Штарембергов, руководивший обороной Вены от турок в 1683 г. и возглавлявший с 1692 г. придворный военный совет.
(обратно)294
Деблинг — девятнадцатый район Вены, расположенный на северо-западе города между Венским Лесом, Дунаем и Дунайским каналом.
(обратно)295
Ю-88 («Юнкере Ju 88») — многоцелевой самолет люфтваффе времен Второй мировой войны, использовавшийся как бомбардировщик, разведчик, торпедоносец и ночной истребитель.
(обратно)296
Эбен-Эмаэль — бельгийский форт, расположенный на бельгийско-голландской границе вдоль Альберт-канала в 20 км от Льежа. Строился с 1932 по 1935 г. и предназначался для защиты Бельгии от нападения Германии. В то время считался крупнейшим фортом в мире. Был успешно захвачен германской армией 10 мая 1940 г.
(обратно)297
Лей Роберт (1890–1945) — рейхслейтер, обергруппенфюрер СА, заведующий организационным отделом НСДАП, с 1933 г. руководитель Германского трудового фронта. Доктор философии. Покончил жизнь самоубийством в нюрнбергской тюрьме вскоре после предъявления обвинительного заключения, повесившись на канализационной трубе при помощи самодельной веревки из узких полосок ткани, на которые он разорвал полотенце.
(обратно)298
Уоллес Эдгар Ричард Горацио (1875–1932) — английский писатель, драматург, киносценарист и журналист. Основоположник литературного жанра триллер.
(обратно)299
Ниполит — одно из новых взрывчатых веществ для разрывных снарядов, разработанное в годы Второй мировой войны.
(обратно)300
Имеется в виду испанец из Севильи — ловкий пройдоха и плут, который первоначально был парикмахером, а затем слугой графа Альмавивы.
(обратно)301
Таунус — горный массив в Центральной Германии, в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц.
(обратно)302
Гесс Рудольф Вальтер Рихард (1894–1987) — государственный и политический деятель Германии, заместитель фюрера в НСДАП и рейхсминистр без портфеля. В 1941 г. в одиночку совершил перелет в Великобританию с целью убедить британцев заключить мир с нацистской Германией, но потерпел неудачу со своей «миссией», был арестован английскими властями и пребывал в плену до окончания войны, затем был передан Международному военному трибуналу. Нацистский преступник, входил в список 24 главных обвиняемых на Нюрнбергском процессе, был признан виновным по двум из четырех пунктов обвинения и приговорен к пожизненному заключению, которое отбывал в тюрьме Шпандау в Западном Берлине более сорока лет.
(обратно)303
Зельдте Франц (1882–1947) — государственный и политический деятель Германии, один из руководителей организации «Стальной шлем», рейхсминистр труда, обергруппенфюрер СА, прусский государственный советник. Умер в американском военном госпитале во время подготовки Нюрнбергского процесса.
(обратно)304
Конти Леонардо (1900–1945) — партийный и государственный деятель Третьего рейха, статс-секретарь Имперского министерства внутренних дел по санитарной службе и народному здравию, имперский руководитель здравоохранения, начальник Главного управления народного здравия НСДАП, руководитель Национал-социалистского союза врачей, обергруппенфюрер СС.
(обратно)305
Аманы Макс (1891–1957) — партийный деятель НСДАП, имперский руководитель печати, рейхслейтер и обергруппенфюрер СС.
(обратно)306
Фон Бломберг Вернер Эдуард Фриц (1878–1946) — немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал, в 1933–1938 гг. министр имперской обороны (с 1935 г. — имперского военного министерства) Германии. Во время Второй мировой войны находился в отставке. После войны привлекался к Нюрнбергскому процессу как свидетель. Умер в американском военном госпитале от рака.
(обратно)307
Глейзе фон Хорстенау Эдмунд (1882–1946) — немецкий военный и государственный деятель; генерал пехоты и группенфюрер С А. С мая
г. являлся членом австрийского земельного правительства. С
г., будучи начальником германской военной миссии в Хорватии, оказывал поддержку хорватским фашистам в осуществлении антисербского террора. В мае 1945 г. арестован американскими войсками. На Нюрнбергском процессе привлекался в качестве свидетеля. Покончил жизнь самоубийством в лагере Лангвассер около Нюрнберга, когда стало известно, что он будет выдан правительству Югославии.
(обратно)308
Аффидевит или аффидавит (лат. клятвенно удостоверяю) — в праве Великобритании и США письменное показание или заявление лица, выступающего в роли свидетеля, которое, при невозможности (затруднительности) его личной явки, дается под присягой и удостоверяется нотариусом или иным уполномоченным должностным лицом.
(обратно)309
Присс Герман (1901–1985) — обергруппенфюрер СС, командир 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», а с 30 октября 1944 г. — 1-го танкового корпуса СС. Осужден как военный преступник за соучастие в бойне у Мальмеди на так называемом мальмедийском процессе к 20 годам заключения. Позднее помилован и освобожден в октябре 1954 г. из Ландсберге кой тюрьмы.
(обратно)310
«Болезнь колючей проволоки» наблюдается в разных случаях. Это может быть и обычное пребывание человека в тюрьме, и пребывание в качестве заложника у террористов, и нахождение в лагере для военнопленных. Основным компонентом данной «болезни» считается рано или поздно захватывающая людей апатия. Развитие «болезни колючей проволоки» протекает в три фазы: фаза первичной реакции, фаза адаптации и фаза апатии. Болезнь характеризуется ухудшением памяти, снижением либидо. У больных наблюдается повышенная утомляемость, депрессия, апатия, астения.
(обратно)311
Флик Фридрих (1883–1972) — крупнейший немецкий промышленник, военный преступник, один из первых немецких магнатов, оказавших финансовую поддержку нацистскому движению, основатель династии миллиардеров.
(обратно)312
«ИГ Фарбен» — конгломерат германских концернов, которые во время правления национал-социалистов производил пестицид «Циклон Б», использовавшийся в газовых камерах для массовых убийств. 24 члена совета директоров и должностных лица «ИГ Фарбен» обвинялись в массовых убийствах, принуждении к рабству и иных преступлениях против человечества.
(обратно)313
Вильгельмштрассе — нарицательное обозначение имперского правительства, так же как Уайтхоллом называют правительство Великобритании.
(обратно)314
Имеется в виду Гессен — земля в центральной части Германии со столицей в городе Висбаден.
(обратно)
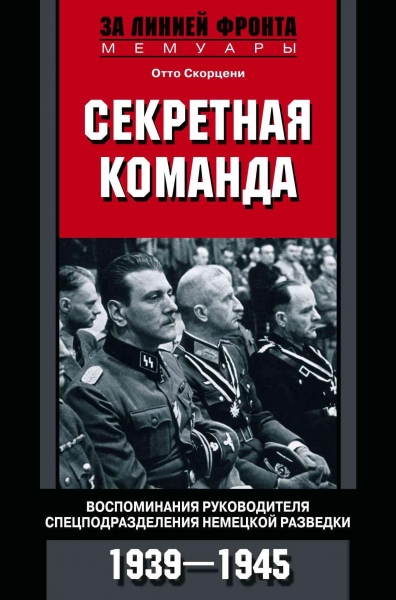

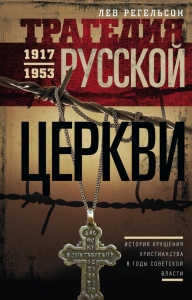
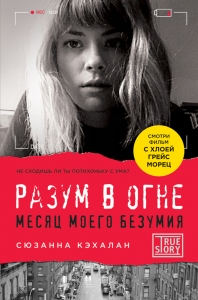
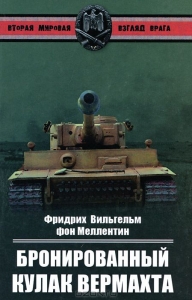
Комментарии к книге «Секретная команда. Воспоминания руководителя спецподразделения немецкой разведки. 1939—1945», Отто Скорцени
Всего 0 комментариев