Лоранс Скифано ВИСКОНТИ: обнаженная жизнь
Моей дочери Эльзе
Жизнь моя прошла на рубеже веков, как на слиянии двух великих рек; я погрузился в их мутные воды, с сожалением удаляясь от старого берега, где я родился, с надеждой плывя к берегу неведомому.
Шатобриан, «Замогильные записки»ПРЕДИСЛОВИЕ
Не теряет ли литературный труд в цене, не становится ли он «эстетским», беззубым, ни на что не влияющим, если в писательском деле нет и следа того, […] чем является для тореро острый рог быка, который — в силу материальности заключенной в нем угрозы — и придает жизненную силу искусству корриды, не позволяя ему уподобиться бессмысленным ужимкам балерины?
Мишель ЛейрисКаждый художник проживает две жизни: одну в искусстве, другую — как частное лицо. В последнем случае речь иногда идет и о театральной манере выражать себя, о той самоироничной рисовке, которую Жан Старобинский в своей книге «Портрет художника в образе паяца» называет характерной чертой нашего времени. С другой стороны, в самых разных формах выставляли себя напоказ такие мастера, как Орсон Уэллс, Кармело Бене, Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Жан-Люк Годар. Реже встречаются художники, участь которых была поистине страшной — тюрьма, сумасшедший дом, смерть в результате несчастного случая. В судьбе некоторых есть конкретное обстоятельство, соединяющее творчество с жизнью и самую жизнь превращающее в произведение искусства — так можно сказать об Оскаре Уайлде, Пазолини, о военном фотографе и репортере Роберте Капа….
Ни капли подобного пафоса нет у Висконти при всей полноте самовыражения, он не стремился лично присутствовать в собственном творчестве или изображать в нем себя. Да, он делал публичные заявления, но у него очень мало исповедей: этот художник никогда не чувствовал потребности выставлять обстоятельства своей биографии на всеобщее обозрение или рассказывать о них. Возможно, разделяя общественное и частное, он отстаивал собственное право прожить жизнь так, как сам считал нужным, не размениваясь ни на оправдания, ни на маскарадные приличия? Человек, который переживает трудные моменты, ни от кого не прячась, не превращая их ни в тайну, ни в витрину, не нуждается и в исповедях.
Он играет по правилам света, он носит маски, он обходителен в жизни и деликатен в творчестве. Его произведения, чаще всего основанные на мировом литературном или музыкальном наследии, задуманы, выношены и реализованы вместе с другими людьми, также входящими в круг избранных, и необязательно на него похожими. Висконти всегда остается за кулисами своих постановок — Бернардо Бертолуччи считает, что этот самый большой любитель пышности из всех, когда-либо живших на свете, «прячет то, что показывает». Это красивое определение подчеркивает и без того очевидное желание мастера оставаться в тени (и в этом Висконти похож на Бергмана и Кубрика): он выдвигает на авансцену актеров и свои творения, а сам — меланхолично, иронично или элегантно — отходит в сторону, не желая выставлять себя напоказ.
Можно, однако, утверждать — и Лукино не стал бы возражать против этого утверждения, — что он выразил себя иным способом: единственное, чем он гордился на закате жизни, было его участие в Сопротивлении. А еще, пожалуй, он мог гордиться своими дерзаниями, тягой к новаторству — об этом косвенно свидетельствует сцена с освистыванием из «Смерти в Венеции». Если задуматься, многие работы Висконти были освистаны, и он этим гордился.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что «рог быка», о котором Лейрис говорит применительно к литературе, осязаемо присутствует в жизни и творчестве режиссера Висконти. Он проявляется в страстной жестокости его первого фильма «Одержимость», он присутствует в каждой следующей картине — в его манере «изучать свой материал» так, чтобы довести его до совершенства и одновременно «заострить конфликты», придать им вес, как можно глубже проникнуть в подспудные, запретные, инфернальные миры. Если Висконти и не стремился к скандалу, как убеждала меня в конце 80-х годов Сузо Чекки д’Амико, то и на компромиссы он никогда не шел — ни с публикой, ни с продюсерами. Чтобы глубже проникнуть в тайну Висконти, чтобы снова взяться за нить повести о его жизни по прошествии двадцати лет после выхода в свет первого издания этой книги, начать нужно было именно с его радикализма. «Теневую сторону» Лукино следовало познавать через теневые моменты жизни, передержанной на свету.
Ни одну биографию нельзя считать законченной. Либо недостает подробностей — не все тайны разгаданы, не все ящики перерыты, не возвращены из забвения все любовные письма, и не все воспоминания детства извлечены на свет… Либо получившийся портрет лишь намечает те черты, которые, будь они прописаны четче, могли бы высветить всю жизнь в ее роковом развитии. Именно последнее и заставило меня вернуться к жизнеописанию Висконти, встретиться не с его родными — ныне, увы, покойными, а с соратниками, убежденными, по словам актера Умберто Орсини, что Висконти жив — он просто уехал в Аргентину и скоро вернется; я хотела сделать своими проводниками режиссеров вполне современных — Бернардо Бертолуччи и Оливье Ассайяса; первый дистанцируется от творчества Висконти, второй им восхищается. Глава «Теневая сторона» во многом обязана нашим встречам и беседам.
Аристократическая отстраненность и властность Висконти обеспечили ему репутацию человека «не вполне от века сего» — действующего лица и свидетеля иной эпохи, пышность которой (как и у Томаса Манна в «Волшебной горе», в «Смерти в Венеции» или в «Будденброках») перенесена на каждое его произведение, сознательно покрытое «драгоценной патиной истории». Он выглядит в большей степени современником Малера, Вагнера и Пруста, нежели Вендерса, Годара, Стрелера и Жене. Во Франции его сравнивают с Прустом, что вызывает искушение записать в актив режиссера лишь изысканность «вчерашнего мира», воспетого Стефаном Цвейгом. Но разве отказавшись экранизировать «В поисках утраченного времени», он не бежал от этого мира, как от искушения, которое могло бы увести его с куда более опасной и глубокой жизненной стези? «Штурмовать» пик Висконти принято скорее по склону Манна, а не по склону Пруста — тут постарались перо Флоранс Коломбани и камера Джорджо Тревеса.[1] Другие ключи остаются невостребованными, а ведь это ключи от запертых до поры комнат, в том числе — от самой потайной, где обитают творческая страсть и внутренний сфинкс, который подкармливает каждого художника, загадывая ему загадки и вынося приговор.
«И поскольку искусство в точности воссоздает жизнь, — пишет в „Обретенном времени“ Пруст, — вокруг истин, познанных внутри себя, всегда будет витать атмосфера поэзии и нежность тайны: она есть не что иное, как обрывок тьмы, которую нам пришлось преодолеть, и точный, как альтиметр, показатель глубины произведения». Рассматривать Висконти через призму Пруста — значит черпать из тайной алхимии памяти, где зреют его произведения. Но это значит также и запереть его во «мраке и безмолвии» башни из слоновой кости и прошлого, в то время как все его творчество вбирает в себя, преобразовывает и драматически сталкивает иные силы — те, что несут на себе печать действительности, современной творению.
Автор «Рокко и его братьев» и «Гибели богов» предпочитает крики шепотам и элегическим ароматам. Он не покоряется судьбе, но стремится все контролировать. Творчество, которому он отдает и подчиняет себя, заставляет его отречься от Пруста, хотя окружающие не устают твердить, что только он один может и должен экранизировать его; все его работы насыщены органичными, хищными, смертоносными и одновременно животворными образами. Висконти всецело раскрывается в творчестве, и самый яркий тому пример — «Людвиг», который иначе как проклятым и не назовешь; фильм разрушает жизнь создателя, в то же время делая ее полной. Висконти вглядывается в себя, сливаясь с чувственной стихией современного мира. Путь его лежит не в сторону любви Свана и Одетты, он направляется не к морским пейзажам Эльстира и не стремится к упадническому самолюбованию в духе Дориана Грея — его манит мир, где царит предательство, где доносят на возлюбленных, где изнасилованную и убитую девочку бросают в колодец, где братья враждуют между собой, где мать сначала лишают чести, а затем — жизни, где князь сходит с ума, где слабеющий король видит вагнерианские сны, которые в то же время являются и снами всей Европы, где зарождаются и набирают силу фашизм и нацизм. Это мир беспощадных драм, при помощи которых автор погружается «в самые глубины себя» — а вместе с ним попадаем в тайную область и всецело обнажаемся и все мы, его зрители.
Январь 2009
ПЛАМЯ СТРАСТИ
Глава 1 ВИСКОНТИ МИЛАНЕЦ
Медведицы мерцающие звезды! Не думал я, что снова созерцать Привычно буду вас над отчим садом, И с вами разговаривать из окон Того приюта, где я жил ребенком, И радостей своих конец увидел.[2] Джакомо ЛеопардиВ самом сердце Милана, в двух шагах от Дуомо и театра «Ла Скала», над северным фасадом ныне проданного и поделенного на части старого дворца, что два столетия кряду возвещал о благородной древности рода, еще вьется кольцами змея, украшающая фамильный герб герцогов Висконти ди Модроне. Прежде это был дом номер 44 по виа Черва (ныне виа Чино дель Дука), огромное строение с тремя рядами окон — этих окон, по словам младшей сестры Лукино Висконти, было так много, что их отворяли и затворяли специально нанятые слуги.
Как и многие миланские дворцы, этот дом имел внутренний квадратный дворик под Рождество здесь ставили елку, а весенними вечерами под сенью аркад, меж толстых колонн дети носились на роликах и велосипедах. Их провожала взглядом полунагая Амфитрита — в окружении дельфинов и в раковине из темного камня она словно бы выходила прямо из дворцовой стены, окрашенной желтой охрой. История распорядилась так, что по широким ступеням этих мраморных лестниц, ведущих в верхние ярусы, и по анфиладе больших и малых гостиных, будуаров, рабочих кабинетов с золоченой мебелью прошли не только сливки высшего света Милана, Рима и даже Парижа, но и абсолютно все, кем только мог гордиться город — художники, драматурги, композиторы, сценографы, знаменитые певцы: сопрано Мария Гарсиа, известная как Малибран, Джулио и Тито Рикорди, братья Бойто, Пьетро Масканьи, Джакомо Пуччини, Артуро Тосканини — всех не перечесть…
В 1906 году, когда здесь родился Лукино Висконти, сад возле дома обрывался над зеленоватыми водами канала Навильо, по берегам которого виднелись монастыри, фруктовые сады, маленькие, работающие на гидравлических колесах заводики, особые места, куда приходят стирать прачки. В своей книге «Путешествие кондотьера» Андре Сюарес пишет о том, что внезапно увидел «очаровательный фасад» маленького дворца Висконти ди Модроне, который явился перед ним внезапно, словно мираж из восточной сказки, посреди миланского трущобного «ада», в двух шагах от толкотни Зеленного рынка и «кишащих крысами улиц» Верзьера, истинно миланского квартала с дурной славой, «провонявшего гнилыми овощами и кочерыжками».
«Этот дом еще и не сразу разглядишь сквозь заросли акаций — он словно лицо, прикрытое рукой или распущенными волосами. Приятное и меланхолическое обиталище! Единственное место в Милане, где хочется читать, спать и любить. Оно будто бы создано для приюта тайной, быть может, даже преступной любви. Окруженная старыми деревьями, вся в жасмине и розах терраса будто обрушивается в зеркало стоячих вод: она украшена резным балконом, каменной балюстрадой — пышной, тяжеловатой, но все же изысканной. Цветы и зелень травы — их видно сквозь просветы перил — оживляют безмолвие, и их волнующее присутствие — праздник для этого презренного городского квартала. Амуры поддерживают герб со змеем; из рогов изобилия сыплются нежно вылепленные персики и виноград; дикий виноград и ветви ласково касаются каждого завитка, каждого орнамента балюстрады. Сквозь густую листву виднеется крытая галерея с шестью арками, соединяющая два крыла здания; двойной ряд колонн обвит розами. Что за нежный потайной садик, что за очаровательное место уединения! На солнце разными оттенками искрится маленький фонтан. Канал словно любуется ветвями деревьев и не дает листьям покинуть стоячие воды. В Милане не сыскать другого такого прибежища для грез, любви и печали».
Для Висконти этот дом был «прибежищем грез, любви и печали», пышной декорацией для собраний и празднеств, он возвращался сюда, чтобы снова обрести райское блаженство в саду, полном цветов и домашних животных. Дома Висконти всегда были полны жизни и друзей, и в том числе один из них, «Коломбайя» в Искье — вздымающаяся над морем на самой вершине холма мавританская башня, утопающая в зелени сосен, эвкалиптов и лимонных деревьев. Писатель Джузеппе Патрони Гриффи вспоминает, что по утрам, когда отворяли окна, он приходил в восторг от того, что его взору открывались сразу два лазурных моря; вторым были нескончаемые поля голубых гортензий, которыми Лукино засадил тенистые аллеи: за ними и за розарием он любил ухаживать сам. Обстановка, мебель в стиле ар-нуво, строгий ритуал завтраков, ужинов и обедов, музыка, звучавшая даже в названиях блюд, тоже придуманных им самим — говяжье филе Висконти по-бетховенски, «Патетическое», «Аппассионата»; светские развлечения — все вокруг возвращало в детство, в счастье.
Под крышей псевдоренессансной виллы в Риме, которую он унаследовал от отца, царил житейский беспорядок, всюду безо всякой системы и в изобилии были разбросаны вещи. «Этот дом мне неинтересен. Люблю ли я его? Пожалуй, но не слишком, и при случае не премину от него избавиться. По месту рождения и по духу я миланец; в Риме я только проездом», — признавался он.
Однако Милана, который он любил, больше не существовало, и Висконти никогда не вернется жить в этот город. Но все же этот прежний Милан ясно запечатлелся в его памяти, подобно тому, как память рассказчика «В поисках утраченного времени» сохранила Комбре, сирень у Мезеглиз и реку возле поместья Германтов. Для Висконти не было ничего дороже канала Навильо и глициний на виа Черва. Всю свою жизнь он будет тяготеть к этой архетипической декорации, в которой ему так нравилось жить. Эта обстановка будет напоминать ему о самых потаенных «глубинах духовной почвы» (по выражению Пруста) — здесь тайные воспоминания, едва пробудившись, «сразу же согласовываются с биением сердца». Мир, который, как он говорил, «никто ему не вернет», это Милан времен Стендаля. Висконти описывал его так: «Сады над каналом, кареты, ароматы магазинчиков и булочных, пронзительные крики ласточек, которые под вечер вились вокруг нашего дома на улице Черва, колокола церкви Сан-Карло, синьоры, выходившие из маленького бара „Канелла“, запах лошадиного пота, когда мать возила нас к Бастионам…»
В начале века писатель Альберто Савинио еще мог взглянуть на тот Милан который видел и Стендаль — полюбоваться с променада у Бастионов на зазубренную вершину Резегоне, вдохнуть глоток тумана, пропитанного запахом жженой древесины, постоять перед «Обручением Девы Марии» Рафаэля, этим «юношеским, еще в манере Перуджино» полотном с четкими линиями и ясными небесами, и разглядеть в нем «метафизический портрет этого города-ученого и города-созерцателя, самого романтичного из всех итальянских городов». В книге «Город, я слушаю твое сердце» Савинио говорит о Милане, который «на первый взгляд кажется каменным и суровым, но по природе мягок — его уют еще хранят расположенные во внутренних дворах сады, против которых ополчились строительные компании, урбанисты и двадцатый век».
«Душой города» были каналы: до 1929 года Милан — это побратим Венеции, Санкт-Петербурга и всех городов, что смотрятся в воды каналов. Каждый день, стоя на каменной балюстраде в глубине сада с вековыми деревьями, отпрыски семейства Висконти смотрели через ажурную резьбу оград на темное зеркало старого Навильо. Каждое утро, отправляясь в школу, маленький Лукино переходил через перекинутый над извилистым каналом мост Сирен, который с 1842 года стерегли отлитые из чугуна сирены, которых прозвали «сестры Чугуни». Позже их перенесут в большой парк при замке Сфорца — режиссер отправится туда, чтобы отыскать их в густом февральском тумане и сделать участницами одного из эпизодов своей семейной хроники, «Рокко и его братья».
Эта трогательная, даже сентиментальная деталь скрывает нечто глубоко личное, отзвук поведанной шепотом тайны: даже в «Рокко», целиком снятом в Милане, Висконти не воскрешает приметы жизни и цвета своей молодости. Они скорее отыщутся в тревожных городских пейзажах из других картин — это и заснеженные мостики в «Белых ночах», и поросшие мхом мосты над затхлой водой в лабиринтоподобных декорациях «Чувства» и «Смерти в Венеции». Между Ливорно «Белых ночей» и Венецией Висконти есть нечто общее — то, что роднит их с миланским Навильо, последним кругом ада, населенном проститутками. Но воплотившись в извилистых венецианских calle, утонув в призрачных туманах «Белых ночей», миланский Навильо уже не просто воспоминание — он становится символом смятения и упадка.
Осушение каналов и рисовых плантаций на ломбардской равнине привели к тому, что с города был окончательно сорван этот таинственный покров, составлявший в детстве Висконти поэзию Милана и придававший ему столь особенный нордический Gemütlichkeit.[3] Стендаль и Андре Сюарес не советовали смотреть на Дуомо при ярком солнце. Первый находил, что лунный свет, «синяя тьма средиземноморского неба, украшенного мерцающими звездами», лучше оттеняет причудливость и страстность этих «пирамид из белого мрамора, что совершенно в духе готики — но без аромата смерти — устремляются ввысь» в восторженном экстазе «несбыточных иллюзий любви».
Второй же полагал, что солнце выставляет на общее обозрение все недостатки этой претенциозной «сахарной головы», чудовищного детища богатства и дурновкусия — здесь из-за кружевных узоров, орнаментальной вязи, шпилей и золота вдруг появляется разряженная, как неаполитанская невеста, «Мадонна Севера». Сюарес продолжает: «Я вовсе не против того, чтобы искусство Севера перенимало этот помпезный стиль и чрезмерность украшений из мраморной лепнины… Но такое искусство, в конечном итоге, есть триумф материи и, стало быть, триумф лжи. Я называю Миланский собор чудом для немцев и швейцарцев. У них там нет ничего лучше: рядом с их черным хлебом этот хлеб — белый. И, как знать, не вдохновляло ли резец каменщика неясное воспоминание об альпийских снегах и остроконечных глыбах льда? Столько островерхих колоколенок и только один скудный шпиль. Так много пространства — и единственное мгновение величия».
Однако величие Миланского собора — не производное от навязчивой идеи одного человека, как замки архитектора-мегаломана Людвига II Баварского, совсем напротив — это плод неожиданного умопомешательства всех миланцев, которые обычно рассудительны и бережливы. Возможно, все свои потаенные мечты они воплотили в этом избыточном химерическом проекте, которое здесь называют La Fabbrica[4] — этот термин обозначает бесконечное строительство, которое продолжалось с конца XIV до конца XIX века. Подобно Нойшванштайну, сказочному замку Людвига, Миланский собор «прекрасней всего в тумане или под дождем: его очертания размыты, и, когда он возникает перед вами, кажется, что это волшебная галлюцинация, замок, сотканный из тумана на фоне гор».
В туманные дни весь город встречается и объединяется вокруг того, что писатель Гвидо Пьовене называет «великим сентиментальным зданием» — вокруг Дуомо, в мраморе которого из века в век передавалась «непреходящая городская пылкость». Дуомо становится волшебной горой, на вершине которой никогда не смыкает глаз, наблюдая за своим городом-ребенком, золотая статуя матери-покровительницы — Маленькой Мадонны, Мадоннины (она была установлена во времена Марии-Терезии Австрийской).
Миланцы любят — вернее сказать, любили — свой город таким закутанным в дымку, таинственным и в то же время таким знакомым. «Наши туманы куда гуще лондонского смога», — похвалялись они, и голоса их дрожали от гордости. В самый разгар зимы, рассказывает Альберто Савинио, город становился «огромной бонбоньеркой, а его жители напоминали обсыпанные сахаром леденцы». Прохожие женщины в капюшонах выглядели фигурками в причудливых костюмах, спешащими на карнавал. Ах! «Проскользнуть за одной внутрь ее теплого жилища, оглядев себя в длинной анфиладе зеркал гостиной, среди тяжелой фамильной мебели и мягких ковров, и сорвать с ее губ поцелуй, так ароматно пахнущий туманом, пока дымка еще стоит, сгустившись, у окна и легко, безмолвно и покровительственно окутывает всю ее фигуру…»
Как истинный миланец, Висконти не представлял себе зимы без знакомых с детства густых покровов, укутывающих город. Туман был необходим ему на съемках «Белых ночей», и, за неимением настоящего, он велел использовать километры тюля. Снимая «Рокко и его братьев», он тщетно ждал чуда, ждал, что туман явится с ним на свидание, но в конце концов отчаялся и снова решил создать его сам. В тридцатые годы, начиная рассказ или набрасывая описание пейзажа, он нередко призывает на помощь густые туманы прошедших дней — те ноябрьские туманы, что сбивают с толку, скрывают силуэты, затрудняют видимость и при этом приносят издалека неведомые запахи, изменяют окружающие звуки, перекраивают очертания на свой манер и стирают границы между небом и землей, между надменным городом и скромной долиной По. В районе Басса, пишет Висконти, «дороги — это каналы, заполненные туманом, который впору резать ножом, и вас запросто может сбить самый обыкновенный велосипедист. Ослепшие поезда продвигаются на ощупь, постреливая хлопушками. Земное пространство отделяет от неба прочерченная свинцовым туманом грань, и кажется, что ему не рассеяться никогда. Забывается стремление к небу, и все живое припадает к земле. И свиньям тогда так легко учуять грибы в жирной и влажной земле, на берегах ручьев, под недвижными деревьями, и ветер тоже приносит запахи дождя».
Туман — эстетический элемент, который используется для сгущения красок; туман заставляет особенно остро ощутить подлинную цену животной, земной жизни; он заслоняет небеса и побуждает к поискам иных, земных путей, он смягчает и усмиряет порывы восставших исполинов, сокрушает великую мощь, с которой они устремляются на штурм небес. В конце тридцатых Висконти будет писать о тумане в Нью-Йорке: «Он прячет лицо в кашне из тумана, он весь, выше пояса, скрыт от моего взгляда. Я не видел ничего, кроме врытых в землю фундаментов, напоминавших лодыжки исполинов. Город похож на необъятной величины орган. В хаотическом лесу этих монументальных звучащих труб завывает и свистит ветер. И в этом звуке слышится величие кафедрального собора, сложенного из строгого серого камня…» Стоит туману рассеяться — и небоскребы, эти «исполины», вновь рванутся на штурм небес, разрывая лазурь, и, пробитая их вершинами, она «рваными тряпичными лоскутами» будет падать обратно на землю.
Образу вертикального, грозно вздымающегося к небу города-исполина противостоят города, всегда привлекавшие Висконти: горизонтальные, заполненные людскими толпами, разбухшие от тяжелых вод, в которые они погружаются все глубже; утопающие во мраке, в лунном свете и тумане, плавающие в этой дымке, как в околоплодной жидкости. Милан, прежде чем его осушили, был для него таким же большим материнским телом — одновременно и таинственным, и беспокойным, и приземленно-счастливо буржуазным, и волшебным, и родным.
Восемь первых лет его жизни прошли словно бы в двойном коконе: первым из них был уютный и безопасный дворец на виа Черва, хранитель покоя, вторым — богатый и безмятежный сладостный город, такой закрытый, так свято чтущий привычки в еде и обычаи в разговоре; жители этого города едины в своих обычаях, пристрастиях и печалях. Возможно, разница между классами и кланами здесь ощущается острее, чем где бы то ни было, но если интересы расходятся, то чувства стремятся к объединению, и это придает Милану — как и Вене — образ настоящего слоеного пирога; это отражается даже в самом его облике. Дворцы аристократических семейств расположены в историческом центре, под сенью Дуомо, позднее их окружили новые кварталы промышленной буржуазии, а от Навильо и испанских крепостных стен разошлись концентрические круги рабочих слободок.
Но при этом Милан, как и Вена, может быть единым: все классы сливаются в одном религиозном порыве под куполом Дуомо и в стенах театра «Ла Скала», храма оперного искусства и вершины миланской цивилизации. «„Ла Скала“, — позже заметит Пьовене в „Путешествии в Италию“, — стоит напротив ратуши и банка. Я думаю, что именно в этом — суть души северной столицы, которая часто остается непонятой: практичная и чувствительная, деловая и мелодраматичная, бывающая и сухой, и рассудочной, но при этом настроенная чрезвычайно критически, и кажется, что она заключает сделки на фоне тучных молочных долин под звуки музыки Верди».
Деловая жилка и сентиментальность — таков, по словам венецианца Пьовене (он, как и Висконти, отпрыск древнего аристократического рода), дух Милана — как никакой другой город, он «располагает к бесцельным прогулкам, в которых проводником становится одно лишь сердце». Этот город — не просто пестрая мозаика классов, кланов, разнородных и противоборствующих архитектурных стилей: ломбардские городские постройки, преимущественно буржуазные, по сути, представляют собой «хорошо замешанное тесто»; здесь все различия стираются, ведь каждый миланец верен своим традициям и знает, что такое — искусство жить. «Замкнутые семьи, светское общество, коммерсанты и промышленники, футуристы и тоскующие по девятнадцатому веку, те, кто в погоне за наживой подчистую сносит старые кварталы, и те, кто оплакивает умирающий старый Милан, все объединяются в этом великом Вавилоне… надо всеми здесь витает аромат ризотто с шафраном — это богатое, вкусное, материнское блюдо тоже насквозь пропитано чувствами, напоено соками плодородных, укутанных туманами долин».
Со времен миланского детства Висконти сохранит пристрастие к местным обычаям и диалекту, которым аристократия владела не хуже простых горожан. Вкус к этому гортанному, полному германизмов говору привила мальчику мать. Дети учились наречию по сказкам, пословицам, считалкам, похожим на загадочные пророчества Сивиллы: Enchete, penchete, pufftine, Abeli, paboli, domine, ench, pench, puff, gnuff, strauss et rauss (сочный аналог куда более скромного французского pie et pic et colegram). В дальнейшем Висконти будет с удовольствием говорить на миланском диалекте с драматургом Джорджо Проспери и актрисой Адрианой Асти, читавшей ему веселые стихи Карло Порты, в которых было множество местных словечек. Впрочем, его любовь к диалектам проявилась еще раньше, во время съемок фильма «Земля дрожит» — герои этой картины говорят на диалекте сицилийской области Катания, который не понимают даже их соседи по острову.
Один поэт дал Милану название «Панерополис» (город из крема) — так много лакомств там готовят из молока; по выражению Альберто Савинио, это была основа «продовольственной цивилизации Милана, где молоко указывало и на древность традиции, и на ее благородную природу». От этого города Висконти на всю жизнь унаследовал детскую любовь к пирожным, клубнике со взбитыми сливками, не говоря уж о непременном миланском ризотто с шафраном. Старинная побасенка рассказывает, что в XV веке один витражных дел мастер украсил витражи Дуомо зернышками шафрана, чтобы добиться лучистости цвета, а в день его свадьбы зернышки упали прямо в его блюдо с рисом…
«Лукино часто просил меня, — рассказывала его сестра Уберта, — приготовить ризотто по-милански, поскольку очень любил миланскую кухню; стряпать должна была именно я, и никто другой, что делало ситуацию весьма щекотливой — наш повар страшно ревновал (а он был родом из Абруццо)…» Исполняя этот домашний ритуал, Уберта делала то же, что и ее мать, донна Карла, а еще раньше — бабка, женщина из народа; граф Лукино Висконти гордился тем, что благодаря ей он связан узами кровного родства с простыми людьми — так же, как кровь отца связала его с аристократией.
«Моя мать, — с гордостью говорил он, — носила фамилию Эрба и была буржуазной. Ее семья жила недалеко от Порта Гарибальди и начинала с торговли лекарственными растениями вразнос. Они всего добились своим трудом. Думаю, практическую жилку — она всегда у меня была — я унаследовал именно от них, от родственников по маминой линии. Мне кажется, прабабушка готовила ризотто и касторку в одной и той же медной кастрюле…» Состояние семейства Эрба, вернувшего позолоту на фамильный герб Висконти, зарабатывалось весьма прозаичным способом. Практическая жилка, энергия и упорство, эти самые что ни на есть почтенные добродетели, обеспечат завидное процветание дедушки по материнской линии, и именно его в один прекрасный день сможет поблагодарить Лукино Висконти за состояние и возможность посвятить жизнь искусству.
Карло Эрба родился в 1811 году, в Виджевано, в области Павия. В те годы его отец имел маленькую аптеку в Милане, в квартале Сан-Эсторджио. У семьи хватило средств, чтобы отправить сына в Павию, учиться на фармацевта. В 1835 году он получил диплом и стал взбираться по ступеням социальной лестницы: начинал как простой служащий, потом стал приказчиком богато обставленного магазина на фешенебельной виа Брера, где завоевал доверие избранной, преимущественно аристократической клиентуры.
Накопив достаточно денег, он построил собственную лабораторию, и в 1853 году наконец приобрел торговое предприятие. В его лаборатории производили «страшный сон» юных наследников богатых семейств, средство, которым раз в неделю «прочищали организм», — в его состав входили касторка, соли железа и висмута, экстракт тамаринда, валериановая кислота и прокаленная магнезия. Кроме того, здесь делали и знаменитый шафран «Карло Эрба», поставлявшийся в маленьких флакончиках — именно его миланский писатель Карло Эмилио Гадда настоятельно рекомендует всем, кто хочет приготовить самый вкусный ризотто на свете.
Десять лет, при покровительстве мэрии, он приумножает состояние и зарабатывает репутацию, становится общественным советником, заседает в выборных округах — его кандидатуру поддерживает консервативный журнал Perseveranza. Возглавив в 1862 году «Торговый дом Эрба», он становится членом Торговой палаты, а также вступает во влиятельнейшее Общество поощрения искусств и ремесел. Он сотрудничает с исполнительным комитетом Промышленной ассоциации Италии и входит в число акционеров Промышленного банка, упрочивая свое положение на фоне многочисленных финансовых скандалов и банкротств. В конце концов он становится основателем Общества торгового освоения Африки, членом обществ «Эдисон», «Рикорди», фабрики боеприпасов Барта — нет ни одной области, к которой он бы не проявил интереса. В 1886 году Карло первым инвестирует 400 тысяч лир в Специальную электротехническую школу и, поскольку от государства помощи ждать бесполезно, призывает частный капитал и местные компании последовать его примеру и поддержать развитие прикладных исследований.
У этого сурового миланца, в честь которого в городе назвали одну из площадей, было две страсти: опера (ибо в Милане практичность и лирика вполне уживаются друг с другом) и коллекционирование ножниц — вся коллекция была выставлена на всеобщее обозрение в витрине его магазина. В 1888 году этот неисправимый холостяк скончался, оставив все младшему брату, музыканту Луиджи, и тому пришлось посвящать часть своего времени процветающему фармацевтическому предприятию. Среди его достижений — контракт с художником Марчелло Дудовичем, который создал великолепные афиши, превозносившие полезные свойства гранулированного слабительного и нежнейших тамариндовых капель «Торгового дома Эрба».
Лучше всех из этого поколения своей семьи Лукино знал Анну Бривио, жену Луиджи, — она была наследницей богатых промышленников, сделавших состояние на шелкоткачестве, и через свою сестру Джудитту приходилась родней музыкальным издателям Рикорди. Лукино вспоминал, что его бабушка «немного походила на императрицу Евгению и была бойкая, очень симпатичная, с крутым нравом». Ее побаивались все — в том числе обе дочери, Карла и Эрколина. Карла была высокая и красивая, Эрколина — куда менее привлекательная и такая крошечная, что домашние говорили: «Она точь-в-точь как Карла, если смотреть на нее в перевернутую лорнетку». Верховодила в семье мать, и впоследствии матери будут играть главную роль во многих фильмах Висконти. Как и многие дамы из высшего света, Анна Бривио управляла не только многочисленной прислугой, но и семейным предприятием, успевая при этом еще и заниматься детьми. Музыкальный салон Анны был знаменит на весь Милан; ее жизнь, а в свой черед — и жизнь ее дочери Карлы, матери Лукино, складывалась из занятий коммерцией, забот о семье и светской жизни и увеселительных поездок, главным образом — в Париж.
Большая часть детства Висконти проходит в двух этих домах — на виа Черва и виа Марсала, его жизнь делится между отцовским дворцом, чьи корни уходят в глубокое прошлое, и современным громадным домом бабушки по матери, который воплощает торжество предприимчивой буржуазии, уверенно смотрящей в будущее.
На виа Марсала была большая деревянная лестница, ковры с густым ворсом, салоны, где устраивали приемы, гидравлический лифт, но главное — из комнат можно было выйти прямо в помещения фармацевтической фабрики. «Запах этих снадобий был таким сильным, — рассказывала нам Уберта, — что бабушка не могла его больше выносить. Муж вечно твердил ей: „Вдыхай поглубже, это очень полезно…“ А еще там был диспансер, и мы развлекались, подглядывая через замочную скважину за рабочими, приходившими на уколы». Воспоминания о прошлом самого Лукино тоже пропитаны этими крепкими запахами: «Мы заходили в коридоры, где разило карболкой, и, добравшись до маленькой двери, за которой находились заводские помещения, чувствовали возбуждение первооткрывателей неведомой земли».
Кинолента жизни Висконти начинается не с роскошного патрицианского дома под стать дворцу из «Леопарда», а с кроваво-красного зарева и рева сталелитейных заводов из «Гибели богов», с дыма заводских труб. Этот дым постепенно изменит сонную жизнь провинциального ломбардского города. Семья матери подтвердила справедливость миланской пословицы, которую с гордостью повторяют все амвросианцы:[5] Milan di sa Milan fa («Милан сказал — Милан сделал»). Несмотря на любовь к традициям, Милан меньше любого другого города склонен поддаваться парализующему преклонению перед прошлым.
В 1906 году, когда появился на свет Лукино Висконти, после восьми лет строительства был торжественно открыт Симплонский туннель через Альпы: это было архитектурное чудо, прославленное художниками эпохи в красочных плакатах. Они воспевали титаническую силу, победившую горы, неудержимый порыв, влекущий поезда через подземные пещеры, работающих в сердце земли обнаженных силачей, тела которых багровеют в отсветах адского пламени. Вдали, на выезде из туннеля, в городе будущего вздымается над бледной линией горизонта шпиль собора: Милан — это столица, точка притяжения. Месяцем позже, в июне 1906 года, город откроет двери Всемирной выставки — и посетители со всех концов полуострова и мира приедут подивиться техническим изобретениям ломбардского гения.
Меньше чем за четыре десятилетия Милан, процветавший и богатевший благодаря плодородным долинам, засаженным тутовыми деревьями, и рисовым полям, стал крупнейшим центром торговли, форпостом высокотехнологичных отраслей промышленности, а также штаб-квартирой богатейших банков. Ни один город не извлек больше пользы из Рисорджименто и рождения Новой Италии — эти исторические события избавили его от ярма австрийской бюрократии и бремени запретительных пошлин.
На фоне объединения нации новые люди, подобные Карло Эрбе, сумели превратить маленькие семейные промыслы, где использовался в основном ручной труд, в великие европейские синдикаты. Миланцы добиваются невиданных успехов: Джованни Пирелли, сын булочника из Варенны, ярый гарибальдиец первого призыва, к концу века становится королем резиновой промышленности; Эрколе Марелли, бывший квалифицированный рабочий, основывает на собственные сбережения компанию, которая станет одной из самых динамичных в секторе электрооборудования. Винченцо Бреда восстанавливает умирающую фирму по производству механических изделий и создает предприятие по сборке локомотивов, а затем возглавляет корпорацию «Терни», построив при поддержке государства первый в Италии сталелитейный завод. Возникают промышленные империи и основываются династии. Подобно семейству Крупп, которое стало для Эссена и всего германского капитализма примером небывалого взлета (и послужило прототипом Эссенбеков из «Гибели богов»), сталелитейщики Фалько и семьи Пирелли, Кандиани, Эрба в других отраслях промышленности способствовали подъему капитализма в Милане и в Северной Италии в целом.
Чтобы обеспечить развитие города и создать условия для прироста населения, градостроители, промышленники, банкиры, члены городской управы, отвечавшие за проведение в жизнь перспективного плана, смело приступают к тому, что позже назовут скандальным и позорным уродованием старого Милана. Сносятся испанские укрепления, с которых Стендаль любовался заснеженной горной цепью, напоминавшей ему «зубья пилы»; вырубаются сады, для каналов сооружаются подземные ложа, многое другое меняется из чисто практических соображений — эти метаморфозы мало-помалу лишили Милан облика укрепленного города, стоящего в круге стен и каналов. Особенная планировка, при которой во всех районах бок о бок жили представители разных классов, была уничтожена; сто лет здесь все разрушали и перестраивали, сообразуясь с требованиями момента: теперь городу было просто некогда стареть.
Главным приоритетом стало утверждение Милана в качестве финансовой столицы Италии, но здесь сосредоточились не только крупнейшие отрасли промышленности и торговли — город также претендовал и на звание «столицы нравственности». Так, в конце XIX века в Милане появляется площадь Дуомо, которую называли «монументальной хореографией в банковском вкусе».
Со вторым главным историческим полюсом города, площадью «Ла Скала», соборную площадь связала Галерея Виктора-Эммануила; Рим и Неаполь завидовали миланцам, мечтая иметь такую же. В тридцатые годы Галерея поразила Андре Сюареса своим «необычайным уродством»: «Огромная постройка, единственное предназначение которой — служить проходом, „труба, где гуляет Иона“, „глотка, выплевывающая и всасывающая поток прохожих“, и главное — триумф смешного и наивного самодовольства миланских буржуа. Сюарес писал: „Стеклянный свод, по которому барабанит дождь и сквозь который проникает свет, становясь более тусклым, удерживает тепло и лелеет буржуазную флору, что обитает внутри. Галерея — памятник обществу, которое только обустраивается, но уже хочет выглядеть солидным. В этом здании нет ни меры, ни вкуса. Шум среди грубой роскоши, гулкий звук во внутренней пустоте“.
Из этого центра, из самого сердца города, где большие здания банков соседствуют со старинными аристократическими дворцами и где на руинах разрушенных кварталов вырастают новые постройки разбогатевшей буржуазии с фасадами то неоготическими, то ренессансными, то в стиле либерти, разойдутся в разные стороны широкие проспекты. Их прокладывали по модели, которую градостроители тех лет называли „грандиозной реформой парижских улиц“ барона Османа, и модель эта требовала полного „оздоровления“ всей структуры города. Островки простонародной застройки сносят с лица земли, обитателей выселяют на окраины — за пределы зоны dazio, центральной части города, въезд в которую облагался пошлиной, а плата за жилье была выше, чем в других кварталах.
Тридцать лет интенсивной урбанизации и спекуляций вкупе с демографическим скачком и постоянным притоком иммигрантов придадут окончательную форму этой метрополии, затягивающей пролетариат в свою сеть, ячейки которой становятся все мельче, а сама она сжимается все теснее. Задолго до Рокко и его братьев, приезжающих селят в домах без зелени и света, напоминавших, по выражению Сюареса, „ульи в разрезе: на выкрашенном в гнусные цвета фасаде распахнуты настежь все окна, люди облепили комнаты точь-в-точь как мухи на клейкой ленте. Пыль, гонимая ветром, оседает на обитателях этих душегубок…“. С высоты Дуомо писатель смотрит на „разбухший, тесный, жирный“ город, „человечий сыр с прожилками площадей и улиц“: „Старый Милан застегивает свой пояс из узких каналов в Кастелло. Другой кусок сыра, радиусом почти вдвое больше, опоясывает первый, и корка его состоит из бульваров и бастионов. Этот человеческий пузырь, кажется, никогда не перестанет расти и надуваться. Милан — типичный муравейник. Этим он похож на китайские города; и, думаю, не случайно здесь тоже хранят коконы шелкопряда и торгуют шелком“.
Слегка отставая по времени от Парижа, ломбардский город так же, как и столица Франции, притягивает и завораживает провинцию. Гвидо Пьовене вспоминает, что в начале века венецианцы отправлялись в Милан — подобно тому, как французские провинциалы мчались в Париж; дед показывал ему здание, которое считал непревзойденным примером современной архитектуры — Итальянский коммерческий банк, монументальное строение из белого мрамора на фундаменте из черного, чистейший образец умбертинского стиля конца века.
Сицилийский автор Джованни Верга, ехавший поездом по бесконечной ломбардской равнине с ее пыльно-серыми низенькими оградками, нескончаемыми рядами шелковиц и вязов, прямыми линиями каналов и дорог, пишет, как взволновал его появившийся на горизонте шпиль Дуомо, его guglia. Он страстно желал добраться до „города городов всей Италии“, окунуться в жизнь мегаполиса, „оказаться в толпе, спешащей по тротуарам“, увидеть элегантных миланок — их зовут итальянскими парижанками — которые фланируют под сводами Галереи и заходят в огромные магазины братьев Боккони. Прежде, чем сойти с поезда, Верга уже воображал себе „сияющие магазины, освещенные газовым светом, гулкий стеклянный свод Галереи, электрическое освещение в кафе „Ньокки“, фантасмагорию спектакля в „Ла Скала“, где, точно в оранжерее, царит празднество огней, цветов и прекрасных дам…“
Картина, нарисованная сицилийским писателем, отражает дух общества в конце века; деятельность горожан описывается в терминах „ликование“, „витальность“, „наслаждение“. Колесо Милана „с собором посреди площади в качестве оси“
еще не начало, как пишет Сюарес, вращаться „днями и ночами во все стороны“, подобно „печальной розе ветров, с лязгом, скрежетом и стенаниями“. Шум, движение, волнение толп, жестокость — такова была плата за модернизацию. Где еще могли обнародовать свои вызывающие манифесты художники-футуристы, мечтавшие по дешевке сбыть с рук прошлое, как не в этом „встающем городе“, запечатленном в 1911 году Умберто Боччони?[6] Этот Милан с его дешевыми домами на окраине и множеством стройплощадок вовлекает людей в вихрь ярких красок — так неукротимая сила огня сжигает соломинки на фоне кровавого рассвета.
С какой еще трибуны писатель Маринетти мог бы воскликнуть, что гоночный автомобиль прекраснее Ники Самофракийской, что футуризм „покончит наконец с лунным светом“, читай — свернет шею анемичной и пошлой безвкусице сентиментализма и романтизма, которые отжили свой век? Где еще, как не в Милане, можно рисовать „все новое, что только есть, будущее нашей индустриальной эпохи“, и это не только мчащиеся поезда, автомобили, самолеты, но и все виды человеческих движений. Здесь есть „гигантские толпы, захваченные работой“, заводы и их дымящие трубы, уличная суматоха, вспышки народного гнева, массы, с яростными криками марширующие через весь город. Штаб-квартира футуристов располагалась в Красном (названном по цвету фасада) доме — его стены были украшены фресками с изображением самых славных страниц Рисорджименто; тот факт, что футуристы разместились именно здесь, ясно подтверждает их революционные намерения.
Футуризм, авангардизм — эти слова всегда будут будоражить Висконти, даже когда Маринетти, апологет насилия и динамизма, присоединится к буйным фашистским митингам. При ретроспективном взгляде выступления футуристов покажутся более декадентскими, чем тот „маленький старый мирок“,[7] самые характерные и живописные представители которого каждый день приходили безмятежно посидеть в кофейнях Галереи, которая исполняла роль громадного миланского салона. Всегдашнее пристанище либералов, плетущих заговоры против австрияков, кафе „Кова“ к началу века превратилось в пекарню-кондитерскую, где нежно билось интеллектуальное сердце Милана.
Шеф-редактор Pungolo Леоне Фортис, беспечный и разодетый, как испанский гранд, окутанный ароматами горячего шоколада и сигарного дыма, сидел в задней комнате; в послеполуденный час к нему присоединялись три другие заглавные „Ф“ местного журналистского мира: Паоло Феррари, Франко Фаччьо и Филиппо Филиппи. По словам Савинио, из всех ежедневных газет самой что ни на есть миланской уже в то время была Corriere della Sera, где „все — и редакторы, и рядовые корреспонденты — думали и писали в одной манере. Литературный стиль издания был гармоничным, ни один автор здесь не сбивался с проторенной тропы и не стремился перекричать другого“.
Когда в 1908 году умер писатель Эдмондо де Амичис, первая полоса Corriere della Sera была взята в траурную рамку, а заголовок, растянутый на шесть столбцов, гласил: „Умер певец добра“. Джузеппе Джакоза удостоился таких же почестей. Смерть писателя, даже посредственного, попадала в те времена на первые полосы центральных газет Италии. Критические стрелы, ядовитые зерна сомнения, желчь тех, кто „осведомлен лучше других“, еще не волновали умы». Джакоза тоже заходил в «Кова», он был участником дружеских литературных бесед, не слишком глубоким полемистом, но живым и веселым собеседником. В четыре часа дня появлялись братья Бойто, Камилло — архитектор и писатель, автор повести «Чувство», и Арриго — композитор и либреттист опер «Отелло» и «Фальстаф». Арриго частенько уносил домой коробку пирожных, которые будоражили воображение Альберто Савинио. «Куда, кому носил он эти сладости? Я считал, что у Бойто были любовницы — зрелые, нежные и очень красивые женщины. Большие кошечки, одетые в шелка и страусиные перья… Да он и сам напоминал кота из „Пиноккио“: высокий, похожий на профессора, он прятал маленькие лапки в лакированных кожаных ботиночках, сверкающих и остроконечных, как утюги». Между пятью и семью часами сюда приходил Джакомо Пуччини, удобно устраивался на диванах из красного бархата и распивал кофе со сливками, макая в чашку бискотти…
Галерея была удивительным, театральным местом, где появлялись все экстравагантные личности, актеры средней руки и местные знаменитости, которых было так много в этом рациональном, дисциплинированном городе. Всем был известен музыкальный критик Ромео Каругати, самый неопрятный человек в Милане, устроивший у себя в квартире настоящий зверинец. По вечерам он приходил в кафе «Савини» или «Мартини» с маленькой мартышкой Тиной на плече. Залетали в эти кафе и элегантные красотки в мехах, вуалетках и шляпках, украшенных цветами или невообразимыми эгретками, — маленький Лукино, впечатленный их уличным дефиле, в 1913 году зарисовал дам в своем альбоме. Бывали тут и дивы в фантастических одеяниях из перьев, в том числе — Лина Кавальери и Ромильда Панталеони, знаменитая Дездемона с золотым голосом, подруга Арриго Бойто. Савинио вспоминает: поздно вечером, когда утонченные аристократы возвращались в свои дворцы, из дверей бара на Галерее выходил закутанный в плащ белокурый гигант в мягкой шляпе с немыслимо широкими полями и бесцельно бродил по пустынной Галерее, словно корабль на окаменелом море, и паруса его наполнялись той бурей, что была у него внутри. Федор Шаляпин заглядывал в этот бар, чтобы «вдохновиться» ликерами. Основательно поднабравшись, он, шатаясь, пересекал Галерею по зигзагообразной траектории, которая напоминала трещину после гигантского землетрясения, и направлялся к артистическому входу «Ла Скала» на виа Филодрамматичи — он шел на репетицию «Бориса Годунова». Чуть погодя он твердой царственной походкой выходил на сцену, раздавая благословения партнерам, и «начинал разматывать километры голоса — низкого, теплого, могучего, разливающегося широко и безмятежно, как реки его родной страны…»
«Ла Скала», Дуомо («любимая церковь моего брата», — напоминает Уберта) и дворец на виа Черва — в этом узком треугольнике протекала миланская жизнь Лукино. Именно здесь была сосредоточена поэзия города, хрупкая и утонченная гармония общества. Общество это, как и в пьесах Чехова, вовсе не замечает предзнаменований грядущих потрясений, которые взорвут мир, названный Савинио «замкнутой цивилизацией Милана»:
«Зрелая и обращенная в себя цивилизация, ничего не ждущая извне, дорожащая лишь тем, что имеет… Город в форме колеса, обреченный на то, чтобы быть центром притяжения, вбирать в себя все… Я вспоминаю замкнутую цивилизацию Милана, как вспоминают сон. В период с 1907 по 1910 год она застыла в абсолютной неподвижности и сияла великолепием. И эта замкнутая цивилизация взорвалась в 1914-м. Война ускорила ее конец, но не стала решающим фактором гибели. Войны не действуют на цивилизации откуда-то извне — они сами лишь следствие внутренних драм. Этот герметичный мир был обречен и погиб бы даже безо всякой войны.
Тучи сгущались над городом — то были грозовые облака новых идей, которые несли с собой смуту и разложение.
Прежде Милан жил в покое и безопасности, безразличный ко всему, что не касалось его напрямую. Какое дело Милану, что где-то рождается кубизм, что происходит переворот в умах и низвергаются поэтические ценности, что некие беспокойные и любопытные люди в который уже раз сорвали блестящий и отныне бесполезный покров с цивилизации в очередной попытке докопаться до сути вещей?»
На этот золотой век пришлись ранние годы Висконти. Туда, в Belle Époque своего детства он будет возвращаться всю жизнь, но не в поисках убежища, а желая обнажить ее суть, найти червоточины, подчеркнуть великолепие и разгадать, что за силы явились «сорвать сияющий покров» с цивилизации — скорее центральноевропейской, чем сугубо миланской. Происхождение и воспитание Висконти, внутренние противоречия его биографии привели его к исследованию этого исторического кризиса, и в этом исследовании отразилась и его собственная жизнь.
Глава 2 СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ
Во времена замкнутой цивилизации Милана архангел заурядности, вооруженный золотыми весами и блестящий в лунах солнца, кружил рядом с Маленькой Мадонной — безгрешный и суровый, он охранял крыши любимого города.
Альберто СавиниоТысяча девятисотый год. Новый век начинается с пышного бракосочетания: Карла Эрба, прекрасная простолюдинка, похожая на Анжелику из «Леопарда» (и еще более богатая, чем она), выходит замуж за графа Джузеппе Висконти ди Модроне — утонченного, элегантного и весьма практичного покорителя дамских сердец. Дон Джузеппе (друзья звали его дон Зизи) — обладатель иссиня-черных волос, бархатных глаз и аккуратно подстриженных усиков — словно бы сошедший с рисунка Обри Бёрдсли. Окружающие считали их на редкость гармоничной парой. Прежде чем выйти за Джузеппе Висконти, Карла Эрба отклонила предложение руки и сердца, сделанное будущим сербским королем Петром. Уберта, их дочь, сказала нам: «Это был брак по любви, по очень большой любви». Они обручились девятнадцатилетними, а через год поженились. Когда Карла и Джузеппе появлялись на публике вдвоем, все смотрели только на них — так было и в Парижской Опере во время их медового месяца, то же повторялось и когда они посещали театр «Ла Скала». Стоило паре впервые войти в обитую красным дамастом ложу Висконти, как все отливающие перламутром бинокли в зале обратились на них, и целый вечер дверная ручка их запертой изнутри ложи то и дело поднималась и опускалась. Однако дон Джузеппе не собирался потакать любопытным и отвлекаться от спектакля — в тот вечер модная публика и без того была развлечена больше обычного.
В Милане успех, красота и богатство и не думают скрываться. В силу социального положения супруги Висконти становятся публичными фигурами. Газеты всегда упоминают об их присутствии на балах и празднествах, описывают в деталях туалеты донны Карлы и ее жемчуга, не менее знаменитые, чем бриллианты принцессы Мольфетта и изумруды маркизы Луизы Казати, которую Д’Аннунцио воспел как новую «Кору с архаической улыбкой». Казати — развращенная и чувственная «анти-Джоконда», адская и одновременно райская птица, которую Больдини изобразил в ореоле разноцветного павлиньего оперения, а Д’Аннунцио описал укутанной «в длинные газовые накидки в ориентальном стиле, которые алхимик Мариано Фортуни опускает в диковинные снадобья, достает выкрашенными в оттенки странных грез и разрисовывает невиданными растениями, животными и звездами».
Но не «божественная маркиза», а именно графиня Висконти занимает первые полосы модных журналов. Они превозносят ее «хороший вкус», строгую изысканность нарядов, ошеломляющую роскошь длинного пальто из шиншиллы и соболиных мехов. В журнале La Donna за 20 июня 1907 года ее упоминают в числе зрителей на ипподроме в Сан-Сиро, одном из самых аристократических мест Милана. На Карле была огромная шляпа с цветами, камзол поверх обтягивающего, сильно приталенного платья, на перчатках в соответствии с модой тех лет — три черные полоски, а в руках она держала зонт из тончайших черных кружев. Все эти детали Висконти скрупулезно воспроизвел в фильме «Невинный», сложив из них образ графини Джулианы Эрмиль. Пастельные накидки и меха, не говоря уж о модных длинных боа из страусиных перьев, смягчали строгий силуэт, который постановщик «Травиаты» и «Трех сестер» воссоздаст сорок с лишним лет спустя.
Мало кто из миланок мог соперничать в элегантности с донной Карлой — разве что графиня Ориетта Борромео Дориа и баронесса Леонина Алатри. Красота ее детей еще сильнее заставляла восхищаться этой женщиной: первые пятеро появились на свет между 1901 и 1908 годом, и прохожие любовались их портретами в витрине светского фотографа Соммаривы. Рассказывают, что однажды хозяин магазина детских игрушек сделал вид, что не хочет отпускать Лукино. «Я выставлю его в витрине, — сказал торговец. — Он будет красивейшей из моих кукол». Самый выразительный групповой снимок семейства Висконти датирован 1911 годом: на нем мы видим мать, сидящую в окружении пятерых детей неземной красоты. Донна Карла в элегантном длинном темном платье держит на коленях трехлетнего малыша Эдуардо в кружевном платьице и панталончиках; Луиджи обнимает мать за шею, он похож на маленького лорда Фаунтлероя. Из-под светлой курточки выглядывает большой воротник, кружевные манжеты и жабо; смуглолицая девятилетняя Анна, унаследовавшая осанку матери, ее меланхолическую улыбку и волевой подбородок, прижимает к плечу младшего брата, своего любимца — Луиджи; на ней светлое платье с изящной вышивкой, поясок из бледно-голубого шелка, жемчужное ожерелье — подарок отца; рукой она слегка касается плеча старшего брата Гвидо, тому десять лет, но он одет как юноша: темный костюм, накрахмаленный широкий воротник, пышный белый пион в петлице. У него большие черные глаза, изогнутые отцовские брови, на губах еще детская, но уже презрительная гримаска. В центре — Лукино, которого бабушка называет «прекрасным принцем» — он стоит, глядя прямо в объектив, в голубом платье с кружевами, властно сжимая пухлую ручку Диди, малыша Эдуардо, который родился последним. У Диди на плече лежит рука матери. В этой изысканной композиции всё, даже позолота старинной мебели, позволяет фотографу подчеркнуть величие и пышность самой знаменитой миланской семьи.
Милан всегда обожал устраивать парады своих знаменитостей. Как и в те времена, когда Стендаль прогуливался у испанских Бастионов, толпа заполняет аллеи, чтобы поглазеть на так называемый «Променад солнца» — парад самых прекрасных экипажей, по-прежнему чинный, несмотря на то, что геральдических щитов на дверцах карет стало заметно меньше. В погожие дни осени или весны, с самого первого воскресенья Великого поста, когда вершины Альп еще покрыты снегом, но солнце уже ласково блестит на лошадиных крупах и безукоризненных лакейских ливреях, дети семьи Висконти приходят на крепостные валы, они счастливы, потому что понимают по взглядам окружающих, что их мать — первая дама в свете, некоронованная королева Милана.
Звезда рода Висконти сияет ярче всех других звезд — даже в высшем обществе. Художник Фабрицио Клеричи — его род был одним из самых известных семейств миланской аристократии — вспоминает тот день, когда он впервые увидел детей донны Карлы: «Это было во время Карнавала, задолго до первой войны; я был приглашен на бал-маскарад, который устраивал аристократический кружок „Сосьета дель Джардино“, принимавший в свои ряды лишь избранных В какой-то момент все вокруг по-детски заволновались и принялись шушукаться, словно должны были появиться властители Милана: „Висконти! Висконти!“ Они появились — все пятеро в одинаковых черно-белых костюмах Пьеро. Они шли по залу и осыпали нас лепестками роз… В них всегда было нечто особо утонченное, фантазийное, элегантное и что-то еще, что уже вовсе нельзя передать».
Они воплощали собой не только верность самым древним традициям рода Висконти, но и яркий триумф рода Эрба, победу ультрасовременного духа предпринимательства. Семейство Эрба отличалось от других семейств промышленной буржуазии пышным укладом жизни и связями в музыкальных и аристократических кругах. У большинства «рыцарей индустрии» не оставалось времени на приемы, балы и карнавальные празднества. Они не считали нужным появляться на бегах в Сан-Сиро, в музыкальных гостиных, в ложах театра «Ла Скала». Дочь Энрико Фалько, крупного дельца, основателя первой миланской сталелитейни, говорила, что ее семья всегда придерживалась относительно простых нравов и никогда не пыталась подражать царственным замашкам знати — по ее воспоминаниям, «пышные балы, на которых оркестры до зари играли вальсы, давали только в аристократических домах». Эрба жили иначе: следуя максиме Стендаля о том, что «настоящее дворянское достоинство в Милане немыслимо без постройки собственного дома», они возвели в Черноббио, на берегах озера Комо, роскошную виллу в неоклассическом стиле и принимали в своем доме на виа Марсала весь свет. Именно в Черноббио, престижном месте отдыха аристократов, где у семьи Висконти тоже был свой дом, еще давным-давно, в детстве познакомились граф Джузеппе и Карла Эрба.
Воспитание, которое получила Карла, было строгим и весьма обыкновенным — так же воспитывалось большинство девушек из аристократических семей. Ее научили всему, что необходимо знать и уметь хозяйке светского салона и большого дома: она бегло говорит по-французски, по-английски и по-немецки; учится манерам и посещает школы танцев для самых аристократических семей Милана — те, где учат танцевать на расстоянии не менее двадцати сантиметров от кавалера, где спину нужно всегда держать прямо — неважно, в корсете ты или нет, и где предпочитают не целовать руку, а пожимать ее на английский манер. Кроме того, она великолепно знает музыку. Будучи племянницей Джулио Рикорди и Джудитты Бривио, музыкальный салон которых был знаменит не меньше салона дивы Терезы Штольц, певшей в «Аиде», Карла общалась с Верди, близко знала Арриго Бойто и Джакомо Пуччини (последний работал над либретто к «Манон Леско» на вилле Бойто в Черноббио). В такой музыкальной среде, позже воссозданной режиссером «Невинного», протекала жизнь Карлы Эрба — это была жизнь в роскоши, когда между арией Глюка и двумя сонатами Шопена происходит обмен взглядами, рождаются и умирают грезы и истории любви.
Деньги и красота, но главное — светскость и музыка распахнули перед донной Карлой и ее сестрой Линой, которая станет женой графа Эммануэле Кастельбарко, прежде наглухо закрытые двери в аристократический мир. Эти матримониальные связи между буржуазией и аристократией отображают эволюцию общества между концом девятнадцатого века и Belle Époque — таков же и брак внучки «Пеппе-Дерьма» Анджелики Седара и племянника князя Салины Танкреди Фальконьери в фильме «Леопард». О Висконти ди Модроне, как и о многих других знатных семействах Милана — Мельци д’Эриль, Кривелли, Бельджойозо, Казати, — можно сказать то же, что Пруст говорил о Германтах: «Известная смесь аристократических предрассудков и снобизма, которая издавна автоматически отсекала от их имени все, что не вступало с ним в гармонию, прекратила действовать. Ослабев или поломавшись, рессоры державшей на расстоянии машины больше не двигались, и в нее проникали тысячи инородных тел, лишая ее однородности, солидности и блеска». Это, конечно, так — но только если забыть, что альянс с крупной буржуазией, далекой от желания лишить аристократию «ее солидности и блеска», лишь усиливает оба класса, вдыхает в них новую жизнь по причине исключительно миланской специфики двух этих социальных страт.
В парижском обществе эпохи Пруста задавали тон эксцентричные выходки Бони де Кастеллана или Робера де Монтескью. В Милане на все лады обсуждали и брали за образец элегантность и дендизм Джаннино Траверси или Джорджо Тривульцио, но те не могли, да и не хотели тягаться с причудами Монтескью, не боявшегося появиться в свете в белом бархатном костюме или заменить галстук букетом фиалок. Тем более никто не мог угнаться за экстравагантностью д’Аннунцио: этот страстный поклонник Людвига Баварского устилал полы своей спальни медвежьими шкурами, осыпал помещение искусственным снегом и инеем и в довершение всего установил там же сани… Благовоспитанность зажиточного Милана заключается в умеренности: всех здесь вполне устраивает, что серебряные сервизы не блестят, гербы на дверцах открытых колясок и экипажей скромны, а одежду шьют прямо на дому. Шикарные платья, связи, скандалы буйной маркизы Казати, австриячки по рождению, для серьезного и провинциального предвоенного Милана были слишком эксцентричны. Этот Милан считал некоторые празднества безумствами — в том числе рождественский прием 1903 года в совершенно дантевском ключе, когда на разных этажах театра «Эдем» воспроизвели всю сложную архитектонику «Божественной комедии»: «Ад» устроили в подвалах и нижних этажах, «Чистилище» — в театральном зале, а «Рай» в верхних салонах, для небольшого числа избранных, членов аристократического клуба, которых ждал пантагрюэлевский стол Такими же были балы-маскарады, устраиваемые избранными кругами — Артистической семьей, Обществом художников и патриотов, Обществом сада: Имперский бал 1908 года, Японский бал 1912 года, вдохновленный оперой «Мадам Баттерфляй» (для этого бала создали особую декорацию — сад цветущей сакуры).
В этом неистовстве частных званых вечеров возвращаются утратившие на время популярность «маскарады-ризотто», о них кричат афиши, выполненные в даннунцианском или футуристическом стиле, а салоны Общества художников и патриотов декорируются в соответствии с выбранной темой — то под морские курорты, то под испанский постоялый двор из «Кармен», то под экзотические оранжереи, то под заснеженные тирольские городки на фоне ледников. Десятки художников лихорадочно конструируют призрачную оптическую иллюзию, рисуют панно с карикатурами, создают декорации из гипса и холстины, которые на следующий день раскупались по бешеным ценам.
На все это тратились безумные деньги, но траты искупало великодушие миланских богачей, считавших благотворительность верхом светскости: все средства, вырученные от праздненств и спектаклей, перечислялись Красному Кресту, а также Комитету помощи детям-сиротам, в котором председательствовала герцогиня Карла Висконти. Да, Милан был праздником, но это был праздник благотворительности: члены самых знатных аристократических семей, такие, как Борромео — в их роду был Папа Римский, или Висконти, потомки единолично правивших Миланом тиранов, бесплатно выступали в театре «Даль Верме», в конном представлении; а весной 1913-го, по случаю закрытия старого театра Каркано, граф Джузеппе и его шурин Эммануэле Кастельбарко подавали реплики ослепительной диве Лиде Борелли и великому комическому актеру Антонио Гандузио.
Эта традиция была жива и в 1950-х. Писатель Гвидо Пьовене вспоминает, что одним из излюбленных времяпрепровождений высшего миланского света было мероприятие под названием «капюшон» — аристократы собирались на благотворительные вечера, куда по обычаю приглашали какую-нибудь сегодняшнюю знаменитость. Для благотворительности были открыты все двери города, ибо весь аристократический и светский Милан, по словам писателя, «откликался на два довода, один из которых в отрыве от другого не имел бы никакого значения, зато вместе они встречали всеобщее одобрение: следует исполнять долг милосердия и давать великолепные обеды собратьям-благотворителям. В Милане, как и в Нью-Йорке, в бедные кварталы слетается целый рой старых и молодых дам-патронесс; они буквально набрасываются на бродяжек, сирот, детей-калек, создают объединения вроде „Трудовой пчелы“, которое становится притчей во языцех всего Милана». В 1908 году, после сицилийского землетрясения, супруги Висконти отправляются в Мессину: они посещают больницы, одаривают бедняков, и этот их поступок — вполне в духе миланской аристократии.
В конце века позиции аристократии ослабевают, она заметно беднеет, оставаясь в стороне от великого обновления эпохи. Впрочем, без исключений не обходится, и это прежде всего относится к светскому дворянству, которое богаче и динамичней «черного дворянства», традиционно связанного с Ватиканом и Австрией. В противоположность князьям де Бельджойозо и графам Борромео, семейства Сола, Галларати-Скотти, Казати, Висконти ди Модроне уже не претендуют на подвиги на полях сражений, как в наполеоновские времена; они страстно увлечены модернизмом: они во многом напоминают ту английскую элиту XVIII века, чей прагматизм и полное отсутствие предрассудков так нахваливал Вольтер. Герцог Томмазо Галларати-Скотти основывает журнал Rinnovamento, на его страницах обсуждаются все социальные, политические и культурные темы, вставшие на повестку дня в новые времена. Герцог Гвидо Висконти берет на себя обязанности сенатора, становится меценатом, не позволяет закрыть театр «Ла Скала», возглавив его административный совет, руководит Банком Ломбардии и открывает три процветающие хлопчатобумажные фабрики. Но самый предприимчивый в семье — третий сын, граф Джузеппе Висконти. Не удовлетворившись руководством фармацевтической фирмой Эрба, он предпринимает целый ряд смелых инициатив: покровительствует и поддерживает деньгами молодые театральные труппы, открывает фабрику по производству духов, занимается мебелью и предметами декора, торгует обоями и тканями; среди множества дел, которыми он увлечен, есть даже фабрика джемов «Пиноккио»… В 1950-е годы Гвидо Пьовене напишет: «Висконти ди Модроне — самый яркий пример тех знатных ломбардских семейств, которые, породнившись с семьями буржуа, вложились в промышленность на несколько десятилетий раньше, чем начали развиваться другие регионы Италии. И дворец Висконти с его бархатом, парчой, золотыми украшениями, зеркалами, сумрачными гостиными, старыми лакеями — одно из тех старинных обиталищ, где дух великих миланцев Парини и Порта все еще витает над напластованиями новой архитектуры. Я встречался с Эдуардо Висконти, который управляет домом Эрба; при нашей беседе присутствовали только ласковый пес и несколько китайских статуэток. Мой собеседник нелицеприятно отзывается об итальянских промышленниках. Экспортировать трудно. Чтобы противостоять политике итальянского протекционизма, нужно создавать независимые зарубежные компании и привязывать их к местным промышленным группам. Именно так пришло к процветанию дело Эрба во всех крупных государствах Латинской Америки и в Испании, а в наши дни — и в Турции, Египте, Японии. Однако для подобной затеи требуется самоотверженность, отказ от быстрой прибыли и уверенность в будущем, то есть мышление настоящего промышленника, а это весьма редкая добродетель в Италии. Промышленники у нас слишком часто ведут себя как спекулянты, все, что им нужно, — побыстрее получить барыш. Однако этот изъян порожден и развит политической ситуацией. Правительство, бюрократия, лишенные настоящих технократов, даже не думают заниматься проблемами экономики. Прийти к согласию с наемными рабочими невозможно, поскольку их профсоюзы подчиняются приказам политических партий. Промышленные отрасли, в которых работают некомпетентные люди, превращаются в чистую благотворительность. Если бы гигантские суммы, растраченные кассами взаимопомощи, оставались в Ломбардии, требования рабочих можно было бы удовлетворить. А после этого настало бы время подумать и о жителях южных областей». Существует безусловная разница между жизненной силой рода Висконти и описанными Прустом симптомами вырождения парижской аристократии — дворян де Гиш, Монтескью, де Ларошфуко и Кастелланов он сравнивает с «впавшей в маразм богатой вдовой», которая обречена на угасание. Еще одна пропасть пролегает между упадничеством римской аристократии, какой ее изобразил д’Аннунцио в книге «Наслаждение», и нравственным достоинством знатных ломбардских семей, которых пока не коснулось то, что этот писатель в 1880-е годы называл «серым потопом демократической грязи, затопившим своей скверной столько прекрасного и редкого», смывшим с лица земли «ту узкую прослойку старого итальянского дворянства, которая не давала умереть известной семейной традиции высокой культуры, изысканности и искусства — традиции, которая передавалась от отца к сыну». Д’Аннунцио называл этот социальный класс «выходцами из Аркадии»; пышнее всего этот класс процветал в беззаботном XVIII веке, и вот его главные черты — «учтивость, утонченность и изящество речи, интерес к прекрасному, увлечение археологией, утонченность манер». Среди ломбардцев эти характеристики сохранялись долго и особенно ярко были выражены у графа Джузеппе Висконти.
«Мой отец, скажет Висконти, — принадлежал к аристократии, но его нельзя было назвать легкомысленным или пустоголовым. Он был человек культурный и чувствительный, любивший музыку и театр. Именно он научил нас понимать и ценить искусство». От родителей младшие Висконти унаследуют искусство жить, культуру, но еще и дух предпринимательства, чувство долга, которое важнее ощущения собственных прав или удовлетворенности своим привилегированным положением. «Мой отец, — добавляет режиссер, — не уставал повторять, что я не имею права требовать ни прав, ни привилегий, полагающихся мне по рождению… Я никогда, ни разу в жизни не похвалился своим дворянским происхождением. Меня воспитывали и учили совсем не для того, чтобы я стал придурковатым аристократом, разжиревшим и обмякшим за счет нажитого предыдущим поколением».
Присутствие в семье донны Карлы, урожденной Эрба, еще более усиливало этическое отношение к жизни, которое Томас Манн в работе «Художник и общество» определял как «буржуазное». «Этика, — пишет он, — в противоположность простой эстетике, наслаждению красотой и радостью бытия, как и в противоположность нигилизму и губительной праздности, есть, по сути, буржуазная позиция по отношению к жизни, чувство долга по отношению к жизни, без нее пропадает стремление к работе, к вкладу в жизнь, плодотворное и развивающее». «Моя мать, — говорит Висконти, — вела напряженную светскую жизнь. Все эти пышные балы, эти обеды, приемы, бог знает, сколько их было. Через наши гостиные прошли все сливки миланского общества… И мать заправляла всем, но особенное внимание уделяла детям. Помню, словно это было только вчера: каждый из нас играл на своем музыкальном инструменте, по вечерам она заходила в наши спальни и прикалывала на стену листок бумаги: „Шесть вечера — у Лукино урок игры на виолончели. Половина седьмого — у Луиджи урок игры на фортепиано…“ Конечно, нам приходилось непросто. Ведь еще нужно было ходить в школу. Но именно поэтому мы развивались, как живые люди, чтобы не вырасти жалкими аристократишками вроде некоторых римских князей, которые никогда ничего не желали делать… Тогда я приучился к пунктуальности. Я стал требователен к себе и к другим. Это логично: если начинаешь с максимальной требовательности к себе, потом будешь так же спрашивать с других».
В семье царила железная дисциплина, все совершалось по расписанию — определенный час был отведен для каждого урока, игр, еды, отхода ко сну. «Стоит мне вспомнить какой-нибудь день из детства, и я снова ощущаю счастливую и неограниченную свободу, прекрасно сознавая, как плотно он был заполнен и строго расписан, все было распланировано и контролировалось. Для каждого занятия было свое время, и при этом у нас находилось время на все». Это был почти казарменный распорядок, однако, по выражению Висконти, он был «озарен светом, ведь в каждом мгновении дня ощущалось энергичное присутствие матери».
Учитель — наполовину итальянец, наполовину англичанин по фамилии Бозелли — занимался воспитанием старшего сына, Гвидо, но в его обязанности входил и ежедневный послеобеденный урок гимнастики для остальных детей. Французская гувернантка мадемуазель Элен рассказывает, что «дети просто обожали его, он наполнял их энергией и волей». Уберта Висконти с ужасом вспоминает, как они вставали с рассветом, помнит она и распахнутые настежь широченные окна посреди зимы, и уроки гимнастики, во время которых она сворачивалась калачиком и отказывалась шевельнуться. Позже ее брат скажет: «Спортивной подготовкой мы обязаны учителю-англичанину, чей образ всю жизнь неотвязно преследует меня. У него была одна-единственная идея: научить нас презирать опасность, жить среди лишений, отточить наши рефлексы. Может, он был великим учителем, а может быть — просто сумасбродом. Мы с ним выходили на улицу, он улучал момент нашей рассеянности и стремительно, точно куница, пускался вслед за трамваем. Не успев прийти в себя от изумления, мы должны были осознать происходящее, побежать следом, догнать его и успеть вспрыгнуть на ступеньку. Это было не так-то просто, а особенно трудно было выдерживать иногда ошеломленные, а подчас и укоризненные взгляды благопристойных граждан. Учитель портил все удовольствие от прогулок: в его присутствии нам повсюду мерещились трамваи. В довершение всех наших бед лихой наставник решительно возражал против того, чтобы мы добирались до своих спален по лестнице. В морозные дни или во время каникул мы влезали туда через окно, карабкаясь по веревке, выброшенной сверху во двор, на манер пожарников или берсальеров, взбирающихся в свои казармы». Кончилось все тем, что донна Карла встревожилась и запретила домашние упражнения в альпинизме, однако за пределами дворца Висконти Бозелли мог делать все, что хотел. «In i Mudron!» — «„Внимание, Модроне!“ — таким воинственным кличем встречали нас кондукторы миланских трамваев, едва завидев, как, возникнув из ниоткуда, летит на абордаж полудюжина велосипедистов Висконти, крутя педали под лязг трамвая и возмущенные гудки клаксонов, двигаясь по извилистой, непредсказуемой траектории, прочерченной их неистовым наставником». Не изнеживать детей в роскоши — таков был первейший принцип этого строгого, почти спартанского воспитания. Упражнения в сценическом мастерстве и в разных видах искусства также выполнялись со всей возможной строгостью. Мировоззрение, которое создавалось в результате, было восторженно-художественным и во многом напоминало чаяния гуманистов флорентийского Возрождения. Но времена мечтаний Лоренцо Медичи и других князей эпохи Ренессанса уже давно миновали.
Последние годы XIX века были чрезвычайно бурным периодом для Италии, которая лишь недавно объединилась: череда банковских скандалов, в которых оказались замешаны промышленники и представители правящих кругов; оглушительный провал политики колониальной экспансии, которая привела к героической, но бессмысленной гибели шести тысяч итальянских солдат в Эфиопии — д’Аннунцио назвал их горсткой «сырья» — и вызвала отставку премьер-министра Франческо Криспи. Анархисты вечно что-то замышляли, а политические лидеры стрелялись — пылкий идол итальянских радикалов, журналист миланской газеты Secolo Феличе Кавалотти пал на дуэли от руки правого депутата.
Революционные или псевдореволюционные движения жестоко подавлялись — именно так случилось в мае 1898 года, когда народ вышел протестовать против повышения цен на хлеб и генерал Бава Беккарис, повинуясь распоряжению правительства, приказал стрелять из пушек по толпе, запрудившей улицы; в награду за убийство восьмидесяти человек король пожаловал ему Большой Крест Военного Савойского ордена. Довершило картину этих бурных жестоких лет цареубийство.
Вечером 29 июля 1900 года с колоколен всех церквей раздался похоронный звон: Умберто I, короля Италии и Третьего Рима, сына того Виктора-Эммануила, которого возвели на трон Кавур и Гарибальди, убили в Монце. Он садился в карету, когда раздались четыре выстрела; король надел треуголку и упал как подкошенный… Услышав новость, его супруга, королева Маргарита, чью улыбку обессмертил поэт Кардуччи, воскликнула: «Это самое ужасное преступление века!» Паника охватила не только Пенинсулу, но проникла и в отдаленные уголки Сицилии — по крайней мере, таково свидетельство Джузеппе Томмази ди Лампедузы: он был ребенком и мало что понимал, но его потрясла бледность непривычно взволнованного отца, ворвавшегося в ванную комнату матери, чтобы сообщить ей ошеломляющую новость. Цареубийство совершил молодой анархист Гаэтано Бреши — он мстил за расстрел демонстрации в Милане, и многие опасались, что этот поступок взбудоражит общество и послужит сигналом к началу революции… В Риме во время похорон толпа бросилась врассыпную в страхе перед новым покушением. Наследный принц — он был маленького роста — едва не был сметен людским водоворотом; его тесть, король Черногории, его кузены граф Туринский, герцог д’Аосте и их адъютанты едва успели вытащить принца из людского потока и даже схватились за сабли, собираясь защищать наследника… Но ни тогда, ни в последующие дни и годы ни один анархист или социалист не попытался совершить новое преступление. Вскоре стали говорить, что выстрелы Бреши, укоротившие на десяток лет жизнь Умберто, в то же самое время продлили жизнь монархии на век. Возможно, это был слишком оптимистичный прогноз, но, как отмечал писатель Джузеппе Антонио Боргезе, «дальнейшие события развивались так, словно страна и в самом деле освободилась. Народ вскоре успокоился. На смену бурным дням пришли годы быстрого материального прогресса, роста и процветания… Первое десятилетие XX века стало счастливейшим временем в истории Италии».
Когда Виктор-Эммануил в возрасте тридцати лет взошел на трон, Габриэле д’Аннунцио со свойственным ему пафосом обратился к нему с пламенной одой, в которой были и такие слова «Когда не сможешь ты Италии придать величия и славы, меня считай в чреде врагов твоих». Однако новоиспеченный король не мечтает ни о славе, ни о величии и никак не соответствует образу идеального монарха, который несколькими годами раньше нарисовал один неаполитанский писатель, истовый монархист: «Он должен быть высок, красив, как нельзя более силен, великолепен, щедр, он должен быть немного чувственным, но прежде всего он обязан быть верующим…» Виктор-Эммануил невелик ростом, а вернее, так мал, что Боргезе в книге «Голиаф: поступь фашизма» называет его «патологически крошечным», и это накладывает отпечаток на характер короля: «С самого отрочества чувствовал он горечь и неудовлетворенность, и, хотя вовсе не был ни зол, ни глуп, физическая неполноценность, о которой королю не давали забыть взгляды окружающих, преподала ему урок подозрительности и робости — и этот урок он хорошо усвоил».
Он ненавидел роскошь: тот церемониальный порядок, который савойцы установили в подражание крупным иностранным дворам, в особенности двору Габсбургов, тяготил его; его считали скупым, и единственной страстью короля, насколько известно, была нумизматика. Боргезе изображает его обыкновенным буржуа, тяготящимся своей судьбой, которой он не мог распоряжаться по собственному усмотрению: «Короны он не любил и держал себя так, будто просто покоряется неизбежному. Как только у него появлялась возможность, он находил убежище в лесах Пьемонта или пиниевых рощах Тосканы и наслаждался спокойной жизнью в кругу семьи. А если дела не позволяли отлучиться из Рима, во дворец он старался приходить с самым большим опозданием, какое только позволял этикет, предпочитая ему скромную резиденцию» — Виллу Ада на виа Салариа, которую еще называли Виллой Савойя. «Хороший муж, любящий и внимательный отец, он воплощал для современников идеальный образ буржуа: порядок, экономность и простота — на троне, увы, слишком высоком для его коротеньких ножек…» Что касается королевы Елены Черногорской (по слухам, отец Висконти специально приказал построить себе дом на виа Салариа в Риме рядом с жилищем короля, чтобы быть к ней поближе), Боргезе изображает ее бледной личностью, под стать супругу. Она тоже неловко чувствовала себя в роли королевы: «Дочь мелкого балканского князя — не то поэта, не то цыганского барона, получившего королевский титул в тот самый момент, когда все его королевство — горную деревушку — поглотил катаклизм войны, королева была, без преувеличения, самой безвкусно одетой дамой Италии, никогда не общалась с народом, но и не имела близких друзей: ее итальянский был ничуть не лучше других языков, которым учили в Санкт-Петербурге деревенскую простушку. Тем не менее она с большим рвением помогала нуждающимся (в эпоху демократии на эту стезю вступили все августейшие особы) — и, посещая больницу, никогда не забывала сунуть золотую монетку, или даже несколько, в ручонки детей, умиравших от менингита. Больше всего ее душу и сердце занимали домашние дела, и в этом она очень походила на мужа».
Более десяти лет в итальянской политике доминирует Джованни Джолитти: он занял должность премьер-министра в ноябре 1903-го и сохранял ее, практически без перерыва, до 1909-го; этот человек — сама умеренность и аккуратность; его воспринимают скорее как бухгалтера, беспечно играющего в шары со своими избирателями в маленьком пьемонтском городке по субботам после обеда. Его главная идея в том, чтобы развивать политические связи между либеральной буржуазией, сплотившейся в период экономической стабильности, и новыми силами, которые тяготеют к итальянской социалистической партии, основанной по инициативе ломбардского адвоката Филиппо Турати в 1895 году; Джолитти ясно отдает себе отчет в том, что «поднимающееся движение народных масс» необратимо ускоряется и набирает силу, он мечтает о том, чтобы промышленники и рабочие-социалисты пришли к согласию. Несмотря на зависимое положение пролетариата и резкий рост числа забастовок в первые годы века (в том числе в Милане, традиционной вотчине либерализма и социализма), побеждает именно путь умеренности, чему способствует экономическая конъюнктура: такому развитию благоприятствует все еще гуманное, патерналистское лицо амвросианского капитализма, каким он был в самом начале своего пути. Традиции амвросианства пока что защищали Милан от хищного капитализма, который будет бушевать во всех европейских столицах после окончания Первой мировой войны. В эти послевоенные годы всюду появятся сонмы «неудачников», людей, «побежденных жизнью».
Впоследствии, уже в 60-е годы, несмотря на продолжающуюся эйфорию капитализма, наследник дома Эрба разоблачит эту звериную мораль заправил рынка, переведя на итальянский пьесы Артура Миллера и поставив фильм «Рокко и его братья».
«Ветер раздувает огонь, взвихривает его, — писал Савинио, — но свет этого огня ярче всего во время затишья». Италия Джолитти — страна, которую за недостаточную широту ума и страстей называли «Итальеттой», первые десять лет нового века наслаждалась именно таким затишьем. И во время этого мгновения тишины свет пламени, о котором пишет Савинио, яснее всего будет сиять в уравновешенной и закрытой цивилизации Милана, где жизнь богатых и титулованных особ все еще была подчинена старому социальному укладу.
У знатных семей были свои дни для приемов: понедельник — у Галларати-Скотти, среда — у Висконти, четверг — у Борромео, пятница — у Рикорди, пять вечера — время для чая, утонченно сервированного в гостиных, обставленных в стиле Людовика XV или либерти, в семь — шампанское; после ужина — вист. В эпоху, когда люди уже вовсю ездят на автомобилях и даже летают на самолетах, учатся извлекать выгоду из всех современных удобств, искусство жить, порожденное XIX веком, по-прежнему проявляется в изобилии деталей, в образе мыслить и чувствовать и во множестве обычаев. В славные годы Рисорджименто кафе и клубы Милана служили укрытием и трибуной для самых отчаянных либералов, сюда захаживали Гарибальди и Мадзини, а австрийская полиция смотрела на подобные места с огромным подозрением. Теперь эти заведения стали местами, где создаются и рушатся репутации певцов, певиц, балерин «Ла Скала»; в гостиных больше не плели заговоров, там болтали о пустяках.
«Что же, они были не такими тяжеловесными, не такими деловыми и хваткими, как современные люди?» — так Савинио пытается разгадать душу одетых по английской моде господ с бакенбардами и тонкими усиками, в пристежных воротничках, столь придирчивых в выборе перчаток, тростей из бамбука или слоновой кости, опаловых или аметистовых запонок и цветка, который они непременно вставляли в петлицу. Приходившие к вечеру «побездельничать и сыграть партию», они протягивали визитную карточку с заранее загнутым левым верхним уголком лакеям, стоявшим у ворот «приличных» домов, в чьи обязанности входило объявлять прибывших гостей.
«Молодые люди двадцати лет и зрелые мужчины под сорок, улыбчивые тридцатилетние живчики и худосочные семидесятилетие старики с трясущимися коленями наносили визиты между пятью и восемью часами, наводняли гостиные, оправляя фалды, защищающие их зады. Их шеи туго затянуты в высоких накрахмаленных воротничках, на левой руке они носят перчатку из желтой ткани, сужающуюся на запястье и с тремя черными полосками у самого раструба, они садятся на самый краешек пуфа с чашкой чая в руке и кладут черные котелки на ковер так, что кажется, что это черные ночные горшки».
В этих «птичниках», как их описывал Савинио, «на фоне чириканья, рулад, посвистываний, кудахтанья разнообразных курочек и цыпляток, цесарок и индюшек, фазанов и уток, гусаков и перепелов» особняком стояли «несколько воронов и дроздов, несколько малиновок и щевриц», беседы скорее напоминали концерт, нежели серьезный обмен мнениями, и если бы, покидая салон, «кто-нибудь задумался, о чем был разговор (чего, по правде сказать, никогда не происходило), то стало бы совершенно ясно, что в этом блистательном, игривом и резвом обмене репликами, по сути, никто не сказал ничего».
Пора великих свершений прошла; занималась новая эпоха — время войны, смятения и мятежей, годы, создавшие почву для рождения фашизма. Артистов, которые скоро будут блистать в «Ла Скала», больше не привлекает Рисорджименто, как это было с Мандзони и Верди; вместо того, чтобы воскрешать славные моменты прошлого и развивать героические мотивы, они, как романист Верга, изображают драмы жестокой реальности, разворачивающиеся у них на глазах; они препарируют эту реальность скальпелем по имени «веризм», они — наследники натурализма Золя; «сумеречная школа» окрашивает в блеклые тона и поэзию, отворачивающуюся от героики, от всего напыщенного и высокопарного. По выражению критика Ренато Серра, то была поэзия, которая во всем предпочитала полутона: «Детские сказки и истории про провинциалов, чуть простоватые девушки, немного старомодные вещи, кринолины, вышивки и все — непременно цвета чайной розы; двусмысленная любовь без страстей, сентиментализм без чувств и духи без ароматов…» В Милане Эдмондо де Амичис, «певец добра», автор романа «Сердце», точно выражает буржуазный и чувствительный климат своей эпохи и исторгает у читателей потоки слез.
Один за другим уходят со сцены великие миланцы, современники и участники образования Новой Италии: Алессандро Мандзони, которого Верди называл «нашим святым», умирает 22 мая 1873 года; поэт Темистокле Солера, автор либретто оперы «Набукко», друг Верди и политический агитатор на службе у Кавура и генерала Ламарморы, умирает в нищете — уже после того, как стал фаворитом Изабеллы Испанской и удостоился ее почестей. Уходят из жизни и патриоты — Карло Тенка, ближайший друг графини Клары Маффеи, и Джулио Каркано: он растрогал Верди до слез, подарив ему первое издание «Обрученных», полученное от самого Мандзони. А через два года, в 1886-м, рвется еще одна связь со славными днями борьбы и мечтаний, когда этот мир покидает Клара Маффеи — та, чей литературный салон в доме 21 на виа Бильи посещали Бальзак, Лист, Верди и Мандзони. В этом салоне обсуждались и иногда даже готовились самые великие эпизоды Рисорджименто, в том числе — Пять дней Милана и окончательное изгнание австрийцев с полуострова.
Наконец, на заре века приходит черед Верди: в начале 1901 года он принимает поздравления миланского архиепископа в отеле «Милан», где обычно останавливается и где только что отпраздновал Рождество. Утром 21 января он с трудом одевается с помощью старой и верной служанки. Внезапно потеряв сознание, Верди падает навзничь, у него парализована вся правая сторона тела. Новость облетает город с быстротой молнии; телеграммы с соболезнованиями приходят со всей Италии; «Ла Скала» закрывается; под окнами отеля, где собралась толпа приказано покрыть мостовую соломой. Проезд экипажей запрещен, чтобы не тревожить композитора лишним шумом. Священник прихода Сан-Феделе дон Адальберто Катена, присутствовавший при последних минутах Мандзони, приходит соборовать Верди и прочесть молитвы. После шести дней агонии 27 января в 2 часа 50 минут утра Верди умирает, в присутствии Терезы Штольц, Джулио и Джудитты Рикорди (тети Лукино Висконти), Арриго Бойто и Джузеппе Джакозы.
В предсмертных распоряжениях он написал: «Я хочу, чтобы мои похороны были очень простыми и чтобы они проходили на рассвете или вечером в час исполнения „Аве Мария“, без песнопений и безо всякого шума. Достаточно будет двух священников, двух свечей и Распятия…» 30 января в половине седьмого утра лишь самые близкие друзья, бывшие с ним всю жизнь, последуют за маленьким катафалком, неся обитый цинком гроб из лиственницы. На пути процессии к Монументальному кладбищу, на виа Мандзони, виа Манин и у ворот Вольта, под балконами, обтянутыми черной тканью, тысячи миланцев мокнут под дождем, молча провожая взглядами похоронное шествие. Никакой панихиды, гроб опускают в могилу — и в половине девятого все кончено. Однако Милан жаждет воздать почести тому, кто, по словам д’Аннунцио, «плакал и любил за всех нас»… 27 февраля в 8 утра гроб с телом Верди вместе с гробом его жены Джузеппины Стреппони водружают на гигантский катафалк и перевозят в усыпальницу при Доме ветеранов музыки (это учреждение было открыто на средства Верди); триста тысяч человек собираются на церемонию, девятьсот музыкантов под руководством Тосканини исполняют вдохновенный хор из «Набукко» «Лети, златокрылая мысль…»
Маленький Лукино без устали слушает рассказ матери об этом торжественном погребении, которое она видела собственными глазами. Музыка Верди и поклонение ему живы в Милане — они распространились повсюду, от мягких лож театра «Да Скала» до предместий, где шарманки без устали наигрывают аккорды из «Травиаты». Но бурная эпоха, породившая эту музыку, уходит. Люди все еще чтят живых ветеранов тех героических дней, а также и легенду Рисорджименто, но общее умонастроение уже изменилось: эра Верди уступает дорогу эпохе Пуччини и д’Аннунцио.
Как и вся остальная Италия, Милан не избежал даннунцианства. Сравнивая д’Аннунцио с Верди, Савинио замечает, что он, в свою очередь, тоже жил и любил за всех итальянцев. «Жизнь в ту пору сообразовывалась не просто с последними книгами Il divo, но и с его манерой пользоваться духами, одеваться, говорить, обольщать, любить. Ни одна актриса, будь то Сесиль Сорель или Сара Бернар, не жила столь же публичной жизнью, как этот писатель». А вот что пишет Боргезе: «Его дом словно освещался изнутри электрическим прожектором… Сегодня все узнали сюжет и название произведения, которое так никогда и не увидит свет; завтра будет дуэль; вчера было предвыборное выступление, рецепт новых духов, брошенная любовница… Хочешь не хочешь, приходилось быть в курсе подробностей того, как спит и просыпается самый великий поэт современной Италии, в котором часу утра он совершает омовение, когда считает уместным воздержаться от сигарет и вина, с какой скоростью занимается любовью, где покупает галстуки и сколько у него борзых собак…»
Его книги идут нарасхват, едва успев появиться на прилавках; Савинио вспоминает, что сам однажды видел, как в течение получаса с витрины миланской книжной лавки Тревеса исчезли все экземпляры «Федры» — посетители кафе «Кова» пришли и, «словно саранча», набросились на книжную поляну, чтобы успеть прочесть текст пьесы перед премьерой спектакля, до которой оставалось всего два часа. Пьесы д’Аннунцио «Мертвый город» и «Дочь Йорио», где блистала скорбная Элеонора Дузе, снискали триумфальный успех, однако «Федрэ» 1908 года повергла Милан в чудовищную скуку. Да и мог ли настоящий миланец, склонный скорее к иронии, к скепсису, проникнуться неистовым, выспренним лиризмом, если — быть может, из-за недостатка воображения или живости — он не преминет употребить эвфемизм, литоту или просто отшутится, рассказывая о том, что действительно любит; если свой мраморный Дуомо с его колокольнями он называет «пучком спаржи», а четырехметровую статую Мадонны, вознесенную на самый верх собора, нарекает Мадонниной, Маленькой Мадонной, ласковым суффиксом ограничивая неумеренное выражение любви, volersi bene,[8] если эпитеты «великолепный» и «колоссальный» он использует разве что иронически, а желая сказать, что такой-то и такая-то состоят в любовной связи, небрежно замечает, что они «любят друг с другом потрепаться». Как в уравновешенном и буржуазном городе могли распространиться упаднические вкусы певца праха и похоронных звонов, сладострастных и губительных развлечений, болезненной тщеты бытия? И, наконец, как в городе, божеством и национальным героем которого был Верди, могли без настороженности воспринять смятенную магию вагнеровских аккордов, прославленных в романах д’Аннунцио? В доме Висконти д’Аннунцио не был принят ни разу…
Таким же, насквозь буржуазным — но вовсе не боявшимся выглядеть таковым — был и Джакомо Пуччини, целиком принадлежавший атмосфере начала века, времени, когда все устали от борьбы идей; уроженец Лукки и новоявленный амвросианец, одно время он носился с идеей написать музыку на либретто д’Аннунцио; но, по его собственному признанию, сделанному в 1894 году, он жаждал «чего-нибудь оригинального и чувственного», что соответствовало бы его собственному стилю — «поэзия и вновь поэзия, переплетенные вместе нежность и боль, сентиментальность, драма, полная неожиданностей и огня, и потрясающий финал». Позже композитор сам увидит, какая пропасть отделяет его от д'Аннунцио, которому «всегда недоставало простого и чистого человеческого чувства — все под его пером приобретало напряженность и чрезмерную экспрессию».
Сам Пуччини играет на чувствах и нервах публики во множестве опер, в том числе в «Турандот», и показывает на сцене ситуации, полные эротики и садизма, но никогда он не заходит так далеко в показе извращенной сексуальности, как Штраус в «Саломее» — эту оперу Пуччини ненавидел. Его любимые персонажи — парижские мидинетки и гризетки, «простые бедные девушки, серые и неприметные», но при этом обладающие золотым сердцем, как Минни из оперы «Девушка с Запада». Биограф Пуччини Моско Карнер пишет, что эти девушки — родные сестры героинь венского романиста Артура Шницлера, а также «венских барышень», которые «словно бы сошли со страниц „Жизни богемы“ Мюрже. Иногда это скромная белошвейка, иногда — стенографистка или, к примеру, юная продавщица, которая снимает крохотную комнатушку и мечтает о романтической любви, о том, что когда-нибудь встретит того, кому сможет подарить свое сердце.»
Невозможно лучше определить суть героинь веристской мелодрамы, и нельзя яснее показать разницу между сентиментальным Пуччини, который обладал «более душою, нежели рассудком», и эпическим гением Верди. Верди был глубоко мужественным человеком, он темпераментно воспевал героев, борьбу и жертвы, принесенные на алтарь родины, свободы и справедливости. Пуччини по складу характера был человеком сложным, нервическим и женственным, и в его эпоху пыл Рисорджименто уже угас.
Когда Арриго Бойто, либреттист Верди, услышал, как Пуччини говорит о том, что по роману Мюрже «Богема» стоило бы написать оперу, он возмутился прозаичностью сюжета и назидательно напомнил молодому композитору, что «музыку сочиняют, чтобы воссоздать эпизоды, достойные запечатления в памяти» и «музыка есть самая суть истории, легенды, человеческого сердца и тайн природы». Но Пуччини, которому в ту пору еще не исполнилось и шестнадцати лет, сформировался в совершенно иной общественной и духовной атмосфере, чем Бойто, — его уже не интересуют ни герои, ни великие исторические события, ни жажда власти. Его персонажи были «существами, у которых те же сердца, что и у нас, — у них есть надежды и иллюзии, бывают всплески радости и минуты меланхолии, они плачут, но не рыдают и страдают, скрывая горечь в душе»; но зато эти хрупкие и падшие создания — Манон, Мими, Тоска, Чио-Чио-Сан — умеют самозабвенно любить. Центральная тема всего творчества Пуччини выражена в реплике уличного певца из одноактной оперы «Плащ»: «Кто жил любовью, от любви и погибает!» Верди воспевал «мужественность, смелые ситуации, характер», Пуччини искал всюду искал «чувственность, сентиментальность, страсть». Либретто, которые писали ему миланцы Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза (продемонстрировавший свое знание женской психологии в пьесах и текстах либретто «Богемы», «Тоски» и «Мадам Баттерфляй»), должны были изображать на сцене «великую печаль малых сердец, вперемешку с нежными, искрометными, светлыми сценами, с оттенком свежего и радостного смеха». И повсюду здесь встречается обязательный для Пуччини образ и настоящий лейтмотив всего его творчества — ностальгическое напоминание о тепле семейного очага, casa piccolo, свой домик, воплощение мечты о счастье.
Как замечает Моско Карнер, переход от Верди к Пуччини отражает переход от эпохи борьбы к эпохе процветания и расслабленности: «Если искусство Верди указывает на крестьянское происхождение его создателя, то искусство Пуччини очевидно произрастает из быта хорошо устроенной буржуазии, точнее — из самой продвинутой итальянской буржуазии, какой и было тогда миланское общество». Сентиментальный и женственный, как буржуа Пуччини, реалистичный и мужественный, как крепкий «крестьянин» Верди, Лукино Висконти будет вдохновляться творчеством обоих — его карьера театрального режиссера начнется с «Тоски» и завершится «Манон Леско», но вести его по жизни будет энергичный пример Верди.
Глава 3 СЕМЕЙНЫЕ ТЕАТРЫ
Занавес «Ла Скала» — темно-красный, обшитый золотой бахромой, которая стала грязножелтой из-за густого слоя вечной пыли, — медленно приподнимают лакеи в белых перчатках.
Камилла Чедерна«По достойной сожаления случайности, которую уже не поправишь, я пришел в этот мир в день поминовения усопших, опоздав почти на сутки на праздник всех святых. Нельзя начать жить, не имея прошлого. В любом случае, не вините меня в том, что я родился под дурной звездой. Дата моего рождения всю жизнь преследовала меня как зловещее предзнаменование». Висконти пишет эти строки в 1939 году, в переломный момент жизни: ему тридцать три, он еще ничего не снял, ничего не создал и потому связывает свое появление на свет с таинственным проклятием, с роковым «невезением»… Но в 1963 году, отдав двадцать четыре года театру, кинематографу и опере, он меняет освещение, под которым был рожден. «Я родился, — заявляет он теперь, — 2 ноября 1906 года в восемь часов вечера. Потом мне рассказывали, что через час занавес „Ла Скала“ поднялся для того, чтобы представить зрителям — в бессчетный раз! — новую постановку „Травиаты“». Яркая вечерняя звезда, которую он теперь выбрал в путеводные, — это звезда самого знаменитого оперного театра; во всяком случае, так полагают миланцы, отметающие любые возражения категоричной репликой: «Ма nun sem пип Milanes el prim teater del mond!» — «У нас в Милане — величайший театр в мире!»
Эту звезду Висконти выдумал: занавес никак не мог подняться 2 ноября, и в этот день зрители не могли увидеть трогательной истории о любви Виолетты. По традиции, «Да Скала» открывает сезон 7 декабря, в день святого Амвросия. Что касается «Травиаты», Висконти не мог не знать о том, что блестящий сезон 1906/07 года открывался премьерой «Кармен», а дирижировал в тот день неистовый маэстро Артуро Тосканини. Но он слегка отступает от исторической правды, вверяя свою жизнь огненному гению Верди и отводя ему особое место в своей личной мифологии.
В семье Висконти тоже чтили театр, как легенду: за ужином, когда в столовой на виа Черва гасили свет люстр, отец говорил: «В „Ла Скала“ начинают». Знаменитый театр с незапамятных времен связан с именем Висконти, с историей семьи. После того как сгорел «Реджо Дукале», австрийский двор, пожелавший отстроить еще более великолепное здание для театра, предложил использовать для этой цели герцогскую часовню Санта-Мария-делла-Скала. И в 1778 году на том самом месте, где в конце XIV века по приказу жены Бернабо Висконти, Реджины делла Скала, возвели церковь, архитектор Пьермарини построил знаменитый театр, который Стендаль называл «лучшим в мире». Огромные расходы взяли на себя император Австрии и миланская знать, те самые девяносто семей, которые стали называться palchettisti: palco, то есть ложи, были их собственностью и передавались по наследству; они же нанимали импресарио для постановок опер и балетов и финансировали роскошные спектакли.
По иронии судьбы, в стране, где под властью австрийцев, по замечанию Стендаля, «думать опасно, а писать верх неосторожности», храмы оперы, будь то «Ла Скала» или венецианский «Ла Фениче», до 1860 года финансировались Габсбургами. Эти оперные театры были единственным местом, где свободно кипели страсти Рисорджименто: во втором акте «Нормы» публика поднималась с мест и присоединялась к хору галлов, восставших против римских завоевателен, восклицая: «Guerra! Guerra!» — «Война! Война!»; при первых тактах скорбного хора иудеев-изгнанников, порабощенных и угнетаемых фараоном Египта, зрители устраивали овацию автору «Набукко»: они скандировали его имя, что было призывом к новой свободной Италии: «Вива В.Е.Р.Д.И.» расшифровывалось как Viva Victor-Emmanuel Re d ‘Italia («Да здравствует Виктор-Эммануил, король Италии»). Случалось, что действие на сцене меркло в сравнении с тем, что творилось в зале: миланские аристократы, приглашенные в «Ла Скала» на спектакль в честь императорской четы Франца-Иосифа и Елизаветы Австрийской, бросали монархам вызов, посылая вместо себя в театр слуг.
Весь XIX век «Ла Скала» остается в первую очередь блистательным салоном, аристократической гостиной, где назначали встречи представители высшей знати. «Нет другого общества, кроме того, что здесь», — замечает Стендаль, считая «обществом» тех, кого он сам туда зачислил: это семьи Литта, Меллерио, Мельци д’Эриль. Назначая встречу по любому поводу, миланцы говорили: «Увидимся в „Ла Скала“»; они приходили к концу или к началу действия — и, побыв в зале минут десять, проводили оставшееся время в приятных беседах, в «двух сотнях маленьких гостиных с занавешенными окнами, выходящими прямо в зал, которые называют ложами». Эти ложи отделаны и меблированы по вкусу владельца; общая кухня, которая называлась «печным залом», позволяет palchettisti поужинать прямо в театре; они переходят из одной ложи в другую, заказывают мороженое, играют по-крупному.
В конце века в театре празднуют Рождество, устраивают карнавалы и даже конный парад в честь короля Италии; взяв на себя расходы, аристократы вправе проводить и празднества, если они хоть в малейшей степени связаны с жизнью и престижем города. Так, например, Висконти устроят в «Ла Скала» великолепный прием в честь аэронавта Паоло Андреани, который первым пролетел на воздушном шаре над всей Ломбардией.
Однако имя Висконти связано не только с легкомысленной светской жизнью. Отец Лукино в большей степени, чем трое его братьев, продолжал дело просвещенного меценатства предков: так, например, герцог Карло Висконти ди Модроне (1770–1836), подрядчик строительства «Ла Скала», принимал великую Малибран во дворце на виа Черва, и оркестр Оперы играл серенады в его саду; именно он в 1828 году основал общество помощи театру Pio Istituto Teatrale, опекавшее старых актеров и работников «Ла Скала», утративших работоспособность по болезни или из-за несчастного случая. Но лучше всего висконтианские традиции меценатства воплощает дед Лукино, герцог Гвидо, оставшийся в исторической памяти ангелом-хранителем, «спасителем „Ла Скала“». В конце 1897 года городской управе Милана оказалось не по карману содержать театр, спектакли отменялись, и на следующий после Рождества день вместо привычных афиш «Трубадура» или «Травиаты» на тумбе вывесили объявление об отмене представлений в черной рамке: «Театр закрыт по причине кончины художественного чувства, гражданского долга и здравого смысла». Чтобы пополнить кассу, увеличивают долю palchettisti, учреждают акционерное общество с капиталом в 300 тысяч лир по курсу того времени, и старый герцог Гвидо, один из самых уважаемых и влиятельных аристократов Милана, жертвует 78 тысяч лир, или около 250 миллионов старыми; и, благодаря его великодушию, в конце Карнавала 1898 года, меньше чем за месяц до трагических событий мая,[9] «Ла Скала» вновь открывает двери.
Руководство радикально обновляется; теперь дела ведет «Общество управления театром „Ла Скала“» под председательством герцога; в семье его называли просто «правлением». 56-летний Арриго Бойто назначен вице-президентом «Общества». Именно тогда, вступив в должность музыкального директора «Ла Скала», он приглашает молодого и пылкого дирижера, который тремя годами раньше поставил в Турине «Гибель богов» и «Фальстафа». Ему всего тридцать один год. Его зовут Артуро Тосканини.
Уже в 1896 году, на представлении «Тристана» в туринском театре Реджио, он спровоцировал скандал, погрузив зал в полную темноту; публика, привыкшая прохаживаться, болтать, играть в карты, шумно протестует, однако Тосканини не сдается: в первый сезон в «Ла Скала» он снова распоряжается погасить в зале свет и запрещает сидеть в партере в головных уборах. Готовясь к премьере «Мейстерзингеров», маэстро каждый день на протяжении месяца устраивает полноценную репетицию. Премьера проходит триумфально, но через несколько дней все портит скандал с «Нормой»: на генеральном прогоне Тосканини объявляет, что теперь окончательно убедился в том, что певица, которой досталась главная партия, абсолютно бездарна и, несмотря на отчаянные мольбы герцога Гвидо, Бойто, Джулио Рикорди, накануне премьеры снимает оперу с репертуара. Его обвиняют в некомпетентности, безответственности, деспотизме. Утверждают, что он «умеет дирижировать только операми, которых никто не знает, как „Мейстерзингеры“, а все репертуарные спектакли, в том числе „Норму“, проваливает». Вагнеризм — вот наиболее часто адресуемый Тосканини упрек в театре, где публика делится на «вердианцев» и «вагнерианцев», а в эстетических баталиях еще много ненависти к немцам, этим проклятым tedeskh. В конце 1899 маэстро дирижирует первым итальянским представлением «Зигфрида», а еще через месяц ставит «Лоэнгрина». «Хоры и оркестр, — писал Карло д’Ормевилль в Gazetta dei teatri, — маршировали, как немецкие полки на строевых учениях в Потсдаме. Все ходят по струнке и вымуштрованы по-военному! Герцог Висконти, присутствовавший на спектакле со своим начальником штаба, генералом Бойто, был очень доволен. Бургграфские критики написали, что Его величество тоже был весьма удовлетворен».
Самого грозного своего врага Тосканини находит в лице серого кардинала «Ла Скала», владельца крупного музыкального издательства Джулио Рикорди. Его дед, Джованни Рикорди в 1808 году бросил ремесло переписчика нот и скрипача (он играл в театре марионеток в Джероламо) и основал в подвале дома, стоявшего в узком и темном дворике, общество издателей музыки, которому суждено стать одним из самых крупных в мире. От этого упорного миланца (в конце подписи он всегда ставил значок диеза — музыкальный символ повышения на полтона, подчеркивающий его стремление к успеху) Джулио унаследовал уникальную деловую хватку и честолюбие. Под псевдонимом Жюль Бургмайн он опубликовал множество салонных фортепианных пьес, сочинения для оркестра, оперу и балет. «Будь он не музыкантом, а писателем, — замечает Савинио, — он вполне мог бы выбрать себе французский псевдоним — Растиньяк[10]»...
Этот Макиавелли музыкального мира, всегда безупречно одетый, с короткой, тщательно подстриженной бородкой, владел эксклюзивными правами на издание партитур Верди; он проявил безграничный дипломатический талант, чтобы укрепить связи со знаменитым композитором и усилить влияние на него. Так, чтобы побудить Верди к сочинению новых опер, он обещает ему сотрудничество с лучшими исполнителями того времени, присылает композитору либретто его друга Бойто, забрасывает письмами Джузеппину Стреппони, поскольку считает, что только она сможет убедить мужа взяться за дело. Пять лет подряд он посылает ему к Рождеству традиционный миланский сладкий пирог, на котором среди прочих сахарных украшений есть и маленький шоколадный мавр, добавленный по распоряжению Рикорди. Долгожданный плод этой дипломатии, мрачная опера «Отелло» увидит свет только в 1887 году. Так же упорно он пытается сломить сопротивление маэстро, чтобы с большой помпой отпраздновать его юбилей, а потом уговаривает его написать свой последний шедевр: оперу «Фальстаф».
Постоянный издатель Верди, он обеспечивает себе монополию на издание главных партитур всего оперного репертуара, в том числе Пуччини и других модных авторов, хотя питает к ним живейшую антипатию — особенно к Вагнеру, которого считает бестолковым Аттилой, но все же выкупает все права на его музыку у конкурирующего издательского дома Лукка. Главный редактор журнала Gazetta musicale, он собственными руками творит триумфы и провалы; его власть безгранична: будучи председателем оркестрового общества театра «Ла Скала», он может запретить постановку оперы, если считает, что она не подходит для сцены; в 1902 году, узнав, что Тосканини планирует поставить в «Ла Скала» полную версию «Трубадура» Верди, он хочет помешать этому, предполагая, что интерпретация будет вагнерианской: ведь Тосканини только что триумфально продирижировал «Тристаном», исполненным в присутствии сына композитора Зигфрида Вагнера, а новый сезон «Ла Скала» открывался «Валькирией»! Понадобилось вмешательство Бойто и протесты столпов общества, чтобы Рикорди капитулировал и смирился с присутствием спектакля в репертуаре. Чтобы утешиться, он перечисляет на полосах своей газеты все примеры святотатств дирижера, ставшего «для многих святее Папы Римского и непогрешимее самого Верди! Сам великий маэстро никогда бы не стал ставить „Трубадура“ таким образом или дирижировать в подобной манере!» Эту враждебность к Тосканини вызывали иные, менее благовидные причины, чем ненависть к Вагнеру и обожание Верди: в 1898 году, на фестивале в Турине, дирижер наотрез отказался исполнять один из опусов Жюля Бургмайна (псевдоним Джулио Рикорди)…
Никто, кроме Тосканини, не решился бы оспорить власть всемогущего издателя, который в начале века управлял музыкальной империей в знаменитом доме на виа дельи Оменони — здесь в приемной томились в ожидании певцы, композиторы, дирижеры, либреттисты. Самодовольный привратник провожал их в один из кабинетов, где вершились судьбы — либо к сыну, Тито, либо к отцу, Джулио — всегда очень официальному, в жестко накрахмаленном воротничке и черном галстуке.
Первое время трения между дирижером и издателем сглаживал герцог Гвидо. Вскоре после его смерти в 1902 году отношения между Тосканини и управляющим советом «Ла Скала» очень обострились. «Управленцами» теперь стали четверо сыновей герцога — Уберто, считавший «Ла Скала» одним из своих владений, и еще трое — Гвидо, изобретательный и эксцентричный музыкант-любитель, Джузеппе и Джованни. Незадолго до кончины старого герцога Тосканини потребовал повысить себе жалованье с 12 до 20 тысяч лир; об этом немедленно доложили Уберто; однако младший из братьев Висконти, Джованни, случайно встретив Тосканини в коридорах «Ла Скала», заявил, что жалованье решено повысить только до 18 тысяч. Не сказав в ответ ни слова, разъяренный полумерой и бесцеремонностью аристократов маэстро удалился, оставив молодого графа в крайнем смущении.
Вскоре наступает развязка. Весной 1903-го, на представлении «Бала-маскарада» Верди публика требует, чтобы тенор спел на «бис», но Тосканини, по своему обыкновению, знаком приказывает тому продолжать; вызовы звучат с новой силой, представление идет своим ходом, однако после финала первого действия на сцену выходит реквизитор и объявляет публике, что у дирижера открылось кровотечение и он покинул театр. На следующий день, перед отплытием в Южную Америку, он присылает телеграмму с заявлением, что ноги его больше не будет в «Ла Скала».
Проходит три года, отмеченные среди прочего громким провалом в 1904 году оперы «Мадам Баттерфляй». К композитору Пуччини проявили не больше сочувствия, чем к певице Ренате Сторчио, любовнице Тосканини: злополучный сквозняк на сцене надул полу ее кимоно, и какой-то глупый шутник крикнул на весь зал: «Она беременна! Ребенок-то от Тосканини!» и вызвал шквал хохота, свиста, уханья, улюлюканья и неописуемых воплей.
После долгих колебаний и трудных переговоров с директором «Ла Скала» Джулио Гатти-Казацца дирижер принимает решение вернуться в театр на два сезона; в 1905 году он ненадолго заходит в «Ла Скала» и замечает, как ослабла дисциплина и изменилась атмосфера со времен его отъезда: произошло это под влиянием того, что Лукино Висконти позже назовет «старой итальянской привычкой считать театр большой гостиной»; его дядя, герцог Уберто ужинал с друзьями прямо в ложах, приглашая любимых певиц и балерин. Тосканини выдвигает свои условия: он будет работать в «Ла Скала», только если: 1) запретят вызовы на «бис»; 2) перестанут пускать на сцену всех, кто не занят в спектакле (некоторые аристократы, в том числе герцог Гвидо, действительно любили нарядиться в соответствующий костюм и смешаться с массовкой); и 3) обустроят, наконец, оркестровую яму. «Новая блажь в подражание Байройту!» — исходит ядом в газете Рикорди, словно бы позабыв, что Верди выдвигал то же требование в письме от 1871 года: «Невидимый оркестр. Идея не моя — Вагнера; и она очень хороша. Просто невероятно, что публика все еще терпит вид наших разнесчастных фраков и белых бабочек на фоне египетских, ассирийских или друидских одеяний; плохо, что оркестр, принадлежащий к воображаемому миру, располагается в партере, среди свистящей или аплодирующей публики. Кому приятно смотреть на головы арфисток, манжеты контрабасистов и судорожные движения дирижера?»
Два быстротечных, но памятных тосканиниевских сезона станут музыкальным аккомпанементом двух первых лет жизни Висконти. Позже он скажет: «В нашей семье ничего нельзя было сделать — даже родиться — без оглядки на афишную тумбу „Ла Скала“». Мрачно-пламенная «Кармен», волнующе порочная «Саломея», инфернально-сладострастный «Тристан», ностальгически нежный «Орфей» Глюка — все эти музыкальные созвездия сияли на небосводе «Ла Скала» в тот сезон 1906–1907 года. Висконти-художник многим обязан этим четырем операм. На следующий год здесь ставится «Гибель богов», триумфально проходит «Пеллеас и Мелисанда»: опасаясь шовинизма миланцев, Тосканини удвоил и без того маниакальные усилия по наведению порядка и велел машинистам сцены обуться в фетровые галоши, дабы исключить любые посторонние шумы. Трения между маэстро и семьей Висконти возобновились, когда граф Гвидо, директор Концертного общества, попросил Тосканини сыграть произведение Гаэтано Коронаро, недавно умершего миланского композитора, с которым граф был дружен; получив отказ, общество передоверило один из двух концертов, которыми должен был дирижировать Тосканини, Этторе Паницце; за этим последовал судебный процесс, который Тосканини проиграл. Он снова хлопает дверью и оставляет «Ла Скала» в наэлектризованной атмосфере, тем более что «Жизнь героя» Штрауса, которой он дирижировал на своем единственном концерте, приняли скверно и отнесли в разряд «музыки для приютов скорбных духом».
Тосканини снова вернется в Милан только в 1911 году — на сей раз он обоснуется в доме на улице по соседству с виа Черва. Старый дворец на виа Дурини — строение XVIII века с рустованным фасадом и элегантным балконом из кованого железа — оставался до конца жизни его любимым обиталищем. Этот старинный уютный дом, отделанный старинными деревянными панелями, полный серебряной посуды, словно бы находился под покровительством добрых божеств. В холле висел портрет Верди, репродукция знаменитой картины кисти Больдини, изобразившего композитора в черном цилиндре и белом шелковом шарфе; на рояле стояли памятные вещицы, здесь же лежали письма от Верди, Вагнера, Пуччини, а особое место занимала фотография Дебюсси с дарственной надписью Тосканини: «Маэстро, которого я никогда не смогу отблагодарить в достаточной мере»; на обороте фото композитор написал первые аккорды третьего акта «Пеллеаса», сопроводив их словами: «Тосканини и тут вышел победителем. Дебюсси. „Пеллеас и Мелисанда“, 2 апреля 1908 года, Ла „Скала“».
Подругой детских лет Лукино была Ванда, младшая из двух дочерей Тосканини; впоследствии она стала его первой актрисой. Маленький Лукино сажал ее на раму своего велосипеда и гонял на нем со скоростью, которая приводила маэстро в ужас. Ребенком Висконти часто погружался в магию дворца на виа Дурини, наполненного музыкой, призраками и мягкой поэзией семейного очага. Жила там и старая, как героиня чеховской пьесы, кормилица Нена: она прослужила в этом доме пятьдесят лет, и, по словам миланской журналистки Камиллы Чедерна, «сама превратилась в миланскую достопримечательность». В 50-е годы Лукино Висконти воскресит ее образ в спектакле «Как листья» по пьесе Джузеппе Джьякозы. Чедерна пишет: «Когда маленьким хозяевам приходила пора подышать воздухом, Нена сперва вооружала каждого бриошью и плиткой шоколада „Теоброма“, а потом вела их гулять на Монументальное кладбище. Сначала они шли на могилу своего маленького брата Джорджо, упокоившегося несколько лет назад, а потом Нена садилась и вязала, пока дети играли в прятки среди могил, между веселых мраморных херувимов и меланхоличных бронзовых ангелов и бегали наперегонки до гранитного пианино, украшавшего надгробие какого-то композитора…».
Иногда Нена сопровождала маленькую Ванду к Висконти — там девочку ждала неистовая банда из пятнадцати ребятишек, превращавшая помещения старого дворца на виа Черва в сумасшедший улей для игр. Товарищами Ванды были дети герцога Уберто, графа Джованни (трое мальчиков и три девочки) и трое детей сестры донны Карлы, малыши Кастельбарко. Герои и предатели, женщины — покорные и роковые, тайные заговоры и неразделенная любовь, преступления и кровавые наказания — все перипетии опер и немого кино дают материал для комедийных или трагедийных импровизаций, которые дети разыгрывают, возвращаясь со спектаклей, куда их водят каждую неделю. Французская гувернантка мадемуазель Элен рассказывает в своих записках, переданных нам Убертой Висконти: «По четвергам после обеда у детей было свободное время, и мы ходили в кино на многосерийные фильмы, вроде „Белозубой маски“ или „Красного круга“. Они возвращались очень возбужденными и разыгрывали все сцены дома со своими кузенами. Кто-то был героем, кто-то — предателем. Один защищал героиню, которую другой преследовал и мучил. Свои роли они воспринимали очень серьезно — как-то вечером, часов около пяти, когда прозвонил колокольчик, означавший, что пора расходиться по комнатам и делать уроки, я шла по галерее и вдруг услышала стон. Я была потрясена и остановилась, пытаясь понять, откуда идет звук. Подойдя к шкафу, я снова услышала жалобный вздох, открыла дверцу, и мне на руки вывалился Лукино с кляпом во рту, обвязанный, как колбаса, веревкой и почти задохнувшийся. Очевидно, на этот раз он был предателем, а может быть — героем, угодившим в ловушку».
У детей было множество слуг, итальянских и иностранных бонн, а также воспитателей, живших на виа Черва: «Малолетнюю свиту графа Джузеппе, — пишет мадемуазель Элен, — обслуживала многочисленная челядь». В перечне, относящемся к военным годам, она упоминает двух кормилиц, нанятых после рождения двух «малюток» — Иды Паче в 1916 году и Уберты — в 1918-м. Вот кого она перечисляет: «Во-первых, портье (жирный швейцарец в ливрее) и его жена; садовник, в прошлом — кучер; шофер Антонио; Луиза, горничная графини; камердинер графа; горничная детей; две прачки; трое кухонных подмастерьев, гувернантка мальчиков мадемуазель Эстер, я, занимавшаяся с Анной, и Бозелли, воспитатель Гвидо, — этот с нами не жил, но каждый день приходил к Гвидо и ко всем остальным, чтобы заниматься гимнастикой».
Недели и месяцы были заполнены одними и теми же делами, развлечениями и праздниками. Свободные дни, четверг и воскресенье, были так же расписаны по часам и строго регламентированы, как и дни занятий в школе: «По воскресеньям, — пишет французская гувернантка, — мы ходили к мессе в Дуомо: Анна, мальчики, мадемуазель Эстер, я, трое детей графини Кастельбарко, их гувернантка, „три блондинки“ (дочери графа Джованни), иногда их братья и гувернантка. Нас невозможно было не заметить, особенно когда после мессы мы шли по виа Данте в парк за замком… Вечером мы часто посещали бега. Дети были без ума от лошадей. Иногда мы шли в театр — то одни, то с графом или с графиней, а иногда отправлялись на экскурсию в поместье близ Милана, которое называлось Ла Либрера.
По вечерам вся семья собиралась на ужин в столовой, где мажордом и два лакея в ливреях и белых перчатках уставляли стол серебряной посудой. Дон Джузеппе придирчиво следил, чтобы этот чинный ритуал, который его сын воспроизведет в „Гибели богов“, никогда не нарушался. Пунктуальность и элегантность строго обязательны. Донна Карла с дочерью Анной в вечерних платьях, граф и Гвидо в смокингах, дети — в костюмчиках из черного бархата и белоснежных шелковых рубашках. Пройдут годы, но и после войны этот ритуал ни на йоту не изменится, о чем пишет Уберта Висконти, вспоминая свое детство: „Мой брат любил изображать в своих фильмах эти большие семейные застолья, и в этих сценах есть нечто от всех нас, от семьи Висконти… Вообще-то, там разворачивались страшные схватки, разгорались яростные баталии. А мой отец, Леопард с мягчайшим сердцем, никогда ничего не замечал. Нашего старого, обожаемого, терпеливого мажордома Линетти Лукино, Луиджи и Эдуардо „словно бы лишали орденов и регалий, срывая брандебуры с его красивой ливреи“. Отец утрачивал благодушную невозмутимость, только если кто-нибудь в пылу игры или по забывчивости вдруг употреблял крепкое словцо. „Кто это сказал?“ — гневно вопрошал дон Джузеппе, но никто не признавался, и строптивых сыновей тут же отправляли по комнатам.“»
Лукино Висконти всю жизнь будет верен семейной традиции сервировать обеды и ужины на тонких ирландских скатертях. Еду будут разносить лакеи в белых перчатках и черно-желтых ливреях. Каждый вечер он станет обсуждать с поваром все тонкости меню следующего дня. Готовили всегда на семь или восемь персон. «Повар, — говорила нам Уберта, — вывешивал меню каждый день и время от времени добавлял: „Ваше превосходительство, — так он его называл, — у меня больше нет денег!“ А Лукино писал в ответ: „У меня тоже!“» Из этих домашних обычаев кинематографист вынес более общий взгляд на жизнь. «Жизнь, — говорил он, — это улей. Каждый живет и работает в своей ячейке. Потом все собираются вокруг Королевы пчел». Вот тогда-то, добавляет он, «и возникают драмы». Так происходит и в «Туманных звездах Большой Медведицы» и в «Семейном портрете в интерьере».
Но эти драмы во дворце Висконти начались не сразу. В первые полтора десятилетия нового века не было клана сплоченнее и не существовало семьи, в которой были лучшие условия для расцвета художественного темперамента. В обличье хобби, «конька» или подлинной страсти на виа Черва обитали все виды искусства. Граф Эммануэле Кастельбарко — меценат, страстный любитель литературы, друг многих художников и поэтов. Он основал в Милане «Лавочку поэзии» (La Bottega di Poesia), где прошла первая миланская выставка Модильяни. Дон Джузеппе, страстно любивший живопись, проводил долгие часы у себя в мастерской и расписал все свои дома фресками в стиле Возрождения. Однажды, рассказывала нам Уберта, король Виктор-Эммануил попросил его нарисовать композицию из женских фигур, которая могла бы составить диптих с полотном XVIII или XIX века, где была изображена группа мужчин. «Он сумел с таким совершенством воспроизвести стиль автора, что эксперт, нанятый королевой Еленой, чтобы исследовать оба полотна, заключил, указав на сделанную Джузеппе копию: „Это подлинник; сомнений нет, я вам гарантирую“. То был настоящий триумф моего отца!»
У богатейших дворян той поры было в обычае интересоваться всеми явлениями современной культуры, они питали страсть к авантюрам, когда все предстояло создать, изобрести — и в полном соответствии с этим духом Висконти обращается к самой юной и плебейской из муз, той, что родилась из духа ярмарок и праздничных гуляний, которые в начале века ежегодно устраивались в предместьях: я говорю о музе кино. В административном совете Milano Films вместе с миланскими князьями, маркизами, графами заседал и граф Джованни Висконти ди Модроне, младший сын герцога Гвидо. Желая снимать самые лучшие фильмы, аристократы запускают амбициозные проекты на исторические темы, пример тому — «Иоахим Мюрат» 1910 года: в титрах фигурирует весь цвет миланской аристократии, в том числе Джузеппе Висконти. Именно эта фирма в 1911 году выпустит на экраны «Ад» — экранизацию первой части «Божественной комедии» Данте. По воскресеньям граф Джузеппе частенько ходит вместе с детьми в кинотеатр «Чентрале» — здесь Лукино увидит первые американские фильмы про гангстеров и влюбится в них без памяти.
Однако первой его любовью стал театр. «Каждая новая постановка, — скажет он, — ввергала город в состояние крайнего возбуждения. Да разве мог мальчуган вроде меня устоять перед театром?» По вечерам он кладет на туалетный столик в спальне матери записочки: «Мамочка, куда мне лучше завтра пойти — на Альду Борелли в „Джоконде“ в театре Каркано или на фильм в кинотеатре Чентрале» «Я бы охотно отпустила тебя в любое из этих мест по твоему выбору, — отвечает мать на обороте записки, — если бы ты не шлялся по крышам», или ну, или «если бы ты не поссорился со своим братом Гвидо». Театр! «Я родился с ароматом сцены в крови, — напишет впоследствии Лукино, — нашей домашней, устроенной на виа Черва, и поразительной, волнующей сцены театра „Ла Скала“».
Как и все княжеские жилища эпохи Возрождения, дворец Висконти имеет свой прелестный маленький театрик, совершенно любительский, но, тем не менее, газеты той поры публикуют подробные отклики на его спектакли. По благороднейшей традиции миланского общества, представления даются в пользу известных благотворительных организаций, в числе которых Общество защиты детей-сирот и Приют королевы Елены; комедии Гольдони, водевили, легкие и сатирические ревю, либретто и тексты, сочиненные Иоахимом von Icsti (это не кто иной, как граф Джузеппе Висконти — буквы его фамилии лишь переставлены на немецкий манер). На веерах с гербом рода Висконти тонким шелком вышиты названия этих фейерверков, этих веселых легкокрылых вечерних бабочек: «Полюс заселяется», «Немного о любви», «Ради поцелуя», «Кто умеет играть… пусть научит меня»; в этом театре аристократы и крупные миланские буржуа в самых изысканных костюмах подают друг другу реплики, а на следующий день еженедельник Illustrazione Italiana перечисляет имена и титулы актеров: графиня Дурини, маркиза Анна де Виллаэрмоза, графиня де Альбертис, маркиз Понти, граф Альберто Локателли и не имеющая титулов, но «облагороженная» несметным состоянием Ада Баслини; упоминаются здесь и имена организаторов этих роскошных частных празднеств: неисправимый соблазнитель, любимец всего Милана граф Кастельбарко, герцог Уберто, граф Джузеппе и, наконец, вызывавшая единодушное восхищение «своим участием в спектакле очаровательная хозяйка дома Карла Висконти ди Модроне, высокая, бледная, стройная, всегда невероятно элегантная»: ее неожиданным перевоплощениям публика аплодирует особенно бурно: вот она — маркиза в расшитом золотом платье с горностаевой отделкой, в напудренном парике с ленточками и бантиками; вот — дама эпохи Возрождения в длинных, достойных кисти прерафаэлитов нарядах; а вот дерзкая рыночная торговка зеленью, которая, уперев руки в пышные бедра, стоит у тележки с овощами и травами и что-то выкрикивает низким хрипловатым голосом с простецкими интонациями, с почти таким же «вульгарным тоном», какой был у герцогини Германт — «в нем звенело ленивое жирное золото провинциального солнца». Впрочем, она могла помнить, как разговаривала ее бабушка, тоже катавшая тележку с лекарственными травами по северному кварталу Милана, рядом с густонаселенным районом Порта Гарибальди…
Для Лукино и мать, и отец были воплощенным театром. Его отец был управляющим директором общества, которое возглавлял Марко Прага, автор множества буржуазных драм, в том числе «Идеальной жены», в которой в 1890 году блистала Элеонора Дузе.
Но все же из всех искусств в семье Висконти на первом месте всегда была музыка. В 1911 году герцог Уберто жертвует крупную сумму в 50 тысяч лир на приобретение картин и найденных во время археологических раскопок предметов, связанных с историей «Ла Скала» и выставленных на продажу в Отеле Друо, заложив фонд театрального музея «Ла Скала», где сам герцог служит директором с 1912 по 1918 годы. Снискавший славу оригинала, граф Гвидо — получивший за свой высокий рост прозвище Вымпел — колесил по городу на велосипеде, и его густая черная борода развевалась по ветру. Он изобрел причудливый, величественных размеров клавесин, издававший, к его великому удовольствию, престранные звуки. Он встречался с Шёнбергом, Веберном и отдавал предпочтение всем новомодным музыкальным течениям, что редко случается с миланцами. Гвидо обожал Дебюсси и играл пассажи из его пьес на рояле в гостиной, в то время как на стену проецировали абстрактные многоцветные изображения.
Но самые глубокие и стойкие эстетические переживания юного Лукино были связаны не с братьями отца, а с матерью: с уроками гармонии и контрапункта, которые она каждое утро давала своим детям. Занятия всегда начинались ровно в шесть, даже если накануне она танцевала на балу или принимала гостей и спала лишь несколько часов. «Возможно, — признавался Лукино Висконти, — это самое драгоценное мое воспоминание; я все еще вижу отблеск неясного света на виолончели и чувствую легкую мамину руку на моем плече…»
Весенними вечерами в его детскую, «куда он всегда уходил спать пораньше», доносились аромат лиловых глициний из сада и звуки музыки из гостиной второго этажа. Донна Карла брала аккорды из «Бориса Годунова», играла отрывки из Равеля, Дебюсси, но главное — токкату и фугу Сезара Франка, которую так и не может вспомнить мать в «Туманных звездах Большой Медведицы». Наконец, есть еще и воспоминания о театре «Да Скала»: маленький Лукино вместе с матерью следил по партитурам за исполнением, когда за пультом стоял Тосканини… Ему было шесть лет, когда он впервые смотрел спектакль из семейной ложи, той, что находилась слева от сцены, в первом ряду, под номером 4, прямо над «мистическим заливом»: это был салон, располагавшийся на одном уровне с оркестром, обитый красным дамастом и украшенный зеркалами. «В „Ла Скала“ мы чувствовали себя как дома, наша ложа была местом, способным воспламенить воображение, больше расположенное к театральной игре: она имела номер 4, находилась рядом со сценой, на расстоянии вытянутой руки от оркестровой ямы: от громких звуков медных духовых звенело в ушах».
Ничто не могло отвлечь мальчика от происходившего на сцене:, он жадно впитывал тщательно отработанные движения, голоса, и даже запахи… «Мое первое воспоминание о „Ла Скала“, — говорил Висконти, — относится не к музыке. Оно связано с балетом „Пьетро Микка“, сюжетом которого является героический подвиг борца за независимость Пьемонта. В 1706 году Микка помешал французским войскам овладеть Туринской крепостью. Французы вырыли для этой цели подземный ход, но Пьетро проник туда, отослал своих людей и взорвал себя, завалив проход. Честно говоря, — продолжает Висконти, — из всего балета я помню только световые пятна, взрывы и едкий запах пороха, заполнившего нашу ложу…»
Взрывоопасный, буйный, грозовой, в первую очередь театральный, а уж потом музыкальный — таким был «Ла Скала» той эпохи. Висконти навсегда запомнил «гром аплодисментов», звучавший в «битком набитом, волнующемся, как море, театре». Его детство будет освещено яркими огнями люстр зрительного зала и кроваво-красными лучами софитов, столь любимыми постановщиками Верди, Пуччини, Вагнера и Штрауса. Как и Мишель Лейрис, но раньше, чем автор «Возраста мужчины», Висконти «оплакивал смерть веронских любовников, восхищался балеринами в трико, кубками из золоченого картона, игрой света и другими роскошествами Вальпургиевой ночи, содрогался, когда шут Риголетто по ошибке убивал собственную дочь, задыхался вместе с Радамесом и Аидой, обреченными на смерть от удушья в подземной темнице; покидал гору Мон-Сальват вместе с Рыцарем Лебедя, пил из кубка безумия с Гамлетом…» Мифология великих произведений оперного репертуара воспламеняла воображение юного Висконти. Будоражило его фантазию и немое кино, представлявшее целую галерею исторических персонажей — здесь были Агриппина, Брут, Юлий Цезарь, Гарибальди и даже Марко Висконти;[11] в кино были и масштабные драмы на античные сюжеты — «Последние дни Помпеи», «Quo vadis?», «Кабирия», где дивы изображают роковые страсти, будучи словно облачены в ауру трагедии.
Из всех детей он — самый увлекающийся, но и самый неуправляемый. «Бывало, он стремительно врывался в дом, — рассказывает гувернантка, — кидался мне на шею, отталкивал и мгновенно исчезал. Я со смехом пожимала плечами и кричала ему вслед: „Сумасшедший!“ Его реакция всегда была совершенно непредсказуемой».
Граф Джузеппе питал слабость к Луиджи, а донна Карла — к старшему, Гвидо — он был самым уязвимым в семье. Лукино обожал мать — это было всепоглощающее, ревнивое, тревожное чувство. Уберта рассказывает нам, что в Черноббио, стоило малышу Лукино упустить из поля зрения мать, он обшаривал все углы, открывал двери всех комнат огромной виллы, а когда наконец находил ее, то издавал торжествующий вопль: «Вот она!» Ему всего три года на снимке, который он всегда будет носить при себе; улыбающаяся донна Карла стоит на коленях, опустив глаза, прижимается щекой к щеке сына, притянув его к себе, а он прижимает руку матери к своему сердцу и свирепо смотрит прямо в объектив, словно хочет напугать любого, кто может подойти и разлучить их. «Его привязанность к нашей матери, — скажет его сестра Уберта, — все время балансировала на грани буйной ревности, он крайне трепетно относился к проявлениям любви с ее стороны». Подобно автору «В поисках утраченного времени» он каждый вечер, а особенно в вечера приемов, с нетерпением ждал момента, когда на лестнице раздадутся шаги матери и она войдет, шурша шелковым платьем, окутанная нежным ароматом «Шевалье д’Орсе», в кружевной мантилье, со свежими цветами в волосах, склонится над ним и он ощутит на щеках мягкое умиротворяющее тепло ее дыхания и прикосновение жемчужного колье… Этот ритуал повторялся каждый вечер: в полночь донна Карла заходила в детскую, щупала лобики малышей, укрывала их и тихонько обнимала, стараясь не разбудить. Лукино Висконти так же будет относиться к двум «малышкам» — Иде, которую прозвали Нан, и Уберте. «Если Лукино возвращался поздно, — рассказывала нам Уберта, — он всегда заходил к нам в спальню. Укутывал нас, спрашивал: „Пить не хотите? Ничего не нужно?“ Стоило ему пожелать нам спокойной ночи и выйти за дверь, мы сбрасывали одеяла, и веселье начиналось заново».
Но в отношениях Лукино с матерью и отцом бывали и конфликты: он часто не слушался, устраивал всяческие проделки, за что его прозвали Лукиначчо, или Киначчо, то есть «злюка Лукино…» Частенько он попросту исчезал и прятался: после стычки с отцом или ссоры с кем-нибудь из членов семьи мальчик укрывался на чердаке; повода могло не быть вовсе, как в тот день, когда он залез на дерево и спокойно наблюдал за тем, как все его ищут. Жители побережья озера Комо хорошо знают, как часто на нем случаются внезапные волнения; девятилетий Лукино, вспоминает мадемуазель Элен, «чье воображение не отключалось ни на миг, обожал плавать на шлюпочке — она стояла на приколе в маленькой бухте близ виллы Черноббио — и направлял ее в самые опасные места. Он прочел „Маломбру“ и посмотрел ее экранизацию — героиню играла звезда тех лет актриса Лида Борелли. Романтичный мальчик так увлекся этой историей, что каждый вечер, когда мы выходили на прогулку, тянул нас туда, где заходило солнце. Если Лукино слишком долго не попадался никому на глаза, все бросались смотреть, на месте ли шлюпка».
Действие романа Фогадзаро, написанного в конце XIX века, происходит в декорациях вод озера Комо и повествует о трагической истории аристократического рода и роковой мести. Лукино был заворожен атмосферой тайны, темных страстей и образом демонической графини Марины де Маломбра, над которой витает «мрачная тень» наследственного безумия. Однажды дети были заняты игрой, и вдруг гувернантка заметила, что Лукино снова исчез. Сообщили графине, начали трезвонить в колокольчик, которым обычно созывали к обеду, обшарили шестом дно озера, точь-в-точь как в финале «Людвига»… Наконец Лукино нашли: он преспокойно лакомился малиной и клубникой в саду. «Никогда я не видела графиню в такой ярости, — рассказывает гувернантка. — Она отвесила Лукино пару оплеух и потащила домой. Она говорила, не глядя на Лукино: „Маленькое чудовище! Невыносимый ребенок! Бессердечный! Опасный безумец! Я помещу тебя в пансион! …Заберите мальчишку, пока я его не убила. Пусть отправляется к себе в комнату и не показывается мне на глаза!“ Много дней мы видели Лукино только в окне спальни. Ему был объявлен бойкот, он ел в одиночестве и не имел права ни с кем заговорить».
В семье очень редко наказывали детей столь сурово. Однажды Луиджи запер повара в холодной комнате за то, что тот якобы отказался его накормить; дело усугублялось тем, что он спрятал ключ и отказывался признаться куда. В конце концов Лукино нашел ключ в китайской вазе, обыскав все тайники в доме, повар получил свободу и отделался сильным бронхитом, а Луиджи всего-навсего лишили кино и театра.
Может быть, более ранимый и ревнивый, чем братья, Лукино чувствовал, что его меньше любят, относятся к нему строже? Поначалу искусство было для него способом обольщения, возможностью доказать свое превосходство — так, например, в очень раннем возрасте он уже выказывал музыкальные способности. Преподаватель, учивший детей Висконти гармонии, одним из первых заметил его талант. «Профессор Перласка, — рассказывает французская гувернантка, — придумал особый метод обучения музыке. Каждый ребенок получил коробку, в которой лежал огромный, складывавшийся втрое картонный нотоносец. В коробке было много ячеек, где лежали картонные изображения нот — целые, четвертинки, половинки, восьмушки и т. д., скрипичный и басовый ключи, диезы, бемоли, знак обозначения паузы, четверти паузы — все необходимое для записи мелодии с помощью нотной грамоты. Профессор садился за фортепиано, проигрывал четыре-пять тактов, все кидались к своим коробкам и старались наперегонки зафиксировать только что сыгранную мелодию, ее ритм, тональность и звучание. Самым способным был, безусловно, Лукино. Он играл все с точностью до ноты и был любимчиком преподавателя, над которым, тем не менее, частенько подтрунивал. Заметив, что я нравлюсь учителю, он во время урока мог бросить такую вот фразочку: „Золотая нить тянется от сердца профессора Перласки к сердцу мадемуазель Элен“».
В пятнадцать лет Лукино Висконти уже выступал на концерте в Миланской консерватории — играл «Сонату в двух частях» Бенедетто Марчелло. 9 июня 1920 года еженедельник Sera, похвалив юного музыканта за «совершенное мастерство»
исполнения, предрек ему успешную карьеру виолончелиста. Однако своими первыми крупными успехами он с детства обязан театру. «Мы очень рано начали устраивать представления у нас дома, — рассказывает он, — в гардеробной. Я был постановщиком и актером. Моей любимой ролью был Гамлет, а первой моей актрисой стала маленькая Ванда Тосканини. Мы ежедневно репетировали по часу, а представления давали по воскресеньям».
Лукино распределял роли, оборудовал сцену, выбирал либретто пьесы и был ведущим, а все остальные — ведомыми, он управлял ими как деспот. Юные актеры не сразу перешли к адаптированным версиям пьес Шекспира, где они скорее импровизировали, чем декламировали. Вначале Лукино ставил спектакли по собственным сочинениям: «Тиран» заслужил первые аплодисменты матери для него это была наивысшая похвала; потом была опера «Бенгальская роза», к которой он сочинил слова и музыку, она была представлена в 1914 году на сцене семейного театра.
Позже он скажет: «До сих пор ума не приложу, как у меня получилось довести все до конца: трудности были куда серьезнее тех, что ждали меня в дальнейшем. Я превратил братьев, сестер, кузин и кузенов в певцов, а партитуры были сложные. Там были предательства, кражи, драки и дуэли — бесконечное множество сценических ситуаций, которые перекрещивались, сплетались и разрешались. Плюс ко всему, была еще и музыка!»
Мадемуазель Элен дополняет рассказ о спектакле: «Лукино с его красивым голосом и бархатистой кожей был прирожденная примадонна. Луиджи, тенор, был победительным рыцарем. Диди выступал в роли благородного отца. У малыша был глубокий бас. Боболино, старший из детей Кастельбарко, должен был играть изменника, собирающегося похитить героиню — Бенгальскую Розу. Драматизм бил через край. Репетировали долго. Каждый делал, что мог. Мы с Анной шили костюмы по указаниям Лукино. Действие происходило в Бенгалии, и костюмы были восточные. Графиня перебрала все свои туалеты, чтобы обеспечить нас тканями. Лукино, он же восточная танцовщица, выступал в широких шальварах из кисейного шелка и в длинном покрывале, но мы никак не могли придумать, из чего сделать необходимые ему для роли косы. Графа забавляли наши приготовления, и он решил помочь, принес паклю и смастерил восхитительный белокурый парик с длинными косами.
Когда все было готово, составили приглашения (платные!) для всей семьи. Успех оказался таким, что мы, прихватив чемоданы (с костюмами), давали представления в домах наших друзей». То, о чем умолчала гувернантка, позже расскажет сам Лукино: на следующий после премьеры день он «бездельничал, греясь на солнышке на балконе, а мои братья и кузины играли в саду. Я взял всю выручку и швырнул им, крикнув при этом: „Моим актерам!“ За эту выходку меня заперли в спальне вместе с моим мопсом». Что и говорить, жест был театральный и истинно княжеский.
На театральном поприще Лукино соперничал с отцом: тот тоже писал пьесы, но не комедии, а трагедии и даже оперные либретто! Эти спектакли собирали всех домашних, включая слуг. Лучше всего магия «представления» в узком кругу избранных передана в первой сцене «Гибели богов»: молодой виолончелист Гюнтер играет для семьи, собравшейся по случаю дня рождения деда, Иоахима Эссенбека. В ночной тишине струятся образы и музыка. Сначала мы видим портрет умершего отца в овальной раме, на нем — лицо старого аристократа. После этого на экране появляется лицо Иоахима и другие лица — здесь и гости, и служанки в гофрированных чепцах, дядя Константин, тетя, маленькие девочки, и, наконец, крупным планом нам показывают измученное лицо гувернантки.
Музыка трактуется здесь как связь с семьей, а для Лукино — это еще и особая связь с матерью. Его мать чем-то напоминает мать Томаса Манна, которого Висконти особенно высоко ценил как автора «Будденброков». Эти женские фигуры походят друг на друга и природной красотой, и светскостью, и вкусом к роскоши, и, наконец, страстной любовью к музыке, особенно к Шопену. Томас Манн в детстве тоже часами слушал «отточенную, тонкую и чувственную игру матери, которой лучше всего удавались этюды и ноктюрны Шопена».
После смерти матери Лукино унаследует ее фортепиано и не расстанется с ним до конца дней. Связь, возникшая между матерью и сыном благодаря музыке, не прервется никогда: больше всего они любили романтическую музыку (мать Андре Жида, напротив, опасалась ее пагубного влияния на нервную систему и чувства своего сына).
Донна Карла была очаровательной женщиной с весьма непростым характером: здравый смысл, рассудочность, практицизм, стремление к порядку соединялись в ней с чертами, которые будут свойственны и ее сыну: пылкость, несбывшиеся чаяния и безумные мечты. Висконти пишет о том, что «в „Самой красивой“, „Рокко и его братьях“ и „Гибели богов“ есть одна и та же тема — от пылкой матери дети наследуют ее увлечения и ошибки, а кроме того — сомнения, душевные раны и устремления». Идеализированная материнская фигура из «Смерти в Венеции», мать, лицо которой скрыто вуалью, когда она сидит на пляже в Лидо и смотрит на своего маленького сына, а тот бежит к ней, весело смеясь и протягивая горсть ракушек, и ночная, демоническая София фон Эссенбек, которая потакает порокам своего сына Мартина и соучаствует в его преступлениях, — это в действительности две стороны одного и того же образа — любимой и желанной матери; в «Смерти в Венеции» она остается непорочной, ее окружает платоническое обожание, но в «Гибели богов» она сгорает в огне святотатственного кровосмешения.
Именно к ней сходятся все линии жизни, все творчество художника. Материнская фигура — центр тяготения всех церемоний и праздников; так, в фильме «Людвиг» рождественским вечером Козима Вагнер с новорожденной дочерью на руках принимает музыкальный подарок от мужа — посвященную ей «Идиллию Зигфрида», которую Тосканини случайно обнаружил на обороте оригинала партитуры «Парсифаля». Дети, которые в этой сцене фильма собрались под громадной, сверкающей огнями елкой, — это напоминание о рождественских праздниках сурового и золотого детства самого Висконти. В те дни в большом квадратном дворе их палаццо наряжали елку, к подножию которой каждый клал свой подарок… Придет день, когда очарование развеется; вокруг Матери, Королевы пчел, разразятся драмы, и две ветви семьи будут разделены навсегда.
Глава 4 ДВЕ ВЕТВИ
Нет ничего более несхожего, чем две эти семьи… Я часто убеждался, что вынужден был заняться искусством, ибо только так мог соединить те столь различные элементы, которые в противном случае боролись бы во мне друг с другом или, по крайней мере, отчаянно спорили.
Андре Жид, «Если зерно не умрет»Строгий домашний распорядок улетучивался, едва наступало лето. Дом наполнялся лихорадкой близкого отъезда: шуршала бумага, в которую заворачивались летние платья и костюмы, потом вещи аккуратно складывались в дорожные сундуки. Взяв с собой гувернанток, слуг и горничных, семья покидала душный город и уезжала в одно из двух больших имений: в отцовский замок в Граццано или на виллу Эрба на берегу озера Комо, в Черноббио.
В Граццано, в четырнадцати километрах от Пьяченцы, находился массивный квадратный средневековый замок с четырьмя круглыми башнями, глядящий отверстиями бойниц на высохшие рвы. Замок, увитый плющом, окружала густая тополиная роща. На центральных воротах еще видны углубления, к которым крепились цепи подъемного моста.
О происхождении этого внушительного сооружения ходит множество легенд: одна из них, семейная, повествует о Белой Даме, маленькая, почти пародийная статуя которой когда-то приветствовала гостей на входе в замок: это была дама-карлица, круглая, как бочоночек, и в конусообразном колпаке. На ее плечах и шее висело множество украшений, но никому бы не пришло в голову тронуть их пальцем — так велик был страх ее прогневать. Поговаривали, что с давних времен ее призрак ночами бродил по замку, лишая сна тех, кто не соблюдал домашнего обычая жертвовать украшения — при том, что ей было все равно, подносят ли ей золото или грошовые безделушки. Были и другие, больше похожие на историческую правду рассказы об убийствах, повешениях без суда и следствия и о крестьянских бунтах, которые жестоко подавлялись. Говорят, что Джан Галеаццо Висконти, обожавший возводить замки, построил его для своей дочери Валентины. Именно в Граццано в конце XIV века отпраздновали ее бракосочетание с братом короля Франции Людовиком Орлеанским. Отсюда, как гласит молва, принцесса отправилась во Францию в сопровождении тысячи всадников, взяв с собой часть огромного приданого. Валентине было восемнадцать лет, ее супругу — семнадцать. Она торжественно въехала в Париж вместе со своей сестрой и свояченицей Изабеллой Баварской. Очень скоро король Карл VI выказал первые признаки безумия. Периоды помешательства чередовались у него с моментами, когда сознание его прояснялось и он вел себя как нормальный человек. В окружении королевы тогда стали поговаривать о порче и ядах. Неужели эта итальянка, присутствие, голос и речи которой только и могут успокоить венценосного лунатика, потихоньку отравляет его, лишая рассудка? Этими слухами воспользовалась Изабелла Баварская, чтобы исполнить свой зловещий план. Вскоре, как пишет хронист Фруассар, «во всем французском королевстве утвердилось всеобщее мнение, что Валентина столь искусна, что покуда она будет возле короля, покуда король не перестанет видеть ее и слушать ее речи, истощающим его горестям не будет предела». Мужа Валентины убивают, ее саму заточают в замок Аньер, а затем перевозят еще дальше, в Блуа, где она несколько лет живет со своим сыном, будущим поэтом Карлом Орлеанским; на цедильной воронке, которую несчастная женщина выбрала своей эмблемой, по ее приказу был начертан печальный девиз: Rien пе m'est plus, plus пе m'est rien («Ничего не осталось, что осталось — ничто»).
Доподлинно известно, что в начале XV века этот замок был предметом жестоких стычек между Висконти и происходящей из тех же мест семьей Ангиссола: в то же время многие из Ангиссола и Висконти были связаны между собой брачными узами. Неподалеку от стен Граццано произошло столкновение восставших крестьян с войсками Франческо Сфорца; в XVI веке граф Джованни Ангиссола составил здесь заговор против Пьера Луиджи Фарнезе, который затем отомстил ему, отобрав всю вотчину; позднее поместье вновь было передано семье Ангиссола в награду за доблесть, проявленную графом Алессандро Ангиссолой в битве при Лепанто и во Фландрии.
Лишь в конце XIX века замок наконец возвращается к первым владельцам — Висконти: в 1870 году последний отпрыск семьи Ангиссола маркиз Филипп погибает под зубцами комбайна, и имение наследует его мать, маркиза Фанни Ангиссола, урожденная Висконти Литта ди Модроне. По завещанию маркизы Граццано отходит ее племяннику, герцогу Гвидо, а тот в 1902-м передает его своему сыну — графу Джузеппе.
Дон Джузеппе, которому король Виктор-Эммануил вскоре пожалует титул герцога де Граццано, не только восстанавливает замок в первозданном виде, он приказывает снести стоящие окрест лачуги и составляет план деревни с домами, общественными зданиями, скверами, театром, часовней, памятниками. У него есть особый замысел — он хочет, чтобы деревня тоже была обустроена в средневековом стиле. Гости, туристы, не говоря уж о деревенских жителях, для которых он создавал эскизы старинных нарядов, живут в театральных декорациях: окна стрельчатые или в форме трилистника, лоджии, балконы в готическом стиле, зазубренные башенки, в стенах — ниши, в которых установлены статуи Мадонны. Здесь появились фонтаны и колодцы, портики и аркады; множество идей было реализовано и внутри домов, где можно было увидеть и сводчатые залы, и кессонные потолки. Довершала внутреннюю обстановку мебель в готическом стиле, сделанная местными столярами и кузнецами.
«Я часто гостила в Граццано, что близ Пьяченцы», — пишет в 1947 году герцогиня де Сермонета и продолжает:
Этот замок был великолепным строением из серого камня с четырьмя массивными башнями по углам. Высокие тополя росли во рвах, а дикий виноград огненно-красными гирляндами обвивал дворик, где вокруг колодца порхали голуби.
Джузеппе Висконти очень заботился о своем месте обитания — он перестроил всю деревню Граццано, начинавшуюся прямо за решетчатой оградой парка. Бывшая прежде жалким нагромождением уродливых лачуг, она стала такой живописной, что проезжавшие мимо автомобилисты всегда останавливались, чтобы полюбоваться маленькой площадью, колоколенкой, харчевней (на вывеске которой красовался герб Висконти) и магазинчиками в крытой галерее. Тут и там здания обвивал плющ, на каждом подоконнике стояли цветы. Джузеппе Висконти даже открыл школу рисования для мальчиков, чтобы потом они могли работать в разнообразных мастерских — делать мебель, резать по дереву, заниматься кузнечным делом. Все прекрасно обеспечивали себя, и заказов хватало.
Архитектором здесь был сам герцог — он делал эскизы, давал планы и идеи художникам и ремесленникам. Когда он прогуливался по деревне, высокий и красивый, с чуть тронутыми сединой волосами и ясным лицом, поражало, с какой простотой и радушием его встречали повсюду. Он знал всех, ни одна семья не могла ничего решить без того, чтобы не посоветоваться с ним. У трех его дочерей было много подруг среди деревенских девушек, и они гуляли вместе, пока их отец, сев у дверей трактира, беседовал с поселянами.
Джузеппе Висконти создал эскиз живописного крестьянского платья, и женщины из Граццано надевали такие по воскресеньям или в дни празднеств в замке. Эта театральность скрывала деликатную задумку: герцог хотел, чтобы его дочери и поселянки были одеты одинаково. Беспокоился он и о тех, кто заболевал — устраивал для них в дни праздников представления и лотереи, помогал советами, которые все, без исключения, были крайне разумными.
В этом миниатюрном ленном владении, население которого в наши дни составляет около трехсот человек, Висконти создали не царство страха, а оазис процветания, место, где любили гостей и изысканные манеры. Аллегорические изваяния соседствовали здесь с небольшими колоннами, на вершине которых были установлены статуи Мадонны, благословляющего ангела или святого Франциска, беседующего с птицами. В самом центре, в грандиозном здании с зубчатыми стенами, построенном на манер средневековой ратуши, располагался Институт Висконти ди Модроне — основанное графом ремесленное училище. На стоящей рядом башенке из синеватого камня, увитой плющом и глициниями, отмеряли время куранты.
Все в Граццано славит семью Висконти: гербы на розовокирпичных стенах домов, эмблемы змея, в пасти которого — дитя, и изображения сияющего солнца, и здания, напрямую связанные с историей семьи: так, ясли Луиджи Висконти были построены в благодарность за милостивое снисхождение к обету донны Карлы: едва успев родиться в 1905 году, малыш Луиджи тяжело заболел, и мать, вынув из своего колье жемчужину, дала обет, что в случае выздоровления пожертвует ее на строительство детских яслей. Обет был принят, ребенок исцелился, и в память об этом событии в декоре постройки был использован мотив жемчуга.
Вся деревня находилась под покровительством Девы Марии — она была изображена на фресках, которые, скорее всего, принадлежат кисти самого графа. Она присутствует и на заалтарной картине в маленькой мраморной часовне и на той композиции, что украшает ремесленное училище — на ней дон Джузеппе изобразил сам себя в окружении семьи и близких родственников и, следуя примеру мастеров Возрождения, посвятил свое учреждение Мадонне. Был ли граф «просвещенным», но потерявшимся в бурном XX веке синьором, как некогда Людвиг Баварский? А может быть, перестройка деревни была следствием его увлечения сценографией, маскарадами и карнавалами? Ежегодно во время жатвы в деревне устраивался Праздник винограда — в этот день все крестьяне облачались в бархат, девушки и парни надевали белые и красные платья с вышитыми пурпурными гвоздиками, символом Граццано, все они внимательно следили за шествием хозяев замка — участвовавшие в нем дамы (приглашенные в замок аристократки) были в средневековых головных уборах с длинными вуалями, в украшениях из золота и драгоценных камней, в бархатных и парчовых накидках; свита сопровождала хозяйку замка до трона, где она принимала ритуальное подношение — корзину самых спелых, напоенных солнцем ягод.
Но все же деревня Граццано была не только лишь безумной прихотью графа, и не просто служила местом встреч для самой родовитой знати того времени. Здесь бывали выдающиеся актеры и высокородные вельможи, даже сама королева, которая в память о своем пребывании подарила местной часовне ажурное золотое распятие. На при этом граф Джузеппе оказался еще и дальновидным бизнесменом, самым богатым из всех Висконти, и крохотный клочок земли в Граццано стал еще и процветающим туристическим местом, где располагались ремесленные лавки, продававшие сувениры и духи GiViEmme (инициалы Джузеппе Висконти ди Модроне). Здесь же находился и трактир «Змей», где досыта кормили всех проезжающих. Предупреждая возможное недовольство гостей, граф велел написать готическим шрифтом на гербе с красной гвоздикой, украшавшем фасад трактира, таинственный девиз:
Otla.ni.ad.
Raug.e.eneta.
Pipmi
Этот текст, зашифрованный по любимому методу Леонардо да Винчи (фраза записывается от конца к началу), при прочтении сверху вниз складывается в девиз: Impipatene.e.guarda.in.alto («Посмейся и устреми взор ввысь»).
Для детей замок с его башнями, лестницами, сумрачными коридорами, галереями, оружейным залом, свирепыми псами, стал восхитительной площадкой для игр, средоточием приключений и фантазий. Замок с привидениями, окруженный вековыми деревьями! Опасные экспедиции на крыши — вопреки неусыпной опеке родителей! Загадочные эмблемы, легенды и тайны истории! В этой атмосфере младшие Висконти просто не могли не ощутить живой дух «Гамлета» или вердиевского «Трубадура». В Граццано их мать носила самые пышные платья от Фортуни, красивые, словно наряды для театральных постановок. Однажды она позировала фотографу у старого колодца с гербами Висконти и была поистине неотразима: длинное голубое домашнее платье и воздушные лазурные накидки, под стать королевской осанке. Ба! Да ведь это Леонора, героиня Верди, возлюбленная графа ди Луны и главаря повстанцев Манрико, одного из любимых персонажей маленького бунтаря Лукино.
Подобные «живые картины» распахивают перед детьми врата в сумрачное Средневековье — времена славы их предков, которые вновь воссоздал на сцене великий Верди. С раннего детства Висконти был не понаслышке знаком с тугой паутиной истории, которая связывает многие века воедино. Редкое чувство цвета каждой эпохи, память об утраченном кодексе обычаев и манер, которые впоследствии будут пронизывать его постановки — это не плод ученых изысканий и не плод туманно-романтичного настроения: он получил ключи от королевства Времени при самом своем рождении.
Ни одно место не будет вдохновлять его больше, чем Черноббио — это был замок, который воплощал само понятие отчего дома. «Повсюду в тех местах, — писал Андре Сюарес о берегах озеро Комо, — горы защищают мир, замкнувшийся в своем счастье». Поль Моран вспоминает, как в 1908 году ненадолго остановился там, чтобы переждать «зной адского ломбардского лета, когда на берегах реки По сгорают даже листья ив», углубился в холодные, как мрамор, каштановые рощи Тремеццины и дышал запахом того самого леса, по которому герой «Пармской обители» Фабрицио дель Донго направляется в Ватерлоо. Не найти другого места, где воображению было бы столь же привольно. Именно здесь в конце XVIII века либеральная аристократия Милана и Венеции, отпрыски семей Мельци д’Эриль, Арконати, Арривабене и знаменитая Кристина Бельджойозо (которую за республиканский пыл прозвали «гражданкой Гильотиной») составили заговор против австрийцев и как освободителей принимали французов на своих роскошных прибрежных виллах, в том числе на вилле Плиниана дель Торно, как раз напротив Черноббио. Именно из этих краев с их внезапными яростными грозами, безлесными вершинами, бурными водопадами, густыми лесами, где живет неспешное торжественное эхо монастырских колоколов, устремлялись в жизнь гордые герои Стендаля и Мандзони — аристократ Фабрицио дель Донго и ткач Лоренцо Трамальино.
Там же располагалось и имение их бабушки по материнской линии — два дома в громадном парке. Большой, Вилла Нуова, был построен в конце XIX века, в период фантастического взлета семьи Эрба по социальной лестнице. На берегу озера была лужайка, украшенная статуями в неоклассическом стиле; в 1920-е годы туристы при некотором везении могли увидеть, как статуи оживают: в теплые летние дни Лукино и Эдуардо, предвкушая, какой эффект это произведет на публику, раздевались донага, обсыпались тальком или мукой, «свергали» героев, забирались на пьедесталы и замирали, в точности повторяя их позы. Затем, дождавшись, когда вапоретто поплывет вдоль берега, они на глазах изумленных туристов ныряли в воды озера…
На вершине холма, куда вела каменная лестница, стояло квадратное здание с фасадом, выдающимся вперед в двух местах, с крыльцом и высокими балконами, опирающимися на колонны; это был массивный, внушительный архитектурный ансамбль, которому придавали легкость лепные гирлянды, консоли в форме львиных голов, венчавшие ворота и балюстрада, верхний карниз которой украшали вазы-светильники. Под стать было и внутреннее убранство замка — огромная передняя квадратной формы, перистильный двор и высокие окна, из которых лились потоки света — все в помпезном стиле псевдо-Ренессанса. Плиточные полы с голубой и золотой мозаикой, мрамор медового оттенка, мотивы листвы, цветов и масок в декоре, карнизы из искусственного мрамора с порхающими ангелочками производили впечатление изысканности и немыслимого богатства. На первом этаже — гигантский бальный зал, анфилада гостиных с покрытыми сплошной росписью стенами и потолком, с преобладанием овальных медальонов и округленных орнаментов, пронизанных религиозными мотивами; буйство цветов, арабесок, завитков, освещенное громадными люстрами из венецианского хрусталя; эти люстры отражаются в высоких, оправленных в золотые рамы зеркалах и льют свет на полотна XVII века, дверные рамы из нежно-розового мрамора, наборный белый паркет, черные витые колонны, увенчанные белыми как мел коринфскими капителями… Множество комнат и спален, рабочие кабинеты, ряды старинных книг с золотыми буквами на корешках, за которыми надзирают статуи Иоанна Крестителя и Марии Магдалины; для музыки отведен бывший аптекарский зал, где герцог Джузеппе развесил гербы с изображениями сияющих солнц и змеев его собственной работы; мандолины, лютни, скрипки заполняют высокие шкафы из синеватого мрамора, где в конце прошлого столетия стояли ряды склянок с лекарственными растениями Карло Эрбы.
Вторая вилла, звавшаяся Вилла Веккиа, была построена в наполеоновскую эпоху и выглядела не так помпезно, но в ее охристо-желтом фасаде, синих ставнях, статуях, строгости и соразмерности силуэта было гораздо больше очарования. По словам Уберты, она долго стояла заброшенной и была заколочена досками. На вилле никто не жил; бабушка Анна Эрба держала там лошадей. Позже донна Карла приказала устроить на первом этаже вышивальные мастерские, в которых работали монашки. «Моя мать, — уточняет Уберта, — владела магазином в Париже, но женщина, которая им управляла, доставляла одни неприятности… Нас вечно окружали воры».
Именно в этот дом, обставленный впоследствии в неоклассическом и готическом ломбардском стиле, всегда возвращался Лукино Висконти: каждое лето он проводил здесь в обществе братьев и сестер; даже в военные годы, о которых его младшая сестра расскажет нам, что она «насажала в саду целую кучу овощей, чтобы было чем прокормиться, а поскольку вилла стояла на том месте, где прежде был монастырь, я то и дело натыкалась на человеческие кости…» Сюда же осенью 1972 года Лукино Висконти приедет выздоравливать после инсульта и заканчивать монтаж «Людвига». В своих пенатах, связанных с детскими грезами, он спит в кровати-ладье, спинки которой сделаны в форме лебедей, в точности как в бестиарии Людвига Баварского… Когда на рассвете он отворяет окно, вновь ожикают все воспоминания и призраки детских лет. «Механическая газонокосилка, — говорит он, — не справлялась с травой под деревьями. Я узнавал звук из прошлого: точили косу. Мы с сестрой (Ида Гастель, владелица дома) выходили на маленькую аллею нашего детства; все растения, видевшие нас много лет назад, остались на своих местах. Я отыскал книгу, которую мы вместе читали. Я вспоминаю былые страхи, сомнения, о которых мы горячо спорили ночи напролет». Именно здесь, в коридоре первого этажа, Лукино будет заново учиться ходить, здесь он возродится к жизни.
Именно эта вилла, а не дом в Граццано и не дворец в Милане, всегда была для него отчим домом. Висконти, подобно крови, бегущей по жилам, оживлял это жилище и чувствовал себя с ним единым целым. Пышный и уютный, одновременно театр и семейное гнездышко, этот дом — прообраз всех домов, где когда-то давным-давно обитало счастье. Здесь жила поэзия выходных дней и семьи, которая еще не распалась: ты еще мал, просыпаешься каждое утро и слышишь привычные звуки — лают собаки, по лестницам ходят слуги, доносятся родные голоса, и, как всегда, издалека слышна музыка.
Черноббио, пишет мадемуазель Элен, «было раем для детей. Парк был таким большим, что в трех его концах стояли три сторожки. Граф приказал построить для детей тропическую минидеревню — здесь были сооружены пять хижин из веток, куда дети могли приглашать друзей, устраивать пикники и играть». В парке было полно живности — павлины, сойки и лошади. Собаки то и дело забегали в комнаты — и это были не аристократические русские борзые, а огромные и крепкие ньюфаундленды, чьи горящие глаза и ярко-красные отвисшие брыли повергали в ужас гувернантку-француженку. «Они почти всегда сидели у ног хозяйки, властной бабушки Эрба, и та заставляла их повиноваться, слегка хлопая по мордам. Дети играли с ними, таскали за хвосты и за уши, катались на них верхом, а те оставались кроткими, как ягнята. Я наблюдала за этим, окаменев от ужаса». Дни проходили в сумасшедших велосипедных гонках, купаниях, прогулках по озеру, сражениях и засадах; граф лично разрабатывал стратегию и с удовольствием принимал участие в детских играх. По вечерам, будет вспоминать Лукино, наигравшаяся, усталая и счастливая ребятня «подставляла родителям для поцелуя сонные мордашки».
Все ритуалы и уклад жизни оставались здесь неизменными. Светскость господствовала в этом изящном месте, куда выезжал на отдых весь миланский бомонд; на знаменитой вилле д’Эсте время от времени останавливалось множество богатых иностранцев, знакомых Висконти: члены семей Ноай, Бомон, русские княгини, царь «Русских балетов» Дягилев, Мися Серт, а чуть позже и Коко Шанель. «В Черноббио, — пишет мадемуазель Элен, — жили комфортно и на широкую ногу. К нам часто приезжали с визитами, мы наносили ответные». Но обаяние Виллы Эрба оставалось по-семейному уютным. Через шестьдесят с лишним лет Висконти мысленно воскресит в памяти этот «рай среди зелени», «эти счастливые дни на берегу озера, когда мы только начинали обсуждать с братьями, куда бы нам отправиться, и в это самое время вдруг разражалась гроза. Раздосадованные, мы торчали у окон, по стеклу текли струйки дождя. Однажды во время грозы ветер повалил самое красивое дерево в саду». Ничего не оставалось, кроме как приняться за одну из складных картинок на пять тысяч частей, не обращая внимания на энергичные протесты бабушки, которая сама любила раскладывать их на зеленом сукне бильярдного стола.
«Все это до сих пор живо в моей душе, — говорит Висконти. — Случалось, что мы засыпали в полуденную жару прямо на траве, а кругом стрекотали сверчки и цикады… Потом наступала осень, пора сбора винограда. Приуныв от мыслей о возвращении в школу, мы устраивали собственную жатву — собирали чувства, образы и сны».
Кроме того, они собирали воспоминания. Вот самое раннее из них: экскурсия в Энгадинские горы. Лукино записал о ней в дневнике: «Поездка на автомобиле до Кьявенны, где нам подали завтрак, пока мы ждали машину, которая должна была доставить нас наверх, до Малоджи (в Кьявенне еще жарко, а когда взберешься повыше, уже прохладно). Остановка в Черноббио. Фарфоровый умывальник, украшенный орнаментом из темносиних цветов. В водосточной канаве в Кьявенне — фарфоровые куколки. Вдоль всей дороги — розовые горные гвоздики с очень сильным ароматом. Моя мать расположилась на высоком заднем сиденье, мы по очереди подсаживаемся к ней. Остальные едут в машине с открытым верхом…. Визит к [графине] Казати. Зильс Мария. Отель. Эдуардо упал и расшиб подбородок…»
Как бы ни расширялась потом география летних каникул (это был и Париж, куда обожали ездить мать и бабушка Висконти, и особенно пляжи Лидо в Венеции, в Римини и в Форте Деи Марми), главными, исконными местами отдыха останутся Черноббио и Граццано: после окончательного разрыва родителей их несходство станет для Лукино символом противостояния и разделения родов Эрба и Висконти, двух полюсов его мироощущения.
Противопоставлять буржуазные, даже крестьянские корни матери и аристократическое происхождение отца, подчеркивать этот контраст — значит упрощать все до схемы: гармоничный союз Карлы Эрба и Джузеппе Висконти все же продлился целых пятнадцать лет. Аристократу, как мы уже видели, была отнюдь не чужда буржуазная деловая хватка. Он не «только дал себе труд появиться на свет» — он учил своих детей, что их происхождение не дает им автоматически прав на все, и проявлял примерное великодушие по отношению к униженным и оскорбленным. С другой стороны, «простолюдинка», частенько надевавшая длинный фартук и помогавшая жене привратника готовить ризотто, с детства постигла все тонкости светской жизни и выглядела куда изысканней и культурней королевы Елены, чьей фрейлиной была в 1920-е годы. Оба супруга были весьма чадолюбивы и много времени посвящали воспитанию детей. «Меня до сих пор удивляет, — скажет Висконти, — каким образом и отец, и особенно мать ухитрялись не разорваться между делами, светскими обязанностями и детьми…»
Донна. Карла обладала куда большей жизненной энергией, чем муж. В семье именно она была движущей силой. Карла не боялась жизни и смело смотрела в будущее. Институт Висконти ди Модроне являет собой пример успешного предприятия, но занимался он в первую очередь восстановлением прошлого; страсть дона Зизи ко всяческим переодеваниям и псевдонимам, к театральным и светским играм, вкус к фривольной жизни, сочетавшийся с интересом к оккультным наукам и спиритизму, к снам (он пытался приучить детей записывать свои сны, но без особого успеха) ясно дают понять, как его бегство от действительности, его легкомыслие — оно выражалось и в вольности нрава, и в любовных связях — отличало его от жены. Донна Карла ведет себя с детьми смело и благожелательно, дон Джузеппе строг и недоверчив. «В моей семье, — говорит нам Уберта, — все хорошо ездят верхом. Мать тоже ездила, в дамском седле. А вот я не умела: отец никогда не хотел, чтобы я училась. Во время войны мать воспользовалась его отсутствием, чтобы посадить всех детей в седло. Когда он вернулся, все уже умели ездить верхом. Мать была несравненно храбрее отца, она считала, что рисковать стоит».
Чрезмерная тревожность графа проявлялась и в том, что он не терпел, когда дети опаздывали к столу — ведь это может быть дурной приметой, предвестием несчастья. Он очень не любил, когда одно из мест за столом пустовало — незанятый стул словно бы предвещал смерть. Его суеверность не могли победить ни здравый смысл, ни увещевания жены. В доме Висконти любили всех животных — здесь были собаки, кошки и даже обезьянки, и так было всегда, но граф с детских лет не терпел птиц: один из его братьев умер в тот самый день, когда в дом принесли птицу. Уберта рассказывала, что птичью клетку приходилось оставлять за порогом дома. По словам гувернантки-француженки, «у графа был всего один недостаток: суеверность и чрезмерная впечатлительность».
Мадемуазель Элен вспоминает:
«Помню, как-то во время обеда вдруг упал со стены портрет одного из предков. Оборвалась веревка, на которой он висел Граф встал из-за стола и ушел к себе. Два дня он ждал, что в дом придет беда. Ничего, разумеется, не случилось, и тревога отступила, но приходилось быть очень внимательными и не делать ничего, что, по его мнению, могло принести несчастье.
Как-то раз в Черноббио я нашла перья сойки, синие и черные. И была так очарована их красотой, что дала поиграть ими Нане.
Мимо проходил граф, увидел перья, побледнел, вырвал их у нее из рук и спросил, откуда взялась эта мерзость.
— Это я ей дала, сконфуженно призналась я. — Прошу прощения!
Он ничего не ответил, но нахмурился, и я очень огорчилась, что невольно расстроила его.
В другой раз во дворец в Милане залетела маленькая птичка. И он снова воспринял это как дурное предзнаменование.
Графиня вовсе не была суеверна, она всегда пыталась находить логические объяснения: за столько веков веревка, на которой висел портрет, истерлась, а беззаботная птичка просто влетела в открытое окно, но это не следует толковать как знак беды. Однако граф еще несколько дней был встревожен».
А что бы он сказал, довелись ему услышать рассказ мадемуазель Элен о поездке за город? «Мы только расстелили скатерть на траве и начали готовиться к пикнику, как вдруг скатерть заплясала. Под ней оказалось гнездо ужей! На наши крики сбежались все слуги, а мы вооружились палками и принялись бить их. Ужей было штук двадцать, но, к счастью, все очень маленькие. Только мать-ужиха была покрупнее. После бойни мы их сожгли…» Это случилось во время войны. Дона Джузеппе в Милане не было. Эксперт по части разгадывания знаков и предзнаменований мог бы очень расстроиться из-за того, что пикник превратился в избиение ужей, ведь рептилии — будь то змеи или драконы — неразрывно связаны с родом Висконти и красуются на их гербах!
«А был ли Лукино суеверным?» — этот мой вопрос вызывает у Уберты улыбку. «Нет, — отвечает она, — не сказала бы. Он был великий притворщик, но страхам не поддавался».
Сценаристка Сузо Чекки д’Амико, отвечая на тот же вопрос, заметила, что иногда он проявлял веру в сверхъестественное: «Рядом со мной жила ясновидящая, и он у нее бывал, но возвращался всегда разочарованный. А снимая „Рокко и его братья“, он иногда гадал при помощи спиритического маятника».
Но разве для того, чтобы заигрывать с оккультными силами, не нужно хотя бы чуть-чуть верить в них? Что за роковое, «скандальное стечение обстоятельств», дурное предзнаменование — родиться в День поминовения усопших, а не в День всех святых, сетовал Висконти в 1939 году. Но незадолго до смерти он уточняет: «По гороскопу я Скорпион: черты этого знака решительность, последовательность, борьба с разрушительной силой чувств…» Разумность, ясный взгляд на свою судьбу теперь вытеснили из его сознания угрозу «плохого расположения звезд», страх перед «мрачной тенью», которая отметила зарю его жизни и чье отражение он искал в романах, где даже имена персонажей были отмечены знаком наследственного несчастья (mal — зло, несчастье): Маломбра у Фогадзаро, семья Малаволья у Верги.
Всю свою жизнь Висконти вопрошал тревожное сочетание звезд в небе в день его появления на свет, стремился своим искусством отогнать темные силы, связанные с угрюмой меланхолией ноябрьских дней, с осенним торжеством смерти и с тем, что обыкновенно ассоциируется со знаком Скорпиона: принесенные и пережитые бури, притяжение бездн, неотступные мысли о времени, течение которого разрушает и уносит все прочь. Но у врат царства предзнаменований ему пришлось вступить в борьбу с еще более загадочным и архаичным чудовищем: жестоким Змеем рода Висконти, который снова угрожал умиротворяющему и подающему надежду символу семьи Эрба — кадуцею Меркурия, волшебному жезлу, который обвивали змеи.
Глава 5 ЗАКАТ ЕВРОПЫ
Золотой век заканчивался, и занималась заря другой эры, которая будет затянута черным крепом.
Поль МоранЗаявляя в 1971 году, что, «родившись в 1906-м, он принадлежал к эпохе Манна, Пруста и Малера», Висконти допускал явный анахронизм, вполне сознательно отмежевываясь от времени, которое приходилось на пору его отрочества и формирования: ему исполнилось лишь девять лет, когда началась война, но было уже шестнадцать, когда к власти пришел Муссолини. Он подразумевает, как и Стефан Цвейг, что сам он принадлежит к миру не давным-давно прошедшего, а к миру вчерашнему, к миру, который «преследует нас»: он утверждает свое родство с художниками, самый молодой из которых (Томас Манн) появился на свет за тридцать один год до него, и абсолютно все, родившись на закате века, чувствовали обреченность быть с тем, чему суждено умереть. Этими несколькими словами он также уничтожает и пропасть между поколениями, он устраняет то, что могло бы отделить его от родителей. «Этот мир — артистический, литературный, музыкальный — был тем самым миром, в котором я рос. Я не случайно так привязан к нему».
Для Стефана Цвейга этот навсегда утраченный мир воплощала Вена его молодости с ее традициями, строго иерархическим построением общества, с пышными театральными действами и религиозными праздниками, во время которых город оживлялся куда больше, чем в дни политических или военных событий: у неприступной цитадели императора Франца-Иосифа каждый год собирались 80 тысяч детей, чтобы на главной лестнице Шёнбрунна восславить его хоралом Гайдна «Боже, храни императора». Для Висконти это мир не помпезный, а домашний, сотканный из строгих правил, осененный светом «нежности бытия перед революцией» и, кажется, хранящий от любых гроз родительский союз, который кажется ему незыблемым. И этот предвоенный, дофашистский мир годы спустя покажется ему золотым веком безмятежности: но уже много позже, уже после того, как мириады образов, «тысячи проб, свиданий, голосов, звуков, цветов, минута за минутой» будут «дистиллированы» в его памяти. Только тогда он сможет воскресить его в «Смерти в Венеции», выбрав в качестве аккомпанемента музыку австрийца Густава Малера.
Венеция, которая открывалась изумленному детскому взору маленького Лукино, еще не была сумеречным и декадентским городом с «водой в каналах, что чернее чернил»: это был город, в котором еще был жив призрак Вагнера, город, который еще помнил озаренную светом факелов процессию его похорон, описанную в «Огне» д’Аннунцио, которую Висконти впоследствии воспроизведет в «Людвиге». Тогда Венеция еще не была городом-коллекцией всевозможных чудачеств и местом встречи гомосексуалистов, которые именно здесь лучше, чем где бы то ни было, были защищены от общественных порицаний своей «проклятой породы»; Поль Моран наблюдал, как они «фланируют по площади Святого Марка, окольцованные и воркующие, словно голуби».
Увиденная через романы д’Аннунцио, эта Венеция времен детства Висконти — отражение неисчислимых странностей конца века: чего стоит одна только маркиза Казати с горящим взором и пунцовыми губами, прогуливавшаяся со своими афганскими борзыми и оцелотами и устраивавшая во дворце «Нон Финито» празднества и балы-маскарады, часто продолжавшиеся прямо на площади Святого Марка, и эти действа освещали негры-факелоносцы в костюмах, скопированных с полотен Тьеполо.
В этих декорациях аристократические красавицы эпохи вполне могли, не вызывая насмешек, носить платья, созданные для них Мариано Фортуни, который искал вдохновения в полотнах Карпаччо и Тициана. Их шапочки дожей в форме сахарной головы, бархатные плащи, украшенные драгоценными камнями, парчовые накидки, шитые золотом, покрытые фантастическими узорами, их газовые шарфы, оттеняющие блеск тканей, вполне гармонировали с их дворцами, «клонящимися к земле, как куртизанки под тяжестью собственных ожерелий». Куртизанки высокого полета — графиня Морозини, к которой был неравнодушен сам кайзер, и Луиза Казати — д’Аннунцио хвалился, что овладел ею в гондоле, «втиснув в серебряный гроб», — посматривали друг на друга вызывающе, как соперницы, хотя первая и была дамой не первой свежести. Когда они впервые встретились, Казати сказала Морозини: «Когда я была еще совсем малышкой, мой отец говорил мне, как ты прекрасна». Та беззаботно ответила: «Зачем так далеко ходить, твой муж каждый вечер твердит мне, что ты прекрасна».
Донна Карла была из того же мира, что и ее подруга Луиза Казати, дочь богатейшего венского банкира, очень рано вышедшая замуж за миланского аристократа; причудами и скандалами этого мира всегда упиваются газетные хроникеры. Достоинство графини Висконти, ее благочестие, склонность к благотворительности не уберегли ее от пересудов. Поговаривали, что ее красота не могла не привлечь к ней восторженных воздыхателей, что она далеко не всегда хранила верность мужу, записному донжуану; некоторые репортеры не отказывали себе в удовольствии подогреть эти беспредметные, но упорные слухи. Однако и дети, и друзья всегда видели в ней только преданную мать, такой и изобразит ее сын в «Смерти в Венеции». Маноло Борромео, друг детства Лукино, категорично утверждает: в Венеции в 1912 году «у Карлы Висконти, Марианны Бривио — матери донны Карлы, и моей матери было две или три кабинки, и они приходили на пляж с эскортом нянь и прислуги. По вечерам все они ходили танцевать в кафе „У вас дома“ при отеле „Эксельсиор“, где можно было встретиться с молодой Барбарой Хаттон или принцессой Сан Фаустино».
Солнце и пляж Лидо, играющие дети, бдительные гувернантки, и мать — внимательная, властная; в фильме «Смерть в Венеции» запечатлено все безмятежное счастье тех каникул: с 1912-го — годом позже Томаса Манна — малыши Висконти начинают ездить с матерью и бабушкой на берега Адриатики, в Венецию или в Римини. Венецианский «Гранд-Отель», бесспорно, напоминает роскошь и элегантность «Гранд-Отеля де Баальбек» — вероятно, именно в одном из таких мест Висконти и стал задумываться над тем, чтобы перенести на экран «В поисках утраченного времени». У этой гостиницы был и свойственный лишь Венеции космополитичный шарм, столь характерный для общества, которое, по выражению Поля Морана, «доживало свои последние часы между кафе „Квадри“ и кафе „Флориан“, ожидая, когда падет Франц-Иосиф и, как старое дерево, похоронит их под своей тяжестью».
Та Венеция — прежде всего город, где Европа встречается с Востоком, «летнее продолжение „Русских балетов“», магический тигель, в котором вода и камень, прошлое и настоящее и даже сами цивилизации сплавляются и расплавляются; известные семьи особенно любят встречаться в этом курортном «Гранд-Отеле». Томас Манн писал: «Здесь вполголоса говорили на всех главных языках мира. Фрак, эта принятая во всем мире и требуемая этикетом униформа, нивелирует все, что разделяет человечество, заставляя его вести себя по канону. Здесь бывали и американцы с сухими и вытянутыми лицами, русские в окружении многочисленных домочадцев, немецкие мальчики с французскими гувернантками», к которым писатель, посети он это место годом позже, мог бы отнести и малышей Висконти, их немецких гувернанток и донну Карлу.
Прошло лишь несколько лет, и Поль Моран увидел совсем другую Венецию: «Пробоины на Дворце дожей, площадь Святого Марка под пятиметровым слоем мешков с песком, подоткнутых брусьями и стальными решетками; исчезли кони Квадриги!» А еще из города исчезли Дягилевы, Нижинские, Кокто и Прусты — все те, кто разгуливал по площади в белых фланелевых брюках, с гарденией или туберозой в петлице, пока оркестры играли вальсы Штрауса. Ничто, однако, не предвещало, что это лучезарное лето 1914 года может быть иным, чем любое другое, ни тем более того, что внезапно разразившаяся гроза сметет Прекрасную эпоху, потрясет большинство установлений, раздробит империи, изменит карту Европы, опрокинет европейскую манеру жить и мыслить и повлечет за собой такой беспримерный кризис, который, по словам Стефана Цвейга, приведет к абсолютному разрыву с тем миром, «в котором его родители жили, как за каменной стеной». Годы спустя после бури писатели, которые сильнее всего чувствовали связь с довоенным временем, трепещут при воспоминании об этом историческом потрясении, которое «бросало их от одной стремнины бытия к другой, оторвало от всех корней, с коими мы были связаны, мы — и жертвы, и сознательные прислужники таинственных сил, для которых комфорт стал легендой, а безопасность — детским сном…»
Следуя примеру тех, кого он называет своими «современниками», и тоже считая войну 1914 года точкой окончательного обрыва связи времен, Висконти всю жизнь будет сторониться ностальгического умиления, напыщенного позерства тех, кто в 1919 году «с террасы Эльсинора, протянувшейся от Базеля до Кельна, включавшей и пески Ньивпорта, и болота Соммы, и меловые каньоны Шампани, и эльзасские гранитные глыбы» созерцает смерть прежней цивилизации с ее «миллионами призраков». «Декадент» Висконти никогда не желал принять подобную гамлетовскую позу; больше того, он отметит в лишенном всякой патетики диагнозе, что «между 1911 и 1918 годом, когда вполне можно было понять grosso modo[12] и все, что произойдет дальше, именно в те годы, отмеченные сложными потрясениями культуры, не только Томасу Манну, но и всей европейской буржуазной культуре стали ясны все трудности, что проявляются в полной мере и требуют расплаты в тот миг, когда все старые проблемы предстают в новом свете и война опрокидывает все прежние установления и прежние идеалы». По этой буржуазной и просвещенной Европе он траура носить не станет.
В 1914 году Лукино было всего восемь лет — он был еще слишком мал, чтобы понять всю серьезность волнений и забастовок, которые в июне на целую неделю (позже названную «красной неделей») парализовали всю Италию и заставили говорить о подъеме социализма в северных городах и особенно в Милане, где самый бойкий из журналистов социалистической ежедневной газеты Avanti! Бенито Муссолини только что избран депутатом на муниципальных выборах. 28 мая Лукино с матерью, братьями и сестрой находится в Римини — в то самое время, когда в маленьком городке Сараево, что в Боснии-Герцеговине, сербский студент Таврило Принцип наставляет пистолет на наследного эрцгерцога Франца-Фердинанда. Еще через месяц Австро-Венгрия объявляет войну Сербии, нации мобилизуют войска и одна за другой вступают в военный конфликт. Под неизменно ясным небом семья Висконти возвращается в Милан. Здесь они обнаруживают немецких «фройляйн» в великом смятении, дети также сильно возбуждены и гадают: неужели и Италия вступит в войну?
Правительство Джолитти сначала занимает нейтральную позицию, поскольку Тройственный Союз 1882 года обязывает ее поддержать Германию и Австрию только в случае оборонительной войны. Однако в следующие девять месяцев Италия и особенно Милан (политизированный город с сильными партиями и множеством газет, самая бурлящая точка на всем полуострове) погрузятся в лихорадку споров и противоборств — ожесточенные дебаты ведут между собою сторонники нейтралитета и те, кто считает необходимым участие в войне.
Оставшаяся в наследство от предков ненависть к австрийцам и немцам пробуждается теперь и против немцев — i tedeskh. Пламя Рисорджименто разгорается с новой силой: донна Карла, патриотка и ярая гарибальдийка, — на стороне «интервенционистов». Тосканини, отец которого был похоронен в красной гарибальдийской рубашке, негодует, когда его друг Пуччини высказывается в пользу немцев, обиженный тем, что французы не воздали должного его произведениям. Большую часть лета они проводят вместе в Виареджио, и дочь Тосканини, Валли, вспоминает, что «перед самой войной их споры становились все ожесточеннее. Однажды Пуччини начал сетовать, что в Италии все из рук вон плохо, повсюду царят раздоры, все обманывают друг друга, власть стремится удовлетворять собственные интересы, а расплачиваются, как всегда, бедняки. Речь он закончил так: „Будем надеяться, что придут немцы и наведут порядок“. Папа издал звериный рык, выскочил из-за стола, вбежал в дом и заперся у себя в комнате. Он заявил, что не выйдет оттуда, пока Пуччини здесь, иначе он его ударит». Друзья помирились, решив в дальнейшем избегать щекотливых тем и ограничиться беседами о музыке.
В то же время большинство сторонников войны, воспринимавших ее как крестовый поход против варварства и произвола авторитарных империй, были куда менее терпимы и сговорчивы. 3 августа новость о вторжении Германии в Бельгию была воспринята как удар, который ради чести нации и независимости нельзя оставлять без ответа: в Милане начались погромы и разграбление магазинов и домов, принадлежавших немцам. Вскоре к обновлению великих принципов Рисорджименто примешиваются требования ирредентистов — они выступают за то, чтобы вернуть в лоно Италии италоговорящие города и области, остающиеся под иностранным владычеством, в том числе Тренто, Триест, Корсику и Ниццу. Разгоряченные народные трибуны поют осанну насилию и войне. В первых рядах этих ораторов — миланские писатели-футуристы. На время они забывают излюбленные мишени для насмешек — танго («эти медленные и чинные похороны мертвых гениталий») и «полифоническую гниль» Вагнера («сладкую вату желания», которая вызывает потоки мистических слез); теперь футуристы снова седлают любимого боевого конька и запевают прежние куплеты о «любви к опасностям, привычке к смелости и порывам», не упуская прекрасную возможность восславить «агрессию движенья, и бодрость возбужденья, жизнь — бегом, в смерть — прыжком, пощечину и удар кулаком». В сентябре 1914 года они переходят от слов к делу, не давая начать представление оперы Пуччини, прежде чем на сцене не будет сожжен австрийский флаг.
Эту эпоху выбрал для театрального возвращения на сцену после пяти лет изгнания во Франции (за долги) Габриэле д’Аннунцио, прозванный «лысой сивиллой». 5 мая 1915 года, в годовщину высадки «Тысячи» на Сицилии, в пригороде Генуи, в день открытия монументального бронзового мемориала, он взбирается на скалистый утес в Кварто, произносит пламенную речь, выступая глашатаем новой зари: «Ради нее, ради новой зари заново рождаются герои, воскресая из могил своих… Из их погребальных саванов — вот откуда мы возьмем белый цвет для наших знамен». Еще через неделю, после ряда собраний избирателей и поэтических заявлений в том же духе, его приветствуют в Риме более 100 тысяч человек: выйдя на балкон отеля «Реджина», он обращается к ним с пламенным призывом: «Мы победим трусость героизмом! Пусть Италия вооружается, но не на героический парад, а на суровую битву! Это вызов вам, о римляне!» И бросает белую перчатку остолбеневшей толпе. В эти же дни в Милане на площади Дуомо выступает перед толпой и Муссолини; атмосфера в городе уже накалена: люди дерутся на улицах, в перестрелке один человек убит, восемнадцать ранено. Муссолини, в те времена занимавший крайне левые позиции, отсидевший в 1911 году в тюрьме за подстрекательство рабочих к крупнейшей стачке в знак протеста против войны в Ливии, а в июле 1914 года назвавший свою передовицу в Avanti! «Долой войну!», теперь, всего лишь по прошествии пары месяцев, пришел к мысли о необходимости вооруженного конфликта — лучшего, как ему кажется, способа совершить социальную революцию. Уволенный из Avanti! которой он руководил с 1912 года, он основывает собственную газету, пустив в дело средства, которые ему предоставили, кроме французов, многие итальянские промышленники.
На шапке Popolo d'Italia Муссолини симметрично расположил два девиза. Это слова Бланки: «Кто владеет оружием, тот владеет и хлебом» и изречение Наполеона Бонапарта: «Революция — это идея, которая обрела штыки». С этой трибуны он угрожает королю: «Мы хотим войны и, согласно 5-й статье Конституции, вы можете послать солдат на фронт; если вы отказываетесь это сделать, вы потеряете корону».
И король, последовав совету своего министра Саландры, пренебрегает мнением Парламента, мнением Джолитти и ватиканских кругов, социалистов и либералов, большинства жителей страны, чтобы пойти на поводу у разношерстного меньшинства. Его составляли старые консерваторы-франкофилы, искренне преданные свободе и справедливости, националисты, которых финансировали крупные производители оружия, и небольшая фракция социалистов во главе с молодым Муссолини.
В окружении королевы Елены, воспитанной при русском дворе, где остались ее многочисленные родственники, считали, что вступить в войну необходимо — к тому же Елена родилась в Черногории, где недолюбливали австрийцев. Гарибальдизм и верность Савойскому королевскому дому привели клан Висконти в лагерь сторонников войны, к которой не готовы ни страна, ни армия, и которая 23 мая 1915 года будет наконец объявлена.
«Не наша вина, — скажет Висконти, — что для нас, детей, война была всего лишь игрой… День за днем пехота веселым маршем проходила по улицам, и мы ликовали». Немецких гувернанток рассчитали; отныне за воспитанием детей следила мадемуазель Элен. «Наша жизнь, — пишет она, — была весьма буржуазной, хоть и беспокойной. Причиной беспокойства стала война. Вести тот же широкий образ жизни, к которому семья привыкла, теперь мешали ограничения». Гостиные, большую столовую, кабинет и мастерскую графа заперли на ключ, жизнь протекала в комнатах поменьше, которые было легче отапливать. Хотя графа не призвали в армию, он все-таки уехал на фронт с полевым госпиталем, устроенным, по сообщению мадемуазель Элен, на собственные средства. Впервые в жизни дети, которых скорее возбуждали, чем ужасали бесконечные смотры, фанфары и барабаны войны, остаются одни с женщиной, которой удается побыть женой лишь во время коротких отпусков мужа; они месяцами не видят отца и живут в том доме, что поуютнее, где не такие строгие порядки, где возобновляются прежние игры, а Лукино, следуя зову своего сердца, устраивает костюмированные шарады, игры в прятки, танцы на галереях и импровизированные концерты. Маноло Борромео вспоминает, что иногда во время полдника Лукино вдруг заявлял: «Сегодня забудем о шарадах, я хочу вам поиграть», и всем детям приходилось слушать концерт Брамса. Вечерами дома, на вопрос матери, весело ли они провели время у Висконти, Маноло с досадой отвечал: «Какое там, Лукино весь день играл на виолончели».
Однажды донна Карла поехала навестить мужа в Удине; она взяла с собой Гвидо и Анну, поручив заботы о трех мальчиках старой тетушке и домашней прислуге. За эти несколько часов те невероятно разошлись, они бегали, устраивали засады на гувернанток, и шалости едва не закончились членовредительством, когда младший, малыш Эдуардо, влетел лбом в стеклянную дверь…
О настоящей войне они не знали почти ничего. Когда отец вернулся, его ординарец рассказывал о смелых подвигах графа, в том числе — о спасении раненых из горящих или обрушившихся домов. Иногда приходила их молодая и очаровательная кузина Мария Грапалло, носившая на золотом браслете медаль кавалерийского корпуса. Тогда между детьми развернулась ожесточенная дискуссия насчет того, у кого больше заслуг — у наваррских улан или у легкой кавалерии из Салуццо. «Лукино, — пишет французская гувернантка, — был за последних, как и Диди. Луиджи, Анна и Гвидо — за наваррских улан; годы спустя оставшийся верным себе Гвидо стал уланским лейтенантом. Эти споры продолжались бесконечно, не упускался ни один случай, чтобы восславить одних и раскритиковать других. Графиня посмеивалась и лишь изредка, если спор становился слишком ожесточенным, вставляла ироничную реплику».
Война! Они мечтали о ней в напряженной, наполненной страстями атмосфере, царившей даже в «Ла Скала», где как белка в колесе крутился Тосканини, исполняя оперу за оперой в пользу потерявших из-за войны работу музыкантов и жертв воздушных бомбардировок. Лукино не пропустил ни одного представления, начиная с «Травиаты» (прощальное выступление Терезы Сторчио) и кончая «Тоской», «Балом-маскарадом» и «Фальстафом».
Донна Карла, как и Тосканини, старается оказывать посильную помощь воюющим; она с гувернантками и дочерью Анной вяжет перчатки, шарфы и шерстяные шлемы для солдат на фронте. Она ходит в госпитали, разнося табак, деньги, провизию для раненых. Но главное, она заводит в доме новый обычай: каждое воскресенье во дворец Висконти приглашаются десять итальянских солдат, она накрывает им обильный стол, а во время еды раздает деньги, табак, подарки. Интересно, что она разрешает детям приглашать солдат союзнических войск, которых они встретили прямо на улице или в «Ла Скала». Как-то раз во время праздника в честь союзников, проходившего в «Ла Скала», дети устроили там военную схватку с применением серпантина с пятью солдатами Соединенного Королевства, и графиня, бегло говорившая по-английски, пригласила их на виа Черва.
В другой раз их гостем стал один француз. Это произошло в воскресенье, на выходе из театра. Мадемуазель Элен вспоминает, что дети заметили стоявшего у витрины «хрупкого солдатика-француза», которого, по ее словам, «и разглядеть-то было невозможно — так велика ему была каска, надвинутая прямо на глаза», а в серо-голубой шинели он просто тонул. Дети одновременно повернули головы и единодушно решили, что он из тех забавных и приятных людей, которые им так нравятся, и что он вполне достоин побывать на виа Черва. «Хрупкий солдатик» оказался прекрасным рассказчиком. «Поэзия била из него ключом, — вспоминает Висконти. — Он рассказал нам о своих товарищах, ползущих по окопам, по шею в воде и грязи, пытающихся увернуться от пуль и штыков и убить побольше таких же, как они сами, юношей, которых загнали в такие же окопы и одержимых таким же желанием убить, чтобы не убили их самих».
После обеда мать с детьми пригласили его на маленький концерт камерной музыки. Потом донна Карла с Лукино сыграли отрывок для рояля и виолончели. Под конец вечера француз без умолку благодарил, а дети за его спиной забавлялись, на все лады передразнивая его мимику и почтительные поклоны. Через несколько дней графине Висконти принесли цветы, к которым прилагались стихи, причем одно из них, посвященное Лукино, называлось «Душа виолончели». Они были подписаны именем Леона-Поля Фарга.[13]
Возможно, Лукино все еще воображал, что война делается в девственно белой униформе и лакированных сапогах. Эта фантазия окончательно развеялась осенью 1917 года, когда Милан заполонили полевые госпитали и раненые, доставленные из Капоретто… Тосканини приехал с фронта, измученный предчувствием катастрофы: он недавно завербовался, и ему наскучило пассивно следить за передвижением войск по большой карте, в которую, получая сводки о боевых действиях, он втыкал маленькие флажки. Возглавив военный духовой оркестр, он решил сопровождать солдат и поднимать их боевой дух могучими голосами воинственных фанфар. Но когда началась беспорядочная паника отступления, высшее командование забыло об оставшемся в Кормонсе оркестре, и Тосканини невозмутимо дирижировал прелюдией к третьему акту «Травиаты», пока слишком стремительное продвижение австрийских войск не вынудило его бежать. Дочь была свидетельницей его возвращения домой: «Он вошел с черного хода. Он был в грязи, как-то посерел, и в его глазах стояли слезы. Мама, подумав, что с моим братом несчастье, вскрикнула: „Вальтер! Вальтер!“ Отец пробормотал: „Нет, это Италия. Италия погибла“».
Капоретто: 40 тысяч убитых, 293 тысячи взято в плен, 91 тысяча раненых, 300 тысяч солдат скитаются по Венето, две трети провианта потеряно. Австрийские и немецкие войска доходят до реки Пьяве, где их наконец останавливают, — в это время король думает о том, чтобы отречься от престола. 700 тысяч солдат разбитой итальянской армии оказались вынуждены отступить более чем на 150 километров. Картину этого разгрома запечатлел Поль Моран в своих «Венециях»: «Это было под конец отступления к Тальяменто; 500 километров фронта между озером Гарда и Адриатическим морем. Местре, зона военных действий. В Брешии, Вероне, Венеции французские дивизии стараются поддержать мужественных итальянцев… В грузовиках с Красным Крестом — раненые сенегальские солдаты рядом с неаполитанцами в больничных пижамах, вместе с ними берсальеры — их плюмажи на шляпах теперь представляют собой жалкое зрелище. Здесь же и взятые в плен австрийцы, тирольцы в серо-голубых мундирах, выменивающие свои треуголки на каски, напоминающие шлем Коллеоне;[14] русские военнопленные, отбитые у австрийцев, чистят набережные метлами, связанными из кукурузных листьев; на стенах развешаны грозные воззвания, предписывающие дезертирам из Капоретто немедленно догонять IV корпус, а иначе они „будут застрелены в спину, как свиньи“.»
Впечатление, еще усиливавшееся тяжестью лишений в последний год войны, было ужасное, и даже объявление о победе Витторио Венето, одержанной день в день год спустя, не сумело полностью рассеять его. «Герои меня не интересуют», — скажет однажды Висконти: он воссоздаст в «Чувстве» атмосферу паники и катастрофы при Капоретто в сцене битвы при Кустоцце, когда 24 июня 1866 года войска Виктора-Эммануила II были побеждены австрияками. И в том, и в другом случае иллюзорную победу, одержанную австрийскими войсками, можно было бы прокомментировать словами дезертировавшего лейтенанта Франца Малера из фильма «Страсть», обращенными к графине Ливии Серпьери: «Какое мне дело, если мои сограждане одержат сегодня верх в битве при местечке, которое зовется Кустоцца… Ведь я знаю, что войну они проиграют… И речь здесь не только о войне… Пройдет совсем немного лет, и с Австрией будет покончено, и весь этот мир исчезнет, тот мир, к которому принадлежим мы — ты и я».
Висконти снова обращает взгляд в прошлое он созерцает войну, кошмар которой мог ощутить только интуитивно: все три года, что длились военные действия, он продолжает ходить в театр, участвовать в празднествах, ездить на каникулы. Теперь он отправлялся не в Граццано, где все было заперто на ключ, и не на Адриатику, а в горы, в деревушку в Бергамаске под названием Кантоньера-делла-Презолана, где донна Карла присоединялась к Карле Тосканини и ее дочерям, или на лигурийское побережье, в приморские виллы, снятые на несколько недель. Сначала они побывали в Алассио, что близ Рапалло, затем в Санта-Маргерита-Лигуре — на этих оздоровительных курортах, в больших отелях, выкрашенных в розовый цвет, донна Карла лечит первые проявления мучительной болезни легких. Дети ни о чем не подозревают, и Ривьера для малышей, которые «только что родились» — Ида Паче в 1916-м, а Уберта в 1918-м, — это восторг и счастье солнечных летних месяцев, ощущение безопасности и предвкушение золотых дней сбора винограда в Черноббио.
Возвращение к мирной жизни в Италии не сопровождалось таким взрывом энтузиазма, как во Франции. Первые недели эйфории не могли изгладить из памяти 600 тысяч погибших, снизился общий уровень жизни, выросла безработица, после демобилизации всюду царили хаос и неуверенность. Приняв участие в конфликте, Италия рассчитывала приобрести больше веса и влияния. Версальский договор, давший итальянцам немало, тем не менее вызвал бурю протестов, к которой присоединились футуристы, ирредентисты, Муссолини, Маринетти и д’Аннунцио. Притязания на Фиуме, италоговорящий город, и на Далмацию, где говорили на славянских языках, зазвучали с новой силой, когда д’Аннунцио заявил, что «Далмация по праву божественному и человеческому принадлежит Италии».
И вновь Милан становится ареной самых ожесточенных дебатов. «Ла Скала» превращается в политический форум, где голоса умеренных, мнение которых выражает лидер социалистов Леонида Биссолати, сторонник союзников, заглушает концерт из шиканья, свиста и истошных воплей. Этот недовольный гул всячески поощряют Маринетти и Муссолини. «В Италии, — замечает Джузеппе Антонио Борджезе в книге „Голиаф, поступь фашизма“, — всегда проявляли известного рода терпимость: по меньшей мере, так было в крупных городах и в спорах между политическими лидерами… Частенько создавалось впечатление, что самые пламенные политические дискуссии и даже забастовка — это скорее театральное представление, чем настоящий конфликт, и что вот-вот настанет момент, когда все отправятся пропустить стаканчик, похлопывая друг друга по плечу. Биссолати почитался как Аристид своего времени, его нравственная стойкость являлась примером как для его последователей, так и для противников, и в том, что он был столь жестоко оплеван в ту ночь в „Ла Скала“, было нечто неслыханное. Это то же самое, как если бы вдруг смертельный удар нанесли свободе слова и мысли или если бы внешняя война вдруг сменилась войной гражданской, пусть даже и без кровопролития».
Первая кровавая акция гражданской войны разыграется через три месяца, и снова в Милане: 14 апреля редакция Avanti! будет подожжена. 23 марта Муссолини создал свою революционную «антипартию», созывая на полосах своей газеты Popolo d'ltalia «оставшихся в живых членов интервенционистской партии» в дом номер 9 на пьяцца Сан-Сеполькро, в самом центре Милана, неподалеку от дворца Висконти. Это в общем и целом около сотни человек, среди которых националисты, синдикалисты, студенты и, разумеется, футуристы. В те три недели, что последовали за образованием боевого fascio (снопа), в разных кварталах города возникают стычки между социалистами и фашистами. В воскресенье 13 апреля волна бунта охватывает уже весь Милан: социалисты, которые грабят лавки и забрасывают камнями общественные учреждения, и сдерживавшая толпу армия стреляют друг в друга. Всеобщая забастовка объявлена на послезавтра. После митинга, состоявшегося у Кастелло Сфорцеско (замка Сфорца), процессия из 10 тысяч манифестантов направляется к Дуомо. Фашисты не сомневаются, что социалисты идут поджигать редакцию Popolo d'ltalia. Между социалистами и фашистами происходит настоящее сражение сомкнутых колонн; в тот же вечер Муссолини принимает решение — надо поджечь Avanti! Сотня добровольцев врывается в помещение редакции, громит кабинеты, швыряет в огонь архивы, выгоняет типографских рабочих и журналистов. Это революция? «Мы были очень встревожены», — рассказывает мадемуазель Элен — должно быть, она дрожала, как мадемуазель Домбрей из «Леопарда» в тот день, когда граф Джузеппе вернулся позже обычного. По ее воспоминаниям, «это было смутное время, когда Муссолини развязал кампанию против аристократов и во всеуслышание заявил, что время не терпит и богатеев надо загонять на чердаки, а беднота пусть спускается al piano nobile, то есть на комфортабельный первый этаж».
Уличные столкновения, стачки, мятежи следуют один за другим на протяжении всего 1919 года. В эту бурную пору Муссолини — отнюдь не самый заметный из мелких «кондотьеров». Разочарованный быстрым завершением войны, не вынеся запаха мира, «мира, который воняет», пылкий «певец красоты», которому его отважные полеты над Триестом и Веной принесли не только Золотую и Серебряную медали от самого короля, но и хвалебные репортажи на первых полосах газет, д’Аннунцио бросается в трагикомическую авантюру в Фиуме. «Фиуме или море!» — под таким девизом он увлекает за собой 20 офицеров и 200 солдат, набранных из бывших arditi, демобилизованных или дезертировавших из регулярной армии, которых тревожит наступление мира. 11 сентября он выезжает из Венеции на красном «Фиате-501» с откидным верхом, его сопровождает процессия из тридцати пяти грузовиков. По дороге к нему присоединяются добровольцы, и на следующий день в 11 утра он без всякого сопротивления занимает Фиуме. Первую речь там он произносит, поднявшись на балкон: «Итальянцы Фиуме! В безумном, подлом мире Фиуме — символ свободы. В безумном, подлом мире лишь одно сохраняет чистоту: это Фиуме; одна лишь правда: это Фиуме; одна любовь — Фиуме! Фиуме как маяк, светящий в море низости…» Вскоре он заявляет, что превратит город в центр мировой революции, и уточняет в письме: «Ни в одном уголке земного шара не дышится так свободно, как на берегах Кварнерского залива, который напоминает море будущего… Истинное обновление жизни — не там, где доктрина Ленина захлебывается кровью, но здесь, где большевистский чертополох превращается в розу любви… Я полностью отвергаю кодексы стерильных учреждений и обезвоженные законы». Такое безразличие к законам подтверждается всем, что он делает: на личных знаменах он приказывает вышить надпись «Мне все нипочем», совершает пиратские набеги на суда, везущие провизию, а его попытки завоевать Далмацию вызывают крайнее раздражение у англичан.
Чтобы оповестить мир о своей программе, он приказывает сбросить с самолета в парижское небо листовки, где разъяснялись его внешнеполитические цели. В другой раз он приказывает рыжебородому гиганту летчику Келлеру пролететь над Римом и сбросить ночной горшок, набитый морковью, на Парламент в тот день, когда там выступает Джолитти, а на дворец королевы-матери — гирлянду алых роз.
Муссолини на страницах Popolo d’Italia поет хвалу «революции, которая в первой фазе всегда имеет политический характер — и эта фаза уже началась. Стартовав в Фиуме, она может закончиться только в Риме». Однако он делает все, чтобы д’Аннунцио не приехал в столицу, и даже присваивает часть сборов, официально объявленных его газетой в пользу «регентства» в Фиуме.
26 июня 1920 года, под угрозой итальянской бомбардировки, д’Аннунцио решает капитулировать. Отныне он заживо заточает себя на берегу озера Гарда, в том здании, что Висконти назовет «фараоновой гробницей, где поэт искал самой темной тьмы» — на вилле в Витториале. Сюда 5 апреля 1921 года приедет навестить его Муссолини, как будто решив воздать должное тому, кто придумал для него все фашистские обряды и ритуалы: парады вооруженных солдат, форменные черные рубашки, на перевязях изображение черепа, древнеримское приветствие и военный призыв: «За нами… Эйя, эйя, алала!» Прообраз пышного фашистского праздника, когда трибун обращается к толпе, отвечающей ему хором, как почти каждый день выступал д’Аннунцио:
— За кем Фиуме?
И толпа:
— За нами!
— За кем будущее?
— За нами!
В этом будущем не будет места для д’Аннунцио и Фиуме не сыграет в нем важной роли. Будущее определялось в Милане, где наступал новый, мрачный век.
Глава 6 ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛЯРА ВИСКОНТИ
Откуда эти вечно хмурые тени на вашем лице?
Шекспир, «Гамлет»Семья — это род судьбы, которой невозможно избежать.
Лукино Висконти«Это походило на бегство в Варенн», — скажет Висконти о тревожном путешествии летом 1920 года, в финале которого вереница автомобилей с семьей и привычным кортежем домашних слуг, нянь и гувернанток наконец добралась до Ривьеры. С самого конца войны по Италии бродит призрак русской революции. В стране разражается экономический кризис, растут цены (особенно на хлеб), вводятся продуктовые карточки, крестьяне взбудоражены, а в крупных промышленных центрах растет напряжение в отношениях между рабочими и капиталистами.
Здесь, в накаленной страстями ломбардской столице, в бастионе социализма, где Муссолини готовится взять власть, решается судьба Италии. Красное или черное? Для шефа Popolo d'Italia в 1920 году черный — это все еще цвет Ватикана и народной партии дона Стурцо: «Две религии, — заявляет он, — борются сегодня за власть над душами и всем миром: черная и красная. Энциклики сегодня исходят из двух Ватиканов: первый из них — в Риме, второй — в Москве. Мы не верим обоим».
Накануне войны все партии требуют более справедливого распределения национальных богатств, налогов на крупные состояния и наследства, передела земель и реформы государственных учреждений. «Падение Гогенцоллернов в Германии, распад империи Габсбургов и бегство последнего императора, спартаковское движение в Берлине, советские революции в Венгрии, в Баварии и вообще все необыкновенные и громкие события, случившиеся в 1918 и в 1919 годах, поражают воображение и вселяют надежду, что старый мир рухнет и человечество встанет на пороге новой эры и нового общественного порядка». В отличие от своего прежнего соратника, социалиста Пьетро Ненни, Муссолини отказывается размахивать коммунистическим стягом — тем не менее он разрабатывает программу демократизации к муниципальным выборам ноября 1919 года. Этой программой прельстился маэстро Тосканини — он дал согласие на то, чтобы его имя внесли в список миланских фашистов, наряду с именами Муссолини и Маринетти.
Однако час крупных фашистских триумфов еще не пробил: до 1921 года кажется, что победа будет за социалистами. Маленького короля Виктора-Эммануила пробирает дрожь, когда 156 вновь избранных депутатов-социалистов прерывают его тронную речь криками: «Да здравствует республика!» После этого они покидают парламент, хором исполняя «Бандьера росса».
На следующий день газета Avanti! вышла с заголовком: «Родилась революционная Италия!» Весь 1920 год не прекращаются забастовки — они проходят на железных дорогах, заводах, в почтовых отделениях и даже в системе образования. В Турине, Генуе, Милане над захваченными заводами неделями развеваются красные знамена: в августе 1920 года в одном только Милане их насчитывается больше трехсот. На стенах — революционные лозунги: «Да здравствуют Советы!», «Да здравствует Революция!», «Да здравствует Советская Россия!», «Вива Ленин!», «Власть — рабочим!», «За диктатуру пролетариата!». В результате уличных столкновений с апреля 1919-го по апрель 1920-го убито более тысячи карабинеров и солдат Королевской гвардии (нового подразделения, созданного в ответ на рост насилия).
Напряженность ситуации, вероятно, подогревают некоторые промышленники, желающие заставить правительство снова прибегнуть к силе. Трения становятся еще сильнее после создания squadre, фашистских бригад, вооруженных дубинами, кинжалами, револьверами и ружьями. Аптекари Эрба, разумеется, и вообразить не могли, для каких целей покупают рыбий жир — источник их благосостояния — эти чернорубашечники. Эти бандиты часто вламывались в дома политических деятелей, преимущественно социалистов, насильно вливали в рот слабительное — стакан за стаканом, а затем отвозили за несколько миль от дома и привязывали к дереву голым. Случалось, что они убивали жертв прямо на месте.
Что же предприняли король и правительство перед лицом сквадристского террора? Ровным счетом ничего. Начиная с января 1921 года депутат-социалист Арнальдо Маттеотти критиковал власть за то, что она «безучастно смотрит, как попирается закон». В 1924 году, через две недели после того, как он разоблачил подтасовки фашистов на выборах, он пропал без вести. Король, отвечая на вопрос, как быть с исчезновением депутата, сказал, что этим утром его дочь подстрелила в небе над Римом пару перепелов. Вскоре труп Маттеотти обнаружили в окрестностях столицы…
С 1921 года полиция, по сути, ни во что не вмешивается; судьи, которым рекомендовано с уважением относиться к «патриотическим мотивам» арестованных сквадристов, закрывают глаза на погромы кооперативов, поджоги отделений социалистической партии и бирж труда, продолжаются безнаказанные убийства журналистов, выступающих за социалистическую и либеральную партии. Никто не протестовал, когда 3 августа 1922 года чернорубашечники снова подожгли редакцию Avanti! и разогнали муниципалитет, состоящий из социалистов. В тот день на балконе мэрии, подобно привидению, возник д’Аннунцио в военной форме, увешанный медалями и обратился к толпе с речью; на следующий день газета либерального толка Corriere della Sera возносит хвалу Муссолини за то, что тот столь решительно уничтожил зародыш большевизма. 12 августа в газете Giustizia социалисты, по сути, расписываются в собственном поражении: «Фашистский шквал бушует с одинаковой силой во всех крупных городах страны. Надо набраться смелости и признать: на сегодняшний день победа за фашистами».
Еще два месяца спустя начинается «Поход на Рим»: Виктора-Эммануила шантажируют, угрожая восстанием — даже если бы оно началось, итальянская армия могла бы без труда его подавить.
В воскресенье 29 октября 1922 года в редакцию Popolo d’Italia приходит телеграмма за подписью генерала Читтадини, адресованная Муссолини: «Его величество король просит вас как можно скорее прибыть в Рим и сформировать кабинет министров. С уважением, генерал Читтадини». В 20 часов 30 минут этого же дня Муссолини, в котелке, гетрах и туго накрахмаленном воротничке, отбывает поездом из Милана. Поход на Рим, который он в дальнейшем будет изображать как героический штурм, в действительности был всего лишь поездкой в спальном вагоне.
«Ваше величество, — говорит он королю по прибытии, — я привез вам Италию Витторио Венето». После беседы, продлившейся три четверти часа, «фашистский король» и дуче в первый раз вместе вышли на балкон дворца Квиринале. Когда опытный царедворец Витторио Саларио дель Борго спросил короля, что тот думает о новоиспеченном премьер-министре, Виктор-Эммануил III ответил: «У него есть характер, могу вас уверить, что он пришел всерьез и надолго…» Многие молодые люди, одним из которых был писатель Курцио Малапарте, были «готовы на все», чтобы «поступить на службу пролетариату, тому самому, что вчера был красным, а сегодня стал трехцветным».
Лукино Висконти едва исполнилось шестнадцать. На его глазах Милан стал театром гражданской войны — не проходило и дня, чтобы не случился грабеж или какое-нибудь побоище, в городе взрывались бомбы и даже в театрах гибли люди. Висконти видит развевающиеся красные знамена и черные рубашки; он видит, как вооруженные до зубов arditi, над головами которых, словно огонь, алеют вымпелы, принуждают встречных снимать шляпы в знак уважения к фашистской символике. Но и поражение социализма, и подъем фашизма, и установление диктатуры Лукино наблюдает как бы издалека, будто смотрит театральную пьесу с гротескными героями. В какой-то момент патриотизм и национализм влекли его к Муссолини, которого он будет впоследствии считать «шутом гороховым»; некоторое время он даже носил синюю рубашку молодых националистов, но те вскоре влились в фашистские ряды.
Но в ком сей юный обожатель Стендаля мог бы обрести своего Бонапарта? Определенно, его героем не мог быть д’Аннунцио: его книги Висконти прочитывал взахлеб, но эскапада в Фиуме показалась ему ужасной и возмутительной. На эту роль не годился и сморщенный малютка-король с трясущейся челюстью, в плохо скроенном генеральском мундире — Висконти видел его и в Квиринальском дворце, и в Сан Россоре под Пизой, где тот совершал прогулки верхом вместе с сыном Умберто, по прозвищу Sciaboletta — «картонная сабелька»…
О политике Лукино почти не говорил. Его отец, как и большинство аристократов, нутром ненавидел чернорубашечников, и особенно Акилле Стараче, который в 1931 году станет секретарем фашистской партии. Этот человек присоединился к движению еще в 1919-м, у него было столько военных наград, что Муссолини звал его «наша ходячая подушечка для медалей», и он являл собой поразительную карикатуру на фашизм и дуче. Именно Стараче были доверены все театральные эффекты, которые должны были создать мистический ореол вокруг нового правительства. Этот низкорослый, тощий и наглый человечек воплощал в себе все, против чего герцог Джузеппе предостерегал сыновей: вульгарность, бескультурье, грубость. Встретив его имя в газете, столкнувшись с ним в Квиринальском дворце, герцог складывал руку в знак «козы», словно защищаясь от сглаза. Однако не весь клан Висконти разделял эту неприязнь: Марчелло, сын Уберто и кузен Лукино, в 1930 году на шесть лет займет пост мэра Милана. Его дядюшка Гвидоне, бородатый весельчак Гвидоне, который теперь жил во Флоренции, станет при фашистах сенатором. В 1930 году он организовал выставку произведений искусства в Лондонской Королевской академии. Его речь на открытии будет чистой воды прославлением Муссолини: тот-де, «взяв бразды правления в свои руки с единственной целью — снова передать их королю», показал себя «достойным наследником великих итальянских традиций». В той же речи Гвидоне скажет: «Быть может, за пределами Италии общество не осознает, что после войны наша страна стояла у самого края пропасти, она едва не оказалась в лапах коварных большевиков… Я считаю фашизм, по существу, романтическим движением. Это не только диктатура, но новая социальная и политическая доктрина, благодаря которой Италия полностью возродилась».
Позднее Лукино Висконти ярко изобразит этот разлад в собственной семье, произошедший под влиянием фашизма, в истории про аристократический клан Эссенбек. Но в те времена он еще не так четко формулирует свои идеи и не упускает случая оспорить аргументы отца. Годы беспокойного отрочества он называет «полными сомнений и бунта». На его фотографиях, на его лице нет и тени сомнения, он смотрит прямо в объектив, высокомерно и снисходительно, и словно бросает свирепый вызов. В действительности бунт кипел в его душе; родители долгое время терпели плохие оценки сына, в особенности по точным наукам, к которым Лукино совершенно не проявлял интереса. Наконец, дон Джузеппе и донна Карла решили, что год учебы в пансионе пойдет ему на пользу, и отправили Лукино вместе с братом Луиджи в колледж на берегу озера Комо, где жизнь определял суровый устав монахов-салезианцев. Под конец триместра вместо дневника с оценками на имя графа приходит головокружительный счет от местного кондитера, и он требует у святых отцов разъяснений. Они сообщают, что почти каждый день в приемную являлся человек — повидать двух «племянников», юных графов Висконти, он приносил им великолепные пирожные, которыми мальчики всегда великодушно делились с остальными. Кто мог предположить, что самозваный «дядя» на деле был официантом в той самой кондитерской и участвовал в заговоре? Мальчиков отослали домой, и они снова пошли в миланский лицей Берше…
«В молодости, — признается Висконти, — я восставал против любого принуждения. Я вечно сидел на последних партах. У меня была тяга к литературе, и я читал ночи напролет. В четырнадцать лет я одолел всего Шекспира, а моя комната ломилась от книг, по большей части французских». Он забрел в этот удивительный лабиринт культуры совершенно один и осваивал его с редким упоением — ни один из его учителей не мог похвастаться тем, что это он открыл этот мир для Лукино. Дон Джузеппе получал все новые и новые счета из книжной лавки Бальдини и Кастольди, куда его сын ходил пополнять запасы, а сын всякий раз говорил: «Надеюсь, ты простишь мне мои порывы в том, что касается книг».
В тот же период юности Лукино создает маленькое литературное сообщество, в которое, кроме него, входят его школьные товарищи Коррадо Корради и Иньяцио Гарделло, а также сын музыканта Ньекки. На средства, собранные вскладчину, они издают сборник под названием «Реплики»: здесь был опубликован и один рассказ Лукино, «Слепец», который сам автор относил к жанру «страшных». Это была полная страстей история об инвалиде, ослепшем на войне; позднее Висконти хотел переделать рассказ в сценарий для фильма, но этому плану помешала кончина его бабушки.
Однажды это случилось в 1922 году — он увидел, как отец не отрываясь читает привезенный из Парижа роман. «Я был так ошеломлен его интересом, — расскажет он потом, — что это заставило его оторваться от книги, и он признался, что, переворачивая очередную страницу, испытывает ужасное сожаление, ибо это приближает восхитительный роман к финалу». Граф читал «В сторону Свана»; и Лукино тоже отправляется в долгое путешествие в поисках утраченного времени — путешествие, которое в течение жизни он будет повторять снова и снова. Он вспоминал: «Мне было, кажется, семнадцать или около того… Это было невероятное, опьяняющее чтение. И я остался с ними навсегда — Прустом, Стендалем и Бальзаком».
Герцога волновала не столько политика, сколько мода и элегантность. Именно он, по словам художника Фабрицио Клеричи, помог королеве, «настоящей красавице, не знавшей ни как одеться, ни как держать себя», мало-помалу войти в свою роль. Он устраивал для нее в Квиринальском дворце спектакли, «живые картины», которые разыгрывали его дети; «среди них, — уточняет Уберта, — был и Лукино; в Квиринале висели роскошные гобелены XVI века: Лукино и Луиджи в платьях пажей выходили и рассматривали изображенных на них персонажей. Королева говорила: „Ах! Если бы эти люди могли ожить!“ В это мгновение луч луны падал на занавес, он раздвигался открывая другую сцену, на сей раз с персонажами из плоти и крови. Были здесь и бабочки — это были мы с Идой, и порхали мы весьма неуклюже».
Об этих спектаклях Висконти никогда не рассказывал — ему куда дороже была память о представлениях, которые за десять лет царствования в «Ла Скала» давал маэстро Тосканини. Это был для него незабываемый урок и единственная из всех революций, к которой он мог бы тогда примкнуть. 14 июля 1920 года Тосканини получает абсолютную власть в «Ла Скала» и принимается за полную реорганизацию.
Он начал с упразднения привилегий, запретил старые ассоциации, вернул четыре ряда лож публике, ликвидирует монополию на управление театром (таким образом, он лишил привилегий старых palchettisti, передававших ложи по наследству, в том числе и семью Висконти). На Рождество 1921 года, единолично выбрав администраторов, создав постоянную труппу певцов, тщательно проэкзаменовав каждого музыканта оркестра, Тосканини открывает сезон своей любимой оперой «Фальстаф». Тридцать лет спустя на открытии «Ла Пиккола Скала» он снова будет дирижировать этой оперой и доверит постановку Лукино, товарищу его дочери Ванды по детским играм.
После момента замешательства, вызванного опасением, что в «Ла Скала» может взорваться бомба, занавес все-таки поднимают, и глазам зрителей открывается расширенная, лучше освещенная сцену с углубленной оркестровой ямой. Скоро на этой сцене будут представлены «Манон Леско» Пуччини и все те оперы Верди, что в будущем послужат источником вдохновения и для Висконти: «Травиата» — в декабре 1923-го, «Трубадур», снискавший небывалый успех — весной 1925-го, «Отелло», «Дон Карлос», «Сила судьбы» — с 1927-го по 1929-й.
От певцов Тосканини требует не только совершенной техники, но и актерской игры, он первым стремится вернуть в оперу естественность. «Вы слушаете Вагнера, — замечает он на репетиции „Зигфрида“, — и вам слышится шум листвы… А потом вы смотрите на сцену и видите там размалеванный картон — это нелепо! Мы не можем поставить оперу, не убив ее. В музыке — гениальность; на сцене тучные неповоротливые певцы. Ну и маскарад!» Он присутствовал на всех репетициях, контролировал все детали игры и драматического действия, обучал актеров тому, как следует двигаться и жестикулировать — позднее так же будет поступать и сам Висконти.
Влияние Тосканини на Висконти было, без сомнения, очень глубоким, утверждает композитор Франко Маннино. «Их методы поиска истины совпадают; оба они питали пристрастие к маленьким, но реалистичным деталям; ни тот, ни другой не допускали импровизаций. Оба обладали поистине фантастической энергией, но она всегда была нацелена на то, чтобы достичь необычайного совершенства. Они, словно титаны, нависают над нами, карликами». А вот слова самого Висконти: «Тогда Тосканини сам был театром „Ла Скала“; он стал кумиром миланцев». Он был кумиром и для самого Лукино, причем не только как творец. Как было не восхититься гражданским мужеством бунтаря, отказавшегося повесить портреты дуче и короля в «Ла Скала», что сделали во всех остальных театрах и общественных местах. После представления «Фальстафа» в декабре 1922 года группа фашистов требует от него исполнить гимн «Джовинецца» — Тосканини ломает палочку и покидает сцену, выпалив напоследок: «Артисты „Ла Скала“ — не водевильные певички и вам тут не балаган!».
Для Висконти он останется и артистом, «избитым за отказ начать концерт с фашистского гимна». Это случилось в 1931-м. Тосканини с женой и дочерью Вандой вышел из машины у театра в Болонье, где ему предстояло дать два концерта из произведений его друга Джузеппе Мартуччи; их окружила группа молодых фашистов. Маэстро сыграет «Джовинеццу»? Дирижер отвечает: «Нет!» — и получает удар по лицу, а затем подвергается побоям. Он возвращается в отель, но там его просят выехать не позже шести утра завтрашнего дня.
Даже в Милане он не был в безопасности: чернорубашечники распевают фашистский гимн под окнами его дома на виа Дурини. Лишь месяц спустя ему выдадут заграничный паспорт, и он покинет страну. Тосканини не будет дирижировать в Италии и даже ни разу не ступит на эту землю до самого конца Второй мировой войны.
Между тем, отношения семей Тосканини и Висконти в 20-е годы испортились. Политика не сыграла в этом никакой роли. Причина была, и звалась она Валли Тосканини.
В 1920 году старшей дочери маэстро исполнилось двадцать лет, она была дьявольски красива. Девушка с детства засматривалась на ложу Висконти в «Ла Скала», когда там появлялась донна Карла, закутанная в «облака серых и лиловых вуалей», таких густых, что лицо дона Джузеппе словно заволакивалось этой дымкой. «Графиня Висконти, — признавалась она, — была так прекрасна, что мне хотелось во всем походить на нее». Валли подражает донне Карле, обмахивается веером из черных или розовых страусиных перьев и облачается в пышные наряды из шифона. Как и Карла, она шокирует публику смелостью своих нарядов. Валли одной из первых девушек в свете осмелилась накрасить губы; как-то раз она спровоцировала скандал, явившись на бал с обнаженными руками. Еще больший скандал случился, когда Валли стала любовницей Эммануэле Кастельбарко: он был дядей Висконти и мужем Лины Эрба. Валли была из тех женщин, которые, по словам режиссера, «вносят в жизнь элемент хаоса».
Тосканини был очень строг с детьми, требуя от них послушания и аккуратности. Но Валли была, по признанию маэстро, «единственным произведением, дирижировать которым я так и не научился…» Когда в один злосчастный день 1924 года заплаканная графиня Кастельбарко сообщила ему, что Валли собирается разрушить ее брак, когда он узнал, что дочь годами жила тайной, скрытой от него жизнью, что половина Милана в курсе ее связи и граф Кастельбарко затеял развод, безмятежную тишину дома на виа Дурини нарушила грандиозная сцена гнева, достойная самого Юпитера.
«Отец отвесил мне пощечину, — говорит Валли. — Тогда он впервые поднял руку на одного из своих детей». Она вышла замуж за Кастельбарко в Венгрии в 1930 году, однако Тосканини не приехал и даже после появления на свет внучки Эмануэлы не позволил зятю бывать в его доме. Лишь в 1933 году они помирились.
Этот громкий скандал взбудоражил Милан и сильно ударил по семье Висконти. Однажды у Валли в руках оказывается фотография, на которой Лукино написал: «Валли, в те времена, когда она еще не была графиней».
— А что бы ты сам сказал, — спросила она у него, — напиши кто-нибудь такое на фотографии твоей матери?
— Я бы сказал, что это хамство, — ответил он.
— Вот именно! Ты и есть хам.
Ссора была мимолетной, однако она демонстрирует суровость Висконти по отношению к «хаосу», внесенному дочерью Тосканини в его собственную семью в те самые годы, когда гармония брака его родителей уже начала распадаться.
«Почему они расстались, я точно не знаю, — рассказывает нам Уберта. — Отец был обаятельным человеком, очень и очень добрым, но весьма легкомысленным, и их брак был жестоким танцем. Моя мать сначала терпела, но в конце концов решила, что с нее хватит. Нрав у мамы был очень горячий, и разрыв получился окончательным. Сегодня, когда расставшиеся пары продолжают поддерживать отношения и видеться, такое бесповоротное расставание трудно себе представить». Донна Карла порвала окончательно с мужем и с Миланом, где она отныне проводила лишь несколько месяцев в году. Когда ее дочь Анна выходила замуж в Граццано, она отказалась переступить порог замка, и праздник пришлось устраивать на свежем воздухе.
О донне Карле, конечно, злословили, и жила она довольно свободно, а вот дон Джузеппе, как и граф Кастельбарко, прослыл записным донжуаном. Открыв свое парфюмерное производство GiViEmme, он сам придумывал названия для духов и туалетной воды. Злые языки судачили, что они навеяны недавними любовными победами: «Голубая графиня», «Влюбленный нарцисс»… Стоило графу стать придворным королевы Елены, как пошли слухи, что он ее любовник. Он все больше жил в Риме, в доме на виа Салариа, который приказал построить рядом с виллой «Савойя».
Рассказывали и о других проделках этого новоявленного Лотарио: идя в «Ла Скала», он пудрил щеки и подкрашивал ресницы, и по этой причине чарам «дона Зизи» покорялись не только женщины. Говорят, что в день его похорон в замок Граццано явилась внушительная процессия его молодых «протеже», которых вежливо, но твердо попросили исчезнуть. Рассказывают, будто он отказался назвать свое имя одному из любовников, который, конечно же, знал его и проговорился, — и предупредил его, что, «если когда-нибудь тот пожелает узнать его, то исчезнет, как Лоэнгрин, на челноке, запряженном лебедем». Такую же лодку мы позже увидим и в «Людвиге»…
Итак, графиня покинула виа Черва и жила теперь у своей матери на виа Марсала; трое старших детей чаще всего жили у отца, а самые юные, включая Лукино, — с донной Карлой. Уберта рассказывает: «Мы с Лукино поочередно жили пять месяцев в Черноббио и пять — в Милане. В школу мы не ходили, учителя занимались с нами на дому. Когда приближался праздник Нового года, у нас было две рождественские елки: одна отцовская, другая — мамина. Была одна трудность: даже когда мы жили с отцом, мы были больше привязаны к матери. И отец ревновал: он боялся, как бы мы не предпочли ему мать. Для Лукино расставание родителей не было трагедией; конечно, он предпочел бы видеть семью единой, но был достаточно взрослым, а мы были еще совсем малы; кажется, мне было тогда лет пять».
«Расставание не было трагедией»? Это замечание, кажется, опровергает тема распада семьи, навязчиво звучащая во всем творчестве Висконти. Этот распад роковым образом влечет за собой и экономический упадок семьи и объясняется внутренним кризисом, в котором словно бы слились моральное разложение и смертельная болезнь. В 50-е годы, когда Висконти захочет экранизировать «Будденброков» и перенести действие в Милан, он фактически задумывает рентгеновский снимок всей своей семьи. Он желал рассказать о ее величии и упадке через историю трех поколений. Первое из них — поколение основателей, таких, как Карло Эрба или его дедушка Гвидо Висконти, наживший свое состояние благодаря типично ломбардскому делу — производству шелковых изделий. Достигнув высшей точки сразу после войны, в 30-е годы это производство переживает внезапный кризис.
По задуманной Висконти сюжетной схеме, в падении Дома виноват не столько внешний кризис, сколько пренебрежение правилом, которого неукоснительно придерживались основатели династии: всегда держаться вместе, как пальцы одной руки. «Зерна будущего раздора, — пишет в сценарии Висконти, — лежат внутри самой семьи, где богатство, плохое воспитание детей, спесь и гордыня от привычки к роскоши начинают подтачивать отношения между членами семейства, расширять опасную пропасть между нашими героями и событиями, которые меняют весь мир». Так мало-помалу «теряется то чувство семьи и фирмы, которое создавало всю общность интересов и переживаний. Рождение ребенка, свадьба, похороны, открытие нового предприятия или заключение важного договора были событиями, которые вся семья проживала вместе, и они составляли ее общее чувство и общую память». Постепенно фабрика становится всего лишь машиной для производства денег, и «когда последний представитель второго поколения умирает, всякое чувство ответственности за фирму в конце концов утрачивает и вся семья»; в этот момент закат Дома ускоряется, и спасение, если и возможно, может прийти только со стороны, от человека извне, не зараженного семейной болезнью.
Ветвь Эрба и ветвь Висконти расходились; Карла Эрба, которая раньше уступила мужу часть акций процветающей фармацевтической фабрики, основанной ее дядей, теперь вместе с сестрой требовала вернуть ей полное управление Торговым домом Эрба. Впоследствии это дело взял на себя Эдуардо — по словам Уберты, он был единственным человеком в семье, который умел вести дела и хорошо считал деньги.
Состоялся суд, его сопровождал мучительный раздел имущества. Это было в 1923-м, за год до скандала, учиненного разводом Лины Эрба и графа Кастельбарко. Лукино было семнадцать. Большой банкет на пятьсот персон, устроенный в честь Пуччини и новой постановки «Манон Леско» в феврале 1923 года, стал последним мероприятием, на котором Карла и Джузеппе появились вместе. Больше во дворце Висконти не будет тех балов, которые Лукино видел в детские годы, балов, достойных «Леопарда»: «Гости только на маму и смотрели. Я тоже смотрел на нее, не теряя из виду ни на мгновение. Я хотел запомнить каждый ракурс, каждую деталь. Это было великолепное зрелище. Потом я словно пробудился ото сна и пришел в ярость: слуги убирали вещи, выметали с пола перья и блестящую мишуру. Это был конец света».
Теперь донна Карла будет жить жизнью, напоминающей отшельническую — она откажется от светских забав, к которым, говорит Уберта, она никогда не имела склонности. «Для нее это было скорее обязанностью; отец же, напротив, любил бывать в свете и принимать у себя гостей». При этом каждый вечер, даже оставаясь в одиночестве, она надевала вечернее платье и, благоухающая и царственно прекрасная, спускалась к ужину, который накрывали в большой и пустой столовой.
1924-й был мрачным годом для Висконти и для Италии. Это год, когда разошлись его родители, год, когда на рассвете понедельника после пасхального воскресенья в отеле Питтсбурга умерла Элеонора Дузе, душа и сердце эпохи; наконец, это тот самый год, когда фашистские молодчики убили лидера социалистов Маттеотти, а вместе с ним во всей стране умерла и свобода.
«Одна, одна» — таковы были последние слова, произнесенные на сцене Дузе. Долгие годы она с неистовой страстью играла героинь д’Аннунцио и Ибсена, соперничала с Сарой Бернар и превзошла ее; она прожила и сыграла все тончайшие чувства и все страдания, выпадающие на женскую долю. Ее появление на театральных подмостках вызывало восхищенный вздох, публика впадала в состояние религиозного экстаза. Сара была роковой красавицей, она ослепляла зрителей блеском нарядов, драгоценностей и своим искусством; но Дузе оставалась самой собой и была неподражаема.
После долгого перерыва она вернулась на сцену, сначала в Турине, в мае 1921 года, а через месяц и в Милане, чтобы сыграть в ибсеновской драме «Женщина с моря». Это история одиночества, ожидания и самоотречения. Главная героиня, Эллида, тоскует по бескрайнему морю и все-таки отвергает моряка, звавшего ее с собой, Незнакомца, который, избороздив моря, однажды возвращается за ней. Черты лица у Дузе тяжеловаты и неправильны, рот слишком велик, лоб слишком высок, она не покоряла с первого взгляда и не прибегала ни к уловкам, ни к искусственным ухищрениям. «Когда я выхожу к публике, — говорила она, — я сразу завоевываю ее уже тем, что я безобразна…» Когда Лукино впервые увидел Дузе, ей было шестьдесят три. Ее волосы были седы, и она играла без грима, но первым впечатлением для Висконти стал ее голос, который был слышен из-за кулис. Этот голос звучал гибко, встревоженно и звонко; он был подобен музыке и в то же время звучал буднично, без малейшего пафоса, и его звучание эффектно оттеняли пары. «Я испытал огромное волнение, скажет Висконти, — это была магия, которую трудно объяснить… Когда я услышал ее голос, — а я был очень юн, — у меня в буквальном смысле слова перехватило дыхание. Я не понимал, как можно так сыграть. Помню, что спросил у матери: „Она играет роль или это что-то другое?“ Это было не похоже на игру. А она играла первый акт „Женщины с моря“. Я недоумевал: „Она играет или просто разговаривает с Дзаккони, что она делает?“ Она действительно играла, она говорила слова, рисовала что-то на земле зонтиком… Впоследствии так стали играть многие, но это произошло уже гораздо позднее».
Висконти видел и «Мертвый город» д’Аннунцио, мрачное прославление кровосмесительной страсти; он видел Дузе в роли жестоко страдающей матери в «Привидениях» Ибсена и запомнил невероятное разнообразие интонаций, мягкий свет и болезненные тени на ее лице, ее ироническую улыбку и руки, которые словно бы жили своей жизнью. В финале были нескончаемые аплодисменты, море цветов и восторженные крики, каких не слышал ни один другой театр. Словно рассказчик прустовской эпопеи, столь же безнадежно влюбленный, он навсегда сохранит память об этом голосе, полном обнаженного страдания, о хрупком теле, несущем на себе всю тяжесть трагедии, о муках любви. Для него образ Дузе всегда будет связан с образом матери, которая тоже была «одна» и тоже страдала.
Тосканини, Дузе и огни рампы стали его маяками в море смятения и «неопределенности». Семья из убежища превратилась в источник страданий. Он мечтал о приключениях, о свободе и трижды убегал из дома. В 1972-м он скажет: «Я всегда был неисправимым бунтарем, хотя мои политические взгляды формировались медленно. В первый раз я порвал постромки в шестнадцать. Я сбежал и добрался до самого Рима. Отец нашел меня и сказал: „Раз уж сумел добраться сюда, оставайся. Используй это время, чтобы хоть немного подучиться; осмотри памятники“. И тут же повел меня в церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи, чтобы полюбоваться „Моисеем“ Микеланджело, этим мраморным колоссом со скрижалями Завета» — семью годами раньше Зигмунд Фрейд назвал эту статую образом самой власти и «Отца, вечно судящего и вечно гневающегося».
Столкновение с этой властью не помешало ему сбежать в Рим во второй раз: он воспользовался отсутствием отца в Граццано и уехал, когда ему нужно было усиленно готовиться к экзаменам. На сей раз он берет с собой юную девушку из знаменитой старинной венецианской семьи: Роберта Мазье пользовалась большим успехом в римских салонах и слыла совершенно неприступной красавицей. «Все могло бы сойти ему с рук, — рассказывает нам Уберта, — если бы мой брат не повел Тити в самый шикарный римский ресторан и если бы за соседним столиком не оказался дон Джузеппе собственной персоной. Впрочем, у моего отца было прекрасное чувство юмора, и ситуация показалась ему столь забавной, что он просто расхохотался и не смог отчитать сына». Немного погодя Тити Мазье, которая была намного старше Висконти, пережила куда менее забавный и гораздо более бурный роман с Курцио Малапарте. Они познакомились на празднике, устроенном предводителем фашистской милиции Итало Бальбо. Между Малапарте и братом Роберты состоялась дуэль, она пыталась наложить на себя руки — к счастью, неудачно, после чего переехала в Париж.
Наконец, когда Лукино было восемнадцать, состоялась последняя «мистико-романтическая» эскапада с неожиданным финалом в монастыре Монтекассино. По мнению его друга Джорджо Проспери, «этот момент крайне важен для понимания характера и будущего развития Висконти. Он был беспокойным, впечатлительным, сентиментальным, но в то же время он был очень серьезен, глубоко задумывался о ключевых вопросах жизни и был полон решимости осилить всякую дорогу, которую он выбирал: в его жизни, наверное, были и неудачи, но он никогда ничего не делал наполовину».
Глава 7 МИЛАН — МЮНХЕН — ПАРИЖ
Чего ей было желать? Все у нее было: богатство, знатность, происхождение, ум, красота — всем этим, как уверяли ее окружавшие и как она знала сама, ее щедро наделила воля случая.
Стендаль, «Красное и черное»[15]В 1925 году Лукино Висконти, которому едва исполнилось девятнадцать лет, в силу своего высокого рождения и незаурядного характера уже представлял собой замечательную личность: у него был живой и нетерпеливый ум; он был красив так, что, по словам Валли Тосканини, при взгляде на него «кусок хлеба падал из рук»; он был недоверчив и горд, но это сочеталось с деликатностью и великодушными порывами. Он был изысканным жителем города, но обладал железной волей, был отчаянно храбр и часто демонстрировал свою физическую выносливость.
В прежние, великие времена столь утонченное воспитание и природная пылкость вознесли бы этот «благородный дух» к всемирной славе. Но нынешняя эпоха была мелковата; в народившейся новой культуре все лавры и титулы уже были розданы хамам, не знающим, что такое элегантность и что такое душа, марширующим в черных рубашках, зевающим и даже спящим на операх Вагнера.
Двор тщедушного и осторожного короля — по сути, лишь жалкая карикатура на прежний монархический блеск. Виктор-Эммануил каждое утро является в Квиринальский дворец, чтобы утвердить решения дуче, а не для того, чтобы править. «Я слеп и глух. Мои глаза и уши — это Палата и Сенат», — скажет он во время расследования дела Маттеотти. Каждое утро, проверив, соблюдается ли в его кабинете нужный температурный режим (ровно 19 °C), он, подобно заурядному клерку, принимается за чтение почты; во время аудиенций, он сидит на краешке обитого красным дамастом дивана, стараясь доставать ногами до пола: стоит ему по рассеянности откинуться на спинку, и они повисают в воздухе…
Обязанности монарха Виктор-Эммануил всегда исполнял как бюрократ. Существа исключительные ему были не по душе — но его заслугой можно считать уже то, что он отказался от напыщенности в те времена, когда она проникла всюду. «На что годны герои? — спрашивал он. — Кур красть?» У него нет страстей, кроме рыбной ловли и нумизматики, придворный официоз он сократил до минимума. Квиринал теперь — только помпезная декорация, всего лишь пустые ряды приемных залов, в которых можно встретить лишь лакеев в красных ливреях, адъютантов и дворян, словно прибывших сюда из другой эпохи. В новые времена во дворце лишь изредка устраивают настоящие торжества: один из таких балов был дан в январе 1930 года, когда близкий друг Лукино, принц Умберто, женился на Мари-Жозе Бельгийской, своей кузине из семьи баварских Виттельсбахов. В то же время торопливые приемы в честь дипломатов или иностранных гостей, наносящих визиты в Рим, проходят без всякой помпы. Однажды Стараче отваживается явиться во дворец в черной рубашке, сперва его посчитали революционером, но вскоре черный цвет входит в моду и при дворе. Легко представить себе, как был возмущен герцог Джузеппе Висконти!
Как проявить себя юному и пылкому аристократу в обществе, где аристократические ценности больше не в ходу, где фашистский гимн «Джовинецца» вытесняет «Королевский марш», а эмблема fascio (снопа) почти заслонила савойский крест?[16] Этот вопрос был бы еще мучительней, если бы не огромное состояние его матери, но в семье Висконти всегда считали, что дети не должны представлять свое будущее приятной праздностью. Родители решают бороться со школьными неудачами сына, они хотят вернуть ему чувство реальности и для этого привлекают его к работе в семейном предприятии. Ничего хорошего из этого не вышло.
«Нужно честно признаться, что я не воспринимал этого всерьез. Я поднял волнение в среде работников, устроил такой тарарам, что меня почти сразу выставили вон… Но я не переживал. К тому же я пользовался огромным успехом у женщин!» Природное обаяние Висконти притягивало к нему толпы поклонниц. Как бы ни опровергал это сам Лукино, все остальные свидетельства ясно говорят, что, даже будучи гомосексуалистом, он оставался величайшим дамским угодником (то же можно сказать и о его отце, и о пьемонтском принце Умберто — приятеле Лукино, а также о Сен-Лу и о бароне де Шарлюсе). «В молодости я был недурен собой, — скажет он, — восторги женщин поражали меня и очень мне льстили. Признаюсь: мне по-прежнему нравится смотреть на красивых женщин». В его военном билете записано: «Волосы каштановые, гладкие, лицо бледное, с правильными чертами, греческий нос». Дополняла этот образ красивая военная форма и тонкие усики — то был красавец-курсант, при виде которого учащенно бились сердца многих женщин.
22 февраля 1926 года он досрочно, не дожидаясь призыва, зачисляется в кадеты. Так и не получив никакого диплома, он не может сразу получить офицерский чин и с апреля по декабрь учится в унтер-офицерской школе, чтобы в 1927 году поступить в весьма аристократическое училище в Пинероло, что в нескольких километрах к югу от Турина. Призрак Пруста преследует его даже здесь: как и Донсьер из «Под сенью девушек в цвету», Пинероло был «одним из тех маленьких дворянских и военных местечек, окруженных сельским пейзажем, где в погожие дни далеко в воздухе так часто появляется звонкий, прерывистый парок — это полк, идущий на маневры, и сам воздух улиц, проспектов и площадей в конце концов пропитался непрестанной музыкальной и воинственной дрожью, так что самому грубому шуму от повозок или трамваев отвечает едва слышный зов военного рожка…» Этому новоявленному Сен-Лу лишь двадцать один, а он уже произведен в чин старшего капрала в кавалерийском савойском полку, эмблема которого — савойская корона и геральдическая фигура крылатого Пегаса.
Тяготы военной жизни сразу приходятся по сердцу этому бунтарю: маневры в сельской глуши, дисциплина, каждодневное общение в мужском кругу и офицерский долг завораживают его и заставляют вновь вспомнить тот строгий распорядок, к которому его крепко приучали в детстве. Став сержантом, а потом и старшим сержантом, он устанавливает для солдат своей части строжайшую дисциплину. При этом сам он не отказывается от удовольствий мирной жизни: именно тогда у него начинается роман с княжной Джераче ее «Роллс-Ройс» часто видят припаркованным у «Отель де Франс», где обычно останавливается Лукино. Но если двухлетнее пребывание в Пинероло и отмечено пробуждением страсти, то это страсть не к женщинам, а к лошадям. «В Пинероло я дал полную волю своей любви к лошадям и истово обучался военному делу… В казарме я проявил властолюбие, и солдаты боялись меня. Я любил военный быт и целыми днями сидел в седле. Это было не обязанностью, а развлечением».
Вернувшись в 1928 году в Милан, он лихорадочно берется за разные проекты, ни один из которых не будет завершен. Вместе со своим товарищем Ливио делл’ Анна он берется за сочинение пьесы «Игра истины» — эта зарисовка на тему светских нравов так и останется лежать в ящике письменного стола. Следуя по стопам отца, он все с тем же Ливио и Коррадо Корради окунается в предприятие по обивке мебели, CLV, которое быстро приходит к банкротству. Ради удовольствия и пока что лишь как любитель, он участвует в постановке пьесы Гольдони «Разумная жена» — для нее он предлагает несколько сценических решений. Герцог Джузеппе, финансирующий спектакль, впервые выводит на сцену Андреину Паньяни, блистательную молодую актрису, которую он недавно открыл. Она потрясена той скрупулезностью, с какой Лукино выбирает мебель и сценический интерьер: «Когда я познакомилась с ним, его отец набирал труппу; он предпочитал иметь дело с юными актрисами и остановил свой выбор на мне… Лукино страстно любил театр и работал бесплатно. Доходило до того, что он выносил на сцену мебель и столы из своей комнаты. У него была почти маниакальная страсть к точности, и если он вспоминал о каком-то конкретном предмете, комоде или вазе, то успокаивался, лишь разыскав его».
В то время Джузеппе Висконти делит свое время между жизнью при дворе, в Риме, в Граццано или в Милане — и только в Милане он живет театром. Во дворце на виа Черва он продолжает принимать гостей, устраивает праздники и ставит в своем маленьком частном театре ревю куда более фривольные, чем прежде. Он чувствует: из сыновей ему ближе всех Лукино, он талантливей отца во всех искусствах — в рисунке, письме, сценической постановке, в музыке… Следует разочарование — в один прекрасный день сын заявляет, что, как и брат Луиджи, хочет посвятить себя лошадям и намеревается завести конюшню, ипподром и заняться коневодством! Отговаривать его бесполезно: в мире нет человека упрямей. Если Лукино вбил себе что-то в голову, так и поступит, причем сделает все превосходно. Графу остается надеяться, что очередное грандиозное начинание проживет не дольше других прихотей. В 1929 году Лукино покупает своего первого чистокровного жеребца по кличке «Осетр», сам принимает участие в скачках в Сен-Морице и, против всех ожиданий, выигрывает. Приз он, правда, так и не получил: у него не было официального статуса gentleman rider.
В то время Лукино почти ничего не знает о приемах тренировки и разведения лошадей. Он нанимает жокея для участия в скачках с препятствиями, флорентийца по имени Убальдо Пандольфи. «Лукино, — рассказывает его брат Луиджи, — являл собой полную противоположность людям вроде Ага Хана — те приезжали навестить своих лошадей лишь в 11 утра, на „Роллс-Ройсе“, и непременно носили шубу из опоссума». Висконти поселился на виа Доменикино, в квартире рядом с ипподромом Сан-Сиро, и много месяцев дважды в день, ранним утром и после обеда ходил в ближайшие конюшни, где наблюдал за работой своего тренера. Он не задавал ни единого вопроса — только внимательно ловил каждое движение, стараясь его повторить, и вскоре вполне мог заменить его. «Сначала, — говорит Пандольфи, — главным на конюшне был я, потом он стал единоличным властителем».
В течение трех лет Пандольфи будет несколько раз приезжать в Черноббио, где продолжит заниматься лошадьми Лукино и Луиджи; он увидит донну Карлу, всю в белом и черном, «высокую и величественную», и Мадину, молодую жену Луиджи, которая не только прекрасно ездила верхом, но и могла брать барьеры на лошади; он станет свидетелем прогулок семьи Висконти на озеро: «То была живописная процессия, они были невероятно элегантны».
Лето 1929 года будет последним безмятежным летом Лукино. «Он был нашим большим Мольном»,[17] — вспоминает Уберта неожиданные приезды старшего брата в Черноббио, игры и приключения, которые он устраивал для маленьких девочек и их друзей. Было тут и лазанье по деревьям, и беготня по крышам. В свой черед, Мадина Арривабене вспоминает чудесную атмосферу виллы и нескончаемые разговоры между молодым герцогом и священником из Черноббио: «Я снова вижу нас всех, рассевшихся на огромных диванах, обтянутых желтой парчой… Уберта и Лукино на коврах, со своими собаками; Лукино говорит о Боге, физике и о солнечной энергии, старый священник время от времени ему возражает…»
Из Черноббио всей семьей они выезжали в Форте деи Марми, морской курорт неподалеку от Виареджио, который вдохновлял многих художников — швейцарца Бёклина, итальянцев Карра и Соффичи. В этом городе вспыхнул роман между д’Аннунцио и Дузе. «Эти путешествия были очаровательны, — рассказывает Уберта. — Фильмы моего брата никогда не бывали в прямом смысле слова автобиографичными, однако там есть детали, воскрешающие в памяти атмосферу прошлого: например, когда мы ехали в Форте-деи-Марми, где мама снимала виллу, мы всегда останавливались в горах Чизы, вынимали термосы, плетеные ивовые корзины с припасами и расстилали скатерти прямо на траве, точь-в-точь как в „Леопарде“. Это были невероятно беспокойные путешествия, поскольку мы везли с собой еще и кучу домашних животных — они могли и заболеть, а кошки от нас сбегали… Именно в Форте-деи-Марми мои братья Луиджи и Эдуардо впервые встретили Мадину и Ники Арривабене, бесподобных красавиц, происходивших из старинной мантуанской семьи. А потом они на них женились».
Потомки герцогов Миланских обожали скорость — у них были и автомобили, и моторные лодки, и беговые лошади. Осенью 1929 года Лукино покупает кабриолет Lancia Spyder. Во время уик-энда в Граццано ему взбрело в голову испытать новую машину на автодроме в Монце. Он просит поехать с ним Мачерати, шофера из замка, давно состоящего на службе у семьи. «Не могу, — отвечает тот, — у меня болен сын, я не хочу его оставлять».
Молодой герцог, возмущенный этим неповиновением, сухо приказывает шоферу быть готовым через четверть часа — машину поведет сам Висконти. Дорога скользкая, из-за тумана ничего не видно; внезапно из-за поворота выскакивает повозка. В ту секунду, когда Лукино выворачивает руль для обгона, Мачерати привстает и оборачивается посмотреть, нет ли сзади машин. Сорвавшееся с повозки бревно ударяет Мачерати и смертельно ранит его — но умирает он не сразу, а после долгих мучений.
Висконти потрясен. Он считает себя виновным в смерти слуги и до самой смерти будет выплачивать пенсию семье погибшего. После этой трагедии, случившейся 20 сентября, он решает уехать из Италии. Он хочет уехать как можно дальше и разделяет с братом Гвидо его затворничество в далеком Триполи: тот живет один, после того как распался его неудачный брак с Лючаной делла Роббиа. Но вскоре он уходит и от Гвидо и в сопровождении двух проводников-туарегов отправляется в горы Тассили, в глубь Восточной Сахары… Безмолвие, камни. Бескрайнее чистое небо. Он не ищет ни отпущения грехов, ни утешения и не желает отвлечься: он хочет полного одиночества, испить его до дна и даже уничтожить все то, чем он когда-то был. И нет такого наказания, которое он счел бы соразмерным своему проступку.
После возвращения в Италию Лукино фактически запирается в роскошных конюшнях, которые он построил в Тренно: теперь его общество будет состоять только из лошадей (их около тридцати) и конюших. В это заколдованное королевство допускаются лишь редкие посетители — родители и самые близкие друзья, в том числе принц Умберто.
Архитектор Пьетро Некки выполнил все указания Висконти до мельчайших деталей. Жилой дом был покрыт зеленой черепицей, а в конюшнях на каждом стойле висела табличка с именем конюха, отвечающего именно за эту лошадь; для жокеев, тренеров, уборщиков были оборудованы особые комнаты. Конюшня в Тренно, которую еще и сегодня вспоминают как образцовую, уподобляется аббатству, где отправляется языческий, земной культ. Это было волшебное королевство кентавров и гномов, где воздух наполнен щелканьем хлыста и стуком копыт, храпом и ржанием лошадей… И в то же время это была полная противоположность романтическому замку в Граццано, той мечте, которую лелеял герцог Джузеппе: здесь не было ни благословляющих ангелочков, ни сладких ароматов, источаемых, как говорят туристические путеводители, «глициниями, красной и розовой геранью, свисающими с балконов гвоздиками», ни бесчисленных «кустов жасмина и роз, превращающих Граццано в цветок и песнь гармонической поэзии», а есть запах седел, пота, конской мочи и навоза, всюду — этот крепкий дух сильных и упрямых животных.
«Это походило на заточение в монастыре, — скажет Висконти, мой день начинался в четыре часа утра. Я осматривал всех лошадей, одну за другой и ложился спать в восемь вечера. В то время я забросил все, даже театр». Но при этом, по словам его племянника Лукино Гастеля, Висконти больше бегов любил выездку и тренировку своих лошадей, и манеж в Тренно был для него чем-то вроде загона или театральных кулис. Здесь строго соблюдался режим, перед каждым забегом, словно перед спектаклем, происходили своеобразные репетиции, и все это было кропотливой подготовкой к публичному соревнованию на Гран-При. По словам Мишеля Лейриса, тоже с детства нешуточно пристрастившегося к скачкам, они представляли собой настоящее «ритуальное шествие»: здесь были «жокеи в разноцветных куртках на лощеных лошадях», вывешивались флажки конюшен, лошади выстраивались в ряд, «сперва по-петушиному топчась на месте, затем потягивались, словно лебеди, и наконец внезапно пускались в резвый галоп, и раздавался оглушительный топот копыт…» Это был театр, но театр подлинный, «ибо здесь, — продолжает Лейрис, — нет ничего фальшивого: вне зависимости от того, какова режиссура, это спортивное зрелище, и его развязку нельзя предсказать. Это настоящее действие, а не хитрая игра, все перипетии которой предуготовлены заранее». Тщательные приготовления, волнение, которое удесятеряют многочисленные трудности, и молниеносный прорыв к провалу или триумфу — таким годы спустя станет для Висконти и «опасная истина» театра. Его театра.
Чем бы ни занимался Висконти, для него был всегда очень важен элемент пари, риска, вызова, который он бросал невозможному. На осенних торгах 1931 года он за смехотворную сумму покупает у самого знаменитого коневода тех лет Федерико Тезио гнедого жеребца по кличке Санцио, которого считают ни на что не годным. За несколько месяцев он приводит его в форму и под своими цветами — зеленым и белым — выводит на скачки миланского Гран-При. Небо затянуто тучами, условия самые неблагоприятные. «Граф, — вспоминает Пандольфи, — то и дело повторял: „Если не пойдет дождь, все будет хорошо!.. Только бы не пошел дождь…“ К вечеру, через секунду после того, как Санцио пересек линию финиша, небо словно разлетелось в клочья, и ливень превратил беговые дорожки в грязные ручьи…»
Санцио, «настоящее детище графа Лукино», победил! Это произошло к вящему изумлению Тезио, который теперь смотрел с тоской на вырученные за него злосчастные 1500 лир. Жеребцу-талисману Висконти суждены будут и другие победы — в том же 1932 году он получил Гран-При на бегах в Остенде, и Лукино, пьяный от счастья, закатил незабываемую вечеринку для конюших и угощал всех шампанским.
Впоследствии он будет часто повторять, что научился работать с актерами, тренируя скаковых лошадей. Заставить актеров играть — значит покорить своей воле, вынудить сделать так, как он захочет, «создать» их или «пересоздать». Работая с лошадьми и собаками, он страстно захотел контролировать процессы зачатия и рождения. Он кропотливо изучал родословные, чтобы благодаря тщательному скрещиванию получить кровь, как говаривал его конюший, «чистейшую из чистых, превосходно высчитанную».
«Все Висконти, — замечает Фабрицио Клеричи, — по-особенному относились к животным». Каждый член этой семьи состоял в такой связи, которую можно назвать в одно и то же время и любовной, и тиранической. В большой гостиной римского дома Уберты Висконти можно было увидеть множество семейных портретов — темные деревянные панели и старая позолота, казалось бы, ничего неожиданного, — но здесь же по ковру красно-кирпичного цвета, среди множества комнатных растений прогуливались собаки, которые глядели на вас кротко, почти по-человечьи, а кошки то потягивались на фоне больших окон, через которые льется свет, то сворачивались в клубок на рояле, то блуждали меж громадных букетов ароматных цветов и карабкались на колени к Уберте, а та гнала их прочь, жестом нетерпеливым и в то же время рассеянным. Уберта говорит: «Животные жили у нас всегда. Кого у нас только не было! Я боялась только ос, они вечно меня жалили… И Лукино был такой же: кроме лошадей, он держал еще львенка и медвежонка — но они выросли, и пришлось отдать их в зоопарк». Во всех домах этой семьи — в Риме, на Искье, в Торе-Сан-Лоренцо — собаки (и притом свирепые) живут вместе с котами, запертыми на одном из этажей или даже в одной-единственной комнате.
Каждое из этих животных-талисманов получает имя в соответствии с произведением, над которым работает Висконти: огромную пиренейскую овчарку, купленную им в 1974 году, он нарекает Конрадом — так звали и героя «Семейного портрета в интерьере». В те же годы рыжая кошка получает кличку Манон, а ее сына называют Леско: маэстро ставит в театре одноименную оперу Пуччини. «В день, когда умер Лукино, — продолжает Уберта, — у нас родились щенята. Весь остальной выводок мать задавила, и нам удалось спасти только одну сучку, — мы назвали ее Тереза Раффо, в память о фильме „Невинный“».
Семейный дом Висконти — это отнюдь не мавзолей, не храм воспоминаний: в этих стенах и слышать не хотят о смерти, здесь придумали против нее заклятье. Прошлое здесь пылает только в тайных глубинах сердец, и в этом доме торжествует жизнь, веселая и буйная, — а начинается она с того, что всюду присутствует живая природа. В квартире на виа Флеминг, словно в огромной гондоле, окруженной пиниями и висящей в небе над Римом, Электра-Уберта не скрывает своей скорби.
«Когда он умер, моя жизнь остановилась», — говорит она, и в этот момент ее миндалевидные глаза вдруг наполняются слезами. Но ее голос, дрогнувший лишь на миг, упрямо воскрешает картины былого. Вот ее родители, они еще так молоды и красивы, что кажутся ей неуязвимыми: «Я не знаю, сколько лет им было, когда они умерли. Для меня они были людьми без возраста». Вот праздники: Рождество в Милане, потом в Риме, у ее брата, с елкой, которая сгибалась под тяжестью висевших на ней подарков. Праздник в честь матери, 18 августа, который очень удался, — она, посмеиваясь, вспоминает фарфоровый сервиз, подаренный ей Гвидо, которого так часто не бывало в городе, что ей в конце концов принесли и счет за него. Она помнит и восхищение Лукино при рождении племянника, которого он на венецианский манер называл puttin, от слова «putto» — малыш; образ детства для нее навсегда связан с памятью о театре, о спектаклях марионеток, которые Лукино неделями готовил для «малышек»: «Он срывал платья с кукол, мебель из кукольного домика моей сестры, он рвал, раздирал, хватал все, что могло пригодиться для спектакля, который в конце концов оставался лишь замыслом. Моя сестра приходила от этого в отчаяние, я — нет, потому что играть с моей мартышкой-уистити мне казалось намного забавней, чем все время возиться с куклами».
Быть может, эти два года добровольного затворничества в конюшне Тренно были не только покаянием, не только очисткой совести, но в равной мере и способом продлить игры и безмятежные годы детства. Но эти годы не смогли удовлетворить его стремлений, которые были еще неясны, — это отшельничество могло лишь отчасти смягчить духоту и монотонность, воцарившиеся в провинциальной муссолиниевской Италии. «В один прекрасный день, — пишет Висконти, — я понял, что мне недостаточно любви к лошадям; мне нужно было выразить себя как-нибудь иначе, и я в одночасье продал все: и конюшню, и лошадей — и уехал в Париж». Этот «один прекрасный день» растянулся на целые пять лет — пять лет поисков, искушений, беспокойных переездов туда-сюда. Ему «слишком тесно» в промышленном и пуританском Милане 30-х годов, равно как и в Италии, ходящей по струнке перед дуче, который «всегда прав», — и Висконти постоянно путешествует: по Англии, Германии, Франции, Австрии, Италии. Вначале он только посещает скачки и покупает кобыл для своих конюшен, потом появляются и другие поводы для путешествий.
Он находился в Германии, когда подожгли рейхстаг — позже эта сцена станет первой в «Гибели богов»; он посещает парады, те самые марши отборных частей, помпезные нацистские представления, о которых Пьер Дрие Ла Рошель писал: «В смысле художественного чувства я не переживал ничего подобного со времен „Русских балетов“». Уберта запомнила ожесточенный спор между братом и отцом. Это было году в 34-м, Лукино вернулся из Германии и «никак не мог остановиться, взахлеб описывал красоту и мощь этих юнцов, которые маршировали, и в руках все они держали уже и не упомню что — наверное, очень тяжелые штандарты». Висконти, в отличие от своего друга принца Умберто, не сторонился нацистских или фашистских выступлений, его притягивали и демонстрация силы, и тот мужской идеал, который, по словам Дрие, воплощал собою фашизм, образ «мужчины, который верит только в действие, соединяющего в себе лучшие качества атлета и монаха, солдата и борца». По словам фотографа Хорста, который какое-то время был очень близким другом Лукино, в 1936 году «он клялся исключительно Зигфридом — тот был его героем».
Но помимо Германии, «Триумфа воли», немецких соборов, Меркуриев в кожаных сапогах и марша «Хорст Бессель», существовала еще и Франция, и Париж ревущих двадцатых, описанный Скоттом Фицджеральдом и Хэмингуэем как праздник, вихрь, сумасшедшее опьянение наслаждениями, где в ритмах свинга и Lambeth Walk было еще живо обаяние Прекрасной эпохи.
В Берлине и в Мюнхене, которые Лукино очень любил, он оставался гостем, созерцателем, туристом, иностранцем, поскольку немецкий знал плохо, Франция же была близка ему с детства. «Французская культура, — признается он, — сыграла огромную роль в моем формировании, ибо я с детских лет часто бывал во Франции. Немецкую культуру я открыл для себя много позже». Приезжая в Париж, он жил в кварталах Конкорд и Фобур-Сент-Оноре, останавливался в самых элегантных тамошних отелях. Сначала он облюбовал «Вуймон», где обитал убийца Распутина, загадочный князь Юсупов, а писатель Морис Сакс работал в службе портье. Затем Висконти останавливался в отеле «Кастильон», в двух шагах от сада Тюильри, где играл еще ребенком, и чайного салона «Румпельмайер», на стенах которого висели розово-голубые пейзажи итальянской Ривьеры, а в зеркалах время от времени показывался призрак Марселя Пруста.
Позднее он вспоминал, что в те дни «над Парижем еще витал аромат „Утраченного времени“». Пусть даже Одетта де Креси уже много лет не выезжает на прогулку в коляске на весенние аллеи Булонского леса; Дягилева и Бакста уже нет в живых, а Нижинский сошел с ума, но та, кого Пруст называл «юной крестницей всех новых великих», Мися Серт — польская муза импрессионистов и «Русских балетов», подруга Вюйяра, Боннара, Ренуара, Дягилева, Бенуа, Стравинского, Пикассо, все еще царствует.
В свои шестьдесят эта «королева современного барокко», как окрестил ее Поль Моран, продолжает коллекционировать гениев, «сердца и деревья из розового кварца эпохи династии Мин», она все еще «выдумывает чудачества, которые тут же входят в моду — их подхватывают поклонники и декораторы, их обсуждают и журналисты, и пустоголовые светские дамы; она по-прежнему щедро и пылко раздает и советы, и денежную помощь. Однажды вечером 1933 года в большом зале отеля „Континенталь“ она садится за фортепиано и вместе с Марчеллой Мейер исполняет прелюды и мазурки Шопена, после чего Серж Лифарь танцует „Послеполуденный отдых фавна“ Дебюсси — и вдруг оживает Прекрасная эпоха, и битком набитый зал вдыхает полной грудью воздух Утраченного Времени. В этот миг Жану Кокто покажется, что он смотрит не на Мисю Серт, а на прустовскую княгиню Юрбелетьефф с ее „огромной колышащейся эгреткой“, „восседающую в центре царской ложи на „Русских балетах“, — теперь она напитывает своим очарованием декорации и неистовые танцы, а когда-то была душой, блуждающей в залитых солнцем импрессионистских садах…“»
В кругу Миси и ее лучшей подруги Коко Шанель Висконти находит свет и тени хорошо знакомой ему Венеции и «Отеля де Бэн». Именно там в 1912 году Игорь Стравинский наиграл Дягилеву первые такты «Весны священной». В 1920-м, в этом же самом отеле король «Русских балетов» и великая княгиня Мария Павловна, дочь великого князя Павла Романова, пригласили за свой столик семью Серт и Коко Шанель, а в 1929-м здесь же, дрожа от холода в удушливо жаркий июньский день, «чародей» Дягилев в последний раз поднял глаза и увидел два склонившихся над ним силуэта, «таких юных, в белых одеждах, таких удивительно белых»: это были Мися и Габриэль Шанель. Незадолго до этого тут же, на Лидо, Дягилев подарил своему протеже Антону Долину «Смерть в Венеции» Томаса Манна.
«Париж, Лондон и Рим, — вспоминает Серж Лифарь, — были взаимопроникаемы. В Париже меня встречало то же общество, что я находил в Лондоне, Риме и Венеции». Танцовщик познакомился с сестрами Мадиной и Ники Арривабене-Висконти на берегу лагуны, потом встретился с ними в Париже и был представлен их шурину Лукино Висконти. Имя, богатство и изящество открыли перед Мадиной и Ники двери самых модных парижских салонов.
Как и во времена барона де Шарлюса, в свете по-прежнему задают тон «несколько имеющих вес семей». Теперь это не Греффюли, Монтескью и Кастелланы, а Бомоны, Полиньяки и де Ноайи. По выражению Сержа Лифаря, в этих домах «указами суверенов решается — что признавать элегантным, а что нет». Женщины в этих домах выбирают цвета, запахи и платья, которые придуманы двумя великими соперницами мира парижской моды. Первая из них итальянка Эльза Скьяпарелли, по прозвищу Скьяп, жрица Ангела причуд и скандалов, с ее излюбленным «шокирующим розовым цветом», шляпками в форме ботинка или курицы, вполне в духе Сальвадора Дали, длинными черными перчатками с золочеными ноготками, парчовыми и расшитыми пайетками курточками. Вторая — француженка Коко Шанель, с ее классической, почти янсенистской строгостью, которую кутюрье Поль Пуаре обвинял в изобретении «роскошного нищенства» и в том, что она превратила «женщин былых времен, столь же архитектурных, как деревянные статуи на носу корабля, в недокормленных телеграфисточек». «Именно эти поистине женственные женщины, — писал Кокто, — принесли в храм дух беспорядка, дух платьев и ножниц». Это они одевали многочисленные балы-маскарады, веселые пышные вечеринки общества, в котором у всех на уме были костюмы в духе «Тысячи и одной ночи» или последней ночи в Шёнбрунне, а вовсе не такие немодные сюжеты, как дело Стависки, февральские волнения 1934 года или растущее влияние Народного фронта.
Лукино Висконти не был светским завсегдатаем. Он старательно бойкотировал некоторые салоны, в том числе салон «парижской консьержки» Мари-Луизы Буске на улице Буассьер: Висконти называл ее «глупой старой коровой» и сторонился ее, как чумы. Но в Париже он вновь открыл для себя атмосферу утонченной фривольности и гедонизма, которая навсегда покинула Милан после того, как началась война.
Дополнительное очарование пестрым и космополитичным салонам Парижа придавали живописные персонажи, среди которых было немало гениев — но они были не чванливы. Здесь был и Сальвадор Дали, который будет позже вспоминать восхитительные частные концерты у Мари-Бланш де Полиньяк, дочери Жанны Ланвен, и «струнные квартеты, исполненные при свечах, перед полотнами Ренуара». Здесь озорничал декоратор Кристиан Берар по прозвищу Малыш Тяв-Тяв — любимец всего Парижа, бородатый охальник и придворный шут Марии-Лор де Ноай, главной светской львицы. Она приглашала гостей, руководствуясь точно выверенным рецептом, которым пользовались и все остальные: «немного аристократов и несколько высочеств», толпа болтливых художников плюс экзотическая приправа. В роли последней сначала выступали русские эмигранты, а с 1933 года — и беженцы из Германии, в том числе композитор Курт Вайль. Герцог Фулько делла Вердура, теперь обедневший и зарабатывавший тем, что рисовал эскизы браслетов для Шанель, в своем прославленном салоне на площади Соединенных Штатов привечает великих герцогинь и княгинь из России, унесенных с родины ураганом революции и пошедших работать в модные дома манекенщицами или управляющими студий.
Хозяйкой одного из этих салонов и была Мари-Лор де Ноай — «Красная виконтесса», которая во время майских волнений 1968 года приносила завтраки студентам Сорбонны, бросая при встрече: «Привет, детишки!». Роже Пейрефит писал о ней, что «она была сама вульгарность, но в то же время очень умна и восхитительно сходила с ума». Мари-Лор была замужем за Шарлем де Ноай, который, по ее словам, «был куда богаче меня», и приходилась внучкой Лоре де Шевинье, ставшей прообразом герцогини Германтской. Кокто, с его неудержимой склонностью к злословию, замечал, что Пруст, создавая портрет своей обворожительной героини с пшеничными волосами и васильковыми глазами, «убрал сквернословие, дешевые крепкие сигареты, пожелтевшие зубы и крючковатый, как у попугаихи, нос» оригинала. Она была дочерью богатейшего банкира Бишоффсгейма, чье состояние с радостью унаследовала, отрицая при этом, что в ее жилах течет еврейская кровь. Она объясняла, что ее бабушка, мадам Бишоффсгейм, была темпераментной испанкой и наверняка родила ребенка от кого-нибудь другого. Одновременно она гордилась тем, что в ее роду был и маркиз де Сад.
Во время лекции о фашизме, которую читал ультраправый деятель Анри Массис, эта скандальная дама даже подралась с известной массисткой, достопочтенной госпожой Арбелло де Вакёр. Не делала она секрета и из своей любовной жизни — то заводила романы с аристократами Алексисом де Реде и князем де Бово, то с дирижером Игорем Маркевичем или скульптором Оскаром Домингесом. Ни для кого не было секретом, что любит она и женщин. Об этом не знал разве что ее муж Шарль, чрезвычайно терпимый — в молодые годы его даже исключили из коллежа за «предосудительные дружеские связи».
Эта супружеская пара, вероятно, прекрасно ладила: они жили каждый в своем крыле роскошного особняка, а вокруг них вились полчища безумных художников. У них была общая страсть к меценатству, они приобретали картины Пикассо, Дали и Берара и вешали их на стены рядом с фамильными портретами и полотнами Гойи. Они предложили Жану Кокто баснословную сумму — больше миллиона, чтобы он поставил «Кровь поэта», и снялись в массовке: они сидят в театральной ложе, с друзьями, и весело смеются в тот самый момент, когда мальчик падает, насмерть раненный снежком; эта сцена фильма вызвала неоднозначную реакцию.
Настоящий скандал разразился несколько месяцев спустя, когда на показ «Золотого века» Дали и Бунюэля ворвались члены Патриотической лиги, Антиеврейской лиги и роялистской организации «Королевские молодчики» (Camelots du Roi) — они остановили сеанс и разгромили кинотеатр «Студия 28». Дух профанации и кощунства, дерзко провозглашавшийся в фильме, профинансированном Шарлем де Ноай, стоил ему исключения из Жокей-клуба, где чтили католицизм, и угрозы отлучения от церкви от архиепископа Парижа.
Бал в это время правил вечный enfant terrible, умница Жан Кокто: он воспевал гений Пруста, хриплый голос Марлен Дитрих, красоту цирка и русских балетов, огненно-рыжую шевелюру Марианны Освальд и грацию боксера Эла Брауна. Вслед за ним все увлеклись театром и кинематографом — нередко компания мужчин в смокингах и женщин в вечерних платьях, покинув шикарную вечеринку или изысканный ужин, останавливалась у входа в один из маленьких кинотеатров на улице Вашингтон, в двух шагах от Елисейских Полей, где крутили «Голубого ангела» или «Камиллу» Кинга Видора.
Все мечтали работать в кино, в том числе Ники Висконти и ее подруга, русская княжна Натали Палей, подруга Кокто, которая вскоре дебютировала в «Ястребе» в постановке своего шурина Марселя Л’Эрбье. «Мы ходили в кино почти каждый день, — рассказывала княжна. — Это было что-то вроде соревнования; мы спрашивали, например, так: „Сколько раз вы смотрели „Шанхайский экспресс“?“ Потом мы начали представлять отчет Жану (Кокто). Его квартира на улице Виньон была чем-то вроде святилища — там был слуга-китаец и поднос с опиумом и трубками. Многие из нас курили вместе с Кокто. Иногда там бывали вещи и посильнее опиума — кажется, это был кокаин? Впрочем, Жан ни разу не позволил мне попробовать: уверена, мне бы понравилось…»
Между этими людьми, полжизни проводившими в воображаемом мире, плелись на редкость запутанные любовные связи. В 1935 году Лукино Висконти дал пищу для пересудов миланским газетам, увезя с собой в город «Содома и Гоморры» совсем юного мальчика Умберто Мональди (за ним поспешно отправился его воспитатель). В то же время он был ничуть не меньше влюблен не только в свою невестку Ники, но и в Натали Палей, за которой также волочились Жан Кокто, Серж Лифарь и Мари-Лор де Ноай.
Так кем же была эта тридцатилетняя Натали Палей, с которой сестры Арривабене познакомились в Венеции? Ее обаяние заключалось как в изысканности черт фарфорового личика — тонкий нос, высокие скулы, пепельно-серые глаза, так и в резких сменах настроения — глубокая меланхолия мгновенно сменялась у нее сумасшедшим хохотом. Кроме того, и биография ее была весьма необычной. Она была дочерью Ольги Карнович, графини фон Хоэнфельзен и морганатической супруги великого князя Павла — это ее герцогиня Германтская у Пруста язвительно называет «великая княгиня Павел». В 1911 году в возрасте восьми лет Натали уезжает из Франции, чтобы вернуться с братом Владимиром и сестрой Ириной в родительское поместье в Царском Селе — царь Николай II отменил указ об изгнании их матери. Здесь они остаются до революции: в 1917 году всю семью арестовывают. В июле 1918-го, через два дня после убийства царя и его семьи в Екатеринбурге, брата Натали сбрасывают в шахту одновременно с сестрой царицы, великой княгиней Сергией. Полгода спустя великий князь Павел был расстрелян, несмотря на свои либеральные взгляды.
Не сумев спасти мужа, мать Натали уехала к дочерям в Финляндию, откуда они перебрались во Францию и, подобно множеству других эмигрантов, жили стесненно, бывая как в высшем парижском свете, так и в другом обществе. По словам Сержа Лифаря, это общество «имело свои храмы, свои газеты, свои книги, свои театры, свои университеты, коллежи и консерватории, свои оперные сцены и кабаре и представляло собой настоящее государство в государстве, дотируемое всеми возможными способами. Это общество объединяло столь разные умы, как лауреат Нобелевской премии Иван Бунин, Рахманинов, великие князья Романовы, знаменитый Юсупов, Толстые, Иван Мозжухин, Питоевы, Шаляпин…» Ирина Палей осталась верна корням, выйдя замуж за своего кузена, князя Федора. Ее сестра Натали в 1927 году выходит замуж за кутюрье Люсьена Лелонга.
В то же время Натали отстаивает свою независимость. Когда Висконти познакомился с Натали, ее «идиллия» с Кокто только-только закончилась. Серж Лифарь заявляет, что все еще безумно влюблен в нее: «У нас с Натали, — скажет он потом, — был сложный, бурный и совсем не счастливый роман». Они приходят вместе на просмотр «Крови поэта», где ее впервые увидел Жан Кокто.
Связь княжны и поэта продолжалась достаточно долго, и он даже распускал слухи, будто она беременна от него. В своем дневнике он возлагает на Мари-Лор де Ноай ответственность за то, что его сын — а это непременно должен был быть сын — так и не появился на свет: «Мари-Лор де Ноай узнала от Берара, что я жил с Натали Палей Лелонг — в этот самый момент Берар писал портрет Мари-Лор. Позже он объяснил, что рассказал это ей, чтобы ее лицо оживилось. В этом оживлении Берар преуспел: она переломала у него в доме все, что могла… потом пришла и переломала все еще и у меня, в доме на улице Виньон. После этого Мари-Лор объявила, что станет подругой Натали и разлучит нас, „как Медуза“, — так оно и вышло». Именно ее он вывел под именем виконтессы Медузы рядом с принцессой Фафнер (Натали Палей) в романе «Конец Потомака» в 1940 году. В изложении главной героини история выглядит совсем иначе, а любовная связь — грубее и грязнее: «Я страстно влюбилась в ум и обаяние Жана, но его влечение было чисто физического свойства. Он хотел иметь сына, но обращался со мной, как неисправимый и обкурившийся опиумом гомосексуалист. Все это выглядело недостойно и стыдно. Никакой любви между нами не было. Я не вдохновляла его на творчество и никак не влияла на его работу: все знают, что это был наименее плодотворный период его жизни. Ходило много сплетен, и мой муж потребовал развода. В конце концов я уехала в Швейцарию, чтобы обо всем поразмыслить, — Жан вечно пропадал в компании Жана Дебора, и я видела, что он увлекся молодым алжирцем. Он говорил, что хочет жениться на мне, но я в это не верила». Биограф Кокто Фрэнсис Стигмюллер уточняет, что на прикроватном столике Кокто всегда стояла фотография Натали, а за нее была заложена еще одна, с которой смотрел «юноша с гибким станом и так хорошо сложенный, что с ним хотелось совершить то, что врачи именуют ужасным словом fellatio. Второй снимок защищал Кокто от опасных флюидов, исходивших от первого».
Ничем не стесненная свобода, царившая в этой среде и порождавшая столько страстей и драм, была заразительна. Мадина Арривабене вспоминала, как однажды на вечеринке она вдруг заметила среди гостей, облаченных в смокинги, одиноко сидевшего в углу человека. «Это было какое-то чудовище в немыслимом голубом костюме в полоску… И при этом на нем был красный галстук! Мне стало жаль его, я подошла и уселась рядом. „Я Джакометти, — сказал он, скульптор, живу на Монмартре“, Он предложил мне, чтобы я позировала ему для скульптуры. В то время шурин Натали князь Федор настойчиво за мной ухаживал; чтобы сделать ему больно, я попросила его отвезти меня к Джакометти, жившему в ужасном месте. Пока я позировала, Федор — а он был безумно красив — сидел и дожидался меня в авто».
Но для Висконти еще заразительнее была та атмосфера постоянной изобретательности и творчества, которой он дышал в Париже: «Сегодня я вспоминаю те годы, — скажет он, — как самые потрясающие по смелости, красочности, богемному духу и творческой силе…»
Возвратившись в Милан, он покупает кинокамеру и снимает несколько любительских фильмов на 16-миллиметровой пленке: сюжеты авантюрные и детективные, играют братья, сестры и друзья Лукино. Позже, в 1934-м, он создаст первую в своей жизни съемочную группу, с оператором и ассистентом, и они снимут фильм уже на 35-миллиметровой пленке. Мелодраматичнейший сценарий написал сам Висконти: три женщины встречают шестнадцатилетнего провинциала, приехавшего в миланский ад. Он делает ребенка совсем юной девице, и та умирает при родах. Проститутка увлекает его в мир разврата, а третья из героинь, идеальная красавица, остается воплощением недоступной для героя чистоты. Когда все мечты подростка тонут в трясине суровой реальности, ему остается лишь один выход — самоубийство.
Три женских образа, символически воплощающих невозможность любить, мучительный разрыв между плотскими желаниями и духовным идеалом. Женщине мечты Висконти даровал лицо Ники Арривабене, подгримированное и причесанное в неоклассическом стиле с оглядкой на «Атлантиду» Пабста и «Антигону» Кокто: красота андрогина, белокурые кудри, прическа под греческую пастушку, лицо статуи. Молодой человек, замеченный Висконти во время фашистского шествия, пополнил список артистов.
Что до проститутки, ее, после долгих поисков, нашли на берегу Навильо. Она появлялась перед камерой в своем обычном виде, только волосы ей покрасили в огненно-рыжий цвет. Для этой роли требовалась настоящая шлюха, ведь зловещий элемент мог войти в фильм только извне, из мира, мира соблазнительного настолько же, сколь и опасного, отвратительного, запретного — с улицы, из той жизни, о которой Висконти пока ничего не знал.
Глава 8 СПИСОК ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
Плевать я хотела на знаменитостей.
Коко ШанельСугробы по обочинам дороги, шале и припорошенные снегом ели, табличка с указателем: «Кицбюэль».
Это первые кадры новеллы из фильма «Колдуньи» — «Колдунья, сожженная заживо», — снятой Висконти в 1967 году. В этом скетче впервые в маленькой роли на экране появится молодой, никому еще не известный актер Хельмут Бергер. Здесь, на этом зимнем австрийском спортивном курорте, он жил: у его родителей был там собственный дом.
Совпадение? Тридцать два года назад, зимой 1934/35 года, Висконти встретит здесь единственную женщину, которой ему захочется предложить свою руку и сердце — принцессу Ирму Виндиш-Грец.
Сорок лет спустя после этой «чудесной» и несчастной любви, которая, по словам его родных, оставила неизгладимый след в жизни Висконти, принцесса, пожелав «внести вклад в увековечение памяти» художника, частично приподнимет завесу над одним из самых насыщенных и эмоциональных эпизодов его жизни. Через несколько дней после смерти Лукино она пригласила в свой дом в Оксфорде журналиста Питера Драгдзе.
Стоя у камина с жарко пылающим огнем, она вынимает из шкатулки любовные реликвии: маленький золотой крестик — подарок Лукино, несколько фотографий, письма. И воспоминания ее так живы, «словно все это случилось только вчера…» «Луки было двадцать девять, и он приехал в Кицбюэль со своей семьей, свояченицей Ники и целой бандой итальянцев, горячих и полных жизни. Мы все были хорошо знакомы, тогда общение происходило между довольно замкнутым кругом лиц… Я помню все очень ясно: мы с друзьями пили чай. Луки, который не слишком любил горы, появился последним. Он был невероятно красив, и с ним было ужасно интересно беседовать. Никаких привычных светских сплетен — темами были искусство, музыка, театр, а также предметы, которые интересовали меня. Меня словно молнией ударило. Во время чаепития мы не сводили друг с друга глаз и договорились увидеться тем же вечером».
Родители девушки носили фамилии столь же знаменитые, как и Лукино: ее матерью была принцесса Леонтина Фюрстен-берг, а отец, принц Хуго, был отпрыском одной из древнейших австрийских семей — среди его предков был Альфред цу Виндиш-Грец, который во главе армии Габсбургов подавил восстания в Праге и Вене 1848 года, а затем повел войска на борьбу с венграми и взял Будапешт. Их дочь в двадцать один год обладала тем типом красоты, который всегда будет привлекать Висконти. Позднее он найдет его в Марии Шелл, а потом в Роми Шнайдер, тоже австриячках: белокурые волосы, лучащиеся большие глаза, детская свежесть. Ирма полностью оправдывала свое прозвище — Рире, кукла. В 1962 году Висконти в своей новелле из фильма «Боккаччо-70» даст это прозвище юной немецкой графине, которую сыграла Роми Шнайдер, — она выходит замуж за богатого миланского графа, который ее бросает. Такой же парой могли бы стать Лукино и Ирма, если бы их «большая любовь», как выразилась принцесса, не осталась «неоконченной симфонией».
Он всегда опасался женщин — и так и не научится им доверять. «Знаешь ли ты, — спросит Людвиг II Баварский свою кузину Элизабет, — когда Зигфрид в первый и единственный раз испугался? В тот миг, когда он увидел женщину…»
Женщины, писал Висконти, это «чудесные, пылкие создания. Но из-за недостатка рационального чувства они часто вызывают хаос и смятение».
Смятение от встречи с Ирмой было сильным еще и потому, что с самых юных лет Лукино находится в состоянии любовного соперничества с братьями, и прежде всего это была борьба за право единолично владеть матерью. Потом будет Ванда Тосканини — из-за нее перессорятся все трое братьев, и в конце концов она стала нежнее всего относиться к младшему, Эдуардо.
«Да, именно Эдуардо, — откровенничала Уберта, — и был привязан к Ванде больше всех: стоило моему отцу только произнести ее имя, он заливался краской. Когда он умер, Ванда — в то время она уже была мадам Горовиц — приехала на его похороны из Соединенных Штатов». Потом были Мадина и Ники Арривабене, последнюю он любил тайно от всех: Мадина вышла замуж за Луиджи, а Ники в 1931-м стала женой Эдуардо. Даже любовные истории не выходили за пределы узкого семейного круга: Сузо Чеки д’Амико уточняет, что всех троих мальчиков лишила невинности одна и та же кокотка, Пинуцца, прославившаяся в 1920-е годы тем, что в ее объятьях побывали все юные отпрыски миланской знати.
Ирма была иностранкой, и ее не затронула эта странная борьба между братьями. Она совсем не походила ни на одну из тех женщин, которых Висконти встречал в Милане, Пинероло, Риме или Париже. В Кицбюэле, в совершенно открыточных декорациях, она сияла снежной чистотой. Она говорила на языке, который он всегда любил и которым в семье в совершенстве владела только донна Карла. Каждое утро он приходил под ее окна и сообщал о своем прибытии троекратным свистом. Она надевала пальто, сбегала вниз по лестнице, и они часами гуляли «по свежему снегу, на солнце, которое то появлялось и сияло меж деревьев, то снова заходило, и тогда нас накрывала широкая тень». Он рассказывал ей о себе, своих лошадях, конюшне, «с которой не очень-то получилось», о своих творческих планах. «Его ум и высокая культура поражали уже тогда, мы беседовали, часто меняя темы, переходя от книг к изобразительному искусству, от философии к религии. Он совершенно не походил на других молодых людей из высшего общества, приезжавших сюда. Его интересы были намного глубже. Он затрагивал такие важные проблемы, говорить о которых другим даже в голову бы не пришло. Праздники ему не очень нравились. Для большинства из тех, кого мы принимали, это был скорее человек трудный. В сущности, совсем не светский».
Дни проходили, а он оставался все так же сдержан и неуклюж. Как бы Ирма ни старалась научить его танцевать вальс и польку, он по-прежнему был весьма посредственным ухажером. Эти танцы в маленьком клубе «Голденер Ганс» или в «Праксмере», где танцевали австрийцы, были их единственной возможностью видеться по вечерам — им вечно докучали сопровождающие. Однажды «безупречная тактичность» Висконти дает сбой: «Ближе к вечеру мы возвращались с фуникулера, и Лукино, не сказав ни слова, целых десять минут целовал мне руки и все повторял: „Я люблю тебя“. Через несколько дней он уехал в Милан и Париж, пообещав вернуться как можно скорее», Он подарил ей фотографию с надписью: «От Луки. Китцбюэль, 1935. Так я смогу всегда быть рядом с тобой».
Долгие месяцы они проживут именно так — короткие встречи и долгие разлуки. «Он много путешествовал, но, когда бывал далеко, часто писал мне… Письма были очень изысканные, хотя он вечно забывал поставить дату, или ставил только день недели. Зато были и такие слова, которые он старался выделить. Вот первое письмо, которое он написал мне:
Рире, ту love!
Мне так грустно и одиноко без тебя. Я словно воочию вижу твое дорогое печальное личико, каким оно было при расставании на вокзале в Китцбюэле. Я думаю о тебе, и я рядом с тобой каждый час, каждый миг. Все эти мысли навевают печаль, и мне больно, что я не с тобой… Я чувствую, что люблю тебя и что эта любовь — настоящая, искренняя, подлинная и вечная! Только это и утешает меня. Не печалься, дорогая Куколка, я рядом с тобой, в дождливый день и снежный вечер. Очень скоро вернутся счастливые мгновения, мы будем вместе и счастливы навсегда. Так ли это? Я верю в тебя, и ты должна верить в меня.
Любовь для него может быть окрашена только в цвета абсолюта; но чувственности здесь меньше, чем нежности и сентиментальности. Когда он предается мечтам о будущем, образ удобного, крепкого и надежного Дома главенствует над всем прочим:
Как много я передумал этой ночью! Сколько планов составил на наше с тобой общее будущее! Мой дом здесь… мне кажется слишком маленьким, но для тебя он достаточно красив. Из окна я вижу лошадей, они резвятся на тропинке, и я буду счастлив, если они тебе понравятся… Надеюсь, ты понимаешь мой итальянский — я пишу, не слишком себя утруждая. Но в конце концов, даже если понимаешь не все, всенепременно поймешь, что я люблю тебя, что я тебя понимаю, что я умираю от желания увидеть тебя, что я целую тебя, обнимаю тебя и прижимаю к себе крепко-крепко…»
Уже во второй приезд в Кицбюэль, в феврале 1935 года, он хочет жениться на ней; говорит, что нашел в ней «нечто чистое, нечто такое, чего не знал прежде, такое непохожее на тот мир, в котором он уже начал обживаться». Он поверяет ей свои сомнения, свои планы: «Он еще не решил, что посвятит себя театру и кино, но уже подумывал об этом. Мир зрелищ уже был одним из главных направлений его интересов. Мы часто говорили об этом. Я делала все, чтобы ему помочь. Я говорила: „Почему ты не бросишь лошадей, которые тебе наскучили, и не последуешь своему истинному призванию? Как только вернешься в Париж, осмотрись, какие есть возможности для тебя работать там, где ты хочешь — пусть даже это будет всего лишь должность помощника режиссера“».
Ирма Виндиш-Грец разделяла страсть Висконти к музыке и в целом к искусству. Она тоже хотела выйти за него. Семьи возражали и чинили им препятствия. Но зная характер Висконти и ту «неистовую страстность», какую он, по словам принцессы, вкладывал «во все, чего хотел и что любил», было бы удивительно, если бы эти препоны умерили пыл и убежденность Лукино, писавшего будущей невесте: «Я думаю, что всегда поступаю правильно во всем, что делаю, и чувствую, что могу делать это со всей искренностью».
Сам он возложит вину за провал своих матримониальных планов на буржуазные предрассудки австрийской семьи. Донна Карла, которой он раскрыл свои намерения, проявила мягкость и понимание — как он и ожидал. Труднее окажется убедить отца: он, по его словам, «даже не думал о женитьбе сына. Мысль о том, что я собираюсь вступить в брак, с моим-то характером и душевным складом, повергла его в ужас». Однако решительность Лукино убеждает его: продолжая тревожиться из-за странностей, неустроенности и, быть может, гомосексуальности сына, дон Джузеппе решает написать королеве Елене, чтобы в соответствии с обычаями эпохи навести у нее справки об Ирме. И вскоре Лукино объявляет девушке, что, если она приедет в Милан, его отец будет счастлив принять ее. Но принц Хуго другого мнения — о замужестве не может быть и речи, во всяком случае, не теперь. Он тоже навел справки о будущем зяте: очень красив, образован, обаятелен, но чем же он будет заниматься в жизни? Никакого бракосочетания не будет, пока Лукино не определится с тем, что он будет делать. Семья Виндиш-Грец была очень прагматичной — впоследствии Ирма выйдет замуж за Франца Вейкерсгейма, который представит все необходимые гарантии: он происходил из старейшего австрийского дворянского рода Гогенлоэ и, что совсем не лишнее, был одним из богатейших венских банкиров.
Весь этот период настоящего испытания душевных сил в письмах Висконти звучит тревога при мысли о том, что до родителей Ирмы могут дойти не слишком лестные мнения о нем: «Присланы ли уже из Рима справки обо мне? Они будут очень, очень дурны. Но я привык, что меня не слишком любят…» Когда принц Хуго просит его перенести на долгий срок дату свадьбы, он уязвлен, ранен в самое уязвимое место его чистой любящей души. «Мне хочется умереть», признается он одному из друзей. А Ирма добавляет: «Лукино глубоко оскорбило то, что мой отец не хотел, чтобы мы поженились прямо сейчас. Помимо того, что мы были безумно влюблены, для него это был еще и вопрос гордости. После разговора с моим отцом Луки сказал мне: „Или мы поженимся прямо сейчас, или все кончено. Я не могу ждать. Это просто невыносимо“. Я на коленях умоляла его потерпеть, но у него был сложный характер, его настроение постоянно менялось».
Тон его писем постепенно меняется: исчезают излияния чувств и настойчивые просьбы приехать в Милан, остаются усталость и плохо скрываемая горечь.
Моя дражайшая Рире!
Милан я нашел однообразным и не très gai.[18] У меня много сложностей с делами, и я занят целые дни напролет. Но я хочу привести все в порядок как можно быстрее. […] Когда ты приедешь? Скорей бы уже! Я так мечтаю тебя увидеть. На дворе уже 6 марта! Тебе надо бы уехать из Кицбюэля, он навевает на тебя тоску. Приезжай в Италию. Здесь прекрасное солнце. Скоро весна. Ты должна прийти вместе с ней, как цветы, как теплый ветерок, как любовь. Приезжай! Твой Луки с нетерпением ждет тебя.
Не дай стольким дням, стольким часам пройти впустую. Когда любишь друг друга, жизнь не так длинна, и каждая минута, проведенная в разлуке — непозволительное расточительство.
Чао, Куколка. До скорого, скорого свидания. Целую тебя, заключаю в объятия и нежно прижимаю к сердцу, моя малышка. Твой всей душой,
Луки
Дорогая Куколка!
[…] Вчера вечером был в «Ла Скала» на концерте, играли симфонии Бетховена. Исполняли I, IV и V. Я провел три божественных часа и все думал о тебе, о нас, о возможности быть вместе. Адажио из IV симфонии, которое ты, разумеется, знаешь, так полно нежностью и печалью, что я, слушая его, будто слышал слова любви, произнесенные тобой.
Вечером я уезжаю с друзьями в Париж. Меня не будет до среды. Напишу тебе оттуда. Буду смотреть интересующие меня пьесы.
Четверг, 21 марта
Куколка, мне нет оправданий за то, что в эти дни я тебе так редко писал, но ты должна меня простить. Вчера вечером я вернулся из Парижа… Там было очень хорошо, хотя времени не хватило! Мне удалось посмотреть четыре пьесы и два фильма, один из которых великолепен! Это «Три бенгальских улана». Я, кажется, выплакал все свои слезы! Погода была чудесная, весенняя, я обожаю Париж в это время года!
Хорошую погоду я застал и здесь — солнце и прогревшийся воздух. Но что за грустное зрелище Милан! И ты все никак не решаешься (или, лучше сказать, не можешь даже приехать, чтобы пожить здесь).
Я прочел «Майерлинг» Анэ, как ты мне советовала. Мне не слишком понравилось. Персонажи слишком романтические, и в них так мало жизни, так мало человеческого!
Чао, Куколка, darling. Пиши мне. Чтение твоих писем по утрам дорого мне, не лишай меня этого удовольствия. Нежно прижимаю тебя к сердцу,
Луки
Понедельник
Куколка, сегодня я получил от тебя письмо. Что делать? Твоя семья приводит меня в отчаяние своей нерешительностью! В Кицбюэль не поеду, ибо не хочу вызвать всеобщее беспокойство своим появлением. Лучше бы ты приехала в Италию. Здесь в свете много говорят об этом, и какой тоской наполняется мое сердце, как подумаю, что другие все решили задолго до нас самих…
Такое положение невыносимо, оно озлобляет… Вчера на бегах я встретил Леллу Басси, она спросила, какие от тебя новости, приедешь ли ты и т. д. Я ответил, что ты должна была приехать, но я ничего не знаю о твоем решении и особенно — о решении твоей семьи.
Каждое утро я просыпаюсь в скверном настроении. И от каждого твоего письма жду, что оно принесет солнце, надежду, добрую и живительную весть. Но мы по-прежнему топчемся все на том же месте.
Завтра снова пойду на концерт Бетховена, шестая и седьмая симфонии. Это наполняет меня счастьем. Но мне хотелось бы пойти туда с тобой, наши души слились бы в музыке — я в этом уверен.
Но я тут в одиночестве, и ты там одна. Я все еще в смятении, но не пал духом — не бойся. Вот только жизнь кажется мне невеселой штукой, а тебе?
Нежно обнимаю тебя, твой
Луки
Можно понять покорность Ирмы, «маленькой девочки», послушно подчинившейся воле семьи и предрассудкам среды. И в письме конца 1935 года претендент на ее руку и сердце заявляет, что он на нее сердит. Но разве подобное послушание не было в порядке вещей? Тем более что проявленный ею конформизм не имеет ничего общего с желанием обидеть Лукино. «Вчера я написал тебе очень длинное письмо. Но потом порвал его, ибо некоторые места были нехороши… Я подумал, что тебе, несчастная моя девочка, тебе не в чем упрекнуть себя во всей этой истории, напротив, тебя тоже удручало такое положение, и с моей стороны было не слишком „красиво“ впутывать тебя во все это». Любопытно, что первая реакция Лукино — не желание побороться, а, наоборот, стушеваться, уехать, искать убежища в религии или в армии. Первый из этих искусов, кажется, преследует его так неотвязно, что он даже пишет Ирме, «не то чтобы всерьез, но и не слишком в шутку»: «Куколка, не будь я так влюблен в тебя, должно быть, сделался бы священником». Когда осенью 1935 года начинаются военные действия в Эфиопии, он пишет ей: «Ты знаешь, что вчера издали указ военного министерства: все желающие воевать в Африке, с 1880 по 1910 годы рождения, могут завербоваться! Я подумал, что мог бы записаться в армию!.. Если только ни ты, ни мама не будете слишком обо мне беспокоиться. Эта идея мне по душе. Мы молоды, никакого пороха еще не нюхали и думаем, что нам далеко до высот духа наших отцов, всех наших предков, поскольку мы еще не совершили ничего такого, что прибавило бы отечеству мощи и величия!»
Мужчина он или нет — вот в чем для Висконти вопрос того периода жизни, когда он вновь остро чувствует детскую привязанность к миру матерей и осмотрительных кумушек. Он ни на секунду не допускает мысли о переходе в пору мужской зрелости в обход установленных рамок и правил: женитьба с благословения родителей, армия, церковь. Если он многажды и настойчиво зовет ее в Италию или придумывает известные уловки, чтобы самому оказаться в Риме, когда там будет она, то в то же время он не лелеет никаких романтических планов, обычно внушаемых любовью: уехать с ней куда-то далеко и жениться, «сделать то, что надо сделать» и пренебречь тем, что скажут окружающие. Но перспектива женитьбы, включающая и «нормализацию» сексуальной и социальной жизни, действительно требует неукоснительного соблюдения обычаев и запретов и для него совпадает с намерением «как можно быстрее навести порядок в делах». В то время его мысли принимают очень консервативный характер, невозможно представить более буржуазных и сентиментальных мечтаний о счастье.
Он на некоторое время смиряется со всеми раздражающими ритуалами, которые предшествуют женитьбе в хорошем обществе. Он терпеливо выносит все пересуды о себе, которыми буквально заполнился полуостров — хотя, пожалуй, он придает им слишком много значения. «Сегодня, — пишет он, — мой отец приезжает из Рима, и я непременно буду говорить с ним о нас. Надеюсь, что никто еще не успел ничего ему наплести. Но, боюсь, это не так. Позавчера князь Пьемонтский приходил ко мне обедать… и первым делом поинтересовался, правда ли, что я на тебе женюсь, потому что в Неаполе об этом говорят как о деле решенном». И в другом письме: «Сегодня за завтраком я увижу двух своих сестер, приехавших из Рима, где они виделись с генералом Инфанте. Знаю, что он сказал обо мне, что я, дескать, симпатичный, вот только почти не имею охоты разговаривать — глупости какие-то. Надеюсь однако, что он хотя бы не наговорил чего-нибудь еще. Не хочу, чтобы что-нибудь еще дошло до папиных ушей прежде, чем я сам с ним поговорю».
В те годы, когда его личная свобода столь стеснена в Италии и в Австрии, в парижском свете он полной грудью вдыхает аромат нонконформизма и творчества. В его письмах все больше французских выражений. Именно в Париже он живет по-настоящему, его восхищает динамизм — и в театре тех лет, которые Жан-Луи Барро назовет «светлыми годами», и в среде кинематографистов, людей моды, музыки, балета… В Париже окончательно оформляется его вкус к жизни, желание жить здесь и сейчас — в таких случаях взрослые вечно отвечают детям: «Подожди, потерпи»… По другую сторону Альп он встречает сверстников, для которых война была всего лишь эпизодом «больших каникул», последовавших за взрывом эйфории, свободы, упрощения нравов. Писатель Морис Сакс задавался вопросом — что для этих людей представляли «обычаи, буржуазная мораль»? В своих воспоминаниях, озаглавленных «Шабаш», он пишет, что достоинствами этого поколения были «энтузиазм и великодушие — неподдельные и глубокие, невероятная жадность до жизни, умение испытывать поклонение и восхитительная живость во всем». А недостатки? «Буйная жажда прожигания жизни, ужасающая низость по отношению ко всему, что не является наслаждением, растерянность, разбрасывающийся ум, исступленный поиск любви, приводящий к неразборчивости в увлечениях, нетерпеливость, мягкотелость на грани дряблости и постоянное восхищение всем, что хоть немного блестит». Счастье тут — не плод долготерпения, довольно и простого удовольствия; надо жить быстрее, и потому жизнь «не шла своим чередом, а разграблялась, точно завоеванный город».
Висконти тоже был нетерпелив и жаждал жизни, но не был ни наивным, ни безнравственным. В тот момент, когда его собственный класс отверг его, потребовав абсолютной лояльности, принесения в жертву части себя, этот всплеск индивидуализма, легкость жизни, творческое горение подействовали так, что голова его закружилась. Возможно, именно здесь, а вовсе не в четырех стенах дворца с фамильным гербом на воротах, рядом с безупречной и даже чересчур приличной супругой, он сможет найти если не счастье, то хотя бы собственный путь, свою правду?
На «грустном личике» Куколки диафрагма камеры закрывается. Следующий эпизод фильма начинается с панорамы дороги, пролегающей по гладкой равнине — такие кадры есть в «Одержимости» или фильмах Чаплина. Этот путь, на котором короткие встречи перемежались периодами одиночества, Висконти назовет своим «путем в Дамаск».
В самом начале этой дороги Лукино встретит двух мужчин и одну женщину, и они определят направление его жизни. Один из этих мужчин белокур, у него светлые и веселые глаза. Он говорит с немецким акцентом: его детские годы прошли в маленьком тюрингском городке Вайссенфельс-ан-дер-Заале. Он — ровесник Висконти, но уже успел порвать все связи и со своей семьей, и с родиной. Сначала он отправился в Гамбург, где изучал историю искусств. Он решил стать архитектором и как-то раз, почти в шутку, не веря в успех, написал Ле Корбюзье, что хочет с ним работать. А тот вдруг взял и согласился… В начале 1930-х он оказывается в Париже, где никого не знает и к тому же скверно говорит по-французски.
На архитектора он работает мало и нерегулярно, так что находится время осмотреться, завязать знакомства, отдавшись на волю случая. На террасе кафе на Монпарнасе он знакомится с модным фотографом Георгом Хойнинген-Хюне, родившимся в 1900 году в Санкт-Петербурге от союза американки и личного тренера по верховой езде царя Николая II. С ним он и проработает бо́льшую часть жизни. Секретарша журнала Vogue, где он вскоре проявит свои исключительные способности к фотографии, говорит об «этом немчике, Орсте: ну что за медведь…» Но на немецком его имя, Хорст, скорее напоминает об орлах, а по-английски больше похоже на «лошадь». С лошадью его роднят порывистость, стремительность реакций, с орлом — независимость, острота взгляда.[19] В этом человеке нет ничего медвежьего, он очень ловко просачивается в высший парижский свет, и его объектив, как ни один другой, подмечает рафинированность, неповторимость этой среды.
Подружившись с Кристианом Бераром, Хорст, благодаря ему и Хюне, попадает в колонию русских изгнанников, великих князей, княгинь, артистов балета Сержа Лифаря и Леонида Мясина, продолжающих в Монте-Карло дело Дягилева. Его фотографии, сразу вошедшие в моду, — свидетельство восхищения высшим светом, распущенным, но изобретательным даже в хитрых уловках и играх.
Хорст говорил о Хойнингене-Хюне и о себе: «Он, русский с Балтики, и я, немец, оба добровольные изгнанники, мы считали себя обозревателями высшего света в его постоянных изменениях, а не критиками общества или „ангажированными“ художниками. Поскольку нам приходилось зарабатывать на жизнь, мы в основном снимали людей, которые платили нам за фотографии. А когда случай приводил к нам тех, кого мы знали и любили, было еще лучше. Нас не сильно беспокоило, что скажут грядущие поколения о стиле и жизненной позиции наших фотомоделей; нам было гораздо интересней запечатлеть часть современного общества, локального и состоящего из очень живых людей.
Одним из самых памятных и притягательных феноменов парижской жизни тридцатых годов было то, что можно назвать небывалым единением самых творчески одаренных умов — художников, писателей, музыкантов, хореографов, танцоров, актеров, декораторов и модельеров — с некоторыми самыми умными членами светского общества. Здесь почти все дружили между собой, а если случалась вражда, то враждовали тихо, не вынося сор на публику.
Шанель работала в тесном сотрудничестве с Дали, Кокто, с Баланчиным в театре и делала костюмы для балетов. Карийская (создательница костюмов „Русских балетов“) теперь придумывала костюмы для частных балов-маскарадов. Дюфи, Берар и Челищев рисовали декорации к пьесам Жироду. Жорж Орик и группа „Шесть“ регулярно давали концерты с дочерью госпожи Ланвен, графиней Жанной де Полиньяк… Матисс рисовал гобелены, а Джакометти делал лампы и столы для декоратора Жана-Мишеля Франка. Луиза де Вильморен, романистка и поэтесса, создавала дамские украшения. Художники-сюрреалисты проникали даже в кино. Сколько было ночных разговоров в те годы, и ни один не обходился без новых идей».
Хорст, сын мелких торговцев из еврейского квартала заштатного немецкого городка, всего за несколько лет стал своим в мире принцев и увлеченных меценатством миллиардеров, где талант и отвага ценились больше, чем титулы и богатство. В начале 1936 года, по возвращении из Нью-Йорка, где он часть года работает для Vogue, его приглашает на обед графиня де Ноай. У них даже есть общая приятельница, княжна Натали Палей (он играл ее робкого воздыхателя в маленьком любительском фильме, который снимал, но так и не закончил Хюне), но в этот день он впервые поднялся по широкой лестнице особняка, где у входа стоит статуя святого Георгия с драконом работы Челлини. Здесь он впервые увидит молодого, сдержанного и невероятно красивого итальянца, которого пока что воспринимают как богатейшего плейбоя, увлеченного лошадьми и гоночными автомобилями: графа Лукино Висконти ди Модроне.
За несколько часов до этой встречи Висконти позвонил Мари-Лор де Ноай, попросил разрешения заехать и засвидетельствовать свое почтение: в тот же вечер он должен отправиться в Рим на поезде. У большого камина, где потрескивает огонь, двое мужчин перебрасываются ничего не значащими фразами. Но этого оказалось достаточно, чтобы между белокурым «немчиком» с независимым выражением лица и байроническим итальянским красавцем вспыхнуло неодолимое взаимное притяжение.
«Он стоял чуть поодаль, — рассказывает Хорст, — натянуто улыбался и, казалось, изо всех сил сдерживал свой латинский темперамент… Сам не знаю почему, я был уверен, что его ко мне тянет. В нем была какая-то загадка, что-то одновременно и привлекательное, и отстраненное. Я достаточно давно вращался в модных кругах и понимал, что иностранные аристократы, даже такие богачи и снобы, как англичане, в Париже ведут себя иначе, чем дома. Большую часть времени я тогда жил в Америке и с некоторым пренебрежением относился к европейским титулам и обычаям.
Как бы там ни было, когда Лукино выразил Мари-Лор сожаление и сказал, что вынужден уйти, чтобы не опоздать на поезд, я вдруг вмешался в светские церемонии и произнес стальным тоном: „Сегодня вечером вы из Парижа не уедете. Завтра в час дня вы придете на ланч в бар гостиницы „Крийон““. К изумлению Мари-Лор — ее это явно позабавило — и к моему восторгу, он кивнул и откланялся. А когда я на следующий день к часу дня пришел в „Крийон“, — ни на что не надеялся, но все же пришел, — он уже был там и ждал меня. Мы позавтракали. Лукино еще неделю или две прожил в своем отеле, и мы виделись каждый день».
Хорст вспоминает, что Висконти никогда не расставался с тремя книгами в красных кожаных переплетах, напечатанных на папиросной бумаге, — это были один из томов эпопеи «В поисках утраченного времени», «Смерть в Венеции» и «Фальшивомонетчики». Томас Манн — гомосексуальное искушение, Пруст — духовные корни и обожаемая семья, и Жид — как противоядие, бравада незаконнорожденного, знак отрыва от корней и ненависти к семье. О семье Лукино говорил редко, вспоминает Хорст, но складывалось впечатление, что он не очень близок с отцом, что связи с семьей его скорее тяготят — в то же время «он осознавал свой долг по отношению к ней». Никогда он не заговаривал ни о расставании родителей, ни о том, что его отца повсюду знали как любовника королевы Италии.
Сравнивая двух своих друзей-аристократов, Хейнингена-Хюне и Висконти, Хорст замечает: «Может, оттого, что Висконти я видел гораздо реже, чем Хюне, и мы редко разговаривали о наших профессиональных делах и обычных, скучных деталях повседневной жизни, наши отношения были более романтичными, чем мои отношения с Георгом. Но в личности Лукино были загадочные области, которые я не пытался исследовать и даже никогда не осмеливался туда вторгаться… Мне кажется, ни он, ни Хюне на самом деле не принадлежали к миру знати, в котором были воспитаны, но относились к нему каждый по-своему. Хюне восставал против собственного прошлого, как непослушный мальчуган, Висконти превратил свое прошлое в искусство».
В то время, снова по свидетельству того же Хорста, Висконти еще сопротивлялся своей гомосексуальности. Он предавался «жуткому наслаждению двойной жизнью», как это называл Оскар Уайльд, но боялся пересудов и все те три года, что продолжалась — с многочисленными перерывами — их связь, стремился сохранить ее в тайне. Когда весной 1936 года они отправились в Тунис, в тот мавританский домик, который Хюне построил в Хаммамете, он пришел в ужас, увидев среди пассажиров корабля нескольких знакомых… «Для меня гомосексуальность не была проблемой, — говорит Хорст, — но для него все было иначе. Я придал ему уверенности в себе, потому что не затрагивал эту болезненную тему. О себе он говорил неохотно, мало что рассказывал, но иногда пытался объяснить свой характер, который был довольно колюч — он вечно оказывался прав, а я был всегда во всем виноват». Даже бегство в Тунис, которое многих вылечило от сомнений и пуританства, взять хоть того же Жида, не смогло, кажется, окончательно избавить своенравного Висконти от душевных терзаний. В те годы Хорст сделал один снимок и много позже, в 1970 году, послал его Лукино. «Спасибо, — написал ему Висконти, — за присланный мне отголосок моей памяти — мой снимок, который ты сделал в Хаммамете! Веришь ли, но я точно помню этот момент, ту самую секунду, когда ты меня сфотографировал! Я словно снова чувствую тяжесть стакана в руке и вижу себя сидящим на пороге дома, у двери, ведущей в сад, полный цветов, белые цветы с таким сильным ароматом: жасмин и лилии. То были наши с тобой счастливые дни, и я никогда их не забуду. Разве их можно забыть?» На снимке, о котором идет речь, шелковый шейный платок закрывает шею Висконти до подбородка, взгляд его донельзя мрачен, а на лице нет даже и тени улыбки.
Чем старательней Висконти пытался обуздать свой «латинский темперамент», тем большим испытаниям подвергалась их связь. По словам Хорста, «вся жизнь Лукино была продуктом его воображения; он ничего не понимал в любовных отношениях, хотя и был очень страстным по натуре. И к тому же он был пуританином. В нем была жестокость. Он был подвержен вспышкам гнева, и в нем было множество противоречий. Это был железный кулак в бархатной перчатке… У него совершенно отсутствовало чувство юмора и умение посмеяться над собой». Его характер — это забавная смесь латинской чувственности с прусской несгибаемостью, идеалов, которые внушила ему мать, и понятий о долге, свойственных аристократам и военным.
Фотограф рассказывает, как однажды, крутя ручку радиоприемника, Висконти услышал выпуск новостей из Италии: объявили о победе в Абиссинии и заиграли фашистский гимн. Он вскочил и потребовал, чтобы друг сделал то же самое. Хорст, потрясенный комизмом ситуации, возразил, что он не итальянец и они не в Италии. «Тогда я возвращаюсь в Рим, — взорвался Висконти, — вызови мне машину, я улечу первым же рейсом». По дороге в аэропорт он заявил Хорсту, что тот повел себя так намеренно, желая отделаться от него, и тому стоило огромного труда убедить его вернуться в Хаммамет.
Правдивость этой истории подтверждают и друзья, появившиеся в жизни режиссера в более поздние годы. Это вполне согласуется с тем патриотизмом, который звучит в письмах к Ирме Виндиш-Грец. Этот патриотизм был тем более искренним еще и потому, что его брат Гвидо воевал тогда в Эфиопии. Что до маленькой и драматичной любовной коллизии, она вполне вписывается в висконтиевское понимание любви: для него это было средство мучить себя и других, он пылко изъявлял свои чувства, будил конфликты и обострял их до предела. Хорст, напротив, был сама непринужденность. Когда они с Висконти переехали в Рим, их жизнь в отеле «Амбассадор» на виа Венето была полна перепадов настроения и вспышек ревности его тиранического друга. Однажды, несмотря на отвращение к скандалам, он страшно ревнует, когда один итальянский друг заговаривает с Хорстом по-английски. Доведенный до крайности фотограф заявляет, что ночным поездом уедет в Париж, и исполняет задуманное. Но Лукино садится в соседнее купе и тоже отправляется в путь.
Вынужденный часто возвращаться по работе в Соединенные Штаты, по-прежнему связанный с Хюне, Хорст никогда подолгу не остается с Висконти. При этом он признается, что «наша связь странным образом становилась только прочнее». После начала войны они не виделись более десяти лет. Однажды, в 1953 году, Висконти узнает, что Хорст в Риме, живет в отеле «Эксельсиор». Он приглашает его к себе на виа Салариа: «Мы, конечно, стали старше и в разлуке жили совершенно по-разному. Но этих лет словно бы не было. Мы не говорили ни о чем серьезном, но между нами сразу установилось удивительное согласие».
«Каждый из нас, — писал Морис Сакс, — в один прекрасный день начинает отвечать за собственную жизнь. И каждый, покопавшись в памяти, сможет назвать день своего рождения в качестве мужчины или женщины — тот день, когда свободная воля начинает действовать и продергивать новые нити в полотне жизни, начало которому положили детство и наследственность». Но одинокими не рождаются. Хорст помогает Висконти жить и принять свою гомосексуальность. «В 1937 году, — свидетельствует Жан Марэ, — когда мы только познакомились, гомосексуальность не была для него проблемой; он ее не афишировал, только и всего». В это время в жизни Висконти появляется и женщина, которая намного старше его, с которой он будет дружить всю жизнь, которой будет восхищаться. «Великая Мадемуазель» с улицы Камбон, Коко Шанель станет его советчицей, пылкой любовницей, второй матерью — более суровой, менее женственной, но такой же сильной, энергичной, практичной и с таким же бойцовским характером, как и донна Карла.
Шанель всего на три года моложе донны Карлы, она тоже родилась в середине августа, месяц зрелости и пылкости. В ней, как и в матери Лукино, соединились нонконформизм и порядок, простота и щедрость. К этому добавлялось еще и одиночество, несмотря на бесконечное количество знакомых, друзей и любовников. Это дитя сумерек было, казалось, обречено на одиночество: судьба отнимала у нее всех, кого она любила, рядом с кем могла пустить корни.
Ее любовник Бой Кэпел, игрок в поло, погиб в автомобильной аварии; другой возлюбленный, художник Поль Ирибе, солнечным летним днем 1935 года вдруг упал, сраженный сердечным приступом, в двух шагах от «Паузы», домика в оливковой роще, куда «цыганка» каждый год приезжала отдохнуть и перевести дух. Слишком много похорон выпало на ее долю. В декабре 1923 года джазовый оркестр из ночного клуба «Бык на крыше» сопровождает катафалк Раймона Радигё. В июне 1929-го венецианская гондола уносит в последний путь на маленькое розовое кладбище с глядящими в небо верхушками черных кипарисов, в самое сердце лагуны в Сан-Микеле, тело «волшебника» Дягилева, а в сентябре 1935-го в Барбизоне кони с черными плюмажами повезут катафалк с телом Ирибе. Все эти погребальные церемонии поставила и оплатила Шанель, и в ее образе тоже преобладает черный цвет. Вот ее автопортрет, который она создала, поглядывая в зеркало: «Угрожающая двойная дуга бровей, раздутые, как у кобылицы ноздри, волосы сатанинской черноты, рот, подобный расщелине, душа благородная и гневливая… и тело, сухое, как бесплодная виноградная лоза». Лучше всего суть ее характера схвачена в наброске карикатуриста Сема: черный лебедь, нарисованный с помощью всего лишь нескольких штрихов.
Однако сама эта Богиня судьбы носит только белое. Эта женщина, которой уже исполнилось полвека, с ее хрупким телом, по-девичьи юным лицом, «над которым красуется большой бант, словно у маленькой девчушки», с живым умом и стремительными движениями, с «темными, отливающими золотом глазами, стражами врат ее сердца — по ним видно, какая это женщина», по-прежнему остается символом жажды жизни, жизни, наполненной страстью. Она говорит о русских: «С ними никогда ничего не знаешь наперед. Они любят либо лютый мороз, либо небывалую жару. При температуре в двадцать градусов они не живут», и говорит, словно о себе. Ее же слова: «Я или люблю, или не люблю».
А Лукино Висконти она любит — за крайности и благородство порывов, за резкую, подчас грубую откровенность, за вкус к абсолютному и за непримиримость. Всеми этими чертами он похож на нее. «Невозможно быть околдованной сильнее, — замечает Хорст, — чем Шанель была околдована Лукино. Он колебался. Она была без ума от него и опьяняла его звуками своего голоса».
Приезжая в Париж, он бежит повидаться с ней, сначала — в роскошную квартиру в предместье Сент-Оноре, потом на улицу Камбон. Он поднимается по широкой лестнице, мимо висящих на стене зеркал, и попадает в ее феерическое королевство: здесь всюду бархат и палевые с золотом шелка, Коромандельские ширмы, книжные шкафы с сочинениям моралистов XVII века и рукописями ее любовника, поэта Пьера Реверди; фигурки эпохи венецианского Возрождения, изображающие негров, и целый фантастический бестиарий: бронзовые лани, хрустальные лягушки, утки и обезьяны из черного дерева и слоновой кости. У огня, между маленьким полотном Дали — золотой колос на черном фоне — и античной головой Гипноса, она говорит часами «своим надтреснутым голосом», о котором Клод Делэ замечал, что «с наступлением вечера он становится все более хриплым… она говорит без передышки, чтобы не слышать безмолвия»… Она рассказывает ему о бегах, о своей племенной кобыле, о запахе ипподрома, о том, как «сильные ноги лошади стремительно отталкиваются от земли и вылетают из стартовых ворот, напрягая сухожилия, и о финале, когда жокеи приходят к финишу, и один побеждает, опередив остальных на полголовы, и все привстают в стременах». Ее голос «рокотал, — как писал Поль Моран, — потрескивал, как сухая лоза», обличая тех, кого она с присвистом на букве «с» называла особами «высшего обсщества», «божественного воняющего сословия… Больше всего они веселятся на вечеринках, где заживо сдирают с людей кожу, в этом вся их суть. Они пожирают друг друга. Следовало бы придумать язык светского общения, в котором злословию не было бы места». Сама она была последней, кто следовал этим правилам, и не щадила «знаменитостей — ни дряхлеющих, ни подающих надежды», которых она знала и поддерживала, то есть содержала. Радигё — «бездарь, потому и умер так рано», а Кокто, «с его старомодным хламом» — «прелестный! прекрасно воспитанный — такой милый, что ему можно было простить все… практически нищий, за все платила я…» Иногда она бывала жестокой, даже слишком. О том же Кокто она говорила: «Это обычный мелкий буржуа, который только и делал, что крал новинки…» Не щадила она и Пикассо, — с тех пор как он перестал быть «клоуном, чьи черные глаза ошеломили ее, заставили обернуться, смутили», ни Дали — с тех пор, как тот подурнел, перестал «носить за ухом гвоздику, поглощал сардины банками и клал этих сардин себе на голову, отчего весь ими провонял».
Шанель была королевой этого гудящего улья, она финансировала постановки Кокто, «Весну священную» Дягилева и не доверяла успеху. Ни деньги, ни титулы тоже не производили на нее впечатления: она много лет проживала с герцогом Вестминстерским, принимала в салоне на улице Камбон весь цвет общества, и ее обвиняли в том, что она намеренно унижала аристократов со звучными фамилиями, нанимая их к себе на службу. Никто лучше, чем она — чужачка, «женщина, живущая вне законов общества», — не мог оценить всей этой человеческой комедии.
Ее главные требования: долой всякую фривольность, кричащую яркость красок и украшательство. Еще с 1922 года, когда она одевала актеров для «Антигоны» в обработке Кокто, ее любимыми цветами были коричневый, бежевый и красный. «Бежевый — потому что это природный цвет, без примесей; красный — потому что это цвет крови, а внутри нас ее столько, что просто необходимо показать его и снаружи». Женика Атанасиу, Шарль Дюллен и Антонен Арто вышли на сцену с набеленными лицами, черными, прорисованными кисточкой бровями, в груботканых накидках: «Греция, — говорила Шанель, — это шерсть, а не шелка».
Вот что говорит о долгой верной дружбе Шанель с ее братом Уберта: «Не думаю, что их связывало нечто большее. Она, конечно, была не на шутку влюблена в Лукино. Его же особенно привлекала недюжинная сила характера — характера деятельной, работящей женщины». Как и Висконти, она ненавидела дилетантизм, держала в узде своих манекенщиц, не прощала слабости. Она все время недовольно шипела, ее волосы были вечно разметаны, а походка была торопливой. Морис Сакс пишет, что она держала под своим началом две тысячи работниц и напоминала «генерала, сродни тем, для которых в жизни нет ничего важнее одержанной победы». Спускаясь по широкой лестнице мимо висящих на стене зеркал, она, по выражению Клода Дэле, «вела битву под безжалостным светом прожекторов. На боях, устраиваемых для узкого круга, такое не увидишь».
У Шанель, как и у Висконти, душа деспота и нрав Пигмалиона. Она создает проект прямо на манекенщице, поправляет кайму, кроит, драпирует, втыкая булавки прямо в нетвердо стоящую на ногах живую статую. Стоит ей заметить дефект, и она немедленно перекраивает, перешивает, переделывает платье или костюм, сев по-турецки на пол; такой ее и снял Хорст «портниха» на репетиции «Рыцарей Круглого стола», переделывающая костюм Жана Марэ за несколько дней до премьеры пьесы Жана Кокто. Ее руки, никогда не остающиеся без дела — «руки труженицы, с пальцами, унизанными кольцами с крупными неограненными камнями, и кажется, будто в каждой руке она сжимает кастет». Она говорит, что-то рассказывает и в это же время безостановочно что-то лепит из мастиковой смолы: так рождаются формы для ее знаменитых украшений.
С теми, кого она любит, Шанель обожает вести себя как добрая фея, вершительница судеб. Вот один из таких случаев. В 1936 году Висконти носился с планом экранизации двух вещей — это были «Майерлинг» Клода Анэ и рассказ Флобера «Ноябрь». Сначала он обратился к Густаву Махаты, режиссеру из Чехии, двумя годами раньше поразившему и шокировавшему кинопублику откровенностью эротики («Экстаз», 1933), потом к Александру Корде, но оба отвергли его. С горечью он признался Шанель, что крайне расстроен и что все его планы снимать растаяли как дым. Она решительно ответила: «Тебе надо встретиться с Ренуаром. Он — человек серьезный».
Глава 9 ПУТЬ В ДАМАСК
Всякая стрела — приветствие.
Габриэле д’Аннунцио«Именно мое пребывание во Франции, — скажет Висконти, — и встреча с таким человеком, как Ренуар, открыла мне глаза на многие вещи. Я понял, что кино может быть способом приблизиться к таким истинам, от которых мы очень далеки, особенно в Италии. Помню, приехав во Францию, я сразу посмотрел „Жизнь принадлежит нам“ Ренуара, и фильм произвел на меня глубокое впечатление… В это горячее время — эпоху Народного фронта — я принимал все идеи, принципы, эстетические и политические идеи группы Ренуара, занимавшей левые позиции, а сам Ренуар, не являясь членом коммунистической партии, был очень близок к ней. В тот момент у меня действительно открылись глаза: я приехал из фашистской страны, где невозможно было ничего узнать, ничего прочесть, ничему научиться, ни приобрести персональный жизненный опыт. Я пережил шок. В Италию я вернулся совсем другим человеком». Где и когда Висконти в действительности пережил этот «шок», определивший его будущую ориентацию, «художественную и нравственную» направленность? В Париже 1936-го, как сам он утверждал много раз, когда делал заявления для коммунистических газет? Или когда под влиянием свояченницы Ники, не имея достаточных средств, делал первые шаги в кино и продал часть лошадей? Если говорить точнее, с лета 1934-го, когда его фамилия появляется в съемочных документах фильма «Тони» с туманным статусом «стажер»? Впоследствии он будет утверждать, что в те годы он не видел этот фильм, хотя его отголоски ясно просматриваются в «Одержимости», его первой ленте, снятой восемь лет спустя.
По всей видимости, он и не хочет воспринимать художника, оказавшего на него «сильнейшее влияние», на ином фоне, чем красная весна Народного фронта. Вот череда революционных картин, сопровождавших эту весну: захваченные заводы, шествия 14 июля, где гигантские портреты Мориса Тореза и Леона Блюма соседствовали с портретами Робеспьера, Сен-Жюста и Золя, осененных алыми знаменами, а ликующая толпа пела «Карманьолу», «Марсельезу» и «Интернационал», растянувшись от площади Нации до площади Республики.
Между 1936 и 1937 годом Ренуара прославляли больше всех на страницах L'Humanité, Ce Soir, L'Avantgarde, Regards и Commune — он снял два фильма, за которые удостоился титула «первого режиссера» левых. «Жизнь принадлежит нам» был снят к выборам, целиком на деньги коммунистической партии; в следующем году компартия снова окажет беспрецедентную поддержку режиссеру, который снял «Марсельезу».
В кинематографических кругах его имя давно является синонимом скандала, провала — еще со времен фильма «Сука» (La Chienne), вышедшего в 1931 году. Продюсеры не желают иметь дела с постановщиком, снимающим фильмы, где «смачно харкают на землю». Он не стал терпеть обид. В газете Ciné-Liberté, сочувствовавшей коммунистам, с марта 1936 года он разворачивает кампанию против цензуры, против закабаления французских кинематографистов крупными кинокомпаниями, американскими и немецкими студиями-мастодонтами UFA и Tobis, которые контролировали Гитлер и Геббельс. Ренуар вместе с Марселем Паньолем оказались редкими счастливчиками, кто избежал такого рабства. Он презрительно отзывался об «элегантной швали» — молодых режиссерах, поклоняющихся «фотогеничному золотому тельцу». «Эти люди, — пишет он, — вступают в профессию и как ни в чем не бывало снимают, например, „Пурпурное сердце“, драму в пяти актах, или волнующий военный фарс „Все эти дамы в гостиной“».
Чтобы сохранить независимость, необходимо было иметь сплоченную неподкупную съемочную группу, ибо, как говорил Ренуар, «в мире кино можно отважиться выступить, лишь убедившись, что тебя окружают соратники. Снять фильм — все равно, что совершить преступление. Или пойти в разведку. Ни одному грабителю в голову не придет грабить Французский банк в одиночку, никакой первопроходец не отправится один в джунгли…»
В фильме «Загородная прогулка» (Une partie de campagne), где Висконти значится в титрах вместе с Жаком Беккером и Анри Картье-Брессоном как третий по порядку перечисления помощник режиссера или, точнее, «стажер по реквизиту». Эта картина — произведение, которое не увидело бы света и не было бы представлено на суд публики без участия преданных Ренуару мужчин и женщин, связанных между собой дружескими чувствами: в работе над ней приняли участие Ив Аллегре, Анри Картье-Брессон, страстно привязанный к режиссеру Жак Беккер, Пьер Лестрингез, «больше чем друг детства — друг еще до детства, ибо мой отец и его отец были ближайшими друзьями», и, наконец, актеры из группы «Октябрь», согласившиеся работать бесплатно. На съемочной площадке, как рассказывал нам Картье-Брессон, «все понемногу занимались всем», без ограничения, без точного распределения обязанностей. Так чем же были съемки «Загородной прогулки»? «Мы были очень дружны, — отвечал Ренуар, — и все это время провели так, словно это были счастливые каникулы на берегу очень красивой реки».
Такими ли уж безоблачно счастливыми вышли эти каникулы? Не совсем так, ведь, помимо тысячи неурядиц, солнце не явилось на свидание, которое назначил ему в сценарии Ренуар. Работа, которую собирались закончить за две недели при солнечной погоде, продолжалась под безнадежно хмурым небом с 15 июля до самого конца августа. С течением дней и недель грозы иного свойства начали омрачать атмосферу невинной игры, которая поддерживалась играми, розыгрышами и дружескими пирушками с вином. Фильм задумывался, чтобы показать таланты актрисы Сильвии Батай, но ее отношения с постановщиком незаметно перешли от счастливой идиллии к буре, заморозкам, и, наконец, пришли в состояние вечной мерзлоты. По свидетельству Висконти, «фильм не смогли завершить из-за бесконечных неурядиц: то у актера Жоржа Данру разболелись зубы, потом полил дождь… И я вернулся в Италию».
Заметки на полях сценария, сделанные рукой Лукино, подтверждают, как внимательно он занимался костюмами, обращая особое внимание на детали. По мнению Сильвии Батай, «он блестяще знал французскую моду тех времен, французскую культуру и хорошо понимал, что в этой истории — чисто французское. Взять, к примеру, такую деталь, как жилет: не думаю, что в 1886 году итальянские крестьяне носили такую одежду. Однажды мы с ним пошли в „Самаритен“ выбрать кружевной корсет, и я вдруг поняла, что Висконти знает этот магазин как свои пять пальцев. Ему во всем была свойственна необыкновенная точность». Кроме того, он сдерживался и умел промолчать на репетициях. Нет, он был не из робких, но «безо всякого панибратства: с таким человеком не ходят пропустить по стаканчику после работы… Мне кажется, он не стремился к общению с людьми и в компаниях всегда чувствовал себя немного неловко».
Это чувство, во всяком случае в начале съемок, Висконти объяснял тем, что молодые люди из съемочной группы были людьми с сильными предубеждениями — по словам Висконти, они-то и «раскрыли ему глаза». «Вся члены группы Ренуара, — утверждает он, — были коммунистами. Поначалу на меня, естественно, поглядывали с недоверием. Для них я был „итальянцем“, приезжим из „фашистской“ страны, да к тому же аристократом. Однако недоверие рассеялось почти сразу, и мы стали близкими друзьями». Анри Картье-Брессон категорически отрицает, что у съемочной группы могло возникнуть недоверие, обусловленное идеологическими разногласиями. «Такие споры никогда не примешивались ни к самому процессу съемок, — говорит он, — ни к отношениям между нами. Ренуару, как и друзьям Превера, был присущ фундаментальный анархизм. Говорить, что существовало хоть малейшее предубеждение против Висконти, было бы абсолютным бредом».
Ренуар никогда не выбирал друзей и соратников по принципу политической принадлежности: у этого странного человека, якобинца-аристократа, «полуфрондера, полусноба в обличье бродяги», посещавшего «весь Париж» Жокей-клуба, заигрывавшего с компартией и сожалевшего, что «ветви плодовых деревьев парка Плесси-ле-Тур больше не сгибаются под тяжестью вздернутых толстосумов», как во времена Людовика XI, было слишком много собственных внутренних противоречий. Как заметил в 1945 году один из его «сообщников», сценарист Шарль Спаак, «идеи интересуют его куда меньше, чем инстинкты людей, их аппетиты. Представьте себе Ренуара в обществе генератора левых идей; он проникнется к нему дружескими чувствами, но вовсе не из-за его идеалов или взглядов, но за умение со знанием дела рассуждать о табаке или лошади… Гораздо большее значение Ренуар придавал профессиям людей, точным знаниям, полученным в работе и в общении с природой, нежели их идеологии. Стоит ему обнаружить в человеке что-то неподдельное, и он очарован. Потому-то его сердцу одинаково мил механик в синем рабочем комбинезоне и маркиз, всегда надевающий соответствующий моменту галстук…»
Годы спустя Висконти очень эмоционально описал яркий момент своего обращения, миг ясности после общения с антифашистской средой. «В Италии, в Милане, я всегда жил среди антифашистов, — заявит он коммунистической газете Rinascita. — Это был антифашизм многословный, но праздный… Потом я оказался во Франции, где работал ассистентом Ренуара. Там я впервые соприкоснулся со средой, о существовании которой даже не подозревал. Всем, кто попадал из Милана в Париж, казалось, что люди в Италии живут с завязанными глазами и заткнутыми ушами… Дружеские связи с группой Ренуара стали для меня чем-то вроде пути в Дамаск. В 1936-м я жил в Париже и собирался снимать кино. Я был болван, не фашист, но с симпатией смотрел на фашистов. В мире политики я был слеп, как новорожденный котенок. Мои друзья позаботились о том, чтобы я прозрел. Все они коммунисты, члены партии. Сначала они мне, разумеется, не доверяли. Чего хочет этот „титулованный богатый кретин“?.. Что нужно этому придурочному!..»
Ренуар, без сомнения, позволил Висконти «определиться со своими устремлениями». Нельзя сказать, что «фашиствующий» аристократ нашел в его лице какого-то гуру — в духовных наставлениях он не нуждался. Однако Висконти впервые увидел, как работает величайший киномастер, он, безусловно, оценил его силу человека и художника, «его огромную человечность, его нежность к людям и их труду, его необычайное умение руководить актерами, кропотливость, технику». На более глубинном уровне он идентифицировал себя с Ренуаром, узнавал себя в нем: «Мне казалось, что я говорю с братом» — братом, более свободным, чем он сам.
Детство Жана Ренуара протекало в той же культурной атмосфере, что и детство Лукино — в общении с художниками, писателями, светскими женщинами, позировавшими отцу в «Шато де Бруйяр» на Монмартре. В его юности тоже было так много побегов из разных колледжей, что родители, устав от неугомонного сына, смирились с бессистемным и поверхностным образованием, какое получил и Лукино; Ренуар тоже долго колебался в выборе карьеры: сначала, «напуганный» славой и гениальностью отца, он мечтал «сделаться бакалейщиком или землепашцем», неважно кем — лишь бы не заниматься искусством. Война помогла ему в этом, и он стал кавалерийским офицером, «настоящим драгуном». Вскоре война перестала его развлекать, он ушел в отставку, увлекся производством керамики, и это длилось четыре года. Случаю было угодно привести его в кинотеатр, где показывали «Глупых жен» фон Штрогейма. В этот момент он наконец-то прислушался к голосу истинного призвания, бросил торговать картинами отца и начал снимать фильмы… Ему было двадцать девять — столько же, сколько было Висконти, когда он познакомился с Ренуаром и решил стать кинематографистом.
Скрепляли эту братскую связь между двумя мужчинами привязанность к своим корням, пристрастие к концу века, старым семейным альбомам, постоянное возвращение к истокам. «Загородная прогулка», снятая в «одном из пейзажей, с которых начинался импрессионизм», именно такой случай. Сын поставил камеру на берегу реки Луан в том самом месте, где его отец, один или в обществе Моне, часто устанавливал мольберт. Если быть совсем точным, это произошло в деревне Марлотт, где в 1866 году Огюст Ренуар написал «Таверну матушки Антонии»; его сын мог назвать всех персонажей этой картины до единого, от Сислея до Писсарро и заканчивая маленьким пуделем Тото — он был нечистокровный и прыгал на трех лапах. Где еще он мог отыскать настоящие пейзажи «а ля Ренуар», маленькие кабачки у самой воды, берега Сены, подобные тем, что изображены на полотнах «Лягушатник» или «Завтрак гребцов»? «Сена 1936 года стала Сеной заводов; пароходов и ужасного шума…»
На постоялом дворе, похожем на кабачок из «Загородной прогулки», Огюст Ренуар познакомился с Мопассаном. «Они симпатизировали друг другу, — писал Ренуар-младгаий, — но признавали, что ничего общего между ними нет. Ренуар говорил о писателе: „Он все видит в черном цвете!“ А тот говорил о художнике: „Он не снимает розовых очков!“ Они сходились в одном. „Мопассан безумен!“ — утверждал Ренуар. „Ренуар безумен!“ — заявлял Мопассан». Чудо, что, оказавшись между Мопассаном и Огюстом Ренуаром, Жан сумел остаться собой — впустив в свой фильм целый водоворот влияний, от простых дружеских бесед до советов актеров, он создал абсолютно авторское произведение.
Не раз утверждалось, что он позволял актерам импровизировать, что у него была привычка изменять сценарий применительно к обстоятельствам («Загородная прогулка» тому подтверждение — режиссеру приходилось подстраиваться под то, что он называл, в противоположность установочному освещению мастерской художника, «перебоями, световыми ямами, солнечными ловушками, дорогими сердцу импрессионистов»). Много слов сказано и о его глубинном анархизме, таком, на первый взгляд, отличном от будущей манеры Висконти. На деле же он, как и Висконти, всегда точно знал, чего хотел, — он строил сцены, заранее продумав их развитие, он вычерчивал структуру своих фильмов, тщательно составляя календарь съемок, репетиций, с легкостью ловя актеров на попытках схалтурить. Он давал им иллюзию, что они сами создают своих персонажей, сами придумывают реплики и сами ведут игру, в то время как сам вел их по точно определенному пути, не давая заметить, что их направляет его рука. «Работа с ним, — вспоминает один из его любимых исполнителей, Далио, — была соткана из обманов. Он обращался с нами как наседка с цыплятами. То он нас спаивал грудным молоком, то пытался закормить карамелью. Он по двадцать раз переснимал одну и ту же сцену, но никто и не догадывался об этом, потому что съемка все время прерывалась. Он разве что не плакал, требовал, чтобы рабочие, которых он называл „товарищи“ — не только потому, что они были из Народного фронта, просто мы все были товарищами, — аплодировали нам: „Это восхитительно, прекрасно, как в Консерватории!“ При этом никогда нельзя было не понять, чего он хотел. Мы знали только, что нас хорошо расставили в кадре чтобы мы не натыкались друг на друга, и все. Каждый по очереди упивался своими мгновениями славы. Рядом с ним мы творили, слова приходили сами, легко. Все это работало на создание правды».
Правда — та самая, которую искал в театре русский режиссер Станиславский, та самая «сермяжная проза», сотканная из подлинной человеческой жизни, «суровой, отчаянной, жестокой», из которой кроил свои фильмы и Эрих фон Штрогейм. Та самая, к которой, под влиянием именно этих мастеров, будет стремиться и Висконти: ее можно добиться, лишь избавив игру актеров от нелепого налета сентиментальности или романтики, столь свойственного легким комедиям и мелодрамам. В фильме «Тони» Ренуар отказался гримировать актеров и снимал их на фоне скал и черных прудов Прованса, в тех самых местах, где несколькими годами раньше было совершено похожее убийство. Представленный публике после утешительной «Анжелы» Марселя Паньоля, этот фильм даже после обработки цензурными ножницами поражал своей брутальностью. Для Висконти это был великий урок кинематографического искусства.
В первую очередь это был урок абсолютного мастерства и связности повествования, вместо беспечной и рискованной импровизации. Ренуар считает актеров главными элементами своего фильма, и из этого происходит весь набор техник, призванных не просто отучить актера от привычных жестов и интонаций, но и помочь ему прожить ситуацию глубинно, заставить «сыграть героя, а не эпизод». Именно эту цель преследуют сцены, снятые одним планом, столь типичные для Ренуара и Висконти, как и их съемки с движения, панорамы и тщательно выстроенный фон, что позволяет держать персонажей — и актеров — в реальности истории, которая их окружает.
Можно ли сказать, что для того, чтобы учиться мастерству, Висконти нужно было непременно уехать из Италии? Нет — ведь рафинированный режиссер Алессандро Блазетти, работавший на фашистов, уже с 1928 года в своих полнометражных фильмах («Солнце», «1860») и в преподавательской работе в Школе кинематографии тоже следовал «путем правды жизни и реализма». Убежденный, что актеры должны столкнуться с настоящей действительностью, а не торчать в библиотеке, он устраивал ученикам экскурсии в сумасшедший дом, в тюрьму, в морг, чтобы показать им настоящих сумасшедших, настоящих преступников и настоящие трупы. Блазетти много снимал на натуре — «Солнце» снимали в Понтинских болотах, «1860» — на Сицилии, он выбирал исполнителей и статистов из людей, взятых прямо с улицы… Такие методы были редки в эпоху «кинематографа белых телефонов», но все же их знали и итальянцы.
В Италии хорошо знали и великие образцы русского кино, Пудовкина, Эйзенштейна и Николая Экка — их кино Висконти смотрел во Франции вместе с Ренуаром в маленьком кинотеатре под названием «Пантеон» (он вспоминает, что смотрел там и «Чапаева»). Эта лента Сергея и Георгия Васильевых, показанная на Венецианском кинофестивале 1934 года, произвела глубокое впечатление и на Блазетти, а еще год спустя, Экспериментальный центр кинематографии в Риме, который официально курировали фашисты, организует цикл лекций Умберто Барбаро, коллеги Блазетти и известного марксиста, — в них Барбаро будет в основном опираться на теории и творчество советских кинематографистов.
«Я не смотрел на то, кто какие носил цвета», — рассказывал Луиджи Кьярини, директор центра, состоявший в партии фашистов. «Центр был открытой школой, открытой для всех, кто всерьез интересовался кино. Я публиковал Белу Балаша, который был венгром, евреем и коммунистом. Я показывал фильмы Пудовкина, Эйзенштейна, а моей правой рукой был коммунист Умберто Барбаро». Среди молодых людей, посещавших первую большую киношколу, возникшую под эгидой фашистского режима, сицилиец Пьетро Джерми, римлянин Луиджи Дзампа, неаполитанец Дино Де Лаурентис, феррарец Микеланджело Антониони, Джузеппе Де Сантис, выходец из римского предместья Чочариа. Этот гудящий улей распахивал двери в настоящую жизнь, в необычный мир, за которым было будущее.
Висконти был не из тех, кто кротко сидит на школьной скамье. Выбрать в учителя такого человека, как Ренуар, означало еще и отречься от собственного прошлого. Он порвал оковы, связывавшие его провинциальными обычаями, предрассудками, с моралью, в которой он был воспитан. Он бежал от семейных традиций и долга, от «ярма принадлежности к знатному роду». Он выбрал новую жизнь, совершенно иную — его новой семьей стала группа коммунистов, сплотившаяся вокруг Ренуара. Если использовать слова Жида, Висконти желал «переродиться в новое существо, под новым небосводом и в совершенно обновленном мире», разом оттолкнувшись от всего, что удерживало его в стальных тисках, — от его настоящей семьи, от своего прошлого, от прежней, стесненной жизни.
Ни одну из своих театральных постановок в Италии, осуществленных в подражание отцу или под его руководством, Висконти не признает ключевым опытом. «Carita mondana» Дж. Траверси и «Сладкое алоэ» Джей Мэллори, поставленные в общественном театре в Комо и миланском театре Мандзони осенью 1936-го тоже не стали для него значительными вехами, хотя для этих постановок по просьбе актрисы Андрейны Паньяни он сделал эскизы костюмов, принесшие ему хвалебные рецензии в прессе. Настоящие открытия о человеке и о творчестве он совершит в Париже.
Весной 37-го он вновь сближается с Хорстом: тот приехал из Америки снимать новые коллекции. В стороне от светского круговорота Международной выставки искусств и технических достижений немецкий друг открыл перед ним двери таинственного Музея Гюстава Моро, в котором Андре Бретон мечтал запереться на одну ночь. В стенах этого музея с высокими окнами были собраны все химеры и все колдовские картины символистов конца века. Через двадцать лет Висконти вспомнит об этом опыте и пошлет Хорсту маленькую репродукцию наброска к «Саломее», а потом воскресит в своей постановке оперы Штрауса причудливые сооружения, луну с кровавым отсветом и обжигающую чувственность целомудренного одинокого художника с улицы Ларошфуко.
Если бы не война в Испании, представленная во всей ее жестокости на Выставке «Натюрмортом со старым башмаком» Миро и «Герникой» Пикассо, и не немецкий павильон в виде башни из бетона и стали высотой 54 метра, над которой развевалось красное знамя со свастикой, можно было бы уподобиться героям пьесы «Троянской войны не будет» и поверить в наступивший мир, видеть во всем торжество толерантности и свободы. В этом же году на экраны вышел фильм «Великая иллюзия». Повсюду — бесконечные праздники, балы-маскарады, фейерверки.
В театрах расцветало поэтическое искусство — «здесь ни органов нет, ни песнопений чванных». Режиссеры «Картеля четырех» договорились о сотрудничестве с драматургами дня вчерашнего (таков был союз Луи Жуве с Анри Жироду) или завтрашнего (альянс Жоржа Питоеффа с Жаном Ануем). Какой театр ни возьми всюду ставились новые спектакли: Кристиан Берар пускает в ход золотые блестки и барочные фантастические выгородки для «Комической иллюзии» Корнеля в постановке Луи Жуве, Жорж Питоефф в «Путешественнике без багажа» Ануя заволакивает сцену туманом и ностальгией. Чуть позже Жуве поставит «Электру» Жироду на сцене без декораций, залитой прямым чистым светом, столь подходящим для времени трагедии и для ее облика.
Тем же летом Висконти отправляется на свидание с ясным светом античной Греции, но не в компании Хорста, а со своим миланским другом Коррадо Корради. «Лукино, — рассказывал Корради, — не очень-то любил море, но мы отправились в путь, чтобы открыть для себя мир античности. Это были чудесные дни… Лукино прекрасно чувствовал природу. Возможно, его больше впечатляло все в целом, чем какое-то одно, пусть даже исключительное явление». После горячей парижской поры Висконти нуждался в долгом летнем ничегонеделании, чтобы вновь обрести себя. Он пробуждается эмоционально, глядя на острова Эгейского моря, созерцая дикие пейзажи, о которых рассказывают мифы, — те самые места, где, по преданию, родились Аполлон и Артемида. По словам Корради, очарование этих мест действовало на Висконти «удивительно, он был совершенно потрясен». Лукино почувствовал необходимость выразить этот свой опыт в лирической и чувственной прозе, очень напоминающей по языку «Брачный пир» Камю. В этих путевых заметках очевидна забота о литературном стиле, они, как и страницы дневника и неоконченный роман «Анжело», полны стремления к интимности, самоанализу, попытки разгадать свою сущность, глубинное «я». Путешествие в поисках утраченного мира Древней Греции стало для него также и путешествием в поисках себя.
Тинос. Я запомнил бесконечную лестницу под ярким солнцем, широкие ступени которой ведут в святилище. В главном дворе — четыре громадных кипариса, кряжистые и тенистые, сторожат высохший фонтан. В этот суровый день я дважды поднимался по ней, останавливаясь у лотков мелких торговцев, что пристроились по обе стороны от ступеней и продают иконы в серебряных окладах и раковины, расписанные картинками на священные сюжеты и покрытые теплым, блестящим лаком.
Миконос. Миконос — это не дракон с длинным чешуйчатым хвостом и огненным дыханием, раскинувшийся на побережье острова, чтобы наводить ужас на сбившихся с курса мореплавателей. Миконос не загадывает загадок и не поедает людей. Миконос — это крохотный залив неправильной формы, он словно ладошка, полная зеленой воды, чуть выше — горсточка домов с террасами, рассыпанная на отлогом спуске. На вершине этого светлого холма красуется ветряная мельница, а у подножия мирно пасутся стада, рассеиваясь по пастбищу беспорядочно, как скирды свежескошенной травы…[20]
Прозрачность и красота природы, потерянный рай, еще хранящий следы святой невинности. Вернуться к городам — значило порвать с этой «совершенной мерой» и снова погрузиться в проклятый, лихорадочный мир людей, где царят зло и смерть.
На пути к Пирею. Этой ночью мы плывем к Пирею. Путешествие окончено. Я лег на палубе, чтобы подремать, и вижу только небо, одно небо, простирающееся до самого горизонта. Это последнее ощущение бесконечности, которое я испытаю… Млечный путь, словно огромная артерия, задрапированная в полутона и украшенная крупными гроздями бриллиантов, протягивается через мир звезд; одинокие светлые клочья, похожие на туманности, разметаны по остальным частям неба. Эта бесконечность, этот текучий массив еле заметно мерцает прямо над нами.
Вот и мы и в Пирее, этом жутком муравейнике, построенном на море, — он словно костяной холм, на котором ввысь тянутся черные каминные трубы, испускающие длинные траурные ленты дыма. Легкий пепел непрерывно кружится и оседает на этот разбухший и окутанный туманом каравай. Прощайте, спокойные и ясные языческие острова, оставшиеся далеко в море! Прощайте, идеальные пропорции заливов с темной водой, прощайте, прощайте, моменты подлинности и узнавания, в которых наша чувственность встречается с безупречной красотой природы! Прощайте, призраки, мелькающие в высохшей лиловой траве, словно тощие делосские коты! Мраморная раковина, Тимолос, лестница в Теносе, бесконечное шелковое небо Ниоса, Санторино, неистовая греза безумного исполина — прощайте! Пора садиться в лодку, которая ждет нас, покачиваясь на масляных водах порта, чтобы доставить в ту землю, что подобна рту без слюны, где, мучаясь, как скорбные астматики, лишенные морского ветра, мы опять станем жить в душных коридорах.
После ослепительного блеска Делоса его ждали духота и серые камни Милана. Хорст был в Австрии, близ Зальцбурга, на берегах Аттерзее, там, где Климт написал столько пейзажей, где позже Висконти снимет эпизод «Ночи длинных ножей» из «Гибели богов». Здесь же Элеонора фон Мендельсон, подруга Брехта, Курта Вайля и режиссера Макса Рейнхардта, купила замок, когда бежала из Германии после прихода к власти Гитлера. Ее мать, певица и пианистка Джульетта Гордиджани, назвала ее в честь своей подруги Элеоноры Дузе. В конце каждого лета Элеонора приглашала Хорста в Шлосс Каммер. У внучки знаменитого композитора было две страсти: театр, где она дебютировала под руководством Макса Рейнхардта, и музыка, которая вскоре приведет ее в объятия Тосканини. «Берар, — скажет Хорст, — научил меня видеть, Элеонора — слышать».
В то же время Хорст вспоминал, что из трех женщин, сильнее всего повлиявших на него в те годы — Натали Палей, Элеоноры фон Мендельсон и Шанель, «самой большой актрисой была, без всякого сомнения, Шанель». Он ближе познакомился с ней в 1937-м, когда она наконец-то согласилась позировать ему и позволила запечатлеть все нюансы ее изысканной меланхолии — такой чести больше не удостоился никто.
14 октября 1937 года Хорст и Шанель вместе идут на премьеру «Рыцарей Круглого стола», средневековой феерии на фоне пурпурных гобеленов, где во всем блеске своих двадцати лет сияет новое открытие Кокто — Жан Марэ. После спектакля актер знакомится с Висконти, чья особая аристократическая красота поразила его на одном из дефиле у Шанель. «Ему так понравился спектакль, — вспоминает Марэ, — что приходил почти каждый вечер. Мы тогда часто виделись — Хорст, он и я. Он почти не раскрывался; я даже не знал, что он хотел снимать кино и работал с Ренуаром».
В те годы у Висконти зреет план фильма о жизни Шанель, и зимой 1937/38 он улетает в Соединенные Штаты. В поисках возможного продюсера он объезжает все побережье, которое сама Коко называла «горой Святого Михаила, покровителя задниц и сисек», то есть Голливуд. Большей частью он живет в Нью-Йорке, однако не ради встреч с Хорстом: у него бурная и несчастливая связь с молодым и богатейшим Донахью Вулвортом, который владел сетью магазинов «все за 5 центов» и подумывал о том, чтобы стать актером. Возвращается он не просто несолоно хлебавши и без контракта в кармане, но, по словам Уберты, еще и «таким желтым, что и после желтухи выглядят здоровее. Голливуд произвел на него ужасное впечатление».
В багаже у него снова путевые заметки, смесь странных рассуждений о «музыкальности» американского говора, «литургическом» пении, «текучем, как мед», они перемежаются восторгами по поводу Нью-Йорка, его «величия готического собора», его титанической громады. Ни единой портретной зарисовки; ни одной конкретной детали; никаких эмоциональных излияний; только маленькая зарисовка об одиночестве с привкусом горечи: «Пингвин, оставшись в одиночестве, умирает. Однажды некий пингвин остался один, и, чтобы он не умер, ему дали зеркало; тогда пингвин стал думать, что он не один, — и выжил… Многие мужчины похожи на этого пингвина — они бегут от смерти, строя иллюзии о дружбе, о товарище, а ведь это не более чем образ их самих, их собственное отражение в зеркале».
Вернувшись в Милан, в марте 1938 года он делает декорации к «Путешествию» Анри Бернштейна, с которым он был дружен, а ставила пьесу Андрейна Паньяни. В это же время занавес опустится над первым актом совсем иной драмы: 13 марта Гитлер вторгается в Вену, в тот самый город, где тридцать лет назад он потерпел унизительное поражение на почве архитектуры и живописи. «Это конец Европы, — запишет в тот день в своем „Дневнике“ Жюльен Грин, — той Европы, которую мы знали и любили. Немецкие армии вошли в Австрию, не встретив никакого отпора. Ни Англия, ни Франция, ни Италия не моргнули и глазом».
Короткий антракт — и начинается второй, трагикомический акт, завершающийся в помпезных декорациях из белого мрамора Фюрерхауса, разделом Чехословакии и аннексией Судетских территорий. Всюду трубили о мобилизации и, испугавшись самого худшего, Франция, по выражению драматурга Анри де Монтерлана, «вернулась к игре в белот и к пластинкам Тино Росси». Но эта пьеса была еще далека от финала.
Тем летом Хорст и Висконти приходят к ясновидящей. «Вы, — предсказала она первому, — распуститесь, подобно цветку…» Второму она предрекла славу, но лишь после заточения. Насчет войны она их успокаивает: никакой войны не будет… Однако прекрасные времена феерий остались в прошлом. Кокто в последний раз играет в волшебника — с финансовой помощью Шанель возвращает на ринг чернокожего боксера Эла Брауна, а затем выводит его и на арену цирка, где тому аккомпанирует негритянский джаз-банд. После этой эскапады Кокто исчезает с парижской сцены и запирается в особняке в Монтаржи, чтобы написать «современную и обнаженную» пьесу, где он обойдется «без обманчивых иллюзий, излишеств, декоративных уловок». Из декораций ему будет достаточно одной двери, «позволяющей несчастью входить и выходить», и стула, «позволяющего судьбе усесться на него».
И вот 26 ноября 1938 года проходит первое представление «Ужасных родителей» — удушающая, болезненная история семьи, оборачивающаяся драмой о кровосмешении и деградации буржуазного рода. Главная героиня пьесы Ивонна, в одно и то же время мать и любовница, тюремщица и заключенная, умирает, тщетно призывая сына, который предал ее, став мужчиной. Висконти никогда не забудет язык этой пьесы и коридоры, по которым бродит беда, — все в этом произведении происходило словно в дурном сне. Это будет его последнее светское развлечение в Париже; через пять лет «Ужасные родители» станут его первой театральной постановкой в Риме.
Между тем последняя нить, связывавшая его с прошлым, порвалась.
В середине января его вызывают телеграммой в Италию, к постели матери: она умирает на вилле в Кортина д’Ампеццо. «Мама была вынуждена, — рассказывает Уберта, — жить в горах или у моря. Антибиотиков тогда не было; унять лихорадку было нечем. Болезнь съела ее легкие, и она сильно страдала. Это было страшным ударом; мы не думали, что она вообще может умереть. Лукино был в Париже, но он успел приехать вовремя».
Донна Карла, словно Изольда наших дней, заключила договор с сыном. Висконти рассказывал об этом соглашении так: «Если случится что-то плохое и я буду далеко, она непременно дождется меня. Я вовремя припаду к ее изголовью, чтобы услышать, как ее губы прошепчут мое имя».
Глава 10 ЧЕРНАЯ КОМНАТА
Усвоив урок прошлого, я ждал от вчерашнего дня лишь исполнения моего «да будет так», моей воли. Потом вдруг нить порвалась. Возник из неведомого; нет больше ни прошлого, ни образца, коему следовать, ничего, на что можно опереться; все создать заново, родину, предков… придумать, открыть. Не на кого быть похожим, кроме самого себя.
Андре Жид, «Эдип»В четверг 19 января 1939 года в десять часов из особняка Эрба, дом номер 3 по виа Марсала, где пятьдесят девять лет назад донна Карла появилась на свет, выехал похоронный кортеж и направился в церковь Санта-Мария-Инкороната, а затем — на Монументальное кладбище Милана. Церемония была простой, согласно завещанию герцогини, «без цветов и венков», зато в последний путь ее провожало множество друзей из того фривольного и роскошного высшего света, который она покинула десять лет назад. В последний раз газеты восславили ее гордую красоту, блестящую культуру и интеллигентность, самоотверженную преданность множеству благотворительных обществ, которые она возглавляла или курировала.
Утрата Лукино была очень горькой. Он потерял мать, которую любил, обожал, боготворил: «Продолжать жить без нее было неинтересно». Вернувшись в новую квартиру в Порта-Нуова, он повсюду натыкался на память о ней, ее образ в этом доме присутствовал везде — в фотографиях, мебели, изящных безделушках, книгах, которые она ему дарила. Он много месяцев носил траур и, по воспоминаниям его друга Коррадо Корради, просто утопал в своем горе: «Я очень за него переживал и звонил ему каждый день перед завтраком. Он пережил крах веры, и даже больше чем крах — он снова уверовал. Донна Карла была очень набожна, и он унаследовал от нее глубокое религиозное чувство».
Милан, атмосфера его юности, воспоминание о счастливых днях становятся невыносимыми, и он уезжает в Рим. Лето Висконти проводит на яхте, с ним только Уберта и Эдуардо. У Эдуардо он снова обнаружил тот реализм и вкус к жизни, которое составляло силу и обаяние его матери; с красавицей-дикаркой Убертой его сближает ее свободолюбие и бунтарский дух. Очень юной она без отцовского благословения вышла замуж за Ренцино Аванцо, молодого венецианца, увлеченного гоночными автомобилями, — они познакомились в солнечные дни каникул в Форте-Деи-Марми. «Моя мать, — скажет она, — готова была меня понять; отец же не желал поступаться принципами. Он планировал патрицианский брак, мне говорили: „Подожди, не спеши…“ А я взяла и уехала, но все это продлилось недолго. К слову, ни один брак в нашей семье не сложился. Гвидо и вовсе прожил с женой несколько месяцев, так что Лукино имел все основания не доверять браку».
Отныне в его жизни будет царить лишь одна женщина — Уберта, на которую он перенесет большую часть обожания, которое испытывал к матери. Брат и сестра были такими родственными душами, что не нуждались в словах. Стоило ему засомневаться или озаботиться чем-то, она тут же это чувствовала. Лукино был на двенадцать лет старше, он заменил ей родителей, осыпал подарками, «особенно одеждой: он хотел, чтобы я была прекрасна, как Мадонна, но мне это не нравилось». Лукино проверял, с кем общается Уберта, отодвигая от нее тех, кто, по его мнению, недостаточно хорош. «Как-то раз мы были на бегах. „Отвернись“, — сказал он мне и пошел здороваться с одной женщиной, у которой тоже была конюшня. Когда я спросила, почему он не представил меня, он ответил: „Эти люди не для тебя“. У той дамы был очень важный вид, но она оказалась бывшей актрисой, игравшей когда-то в пьесах второго плана роли субреток, а потом вышла замуж за удачливого дельца».
Лукино пекся о братьях и сестрах, как когда-то его отец. Он ужасно волновался по любому поводу и терпеть не мог, когда Уберта, проведя у него вечер, садилась за руль, чтобы вернуться к себе в римскую квартиру на виа Кортина д’Ампеццо. Никто другой в эти дни не старался уберечь Уберту от напастей столь же сильно, а между тем все яснее становилось, что скоро будет война.
Поводов для тревоги хватало — политический климат становился все мрачнее и удушливей. При дворе и в свете сближение Муссолини с Гитлером восприняли с презрением и тревогой. Весной 1938 года, во время визита в Италию, фюрер был уязвлен прохладным приемом короля Виктора-Эммануила. Размещенный в Квиринальском дворце, он пришел в бешенство, не увидев вокруг себя ни одного человека в черной рубашке — здесь были сплошь элегантные придворные и верные королю генералы и адмиралы. «Здесь душно, как в катакомбах», — ворчал Гиммлер, а Гитлер возмущался — почему дуче так тушуется перед приближенными короля, перед этими «чванливыми наглецами и ничтожными аристократишками»?!
Год спустя, после подписания Стального пакта, Муссолини скажет, что ему надоело терпеть осторожность и миролюбие короля, — он назовет его «карликом», «глупой сардинкой», а то и погрубее: в разговоре со своим зятем Галеаццо Чиано, все больше сближающимся с аристократией, он позволяет себе выражение «твой дружок-дристун». «Монархия, — прямо заявляет он, — мешает армии принять фашистские доктрины. Я задаю себе вопрос, не пришло ли время навсегда покончить с Савойской династией. Я устал тянуть за собой пустые вагоны, которые отчаянно тормозят наше движение».
Вдохновленный крепнущей силой и дисциплиной гитлеровских армий, дуче вместе с Акиллой Стараче разрабатывает новый кодекс, который определит правила отношений и поступков, сам язык фашистского общества. Под предлогом возвращения к обычаям Древнего Рима они отменяют итальянское слово lei. Эта особая форма обращения на «вы» в знак вежливости и уважения (в третьем лице единственного числа) объявляется анахронизмом «из времен прислужничества и унижений» и должна быть упразднена. Ее заменяют демократическим «ты», а в случае иерархических отношений — простым обращением на «вы». Рукопожатие также должно исчезнуть из обихода, и в театре, и в кино его заменит римское приветствие — простой взмах рукой. Использование иностранных слов теперь запрещается даже в ресторанных меню. Что касается руководителей фашистской партии, они должны воплощать «нового человека» — динамичного, энергичного, здорового, прилюдно поучаствовав в спортивных состязаниях трех видов: прыжках в длину, верховой езде, плавании. Блестяще пройдя два первых испытания, один из министров отважился пройти и третье. Он нырнул — и не выплыл, ведь плавать он не умел.
Неудивительно, что принц Умберто, до мозга костей пропитанный принципами аристократизма, придававший такое значение элегантности, обязательной в любой армии, иногда похохатывал странным хрипловатым смешком, скорее нервным, чем веселым, наблюдая за тем, как Муссолини и его фашистские главари проводят смотр своей милиции — они пробегали мимо строя солдат гимнастическим шагом. Впрочем, он ничего не предпринимает, как и все остальные: дуче собрал на всех досье, а у принца есть уязвимое место — он гомосексуален.
Удушливый провинциализм, полицейский диктат, проникший во все сферы жизни, принятие расистских законов, бесконечные бравады Муссолини и его приспешников — так Италия становится карикатурным подобием нацистской Германии. После безумной и беспечной вольницы парижских лет Висконти чувствует себя в западне, он заперт в мрачном мире безо всяких перспектив. Эрнст Юнгер в «Мраморном утесе» пишет, что в такие упаднические времена «размывается даже та форма, которую должна принять наша внутренняя жизнь».
Однако под конец лета совсем неожиданно приходит телеграмма от Ренуара он собирается в Италию, и это известие вырывает Висконти из безнадежного оцепенения. Невероятно, но факт — автора запрещенной цензурой «Великой иллюзии», полемиста газеты Се Soir и кинематографиста Народного фронта пригласил в страну сам дуче!
Муссолини и в самом деле очень хотел развивать итальянскую киноиндустрию. Он многое сделал для того, чтобы превратить Рим в столицу кино. Весной 1937 года он с большой помпой открывает студию «Чинечитта», замышлявшуюся как новый Голливуд. Он же вводит и строгую систему надзора за оборотом продукции и прибыли в киноотрасли. Его сын Витторио без ума от кино (особенно американского), и Муссолини уговаривает его возглавить специализированный журнал Cinema, издававшийся тиражом более 20 тысяч экземпляров и оказавший огромное влияние на итальянское кино. Почти каждый вечер отец с сыном на вилле «Торлония» смотрят самые разные фильмы, в том числе и «Великую иллюзию». Дуче решает пригласить создателя этой картины в Рим, чтобы тот прочел курс лекций в Экспериментальном центре кинематографии, престиж которого дуче так хочется поднять. «Итальянцы, — вспоминал Ренуар, — еще не вступили в войну, и французское правительство было готово на все, лишь бы получить от колеблющихся соседей заверения в нейтралитете… Я был военным. Мне оставалось только подчиниться приказу». Глубоко разочарованный провалом «Правиа игры», преисполненный горечи, он соглашается снимать «что угодно». Этим «что угодно» станет «Тоска», совместная работа с продюсером Микеле Скалере.
Он впервые приезжает в Италию, прихватив с собой своего помощника-немца Карла Коха, работавшего с ним на «Марсельезе», свою будущую жену Дидо и, разумеется, своего любимого актера Мишеля Симона, который вскоре напялит напудренный парик и исполнит роль злодея Скарпиа. Едва приехав, Ренуар тут же предлагает Висконти заняться сценарием и работать у него ассистентом, и Висконти без раздумий соглашается.
Пока Мишель Симон использовал свободные дни, чтобы фотографировать фрески барочных дворцов и шляться по римским публичным домам, Ренуар и Кох положились на Висконти, который сводил их на виллу Адриана и отыскал множество других мест, вполне пригодных для съемок «Тоски». Благодаря Висконти, скажет Ренуар, «пребывание в Риме стало для меня откровением. Я обязан ему тем, что проник в сложность итальянского мира». Но в сентябре Франция вступает в войну, и Ренуар возвращается в Париж; он лейтенант запаса и в течение трех месяцев служит в армейском киноотделе. В субботу 16 сентября он посылает Висконти открытку в Милан: «Дорогой друг, я только что получил ваше письмо. Хоть и невеселое, оно стало лучом солнца посреди хмурого сентября. Я вспомнил наше посещение виллы Адриана, когда мы собирались снимать „Тоску“ в древнеримских руинах. Дорогой Лукино (sic!), я не совсем утратил надежду и еще верю, что мы будем снимать кино вместе. Желаю вам всего наилучшего. С большой нежностью к вам, Жан Ренуар».
Прекращение работы над «Тоской», обострившаяся международная обстановка, одиночество, разочарование и усталость вновь одолевают Висконти, и 14 ноября он признается в письме к Хорсту:
Дорогой Хорст,
Не могу выразить, как был счастлив получить твое письмо этим утром.
Жизнь моя, в том что зависит от меня самого, протекает не так уж и плохо, хотя атмосфера, воцарившаяся в Европе, явно не из лучших… Но я уже не тот человек, которого ты знал.
Произошло слишком много печального и тягостного, и если я иногда и вспоминаю о прекрасных днях, проведенных в Париже и даже в Америке, то теперь они кажутся мне невероятной грезой.
Несмотря ни на что, я, как видишь, жив и занят кучей всякой всячины. В том числе кино (увы! этому мешает международная ситуация), своими лошадьми и т. д.
Когда я смогу тебя увидеть? Я не великий оптимист и не надеюсь, что это произойдет даже в следующем году.
Здесь я чаще сталкиваюсь с теми ужасами, что происходят в мире, и с безумием, захватившим человечество. Как я сожалею о том, что, пусть и на короткое мгновение моей жизни, был на стороне нацистов! Надеюсь, ты понимаешь, что для меня эта склонность была сугубо эстетической… Но теперь не время для слабостей, и я хочу, чтобы все это отродье было поскорее истреблено (за исключением нескольких людей, которых я могу назвать поименно…). Ты в этом со мной согласен?
Разумеется, все написанное — чистая глупость. Реальность куда более жестока. Обнимаю тебя, мой дорогой Хорст. Не думай, что я сошел с ума. Я ужасно хочу снова тебя увидеть.
Чао. Чао.
Лукино
В стране начинают распространяться слухи о том, что итальянские нацисты преследуют евреев. Некоторые из них бегут в Милан и отплывают в Геную. Муссолини закрывал на это глаза. Но разве он не собирался втянуть Италию в войну? Чиано, который, как и король, стоял за нейтралитет, чувствует растущее с каждым днем недоверие тестя, и шансы на мир тают. «Король, — заявляет ему Муссолини, — хотел бы, чтобы мы ввязались лишь тогда, когда придет время склеивать разбитое. Надеюсь, что за это время о наши головы ничего не разобьют… Кроме того, унизительно стоять, скрестив руки, пока другие пишут Историю… Чтобы сделать народ великим, необходимо послать его в бой — ничего страшного, если при этом придется наподдать сапогом по задницам…»
Когда Ренуар возвращается в Рим, политическое напряжение достигает пика. Весной 1940 года его фотография появляется на страницах газет — так анонсируют начало съемок «Тоски»: режиссер улыбается, стоя на фоне замка Святого Ангела, рядом его продюсер и Витторио Муссолини; но ему еще предстоит найти актеров, выбрать места для натурных съемок, переписать сценарий… Они успеют снять лишь пять открывающих планов. «Однажды вечером, — вспоминает Ренуар, — в одном борделе Мишель Симон обнаружил, что его любимый диванчик заняли какие-то штатские, болтавшие по-немецки. Он пожаловался на них хозяйке и потребовал освободить привычный уголок, однако та предпочла не вмешиваться. Раздосадованный, он ушел прочь… А завоевание Вечного города немцами продолжилось. Их методы были просты. Единственной газетой, расположенной к Франции, была L'Osservatore Romano, печатный орган Ватикана. Нацисты наняли на службу множество правонарушителей, воров, отбросов общества и ночных громил. Этому воинству злоумышленников доверили присматривать за газетными киосками, продававшими L'Osservatore Romano. Если прохожий подходил и спрашивал эту газету, на него тотчас же нападали и нещадно избивали. Уже на следующие сутки даже самые осмотрительные газеты превратились в сторонников союза с Германией».
Ренуар пишет: «В этой комедии я легко отделался, получив хороший урок. Я спросил L'Osservatore Romano в ресторане, и меня тут же выставили вон. С меня могли и семь шкур содрать, не упомяни я имя Муссолини: в конце концов, меня занесло на эти галеры именно из-за него. Посол Франции, которому я сообщил об этом случае, посоветовал уехать первым же поездом…» Уже 10 июня, всего через несколько часов, Италия вступила в войну.
Висконти проводил Ренуара на вокзал. При столь драматичных обстоятельствах не могло быть и речи ни о совместных проектах, ни о «Тоске»; по выражению французского режиссера, «прощание было душераздирающим». Что стало с запущенным в производство фильмом? Его досняли Карл Кох и Висконти, после выхода картины в январе 1941-го Лукино назовет его «ужасным». Отец режиссера и все окружающие проявят к ленте не больше снисходительности. Только журнал Cinema расхвалит выдержанность и аккуратное кадрирование в картине — этой точности в работе Кох научился не только у Ренуара, но и у своего мэтра Бертольта Брехта. Здесь же обращают на себя внимание необычно долгие планы, типичные для Ренуара и характерные для «Одержимости», первого самостоятельного фильма Висконти.
Во всяком случае, «Тоска» позволила Висконти познакомиться с большей частью молодых интеллектуалов, которые под забавными псевдонимами — Скарамуш, Пак, Ностромо — писали в Cinema дерзкие статьи. Очень скоро они, пусть и ненадолго, станут его сообщниками в авантюре с «Одержимостью». Для них визит Жана Ренуара был событием: он прибыл из свободной страны, он воплощал для них ту свободу творить и думать, которой были лишены они сами. Ренуар напоминал им о том кино, которое покинуло итальянские экраны — они открывали для себя этот мир на сеансах Центра экспериментальной кинематографии и смотрели кино в спешке, опасаясь, что его могут конфисковать. Кино еще в большей степени, чем литература, было для них окном в неизвестный запретный мир. «Мы жили во тьме, — скажет критик журнала Cinema Джанни Пуччини, — но мы чувствовали, что настанет новый день и света станет больше: мы любили кино как предчувствие иного будущего».
Дом на виа Сеттембрини, где Карл Кох поселился с женой Лоттой Рейнингер, режиссером-аниматором, превратился в маленький французский анклав, оазис свободы, где назначались встречи — сначала чтобы отметить приезд Ренуара, потом чтобы просто собраться в живительной атмосфере заговора и особости; люди принадлежали к разным мирам, но гораздо чаще ссылались на Маркса, Пудовкина и Эйзенштейна, чем на Муссолини и Кармине Галлоне. Здесь Висконти знакомится с Умберто Барбаро и Рудольфом Арнхеймом, двумя самыми независимыми мыслителями из всего преподавательского состава школы. Он также сходится с молодыми студентами Центра — Джанни Пуччини, Джузеппе де Сантисом и Пьетро Инграо. Тяга последнего к режиссуре и кино уже ослабевают, вскоре он отдаст все свои силы политике и подпольной борьбе, а его соратником станет сицилиец Марио Аликата, преподаватель философии и пылкий адепт коммунистической идеи.
Висконти знает, как сильно они вовлечены в политику, но в то же время его притягивает бунтарский дух, который он ощущает в каждом из них. Их же в первую очередь интересовала тайна этого аристократа, друга принца Умберто, — ведь он одновременно накоротке с самим Ренуаром, дружен с антифашистами и решительно намерен снимать кино, потратив на это часть состояния. С самой первой встречи с Кохом он фонтанирует идеями и совместными проектами. Значит, его можно воспринимать всерьез и отбросить предубеждения.
Позже Джанни Пуччини (он был сыном романиста, что очень заметно по его манере письма) по-своему расскажет о начале той дружбы, которая приведет группу от мечтаний и теорий к делам. Вот как он описывает встречу де Сантиса и Висконти на кроваво-красном фоне приготовлений к войне:
Начались пасхальные каникулы 1940-го. В Европе уже шла война, в Испании она год как закончилась, но некоторое время спустя пожар разгорелся с новой силой. На тот момент Италия была «невоюющей стороной», — эта двусмысленная формулировка маскировала военные планы фашистских шакалов. И все-таки жизнь продолжалась; случались и каникулы, и вот в один апрельский день — не то до, не то после вторжения Гитлера в Голландию и Данию — среди пассажиров плывущего на Капри вапоретто оказались двое молодых мужчин: одному было около тридцати четырех, другому двадцать три. Они не были знакомы, но путешествие сблизило их, они почувствовали родство душ и подружились.
Они говорили друг с другом не только о кино: вероятно, их обоих волновала война и у них были общие тревоги. Оба хотели выговориться и разобраться в себе. Один, старший, был темноволос, высок, у него был магнетический взгляд и лицо страдальца, напоминавшее всадников эпохи Возрождения. Руки его были как два крыла, и он обладал странной, одновременно тяжелой и легкой поступью, одной из тех, в которых так ясно выражается характер и чувствуется уверенность в себе, сила, сдерживаемый порыв, спокойная твердость.
Другой был блондин, худой, почти хрупкий, с неожиданно крепкой челюстью, ироничным внимательным взглядом, выдающим вечную крестьянскую недоверчивость, этаким опасным огоньком в зрачках.
Первый считает себя представителем богемы, он восстает против заранее предначертанного будущего и монотонного настоящего. Он разводил лошадей, снимал любительские фильмы, работал ассистентом в кино, и он лихорадочно ищет свой путь. Он даже написал роман, который остался лежать в глубине ящика письменного стола. Второй сочиняет истории, полные странной меланхолии, помещая действие в бескрайний фантастический пейзаж, и станет самым влиятельным кинокритиком эпохи.
Они мгновенно нашли друг с другом общий язык, договорились о совместной работе, усердно взялись за дело на Капри, а в Риме, забыв обо всем на свете — о море, о людях и о каникулах, — написали сценарий по роману «Большой Мольн», который так и не превратился в фильм. Так встретились Лукино Висконти и Джузеппе де Сантис.
Будущий постановщик «Горького риса» уточняет: да, он действительно встретился с Висконти на пароходике, плывшем на Капри из Неаполя, но к этому времени они уже были знакомы. «Мы проговорили всю дорогу — за Лукино увивались гомосексуалисты, а он, как обычно, подтрунивал над ними и выставлял их на смех».
Де Сантис вырос среди апельсиновых рощ и болот, окаймлявших морское побережье между Сперлонгой и горой Цирцеи, он питался ягодами кактуса-опунции, во множестве росшего по краю придорожных канав, пас стада буйволиц вместе с детьми рабочих и крестьян, учился подковывать лошадей: «Моими товарищами были цирюльники, мясники, кузнецы, каменщики и сапожники. Маменькиным сынкам я никогда не верил и держался от них подальше. Если мы и встречались, то чтобы подраться у стен старого кладбища». Статьи, которые он приносит в Cinema, написаны крайне резко, в них много полемических крайностей и разрушительного порыва, возможно, доставшегося ему в наследство от предков-пиратов, арабов, турков и сарацинов, то и дело совершавших нападения на приморские деревни. «Бастард, вот кто я такой, — говорил он. — Коротышка с оливково-смуглым лицом и носом как птичий клюв. Я мрачный, подозрительный, спеси во мне столько, что аж печенка болит; так я пытаюсь загнать поглубже тот загадочный комплекс неполноценности, который поражает любого бастарда в минуту искренности с собой».
Он скорее жалеет, чем боится главного редактора журнала Cinema, которого зовет просто Ви — Витторио Муссолини, с которым встречается два-три раза в год У Ви та же болезнь — он комплексует из-за отца, но и мысли не допускает о бунте, о том, чтобы вести столь же свободную жизнь, как де Сантис В то же самое время Джузеппе и его компания живут в бешеном ритме — они сметают с прилавков книги, запоем читают Пруста, Алена-Фурнье, американских авторов, до глубокой ночи спорят в кафе «Розати» с такими писателями, как Марио Паннунцио и Виталиано Бранкати. Они купаются в водах Тибра, а по воскресеньям «посещают мессу, чтобы похватать за ляжки девушек из благопристойных семей». Классовые различия в этой компании, впрочем, не имели значения для Висконти: в нем пылал тот же огонь, та же беспокойная страсть к свободе, и он также не терпел помпезность и сахарный сентиментализм фашистов.
«Мы встретились с ним, — рассказывает заядлый коммунист Марио Аликата, — потому что оба были антифашистами, идеологический элемент был очень важен. Я свел личное знакомство с Лукино в тот вечер, когда пришел попрощаться с Ренуаром… Несколько интеллектуалов-антифашистов собрались, чтобы проводить этого интеллектуала-демократа, вынужденного покинуть нашу страну».
Но еще сильней, чем идеология, Висконти и его новых друзей сближали общие чувства: все они были фрондерами, бросали вызов сервильности и повиновению, все они живо интересовались всем, что будет происходить или уже произошло за пределами Италии. Тогда Висконти черпал вдохновение только из прозы иностранных писателей. Одним из них был Ален-Фурнье — и если бы не возражения наследников писателя, Висконти поставил бы по его вещи свой первый фильм. Уберта считала своего брата чрезвычайно похожим на главного героя «Большого Мольна» — он был таким же храбрым, увлекающимся и неугомонным. Еще одним автором, вдохновлявшим Висконти в ту пору, был Жюльен Грин. Висконти даже перевел на итальянский его роман «Адриенна Мезюра» (до наших дней дошел лишь контракт на этот перевод).
Несмотря на возражения всей компании, он поручил Марио Аликате сценарную разработку «Дамы с камелиями» Дюма-сына. Сценарий по рассказу Мопассана «Надгробные камни» он поручает тому же Аликате, Пуччини и сценаристу Чезаре Дзаваттини. Над «Смятением и ранним горем» Томаса Манна будут работать Массимо Пуччини, Антонио Пьетранджели и Умберто Барбаро. В списке проектов, над которыми работала эта компания, был и роман Бернарда Шоу «Профессия Кэшеля Байрона», и «Билли Бадд» Германа Мелвилла, и все эти работы достойно оплачивались.
Единственным итальянцем в этом эклектичном и космополитичном списке авторов стал сицилийский писатель Джованни Берга, заслуживший единодушное одобрение журнала Cinema и на долгое время ставший для них культовой фигурой. Ибо веризм Верги подпитывался той самой «верой в правду и в поэзию правды, которой, — писали в совместной статье Аликата и Де Сантис, — мы требуем от итальянского кино, от того самого кино, которое по-прежнему потчует нас или ископаемым и риторическим даннунцианством (по лекалам „Кабирии“), или же рассказывает сказки про мелкобуржуазный рай, что на улице Национале». Да и Ренуар тоже нашел верный подход к реальности, обратившись к творениям Мопассана и Золя.
Джанни Пуччини вспоминал, как незадолго до смерти, в 1921-м, Верга приходил к ним домой. Этот «человек с простецкими усами» (Пуччини также называет его «старым деревом») был другом его отца. «Как-то вечером, — вспоминает Пуччини, — накануне вступления Муссолини в войну, Лукино пришел к нам поговорить с моим отцом о Верге. Этот интерес к Верге представлял собой шаг вперед, он был новым открытием, важной точкой опоры в совместной работе, которая только начиналась и завершилась лишь в 1944 году. В те времена Верга был тем, кто вел нас к реализму, тогда мы, пусть еще очень смутно, начали понимать мир итальянского народа. В тот вечер мой отец подарил Лукино старинную почтовую открытку из Ачи-Трецца — рыбацкой деревушки в окрестностях Катаньи, где происходило действие „Семьи Малаволья“, великого романа Берги. „Пейзаж на этой открытке вдохновил меня на съемки фильма „Земля дрожит““, — признавался мне Висконти. Он всегда хранил ее где-то на виду; можно сказать, что это и впрямь был кадр из его фильма, только снятый пятьюдесятью годами раньше».
В следующем году Висконти едет знакомиться с Сицилией — горькой землей безмолвия, ежедневных унижений и бесконечного страдания. Увидев ее, он понимает, что искусство не может быть подлинно революционным, если оно не изображает эту человечность, лишенную лица, «ту, что страдает и надеется». Он решает, что кино — это «единственный путь к пониманию самой сути человека». Висконти, этот аристократ, которому рождение даровало все мыслимые жизненные блага, был потрясен и тронут этой гордой бедностью, непрестанной борьбой крестьян с бесплодием опаленной солнцем земли и с неистовством непогоды. Его, «ломбардского читателя, воспитанного в привычке к прозрачному и строгому воображению Мандзони», потрясает мифологический мир Верги: «Однажды, ветреным утром, — писал он, — я бродил по улицам Катаньи и, выйдя в долину Кальтаджироне, влюбился в Вергу… Первобытный и необъятный мир рыбаков из Ачи-Трецца и пастухов из Маринео всегда представлялся мне живописным. Мой взгляд — это взгляд ломбардца, привыкший к небу, которое „так прекрасно, когда оно прекрасно“. Но в Сицилии Верги я увидел словно бы остров Улисса — это была земля невероятных страстей и приключений, неподвижно и гордо раскинувшаяся на берегах Ионийского моря». В течение трех месяцев он с новой командой работает над сценарием о любви юной и дикой сицилийской крестьянки и свирепого разбойника Граминьи по мотивам рассказа Верги (чуть позже он купит права на экранизацию этого рассказа и еще двух вещей Верги — «Семья Малаволья» и «Йели-пастух»). Он выбирает места для съемок, а также приглашает актеров на главные роли в будущем фильме — планируется, что роль Граминьи исполнит Массимо Джиротти, с которым Лукино познакомился на съемках «Тоски», а его партнершей по картине станет чувственная Луиза Ферида. К концу весны 1941 года остается только одно препятствие — необходимо получить разрешение министерства народной культуры.
Как-то раз в министерстве побывал Джанни Пуччини. На столе у министра он случайно увидел сценарий с резолюцией, которую сделал красным карандашом сам Паволини: «Хватит нам бандитов!» Пуччини спешно рассказал об этом Лукино, и тот, не теряя ни минуты, добился аудиенции.
Секретарь при входе сообщил ему: «Министр примеряет костюм». В самом деле, Паволини заказал себе роскошный белый летний костюм, в котором и предстал перед Лукино. Он был в великолепном настроении. Встреча прошла как нельзя лучше. «Лукино говорил и говорил, — вспоминает Пуччини, — а Паволини все кивал и кивал. Но резолюция осталась в силе…»
Поручая друзьям делать переводы, писать сценарии или справки по разным вопросам, Висконти щедро оплачивал их работу — а времена были непростые. Кроме того, с тех пор как в 1939 году были арестованы несколько лидеров компартии, во главе римского подполья встали Марио Аликата и Пьетро Инграо. Инграо вспоминал: «Под недреманным оком полиции мы писали сценарии — это было отличным прикрытием для нашей политической работы». В подполье входили и де Сантис с Пуччини, но они столь неукоснительно соблюдали конспирацию, что Антониони, который тогда начал сотрудничать с Cinema, ни о чем не подозревал, хотя большую часть времени проводил в их компании. «Я слышал, что они говорили о Висконти как о своем друге, очень близком по идеологии, однако никогда не понимал, в чем конкретно выражалась эта общность идей».
На деле же личность Висконти для всей компании все еще оставалась загадкой, особенно для Аликаты и Инграо. «Мы разговаривали о политике, о фашизме, — вспоминает Инграо, — но на его счет окончательного мнения не составили: это был человек умный, высокой культуры, но с некоторыми странностями характера. Если коротко, то он оставался аристократом». Этот аристократ удивил их весной 1941 года: он написал ироническую статью в форме некролога, в которой высмеивал живых мертвецов, заполонивших киноиндустрию и общество. По словам Пуччини, именно эта статья в Cinema позволила им ясно понять Висконти. Лукино писал:
Бродя по некоторым кинематографическим организациям, частенько натыкаешься на трупы, упрямо пытающиеся казаться живыми. Случись кому-то, как мне, повстречаться с ними, он бы их не распознал с первого взгляда: они одеты в точности как вы или я. Но скрытое разложение напоминает о себе зловонием, которое наверняка учует всякий чувствительный нос. Эти, с позволения сказать, кинообщества размещаются в ультрасовременных постройках, из этих кабинетов можно выйти в длинные-предлинные коридоры с немыслимым количеством дверей, и на каждой без счета именных табличек — точь-в-точь как в колумбарии.
Как-то я случайно заглянул в одну из таких дверей, и взору моему представилась незабываемая сцена: по комнате, в пылу яростного вдохновения, прыгал старый коротышка, а сидевшее за столом из светлой древесины существо, похожее на него, все в складках, как у пожилой толстухи, было занято таблеткой уротропина, что никак не хотела разгрызаться. При этом существо все же следило за прыгуном, вперившись в него тем немигающим взглядом, каким удав смотрит на кролика.
Подобные персонажи встречаются здесь в послеобеденные часы, когда тяжкий процесс пищеварения близится к концу. Они сочиняют сюжеты мелодрам, которые давным-давно придуманы, но они о том не ведают.
Если вам приходилось беседовать с одним из этих господ, если вы, пусть и с некоторым отвращением, доверяли ему ваши мечты, иллюзии, чаяния, он, должно быть, смотрел на вас осоловелым взглядом сомнамбулы, и в его взоре чувствовался могильный холод […]
Эти живые мертвецы ничего не ведают о грядущих временах, они существуют в холодных отблесках былых свершений того выцветшего мира, где смело топтали бумажные или очерченные мелом полы, где задний фон вздрагивал от сквозняка, когда вдруг распахивалась дверь, где цвели вечные бумажные розы, где мягко смешивались и перетекали друг в друга эпохи и стили, где Клеопатры, одетые по моде ар-нуво, изводили и охаживали хлыстом солидных и мрачных Марков Антониев, затянутых в корсеты из китового уса […]
Иногда, между полуночью и часом ночи, они украдкой, с выдумкой, достойной разве что школьника, перелезающего через забор, навещают подружку помоложе, которой можно всласть поплакаться в жилетку. На узких лестницах после себя они оставляют резкий запах карболки.
Ночью их мучают кошмары; на рассвете их неожиданно будит печень, требующая очередную порцию пилюль, и, сидя на кровати в смутном свете спальни, они не понимают, живы они или умерли. Они никогда не ходят в кино.
Печально, что нынешняя молодежь, питающаяся исключительно святыми надеждами, сгорающая от нетерпения высказаться, то и дело натыкается на эти бесчисленные трупы.
Их время давно закончилось, но они остались здесь — бог весть зачем. Пусть же согласятся наконец, чтобы их поместили под стекло, а мы почтительно склонимся перед ними. Как не пожалеть о том, что слишком многие из них все еще распоряжаются деньгами и имеют право решать, когда воссияет солнце, а когда польет дождь. Когда же, наконец, настанет тот день, когда молодые львы нашего кино смогут воскликнуть: «Место мертвых — на кладбище!»? В этот день молодые придут, поторопят того, кто неосторожно задержался здесь, и со всем должным уважением помогут ему опустить в могилу и вторую ногу.
Когда Висконти вставляли палки в колеса, он всегда бился до последнего. Несмотря на то что все его прожекты один за другим терпели крах, осенью 1941 года он бросается в авантюру с «Одержимостью», фильмом, который, по выражению сценариста Чезаре Дзаваттини, «отразил нашу жажду правды».
Итак, теперь Висконти вернулся к проекту, подсказанному ему Ренуаром — он собирается экранизировать роман «Почтальон всегда звонит дважды», перенеся его действие в Италию. Роман Джеймса Кейна, опубликованный в 1934 году, рассказывал мрачную историю: жена владельца придорожной таверны в диком захолустье влюбляется в бродягу и подговаривает его убить мужа, подстроив автомобильную катастрофу. Впоследствии де Сантис в одной из своих статей написал, что «Одержимость» была очень точной «адаптацией романа Кейна к реалиям нашей страны».
Сюжет этой истории очень гармонировал с устремлениями кружка Cinema. Вот как они выражены в статье, подписанной псевдонимом «Скарамуш»: «Мужчины — и даже итальянские мужчины — вовсе не гипсовые статуи святых. Да и женщины — это не цветы добродетели. Однако попробуйте, если сможете, отыскать в любом из наших фильмов хоть одного итальянца-негодяя или хотя бы одну распутницу. В итальянских фильмах все мальчики вежливы, все честны, все ходят в белых одеждах. Между тем, нет ничего шокирующего в том, что на свете есть сыщики, судебные залы, люди с криминальным прошлым или женщины, не хранящие верность… Мы не призываем к восхвалению убийства и не считаем, что его можно извинить. Но кино должно отойти от того, чтобы вымучивать добро любой ценой — камера должна хотя бы изредка уподобляться скальпелю хирурга и проникать в тьму человеческого сердца, показывать боль трагедии, муки обреченных, крик отчаяния — не для того, чтобы показать высокий пример, а с тем, чтобы, пробившись через тернии, создать подлинно прекрасное произведение искусства».
Очевидно, что сюжет «Одержимости» вполне мог вызвать подозрение у фашистских цензоров, ведь он был взят из американской литературы, запрещенной режимом как грубой, не обещающей ни утешения, ни надежды. Интеллектуалы-антифашисты, начиная с Павезе и заканчивая Витторини, искали в ней отражение собственной действительности и своих переживаний, ибо, как писал Чезаре Павезе, неутомимый переводчик Дос Пассоса, Фолкнера, Стейнбека, Мелвилла, «Америка была не другой страной, не новым началом Истории, а гигантским театром, исполинским экраном, на котором с большей искренностью, чем где бы то ни было, разыгрывалась драма каждого из нас».
Не довольствуясь всем этим, сценаристы решили протащить в фильм элементы антифашистского послания и придумали нового персонажа — парня по прозвищу Испанец, который, по мысли Аликаты, должен был прежде всего напоминать о борьбе антифранкистских бригад.
Подготовительная работа была долгой, руководил всем сам Висконти. Каждый день в восемь утра они собирались у него на виа Кирхер. «Это была просто немыслимая жизнь, — скажет де Сантис, — для таких, как мы, выходцев из мелкобуржуазных провинциальных семей». Пуччини пишет более подробно: «У Лукино был мажордом, поляк по имени Янек. Он так вжился в свою роль, что хотел, чтобы и мы все были аристократами, и объявлял о приходе „барона Аликаты“ и „маркиза де Сантиса“». Работа продолжалась до позднего вечера, когда они, наконец, выпархивали из клетки, совершенно опьяненные, и еще долго гуляли по ночному Риму.
Сценарий под рабочим названием «Болотные топи»[21] чудом миновал цензурные рогатки, блюстители нравственности ослабили хватку (возможно, потому, что режим ослаб) и потребовали лишь немного изменить образ священника — он должен был стать более елейным. В декабре начался поиск натуры на берегу реки По: унылый пейзаж с грязной водой и тополями в тумане был, по словам Висконти, вполне в духе фильма «Призрачная повозка».[22]
Именно здесь, на берегах По, Лукино узнал, что 16 декабря в Милане скончался его отец. Он отправляется в Граццано, где несколько дней спустя, в сильный снегопад, пройдут похороны герцога. Эта церемония произведет столь сильное впечатление на Пуччини, что, рассказывая о ней, он совершенно отпустит вожжи своей и без того неуемной фантазии и добавит от себя некоторые детали: замок, средневековое убранство и похоронный кортеж, в котором по заснеженной равнине шли карлики в пурпурных накидках… «Карлики — что за дикая мысль! — восклицает Уберта. — В Граццано отродясь не было никаких карликов! Просто отец пожелал, чтобы его похоронили не в черном саване, а в темно-розовом или в красном. И вместо похоронного звона колокола звонили, как обычно». В знак уважения ко всему, что сделал герцог, жители Граццано облачились в костюмы, которые он сам для них придумал.
По свидетельству Антониони, Пуччини долго спорил с де Сантисом, имеет ли право он, коммунист и атеист, участвовать в религиозной церемонии похорон аристократа. «Вернулся он с кучей впечатлений и долго рассказывал вычурные и пышные истории о людях в средневековых одеяниях, обряженных в красное карликах и о музыке… Потом в Рим вернулся Висконти, и мы познакомились. Он сразу поразил меня — я понял, что это необыкновенный человек. Он производил впечатление сильной личности человека, и его властные манеры тоже работали на этот образ… Впервые я увидел его на виа Венето в 1942 году. Он сидел за столиком в кафе вместе с Марио Аликатой… Лукино был очень худ, он носил траур, а глаза были скрыты черными очками. Первое, что меня в нем поразило, было то, как он смотрел на прохожих — как будто все они были его собственностью… Пуччини, де Сантис и я были буржуа, и мы очень остро чувствовали наши классовые различия с Висконти. Он вел себя как наследник семьи, которая две сотни лет правила Миланом».
Висконти потратил четыре месяца на то, чтобы найти подходящего продюсера (им стал Либеро Солароли, большой знаток французской литературы, в особенности де Лакло) и получить одобрение министерства. 15 июня 1942 года он смог начать съемки.
Главную роль бродяги Джино Висконти предложил красавцу Массимо Джиротти — режиссер был очарован его голубыми глазами и его пугливостью. Он хотел, чтобы Джованну сыграла Анна Маньяни, «великолепная Анна» — она говорила немного в нос, и ее речь напоминала выговор обитателей римских трущоб. Лукино много раз бурно аплодировал ей в ночных клубах и мюзик-холлах и высоко ценил ее способности в пантомиме и комедии. Несколькими месяцами раньше взрывная Маньяни была в гостях у одного из своих кузенов, Париоли, в шикарном квартале Рима и задала хорошую трепку своему мужу Гоффредо Алессандрини, застукав его за телефонным разговором с одной из своих соперниц.
Она загорелась желанием сняться у незнакомого режиссера, в котором безошибочно угадала гения, и подписала контракт, даже не читая его. Уже были сняты сцены, в которых Маньяни не участвовала; но когда она наконец появилась, после изматывающего путешествия из Турина в Феррару на поезде, набитом битком, то не без гордости сообщила Солароли, что находится «в интересном положении». Проще говоря, она была беременна — и, как сама она уточнила, на четвертом месяце. Солароли предупредил ее, что, скорее всего, от роли придется отказаться: Лукино не согласится на съемки с дублершей, а работает он очень медленно. Снимают не больше трех эпизодов в день, с таким съемочным расписанием фильм не будет закончен раньше ноября, так что картину она закончит с младенцем на руках…
Ее разговор с Висконти был драматичным; она тщетно пыталась убедить его, что находится только на четвертом месяце (в действительности она была на пятом), и в конце концов Лукино сказал: «Иными словами, в конце съемок всякий раз, за исключением крупных планов, тебя придется наряжать в пышный кринолин». Оба весело расхохотались, однако на этом все и закончилось. Маньяни прорыдала ночь напролет и на всю жизнь переживала эту неудачу. В фильме ее заменила Клара Каламаи.
Каламаи, намного моложе Маньяни, была одной из самых элегантных кинодив тех лет. Алессандро Блазетти произвел фурор, показав в фильме «Трапеза шута» (La Сепа delle Bejfe) ее полуобнаженную грудь, — однако у него она все еще оставалась пергидрольной блондинкой, закутанной в пышный тюль. Висконти хотел показать ее без грима, растрепанную, как если бы она только проснулась, едва ли не уродливой. В их первую встречу в феррарском отеле его впечатлил ее хрипловатый голос, бывший всего лишь последствием насморка. «Превосходно! восклицает он. — Но химическую завивку мы уберем». Он просит ее помотать головой, растрепать волосы, изменить прическу. Он требует избавиться от макияжа: пусть будут видны ее усталость и морщины! Такой она и предстанет на экране — в переднике вокруг бедер, перед стопкой грязных тарелок, позади — день тяжелой работы в таверне.
Увидев первые отснятые эпизоды, Каламаи разражается рыданиями, угрожает все бросить и уйти. Атмосфера на съемочной площадке, скажет она, была почти невыносимой, она не могла даже присесть или проявить невнимательность. «Слушай, когда я с тобой разговариваю… или возвращайся в свой бордель!» — свирепо ревел Висконти, так что той оставалось лишь рыдать, прижимая к груди маленькую собачку… Кинозвезда вспоминает о бесконечных репетициях, о том, как Висконти требовал от Джиротти влепить ей пощечину покрепче, о купаниях в ледяных водах По, об атропине, который ей закапывали в глаза, чтобы зрачки расширились в момент убийства, из-за чего она много дней почти ничего не видела.
Каламаи вспоминала и еще одну сцену, в которой актер должен был задеть локтем стакан и уронить его так, чтобы тот разлетелся вдребезги. «Но стакан, — рассказывала она, — дубль за дублем падал и все никак не разбивался. Мы повторили эту сцену бесчисленное количество раз. В конце концов Лукино вышел из себя. На столике стоял огромный поднос со стаканами. Он стал брать их оттуда, один за другим, и швырял на пол, прямо мне под ноги. Осколки летели всюду, чудом не задевая мое лицо. Воцарилась мертвая тишина. Я просто окаменела, но мне и в голову не пришло возмущаться: я была без ума от Лукино».
«Висконти был именно таков, — говорит Каламаи, — он изменял людей. Мало-помалу менялся и Массимо, мы видели, что он укрощен». Но какой ценой! Работа была и физическим, и моральным испытанием, «все были измотаны до предела». В двух эпизодах актер, которого Блазетти изрядно баловал, падает без сил. Однажды это случилось при съемках эпизода, где он выпивает стаканчик вина, — дубли будут повторять столько столько раз, что в конце концов он повалится на землю мертвецки пьяным. Сам Джиротти рассказывает, что «упал в обморок от усталости и нервного перенапряжения».
Висконти и сам признает, что в «Одержимости» насилия и жестокости было больше, чем в любом другом его фильме. «Меня интересуют пограничные ситуации, моменты, когда предельное напряжение обнажает человеческую суть; мне нравится подходить жестко, агрессивно к героям и к сюжету». Но насилия было больше в нем самом, чем в мире, который его окружал. Де Сантис и Джиротти вспоминают об удивительной атмосфере спокойствия, которая воцарилась в этой части Италии тем жарким, ясным, чудесным летом. И тем не менее в то же лето младший брат Висконти Эдуардо, тоже шальная голова, загремел в тюрьму за оскорбление немцев. Лукино и Уберте потребовался целый месяц на то, чтобы вызволить его. Чуть позже, в один из октябрьских дней 1942 года, после полудня, на дороге из Феррары в Полеселлу, где снимались заключительные сцены «Одержимости», остановилась машина. Из нее вышел кузен Висконти, дождался, пока съемка закончится, потом обнял режиссера и отвел его на обочину дороги. Тем же вечером Висконти пришлось спешно уехать в Милан: его брат Гвидо погиб в битве при Эль-Аламейне. «Гвидо был человеком иной эпохи, — рассказала нам Уберта, — он умер, воскликнув: „Да здравствует король!“»
Съемочная группа молча смотрела вслед Висконти. Назавтра работа возобновилась под руководством де Сантиса, до этого занимавшегося только разработкой фона. Еще через день Висконти вернулся.
Долгое время считалось (и это мнение разделяли даже члены кружка Cinema), что новоиспеченный кинорежиссер Висконти — аристократ и кино для него не более чем забава. Но каждый съемочный день убеждал всех в обратном: Лукино был совершенно уверен в себе и с актерами, и за камерой; не колебался ни в выборе точки съемки, ни в движениях камеры, ни в длине сцены. Если он и спорил с де Сантисом, который действительно был лучше подготовлен технически, то эти споры касались только деталей или произношения некоторых слов.
Когда первые снятые эпизоды в Риме увидел монтажер Марио Серандреи, он был ошеломлен «почерком», «пространной фразировкой», не имевшей ничего общего с сухим и быстрым стилем Джеймса Кейна — у Висконти уже был свой фирменный стиль. «Помню, — пишет Серандреи, — что первыми снимали сцены в таверне, где Джованна остается одна среди немытых стаканов. Я испытал шок. Я понял, что имею дело с великим режиссером». В письме он восхищается им и добавляет: «Иначе, как „неореализмом“, такое кино и не назовешь». Несмотря на это, Серандреи убедил Висконти обратиться к Блазетти, чтобы тот смонтировал фильм. Посмотрев, что получилось у Блазетти, Лукино снова перемонтировал фильм в соответствии со своим видением и пониманием, от первого до последнего кадра.
Он был куда смелее будущих неореалистов, особенно в изображении любовных отношений — как гетеро-, так и гомосексуальных, и по его собственному признанию, он хотел показать эти отношения «точно». Он так и не достиг этой точности — накал страстей в картине колоссален и все пронизывает атмосфера злодеяния и трагедии. Некоторые сцены в этом фильме напоминают суровый реализм Штрогейма — как, например, эпизод, следующий за сценой убийства мужа: Джованна отдается любовнику, камера переходит от крупного плана ночного горшка под кроватью к руке женщины, сжимающей цепочку от часов убитого.
В «Одержимости» Висконти скрупулезно исследует одну за другой все фазы вырождения и погружения в трясину любовников, живущих в одной комнате. Если персонажам и удается вырваться из заточения (один из таких эпизодов происходит в Анконе, второй — в Ферраре), то лишь для того, чтобы они вернулись назад и снова продолжили мучить друг друга. Это дуэт двух печальных мелодий: Джованна жалуется на свое прошлое, ее преследует страх перед старостью, а Джино превращается в пьяницу и прячется от мира, накрепко заперев ставни. Как и любовники из фильма «Чувство», они тоже принадлежат к проклятому миру. Молодая «танцовщица» Анита и Испанец — этим еще может улыбнуться удача, ведь у них нет корней и они переезжают из одного города в другой. Но у главных героев выхода нет; когда будущее материнство Джованны возрождает в них безумную надежду на счастливую жизнь, они покидают дом на краю дороги, и в этот самый момент их настигает безжалостная длань правосудия.
Испанец в этой картине мог бы символизировать более свободный и правильный образ жизни, ведь он ищет мир, в котором «все люди — братья». Марио Аликата полагал, что речь должна идти только о политическом братстве; он обвинил Висконти в том, что тот исказил сценарный замысел: «В сценарии Испанец был пролетарием, он воевал за правое дело, не на стороне фашистов. Затем он вернулся в Италию и бродил там и тут, проповедуя социалистические идеи. Он задумывался как положительный герой: в фильме это не слишком-то получилось, и похоже, что дело не только в цензуре». Одним словом, Аликата упрекнул режиссера за то, что тот сознательно спутал карты.
В ответ на эти претензии Висконти заявил, что сам «полностью создал этот персонаж». Для него Испанец — выразитель главных тем, «проблем общества и поэзии. „Одержимость“ снимали при фашистах, а в те времена такой персонаж был ярким символом революции и свободомыслия». И гомосексуальности, добавим мы.
В действительности образ Испанца до сих пор смущает своей подозрительной двойственностью, которую со строгим морализаторством подмечает пуританин и коммунист Аликата. Если он и пытается отлучить Джино от Джованны, то скорее им движет «смутная» любовь к Джино, нежели «убежденность, что не нужно сейчас растрачиваться на женщин, сейчас есть много дел поважней» (такова мотивация героя по версии Аликаты). Еще более двусмысленной выглядит сцена доноса, когда сам Испанец является в полицию — его донос показан явно, хотя в фильме много недомолвок, и этот его поступок напоминает месть за любовь (похожим образом ведет себя и графиня Ливия Серпьери, одна из героинь картины «Чувство»).
Наконец, в сцене выступления на ярмарке в Анконе этот шарлатан и зазывала обнажает не столько «критическую направленность» ленты, сколько ироничность картины и отказ от иллюзий. Посадив по попугаю на каждое плечо (на одном — Барбаросса, на другом — Робеспьер!), он зазывает клиентов, предлагая им волшебный эликсир. Испанец продает посетителям ярмарки мечты в виде лотерейных билетов: «Всего 50 сантимов, господа, и перед вами открываются двери будущего! Робеспьер! Поищи этим господам счастья. Зеленый! Прекрасный цвет, цвет надежды. Вас ждет удача, господа, — это цвет надежды, цвет сильных мужчин!.. Верно гласит пословица: правда — это другое лицо лжи». Висконти еще вернется к теме шарлатанства в «Самой красивой» и в «Марио и волшебнике».
Сарказм и сострадание, жестокость и нежность — фильм балансирует между двумя полюсами. Сострадание исходит от Аниты, жалкой проститутки, которой Джино, эдакий новоявленный Ставрогин, признается в совершенном преступлении. Сострадание и прощение, возможно, выражены в образе малышки Эльвиры, которая появляется под самый конец, в темном коридоре, когда подглядывает в замочную скважину за парой. Чуть позже, когда Джино спрашивает ее: «Ты думаешь, я злой?», она отвечает: «Нет». Но в то же время именно она рассказывает полицейским, по какой дороге бежали любовники.
Многие ключи от мира Висконти можно отыскать в этом произведении, к созданию которого приложили руку немало его соратников, в том числе Альберто Моравиа и Джорджо Бассани — в то же время в этом произведении можно различить только почерк Висконти. Все линии сходятся, чтобы подчеркнуть его личную «одержимость». Любовь и жизнь здесь словно прокляты, всюду присутствует смерть: Брагалья убивает кроликов, затем на пороге «жилища мертвеца» появляется одетая в черное крестьянка с косой, а глаза ее скрыты под широкополой соломенной шляпой, наконец, и само убийство, выражающее всю суть трагедии — медленный и буквально осязаемый возврат к истокам жизни, которые суть и истоки смерти. Речной поток, на берегу которого Джино занимается любовью с беременной Джованной, в финале картины мелеет и возвращается в свое первичное состояние: теперь это воды смерти, деградации и бесплодия.
«На обочине дороги лежит мертвая, один ее чулок сполз до лодыжки. Мужчина обхватывает ее за талию и пытается поставить на ноги: он тащит ее, как большую куклу, а ее ноги волочатся по мостовой». Идея фильма родилась у Висконти именно из этой сцены, которой заканчивается его сценарная адаптация романа «Почтальон всегда стучит дважды». И смерть действительно постучалась в дверь дважды — в декабре 1941-го и в сентябре 1942-го, в начале и в конце работы над «Одержимостью». На фильме лежит тяжелый и скорбный груз того тройного семейного траура, того долгого перехода через пустыню, который начинался музыкой из «Травиаты», мрачной и смертоносной музыкой, под которую он сам появился на свет.
Был ли этот фильм отмечен каким-то проклятием? Задолго до просмотра, состоявшегося весной в Риме, всю съемочную группу Висконти то и дело таскали на допросы в полицию. Второго декабря 1942 года Аликата и оба брата Пуччини были арестованы за подпольную деятельность и отправлены в тюрьму в Реджина-Коэли. Альдо Сканьетти, узнав эту новость, попытался пробиться к Витторио Муссолини прямо в редакции журнала Cinema: «Я твердил ему: „Вы что же, сами не помните — они все время здесь, или дома, или в редакции, то в редакции, то дома; как они могли что-нибудь натворить?“ Витторио принялся звонить и узнал все как есть — и он не смог сдержать своего возмущения: „Да что вы говорите: дома, в редакции, в редакции, дома! Оба они коммунисты, эти братья Джанни и Дарио Пуччини!“»
Еще больше он был возмущен, посмотрев «Одержимость» — фильм явно угрожал миру фальшивых героев, фальшивых пейзажей, фальшивого фашистского оптимизма: здесь были и насмешки над семьей, и адюльтер, гомосексуализм и грубая чувственность; картина о мире бродяг, безработных и неудачников, живущих без надежды и утешения. Маленький зал кинотеатра «Аркобалено» был переполнен. Весь интеллектуальный светский Рим поспешил в душный кинотеатр, многим пришлось смотреть фильм стоя.
На Висконти, расскажет Массимо Джиротти, с этого момента поглядывали так же изумленно, как «астроном смотрел бы на комету Галлея». «Некоторые женщины, кутаясь в меха, дрожали от ужаса, — скажет потом Висконти. — Знали бы они, что ради съемок этого фильма я продал украшения матери!» После просмотра раздались аплодисменты, сначала робкие, быстро переросшие в настоящую овацию. Но когда зажгли свет, сын дуче встал, направился к дверям и вышел, с силой хлопнув дверью, а на прощанье возмущенно выкрикнул: «Это не Италия!»
Это был всего лишь один показ для ограниченного круга: «Одержимость» так и не попала в официальный кинопрокат и, если и демонстрировалась в других городах Италии — Ферраре, Генуе, Болонье, то со множеством цензурных купюр. Местные власти неизменно изобличали грубость реплик, обостренный и болезненный имморализм, натурализм во французском духе. Фильм называли «оскорблением итальянского народа», а министр Польверелли сказал, что от этой картины «разит уборной». Позже Висконти будет так рассказывать о трудностях с прокатом «Одержимости»: «Фильм шел в городе два-три вечера, и его снимали с показа по распоряжению местного префекта. Телефонные звонки сыпались на нас со всех сторон. Нам сообщали: „Вечером его показывали в Сальсомаджоре (или в каком-нибудь другом городе), и тут же запретили. Через два часа изъяли из местного проката. Хуже того: явился архиепископ и провел в кинозале обряд изгнания бесов“. Самое любопытное, что в конце концов, заинтригованный такой шумихой, Муссолини приказал показать ему фильм на вилле „Торлония“ и постановил: „Нет, пусть крутят…“ Я так и не понял, почему он его не запретил».
Так фильм продолжил свою «трудную жизнь», обкромсанный и подогнанный под вкусы фашистских префектов. В Милане, Флоренции и Турине он вышел только зимой 1943/44-го, уже в оккупированной немцами Италии и в неузнаваемом виде. В Риме первый показ во дворце Браски состоялся лишь летом 1943 года. Но и это была своего рода ловушка, ибо посреди сеанса в зал ворвалась полиция и переписала поименно всех зрителей. Так «Одержимость» и Висконти стали символами бунта и антифашизма.
Глава 11 ПРИКЛЮЧЕНИЕ АЛЬФРЕДО ГВИДИ
Я уезжаю …Я принял решение и нашел средства совершить это путешествие. В мгновение ока все те печали, которые, как ты знаешь, отравляют жизнь мою, особенно по воскресеньям, вдруг словно унесло божественное дуновение. Я увидел, как сей великий образ Италии восстает из той грязи, погрузив в которую, немцы продолжают там ее удерживать…
Стендаль, «Пармская обитель»Лето 1943 года. В Риме — адская жара. Висконти готовится к отъезду в Черноббио, на берега озера Комо, — там он проведет некоторое время со своими братьями и сестрами. Был ли он в то воскресенье, 25 июля, у себя на виа Салариа, когда в двух шагах от этого дома, на вилле Савойя, завершался первый акт падения Муссолини и фашизма? Ночью на экстренном заседании фашистский Большой совет проголосовал за то, чтобы предложить королю «принять на себя командование вооруженными силами и всю полноту конституционной власти». По требованию Виктора-Эммануила III Муссолини прибывает на виллу Савойя для личной встречи, которая продлилась всего двадцать минут. Король поставил его перед фактом: армия деморализована, все члены правительства отмежевались от него. «Единственный, кто хранит вам верность, — добавляет он, — это я, но этого явно недостаточно — поэтому, ввиду тяжести создавшегося положения, я вынужден снять вас с должности; вам придется подать в отставку». На часах 17 часов 20 минут, аудиенция окончена.
Жара стояла невыносимая, но король все-таки проводил поверженного диктатора к выходу из дворца. «Король был мертвенно бледен, — напишет позже Муссолини, — от этого он казался еще меньше ростом и выглядел ошеломленным». Последнее, что они обговаривают, это право выбрать резиденцию и гарантии для семьи. Следует долгое рукопожатие. «Нас словно душили — физически и морально. Небо было свинцовым», — напишет Муссолини. Вокруг диктатора полно вооруженных до зубов полицейских, его личный шофер куда-то таинственно исчез, а капитан карабинеров просит Бенито сесть в машину полевой медицинской службы, которая на полной скорости везет его не на виллу Торлония, а в римскую казарму. Но и там Муссолини не сразу понимает, что взят под арест.
Король может вздохнуть с облегчением: от дуче удалось отделаться без особого шума. В Риме и во многих городах Италии на площадях жгли портреты Муссолини, срывали плакаты с его изображениями и восторженно кричали: «Да здравствует король!», «Да здравствует Италия!» и даже: «Да здравствует мир!». Однако эта эйфория быстро прошла: новый глава правительства маршал Пьетро Бадольо распускает фашистскую партию, но запрещает и все остальные политические партии. Бадольо приказывает освободить политзаключенных, но лишь избирательно и оставляет на постах пронемецких военных и чиновников. Без всяких околичностей он заявляет, что «война продолжается». Маршал налаживает контакты с союзниками — близится перемирие, но в то же время он заверяет Риббентропа, что внешняя политика Италии не претерпит никаких изменений.
Эта опасная двойная игра продолжалась сорок пять дней, а война становилась все более ожесточенной. Немецкие дивизии были стянуты в Италию, тысячи самолетов союзных войск бомбили большие города — Геную, Ливорно, Неаполь… 4 августа в течение полутора часов союзники бомбили Рим; за день до этого больше двух тысяч бомб было сброшено на Милан. Никогда еще Италия не подвергалась таким страшным бомбовым ударам: тысячи погибших, сожженные дома, повсюду развалины, исторический центр Милана разрушен до неузнаваемости, крыша Галереи обрушилась, статуи Дуомо расколоты вдребезги, «Ла Скала» разрушен частично, а театр Мандзони полностью уничтожен.
Когда Висконти узнают эту новость, они спешно возвращаются в родной город, ставший ареной кошмара. Дворец на виа Черва горит, и Лукино с братьями всю ночь пытаются потушить пожар и спасти хотя бы что-то из дома, где все они родились. Автор романа «Леопард», князь Томази ди Лампедуза тоже был потрясен в ту ночь, увидев развалины своего фамильного дворца. В этот миг рушится целый пантеон прошлого, открываются старые раны и рождается ностальгия, которую никогда не исцелить. Возможно, именно в те дни, в обстановке политического безумия, глядя на бесконечные колонны въезжающих в Милан грузовиков с немецкими солдатами, Лукино ощущает то «странное сомнение», о котором расскажет позже: оно не покидало его «даже во сне. У меня не было слов. Отчаиваться могли лишь слабаки. Неужели великая история стала закатом жизни, сплошным несчастьем?»
Около месяца правительство Бадольо лавирует и увязает в неспешных переговорах с союзниками, пытаясь выторговать выгодные для монархии условия. В конце концов приходится согласиться на безоговорочную капитуляцию. Подписание перемирия назначено на вечер 8 сентября; прежде чем покинуть Рим с королем и кучкой генералов, маршал Бадольо приказал войскам примкнуть к англо-американским силам и «оказывать сопротивление атакам, которые могут быть возможны с других сторон» (то есть так и не назвал немцев новыми противниками в открытую).
Италия, оставшаяся без правительства, отданная на растерзание немцам, которые были уязвлены предательством своих союзников (Геббельс назвал итальянцев «сборищем цыган, обреченных на деградацию»), с каждым днем все больше погружалась в хаос. В этой ситуации каждый был вынужден делать свой выбор в одиночку. Висконти все решил еще до падения Муссолини.
Работать в кино, заявляет он в статье со ставшим знаменитым заголовком «Антропоморфное кино», значит «снимать фильмы, живя среди людей». В этой работе нельзя претендовать на превосходство, которое будто бы имеет художник по сравнению с другими людьми, не должно быть и притязаний на «мнимое призвание свыше — такой романтизм страшно далек от нашей сегодняшней реальности». Избегать соприкосновения с подлинной действительностью, с людьми, которые живут и страдают, означает «заразиться декадентским видением мира», поддаться искушению, которое позже заклеймит Жан-Поль Сартр, а Висконти уже тогда назовет «подлым невмешательством».
Висконти утверждает ценность труда художника, которую разделяют и его друзья-коммунисты. Художник здесь рассматривается как «мастеровой» — такой же, как углекоп или плотник. Реалистическая программа искусства определяется как «сострадательное и объективное исследование человеческого опыта», искусство должно обнажать в людях их «подлинную человечность».
Висконти пишет, что лучше всего эту человечность можно разглядеть в простых людях, не играющих какие-то роли, — ведь именно они, по словам режиссера, «обладают подлинными чертами личности и здоровыми характерами — такие выходцы из социальных слоев, которые ничем себя не запятнали, часто являются также и лучшими людьми». Наконец, Висконти превозносит кинематограф как коллективное творчество, «поскольку порывы и потребности многих объединяются в нем в самое лучшее путем совместного труда. И здесь мы ясно видим, что ответственность режиссера перед людьми чрезвычайно высока…»
В эти самые месяцы, когда зарождается движение Сопротивления, Висконти по-настоящему скрепляет свой пакт с коммунизмом. После 25 июля он публично выражает свои антифашистские убеждения, войдя в комитет, созданный для помощи политическим заключенным и всем, кто вернулся в Италию после долгих лет изгнания. В этом комитете председательствует князь Дориа, бескомпромиссный антифашист; позже он станет первым мэром Рима. В состав комитета входят и коммунисты — художник Ренато Гуттузо и Марио Аликата; последний, выйдя 6 августа из тюрьмы, берет на себя руководство подпольной газетой L’Unita. Гуттузо вспоминает: «Партия вовсе не руководила нами. Мы делали все, что могли, чтобы раздобыть одежду, белье, продуктовые карточки; разыскивали зубных врачей для бывших узников, которым во время пыток выбили все зубы… В общем, мы занимались всем».
Лаура Ломбардо-Радиче (впоследствии она станет женой Пьетро Инграо) рассказывает, что в тюрьму Реджина-Коэли отправилась делегация комитета, чтобы просить об освобождении последних узников до прихода немцев. Аликата подтолкнул вперед Лукино, чтобы с тюремщиком говорил именно он: «Пусть переговоры ведет он, он ведь очень представительно выглядит!» Ему также вручают сумму денег для передачи заключенным в Реджина-Коэли, и, когда директор тюрьмы говорит, что ни о каком таком комитете не знает и знать не желает, Лукино вносит деньги от своего имени.
По свидетельству Ренато Гуттузо, «[в городе] царила всеобщая эйфория. Было много активистов-подпольщиков, к ним присоединялись те, кто вернулся из ссылки или изгнания, Негарвиль, Карло Леви, Леоне Гинзбург… Мы со дня на день ждали переворота в пользу немцев. Отпечатали номер Il Lavoratore Italiano (журнала, которым руководил Аликата), он увидел свет в тот момент, когда немцы входили в Рим, но мы умудрились распространить его, несмотря ни на что, — а на обложке был помещен мой рисунок!»
Не участвуя в пропагандистской деятельности друзей, Висконти привечает их в собственном доме. Кто может заподозрить, что за розовыми стенами патрицианской виллы на виа Салариа, которую охраняет десяток свирепых немецких догов, регулярно встречаются подпольщики? В этих сходках принимают участие и художники, но большинство собирающихся здесь — активные коммунисты с партбилетами (в их числе и Гуттузо), которые приходят с ротаторами и печатают на них листовки и журналы, призывающие к подрыву режима. Кому может взбрести в голову, что семеро сардинцев, только что приехавших из Испании, на целых два месяца именно здесь обретут и укрытие, и пищу, и безопасность?
По крайней мере два видных подпольщика нашли приют на виа Салариа: это были Луиджи Лонго, также вернувшийся в конце лета 1943 года из Испании, и Марио Скоччимарро, один из лидеров коммунистической партии. Рассказывает Гуттузо: «Я и Марио Сократе пришли встречать [Скоччимарро] на вокзал. Было условлено, что он будет держать в зубах сигарету, а под мышкой — журнал, чтобы мы могли его узнать. Мы привезли его к Лукино Висконти, на виа Салариа; там, в этом доме, для него было самое надежное убежище. Скоччимарро разместился у Висконти, тогда как другие товарищи находили приют в Ватикане или монастырях». Что до Луиджи Лонго, прославившегося на войне под кличкой «команданте Галло», то именно на вилле Висконти он готовился принять военное командование партизанскими отрядами Гарибальди, созданными в Милане в начале ноября.
Был ли Висконти в курсе этих планов? Во всяком случае, никаких вопросов он не задавал. Не будучи членом партии, он, по словам Джорджо Амендолы, вел себя как «товарищ». «Едва успев освободиться из тюрьмы, Аликата принялся рассказывать мне о Висконти, отметив, что хочет встретиться с ним и предложить вступить в партию. Потом, подыскивая убежище для Скоччимарро, Аликата решил повести его в дом Висконти на виа Салариа. Тот пробыл там неделю. Я пару раз приходил навестить его, и мы обедали с Висконти, который, представившись, сказал: „Я — ваш друг“».
Так роскошная вилла, унаследованная Лукино от отца, любовника королевы Елены Савойской, становится тайным пристанищем заговорщиков. Теперь это место стало очень похоже на квартиру старого профессора из фильма «Семейный портрет в интерьере». В квартире из фильма есть потайная комната, в которой профессор прячет от полиции молодого Конрада, ввязавшегося в заговор неофашистов; действие фильма происходит в 70-х годах, и эта комнатка здесь настоящее «порождение страха». «Моя мать, — признается персонаж фильма, — была итальянкой и всю войну просидела в этой квартирке, закрывшись на все засовы. Мы с отцом были в Америке, и в Европу я вернулся с Пятой армией. Мать оборудовала это маленькое гнездышко, чтобы прятать здесь тех, кого преследовали по политическим мотивам, а кроме того и евреев…»
Бессчетное количество таких комнат и тайных укрытий, где найдет убежище тот, кого травят, где его укроют от полиции, армии, властей, будет впоследствии фигурировать в творчестве Висконти. Будь то реальное убежище (как дом на виа Салариа) или вымышленное — в любом случае это место, в которое сын превратил дом отца: убежище для бунтаря, преследуемого, парии, место, изменившее свое первоначальное предназначение, семейное или светское. Это дом, подобный дому матери, ибо это укрытие, но он же является и местом преступления, ибо здесь прячутся от действительности и ее законов.
Лукино охотно предоставляет этот дом своим «товарищам», оставляя им ключи и давая полную свободу действий. Мария-Антуанетта Маччиокки рассказывает, что в те дни приходила туда помыться в одной из пяти или шести купален, каждая из которых была оформлена в особой цветовой гамме, поскольку это был богатый дом, и совершенно поразилась, увидев в гостиной расставленные на шкафах и столах бесчисленные фотографии кинозвезд: «Ассия Норис, Иза Миранда, Алида Валли, Клара Каламаи — и на всех столь пылкие посвящения, что впору думать, что все они были без ума от Лукино».
Марио Аликата шутил, что Лукино «всегда стремился пустить по ветру свое состояние, но у него никогда ничего не получалось: сначала не вышло с лошадьми, потом с кино. Он преуспел лишь в одном: собрал кучу деньжищ!» Его великодушие практически не знало границ; к списку расходов Висконти Аликата смело мог бы добавить «вклад в Сопротивление». Снова предоставим слово Маччиокки: «Однажды вечером Лукино ждал нас в кафе на окраине, в Сан-Лоренцо, за кладбищем в Верано. Это был маленький кабачок под названием „У стойки“. Он сидел с отсутствующим видом. На нем был светлый макинтош и кашемировый пуловер, на голове — фетровая шляпа с опущенными полями. Он сказал Ринальдо, что хочет совсем исчезнуть из вида, и пусть никто из нас его не ищет; соблюдая осторожность, мы можем продолжать пользоваться его домом, но следует покрепче запереть двери, никому не открывать и не включать свет, чтобы дом выглядел необитаемым. После этого он вручил Ринальдо 10 тысяч лир для нашего отряда Сопротивления, чтобы его члены не голодали и могли лучше организовать работу. Это были сумасшедшие деньги».
По словам Маччиокки, эта встреча произошла в начале лета 1943-го; в действительности Висконти «исчез из вида» осенью. После 8 сентября, когда Бадольо объявил о перемирии по радио, а король бежал в Пескару, многие солдаты, решив не сражаться на стороне немцев, переоделись в гражданское. Еще через пару-тройку дней, до того, как в Италию массированно вторглись немцы, создается Комитет национального освобождения, объединивший либералов, христианских демократов, коммунистов и социалистов, то есть все антифашистские силы. Комитет заявляет о том, что он учрежден, призывает итальянцев «к борьбе и сопротивлению» и тотчас же уходит в подполье. Порядка 1500 человек, большинство из них на севере Италии, уходят в горы, чтобы скрыться от немецкого вторжения и дождаться прихода союзных войск, который они считают неизбежным. Некоторые присоединяются к ним из любви к приключениям, есть здесь и убежденные антифашисты, которыми движет политическая солидарность.
Эдуардо Висконти, офицер кавалерии Савойского полка (как и его брат), был человеком с приключенческой складкой характера. Повоевав в Албании, в 1943 году он дезертировал из регулярной армии и переправился в Лугано, где участвовал в акциях Сопротивления под руководством Комитета национального освобождения. Вместе со Стефано Порта, Гильельмо Моццони и Дино Бергамаско он отвечает за связь миланского отделения комитета с силами союзников. Этих четверых прозвали «четырьмя мушкетерами»: доставляя послания, приказы, деньги, они всякий раз преодолевали заграждения из колючей проволоки на границе — иногда подкупив охранников, а иногда рискуя жизнью, но всякий раз они ухитрялись перейти на ту сторону. Эдуардо шестьдесят раз пересекал границу и ни разу не попался, он доставлял в Милан деньги для поддержки военнопленных из союзных войск, а также средства для подпольной борьбы — иногда эти средства он передавал промышленнику Розаско, иногда — в приходскую церковь в Сан-Феделе.
«Строго говоря, — рассказывает архитектор Гильельмо Моццони, — мы были ближе всего к либералам и к Партии действия.[23] Мы встречались с Ферруччо Пари,[24] рисковали жизнью, но наш выбор был прежде всего выбором моральным. Особенно это касалось Эдуардо с его обостренным чувством солидарности». Партия действия состояла из антифашистов разного происхождения и разных политических толков, в ней состояли и бывшие коммунисты, и социалисты, и либералы вроде Эдуардо, который был верен идеалам справедливости и свободы. Кроме того, он желал укрепить шансы Италии на политическое и социальное обновление, но не посредством пролетарской революции, как этого хотели коммунисты, а путем установления современной и многопартийной республики.
Это был идеал, который последовательно отстаивал и Ферруччо Пари. 16 сентября Пьетро Ненни предложил Пари командование повстанческими отрядами на севере Италии. После высадки союзников в Анцио 22 января 1944-го Пари возглавит правое крыло Комитета национального освобождения. Этот антифашист со стажем пользовался уважением благодаря своему боевому прошлому, тюремному заключению, глубочайшему чувству долга. И хотя политические взгляды Пари фундаментально расходились с идеями гарибальдиста Луиджи Лонго, именно Лонго он назовет своим преемником в вооруженной организации Сопротивления в случае, если погибнет сам. Личные связи Пари с промышленными воротилами итальянского севера делали его выразителем идей просвещенной и прагматичной крупной буржуазии, к которой принадлежал и Эдуардо Висконти.
Убеждения Лукино были и более радикальными, и более путаными, но все-таки он сходился с братом в том, что отвергал ценности старого мира — даже если их воплощает его бывший товарищ, капитан кавалерии из Пинероло, знатный пьемонтец Джузеппе ди Монтецемоло. В сентябре ди Монтецемоло становится руководителем Сопротивления в Лацио, но при этом хранит верность маршалу Бадольо и монархии, от которой ожидает приказов и указаний. Впоследствии о нем напишут: «Это был герой, созданный для времен Рисорджименто с их идеалом верности».
Но этот путь, который мог принести столько приключений и славы, не прельщает Лукино. Несколько дней спустя, 8 сентября, он уезжает из Рима вместе с Базилио Франкиной и Марио Кьяри, тосканским сценографом, блестящим весельчаком и остроумцем, который, повоевав на Русском фронте, теперь твердо намерен поскорей добраться до линии союзнических войск. В Апеннинских горах, в местечке Тальякоццо, они собираются присоединиться к Массимо Джиротти и Роберто Росселини, однако Лукино приходится еще раз вернуться в Рим за сестрой Убертой и ее малышом Карло, которому он через два года даст второе имя — Либеро, Свободный. Теперь в доме на виа Салариа жили актриса Мария Денис, домашняя прислуга и Паоло Мокки, один из семерых сардинцев, которых приютил Висконти: шестеро остальных вернулись на свой остров, а этот решил остаться и числился на вилле садовником.
Примкнуть к итальянским войскам, идущим на Рим вместе с союзниками, — таков был план Висконти. Но сначала нужно было укрыть сестру в надежном месте, а в это самое время маленькие городки в горах Абруцци (в их числе и Тальякоццо) один за другим быстро занимают немцы. Лукино решает отвезти Уберту в затерянную в горах деревушку под названием Верреккье.
Розовый домишко среди лугов под ясным октябрьским небом; две безмятежные недели рядом с теми, кого он любит, две недели среди крестьян, которые так привяжутся к их семье, что и по сей день их дети живут в Риме и продолжают ежедневно оказывать Уберте с ее дочерью Николеттой разные мелкие услуги. «В Верреккье, — рассказывает Уберта, — мы проводили целые дни за чтением „Войны и мира“; у меня перед глазами словно еще стоит эта книга, которую мы передавали из рук в руки, читая отрывки вслух».
Это были дни затишья перед грозой, дни, которые были наэлектризованы грядущим действием. 27 октября на рассвете Висконти покидает из деревенскую таверну вместе с Базилио Франкиной, Марио Кьяри и проводником, который отведет их в дикие горы, где пастухи пасут стада мулов и черных овец. Здесь путешественники найдут убежище в скрытых за раскидистыми оливами и совершенно неприметных глазу лачугах угольщиков. Само это слово — угольщик, charbonnier — напоминает о подпольщиках-карбонариях. Висконти понимает, что этот уход знаменует новый, более решительный, чем прежние, разрыв с прошлой жизнью. Он ставит дату и точное время — 5 часов 30 минут, 27 октября 1943 года. До 5 декабря 1943 года он будет вести дневник, который займет три школьных тетрадки.
В этих полустершихся строках все еще слышны трепет расставания, его жажда свободы и желание стать новой личностью:
Верреккье, 21 октября 1943
Я ухожу на рассвете, с Б. и М. […]. Синий домик Масс. (Массимо Джиротти). Стучу. Масс, отпирает сразу, верхняя половина двери открывается здесь точь-в-точь, как в стойле конюшни. Он только что проснулся, в пижаме, опухший, глаза заспанные, волосы в беспорядке. Он с жаром пожимает мне руку. В его прощальном жесте чувствуется сожаление: ему с нами нельзя. Я поручаю ему Уберту.
Я доволен собой — ясное, беспечное чувство отделяет меня от всего моего прошлого. Отделяет — значит ставит последнюю точку.
Главное — это сознание свободы, в самые первые полчаса пути. Мы подходим к кресту.
Я прощальным жестом салютую Верреккье, где прожил две недели или чуть больше. Сонная деревня окутана легким туманом; говорят, что над входом в Каппадокийскую долину вечно бдит широко раскрытый глаз. В глубине, у дороги, дом синьоры Паолины; там осталась Уберта. Выше — гумно, и зеленые луга, и камни мостовой — их тоже видно в вышине, и они сияют. Для меня наступает пора свободы и действий — и нет никакой печали по поводу расставания <с прошлым>, а только живейшая и юношеская радость. Сожалею лить об Уберте, о том, что не смог остаться с ней подольше. […] Я лихорадочно собираюсь в путь — такого я не испытывал давным-давно, а все остальное неважно. Массимо подошел к двери и так и стоял там, наблюдая мои сборы. Я так хорошо знаю те страхи, которые в этот миг могли его одолевать… Потом он сказал: «Bon voyage».
Вместе с ними отправились трое англичан и четверо американцев, бежавшие из плена и нашедшие укрытие в Верреккье; они тоже хотели пройти через немецкие позиции и присоединиться к союзникам. Ежедневно по многу часов пробираются по крутым горным тропинкам, «на перекрестках которых то и дело вырастают кресты»; их путь лежит через буковые и кленовые рощи, которые кажутся «громадными желтыми и красными пятнами на склонах гор», они шагают по «долинам, усеянным белыми и серыми камнями» и по «бескрайним пастбищам, зеленым, как вода, и окутанным серо-голубой дымкой…» В этом мире безмолвия, который, «кажется, веками не тревожили ни люди, ни животные», в этом «свободном пейзаже», «продуваемом живым и сверкающим ветром», «некоторые вещи, — пишет Висконти, — да вместе с ними и те чувства, что движут нами и вселяют ощущение счастья, обнаруживают свои истинные размеры: микроскопические».
На привалах они иногда встречают других бегущих от фашизма, что, впрочем, не очень-то защищает их от насмешек Висконти, безжалостного к своим излюбленным мишеням — аристократам (и подлинным, и мнимым) и гомосексуалистам (и стыдливым, и кичливым) — этим двум ипостасям его собственной натуры. Так, он мгновенно разоблачил одну парочку: врача и «некоего маркиза Триомфи», застрявших в деревне «карбонариев»; «маркиз сей, — замечает Висконти, — не могу удержаться, чтобы не назвать его в стиле Стендаля маркизом дель Фаджио (маркиз букового дерева) — объявил нам о падении Венафро и Изернии — впрочем, я в это не поверил. Когда они уходят, маркиз, с его рыжей бороденкой и постоянной подчеркнуто подавленной миной на лице, уже несколько стесняет наше добродушное настроение. Он с крайне самодовольным видом так и сыплет глупостями, а у доктора вид „юной барышни в цвету“, которого не скрыть под роскошной черной бородой».
Сначала эти десять мужчин продвигаются вперед без происшествий — через горы, по той же дороге, по которой перебрасываются немецкие части, которым приказано охранять Кассино. Эту дорогу, кишащую немцами, необходимо пройти, чтобы добраться до союзнических войск. Марио Кьяри вспоминает, как однажды, в ту самую минуту, когда они спускались по склону к тропинке, вдруг появилась группа немецких солдат: «Один из них обернулся и, несомненно, заметил бы нас, если бы в это самое время мимо не проходил крестьянин с телегой сена; мы успели за ней спрятаться». Они еще несколько раз попытались пройти по этой тропе, но никому это не удалось.
Постепенно походные условия становятся все суровей: холод, вши, усталость, нехватка продуктов. Каждый вечер им приходится наудачу искать убежище на заброшенных фермах; крестьяне иногда привечают их, а иногда устраивают за ними охоту. Наконец американцы совершенно выбиваются из сил, и отряд решает уйти из долины обратно в горы.
Как-то раз вечером Лукино сказал Марио Кьяри: «Я бы все отдал за горячую ванну и ночь в постели!» «Тогда, — расскажет потом Кьяри, — я спустился в деревушку один. Комендантский час уже наступил, и на улицах не было ни души. Я постучал в дом священника: в маленьких деревнях духовная особа служит и чем-то вроде справочного бюро. Мне отворил самый заурядный ризничий, полумертвый от страха, и я попросил его разбудить священника: это был служитель почтенных лет, тоже очень обыкновенного вида, но оказавшийся очень приветливым. „Я сопровождаю в поездке одно весьма значительное лицо, и этот человек очень устал, — сказал я ему, — прежде чем вновь пуститься в дорогу, он хотел бы принять горячую ванну и лечь в постель, однако я не могу открыть вам, кто он такой. К слову, ни вы, ни ризничий не должны видеть его лица“. Так Лукино принял свою горячую ванну. Потом мы жадно умяли целую курицу и легли спать в постели священника».
Это была забавная интермедия в путешествии, которое было совсем невеселым: они только и делали, что искали укрытие для англичан и американцев, а кроме того — одежду и еду, а иногда еще и лечили их. К концу ноября они были так измотаны, что о дальнейшем продвижении пришлось забыть. Ожидание в деревне Сеттефрати казалось бесконечным и растянулось на целый месяц. Висконти и Кьяри нашли приют в доме сельского врача, американцы и англичане, соблюдая осторожность, вынуждены были укрываться за пределами деревни — в ригах, пастушьих хижинах, пещерах. В дневниковых записях Висконти звучат нотки сомнения в конечном исходе путешествия.
Сеттефрати, 24 ноября 1943
[…] Я покупаю сигареты и спички (вчера вечером, когда я поднялся к ним, они не могли развести огонь, поскольку использовали все спички, принесенные Марио прошлой ночью). Они насквозь промокли и дрожали от холода и лихорадки, а в сарае было темно хоть глаз выколи… П. все повторял и повторял: «We must have fire. We must have fire»[25] — и ныл, как ребенок.
Они рассказали мне, каким ужасным выдался вчерашний день. Они нашли укрытие в пастушьей хижине над родником Маккия-Марина … Им повезло, что проводник немецкого патруля был в сговоре со мной и не повел немцев к роднику. По дороге он сказал, что слишком устал, вымок и не может идти дальше, и тогда немцы решили вернуться.
Пока они были в этой хижине, они встретили четверых итальянцев и одного южноафриканца (итальянцы были офицерами воздушных сил). Эти люди, промокшие и продрогшие до костей, не могли больше терпеть, и стали спускаться с горы на дорогу, не послушавшись Р. (Ричарда Эбмабтона-Лоу, из Королевской гвардии), предупредившего, что в долине их наверняка схватят.
На горных высотах туман и дождь делали их совершенно невидимыми. И правда, Р. и другие позже узнали, что их взяли… С ними же взяли того типа, словно сошедшего со страниц романа Жюля Верна, с которым были еще и дети, и еще поляков.
[…] Боб на пределе сил. Ботинки у них развалились, а подошвы стерлись… Сегодня я подыщу что-нибудь в деревне.
Р. понимает, что моя пунктуальность и еда, которую я приносил в эти дни, спасли их от истощения и удержали от сдачи немцам… Их и вправду невозможно узнать, на их лицах, постаревших и изможденных, проступают усталость, тревога, страдание.
[…] Вернувшись в деревню, я узнаю, что прибывшие вчера танки сегодня уходят… Больше всего меня поражает юный возраст солдат.
Не будь у меня теперь счастливой привычки вести дневник и [не будь у меня книги] Руссо, дни казались бы мне невыносимыми. Иногда я дохожу до того, что все наше предприятие кажется мне бессмысленным.
Висконти не воевал на войне и тем сильнее чувствовал вину за гибель брата, он мечтал пройти испытание огнем, этот ритуал превращения в настоящего мужчину, отличиться, совершить действие, которое стало бы его личным подвигом, но он не идет навстречу внешним врагам и препятствиям, а борется с самим собой, стараясь вместить свой пылкий темперамент в скучные рамки не сулящей славы борьбы.
Сеттефрати, 5 декабря 1943
Начинается пятая неделя в Сеттефрати. Еще семь тревожных дней бездействия, ожидания, утраты надежды и иллюзий, хотя внутренний голос убежденно твердит, что эти дни будут последними. Неприятна только необходимость оставаться тут, сидеть и ждать, вместо того чтобы попытаться, отважиться и рискнуть с непредсказуемыми последствиями. Сознание подсказывает, что лучше всего поступать так, как мы и поступаем, — не столько для себя, сколько ради безопасности друзей. На самом деле такая осторожность, вселяющая в меня толику горечи, была продиктована только необходимостью довести дело до успешного конца ради наших товарищей. Спроси я себя, отвечу с абсолютной искренностью: эти дни так тяжело дались мне не только из-за их хандры, но и потому, что не представилось случая потребовать от самого себя еще сколько-то порыва и отваги. Оглядываясь назад и думая о решении, принятом в Риме во время всеобщей сумятицы первых дней, когда у меня родилось твердое решение поступить именно так, я могу подвести итог и сказать, что действую спокойно и хладнокровно, не позволяя ни нетерпению, ни воодушевлению одолеть меня, и умею удерживать самые романтические порывы в границах разумного и не преступать требований морали. Дни, которые сейчас наступают, еще предоставят мне возможность испытать эти, я бы сказал, болеутоляющие черты моего характера, всю сентиментальность и непостоянство которого я так хорошо знаю сам.
На этой записи от 5 декабря 1943 года заканчивается третья тетрадка дневника Висконти, но в действительности терпеть, ждать и придерживаться изматывающей дисциплины пришлось до конца января 1944-го, когда произошла высадка, союзников в Анцио. Она возродила надежду на скорое освобождение и предопределила возвращение Лукино в Рим. И все же впереди еще был целый месяц ожидания, душевных колебаний, простых и хороших дел. Нужно было следить за здоровьем американцев, которые, по Словам Марио Кьяри, «все еще были в скверной форме». Нужно было отслеживать передвижения немцев на местности и переправлять беглецов в более безопасное место при малейших признаках тревоги, невзирая на снег и мороз, — уходить в горы, прятаться в пещерах, которые укажут им пастухи. В рождественскую ночь они приходят к полу: ночной мессе, хотя вокруг полно немцев. Священник провел их в церковь через колокольню, и они присутствовали на службе, прячась за орга́ном, и только занавес отделял их от того места, где стоял хор из сорока немцев.
Когда в начале февраля они появляются в Риме, сбежав от немецкого патруля в суматохе бомбардировки, их силы истощились до предела. Висконти и Марио Кьяри добились того, чтобы их английских и американских «друзей» поместили в госпиталь; в конце войны английские и американские власти в особой грамоте поблагодарят «Лукино Висконти за помощь, которую он оказал морякам, солдатам и летчикам, что позволило избежать попадания в плен».
Но все же Висконти чувствовал, что он унижен и потерпел поражение, он страстно желал испытать свое мужество, но эта проверка так и не состоялась. Его воображение лишь нарисовало ему головокружительные приключения, а теперь он вернулся к тому же, с чего начинал. Теперь он еще больше горел нетерпением вступить в реальную борьбу. Он подает заявку на вступление в ряды отряда католиков-коммунистов, но они отвергают его: аристократ и, хуже того, гомосексуалист не внушает им доверия…
Вернувшись к себе на виа Салариа, он возобновляет отношения со старыми друзьями из Cinema — теперь все они стали подпольщиками. Незадолго до смерти Висконти скажет, что это был «самый интересный, самый прекрасный, самый сплоченный период в моей жизни; все, что я сделал в жизни лучшего, я отдал движению Сопротивления; на втором месте — моя работа…» Личные амбиции и героические мечты теперь значили меньше, чем стремление окончательно свернуть с исхоженных троп, сжечь себя и родиться заново. И он меняет свое прежнее имя, Лукино Висконти — имя, словно окруженное ореолом власти и привилегий — на самое обыкновенное, простое, неизвестно чье: отныне он — Альфредо Гвиди.
22 января союзники высадились в Анцио. Черчилль вспоминал: «Я воображал, что мы выпустим на этот берег дикого кота, а на деле на пляж выбросился полудохлый кит». Враждебно настроенные к оккупантам, но и слишком нерешительные, чтобы драться, римляне, укрывшись в домах и заперев двери, ждали прихода освободителей. Любой ценой гарантировать Риму спокойствие — вот о чем пекся полковник де Монтецемоло, руководивший всеми действиями Сопротивления за пределами Вечного города. Через пять дней после высадки L'Unita призывает к восстанию: «Даешь всеобщую забастовку! К оружию, граждане Рима!» Никто не откликнулся на этот призыв. Римляне выжидали.
Партизанское движение было мощным на севере страны, но в центральных областях Италии и особенно в Риме оно было слабым, плохо организованным и малоэффективным. Самыми активными группами были тогда отряды GAP — Вооруженные партизанские отряды, рекрутировавшие участников исключительно из молодых коммунистов. Эти группы состояли всего лишь из трех или четырех человек, не более. В городах, где, в отличие от сельской местности, почти негде скрыться, их операции были почти самоубийством. Начиная с зимы 1944 года они все чаще устраивают диверсии, налеты, покушения.
Немцы и итальянцы ожесточенно борются друг с другом — аресты следуют один за другим; в тюрьме гестапо на виа Тассо, в тюрьме в Реджина-Коэли содержатся сотни политзаключенных самого разного происхождения: одних раскрыли, у других нашли листовку, плакат, подпольные газеты; есть и те, кого арестовали после терактов всего лишь по подозрению. Многих из них ждут пытки, высылка и смерть. Священника дона Морозини ждет расстрел, а Леоне Гинзбург, которого арестовали прямо в типографии, где подпольно печаталась L'Italia Libera, погибнет при невыясненных обстоятельствах — его жену, писательницу Наталию Гинзбург, лишь известят, что ее супруг мертв.
В январе 1944 года бывший офицер карабинеров родом из Беневенты Пьетро Кох, немец по происхождению, организует, параллельно с гестапо и фашистской полицией, политическую полицию, устроившую свои кабинеты, тюремные и пыточные камеры сначала на виа Принчипе Амедео, в пансионе Ольтремаре, а потом и на виа Романья, в пансионе Джаккарино — «виллах скорби» со зловещей репутацией.
Вернувшись на виа Салариа, Висконти узнает, что его дом попал под особое подозрение «банды Коха»: в его отсутствие здесь уже производили обыск. Положение осложняется еще и тем, что Пьетро Кох, дружный с такими известными актерами, как Освальдо Валенти и Луиза Ферида, увидев жившую тогда в доме красавицу Марию Денис, тут же влюбился в нее. У полицейской ищейки было целых две причины интересоваться всем происходящим в доме на виа Салариа: подозрение, что там скрываются партизаны (а ведь там все еще жил сардинец Пьетро Мокки), и белокурая актриса с нежным детским голоском, однажды открывшая ему дверь…
Несмотря на возросшую опасность или из желания пойти ей навстречу, Висконти продолжает укрывать там партизан, которых разыскивает полиция. Он укрепляет связи с самыми активными группировками коммунистической партии. По словам Джузеппе де Сантиса, «Лукино, чувствуя себя отрезанным от военной жизни, запросил и в самый драматичный момент получил членство в организациях GAP». В пользу его приема говорили его личная храбрость, которая уже была широко признана, и строгие моральные принципы. Однако Антонелло Тромбадори, ответственный и очень видный деятель партии, позже оказавший решающее влияние на своего друга Висконти, категорически отрицает его вступление в отряд. Коммунисты чурались гомосексуалистов ничуть не меньше, чем католики; да и как можно представить себе, чтобы такой известный человек, продолжая жить в доме, попавшем под подозрение полиции, мог совершать действия, требовавшие совсем иного образа жизни и полной конспирации?
В Риме, как и в других итальянских городах, члены GAP были крохотной группкой — их было не более трех десятков и все были тщательно отобраны. Они были очень молоды, особенно те, кого набрали из рабочей среды, умели обращаться с бомбами, пулеметами и пистолетами Р-38, и все они состояли в партии. Лукино в партию так и не вступил, и де Сантис признает, что «у него не было времени ни вести настоящую работу, требовавшуюся в Сопротивлении, ни участвовать в диверсиях». Однако у Висконти была не меньшая ответственность — он должен был разузнавать, в каких местах еще можно печатать нелегальную литературу, где можно прятать и хранить оружие.
До марта 1944 года он занимался этим, не привлекая подозрений, но в конце этого месяца к нему в дом вдруг нагрянули трое эсэсовцев. Они пришли не за ним, а за Паоло Мокки. Марио Кьяри вспоминает, что в тот момент в доме находились Ринальдо Риччи, Ренато Гуттузо и Джузеппе де Сантис. Поспешно обыскав дом — и не обнаружив ни экземпляров газеты L'Unita, ни оружия (все это было спрятано в спальне Лукино), — они спросили, где же те подозрительные личности, которых Висконти укрывает у себя. Особенно их интересовал так называемый «графский садовник». Никто и бровью не повел, но в этот момент дверь распахнулась, на пороге появился офицер бригады гарибальдийцев, «садовник» Паоло Мокки, и без сопротивления сдался немцам.[26]
Висконти понял, что настало время покинуть виа Салариа, и на несколько дней остановился у Уберты. Но события развивались все быстрей: 23 марта он, Марио Кьяри и Джанни Пуччини находятся на виа Венето, в 15 часов 30 минут здесь раздается чудовищный взрыв. В этот день, в годовщину создания Fasci отряд коммунистов забросал бомбами казармы СС на виа Разелла, в Квиринальском дворце, в тот самый момент, когда туда входила немецкая дивизия. Тридцать два солдата были разорваны бомбами или скошены автоматными очередями террористов из GAP, затаившихся на параллельной улице. Уцелевшие немцы преследуют партизан и арестовывают всех, кого смогли задержать или кто просто жил поблизости. Центр Рима взят в кольцо, для предотвращения восстания присылают подкрепление, репрессии молниеносны и беспощадны. В газетах от 25 марта официальное сообщение немецкого командования гласит, что следствие идет полным ходом и будет предпринято все, чтобы подавить «деятельность этих уголовников. Никто не сможет безнаказанно саботировать укрепившееся итало-германское сотрудничество. Вследствие этого германское командование приказало, чтобы за каждого убитого немца было расстреляно десять коммунистических бандитов. Этот приговор уже приведен в исполнение».
Шеф СС Герберт Капплер забрал из тюрем на виа Тассо всех, кто, по его мнению, «заслуживал смерти», в том числе евреев и антифашистов. Нужного количества не набралось, и тогда директор тюрьмы в Реджина-Коэли покрыл «недостачу». Он даже превысил квоту на пятнадцать человек — то ли из рвения, то ли обсчитавшись. Триста тридцать пять заключенных, из которых троим не исполнилось еще и шестнадцати, были отправлены в грузовиках с брезентовым верхом к Адреатинским рвам — здесь, возле Катакомб, была каменоломня. Их загонят в этот карьер и хладнокровно расстреляют. Идущие сзади будут падать на тела тех, кто уже убит. Потом немцы взорвут скалу, чтобы вызвать осыпь и скрыть место расстрела, не подозревая, что у преступления все-таки был свидетель: какой-то пастух спрятался, услышав шум моторов, и видел всю казнь от начала до конца.
Висконти пока не знает, что среди расстрелянных в тот день было двое хорошо знакомых ему людей: полковник де Монте-цемоло и Паоло Мокки. Тело последнего он позже опознает по свитеру, бывшему на нем в день ареста.
Кольцо вокруг Лукино и его друзей сжимается; теперь они отрезаны от общества, словно затравленные звери. После кровавого вечера 23 марта Пуччини, Кьяри и Лукино принимают решение разделиться и уехать из города, где их наверняка схватят. Но Марио Кьяри имел неосторожность в тот же вечер прийти на виа Салариа за вещами. Дом был окружен шестью десятками людей, среди них были и немцы, и итальянские фашисты. «Где Висконти?» — спросили они. Кьяри выпалил первое, что пришло ему в голову: «С четверга он в Милане». В этот момент в комнату входит Мария Черрути, так давно работающая в доме Висконти, что стала почти что членом семьи (Уберта относилась к ней как к сестре). Полиция задает ей тот же вопрос: «Где граф?», и каким-то чудом она дает тот же ответ, что и Кьяри: «В четверг вечером уехал в Милан».
Марио Кьяри вспоминает, как, собирая вещи, заметил, что у него стянули деньги и золотую цепочку и высказал недовольство. Он рассказывает: «Эсэсовцы стали искать итальянских фашистов, в это время зазвонил телефон: это был Лукино. „Я не знаю, где он“, — очень тихо сказал я и сразу повесил трубку. Он, конечно, сразу сообразил, в чем дело. Между тем эсэсовцы и фашисты решили, что меня надо отвезти на виа Тассо. Тут вмешался один коротышка из Службы безопасности и сказал: „Нет, я отвезу его на улицу Сан-Витале[27]“. Этим он спас мне жизнь…»
В тот же вечер Висконти покидает дом Уберты. В течение трех недель он скрывается у друзей, которых с каждым днем становится все меньше — это те, кого еще не схватили или те, кто не успел попасть под подозрение. Гораздо труднее стало поддерживать связь с людьми из отрядов, каждому приходится действовать на свой страх и риск, испытывать судьбу. «Мы были совсем одни, — скажет он позже, — наедине со своими мыслями и мечтами. Наедине со сменявшимися образами — образами наших друзей, которые были невесть где. Среди них были и рабочие, и интеллектуалы. Каждый вечер их матери сидели дома и ждали их возвращения…»
Где были Марио Кьяри, Джанни и Дарио Пуччини, Ринальдо Риччи? Уже в тюрьме? Еще на свободе? Надолго ли? Страх повис над Римом: спрятать человека, которого разыскивает гестапо, значило обречь на смерть и себя, и близких.
Даже Анна Маньяни, бунтарка, тигрица — и та была испугана не на шутку, когда в дверь ее дома на виа Амба Арадам постучался Альфредо Гвиди… Несколько дней назад здесь, на улице, ранили немецкого офицера, и все близлежащие дома подверглись обыску. Если это повторится, если его обнаружат — что тогда будет? Она не одна; у нее есть сын Лука, родившийся в год, когда снимали «Одержимость». Висконти успокаивает ее: это всего на пару дней, а потом он уйдет. Анна все еще сомневается; наконец с тихим бешенством в голосе она отвечает: «Я боюсь, но можешь оставаться, сколько захочешь». Лукино провел там несколько дней, пока не нашел другое укрытие.
Вечером 15 апреля он останавливается у Карло Новаро, сводного брата Ринальдо Риччи. Здесь на проспекте Эритреи подручные Коха арестовывают его и везут в пансион Джаккарино, где уже находится один из друзей, двадцатидвухлетний Франко Ферри. Вилла располагается в саду, у Пьетро Коха большой лакированный стол, его кабинет застлан коврами с пушистым ворсом, здесь всюду мягкий свет, но в то же время в коридорах на полу — пятна крови, комнаты приспособлены под камеры для допросов, лестницы спускаются прямо в подвалы. Элегантный Кох, ценитель искусства, барышень и кокаина, считал делом чести развязывать языки самым неразговорчивым.
Перед допросом он сажает жертв в одиночные камеры размером метр на метр, где невозможно выпрямиться. «Меня арестовали, — вспоминает Висконти, — фашисты из банды Коха, в римской квартире; это была одна из наших конспиративных квартир. Меня взяли с револьвером в кармане, привезли в пансион Джаккарино и бросили в камеру. Целыми днями меня держали взаперти, не давали есть, чтобы я ослаб и заговорил… Они говорили мне: „Назови нам имена! Иначе тебе не поздоровится“.» Поскольку в ответ Висконти не произносил ни единого слова, они на его глазах вписывали в его дело красными чернилами приговор: «РАССТРЕЛЯТЬ». Он пишет об этом сеансе устрашения как о «паршивом спектакле».
Он знал, что есть и другие арестованные, которых истязали гораздо больше. Висконти рассказывал: «Меня они не пытали, только били… На моих товарищей они тоже набрасывались с криками: „Выдай нам имена!“ Но мы никого не выдали». После допросов узников отводят в тесные камеры или старые угольные подвалы, где не было освещения, а воздух провонял экскрементами. «Они внезапно врывались в камеру, раз, два, а то и три раза в день, и свирепо избивали нас. По ночам мы помогали тем, кого после допроса подвешивали на дыбу: у них были вывихнуты суставы, они все были в крови… Некоторые не могли даже чашку к губам поднести из-за того, что на допросе им переломали пальцы. Именно там я стал свидетелем самых страшных зверств в моей жизни».
Эти образы преследовали его неотвязно, и сразу же после освобождения Рима Висконти захочет снять фильм «Пансион Ольтремаре», сценарий которого в деталях разрабатывает с Ринальдо Риччи и Франко Ферри. В октябре 1944 года, несмотря на то, что оба его соавтора прекратили работу и завербовались в Армию национального освобождения, он заявляет: «Я планирую снять фильм под названием „Пансион Ольтремаре“, основанный на реальных событиях. Это психологическая драма, которая вызовет много споров. Действие картины разворачивайся в Риме, в самый разгар мрачного шабаша нацистов и фашистов».
«Гибель богов» будет снята еще очень не скоро, но Висконти уже жаждет разоблачить тайную сделку между нацистами и крупными промышленниками. Предвосхищая замысел «Ночного портье» Лилианы Кавани, он собирается показать немецких офицеров мягкотелыми, извращенцами и садистами. В частности, Висконти планировал снять сцену частной вечеринки в трактире Бернини, организованной одним промышленником, пьемонтским фашистом. Среди приглашенных — офицер Люфтваффе, «юный и уже в стельку пьяный», и офицер СС, «бесстрастный, резкий и словно окоченевший; вместо правой руки у него деревянный протез, негнущийся, в черной блестящей перчатке». «Не произнося ни слова, с жестокой усмешкой на губах», он смотрит, как в центре зала поет и одновременно раздевается молодая женщина. «В конце он подходит к ней и своей негнущейся рукой в черной перчатке похлопывает ее по плечу и по груди…»
Историям этих личностей и их продажной, извращенной и декадентской среды противопоставляется история молодого человека, арестованного по ошибке и увезенного в пансион Ольтрамаре. Здесь, пообщавшись с партизанами и антифашистами, которые выстояли под пытками, он становится политически сознательным — настолько, что бесстрашно встречает свой конец в Адреатинских рвах.
Двенадцать дней, проведенных Висконти в пансионе Джаккарино, ежеминутное столкновение с насилием, жуткое зрелище страданий, истребляющих в человеке все, что в нем есть самого хрупкого, самого человечного, ознаменовываются окончательным приходом к его собственной политической зрелости: он достиг ее, пережив подлинное сострадание, боль и кошмар, а не изучая политические доктрины.
Двенадцать дней две женщины предпринимают все возможное, чтобы спасти Лукино от пыток и не дать Пьетро Коху осуществить свою угрозу — передать его в лапы гестапо. Уберта просит свою свекровь, баронессу Аванцо, заступиться за него. Мария Денис приезжает в пансион Джаккарино и пускает в ход все свое обаяние, пользуясь тем, что Кох все еще неравнодушен к ней.
Наконец 27 апреля Лукино переводят в Сан-Грегорио, тюремный госпиталь, где условия существенно мягче. Ему разрешено посылать записки Марии Черрути. Эти записки, теперь пожелтевшие и смятые, сохранились. Иногда в них слышится упрек: «Почему Уберта еще не пришла ко мне? Если бы они меня расстреляли, к этому моменту она могла бы посмотреть только на мой труп, да и то уже основательно разложившийся». Но есть здесь и слова благодарности, обращенные к женщинам, которые поддерживали его и присылали ему деньги: он благодарил баронессу и мадемуазель Рика (вымышленное имя, под которым, вероятно, скрывается Мария Денис — вероятно, он придумал его не столько для того, чтобы защитить ее от подозрений, но из желания затеять романтическую игру). Из этих же романтических соображений он выбрал и свой собственный псевдоним, которым пользовался во время войны, Альфредо Гвиди: имя он позаимствовал у Альфреда из «Травиаты», а фамилию взял в честь брата Гвидо, убитого на другой, чужой для него войне. Вот отрывки из этих записок.
Дорогая Мария, хорошенько отблагодари мадемуазель Рика. Мои новости — всего в двух словах. Сейчас мне хорошо. Я — тот, кому нужны новости, от госпожи Уберты и от всех вас. Но если Уберта не подаст прошение о свидании, ничего не получится. Я все-таки надеюсь, что она скоро придет. Прошение о свидании она может подать здесь, комиссару, а он передаст его особой политической полиции.
Дорогая Мария, я еще не видел писем, их сперва должен прочесть комиссар. Спасибо за все. Мне нужен маленький пузырек чернил, ручка и промокашки. До завтра. Спасибо. Пока.
Альфредо Гвиди
Дорогая Мария, у меня дома, точнее, в моей спальне, еще должны быть бутылки с ликером (коньяком). Принеси их. Если спустишься в погреб, найдешь там бутылку виски. Нельзя ли принести немного средства от насекомых с разбрызгивателем? Возьми у г-на Массимо две из тех моих книг, которые я хочу иметь здесь. Во-первых, роман Грина, и еще том Дидро. О деньгах: у меня 4000 лир от баронессы, 3000 или 2000 от тебя, 2000 от г-на Пагани. Мне понадобится сироп от кашля. Кекс с изюмом — просто чудо. Нельзя ли вызвать его на бис?
О войне здесь не сказано ни слова. Висконти в тюрьме выглядит таким же беззаботным, каким в пармском заточении был Фабрицио дель Донго, тот стендалевский герой, роль которого Лукино спустя несколько недель после выхода из госпиталя предложит Франко Ферри. В свою очередь, Уберта играла для Лукино роль герцогини Сансеверино — как она рассказывала позднее, она тогда делала все возможное, чтобы как можно быстрее вызволить брата из заключения. Пьетро Кох, рассказывает она, «был страшным человеком, он разъезжал повсюду с бандой фашистских громил».
Кох любой ценой стремился выведать, где скрывается Мария Денис: она исчезла, чтобы скрыться от зловещего воздыхателя, который бросал на нее мрачную тень. Он шантажировал Уберту, и та, взвесив все «за» и «против», сочла, что актриса не может потерять многое, уступила ему. Она вспоминала об этом так: «„Если не скажете мне, где она, я не выпущу вашего брата“, — пригрозил мне Кох; тогда я сказала, что она в гольф-клубе д’Аквасанта… там скрывались и многие другие, но тогда я этого не знала».
Лукино вышел из тюрьмы Сан-Грегорио 3 июня, когда американские войска уже стояли у ворот Рима. Марио Кьяри, брошенный в тюрьму Реджина-Коэли, вспоминает, как утром 4 июня его сокамерник, старый анархист, большую часть жизни проведший по тюрьмам и ссылкам, вдруг сказал ему: «Смотри, что творится!»: «И тут я увидел сцену в духе Эйзенштейна: охранники-республиканцы срывали с себя фашистские знаки отличия и заменяли их маленькими звездочками… Около 11 часов пополудни тюремщик (которого потом зверски убили, хотя он-то как раз был не из худших) сказал нам: „Я выпущу вас, но подождите немного — немцы отступают и хватают всех, кто попадается им под руку, а также палят по всем наугад…“»
Кьяри продолжает: «Я видел немцев на улицах, они были все в копоти и в крови. Видел я и знаменитый катафалк, нагруженный произведениями искусства и всем прочим, что им удалось награбить. Вспоминаю, как на виа Лунгаретта юный солдатик вермахта, которому на вид нельзя было дать и пятнадцати, стоял, держа в одной руке связку гранат, а в другой три или четыре рожка с мороженым. Я пошел к мосту Систо, только он и был открыт — по нему проезжали „Пантеры“, а внизу, под мостом, мальчишки купались и загорали на солнце. К чему было ликовать? Просто город покидал очередной оккупант.
Мы с Лукино встретились вечером на виа Венето. Как же чудесно это было после бегства, после всего этого ужаса! Можно было снова принять ванну — о счастье! Мы пошли на площадь Венеции, сияла луна, и на улице показался первый американский джип. Мы с несколькими друзьями отправились на виа Салариа… но многих было уже не вернуть. Затем мы вернулись на виа Венето, выпили в старом кафе у Розати пару стопок джина, развалившись на красных диванах. По улицам ездили американские грузовики, и громкоговорители, установленные на них, сообщали о высадке в Нормандии».
Уберта вспоминает, что «это было время ликования — сумасшедшего, безудержного… Все были невероятно воодушевлены! А ко мне снова вернулся Лукино». В памяти плодовитого сценариста неореализма Чезаре Дзаваттини запечатлелась и такая невероятная сцена: 4 июня «в толпе, высыпавшей на площадь Святого Петра и принимавшей в себя всех случайных прохожих, в этой окрыленной солидарностью толпе», он замечает и Лукино Висконти, аристократа, потомка того самого Лукино Висконти, который вел нескончаемые войны с родом Гонзаго за свою родную деревню. Впоследствии не только Дзаваттини будет ломать голову над этой загадкой: как вышло, что отпрыск миланских тиранов и друг принца Умберто (который вскоре, пусть и ненадолго, станет королем Италии), пройдя горнило войны, смог превратиться в «красного графа» и князя Революции?
Глава 12 ПРОЦЕСС
Правда, горькая правда.
Стендаль, «Дантон»Правду начинаешь любить особенно, когда вокруг одна ложь.
ДидроПятого июня, с приходом американцев в Рим, закончилась двадцатидвухлетняя эпоха фашизма, годы, когда, по словам Висконти, «душа итальянцев была задушена, растоптана диктатурой и не осталось ничего подлинного, настоящего». Девять месяцев немецкой оккупации и еще не закончившаяся война — таков был последний период фашизма в Италии, и увенчался он пароксизмом ужаса. Но для интеллектуалов, которые покинули башни из слоновой кости ради борьбы в рядах Сопротивления (в нем участвовал даже авторитетный неаполитанский философ Бенедетто Кроче), это освобождение страны стало новым возрождением. Эта эпоха представлялась им новым, еще более чистым Рисорджименто.
Долгие месяцы они ждали мгновения, когда смогут наконец реализовать свои мечты, свои планы обновления общества, о которых ночами напролет спорили тайно. Но они не могли не замечать окружавшей их нищеты; Витторио де Сика сказал тогда: «Нечего было и думать о кино: не было ни кинотеатров, ни камер, ни даже пленки. Мы и друг друга-то не признавали. Никого не интересовали чужие дела, каждый думал и мечтал только о своем».
Но фильмы все-таки снимались — на севере, в Венеции, под покровительством и контролем Итальянской социалистической республики. Некоторые кинооператоры, техники и продюсеры поддались давлению или поверили сладким обещаниям — некоторые из них, в частности актеры Освальдо Валенти и Луиза Ферида, вскоре будут обвинены в связях с палачом Пьетро Кохом и приговорены к расстрелу. Студия «Чинечитта» в Риме, построенная фашистами и являвшаяся предметом их гордости, почти сразу после освобождения столицы была переоборудована под лагерь для беженцев. Адмирал Стоун, военный командующий, приказал разрушить следы, остававшиеся от киноцехов, избавиться от всего технического инвентаря — словом, разрушил все, что составляло киноиндустрию, и сказал: «Италия аграрная страна, зачем ей своя кинопромышленность?»
В то же время Висконти был убежден в срочной необходимости преобразований и морального оздоровления кино. В июне 1944 года он вместе со своим товарищем Марио Кьяри, коммунистом Умберто Барбаро, кинорежиссером Марио Камерини и писателем Марио Сольдати принимает участие в люстрационной комиссии, работу которой контролировал Союз работников развлекательной отрасли. Эта комиссия составляла черные списки и передавала под суд дела тех, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистской и фашистской пропагандой.
Еще через несколько месяцев Висконти примет участие в производстве коллективного фильма, создававшегося вместе с товарищами по борьбе и работе — монтажером Марио Серандреи и Джузеппе де Сантисом. Этот монтажный фильм назывался «Дни славы», был склеен из кусков документальной хроники, запечатлевшей главные бои и самоотверженность партизан. Эти дни, начиная с 8 сентября и до освобождения севера Италии, с кадрами празднования успешных подпольных акций и окрашенными лирикой и по-эйзенштейновски пафосными картинами начавшегося восстановления.
Два эпизода этой пропагандистской коммунистической картины лишены какой бы то ни было напыщенности: это сегмент фильма, который рассказывает о расследовании Марчелло Пальеро по делу об Ардеатинских рвах, а также хроника суда по делу бывшего шефа полиции Пьетро Карузо и Пьетро Коха (впоследствии оба они были казнены, что также показано в фильме). На этом процессе выступал Висконти — вызвать его в качестве свидетеля потребовал сам Кох. Палач из пансиона Джаккарино рассчитывал, что показания Висконти помогут смягчить приговор: разве те знаки особого расположения, которые он оказывал высокородному узнику, не могут извинить некоторые его жестокости? Но свидетельство Висконти было беспощадным.
В фильме «Дни славы» есть два драматичнейших момента, которые ясно показывают, что происходило в те дни. Во-первых, это сцена расправы над бывшим директором тюрьмы Реджина-Коэли Донато Карреттой. Висконти с камерой в руках случайно оказывается в гуще толпы, когда Карретта прибывает во Дворец Правосудия — его узнают, отбивают у карабинеров и швыряют в Тибр. На воде его окружают лодки, он пытается выплыть, но его забивают веслами, не давая высунуть голову из воды. Следом за этими страшными кадрами репортажа об убийстве следует процесс над Кохом и Карузо. Камера Висконти точно фиксирует кульминационные моменты суда. Длинные и плавные панорамы зала здесь чередуются с крупными планами лиц, выхваченных из толпы, в основном женских. Есть здесь и портреты судей (среди них отец будущего секретаря коммунистической партии Энрико Берлингуэра), и напряженные лица подсудимых.
В этом эпизоде, словно бы предугадывающем картину «Посторонний», монтаж создает атмосферу трагического ритуала такой силы, какой не достигает снятый на следующий день в форте Браветта эпизод казни — сухой и стремительный, как нож гильотины. В лучах слепящего послеполуденного солнца мы видим долговязую фигуру одетого во все черное Пьетро Коха, которого выводят из фургона. Следует план с крепостью, затем камера показывает стул, на котором сейчас завершится жизнь зловещего хозяина пансиона Джаккарино и многих других «вилл скорби». Происходит религиозный обряд — ему дают крест, он целует четки. Уже сев, со связанными руками, он отказывается от повязки. Совершается казнь, тело падает, стул опрокидывается.
Марио Кьяри скажет: «Мы присутствовали при казни Коха. Лукино был убежден, что нужно присутствовать при акте справедливости. Лукино был прежде всего философом». Философом — то есть тем, кто подчиняет жизнь нравственным требованиям, кто последователен и разумен. Кроме того, совсем недавно он стал еще и коммунистом.
Теперь Лукино, суровый, словно монах-доминиканец, уже работает не щадя сил, пытаясь догнать утраченное время; не щадя сил, он окунается в море проектов, ради которых бросает клич сценаристам, продюсерам, актерам. Так, например, за один из сюжетов возьмется Микеланджело Антониони — это проект, основанный на сюжетной линии мопассановской «Пышки». Этот проект заказал продюсер Альфредо Гварини, желавший видеть в главной роли свою жену Изу Миранду. Антониони вспоминает: «Это была история о маленьком женском оркестрике, отправленном на фронт, чтобы развлекать солдат. Жаль, что фильм не удалось снять: мне кажется, он мог бы стать столь же важным, как и „Рим, открытый город“. Работали над ним Васко Пратолини, Джанни Пуччини и я. По утрам мы собирались у Висконти на виа Салариа. Мы уединялись в комнатке маленькой башни. Там горел огонь в камине и стоял большой стол из административного совета, на нем лежали пачки бумаги и карандаши. Лукино садился на председательское место на возвышении. Он говорил: „Послушаем, у кого какие идеи“. Все это немного напоминало школу, когда никто не готов к урокам, и на меня поглядывали как на „штрейкбрейхера“ — я просыпался рано и выглядел не таким измотанным, как все остальные. После двух месяцев работы, как-то ближе к вечеру, Лукино говорит: „Ребята, я тут прочел, что вы насочиняли, и вот что я вам скажу: давайте считать шуткой все, что вы сделали до сегодняшнего дня“. После этого он прямо у нас на глазах бросил единственный экземпляр рукописи в огонь».
Многие сценарии этих лет постигла такая же судьба. Некоторые из них напрямую опирались на «очень актуальные темы», о которых Висконти очень хотел высказаться. В мае 1945 года он подписывает с фирмой Lux контракт на съемки фильма под названием «Ярость» (Furore). Планировалось, что он будет работать над фильмом со своими верными коллегами — Марио Аликатой и Джузеппе де Сантисом. Позже, в конце 1945 года, замышлялся и еще один фильм, тоже на «сопротивленческом» материале — экранизация романа Элио Витторини «Люди и нелюди». Это была история миланского партизана, разворачивающаяся в 1944 году. Сицилиец Витторини настоятельно попросил Висконти не брать деньги на съемки «ни у какой капиталистической компании».
Все эти прожекты довольно быстро терпели крах. Висконти будет уверять, что ни один из этих проектов так и не был завершен из-за нерешительности продюсеров, не желавших «вложить перст в рану». Однако та же судьба постигнет и менее злободневные, но куда более масштабные проекты — «Пармскую обитель» и «Процесс Марии Тарновской». Этот последний проект, поначалу носивший рабочее название «Смерть в Венеции», был основан на подлинном уголовном деле, о котором в 1907 году много писали газеты. Висконти работал над этим замыслом с весны 1945 года, на протяжении почти года, пока не отказался от него, задумав теперь создать эпическое полотно о жизни миланской буржуазии — историю семьи промышленников, начиная с объединения Италии и до Второй мировой войны.
Но только ли продюсеры были виноваты в том, что все эти проекты не состоялись? Альфредо Гварини очень интересовала история Тарновской, «киевской ведьмы», которую писательница Анни Вивиани в 1918 году разыскала в самой глуши Апулии, в женской тюрьме Трани. Потом она напишет роман «Цирцея», в котором проследит весь жизненный путь этой украинки, новоявленной Марии Стюарт. Разодетая в пух и прах, как языческий божок, вся в любовниках, бриллиантах и долгах, она каждым своим поступком вызывала скандал, осуждение и восторг до тех пор, пока не подговорила двух своих любовников убить ее «жениха» графа Павла Камаровского. Убийство произошло утром 4 сентября 1907 года во дворце Кампо-Санта-Мария-дель-Джильо, в Венеции.
Этот роковой образ инфернальной Мадонны идеально совпадал с желаниями продюсера, мечтавшего прославить свою жену, прекрасную Изу Миранду. Да и сама кинокартина подходила для Висконти с его масштабом амбиций — история суда одновременно над женщиной и над обществом, обреченным на крушение, история, которая происходит весной 1910 года на берегах Большого канала, заболоченные воды которого отражают и в то же время подтачивают роскошные декадентские аристократические дворцы.
Невероятный водоворот страстей и безумств бурлит вокруг Марии Тарновской с того самого дня, когда в семнадцать лет она, убежав из дома, вышла замуж за польского аристократа Василия Тарновского, распутного и легкомысленного буяна. Через несколько лет, под конец званого обеда, Василий проорет любовнику жены графу Алексису Божевскому, самому яркому красавцу во всей императорской гвардии: «Я желаю сыграть в жмурки. В жмурки с уланом! Пиф-паф, в жмурки!» Василий откланивается и направляется к выходу, и в этот момент Алексис стреляет ему в спину, а затем кланяется Марии, платье которой забрызгано кровью.
Начинаются ее скитания по Европе, из одного «Гранд-Отеля» в другой, сначала с Божевским, который в конце концов срывает повязку с гноящейся раны на шее и умирает у нее на глазах. Она вступает в связь с Донатом Прилуковым, знаменитым московским адвокатом: графиня надеется, что он поможет ей вернуть детей. Прилуков становится ее любовником, совершает ради нее хищение денег, подкидывает ей мысль обольстить графа Камаровского и сделаться его содержанкой.
По всей видимости, Прилуков внушает ей и идею убить Камаровского, воспользовавшись страстью юного студента Николая Наумова, родственника писателя Тургенева и сына орловского губернатора. Наумов боготворит Марию и Бодлера и испытывает высшее наслаждение под ударами кнута новоявленной Цирцеи. Находясь в близкой дружбе с Камаровским, он станет и его убийцей.
Потрясающий сценарий о пышных адских муках великолепно подходил для Висконти — то же можно сказать и об эпопее «В поисках утраченного времени». Но собрав невероятную по размерам документальную базу, тщательно сделав досье, в котором было все — признание, речь психиатра в защиту подсудимой, показания обвиняемых и свидетелей, судебные прения адвокатов и судей и даже выдержки из газет всего мира, Лукино отказывается от этого проекта.
«Не знаю, почему, но в то время у Висконти не было денег», — свидетельствует Антониони, который писал сценарий фильма вместе с графом Гвидо Пьовене, Антонио Пьетранджели и Висконти. «Он сдал свой дом на виа Салариа и снял два номера (один для себя, другой для прислуги) в отеле „Сан Джорджо“, на редкость гнусном заведении на одной из грязных улиц у вокзала Термини. Это была поистине ужасная дыра. По утрам мы приходили к нему, еду нам приносили прямо в спальню, и, когда Лукино надо было куда-нибудь уйти, он запирал нас на ключ, чтобы заставить работать. Мы чувствовали себя как звери в клетке. Пьовене от отчаяния вставал в оконный проем и плевал на головы всем лысым, что проходили мимо.
К счастью, вскоре наступила весна, и мы стали ездить работать в Остию, на пляж. Мы отправлялись туда большой компанией — Висконти сопровождал один его друг, бывший при нем чем-то вроде церемониймейстера, и его сценограф Марио Кьяри. По пути мы заезжали в тратторию „У Джины“, чтобы запастись провизией — там мы покупали целую корзину еды, а потом работали на пляже до захода солнца. Все было замечательно: море, песок, в ту пору еще совсем чистый, Лукино и его друг, говорившие между собой по-французски, шезлонги, белые скатерти… Все это очень напоминало пикник элегантных купальщиков на Лидо из „Смерти в Венеции“.
Как-то мы делали подробный постановочный сценарий для „Тарновской“, в одной из сцен слуги накрывали на стол. Лукино спросил: „Давайте решим, что будет лежать на подносах?“ Я ответил: „Лукино, ты должен знать это лучше всех. Только ты способен написать эту сцену“. И он написал сцену на целых двенадцать страниц. Только такой паневропейский аристократ мог аккуратно перечислить все эти фарфоровые чашки, тосты, масло со специальным маленьким ножом, пресервы, цветок, серебряные приборы, лежавшие на подносе. Он всегда был великим декоратором. Именно в этой сцене его скрупулезность была очень важна — мы бы ошиблись с тем, что лежит на подносах».
Антониони говорит, что после месяцев упорной работы Висконти, выведенный из себя инфантильностью и капризами Изы Миранды, заявил, что больше не хочет ставить картину. «Мы старались переубедить его всеми правдами и неправдами, но все было напрасно. Он был непреклонен и заставить его передумать было невозможно. В это время мы снова вернулись на виа Салариа, и однажды он пригласил туда продюсера Гварини. У Гварини всегда был вид беспечного жизнелюба. В нашем обществе он и вовсе постоянно ликовал, ведь мы собирались делать фильм с Изой Мирандой. Когда Лукино объявил ему новость, он побледнел и пошатнулся. Мы уложили его на диван, и все вышли, оставив бледного как полотно Гварини одного». Можно себе представить законное разочарование Антониони, которому предстояло быть ассистентом Висконти на этом фильме. Позднее Висконти рассказал, что сжег все рабочие материалы для фильма.
Но так ли это? Нет, ведь эта история его глубоко интересовала. Когда годы спустя, в 1965-м, нежная дружба свяжет его с Роми Шнайдер, воскреснет и навязчивый образ Тарновской. Он так и не перестал думать об этом проекте и, по словам Антониони, думал о нем «до конца своей жизни». Нет сомнений, что он как в зеркало вглядывался в эту героиню, Марию Тарновскую, в судьбе которой столь причудливо переплелись красота, знатность, непокорный дух и изощренная ядовитость. Сидя в венецианской тюрьме Джудекка, она записала в школьной тетради черным карандашом, что чувствует, как в ее жилы и в живот проникает «зараза». Как и Лукино, она жила под знаком вещей змеи, ее жизнь наполняли яды — болезнь, невроз, безумие, дурной глаз. Смерть словно бы окружала ее, и всюду за ней по пятам следовала злая тень, которая росла «ежедневно и еженощно, постепенно превращаясь в громадное чудовище». Она носила это чудовище в себе, и его увидят все — в тот день, когда, по ее словам, «взорвутся хрупкие кости моей головы».
Та же черная кровь струилась в жилах многих и многих других висконтиевских героев, всех тех, кто похож на членов его семьи: от графини Серпьери из «Чувства», которой безразлично, что она покрывает позором свое имя, и до Лунного короля Людвига II, «загадки для всех и для себя самого», рожденного под знаком Сатурна, как и Висконти, родившегося под знаком разрушителя-Скорпиона. Как и Тарновской, Людвигу было «отказано в праве любить». Круг интересов Висконти был поразительно широк — он всегда нащупывал связи между самой жгучей злобой дня и теми далекими историческими перспективами, которые она открывает и к которым он так сильно тянулся.
Впрочем, если присмотреться, разнообразие это относительно: ведь приговор действующим лицам дела Тарновсхой, этот приговор всему классу, вынесенный Историей, перекликается с произведениями, которые он начал ставить на театральной сцене, и все они — все, без исключения — судят целое общество.
Еще в конце 1944 года туринский промышленник, самый богатый продюсер тех лет, Риккардо Гвалино, предложил Висконти поставить любой спектакль по его выбору в римском театре «Элизео». Несколько лихорадочных дней — и на свет появляется «вошедшая в историю» постановка «Ужасных родителей». В предисловии Жана Кокто к французскому тексту Висконти красным карандашом подчеркнул суть замысла, заявленный поэтом еще в 1939 году: «Следует оставаться точным живописателем общества, подошедшего к краю пропасти, нужно создать современную и обнаженную пьесу…» На каждом представлении, которые давались по утрам со вторника 30 января до 13 февраля 1945 года, глухой шум электрического генератора во время спектакля напоминал, что на немецком фронте и на Рейне все еще идет война. Однако в театрах, словно бы превратившихся в трибуналы, уже начался суд над «обществами, стоящими на краю пропасти».
Что есть театр? Висконти отвечает на этот вопрос так: «Театр — это трибунал, здесь можно услышать и вещи, которые повергают в шок». В том же 1945-м он устраивает целую серию скандальных спектаклей — после «Ужасных родителей» он ставит пьесу Марселя Ашара «Адам», которая была запрещена в Милане и Венеции как «растлевающая молодежь», и, в конце этого же года, «Табачную дорогу» Эрскина Колдуэлла. Он покинул город, будучи аристократом, а вернулся в него театральным режиссером и человеком левых убеждений — теперь он был «красным Лукино», а ломбардская пресса писала, что этот политический цвет «хорошо сочетается с его голубой кровью». Что же изображено на его новом гербе? Постель, оскверненная кровосмешением, мужчина (вирильный Витторио Гассман) с напудренным и накрашенным лицом и высохшее дерево среди пустыря, где влачит жалкое существование семья простолюдинов.
Не все поставленные им тогда пьесы были в чем-то скабрезными, не все эти сюжеты «воняли, как выгребная яма» (по отзывам некоторых современников), но все они прозвучали обвинением обществу, которое дискредитировало себя. Постановка «Пишущей машинки» Кокто, этой истории об анонимных письмах, осуждала заговор молчания в маленьком городке с удушающей атмосферой, столь напоминающей атмосферу фильма Клузо «Ворон» и в то же самое время — удушливую провинциальность фашистской Италии.
Тираническая упорядоченность была беспощадно заклеймена в постановке «Антигоны» по пьесе Ануя. Весь спектакль напоминал похоронную церемонию, царь Креонт был представлен в виде восковой фигуры, эдаким застывшим манекеном в черном тугом смокинге. Актеры, сидевшие на скамейках по краям сцены, под большой хрустальной люстрой, произносили свои реплики на сцене, превращавшейся то в похоронную залу, то в зал суда. Тот же дух осуждения выразился и в спектакле «За закрытой дверью» по пьесе Жана-Поля Сартра, премьера которого прошла в Риме в октябре 1945 года.
Висконти бросал правду — беспощадную правду — в лицо публике, еще не оправившейся от ужасов войны и шока поражения, правду о семье, этой святой и про́клятой ячейке итальянского общества, правду о гомосексуализме, правду о войне в Испании, на сей раз увиденной с другого берега, глазами Хемингуэя, чью «Пятую колонну» он тоже поставит на сцене. И итальянская публика не сможет принять этой правды, ведь она кажется всем некой утонченной игрой, подобной той, которую вел любимец муз и графинь, enfant terrible и иллюзионист Жан Кокто. Однако именно по стопам Кокто взошел на подмостки Висконти, также обожающий эпатаж.
Перед его яростной правдой в страхе пятятся даже критики, близкие к коммунистам. Они полагают, что их новоиспеченный попутчик делает шаг назад в их совместной борьбе, выбирая для постановок «произведения, и в художественном, и в моральном плане отвратительные», вроде «Ужасных родителей» — так ведь можно и снова заразить страну бациллами фашизма. «Италию напитывают ядом!» — кричали консерваторы, да и социалисты с коммунистами признавали, что определенные стороны жизни изображены с чрезмерным натурализмом. Яркий тому пример — изображение Америки в «Табачной дороге». Они восклицают: «Это не Америка!» точно так же, как Витторио Муссолини выкрикнул после «Одержимости»: «Это не Италия!» Ни те, ни другие не желают замечать царящую кругом беспросветную нищету и миллионы безработных.
Но для Висконти, как и для Сартра в пьесе «За закрытой дверью», послевоенный период восстановления и похвалы, расточаемые благословенному завтра, это прежде всего время искупления и очищения от прошлых ошибок, и здесь театр становится чем-то вроде жреца, который одновременно приносит жертвоприношение и совершает святотатство. Весьма важно, что антифашистская позиция Висконти далеко выходит за рамки сведения личных счетов, это не легковесное и прямое указание на виновность фашистов и не выставление козлов отпущения у позорного столба. На вопрос Гарсена из «За закрытой дверью» — «Чья это вина?» Висконти отвечает: виноваты все, и это заметно не по тому, что все прочие персонажи говорят в пьесе, а по тому, что они делают. Нет, от прошлого нам не избавиться, просто казнив Карузо, Коха и Муссолини. И его театр — это не шутейный тир, в котором публика, поудобнее устроившись в креслах, может посмеиваться над разоблаченными ничтожествами, которые прежде порабощали и подавляли их.
Разделяя коммунистические убеждения, Висконти всегда неприязненно воспринимал превращение сцены в площадку для политических заявлений. В отличие от Джорджо Стрелера, он не поставил ни одной пьесы Брехта. Он хочет будоражить публику, а не умиротворять, он врывается в храм театра, словно Герострат, полный ярости и жажды свержения идолов.
Первое, что ему нужно при выборе репертуара — понять, каков взрывной потенциал той или иной пьесы. Это объясняет, почему, помимо пьес «За закрытой дверью» и «Антигона», он взялся и за вышеупомянутого «Адама», за вещь, нескладность которой он сам же первый и признавал. Сам Висконти говорил: «Гомосексуализм существует, и мы не должны закрывать глаза на это явление и делать вид, что мы его не замечаем: случаи, благодаря которым он снова на повестке дня, весьма распространены и в Риме, и эта тема, которой раньше как будто вовсе не существовало, теперь неумолчно обсуждается в газетах». Весь фашистский период, добавляет он, «итальянский театр прятался в развлечениях, выбирая пьесы, не касавшиеся некоторых проблем… Даже сюжет „Ужасных родителей“ был совершенно взрывным для итальянской публики — к такому она совсем не привыкла».
Висконти взял в качестве своего проводника демона провокации. Он говорил, что любит «пугать буржуа до смерти», подобно тому, как в детстве пугал братьев и сестер, внезапно выскакивая из шкафа в гротескном и устрашающем наряде колдуна. «Аристократическая склонность к тому, чтобы не угождать» соединяется у него со стремлением выставить напоказ все, что фашизм задвинул в тень и представить в черном свете все, что вызывало у них восторг. Семья? Гнездо гадюк, в котором свились злодеяния, кровосмесительство и дрязги. Сильные, мужественные герои, «настоящие мужики»? Вот целая галерея мужских образов — жалкая фигура отца из «Ужасных родителей», Гарсен из «За закрытой дверью», псевдогерой, а в действительности — дезертир, и, наконец, жалкий гомосексуалист из «Адама». Что же было подлинным, настоящим? Обветшалая, шокирующая, сумасшедшая банальность «Табачной дороги», действие которой происходит во дворе прогнившего барака — здесь, под высохшим деревом свалены канистры из бензина, а действующие лица сидят на обочине дороги, которая никуда не ведет.
Все эти тексты, которые он вынимает из своей шляпы скандального фокусника — это путешествия в проклятую страну, и никуда не сбежишь из этого царства преступлений и искуплений, где терзают друг друга пленники и бесноватые, а ненависть так же свирепа, как и любовь. Подавленное насилие, словно магма, неистовым потоком извергается на поверхность. Фашизм пал, и теперь огненная лава сочится через трещины, которые война оставила на гармоничном фасаде общества. Фальшивые декорации рухнули. И, как на сцене, так и в зале, начало бушевать настоящее насилие, какого никогда еще не видели ни в одном театре.
Премьера «Ужасных родителей» состоялась 30 января 1945 года. В этой пьесе фрейдистский образ леса и двойное кровосмешение — Висконти входит в римский театр «Элизео», словно Эдип, и происходит решительный поворот в истории итальянского театра. Даже выстрел во время концерта не подействовал бы сильнее на пребывающую в сомнамбулическом сне публику, лишить ее сдержанной вежливости. Висконти говорил: «Наверное, зрители были так сильно потрясены потому, что постановка была весьма схематичной. Все было построено на достоверности и реализме, чего в те годы старались избегать…»
Актер Джорджо де Лулли рассказывает: «Мы словно в один миг смахнули пыль со старой мебели, со всякого хлама, избавившись от фальшивых тонкостей и притворной медоточивости. Сцена, залитая светом, вдруг погружалась в кромешный мрак; Андрейна [Паньяни], которую я привык видеть томной красавицей, была безо всякого грима, и еще бросались в глаза ее крашеные волосы… Нас словно бы втолкнули в мир, полный насилия, мучительный мир, где через пять минут ты забываешь, что находишься в театре, а если все-таки помнишь об этом, то думаешь — я пришел в театр, чтобы меня здесь задушили.
Что же было на сцене? Постель, уборная, в которой горит свет, смятое покрывало, прикроватный столик и лампа, накрытая носовым платком, чтобы приглушить свет. Комната эта, казалось, была обита матрасной тканью — для того, чтобы все выглядело подлинным, прилагались невероятные усилия. Не было почти никаких декораций и никакого украшательства на сцене. Актеры, которых я хорошо знал, стали неузнаваемы — из марионеток (ведь все актеры — марионетки) они превратились в потрясающие характеры… Помню и некоторые движения: Андрейна запускала пальцы в свою растрепанную, недокрашенную шевелюру; Пьерфедеричи (Мишель) буквально отшвыривал пинками кровать, реагируя на злословие матери по поводу его возлюбленной (в каком театре еще можно было увидеть подобное?). Здесь была вся правда, которую я никогда прежде не видел и которой, я думаю, никто никогда до тех пор не говорил. Веризмом тогда называли совсем другое».
Каждый вечер Андрейна Паньяни выходила на сцену и всякий раз публика была потрясена. Висконти уже работал с ней в труппе, созданной его отцом в 1926 году. В «Ужасных родителях» он совершенно преобразил ее: в ней вовсе не осталось той утонченной красоты, что так обольщала герцога Джузеппе. Лукино начал с того, что смыл «кило всякой дряни, которой она размалевала лицо». Теперь у нее были растрепанные волосы, никакого макияжа и мешки под глазами. Висконти вспоминает, что она выглядела изможденной — репетиции длились в общей сложности «по четырнадцать часов, в это же время ставилась одновременно и пьеса Ирвина Шоу „Деликатные люди“ (Gentle People); я же репетировал только по вечерам и всего по два-три часа, потому что Паньяни очень уставала…»
Рина Морелли, которая позже станет постоянной актрисой Висконти, сперва посматривала на него свысока. Он попросил ее «забыть о блестящей и уже состоявшейся карьере и вернуться к истокам, играть нутром, вытащить из себя подлинные страсти, бурлящие в глубине души. Актерский ансамбль выражал себя с неистовством, с силой, производившей громадное впечатление как на критиков, так и на публику».
Между двумя этими женщинами — совсем юный Антонио Пьерфедеричи, ангелоподобный, босоногий, он разгуливает по сцене и даже запрыгивает в постель своей матери — слышали бы вы, как взволнованно реагируют на эту сцену зрители в зале!
Чтобы придать Пьерфедеричи больше сходства с первым исполнителем этой роли Жаном Марэ, чей тип красоты Висконти искал у всех своих любимых актеров, Лукино перекрасил его иссиня-черные волосы в белокурые. Он жаждал обладать — поэтому он преображал внешность исполнителей до неузнаваемости. В этих постановках все должно было принадлежать ему. Характерно, что для декораций, макет которых был сделан им самим, он приказал доставить из собственного дома предметы мебели и даже знаменитое покрывало из шкуры опоссума: после спектакля зрители подходили потрогать его, открывали шкафы и с изумлением обнаруживали, что они забиты одеждой.
Он хочет быть полновластным капитаном своего корабля и не терпит никаких условностей, «железных правил», которые тогда неукоснительно соблюдались в театрах: он открыто заявил об этом на первых же репетициях, нарушив строгую иерархию и перетасовав привычные актерские амплуа. Рине Морелли, которой было тогда тридцать семь лет, он поручил роль юной красотки, а у Лолы Браччини отобрал привычную роль матери — чтобы передать ее Андрейне Паньяни, прославленной примадонне. Браччини пришлось удовольствоваться второплановой ролью Лео. «Этим я вызвал в труппе множество пересудов, но сам узнал об этом лишь значительно позже. В то время я понимал одно — все смотрят на меня косо. Джино Черви, который играл роль отца, заявлял направо и налево: „Терпение, ребятки, терпение, в любом случае во втором действии пьеса с треском провалится, и не о чем будет говорить…“ Однако успех вышел оглушительный, многие помнят спектакль и по сей день. Когда представление закончилось, зрители взбежали вверх по двум боковым лестницам, вырвались на сцену и принялись целовать актеров, которые были удивлены больше всех».
Постановщику удалось воплотить сценические указания Жана Кокто — «не давать ни артистам, ни публике ни секунды роздыху». Чародейство Висконти, которое один критик окрестил «сильнодействующим и зловонным», сохраняло свою силу на каждом следующем представлении, и публика каждый вечер позволяла увлечь себя этой мрачной магией, сотканной из предельно реалистических деталей — груды грязного белья, носки и ботинки на столе, домашние халаты, заляпанные пятнами жира и румян, — и из той липкой атмосферы сна и безумия, которая создается светом из ближних домов, тусклым мерцанием лампы на сцене и периодическим погружением в темноту, когда глохнет паровой генератор, подающий в театр электричество. Уберта говорила, что на представлении она словно бы надышалась эфира, а декоратор Марио Кьяри, руководствовавшийся в работе двумя ключевыми словами Висконти «болезнь и тоска», — вспоминал, что одним из важнейших штрихов в оформлении сцены была груда лекарств на ночном столике Ивонны.
Пьеса была поставлена с молниеносной быстротой, всего за двадцать дней; репетиции шли не больше шестнадцати дней, уточнит Висконти, и успех постановки удивил даже его. На премьере актеров 14 раз вызывали на сцену после первого акта, 16 раз — после второго и 20 раз — после финала. «Это был самый большой триумф во всей моей артистической карьере», — скажет Андрейна Паньяни, прекрасно помнившая, как восторженная толпа на руках пронесла ее по всему театру «Элизео».
Всякий раз, когда Висконти брался за театральную постановку, актеров бесконечно вызывали на сцену, звучали неистовые аплодисменты, разъяренные зрители уходили со спектакля, раздавался свист, в разгар действия слышались оскорбления и реплики из зала, в котором нередко завязывались и настоящие кулачные бои.
Именно этой наэлектризованной, до предела накаленной атмосферы и добивался Висконти, он с упоением создавал ее в каждом спектакле. В 60-е годы он с ностальгией будет вспоминать ту послевоенную публику, которую вырвал из апатии своими провокациями и агрессивной манерой — так он вернул публике страсть. «Сегодня у нас царит какое-то безразличие, лень, интерес к театру почти полностью утрачен. Возможно, это происходит от того, что не хватает взрывных тем, таких, без которых театру просто не жить. Театр должен быть долгим диалогом сцены и публики. […] В то время публика не оставалась равнодушной. Я видел, как люди дрались, как они вопили. Все это случалось на премьерах, в том числе на постановке „За закрытой дверью“. Для того времени это были очень новаторские вещи, и им удавалось раскачать публику».
Чтобы «раскачать» публику и пробудить ее от двадцатидвухлетнего сна, Висконти сразу ратовал за самый беспощадный реализм, реализм в стиле Андре Антуана. Висконти заставлял актеров перекрашивать волосы в морковно-рыжий цвет, отращивать бороду, килограммами жадно пожирать на сцене репу, как пришлось сделать Витторио Гассману, или ходить босиком по настоящей щебенке (в «Табачной дороге») — и его соперники не упускали случая поддеть режиссера. Когда Лукино взял на роль бабушки в пьесе Колдуэлла старуху из богадельни, его оппоненты спрашивали: «Зачем так выпячивать болезненную реальность?» На всех углах кричали о том, что его постановки полны извращений, нарушают элементарные законы театра, не говоря уж о правилах вкуса и морали.
Именно этого и хотел Висконти: вызвать бурные страсти, сделать из мертвого пространства пространство смятения, ярости, неистовства. В декабре 1945 года, немного времени спустя после нашумевшей премьеры «Табачной дороги», он заявляет прессе: «Энтузиазм молодых миланцев мне гораздо дороже признания снобистской публики, чьи аплодисменты поверхностны и двусмысленны. Молодые люди приходят ко мне после спектакля, они засыпают меня вопросами, и я подолгу с ними беседую. Должен сказать, что именно молодежь — та часть публики, которая больше других расположена идти за мной: такая легкость понимания объясняется исключительно общностью проблем и интересов. В сущности, для них я и работаю, разъясняя себе то, чем они со мной делятся».
Это был театр пробуждающегося сознания, и в нем были жажда ниспровержения, вспышки ярости и актерская игра на грани исступления. Висконти выходит на подмостки как «чудовищный волшебник» — его стремление к правде было поистине титаническим и не давало публике погрузиться в дремоту. Здесь была жизнь безо всяких прикрас — резкий свет, обжигающие реплики, мистерия полового чувства оборачивались кровосмесительными страстями, гомосексуальностью или садизмом. Театр Висконти черпает мощь из этой неприукрашенной жизни и вновь становится ее ясным и великолепным отражением.
Висконти, стоящий ближе к Арто, чем к Кокто, возвращает театру катарсис совершенно в духе древнегреческой драматургии — его спектакли вызывают у зрителей ужас и сострадание, но в то же время поощряют и отстраненный взгляд, а также мобилизуют скрытые силы. Цель театра Висконти — «коллективное очищение от скверны», он стремится изгнать бесов прошлого и придать истории подлинность, «говоря правду, и ничего, кроме правды».
Глава 13 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
Быть может, он — Дантон?
Стендаль, «Красное и черное»«Лукино от крайне признательного Фигаро, с дружескими чувствами. Де Сика, 1946». На снимке, который Витторио де Сика надписал для своего друга графа Висконти, он в костюме легендарного цирюльника выходит из декораций спектакля после «безумного дня», полного игры и огней, радужного разноцветья красок, раскатов серебристого смеха, музыкальных россыпей XVIII века, балетов и фарандол. Висконти временно объявил мораторий на разметанные постели и растрепанных женщин и поставил на сцене римского театра «Квирино» «Женитьбу Фигаро». В широком черном плаще, лакированных башмаках и шелковых чулках со снимка прямо на нас смотрит сам Фигаро. Как и он, де Сика тоже был южанином, уроженцем Неаполя — города, сердце которого переполнено нежностью, пусть даже с его языка постоянно сыплются грубые шуточки и насмешки.
Граф Висконти-Альмавива давал свой бал в таком дьявольском темпе, заставляя всех бегать, прыгать и танцевать, что его сорокалетний Фигаро совсем запыхался… В этой постановке было без счета причуд, распоряжений, блеска, зрелищности и расходов. Во-первых, следовало заплатить за декорации, изготовленные Кристианом Бераром — он соорудил своего рода пряничный замок из двух этажей, соединенных двумя лестничными пролетами. На верхней террасе того замка помещался маленький оркестр, который аккомпанировал головокружительному действу и танцам, а также всем появлениям и уходам со сцены. Была еще и целая толпа актеров, которые напоминали гротескных марионеток в духе Гойи и прелестные севрские статуэтки в манере Ватто. В этом спектакле был и измененный монолог Фигаро — де Сика спускался в зрительный зал и превращал его в диалог с публикой. И кульминация представления — бал-маскарад: восемь танцоров в черных бархатных костюмах, расшитых золотом и серебром, снимают маски, под которыми оказываются черепа, под мелодию «Карманьолы», танца, который стал символом Французской революции.
«Висконти-Эгалите,[28] — возмущенно писал один из журналистов, — стращает нас явлением мертвых голов посреди веселого финала, в то время как маэстро в напудренном парике ведет свой профсоюзный оркестр к заключительному аккорду „Карманьолы“.»
«Успех у публики огромный — как в Риме, так и в Милане. В Милане — особенно, — напишет позже Висконти. — Де Сика был очень хорош. Я получил огромное удовольствие от работы с ним, а он — от работы со мной». Актер, впрочем, скорее недоумевал, ошеломленный неистовым вихрем сценического движения. Как-то раз, отведя в сторонку Джерардо Геррьери,[29] чтобы не услышал граф, он раз за разом повторял: «Его величество Слово! Его величество Слово!», словно хотел спросить: «А как же текст? Что случилось с текстом?»
Однако для вельможи с виа Салариа в этом спектакле главным было барочное упоение движением, зрелищность, он желал создать праздник во всех смыслах этого слова. «Женитьба Фигаро» оказалась первой в числе множества пышных постановок, в которых Висконти решительно отказался от принципа «голых подмостков», придуманного драматургом и актером Жаком Копо и активно использовавшимся в парижском театре «Насьональ Популэр». Еще через несколько месяцев в спектакле Висконти «Преступление и наказание», в самый напряженный момент разговора между Раскольниковым и Мармеладовым на сцене появятся трое акробатов в усыпанных блестками трико и прервут эту беседу.
К 1948 году его сценографические изыски станут столь непомерно роскошными, что эта перелицовка Бомарше уже покажется блестящим, но скромным водевильчиком. Танец, музыка, пышность костюмов и декораций, королевство грез и наслаждения — V вот что такое театр для Висконти. В чем более всего нуждались люди после войны, как не в «веселье и в развлечениях?» — Висконти отвечал вопросом на критику в свой адрес. Он напоминал, что в Варшаве, на еще дымящихся руинах города, сначала выстроили новый театр и лишь потом взялись за жилые дома. Позже он скажет: «Сегодня я бы повел себя более строго, но о „Женитьбе Фигаро“ я ничуть не жалею».
Тридцать лет спустя L’Unita в некрологе Висконти самой крупной его удачей назовет именно «новое прочтение великой революционной пьесы Бомарше». Для коммунистической газеты эта постановка была «блистательным провозглашением веры» (ведь пьеса Бомарше была запрещена при фашистах). Газета превозносила точность акцентов, которые расставил «красный граф», «богатейший колорит спектакля и невероятные костюмы». «Преувеличивая чудовищное и гротескное в обществе XVIII века, — писала L’Unita, — Висконти обнажил декадентскую суть этого общества и возвестил неминуемый крах аристократии».
«Граф — коммунист?» — переспрашивает Паоло Стоппа, узнав, что бывший конезаводчик, которого он встречал в Милане еще до войны, состоит в приятельских отношениях не только с людьми из высшего света и актерами, но и с бывшими членами подпольной коммунистической партии, которые стали теперь видными политическими деятелями.
Висконти, без всякого сомнения, оставался графом и аристократом; он, разумеется, не отказался ни от своих вилл, ни от вереницы слуг в ливреях, ни от многочисленных собак, ни от денег, которые расшвыривал направо и налево. Пусть так, и все же он был «красным графом». А может быть, он просто сменил кожу, подчиняясь велению змея на гербе? Тем не менее, 12 мая 1946 года, за две недели до всеобщего референдума, который положил конец правлению Савойской династии, и за несколько дней до выборов в Учредительное собрание Висконти делает сенсационное заявление, шокировавшее всех. «Почему я буду голосовать за коммунистов» — так Лукино озаглавит свой «символ веры», опубликованный на страницах газеты L'Unita — в нем он присягает на верность партии, которую в те дни возглавлял Пальмиро Тольятти. В своей статье Висконти решительно отвергает все политические, религиозные и частные соображения, которые могли бы удержать его от этого дерзкого шага:
Страх перед коммунизмом все еще витает в воздухе — это страх падения во мрак, страх перед тоталитарным государством, перед контролем над свободой, удушением инициативы и прочей чепухой. Поскольку мы движемся к той форме правления, которая в силу целого ряда исторических, политических и экономических причин может быть только социалистической, а монархический режим был лишь последним «переносчиком» фашистской заразы, вот что я выбираю: республика, и республика парламентская, которую в ясных выражениях предложила в своей программе Коммунистическая партия.
Если и существует партия, способная защитить свободу от возрождения фашизма, то это Коммунистическая партия, и она стала бастионом этой защиты не сегодня — еще с 1921 года она объединяла вокруг себя итальянцев-антифашистов.
Висконти — католик. Он пишет, что компартия не просто уважает «свободу вероисповедания, каким бы оно ни было», но и «ставит целью создание града человеческого, который ни в коем случае не отрицает града Божьего». Он полагает, что в программе коммунистов есть «видение жизни и стремление к справедливости, честности и равенству», которые совпадают с его собственными взглядами и склонностью к практическим, организованным и созидательным действиям. В заключение он говорит: «В этой борьбе я участвую лично и намерен содействовать ей и в будущем — всей своей работой».
Нет ничего удивительного в том, что после войны Висконти, большой художник, присоединяется к коммунистическому движению. Его учитель Ренуар, при всем своем анархизме и глубинной духовной аристократичности, тоже агитировал за компартию; все деятели культуры послевоенной Италии, от Моравиа до Малапарте, от убеленного сединами поэта Умберто Саба и до молодого романиста (и графа!) Гвидо Пьовене видели в компартии и в ее первых шагах обещание свободы и прогресса. Это была надежда, которую нельзя было упустить.
Заявления о поддержке компартии и обращения в коммунистическую веру в среде итальянских кинематографистов теперь следовали одно за другим. В киноотрасли страны работали люди с самыми разными политическими взглядами — но даже Блазетти, Росселлини и де Сика, не бывшие антифашистами, теперь стремительно сближаются с левыми. В 1947 году кинематографисты, подвергшиеся нападкам христианских демократов, обретают в лице коммунистов яростных защитников. Когда ватиканская газета L'Osservatore Romano обрушивается на «Похитителей велосипедов», Пьетро Инграо спешит поддержать де Сику и обвиняет церковь в том, что она снова раздувает костры инквизиции. Тольятти в статье под названием «Фабиола, или Все пути ведут к коммунизму» выступает в защиту фильма «Фабиола» бывшего члена фашистской партии Блазетти. Вскоре компартия будет организовывать протесты против введения предварительной цензуры — эту систему приняли при фашистском режиме.
Одним из тех, кого любили ненавидеть коммунисты, был молодой заместитель госсекретаря по зрелищным мероприятиям и информации Джулио Андреотти, которого уже тогда считали политическим преемником премьера Альенде де Гаспери. Политика Андреотти вызывает постоянные протесты леваков. Сицилийский писатель Виталиано Бранкати в своем предисловии к «Возвращению цензуры» (1952) не слишком погрешил против истины, написав: «Только в Италии ненависть к культуре ходит на работу в собственный офис. По иронии судьбы, раньше это учреждение называлось Министерством народной культуры, а теперь зовется Субсекретариат по зрелищным мероприятиям и информации. Как мне говорили, заправляет там всем человек довольно молодой… Однако молодому человеку такого склада не следовало бы иметь отношения к культуре, тем более, если он выполняет роль посредника (а то и соглядатая) в делах между автором, написавшим пьесу или сценарий, и полицией, которая может их запретить… Книги в Италии еще свободны, но кино и театр уже под контролем».
Висконти не уставал повторять, что он «инстинктивно становится в оппозицию любому, кто угрожает свободе». Он подписывал открытые письма против черных списков, которые составляли «клерократы». Но он также был и человеком порядка, ревностным католиком. Он хранит верность партии — его не поколебал даже послевоенный бунт Элио Витторини, который призвал левых интеллектуалов к абсолютной независимости от партийных предрассудков и отказался «поставить поэзию на службу теологии», имея в виду под последней ортодоксальность и догматизм коммунистической идеи. Витторини осуждал тех, кто «трубит в революционные фанфары, провозглашая истину, в которой уже можно усомниться — ведь утверждение такой истины может быть самоубийственным для художника и приводит к осуждению таких писателей, как Кафка, Хэмингуэй (в Италии) или Достоевский (в СССР)».
Позже коммунистическое движение переживет и более серьезные потрясения — смерть Сталина и разоблачительный доклад Хрущева о культе личности, вторжение в Венгрию, а потом и в Чехословакию. Висконти будет сомневаться, но убеждений не изменит. У него не было партбилета, он отрекся от своего сословия, но на всю жизнь он останется верным «попутчиком» коммунистов, и больше всего его будут раздражать люди, которые с понимающей улыбкой будут высказывать сомнения в искренности его убеждений.
Он даже позволил партийной дисциплине вмешаться в собственные планы и отказался от ряда постановок, которые его друг Антонелло Тромбадори счел неподходящими. Основав осенью 1946 года собственную театральную компанию, он заявляет, что, помимо «Преступления и наказания» и «Стеклянного зверинца» Теннесси Уильямса, собирается поставить целый ряд интересующих его пьес «замечательных авторов», которые «послужат обновлению национального репертуара».
Эти пьесы так и не будут поставлены: ни «Лжеискупители» Гвидо Пьовене (Висконти говорил, что они «написаны специально для моей труппы»), ни две пьесы Сартра — «Мухи» и «Мертвые без погребения» (и это при том, что Висконти уже выбрал актеров, декорации и музыкальное сопровождение). В то время компартия считала Пьовене, симпатизировавшего коммунистам, а равно и Моравиа беспросветно буржуазными интеллектуалами. В коммунистической прессе «Лже-искупители» были названы «двусмысленной, патологической, тлетворной и ирреальной» пьесой. Что касается Жана-Поля Сартра, этой «гиены за пишущей машинкой»,[30] он был одной из излюбленных мишеней для сталинистов во Франции, Италии, Советском Союзе. Он также служил и поводом для бесконечных споров между Тольятти и Витторини, который в 1945-м году основал очень смелый журнал Politechnico[31] — дух этого издания предвосхищал сартровские Les Temps Modernes[32] («Новые времена»). Все в нем, начиная с современного характера обложки, противоречит вкусу и культурному консерватизму Тольятти, у которого, по словам критика-грамшиста Микеле Раго «было устаревшее, отжившее представление о среднем классе и принадлежащих к нему интеллектуалах. Тольятти мыслил как старый интеллигент-гуманист, получивший классическое образование. Одно его пристрастие к латинским и классическим цитатам есть лучшее тому подтверждение».
Politechnico, конкурент очень ортодоксальной Rinascita, казался Тольятти опасным для политики национального объединения, там было слишком много критического фермента, подозрительный аромат инакомыслия. Витторини публиковал на страницах своего издания не только Андре Жида с его «Возвращением из СССР», но и сюрреалистов, экзистенциалистов, итальянских герметистов — здесь были представлены буквально все направления современной мысли, включая социологию и психоанализ. Тольятти, примерный картезианец, писал: «Если начать с идей Фрейда, они могут завести вас очень далеко — даже в сумасшедший дом, но уж точно никак не приведут ни к Марксу, ни к участию в нашей трудной борьбе за социализм». В Politechnico внимательно читали тексты последователей Маркса — Ленина и Грамши: их работы подвергались анализу, комментировались и критиковались; кроме того, журнал постоянно обсуждал и трудные темы — и борьбу с мафией, и разводы. Витторини противостоял коммунистическому папе и его кардиналам — непримиримому доминиканцу Аликате и иезуиту Серени, которые, в свою очередь, считали его еретиком.
Одним из следствий этой полемики, приведшей к закрытию Politechnico и исключению Витторини из партии в 1951 году, был и отказ Висконти от экранизации романа Витторини «Люди и нелюди», а также от постановок сартровских пьес.
В 1970 году Антонелло Тромбадори, деятель компартии и «серый кардинал» режиссера, прояснит ситуацию: «Недавно кое-кто написал, что это я отговорил Висконти ставить сартровскую пьесу „Грязными руками“. Считаю небесполезным напомнить, что нечто подобное действительно имело место, но это было около 1947 года, и речь шла совсем о другом произведении Сартра — „Мертвые без погребения“, главным образом потому, что мне казалось немыслимым уравнивать нацистских палачей с замученными ими партизанами. Я понимаю, что в этой моей нетерпимости есть упрощения, но именно эти упрощения позволили нам бороться с нацистами. Если бы я разубеждал Висконти ставить „Грязными руками“, я бы не стал аргументировать так, как говорят сегодня — что это пьеса, поощряющая терроризм в духе Красных бригад — а привел бы сталинский довод об „антисоветской клевете“».
Одно можно сказать точно: Висконти никогда не выбирал произведение для постановки, руководствуясь лишь собственной прихотью. Каждая из этих книг не просто выражали его мнение или позицию, но и объясняли проблемы текущего момента. Он всегда думал о том, какое нравственное и политическое влияние может оказать тот или иной фильм или спектакль. Это отнюдь не означает, что Висконти ставит искусство на службу пропаганды — напротив, он считает верным коммунистический путь развития, и все его творчество, вплоть до того поворота, который называют декадентским, иллюстрирует политическое кредо, изложенное им в знаменитой программной статье от 12 мая 1946 года:
Я считаю, что любая форма и любое проявление искусства должны быть абсолютно искренними, ведь самая возвышенная его цель — показать положение и чувства человека, живущего среди других людей, укрепить человеческую солидарность через близкое знакомство со страстями, которые есть у каждого. При коммунизме искусство имеет прекрасную возможность быть человечным и свободным, и я сражаюсь за оба этих пункта. Я не считаю, что следует строго и неукоснительно блюсти доктрину. Напротив, я верю, что коммунистическая закваска все еще сильна, и именно она может заставить художника больше черпать из жизни, объять всю ее подлинность и возвысить человека над его страстями.
Этому кредо Висконти был верен на протяжении всей своей жизни, и иногда его близость к коммунистам объясняли тем, что он-де был заворожен властью, которую имела компартия. «Вовсе нет, — возражает его постоянная сценаристка Сузо Чекки д’Амико, — в партии он не нуждался. У него самого были и деньги, и власть. На самом деле он добровольно взял на себя обязательства, вступив в Сопротивление, и, чтобы их выполнить, он мог даже прыгнуть в пропасть…»
Эта твердая память о Сопротивлении повлияла и на его выбор 28 апреля 1963 года, в день голосования. В этот день он писал: «Сегодня я, как всегда, буду голосовать за список кандидатов от компартии. Но на фоне жгучей конфронтации, которой отмечена эта выборная кампания, ввиду того, что скоро мы будем отмечать двадцать лет победы над фашизмом и сейчас самое время оглянуться назад, чтобы оценить пройденный нами путь, я считаю важным объяснить свой выбор так: я голосую за коммунистов потому, что я — антифашист».
Из всей коммунистической семьи Висконти ближе всего был к молодому Антонелло Тромбадори. Этот художественный критик, сын уроженки Пьемонта и художника-сицилийца, скажет о себе так: «Я — сын объединенной Италии». Племянник одного из основателей компартии, с 1939 года он участвует в подпольной борьбе; в 1941-м его приговорили к ссылке; вернувшись в Рим в 1943-м, он участвовал в партизанском движении. В 1944-м он снова был арестован и отправлен в Анцио на принудительные работы, но накануне высадки союзников он бежал и вновь вернулся к подпольной работе. После освобождения Италии они с Висконти становятся друзьями — эта дружба продлилась до самой смерти режиссера.
Тромбадори — рыцарь и, в отличие от Марио Аликаты, не склонен к бюрократизму. Он гораздо терпимее, его ум открыт всем самым смелым течениям современного искусства, при случае может вступиться за них и уберечь от унылых требований «социалистического реализма». Он не слишком прислушивается к приказам и запретам партии, он моложе Аликаты и даже замечен в симпатиях к Витторини. Став главредом Contemporaneo в 1954-м, он не отмежевывается от Тольятти, но устраивает на страницах газеты культурные и политические дебаты, особенно обострившиеся в 1956 году.
Именно он часто говорил Висконти, что думает Тольятти, и он же первым узнает о планах режиссера и дает ему советы по некоторым историческим вопросам. «Не делать ничего неприемлемого для партии было очень важно для Висконти, — рассказывал Тромбадори, — это был его нравственный выбор, почти что религия, и это было вполне логично для аристократа… Это было почти как епитимья, он сам себя сознательно ограничивал. Он достиг той точки, где дисциплины придерживаются уже слепо, но сам выбор в ее пользу был вполне рационален. Это не был фанатизм — напротив, Висконти был очень рациональным человеком».
Коммунизм был для Висконти своего рода светским вероисповеданием. У него не было партбилета, но для него это не имело значения — ведь и католическая вера не сделала его святошей. Его нравственный выбор определял правила жизни, это был своего рода каркас, на котором строились его жизнь и творчество. Он не видел никакого противоречия между преданностью коммунистическим идеям и верой в Бога, которого он в 1973 году в длинной беседе с журналистом Констанцо Константини определил как «таинственную силу, более великую, чем индивидуум, нечто сильнее тебя, о чем ты не можешь даже судить и не знаешь, что это такое, но все же чувствуешь, что можешь этому доверять. Это ощущение, что есть что-то больше тебя, чувство любви, окружающей тебя, чувство доверия, то, что придает тебе силы, уверенность в силе слова — мы можем называть это Богом или как-то иначе, это совсем несущественно».
Простые принципы религии и коммунизма для Висконти были важнее, чем ошибки церкви и партии: «Я стал коммунистом во время Сопротивления. Мои убеждения в этом смысле и сейчас нисколько не изменились. Я и сегодня на стороне компартии, хоть и не безоговорочно. Иногда я могу поспорить с партийной позицией. Однако в целом я считаю, что быть коммунистом хорошо, и даже должно. Иногда надлежит быть коммунистом, даже когда у вас нет абсолютной уверенности. Надо быть им из принципа, даже если вы сами настроены скептично». В интервью, данном ранее, он уточнял: «Я осудил вторжение в Венгрию и Чехословакию. Я не был согласен с тем, что происходило в Венгрии. Я спорил и переживал из-за событий в Праге, но я знаю, что ошибки можно исправить; Главное — принципы».
За рамками этих «принципов», однако, была парадоксальная ситуация: аристократ, да еще и гомосексуалист, искал спасения в том мире, который отвергал его. В вопросах сексуальности коммунистическая мораль придерживалась столь же пуританских принципов, как и церковники. Для партии были одинаково неприемлемы «эротоман» Моравиа и «похотливый» Пазолини. Висконти позволил себе затронуть тему сексуальных отклонений в целом ряде своих постановок — «За закрытой дверью» Сартра, «Трамвай „Желание“» Теннесси Уильямса, не говоря уж об «Адаме» Марселя Ашара — но он не воспевал пороки, он ставил трагедии. К Висконти применимы слова, сказанные Робером Мерлем об Уайльде: «Самое мощное табу для него заключалось в нем самом». Гомосексуальность долгое время оставалась для него, как и для короля Людвига, и для Пруста, знаком проклятия. В большинстве своих убеждений Висконти проявлял себя не как богатый феодал-распутник, а как буржуа и даже пуританин, привязанный, в числе прочих ценностей, и к семье, и к традиционному патриархальному обществу.
Партия нетерпимо относилась не только к постановкам Висконти, но и к фильму де Сантиса «Горький рис» — его обвиняли во всепроникающем эротизме. В 1955 году коммунистические критики обрушились и на Васко Пратолини, большого друга Висконти — на этот раз их мишенью стал роман «Метелло», который разбранили за мистическую тусклость (crepuscularismo). Все же в отношении Висконти партия ведет себя весьма снисходительно, в его адрес раздаются лишь несерьезные выговоры. В 1948 году Тольятти лично вмешивается в эти споры и не допускает публикации разгромных статей о постановке «Как вам это понравится» в декорациях Сальвадора Дали. Тольятти пишет ретивому журналисту: «Этого печатать нельзя, не следует подавлять Висконти подобной критикой. Не стоит вырубать лес, чтобы сварить яйцо. Но главное — я против того, чтобы мы из-за разногласий во взглядах на постановку пьесы Шекспира — постановку, в данном случае, безусловно, спорную — обрушивали на интеллектуала из числа наших друзей, человека прогрессивных взглядов, обвинение в том, что онто и есть главный реакционер. Публикуя подобные опусы, мы вызовем только насмешки над собой и над марксизмом. Я советую А. писать на другие темы, теснее связанные с политикой, и обратить свое полемическое перо против настоящих врагов и серьезных ошибок».
Когда левая критика, а именно Аликата, обвиняет фильм «Леопард» в «декадентстве», тот же Тольятти 2 апреля 1963 года пишет Тромбадори: «Я посмотрел в Турине „Леопарда“ — это великое произведение. Прошу тебя, если вдруг увидишь Висконти, передай ему мое восхищение и безоговорочную поддержку. Кажется, будто он снова и снова превосходит самого себя… Скажи ему вот еще что: пусть не соглашается ни на какие сокращения, которых от него потребуют. Главное, пусть не трогает сцену бала — это вершина всего произведения, именно там достигает пика неистовство стиля и картина становится наваждением (не уверен, что нахожу верные слова), которое есть признак великих художественных свершений».
«Тольятти, — писал Тромбадори, — всегда гордился тем, что Висконти заодно с партией. Как человек прогрессивный, Пальмиро старался выражать свое мнение публично, пусть даже это и отдавало тщеславием. Позиция партии в отношении гомосексуализма более чем известна (уж я-то могу судить об этом, ведь это я в 1956–1957 годах выступал в защиту Пазолини в Contcmporaneo), и я не думаю, что Тольятти в глубине души придерживался каких-то иных взглядов; но это делало еще более значимыми те настойчивые знаки уважения и симпатии, которые он постоянно выказывал по отношению к Висконти.
Когда Тольятти с подругой Нильдой Джотти бывал на премьерах театральных постановок, он приходил в ложу Висконти — не после окончания пьесы, а в первом или втором антракте, чтобы побеседовать с ним совершенно непринужденно… Расположение Тольятти к Висконти имело культурную подоплеку, точнее — оно было связано с внутрипартийной борьбой в области культуры».
Партийный секретарь был, конечно, «человеком прогрессивных взглядов», но в большей степени — все-таки консерватором. Он не без оснований усматривал в творчестве режиссера возвращение к национальным традициям, к той человеческой и гражданской культуре, порождением которой был и он сам. Тольятти смотрел сквозь пальцы на гомосексуальность Висконти, для него он был родственной душой, пусть даже и дальним родственником в коммунистической семье. По правилам, принятым в окружении Тольятти, «соседских детей мать не шлепает».
Между этими двумя людьми никогда не было близкой связи, то есть таких отношений, которые можно было бы назвать «дружескими». Однако это не мешало вездесущему «приемному отцу» оказывать влияние и на художественный выбор, и на нравственные запросы Висконти. Сценарист Энрико Медиоли объяснит, что «Висконти прислушивался к мнению и советам всего двух или трех людей, в том числе — Антонелло Тромбадори и Тольятти». Когда этот последний умер в августе 1964 года, Висконти счел долгом воздать дань уважения тому, кого называл «новым Кавуром», преданным делу национального единства, и даже больше — вождем и образцом, о котором он десять лет спустя, незадолго до собственной кончины, напишет так:
Мне представляется, что подлинное величие — это величие того, кто отождествляет себя со своим народом: именно таким человеком был Пальмиро Тольятти, до конца дней сохранявший молодость духа, более живую душу, чем у большинства сегодняшней молодежи… Тольятти лучился простодушием, добротой, любезностью, остроумием. Настоящий интеллектуал, редкость среди политиков. Многим политическим деятелям сегодняшнего дня просто нечего сказать, от них новым поколениям, снедаемым неуверенностью в завтрашнем дне, не останется ни слова.
Тольятти был прекрасным другом… Он смотрел все мои спектакли, а потом писал мне о своих впечатлениях. Он не обходил вниманием и премьеры моих фильмов, и тоже писал мне о своих впечатлениях и суждениях, и всякий раз находил точные слова в своих письмах, написанных мелким почерком… Последний раз я видел Тольятти на частном просмотре фильма «Леопард», который я только что закончил. Он сказал, что в нашем пессимизме много субъективного, и вместо того, чтоб сожалеть о феодальных порядках, он стремился установить новый порядок жизни. Позже он написал мне: «Сцена бала в фильме — это апофеоз и катастрофа. Говорят, что там много длиннот. Это неправда. Не вырезай ни одного сантиметра пленки».
Тольятти — отнюдь не Макиавелли, а коммунист с человеческим лицом, просвещенный деспот вроде тех, о которых мечтали писатели XVIII века, «интеллектуал от политики», умевший находить равновесие между терпимостью и решительной защитой гуманистических ценностей, дисциплиной и свободой, моралью и политикой. Устремление «несбыточное», как скажет профессор из «Семенного портрета в интерьере», но именно оно «объединяло интеллектуалов нашего поколения» в тех самых поисках «гармонии морали и политики».
Грамши начинают публиковать только в 1947 году, стараниями Тольятти, но Висконти становится коммунистом не потому, что он прочел все теоретические труды. Он много общается с Тромбадори и Тольятти, которые стали его духовными наставниками. Кроме того, коммунистическая идея совпадала с собственным представлением Лукино о роли художника, задача которого — «постигать жизнь» во всей полноте правды, оставаться в пределах реального, «понимать и возвышать человеческие страсти».
Висконти писал: «Я мог бы стать новым Оскаром Уайльдом» — то есть таким же эстетом, каким был его отец. И своим бегством от дилетантизма, от культа чистой красоты он обязан не столько Марксу или Грамши, сколько обстоятельствам, окружению, а также умению руководить собой в нравственном смысле — это умение Тромбадори называет «потребностью в самобичевании». Вероятно, эта черта характера Висконти и приводит его к тому, что летом 1947 года он прекращает более чем успешную работу в театре и принимает решение уехать подальше от Рима.
Конец лета он проводит на вилле Коломбайя, что на острове Искья, — через несколько лет он купит этот дом. Каждый день он уединяется, усаживаясь работать в увитой плющом беседке, в то время как чуть поодаль сидят и беседуют четверо или пятеро его друзей. Писатель Джузеппе Патрони Гриффи, часто бывавший гостем Висконти на Искье, рассказывает, что, как бы тот ни был поглощен работой, стоило кому-то из них, устав от непрестанного стрекота пишущей машинки, выйти в сад, как раздавался громкий окрик режиссера, заставлявший замереть на месте и призывавший относиться к своей доле терпеливо и дождаться времени для общей прогулки по пляжу или поездки в порт.
«Никто из нас не осмеливался спросить, что же Лукино тайно готовит в эти первые дни осени… Именно в эти дни обрастала плотью первая из великих семейных саг Висконти, его история о современных династиях Валастро и Малаволья. Когда летний домик закрылся, все мы уехали с острова. Но лишь только мы прибыли в Рим, как он снова уехал, на сей раз почти один, и прихватил с собой огромное количество записей: он отправился путешествовать по Сицилии».
Кто же поехал с ним? Возможно, это был Франческо Рози, двадцатичетырехлетний неаполитанец, мечтавший снимать кино, которого представил ему Патрони Гриффи (Рози станет ассистентом Висконти на съемках «Земля дрожит»). Столь же вероятно, что это был флорентийский актер Франко Дзеффирелли, который покорил своей игрой Лукино год назад, в спектакле «Ужасные родители». Сначала Висконти поручил ему роль в «Преступлении и наказании», но вскоре белокурый юноша с обворожительной улыбкой почувствовал, что в нем просыпаются более честолюбивые устремления.
Висконти без сожалений покидает Рим. Навязчивое желание уехать, ввязаться в новое приключение снедает этого Большого Мольна, он чувствует то же, что и Рембо, автор «Пьяного корабля». «Останься я здесь, — пишет он Гриффи, — я предавался бы бессмысленному и вредному пережевыванию того и этого, „поискам утраченного времени“. Я говорю это в самом широком смысле, в том числе об искусстве. С кастрированным искусством я смириться не могу. Приключение несет с собой иные печали, иные переживания, но главное — это пролог к новой борьбе. „С меня блевоту смой и синих вин осадок, / Без якоря оставь меня и без руля!“[33] Пусть будет у меня и новая борьба, и новые печали, и новые удачи, и горькие разочарования, и иллюзии. Я этого жду. Но пусть они будут новыми, пусть во всем будет бескорыстность и чистота. Что ты об этом думаешь? Я жажду чистоты, прозрачности, разумности, но пусть все они будут исходить прямо из сердца — это я и по сей день считаю самым драгоценным в мире».
Три из четырех спектаклей, поставленных им год назад, действительно созданы под звездой «поисков утраченного времени»; над головами хрупких персонажей «Стеклянного зверинца» по пьесе Теннесси Уильямса витают тени существ из снов или умерших. Таков солдат, то ли убитый, то ли взятый в плен — он то ли есть, то ли его нет, его огромная фотография то и дело проецировалась на стену в квартире семейства Уингфилдов (к слову, это была фотография, сделанная Франческо Рози, которого Висконти взял на работу после первого же собеседования). Да и сам Висконти жил в мире бесчисленных фотографий в роскошных рамах, настоящих икон его памяти — то были фотографии членов семьи, друзей, бессчетного количества актрис, всех творцов, однажды взволновавших его, — так он хранил память о них, словно бросая вызов смерти и пустоте.
В спектакле «Эвридика» по пьесе Ануя была разлита лунная меланхолия, ритм действию задавал регулярный похоронный звон часов и протяжные свистки проносящихся мимо поездов. Было в этом ряду театральных постановок и ностальгическое воспоминание об американской семье конца XIX века: «Жизнь с отцом» по роману Кларенса Дэя.
Что касается «Преступления и наказания», которым Висконти в ноябре 1946 года открыл первый сезон своей театральной компании, то в этой постановке отчаяние и чувство потерянности героев подчеркивали экспрессионистские деко рации — мрачная громада дома, в котором произошло убийство, с острыми углами крыш, заплесневелыми стенами, обрывающимися прямо в пустоту лестницами и балконами, словно вонзалась в необъятное, продырявленное звездами небо. На заднике были нарисованы кладбищенские кресты, а на сцене царит атмосфера буржуазного салона. Раскольников — Паоло Стоппа — черпал вдохновение в образе маньяка из фильма «М», а Соня — Рина Морелли — в широченном платье из светлой тафты выглядела при свете свечей точь-в-точь, как «Алая императрица»…[34]
Более того — оглядываясь назад, Висконти выводит на сцену актеров, которых обожал в юности и которые потом куда-то запропастились. «В то время я жаждал их отыскать», — признавался он позднее. Мемо Бенасси в 1921 году был партнером Дузе в «Женщине у моря», играл в спектаклях Жака Копо и Макса Рейнхардта — в «Преступлении и наказании» Висконти ему досталась роль Порфирия Петровича. Прочитав «Стеклянный зверинец», текст которого Теннесси Уильямс прислал ему из Америки, Висконти тут же подумал, что роль матери могла бы сыграть великая русская актриса Татьяна Павлова — она идеально подходила на эту роль женщины, потерявшейся в своих мечтах и в ностальгии. Воспитанница школы Станиславского, в 20-е годы Павлова играла в Италии репертуар Московского Художественного театра, в том числе пьесы Чехова. «Великая Павлова, — вспоминает Висконти, — это актриса, которую я обожал в дни моей юности. … Я ходил в театр каждый вечер. Что бы она ни играла, я видел все; я знаю весь ее репертуар, начиная от „Сна любви“ Косоротова — это был ее первый спектакль, до „Адриенны Лекуврер“. Я смотрел с ней и „Вишневый сад“, и многое, многое другое».
Перед войной она вышла замуж за видного фашистского функционера, и с тех пор никто не предлагал ей ролей. Считалось, что ее артистическая карьера окончена. Висконти поехал в Милан, разыскал ее и предложил ей роли Клитемнестры в «Мухах» Сартра и Аманды Уингфилд в «Стеклянном зверинце». Позже он объявил ей, что отказывается от постановки сартровской пьесы, и в ответ она разразилась яростными упреками и обвинила его в мошенничестве. «Она не понимала, что я вернул ее на сцену и теперь она снова сможет нормально работать. Я поступил так, поскольку считаю, что она не должна нести наказание за то, что ее муж был фашистским чиновником».
Для Павловой, однако, не нашлось роли в «Эвридике», но и в этой постановке Висконти продолжил работу по извлечению на свет забытых талантов, отыскав старого комика Антонио Гандузио и предложив ему, семидесятичетырехлетнему, роль отца Орфея. Гандузио тоже не выходил на сцену с незапамятных времен. По словам Висконти, «встреча с ним была просто потрясающей. Он меня околдовал. Никогда прежде, ни разу за все эти годы не было актера, подобного Гандузио: дисциплинированный, совершенный, милый, нежный, как юноша, он был само очарование. Помню, как перед генеральной репетицией во Флоренции, в восемь утра, мы, полумертвые от усталости, занимались последними приготовлениями, в восемь я сказал Гандузио: „Прошу вас, отправляйтесь спать, ступайте“. Но он возразил: „С чего бы мне уходить? Раз вы здесь, раз все остальные здесь, я тоже останусь“. Я боялся, что он возьмет и помрет прямо здесь, но он все никак не хотел уходить. Он всегда, каждый вечер, был первым готов к выходу на сцену за пять минут до поднятия занавеса. Я шел посмотреть на актеров и поздороваться, а он уже сидел на сцене за столиком с сигарой, с чашечкой кофе — там ведь все начинается в привокзальном кафе, да? — и уже был готов играть. Превосходная старая школа».
И все было превосходно, однако вскоре Висконти снова возжаждал схватиться с реальностью, плыть «без якоря и без руля», броситься в новую рискованную борьбу, броситься в ад Орфея на Одиссеевых островах — другими словами, оставить стесненное пространство театра и устремиться на бескрайние просторы Сицилии.
Как показывают записи, сделанные на Искье, вначале Висконти задумал многофигурную эпическую фреску, в которой из «случайно оброненного в землю и давшего всходы первого зернышка рыбацкой семьи» должны вырасти два параллельных и взаимодополняющих эпизода борьбы сицилийских крестьян и шахтеров с крупными землевладельцами и сборщиками налогов — в этом конфликте последние эксплуатируют бесправие и нищету первых. Разнообразные сцены несправедливостей, восстание, которое поднимают крестьяне после побоища, жертвами которого они стали на сельском празднике; они обороняются, чтобы удержаться на своем крохотном наделе, и под копытами их коней «дрожит земля». В первом варианте Висконти задумывал финал абсолютно оптимистическим и назидательным. Эти «разгневанные соколы», которых окружила полиция и травят хозяева, «еще сопротивляются. И в этом заключается чудо. Города, деревни поднимаются, чтобы поддержать этих крестьян, объявивших войну тысячелетним запретам. Солидарность всех тружеников острова приводит к тому, что их дело побеждает битва выиграна. Правительству приходится вмешаться, чтобы конфликт разрешился мирно».
Составляя «Заметки к документальному фильму о Сицилии», Висконти черпал материал из повседневных новостей и опирался на кровавый эпизод, произошедший 1 мая 1947 года в Портелло-делла-Джинестра. Несколько лет бандит Сальваторе Джулиано считался местным героем, кем-то вроде сицилийского Мандрена: он драл три шкуры с крупных землевладельцев в окрестностях Палермо и часть добычи раздавал бедным крестьянам из Монтелепре. Но в тот майский день, во время мирного сельского праздника люди Джулиано расстреляли тех же самых крестьян, мужчин, женщин и детей. Это массовое убийство заказали мафия и латифундисты, которые позже уничтожили и самого Джулиано при полном попустительстве служителей правосудия и властей — позже Франческо Рози расскажет об этом в своем фильме «Сальваторе Джулиано».
В те годы южный вопрос был излюбленной темой коммунистов, он волновал Аликату, и Тромбадори, и Гуттузо — для них проблема юга была насущнейшей, потому что речь шла об их собственных корнях. Но что понадобилось Висконти, миланцу, выросшему среди безмятежных пейзажей ломбардской равнины в деревне Ачи-Трецца, где маленькие белые лачуги словно бы стеной встают между неистовым морем и неплодородной землей, а снежную вершину Этны припорашивает вулканический пепел?
Антониони писал: «На первый взгляд, Ачи-Трецца не имела ничего общего с миром Висконти. Ее жители были другого рода и другой крови». Но разве Висконти — не из рода тех промышленников с севера, которые в 1860 году начали превращать Сицилию в одну из своих колоний? Что общего у этого потомка завоевателей с «отверженными» Верги, с народом униженным и оскорбленным, зажатым между двумя жерновами судьбы — Природой и Историей? Что связывало его с Сицилией, с югом, и притом столь сильно, что эта земля стала «одним из главных источников его вдохновения»? Это была, как мы сейчас увидим, связь политическая. Во-первых, финансирование фильма. «Компартия Италии, — говорит Висконти, — была единственной, кто поверил в мой проект и помог реализовать его, дав на съемки три миллиона». Кроме того, в замысле фильма поучаствовали сначала Марио Аликата, а потом и Антонелло Тромбадори. Первый из них в 1943 году, в письме из тюрьмы, попытался отговорить Висконти от слишком лирического видения Сицилии, которую тот воспринимал по-гомеровски; сам Висконти говорил, что Сицилия для него «была еще почти неизведанной страной, которую лишь недавно открыл Гарибальди и его Тысяча».[35] С 1941 года Висконти мечтал экранизировать «Семью Малаволья» Верги. «Это сюжет, полный фантазии и волшебства, — писал он в те годы, — где слова и жесты должны быть столь же пылкими, как вера, чтобы передать суть нашего человеколюбия». В его воображении этот проект был мистерией страстей, разворачивающейся под аккомпанемент «монотонного рокота волн, бьющихся о скалы Фаральони».
Антонелло Тромбадори с одобрения Висконти написал предуведомление к фильму, в котором объяснял необходимость использования местного диалекта, непонятного даже для тех сицилийцев, что жили в Сиракузах или Палермо: «Все актеры в этом фильме были выбраны из числа жителей деревни: рыбаки, женщины, батраки, каменщики, скупщики рыбы. Они не знают другого языка, кроме сицилийского, для того, чтобы выразить свое горе, свою надежду, свой бунт. Итальянский язык на Сицилии — не тот язык, на котором говорит беднота…»
Когда Висконти будет рассказывать о происхождении замысла двух других его фильмов, завершающих «южную трилогию», «Рокко» и «Леопард», он снова сошлется на свою партийность, скажет о том, что его «просветило» чтение Грамши, упомянет письма, полученные им от простых людей. Он также скажет, что его интересуют «глубинные тревоги и чаяния итальянцев, то, что волнует людей и то, что заставляет их надеяться на перемены».
В 1881 году Джованни Верга опубликовал роман «Семья Малаволья» — историю, которая полна «невыдуманных слез». Это рассказ о семье рыбаков, крушение которой начинается в тот день, когда самый предприимчивый и смелый из них отрекается от покорности и рабства и решает стать сам себе господином. Эта история рассказывает о законе жизни и о непреодолимой силе судьбы — «когда один из малых сих, который или слабее других, или неосмотрительнее, или самолюбивее, хочет оторваться от своих, с тоски ли по неизведанному, или в поисках лучшей доли, или из любопытства к миру с его прожорливой рыбьей пастью — этот мир пожирает и его самого, и его семью».
Пессимизм Берги, в отличие от Грамши, не дает «точного, ясного руководства к действию» — как избежать рока, тень которого различима уже в самой фамилии Малаволья.[36] Висконти меняет эту фамилию на более легкую для произнесения — Валастро. Герой фильма Нтони, в отличие от протагониста романа Верги, не уезжает из деревни, а решает бороться, причем не в одиночестве, а плечом к плечу с остальными. В его уста Висконти вкладывает ключевую реплику, мораль всей истории: «Во всем мире вода солона. Когда мы заплываем за скалы Фаральони, поток уносит нас. Именно в этом месте мы и должны бороться». Эта мысль, само собой, не исчерпывает всего содержания фильма, и она не дает нам представления о подлинных потребностях героев — Висконти отвечает на поставленный вопрос не политически, а поэтически.
Когда Антониони взялся за перо, чтобы воздать хвалу красоте картины «Земля дрожит», он одним из первых не только предостерег критиков от восприятия этого фильма только как политического, но и упрекнул Висконти в том, что иногда он соскальзывает в слишком уж очевидную риторику. «Этика Висконти, — отмечал он, — высоко человечна, и именно это делает полнокровным его искусство. Но когда между одним и другим возникает зазор, мы можем наблюдать риторику самой низкой пробы. Вот богатые рыботорговцы сидят за столом, который ломится от яств, вот надрывный смех мужика над промуссолиниевским лозунгом, намалеванным на стене, и некоторые выступления Нтони <…> Кто знаком с Висконти, тот знает, что его жесты значат гораздо больше его же слов. И гораздо весомее. И к числу этих жестов можно отнести множество прекрасных сцен фильма, шум и голоса в сцене, когда рыбаки уходят в море в сгущающейся ночной тьме, песни каменщиков, бледный свет в сцене бури, непокорность Нтони и безропотность его матери — и еще множество черт, в которых, кроме социальных разоблачений, звучат самые искренние интонации поэтического голоса Висконти».
Стремление к реализму здесь перевесило идеологию. Любой из партийных работников предпочел бы более оптимистичный и смелый финал для этого фильма. Тольятти с некоторым удивлением отметил, что у героев фильма абсолютно отсутствует политическое самосознание. Висконти ответил ему, что такими он увидел своих героев: «Меня волновало только одно — прежде всего я исследовал Ачи-Треццу».
Он прожил полгода с этими рыбаками и после многочасовых репетиций словно бы включил их пластику, их слова и особый говор в ситуации, уже описанные Джованни Вергой. «Сценарий не был замороженной и строгой инструкцией к действиям, — писал Висконти позже. — Я во всем полагался на них самих. Например, были два брата, которым я говорил так: „Смотрите, вот какая ситуация: у вас больше нет лодки, впереди полная нищета; есть вам нечего, и что делать дальше, вы не знаете. Ты хочешь уехать отсюда, но ты слишком молод, и он не хочет отпускать тебя. Скажи ему, почему ты хочешь оказаться подальше отсюда“. Он отвечал мне: „Увидеть бы Неаполь, а там уж все равно…“ — „Да, ясно; но расскажи еще, почему ты не хочешь здесь оставаться“. Тогда он ответил мне, и эта реплика вошла в фильм: „Потому что с нами здесь обращаются как со скотиной, ничего не позволяют, а мне хочется повидать мир“. Тогда я обратился ко второму брату: „Что ты скажешь брату своему, настоящему брату, как удержишь его здесь?“ Он уже разволновался, на глазах блестели слезы… И сквозь эти слезы произнес: „Если ты поплывешь через Фаральони, тебя унесет буря“. Разве мог кто-нибудь сочинить такое? Никто и никогда».
Берга мог сочинить такое и сочинил, но он писал по-итальянски. Заставив зрителей слушать диалект деревни Ачи-Трецца, Висконти шел вразрез с принципами культурной политики коммунистов — они не любили заумного и неясного. Он также пошел и против вкусов обычной публики, которой не по душе все, что может неприятно взволновать.
«В этом фильме я никому не делал уступок», — скажет Висконти о «Земля дрожит». Он не подчинил все партийной линии и не пустился на выкрутасы ради того, чтобы сделать зрелище более эстетичным. Он заставил себя жить в абсолютно правдивой, подлинной среде. Он постепенно отождествил себя со своими героями, столь непохожими на него самого и все-таки обнаруживающими тайное с ним сродство. Он принес в жертву самую заметную часть самого себя, со своей роскошью, культурой, космополитизмом. Из этих усилий родилась песнь во славу мира, ставшего воистину его собственным миром. Этот мир, замкнутый в себе, как остров, со своей музыкой, своими верованиями и ритуалами, со своим диалектом, со всем, что досталось ему от прошлого и смешалось с «тоской по переменам». Поэзия семьи Валастро, этих героев, живущих мечтами и небылицами, имела ту же природу, что и поэзия семьи Висконти, которой угрожала и которую в конце концов придавила драма, не перестававшая волновать его — драма неотвратимого распада. Этот фильм — путешествие в царство безмолвных матерей, что ждут в ночи возвращения мужчин, закутавшись в длинные черные покрывала и обратив лица к буре, так похожих на погребальных плакальщиц из греческих трагедий, и Висконти не мог подобрать для него лучшей музыки, чем язык самой местности, темный и древний. Так, должно быть, звучал и миланский диалект в устах донны Карлы, а Висконти называл речь островитян «прекрасной, как язык Софокла».
«На Рождество я был с моими рыбаками», — писал он Антониони. И этот последний обращает внимание на то, как режиссер упорно создает вокруг себя семью: «Персонажи фильма — словно приемные дети Висконти. Пока он был на Сицилии, они стали для него своими». В эти полгода он охотно разделял с ними повседневную нищету и борьбу за существование в самые трудные времена года: конец осени и зиму. Он превращает свою жизнь в аскезу и требует того же от съемочной группы картины «Земля дрожит» (съемки велись с 10 ноября 1947-го по 26 мая 1948 года). Группа была сокращена до минимума. Франческо Рози, Франко Дзеффирелли и несколько техработников, в их числе Альдо Грациати, каждый день боролись с тем, что Висконти называет «почти непреодолимыми трудностями» — интерьеры для съемок были скудны, то и дело налетали сильнейшие бури, а съемочное оборудование было самым примитивным. Денег не было. Дисциплина была железной.
«Временами от всего этого хотелось реветь белугой», — вспоминает Рози о той работе, которой его загрузил Висконти. Рози было поручено заносить в четыре громадные амбарные книги все детали снимаемых сцен, начиная с погодных условий и до одежды и действий актеров, не говоря уже о «технических подробностях. Следовало писать, какой был выбран объектив, и точно зарисовывать каждый план».
«Кончалось тем, что он вечно находил ошибки, винил в них всех нас и его ярость уничтожала все. […] Себя он виноватым не признавал никогда, но чувствовалось, что за его словами было немало сомнений и неуверенности. Однако он боролся с ними в одиночестве. Закончив работу, он ужинал в кровати и на следующий день первым встречал зарю».
Тема фильма перекликалась с историей съемок: и там и тут было преодоление непреодолимого. Нтони в одиночку рискует выйти в море, но «пена его горька». «Кто надеется на море, у того нет ничего», — гласит народная мудрость. Вместе с лодкой «Провидение» буря разбивает в щепки и все надежды безрассудного сына.
Такой же безрассудной авантюрой был для Висконти и фильм «Земля дрожит», который закончился если не полным крахом, то, по меньшей мере, финансовой катастрофой. Режиссер не только не достиг первоначально поставленной цели, о которой теперь напоминало разве что загадочное название, но съемки казались теперь бесконечными. Съемочный период много раз прерывался: когда деньги компартии закончились, Висконти уехал в Рим и Милан на поиски другого продюсера. Нашел он его в павильоне, где с голливудским размахом снималась «Фабиола» Блазетти — картина, пронизанная католическим пафосом и с бюджетом в миллиард лир. Новым продюсером стал сицилиец Сальво д’Анджело из компании «Универсалия Продуционе». В те же месяцы Лукино пришлось продать свои акции, фамильные картины и последние драгоценности матери. «Мой господин разоряется!» — сокрушенно шептал управляющий семьи Висконти.
Хуже того — когда осенью 1948 года фильм показали на Венецианском кинофестивале, он вызвал бурю возмущения у публики и, несмотря на поддержку партии, сразу окрестившей его «шедевром фестиваля», еще два года не выпускался в прокат. Франческо Рози так вспоминает эту венецианскую «премьеру»: «Висконти и д’Анджело надели костюмы из белого льна, но их лица были белее. У Висконти — от страха, что фильм плохо примут; д’Анджело же, без сомнения, думал о Сицилийском банке, финансировавшем „Универсалию“, о том, что там скажут, посмотрев фильм, и какими будут последствия. Как раз тогда христианско-демократические власти громогласно обругали итальянское кино, предпочитавшее „стирать грязное белье“ не в кругу семьи, а вытаскивать все на свет божий и обозрение иностранцев… После просмотра наступил ад кромешный. Поднялся гвалт, свист, возмущение и личные оскорбления, которые бросали Висконти прямо в лицо. Почему так вышло? Видимо, это поведение, свойственное фестивальной публике, но в данном случае это была еще и месть выродившемуся буржуа, который отверг и предал свой класс».
И даже больше того — это история о человеке, творчество которого, как пишет Антониони, припоминая слова Жида, «могло ошеломить и потрясти, а значит, не было сиюминутным».
Глава 14 ТЕАТР «ЖЕЛАНИЕ»
Он вдруг оставлял актеров одних на сцене.
— Ходите, куда хотите и как хотите, а мне говорите, что будете делать, — говорил он. После этого он наблюдал за ними два или три дня — он похищал их инстинкты…
Ашиль МиллоТак я хочу, так я велю, и не перечьте мне больше, если не хотите потерять меня, если не желаете проститься со мной навсегда.
Жан-Ноэль Скифано, «Неаполитанские хроники»«Одержимость» возвестила зарю неореализма, «Земля дрожит» должна была стать его зенитом. В своем втором фильме Висконти придал благородство кинематографу, рассказывавшему истории о простых людях. Но он отнюдь не собирался становиться заложником этих традиций. Он придумал неореализм и довел его до крайности, потому что так он отзывался на фальшь буржуазного театра. Актеры, взятые прямо с улицы, — например, рыбаки из Ачи-Треццы — в его фильме ведут себя естественно, как в жизни, они играют правдивее, чем профессиональные актеры с «их комплексами и стыдливостью»; работая с непрофессиональными актерами, можно теснее соприкоснуться с истиной, со страданием, с подлинным криком боли.
В эти же годы складываются другие черты висконтиевского стиля — опьянение роскошью и золотой мишурой, страсть к искусственному великолепию и в то же время — тяга к простоте, умерщвлению плоти, самоуничижению. Это желание опрощения бросается в глаза, когда он возвращается из Ачи-Треццы — худой, и с почти изможденным лицом. «Неореализм, — говорит он в 1948 году, перед открытием на редкость богатого театрального сезона, — еще жив, он подпитывает наше воображение и наши нынешние опыты, и мы не забываем о нем, как не забываем изречения о том, что все мы суть прах и в прах возвратимся». Вскоре он продемонстрирует эту смиренную сторону своего характера в совместной работе с Васко Пратолини — вместе они будут писать сценарий по роману Пратолини «Повесть о бедных влюбленных».
Тремя годами раньше, зайдя в миланскую кондитерскую «Галли» на улице Виктора Гюго (место, где делали лучшие в Милане куличи — panettone), он обратил внимание на миловидную шестнадцатилетнюю кассиршу с тонкой талией, большими печальными глазами и такими утонченными манерами, как если бы она принадлежала к роду Висконти. «Я уверен, — сказал он ей, — придет день, когда вы будете сниматься в кино».
Назавтра приходивший с ним приятель является в кондитерскую снова и заказывает свой обычный капучино с шапкой кремовой пенки, усыпанной шоколадной крошкой: «Вы знаете, кто с вами вчера разговаривал?.. Лукино Висконти…»
Висконти? Она знать не знает, кто он, она всего лишь мелкая служащая, вкалывающая в поте лица с двенадцати лет, родом с фермы в окрестностях Милана, проведшая все детство в бедности и страхе перед бомбежками. «Мой мир, — расскажет она позднее, — в то время ограничивался прилавком кондитерской. Моим бегством из этого мира был трамвай № 24, шедший по маршруту Монфорте — Скало — Порта Романа — Рипа-монти — Порта Виджентина. У меня был Серджио, мой первый возлюбленный, и еще Идроскало — захолустное предместье Милана. Вот и все, что у меня было».
Год спустя ее фотография появится на первых полосах газет: жюри конкурса красоты под покровительством «Джи. Ви. Эмме», знаменитой фирмы по производству косметики, принадлежащей семье Висконти, присуждает ей титул «Мисс Италия». Каждый день ее осыпают подарками, приглашениями, предложениями. Для нее сбылась мечта множества девушек: «100 000 лир за одну улыбку, — рассказывает она. — Миллион с лишним просто за красивое лицо… В те времена это было богатство, успех. Италия, вся наша тогдашняя Италия жила надеждой заполучить миллион и изменить жизнь к лучшему… Вне всякого сомнения, именно тогда и родилась Аючия Бозе».
Тогда же возникла и связь Лючии с семьей Висконти: Эдуардо влюбляется в нее, и они становятся любовниками. Лукино решает снимать ее в «Повести о бедных влюбленных», фильм должен финансировать его брат, а ей предстоит играть с Жераром Филиппом и Маргерит Морено. Но обстоятельства складываются неважно — как в работе над фильмом, так и в личной жизни Лючии. Лукино приглашает ее к себе в дом, присматривает за ней — у нее обнаружили туберкулез — и не подпускает к ней Эдуардо.
Некоторые детали судьбы Лючии перекочуют в будущий фильм «Самая красивая», воссоздававший на экране один из тех конкурсов красоты, что сводили с ума матерей Элеоноры Росси-Драго, Сильваны Мангано, Сильваны Пампанини, Джины Лоллобриджиды, Софии Шиколоне, более известной как Софи Лорен, и других мамаш совсем маленьких девочек, которыми питается кинематограф-людоед.
В пятидесятых неореализм для Висконти живее, чем когда-либо: они вместе с Пратолини снимают «Заметки об одном происшествии», расследование изнасилования и убийства ребенка в римском пригороде. И тем не менее он говорит следующее: «Неореализм — всего лишь вопрос содержания. Это правдивая интонация, которая необходима, когда ставишь пьесы Артура Миллера или снимаешь историю Рокко и его братьев, но она никак не подходит для Шекспира».
И вот 26 ноября 1948 года, в тот самый день, когда на экраны Рима выходит фильм «Похитители велосипедов», он представляет публике театра «Элизео» «игру, музыкальный дивертисмент, цветной сон, трехчасовую неореалистическую фантазию, разворачивающуюся на глазах у изумленной публики, самую что ни на есть реальную — реальней короля» — спектакль «Как вам это понравится» в феерических декорациях Сальвадора Дали. Дорогу наслаждению, провозглашал он, дорогу «миру чудес, давным-давно позабытому театром, который мы хотим возродить, как и его предназначение, состоящее в увеселении народа!» В творчестве Висконти наступает период грандиозных феерий, монументальных излишеств, декоративной пышности, и в эти тяжелые годы восстановления, экономического кризиса и безработицы размах его постановок вызовет возмущение у тех, кто желал придерживаться строгости во всем без исключений.
Спорам о его постановке шекспировской комедии, обострившимся в среде левых, он ответил на страницах газеты Rinascita:
Ходят разговоры, что, поставив «Как вам это понравится», я отошел от неореализма. Это впечатление продиктовано стилем постановки, особенностями актерских работ и тем, что для спектакля я использовал сценографию и костюмы Сальвадора Дали.
Да простят меня приверженцы расплывчатых определений, но все же — что такое неореализм? В киноискусстве это слово служит для обозначения концепций, которыми вдохновлялась недавняя «итальянская школа». Термин «неореализм» объединяет людей и художников, верящих в то, что поэзия рождается из реальной жизни. Такова была точка отсчета. Сейчас, как мне кажется, это слово начинает превращаться в бессмысленный ярлык, который пристал к нам, как татуировка, и вместо того, чтобы обозначить метод, момент эпохи, неореализм становится ограничением, непререкаемым правилом. Разве нам так уж необходимо определять границы? Разве границы не хороши только для лентяев, для тех, кого легко сбить с толку?
В мире представлений театр — это явление, у которого есть свои пределы и свои особенности, и придумал их не я. Оставим же театру все его возможности движения, цвета, света, волшебства. Речь должна вестись не о реализме или неореализме, а о воображении, об абсолютной свободе.
Воспламененное фантазией Дали, буйное и богатое воображение Висконти не может удержаться в рамках — мерой всего для него становится избыток. Но еще до начала сотрудничества с художником-сюрреалистом, который теперь ударился в благочестие и вдобавок ко всему ловко устроился при франкизме, уже весной 1948 года, едва завершив съемки «Земля дрожит», «ужасный» граф строит грандиозные планы постановок и предлагает их распорядителю майского музыкального фестиваля во Флоренции Паризо Вотто. В числе этих заявок — «Неистовый Роланд», бесчисленные сцены которого предполагалось разыграть в саду Боболи, чтобы публика мигрировала вслед за спектаклем по собственному усмотрению, и «Лорен-заччо» — тут зрителям предстояло следить за перипетиями пьесы де Мюссе, перемещаясь из садов в залы дворца Питти. Все это требовало не только сногсшибательного бюджета, но и согласия Управления по надзору за историческими памятниками, которое сразу наложило на эти постановки категорический запрет. По сравнению с новыми планами постановки «Как вам это понравится», «Ореста» Витторио Альфьери и, наконец, помпезного «Троила и Крессиды» в саду Боболи могут показаться вполне скромными.
И тем не менее! Нигде, разве что на древних веронских аренах, на сцену не выходило столько исполнителей одновременно, нигде не было такой невероятной роскоши, потрясающих костюмов и музыки. В очарованном Арденском лесу, придуманном Шекспиром, поселился печальный герцог-изгнанник, его придворные шуты, рыцари и принцы, пастухи и переодетые принцессы, лютнисты, придворные дамы и пажи.
Дали, чей гонорар составил миллион лир, создал декорации и костюмы неслыханной красочности, пышности и стоимости. «Я искал, — расскажет Висконти, — сценографа необыкновенного, чудотворца… Целый месяц Дали создавал конструкцию этого „геометрического“ леса с его „рафаэлевскими“ деревьями, наполненного пастухами, придворными, овцами и „атомными“ плодами граната…» Художник вспоминает, что в то время часто виделся с Висконти, кроме того, он и Гала часто проводили время в обществе «одного субъекта, только вот имени его я не запомнил». Этим «субъектом» был Дзеффирелли, который ездил в экспедиции в Рим за предметами интерьера, тканями, «конфетами и пирожными, поскольку мы хотели, чтобы актеры ели настоящие пирожные».
Они не ставили перед собой цель в точности воссоздать эпоху, а хотели придать форму тому образу рая, который Висконти ассоциировал с легкостью и свободой XVIII века. Только музыкальные фрагменты подбирались строго из шекспировских времен.
Почему я обратился к стилю XVIII века, ведь творчество Шекспира относится к рубежу XVI и XVII веков? В ответ я задал бы другие вопросы, которые поставил перед собой, прежде чем начать работу. Нужна ли мне «историческая достоверность»? Кому она так уж необходима? Профессору или историку? Разве я желал создать атмосферу XVII века, облачив персонажей в костюмы строгие и манерные? Не лучше ли вообразить, что эта история разворачивается вне времени, что она может происходить как в греческой Аркадии, так и в шотландских лесах или в рощах с полотен венецианцев? Не лучше ли выбрать век посвободнее, поромантичней, в котором больше фантазии и прелести? Вот я и решил поместить всю интригу, весь балет в атмосферу XVIII века, который Дали превратил в осенний, яркий, полный веселья и печали XVIII век, век не исторический, но придуманный, век невинности. Отсюда и костюмы в стиле «Кота в сапогах» — они словно бы напоминают о золотом, зачарованном времени.
Так же неистов был разгул фантазии и в постановке «Ореста» графа Альфиери, которую Висконти реализовал весной 1949 года с единственной целью — порадовать своего «любимчика» Витторио Гассмана. Висконти говорил, что не любит эту пьесу, но в роскоши и сценических изысках его режиссура не уступила в замысловатости этой высокопарной трагедии XVIII века.
В полностью перестроенном театре «Квирино» он отводит зрителям места исключительно в ложах, широко раздвигая привычные рамки сцены за счет партера. Под гигантской люстрой из хрусталя Святого Петра XVIII века, подвешенной к черному потолку, откуда плавно ниспадают пурпурные ткани, каменные ворота распахивались, словно челюсти фантастического чудовища, а подножие лестницы, выкрашенной в кроваво-красный цвет, караулили микенские львы. Сцену освещал резкий свет; наполовину скрытый зеленоватым занавесом оркестр Святой Чечилии играл музыку Бетховена. Пятеро главных действующих лиц были облачены в невиданные, диковинные облачения из перьев и мишурных блесток, которые наводили одновременно на мысли о цирке и о рыбьей чешуе; каждый из этих костюмов обошелся Висконти в пятьсот тысяч лир. Здесь были солнечный Орест-Гассман, бряцающий окровавленным, покрытым блестками мечом («Кровь! На мече должна быть видна кровь!» — настаивал Висконти) и Мастроянни в контрастной роли лунного, меланхоличного Пилада, а все действие словно бы происходило при дворе новой Атлантиды.
«Ход его мыслей был таков, — рассказывает ассистент постановщика Джерардо Геррьери. — Это Альфиери, XVIII век, вот-вот грянет Революция, монархия тонет, и все как будто бы тонет в этом подводном Версале, облепленном ракушками, как старый галеон». Это объяснение, как кажется, слишком сильно трактует вдохновенные решения Висконти в духе механической, излишне рациональной эстетизации. Почему он так заострил барочный стиль Альфиери, использовав даже чешуйчатые трико братьев Фрателлини? Затем, подсказывает критик Джорджо Проспери, «чтобы освободиться от этого стиля, вытолкнуть его из себя, устроить сеанс самоисцеления, отринуть назойливую чувственность барокко».
Это намерение подтверждает и сам Висконти: «Мой „Орест“, которого Гассман считал таким показушным, должен был стать просто барочным зрелищем. Я строил такой мир, в котором натянутые и ходульные, но при этом героические, неистовые стихи Альфиери могли бы отозваться эхом и совпасть с намерениями автора, с его духом. Я всегда ищу в произведении за что ухватиться, некие намеки, ищу связь, чтобы построить „мост“ между мной и произведением, которое я ставлю. Иногда это произведения, которым я полностью верю, а подчас, как в случае с „Орестом“, мне хочется вступить в состязание».
Гораздо чаще его замыслы возникали из глубокого эмоционального отождествления с текстами, персонажами, актерами. Висконти и сам был великолепным актером, и он сильно отождествлял себя с некоторыми литературными героями, особенно со Ставрогиным. Послушаем Джерардо Геррьери: «Он говорил о Ставрогине без умолку, этот персонаж совершенно его заворожил. Он жестами показывал, как девочка накидывает петлю себе на шею и при этом грозит кулачком, словно бы укоряя…»
Но, добавляет Геррьери, «когда доходило до спектакля, он проживал жизни за всех персонажей. Он был актер в большей степени, чем режиссер. Уже во время репетиций за столом, с первого физического контакта с актерами в нем рождался нервный импульс, заставлявший его импровизировать на сцене те роли, которые должны были репетировать актеры, превращая их в зрителей».
Актер в этом случае должен быть точным, безупречным зеркалом, а не личностью, он не может руководить самим собой и обойтись без полновластного режиссера — в противоположность тому, что писал Дидро в «Парадоксе об актере». По этой причине репетициям у Висконти всегда предшествовали многочисленные групповые читки под его руководством. Актерам запрещалось учить роль заранее и самостоятельно. Самые послушные и дисциплинированные, такие, как Паоло Стоппа и Рина Морелли, подчинялись этим правилам без разговоров. Однако с другими актерами, более строптивыми и склонными оттягивать на себя внимание, проводятся сеансы дрессировки — в ход шла изощренная брань, желчные замечания и бесцеремонные придирки, укрощавшие пыл даже самых норовистых из них.
Как-то раз, на читке «Трех сестер», Мемо Бенасси — по словам Висконти, «актер невероятно способный, но страшно несобранный и неуклюжий» — демонстративно захлопывает тетрадь с текстом роли и, не заглядывая в нее, подает реплики товарищам. И так до самого конца читки. «Почему вы не читали текст по тетради, как все?» — спросил его Висконти, когда все закончилось. «Потому что я его выучил!», — парировал актер, явно очень довольный собой.
Бенасси совершил проступок, за который ему пришлось расплачиваться, — ведь у Висконти актер должен забыть все, что знает, все, что мог узнать или думал о персонаже, с тем чтобы увидеть его глазами режиссера. «Разумеется, у каждого есть своя точка зрения, — объясняет Лукино. — Но поскольку это моя работа, я предлагаю трактовку и я руковожу процессом, исходя из определенного плана, я же — и тот человек, который в конце концов ответственен за все. Актер может сомневаться насчет той или иной детали, реплики, сцены, но я убеждаю его, что эта деталь или сцена в соответствии с общим решением спектакля должна быть именно такой и никакой другой…»
Нечто похожее было и с Гассманом. Висконти вспоминает: «Он пришел ко мне в труппу и сказал: „Я охотно поработаю, если ты поставишь что-нибудь для меня. — Давай выберем“. Он остановился на „Оресте“ Альфиери… Я говорю: „Отлично? я поставлю для тебя „Ореста“. Но я поставлю его, как хочу, как вижу и чувствую сам, и все окончательные акценты расставлю так, как считаю нужным сам“». Витторио Гассман был не из тех, кого легко взять под уздцы; он отчаянно сопротивлялся, но в конце концов подчинился — Висконти пишет, что он покорился «после того, как я устроил ему хорошую головомойку».
Однако, дрессируя Гассмана под себя, он только приумножал его строптивость, его амбиции — наступает момент, когда актер рвет все путы. «Сейчас уж не вспомню, из-за чего мы расстались», — пишет Висконти. А Гассман с великой гордостью вспоминает, как однажды, после двенадцатичасовой репетиции, режиссер зарычал на него из глубины зала: «Протри глаза! Пошевеливайся! Ты еще далеко не Тальма!», а Гассман парировал: «А тебе никогда не стать новым Станиславским!»
«В работе он был жесток», — скажет Клара Каламаи. По словам Массимо Джиротти, «работать в театре с Висконти было сущим адом. Атмосфера была как в монастыре, мрачная, давящая, всюду царила тишина. Его излюбленным оружием была ирония: он издевался над актерами, высмеивал их, передразнивал. Он пародировал и то, как они играли, и то, как им не надо было играть. Он держал всех в страхе».
Зато, как позже расскажет Адриана Асти, «он мог и камни заставить играть»… А вот слова Мастроянни, которому Висконти дал первую роль в постановке «Как вам это понравится»: «Со многими актерами он вел себя грубо. Ему явно нравилось унижать бедную старушку Маргу Челла, он заставлял ее танцевать, бранил и провоцировал. Он дурно обходился почти со всеми, в том числе и со Стоппой, который вечно вилял перед ним хвостом. Но со мной и с Гассманом, у которого тоже была развита ирония, он вел себя почтительно».
«Его отношение к актерам, — скажет в 1977 году Джерардо Геррьери, — было смесью тирании и обожания… С ним в итальянском театре появился маркиз де Сад. Очень близкий к нему актер[37] совсем недавно сказал мне: „Лукино был тираном. Работа с ним всегда чудовищно изматывала. Не помню ни одного случая, когда работа с ним обходилась без конфликтов. Но помнишь ли ты, каких сцен он добивался от Паоло Стоппы и от Марчелло Мастроянни? Он мог выжать что-то из всех, за исключением Рины Морелли. Он вечно ругался с первым, кто попадется ему под руку. У него была наэлектризованная, страстная связь с актерами, которая на подмостках превращалась в портрет тех лет — эпохи, балансировавшей на грани припадка и истерики“».
Но у всего этого была и иная сторона: Висконти обожал актеров и исступленно поклонялся им. Актеры для него были фетишем, они позволяли ему выразить себя, и он самоиденти-фицировался с ними. Он обожествлял великих актеров — тех, кого видел мальчиком вместе с матерью, а видел он всех, начиная с Дузе, и помнил, как, сидя в театральном кресле, слышал скрип деревянной ноги Сары Бернар.[38] Он хотел иметь по крайней мере одну звезду в каждом спектакле: Гандузио в «Эвридике» (Висконти превозносил его до небес: «Честь и хвала ему! Вот поколение, с которого надо брать пример: какая точность, не то что у вас, молодых!»); Руджеро Руджери (его прозвали «трупом» за бледность лица), Татьяна Павлова, с которой он быстро вступил в противоборство; однажды он вызвал директора театра и сообщил ему, что «репетиции отменяются до тех пор, пока мадам Павлова не перестанет говорить по-турецки». Это замечание было вполне в духе Тосканини, на которого Висконти походил даже больше, чем на Станиславского.
В июне 1949 года он продемонстрировал свое могущество режиссера на Флорентийских театральных вечерах, объединив под своим крылом всех значительных артистов, какие только были в Италии. «Все они были там», пишет Висконти, имея в виду постановку «Троила и Крессиды» в садах Боболи: в спектакле было занято 150 актеров. «Это было что-то вроде национального парада итальянского театра. Да, вполне можно так сказать, ибо вдобавок ко всем, кто уже был в моей труппе — Паоло Стоппа, Рина Морелли, Гассман, Мастроянни, де Лулло, Джиротти, — я пригласил и других: Ренцо Риччи, Мемо Бенасси, Карло Нинки…» Здесь были собраны самые громкие театральные имена прошлого, и это были не только актеры. В этих вечерах приняли участие все звезды итальянского театра первой половины века, в том числе и руководители трупп и театральных компаний, которые ставили и играли Пиранделло, Шекспира, Чехова.
Чтобы управиться с такой армией, чтобы управлять передвижением этих войск (в самом прямом смысле, ибо в «Троиле» Шекспир рассказывает о противоборстве троянцев и греков) требовалась колоссальная энергия, которой Висконти был наделен от природы. Он считал нормальным не спать три ночи подряд во время работы над спектаклем и от своих актеров он требовал точно такого же серьезного отношения и выносливости. Он вспоминает: «Мы репетировали „Троила“ на пленэре, в садах Боболи; у нас было 22 дня репетиций и в нашем распоряжении было огромное пространство». Во время сцены с участием Бенасси (он играл шута Терсита, «лекаря для безумных») и Джиротти-Аякса «Бенасси, который всходил на холм и сбегал с него, когда Джиротти хлестал его плеткой, вдруг принялся пересмеиваться со статистами. Я заметил это и сказал, что так делать нельзя. После этого заставил сыграть всю сцену, если мне не изменяет память, еще раз двадцать, так что бедняга едва не умер, взбегая на холм и сбегая с него; но у него был сильный характер, и он не отступился, он играл и десятый, и двадцатый раз, а потом сказал мне: „Я умираю, я мог бы и умереть, но я бы ни за что не сдался“».
Сам спектакль продолжался до двух часов ночи и обошелся в 30 миллионов лир. Для этой пьесы, давно считавшейся непригодной для сцены и до сей поры отпугивавшей всех режиссеров, по эскизам Дзеффирелли был построен целый город с крепостными стенами, внутренними садами, фонтанами, лабиринтами переулков, лесенками, террасами, минаретами и нишами. А перед ослепительно-белыми стенами осажденной Трои располагался лагерь греков с его героями в остроконечных шлемах, знаменами, лошадьми в попонах. Однако публика без особого воодушевления отнеслась к этой необыкновенной постановке — в то же самое время эта пьеса так взволновала Висконти, что позже, в 1963 году, когда в Алжире шла война, он задумал воплотить на сцене грандиозное противостояние двух цивилизаций: троянской — архаичной и привязанной к своим древним ценностям, и греческой — современной и коррумпированной. В этом замысле отзывались эхом важные для Висконти противостояния — между севером и югом Италии, между цивилизациями Запада и Востока, слышен здесь и еще один важный для него мотив — восстание угнетенных против поработителей. В 1963 году Висконти изобразил Алжир как Трою, а во французских десантниках он узнал древнегреческих воинов.
Мечтал ли он уже в пятидесятые о грандиозных цветных костюмных фильмах? Вне всякого сомнения, да — ведь уже тогда он обсуждал со сценаристкой Сузо Чекки д’Амико два проекта, родившихся из его преклонения перед двумя «священными чудовищами».
Первый из них — его императорское высочество Антонио де Куртис, пфальцграф, рыцарь Священной Римской империи, герцог Македонский, принц Константинополя, Тенальо, Понто, Мольдано, Пелопоннеса, граф Кипрский и Эпирский, граф де Дривасто, герцог де Дураццо и т. д. Эта пышная титула-тура казалась Висконти сомнительной, однако он не ставил под сомнение неподражаемый комический талант этого человека, больше известного под именем Тото. По свидетельству Сузо Чекки д’Амико, Лукино был крайне недоволен тем, как кинематографисты используют Тото, и мечтал доверить ему роль неаполитанского актера Антонио Петито, самого великого Пульчинеллы XIX века.
Вторым проектом, доросшим до полноценного сценария, была экранизация «Кареты Святых даров» Мериме. Роль Периколы в этом фильме должна была исполнить Анна Маньяни. Однако Висконти вступил в столь пылкие споры с продюсерами, что в конце концов отозвал свой сценарий, а Маньяни осталась работать — у нее уже был подписан контракт. Возникла идея доверить эту постановку Ренуару, и тогда Маньяни обратилась к Висконти за советом: «Что мне делать?» Висконти парировал: «То есть как — что делать? Это же Ренуар! И ты еще раздумываешь?» Так появился на свет фильм «Золотая карета».
Пульчинелла и Перикола, Тото и Маньяни — это все еще театр в итальянской традиции, полный движения, пируэтов и танцев, театр телесного ликования. «Возможно, — писал Висконти в 1948 году, — мы переживаем в театре закат века Ибсена и Чехова. Современный спектакль тяготеет к танцу, и не в эстетическом смысле, а в смысле свободы движения. Быть может, перед нами открывается век театра, в котором персонаж будет выражать себя более совершенно и более искренне в сравнении с сумеречным и витиеватым стилем буржуазного театра».
Но в период с зимы 1949-го по весну 1951 года Висконти обращается не к жизнерадостным и веселым арлекинадам комедии дель арте: его интересует Америка и ее «дикий театр без правил», возникший под влиянием Ли Страсберга и Элиа Казана. Из этого театра вышли Монтгомери Клифт, Джеймс Дин и Марлон Брандо. Висконти был очень увлечен последним — он планировал снимать Брандо в «Чувстве», затем — в «Леопарде», а еще позже хотел поручить ему роль барона де Шарлюса в киноверсии «Поисков утраченного времени». На этот момент в распоряжении Висконти были Паоло Стоппа, который благодаря режиссеру перешел от комедийного амплуа к драматическим ролям, Мастроянни, Джорджо де Лулло, а тузом в его колоде был Витторио Гассман, которого он заставляет работать больше всех, то пришпоривая, то приводя в экстаз. Висконти мастерски использовал брутальность Гассмана, доводя ее до бешеного градуса.
Обливающийся потом, то исступленный, то съежившийся от страха, то дерущийся битыми бутылками, — таков был Гассман во время генеральной репетиции «Трамвая „Желание“», премьера которого состоялась в январе 1949 года. Он так вжился в роль Стэнли Ковальски, что оступился на подмостках и получил травму. Сцена этого театра напоминала поле боя, где сражаются безумцы. Два года спустя «Смерть коммивояжера» Артура Миллера будет поставлена с таким же бешеным нервом — этот спектакль был неистовым наваждением, и, по мнению критика Сильвио д’Амико, «стремится скорее эпатировать, нежели взволновать».
Реализм Висконти брутален: язык, на котором говорят его герои, груб и вызывает лицемерно-стыдливое возмущение публики и журналистов; он использует бескомпромиссный, резкий свет — в «Трамвае „Желание“» герои выхвачены из мизансцены ослепительными лучами прожектора; наконец, это резкая, конвульсивная пластика актерских тел, измученных тоской, яростью, безумием и желанием. Висконти видел подлинность в персонажах Теннесси Уильямса и Артура Миллера — герои их пьес, отбросы старой Европы и юной Америки, деклассированные элементы, изгнанники и неудачники, в спектаклях Висконти двигались на фоне неоновых миражей и напоминали кукол из китайского театра теней. Это были герои, потерпевшие поражение, как и персонажи Берги. Иногда они сбегают в наивный мир детства, чтобы хотя бы там почувствовать себя королями. Местом бегства становится Аляска и Камерун, где мечтает озолотиться коммивояжер Вилли Ломан; это может быть и дом детских лет Бланш Дюбуа, «Прекрасная мечта», в интерьерах которого теперь не осталось почти ничего, кроме стопок квитанций и бесполезного вороха бумаг, но где Бланш, в стоптанных тапочках и в тиаре из стекляшек все еще грезит наяву, вспоминая прежнее великолепие семьи.
Во всех спектаклях, которые Висконти перенес на итальянскую сцену, присутствовали обе его музы — Насилие и Ностальгия. Эти истории были не просто рассказами, они были поэмами об изгоях, в которых душную ночь Нового Орлеана наполняли звуки шарманки и негритянские спиричуэле. Рина Морелли, исполнившая роли Бланш Дюбуа и Линды Ломан, умела передать тончайшие нюансы взглядом, вздохом, шепотом и, наконец, молчанием.
В этом американском зеркале отражаются излюбленные мотивы Висконти: распад семьи, конфликт между обыденностью существования и стремлением к счастью или к невинности, а также темы безумия и краха. Бланш Дюбуа — эта современная Травиата из старинной семьи французских аристократов, ставшая проституткой, живущая вне общества и реальности; у нее есть реальный прототип, и это не кто иной, как сам Теннесси Уильямс. Висконти даже прозвал его «Бланш» — но и сам Висконти тоже был Бланш! Два этих художника-гомосексуалиста, жившие, как их актеры и их герои, за рамками «нормальной» жизни, вечно преследуемые призраками упадка и катастрофы, с некоторых пор очень сблизились — Теннесси Уильямс стал часто приезжать в Рим. Висконти столь сильно сблизился с Уильямсом, что он отпустил такие же тонкие усики и стал выглядеть как его родной брат.
Эти постановки Висконти также перекликались с итальянской действительностью — в это время в стране свирепствовала безработица, и восстание уволенных рабочих зимой 1950 года привело к жертвам в Модене и Парме. Еще одним элементом реальности в то время была дань, которую приходилось платить политическим победителям — правительству христианских демократов: Андреотти и министр внутренних дел Сельба давно запустили репрессивные механизмы и ввели цензуру.
В 1950 году Висконти присоединяется к Движению борьбы за мир, учрежденному итальянскими коммунистами. 3 октября 1951 года в L’Unita опубликуют его открытое письмо, адресованное Пьетро Инграо: Висконти возмущен тем, что министерство внутренних дел отказало во въездной визе коллективу «Берлинер Ансамбль» под руководством Бертольта Брехта. В знак солидарности он снимает свое имя с афиши спектакля, поставленного им для театрального фестиваля в Венеции: это был «Обольститель» Диего Фабри — пьеса весьма слабая, которую он все-таки «вытащил», выбрав в качестве музыкального сопровождения вальсы из волшебной «Травиаты».
В 50-е годы Висконти непримиримо настроен по отношению к итальянскому правительству, которое тяготело к пуританству и консерватизму. Столь же непреклонен он был и по отношению к культурным компромиссам, к сползанию в рутину — он первым замечает и критикует эти тенденции на сцене и на экране. Висконти активно участвовал во внутрипартийных дискуссиях, что неореализм выдохся, был первым критиком псевдонародных сентиментальных картины и разругал комедию «Хлеб, любовь и фантазия» за пошлость, безобидность и желание всем угодить. Он не пощадил даже своего друга Витторио де Сику, который в «Чуде в Милане» сбивается с каменистой тропы реализма: «В финале картины „Земля дрожит“, — напоминает он, — и то больше надежды и оптимизма, чем в финале этой картины, где бродяги улетают прочь верхом на метлах. Мы не можем и не должны отрываться от действительности. Я решительно против такого эскапизма».
Фильм «Самая красивая», снятый им летом 1951 года — это одновременно и бенефис Анны Маньяни, и суровая критика неореалистической школы, звездой которой была Маньяни со времен фильма «Рим — открытый город». Висконти пишет: «Я был одним из первых зрителей этого фильма — сразу после завершения монтажа Росселини показал „Рим“ в маленьком просмотровом зале министерства. На этом первом сеансе нас было человек двадцать. Помню, что в знаменитой сцене смерти Маньяни именно я зааплодировал, подав пример остальным, так эта сцена меня потрясла… Какое воодушевление вызывали тогда знамя, плещущееся на ветру, пушка, попавшая точно в цель. После фильмов „Пайза“, „Шуша“, „Дети смотрят на нас“ неореализм продолжал жить, но мне казалось, что поиск важных тем и нравственной позиции по отношению к жизни мало-помалу уступал место удобным компромиссам». Картина «Самая красивая» должна была стать очередной вершиной неореализма — залогом тому было и участие Маньяни, и сценарий, написанный специально для нее главным вдохновителем неореализма, сценаристом Чезаре Дзаваттини.
В римской квартире Дзаваттини на виа Меричи зародились все главные фильмы неореалистической школы, в том числе «Четыре шага в облаках» Блазетти, «Похитители велосипедов» и «Умберто Д.» де Сики. Дверь в эту квартиру открывал хрупкий человечек в очках с шарфом, обмотанным вокруг шеи. Он говорил быстро и ни на секунду не умолкал, то взрываясь хохотом, то восклицая «Ого!» или «Вот те раз!», и обрушивал на своих гостей бесконечный поток шутовских разглагольствований, побасенок, воспоминаний, образов, диалогов и фантастических историй, взятых прямо из жизни. Висконти тоже посещал эту пещеру Али-Бабы — по его словам, «исключительно для того, чтобы позаимствовать два-три самородка из бездонного мешка с золотом».
Одним из этих слитков золота был и сюжет «Самой красивой». Блазетти, который в этом фильме играет сам себя, ищет маленькую девочку для съемок следующей картины. Объявлен конкурс, «разыскивается самая красивая малышка в Риме», и все матери с детьми устремляются на студию «Чинечитта». Среди этих матерей есть совсем простая женщина Маддалена (Анна Маньяни) с дочерью Марией. Висконти обычно увлекали не случаи из жизни, а «масштабные повествования классиков европейской литературы» — но в этот раз все было иначе, и это исключительный случай в его творчестве. Съемки велись очень быстро, почти без декораций, на студии «Чинечитта» и в римских предместьях, а Маньяни импровизировала, как умела лишь она одна.
«Самая красивая» оказалась чем-то вроде троянского коня в крепости неореалистов. Дзаваттини понял это, когда Висконти полностью переделал финал его сценария, изменил характеры героев, ввел в действие новых персонажей — в частности, Ирис. Ее играет Лилиана Манчини, монтажер из «Чинечитты». В фильме она рассказывает историю из собственной жизни — однажды ее увидел на улице режиссер Ренато Кастеллани, подошел и предложил главную роль в своем фильме «Под римским солнцем». «Сняли меня раз-другой, потому что я подходила им по типажу. Честно сказать, я уж и нос немного задрала, и службу бросила, да и жениха тоже. Я хочу вот что сказать: если ты не настоящий актер, лучше иметь профессию и не питать иллюзий Грезы о работе в кино сделали несчастными множество людей».
В этом фильме самого себя сыграл и Блазетти: «Делай что хочешь — сказал ему Висконти, — только будь самим собой». Однако всякий раз, когда он появляется на экране, за кадром звучит ария Шарлатана из оперы Доницетти «Любовный напиток». Когда нашлись доброхоты, объяснившие это Блазетти, который, по словам Висконти, оперы не знал, тот послал коллеге возмущенное письмо. Висконти ответил: «На что тут злиться? Мы создаем иллюзии у матерей и юных девиц. Мы выбираем людей с улицы, и мы не правы. Мы торгуем любовным зельем, но это не волшебный эликсир, а простое бордо — как в опере Доницетти. Музыкальная тема шарлатана — не столько про вашего героя, сколько про меня».
Этот фильм словно пригвождает всю киноиндустрию к позорному столбу — картина показывает иллюзорность этого мира и осуждает свойственный для него эскапизм. Об этом мире свидетельствует не только режиссер, но и модистки, фотографы, преподаватели драматического искусства, а равно и всевозможные нахлебники и прилипалы, снующие вокруг этого грандиозного улья мечты. Один из них — Анноваци, которого сыграл один из самых высокооплачиваемых и востребованных актеров того времени, Вальтер Кьяри.
Этого героя придумала Сузо Чекки д’Амико, предположившая, что этот персонаж придется по вкусу Висконти. Анноваци занимает какую-то малопонятную должность на студии «Чинечитта», но выманивает деньги у Маддалены (Маньяни), пообещав лично рекомендовать ее дочь и добиться кинопроб. Прикарманив ее лиры (все сбережения, которые у нее были), он в тот же вечер покупает мотоцикл «Ламбретта», выторговав его задешево, заводит мотор и смывается. Эта сцена снята на фоне маленького кинотеатра, в котором идет полузабытый фильм под названием «Все женщины обаятельны по-своему», а кроме того, в кадре появляется и аптека, на неоновой вывеске которой написано имя — Карло Эрба.
Сложно сказать, до какой степени Висконти отождествлял себя с этими героями, с Блазетти и с пройдохой, который выманил деньги у женщины, у матери, после чего тут же их промотал (сходные типажи появляются у Висконти и в дальнейшем).
Висконти писал о картине: «Говорили, что моей целью было представить киномир в ироническом свете, но это была не цель, а лишь следствие. Сердцевиной, вокруг которой выстроился фильм, была Маньяни». Эту женщину он знал еще до войны — она была взрывной, экспансивной, эгоистичной и неуживчивой, между ними случались долгие размолвки, и при этом Висконти боготворил ее. Так же сильно боготворил ее и Теннесси Уильямс, у которого в Риме было два любимейших занятия спорить о чем-нибудь с Маньяни вечерами напролет или ходить вместе с ней к Колизею и кормить облезлых котов. Как-то Уильямс сказал о Маньяни: «Я так и не смог избавиться от привычки всегда ставить после ее имени восклицательный знак».
Висконти был свидетелем множества ее бурных романов — сначала был Росселини, затем последовала целая вереница актеров, а на площадке «Самой красивой» предметом ее увлечения стал Лаворетти, красавчик-электротехник из съемочной группы фильма. Она повсюду таскала его за собой, выставляла его на посмешище из-за того, что он был недостаточно элегантен, а также запрещала ему ходить домой, на виа де Панико, где до этого момента он мирно жил с женой и двумя детьми.
Лукино и Сузо Чекки д’Амико пытались образумить ее и отговорить от грандиозных планов на совместное будущее с Лаворетти — они подсчитали, какую компенсацию придется выплатить покинутой супруге. Маньяни в ответ обвиняла обоих в классовых предрассудках, ведь Висконти был аристократом, а д’Амико происходила из семьи состоятельных буржуа. Маньяни восклицала: «Ну и дрянная же вы парочка! Говорите так только потому, что он простой электрик!» Ее отношения с любовниками были бесконечной чередой скандалов и слез; впав в отчаяние, она звала на помощь друзей, и те прибегали в квартиру над Пантеоном, выслушивали все ее жалобы на жизнь, а также терпеливо сносили упреки в свой адрес.
«Она была немного сумасшедшей, — скажет впоследствии Сузо Чекки д’Амико, — но ее обаяние было невероятным». Отношения между Маньяни и Висконти были очень пылкими. Маньяни его обожала, а режиссер говорил: «Она занимала первое место — и в моих мыслях, и в моих планах». Но как ему было вынести ее болезненную ревность? «Она ревновала ко всему, в чем не могла участвовать сама, к любым близким отношениям, в которых не находилось места ей самой. Она боялась потерять друзей, если видела, что они глубоко увлечены чем-то другим. Она старалась бороться с этим инстинктом, но без особого успеха. Могла затаить зло из-за любого пустяка. Когда она срывалась, она бушевала и крушила все вокруг, буквально наводняя пространство своим гневом… И все дошло до того, что мы полностью порвали отношения».
Это случилось на Венецианском фестивале 1956 года, когда приз за лучшую роль отдали Марии Шелл за фильм «Жервеза». Анна Маньяни, сыгравшая у Луиджи Дзампы в «Сестре Летиции», не сомневалась, что Лукино отдал свой голос за Шелл. Напрасно Сузо Чекки д’Амико урезонивала ее, убеждая, что награда присуждена справедливо и «в таких вещах для Лукино не существует ни дружбы, ни отца, ни матери», она все равно смертельно обиделась и не разговаривала с ним — лишь через двенадцать лет она случайно встретит его в магазине и сразу же бросится ему на шею.
Маньяни была ревнивой, и с ней было трудно работать, но Висконти был с ней очень терпелив и бесконечно нежен. По словам его сценаристки, «женщин он понимал как никто — это было невероятно».
В этот же период у Висконти завязываются столь же бурные отношения с романисткой Эльзой Моранте, женой Альберто Моравиа. Она только что написала «Ложь и ворожбу», и Висконти одно время подумывал экранизировать этот роман. «Ему льстили эти отношения, — рассказывает Сузо, — ему нравилось очаровывать людей, но она была назойлива и всюду за ним таскалась; подарила ему кота по имени Артуро (отсылка к роману Моранте „Остров Артура“). Затем она подарила ему еще двух рыжих персидских котов — для Лукино это был кошачий период. В конце концов ее навязчивость и демонстративная любовь начали тяготить его».
Это были очень странные отношения: они тянулись друг к другу и оба любили провокации. Висконти звонил ей ночью и приказывал мастурбировать. Она являлась к нему с виноградной гроздью, засунутой в трусики, и, громко хохоча, говорила: «Ау меня тут тоже есть кое-что!» … В конце концов ему все это наскучило. Впоследствии Эльза Моранте назовет его «гадом». «Это правда, — признает Сузо Чекки д’Амико, — в конце их отношений он вел себя весьма скверно, а временами — просто отвратительно».
Висконти сильно манила эта женственность, в своей иррациональности доходившая до чего-то звериного — женственность, которая воплотилась в Эльзе Моранте. Столь же интенсивные эмоции он испытывал, когда работал со своими актерами и актрисами. Он пишет, что в работе с Маньяни он хотел «поработать с „подлинным персонажем“», «выразить более глубокие и сложные вещи». Это был образ «современной матери», которая, однако, несколько напоминает и «архаичную мать» из «Рокко и его братьев». Маддалена из «Самой красивой» суеверна (как и сама Маньяни). Маддалена — это мать, которая обожает свое единственное дитя. Маньяни так же сильно была привязана к своему сыну Луке, страдавшему детским церебральным параличом — этот ребенок появился на свет во время съемок «Одержимости», от участия в которых она отказалась, чтобы его родить. Кроме того, Маддалена — это мать, которая желает, чтобы ее ребенок достиг в жизни всего того, что ей так и не удалось.
Анна Маньяни скажет: «В „Самой красивой“, несмотря на все просчеты Висконти — а их было великое множество, просто ужас! — мне с ним отлично работалось. Он предоставил мне полную свободу. И он знал, что это единственный способ заставить меня работать». «Самая красивая» — единственный пример, когда Висконти позволил актеру импровизировать и снимал именно эту импровизацию, ту «полную народного чутья игру, которой никогда не увидишь в профессиональном театре»: слезы, смех и этот вопль раненого зверя, вырывающийся из самых глубин ее души в одной из заключительных сцен фильма, когда она ночью сидит на скамейке, обняв заснувшую дочурку. Вчера вечером ее дочь, шепелявую, обряженную в балетную пачку и вконец растерявшуюся малышку Марию подняли на смех на кинопробах у Блазетти.
Франческо Рози работал ассистентом Висконти на съемках «Самой красивой». Позже Рози напишет об удивительной встрече этих двух ярких личностей, двух вулканов на съемочной площадке: «Истинным наслаждением было смотреть, как они работают. Между ними не было никаких скандалов, никаких препирательств. Маньяни была чрезвычайно умна, как и Висконти. Он понимал, что она дарит ему свою личность, свой великий талант актрисы, и, как искушенный деятель театра, принял этот дар с великим уважением. Силу этой личности надо использовать, не стесняя при этом ее свободы действий; было чрезвычайно интересно наблюдать, как достигается равновесие между первым и вторым требованием…»
Висконти вспоминает: «Мне было интересно, какие отношения сложатся у меня с дивой Маньяни». Этот возврат к культу «дивы» — еще один шаг, который он делает в сторону от неореализма, и в 1953 году он делает следующий, сняв один из эпизодов киносборника «Мы — женщины» (Siamo Donne). Этот фильм был задуман Дзаваттини как серия документальных портретов, он хотел представить великих звезд эпохи как обычных женщин. В новеллах других режиссеров снялись Иза Миранда, Алида Валли и Ингрид Бергман, а Висконти в этой работе нашел возможность воспеть исключительную героиню — Маньяни. О двух самых любимых актрисах тех лет он говорит почти одними и теми же словами — обе они вызывали у него бурный восторг. Это были «волчица» Анна Маньяни и «весталка» Мария Каллас — Висконти боготворил последнюю с 1949 года, когда впервые увидел ее в «Парцифале» и «Норме». Чувства, которые пробуждала в нем Маньяни, были связаны с образами детства и фигурой матери — сильной, властной и прагматичной, но в то же время любящей и страстно любимой покровительницей семьи.
«Самая красивая» — динственная работа Висконти, где он изображает драму ребенка. Это царственное дитя разодето для маскарада, разукрашено, загримировано до неузнаваемости, а после водружено на стул с прямой спинкой, который очень напоминает трон. Этот ребенок — словно младенец Христос и в то же время это ребенок-клоун, которого оторвали от игры, выставили на потеху взрослым. Это ребенок, который разрывается между родителями, которые оспаривают на него права — он плачет в темноте, глядя на эту бесконечную семейную склоку. В числе глубоких чувств, которые пробудила в Лукино дива, был и детский страх перед семейным разладом.
У Маньяни было столь живое, столь многообразно меняющееся лицо, что, по выражению Висконти, «в нем жили выражения тысяч лиц». Она могла сыграть буквально все: недоверчивость и простодушие, юность и зрелость, иронию и пылкость, жизнелюбие и скорбь — и все это было единое человеческое существо, столь чтимая им Мать. Висконти подчеркивает не столько экспрессивность и колоритность своей героини, но прежде всего ее стоическое благородство, которое в финале эпизода противопоставлено истерическому смеху других женщин.
В семье из «Самой красивой» фигура отца не играла большой роли — так будет и в других фильмах Висконти, за исключением «Леопарда». Главная героиня здесь — мать: когда ее мелкобуржуазные иллюзии развеиваются, она отказывается от контракта, который предлагают ее дочери. Она отвергает славу и богатство как мираж и ревниво охраняет сон угомонившейся девочки, которая спит рядом с помирившимися родителями, а мотив арии Шарлатана становится все тише и тише, пока совсем не угасает вдали. Преображенная, похорошевшая Маньяни в этот момент превращается в Мадонну с младенцем из сентиментальной и утопической грезы. Она становится светлой покровительницей семейных ценностей, от которых прежде сама так необдуманно отреклась.
Глава 15 МАЭСТРО
Жаль, что я знал Висконти не так близко, как мне бы того хотелось. Мы, работающие в мире зрелищ, похожи на текущие по стеклу капли дождя: следуем друг за другом, догоняем, на краткий миг сливаемся в экстазе, потом разъединяемся, бывает, что и навсегда, а подчас — чтобы когда-нибудь встретиться снова и затем, соскользнув, покатиться вниз и исчезнуть…
Эдуардо де ФилиппоХудожник Пьеро Този говорил о пятидесятых годах: «Теперь никто так не живет — мы тогда были словно на острове…» Этот остров омывали волны истории: после великих бурь последовал отлив, который, казалось, длился бесконечно. В этот период правления христианской демократии, который впоследствии привел Италию к экономическому буму, главными умонастроениями стали чувство уюта и уверенности. «Италия была правой, — заключает кинорежиссер Марио Моничелли, — а кино — левым».
Это было время паломничеств к Мадонне, эпоха Пия XII и вездесущего премьера Андреотти. Антониони вспоминает, что люди «дышали спертым воздухом. В атмосфере витал дух провинциализма и глупости, нравы были пуританские, политика была репрессивной, а клерикализм был просто невыносим… Тогда правили бал цензура и морализм». Коммунисты — как и все, кто им симпатизировал, — были отлучены от церкви. Эту воцарившуюся духоту Висконти изобличит в 1955 году, поставив на сцене «Суровое испытание» — пьесу Артура Миллера, в притчевой форме рассказывающую об охоте на ведьм в маккартистской Америке.
Конечно, у графа Лукино не было достаточного таланта мученика, но и к святым он официально причислен не был. Не имея поддержки правительства, он вынужден отказаться от плана «народного театра», который мог бы сделать из него итальянского Жана Вилара. Он планировал снять фильм «Свадебный марш», но и этот проект не состоялся. Сюжет этой картины был основан на реальных событиях в Неаполе, в нем переплетались две линии — одна рассказывала об обручении и свадьбе рабочей пары, вторая — о женщине из высших слоев буржуазии, которая кончает с собой, бросившись с вершины холма Позилиппо вместе со своими двумя детьми. Такие истории совсем не подходят для времени, когда высший свет утопает в распутстве, а средний класс и народные низы крепко держит в узде церковь Пия XII. В 1958 году пресса сообщает о самоубийстве двух обручившихся молодых людей накануне свадьбы: собирая необходимые для церемонии документы, девушка обнаружила, что является незаконнорожденной.
«Сложись обстоятельства по-другому, — скажет позднее Висконти, — мое творчество могло бы быть совершенно иным…» Четырех лет хватило, чтобы от великих порывов послевоенной поры не осталось и следа. В 1948 году, на пике всеобщего воодушевления, Висконти писал в L’Unita, что, по его мнению, Чехов показывает нам застоявшееся и никчемное буржуазное общества, оплакивающее вырубленный сад. Висконти утверждал: «Наши дни — без сомнения, скорее эпоха Шекспира, чем время Чехова. Чехов был куда живее в те времена, когда мы только ожидали прихода Мессии. Сегодня Мессия среди нас, мы чувствуем его присутствие повсюду, вести о нем приходят со всех концов мира…»
Но к 1952 году дух времени совершенно меняется — Мессии уже нет «среди нас». Наступает пора ожидания, пора Чехова, и Висконти с успехом ставит «Трех сестер» (декабрь 1952), «О вреде табака» (март 1953), «Дядю Ваню» (декабрь 1955) и наконец, в октябре 1965 года, «Вишневый сад». Висконти признается: «Стендаль хотел, чтобы на его надгробии выгравировали надпись: „Он обожал Чимарозу, Моцарта и Шекспира“. А мне хочется, чтобы на моем могильном камне написали: „Он обожал Шекспира, Верди и Чехова“».
Воздух времени стал другим — после эпохи битв наступил век буржуазного оцепенения. Теперь это лишенный мужественности мир «Трех сестер», где праздные офицеры декламируют стихи и опрыскиваются духами, приходят в восторг от красоты цветов и целыми днями только и делают, что философствуют, преподносят подарки дамам, сосут леденцы, болтают, гоняют чаи и сетуют, что время течет слишком медленно. По мысли Чехова, абсурдную финальную дуэль никто не должен видеть, издалека должен доноситься только звук выстрела, а герои на сцене должны вести себя так, словно ужасно устали и вот-вот заснут.[39]
Герои пьесы ждут прихода Мессии, мечтают о более справедливом и счастливом обществе. Старый мир незаметно исчезает на сонном и снежном фоне русской равнины, с которой разве что иногда донесутся переливы бубенчиков далекой тройки, и нарождается новый мир, который, как в «Леопарде», наверняка окажется миром шакалов, безродных и необразованных выскочек. Именно таков выбившийся из простых мужиков Лопахин, вступающий во владение вишневым садом, где его дед и отец были крепостными, — этот Лопахин в жилетке и желтых ботинках своей продувной крестьянской хитростью очень похож на дона Калоджеро Седара из «Леопарда», отца прекрасной Анджелики, щеголяющего во фраке, с длинным галстуком и в штиблетах из лакированной кожи.
Тут говорят только о прогрессе, об экономическом росте, но сельский врач из «Дяди Вани» видит вокруг себя опустошенные леса, вокруг него все «те же болота, комары, то же бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары». Бедные родственники в чеховской России выглядят точь-в-точь, как герои де Лампедузы, жители Сицилии, осыпаемой «огненным градом, словно про́клятые города Библии».
Через пять лет после постановки «Дяди Вани» Висконти писал о том, что процветание Италии имеет обратную сторону. Он насмехался над официальными речами, в которых прославлялось «чудесное преображение Меццоджорно, Сицилии и Сардинии», в то время как жителям юга на этом большом празднике жизни «достались лишь крошки со стола так называемого итальянского экономического чуда, и они до сих пор ждут момента, чтобы преодолеть ту моральную и духовную изоляцию, в которой они оказались».
Наступило время «Рокко и его братьев», «Сладкой жизни» и «Ночи». По одну сторону теперь располагались нувориши, папарацци, старлетки с виа Венето и скучающие миланские промышленники, по другую — опаленные земли Сицилии, Базиликате, Аукании, где остались только старики и женщины. Более двух миллионов молодых мужчин в конце 50-х и начале 60-х годов уезжают в большие города на север в поисках работы и благополучия. Приезжий с юга с грязной котомкой за плечами становится чаплиновским героем трагикомедии по-итальянски.
Негромкий голос Чехова — это и голос Висконти тех лет, здесь ясно звучат его собственные интонации разочарования и пессимизма. Это его голос в те годы, когда ему приходится признать спад коммунистического движения. Но и в этой его грусти чувствуется твердость, которая, по выражению Тольятти, «укрепляет нас даже и в отчаянном положении». Висконти замечает о постановке «Трех сестер» 1952 года: «Беспомощность, смирение, отчаяние — да, все так. Но есть здесь и способность ума предвидеть будущее, грядущие перемены в человечестве, и то время, когда всем мрачным умонастроениям не будет места». У вечного студента, смиренного пророка Трофимова из постановки «Вишневого сада» 1965 года будет лицо Массимо Джиротти. Он носит очки в проволочной оправе, а-ля Грамши и говорит: «У нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так ясно: чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом…»
Итак, прежде всего нужно покончить с прошлым. Висконти настаивал, что Чехов вовсе не склонен к приторной сентиментальности и не воспевает сумерки общества, как иногда полагают. По мнению Лукино, «чеховские драмы были водевилями. Трагедия у него обнаруживается внутри самой повседневности; он просто хотел сказать людям: „Посмотрите, как скверно вы живете, и постарайтесь жить лучше“». Постановщик точно следует указаниям драматурга, сначала изгоняя печальные маски из «Трех сестер», а следом придавая стремительную энергию финалу «Вишневого сада»: дом покидают со смехом и шутками, щелкают хлыстом, нетерпеливо стучат лошадиные копыта. В такой суматохе просто не остается времени для слез и жалости к себе.
И тогда пьеса обретает совсем иной смысл — она перестает быть безысходной трагедией и становится бегством, которое освобождает. Мы словно бы порываем со сладким и смертоносным очарованием детства, прошлого, родного дома с ароматом женственности, этой материнской гавани с престарелыми кормилицами, едой до отвала и сложившимися порядками. Но этот дом захлопывается, как тюрьма, он словно бы превращается в могилу, когда старый лакей, всеми забытый, умирает в нем под еще звенящий «звук лопнувшей струны».
Висконти прекрасно знаком с колдовским притяжением прошлого: первые годы XX века, эта семейная и провинциальная атмосфера напоминали ему Милан его детства. И, вероятно, совсем не случайно осенью 1954 года он ставит в родном городе пьесу «Как листья». В этой драме последователь Чехова Джузеппе Джакоза, либреттист Пуччини, умерший в ломбардской столице за месяц до рождения Лукино, описывает крах большой буржуазной семьи.
В указаниях, которые Висконти адресует французскому художнику по костюмам Марселю Эскоффье при постановке «Трех сестер», он говорит об «ИНТОНАЦИИ, ВОЗДУХЕ, АТМОСФЕРЕ, которые бесконечно дороги мне и соответствуют моему намерению сделать „семейную вещь“ со знакомыми, согревающими сердце, полными жизни персонажами». Он хотел строгости без скованности — «побольше нежных штрихов, ведь и нам была хорошо знакома эта мода». Висконти отправляет Эскоффье фотографии донны Карлы для того, чтобы костюмы «Трех сестер» напоминали итальянским зрителям о моде самого начала века.[40]
Сценографией этого спектакля занимался Дзефирелли, и Висконти посоветовал ему сразу начать с самого главного, то есть с последнего акта. Лукино считал, что вымокший и унылый осенний сад — ключевой для всей пьесы образ. Сцены внутри дома не более чем «следствие сада, сад властвует над ними, они словно опутаны этим садом, то мокрым, то зимним, то весенним, то ночным, а в третьем действии сад освещен заревом пожара…» Осенний сад. На веранде — бокалы, из которых только что пили шампанское. Пьеса начинается с праздника, дня рождения Ирины, но это и годовщина смерти ее отца, а заканчивается плачем о погибшем, хотя лишь недавно все готовились к свадьбе.
Висконти родился осенью, в День поминовения усопших. Все его праздники словно пронизаны печалью похоронных обрядов. Дзеффирелли говорил, что этот «сад напоминает старинный фотоснимок»: как и старое фото, сад — это место, где живет память. Дом, «опутанный садом», это родовое гнездо. Чехов словно бы привел Висконти в дом его детства с его особенной музыкой: здесь мирно бьют часы, звучит скрипка Андрея и чьи-то невидимые руки играют на пианино «Молитву девы». Это дом, который нужно покинуть, спалить, чтобы заново родиться. Среди общего хохота Федотик твердит: «Погорел. Погорел! Весь дочиста! — Все дочиста. Ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотография сгорела, и все мои письма…»
«Надо жить», хором повторяют три неразлучных сестры, глядя, как рушатся их прошлое и мечты. А по Висконти, жить — значит трудиться, упорно стремиться к совершенству — он репетирует «Трех сестер» на протяжении сорока дней, посвящает все свои дни и ночи тому «небывалому, неустанному труду», какого требует от него каждый спектакль. Театр — это его жизнь, его «остров», который он сам построил и продолжает строить вместе с ближайшими друзьями. «Это была работа ради очищения, а не попытка что-то изобрести», — признавался он и попутно выражал благодарность Тосканини, который многому его научил. Именно у него Висконти научился напряженному поиску истины, и именно от дирижера он усвоил понятие о дисциплине и о том, что она распространяется не только на актеров, но и на зрителей.
«Следует перевоспитать публику, и как можно скорей!» — решил Висконти еще в самом начале своей режиссерской карьеры. Те, кто опоздали на его спектакль, дожидаются второго действия вне зала. «Кажется, впервые мы внедрили эту практику на представлении „Ореста“», — рассказывает он. Но он в самом деле мог гордиться тем, что, следуя по избранному пути, наперекор ветрам и течениям, вопреки всем трудностям, часто «выворачивал карманы подчистую», он все-таки сумел завоевать публику. Он добавляет: «Думаю, мне удалось создать нечто вроде своей школы». За пять лет он сумел собрать под своим началом декораторов, костюмеров, техников, создать мастерскую вроде тех, что существовали в эпоху Возрождения, где множество художников и ремесленников работало под управлением «мастера», который в этом случае был еще и сам себе покровителем.
Франческо Рози писал: «Висконти по праву называли „мастером“. Но в чем именно состояли его наставления, чему он научил тех, кто с ним работал? Считается, что личность художника — это нечто неповторимое, что нельзя научить быть художником. Основой же педагогической деятельности является как раз обучение методу. Главной особенностью Висконти была привычка ставить соратников в самое трудное, но и самое захватывающее положение: положение учащегося. Висконти крайне редко работал с уже сложившимися профессионалами. К его чести нужно сказать, что он умел угадывать возможности всех, кому предлагал работу, и, придумывая для каждого особую дисциплину, основанную на строгости, порядке, с четко определенными профессиональными обязанностями, приводил нас к тому, что все брали на себя огромную ответственность».
Это суждение подтверждают и слова Дзеффирелли: «Лукино пригласил нас — Франко (Франческо Рози) и меня — работать и тут же выдал нам конкретные задания: это придало нам уверенности. Он вселял в своих сотрудников чувство ответственности; он в буквальном смысле слова был мастером, тем, кто учит, воспитывает и помогает познать себя».
Кто мог считать себя его воспитанником? Почти все, кому довелось с ним работать; и прежде всего — три первых ученика, чьи имена значатся в титрах фильма «Земля дрожит».
Первый из них — Франческо Рози, который, правда, в конце войны приобрел некоторый театральный опыт, поработав в Риме ассистентом режиссера Этторе Джаннини; никакого конкретного задания у него не было, но он, как истинный неаполитанец, ловил момент и делал все, что от него требовалось. В «Обете» Сальваторе ди Джакомо — пьесе, которую ставил Джаннини — он играл и танцевал, как того требовала роль жизнерадостного чудака; озвучивал торговцев за кулисами и даже расхаживал по Риму с нарисованными им самим афишами, стараясь привлечь на спектакль хоть немного публики. По случайному совпадению, прямо перед тем, как Патрони-Гриффи познакомил его с Висконти, он представил Умберто Барбаро, преподавателю Экспериментального киноцентра в Риме, свой проект экранизации «Семьи Малаволья»; больше в его послужном списке ничего не было. Тем не менее Висконти взял его ассистентом режиссера на картину «Земля дрожит».
Дзеффирелли, родившийся в 1916 году, на шесть лет старше Рози, но опыта у него, пожалуй, даже меньше: он только что поставил спектакль «Ужасные родители» и сам сыграл в нем одну из ролей. Отменный вкус, который он проявил в сценических решениях, он приобрел, изучая архитектуру, а кроме того, помогло ему и то, что свои детские годы он провел во Флоренции. В кино он пришел абсолютным новичком.
Наконец, был здесь и Альдо — волшебник царства светотени. Целых двадцать пять лет Альдо Грациати, родившийся в 1902 году, проработал во Франции павильонным фотографом. Однажды вечером он поднялся на сцену «Преступления и наказания» и попросил разрешения сфотографировать некоторые сцены. Он попросил об этом с таким жаром и воодушевлением, что Висконти ответил: «Пожалуйста, делайте что хотите». «Я спросил у актеров, — вспоминает Висконти, — не хотят ли они попозировать французскому фотографу, и они согласились. Привыкшие к обычной павильонной фотосъемке, они думали, что это займет не больше пятнадцати-двадцати минут, но Альдо фотографировал сцену три четверти часа. Актеров это повергло в изумление, а меня нисколько — тогда я и начал понимать, как хорош Альдо Грациати».
К концу сурового испытания, которым стали съемки фильма, трое этих людей стали частью группы Висконти, его «конюшни». Они задержатся в ней надолго: Рози доработает до 1954 года, он будет ассистентом режиссера на «Самой красивой» и «Чувстве», пока не научится летать на собственных крыльях. Дзеффирелли останется с Лукино до 1955 года — многие говорили, что Висконти изобретательно обуздывал его амбиции, их отношения были бурными и пылкими.
Альдо проработает с Висконти до 14 ноября 1953 года — в этот день, в самый разгар съемок «Чувства», он погиб в автокатастрофе. Он успел продемонстрировать недюжинный талант. По словам режиссера Аугусто Дженины, «Альдо был настоящим художником с богатым воображением, храбрый и даже по-хорошему отчаянный; он „нутром чувствовал свет“ и смущал всех своей манерой работы с камерой, не работал по рецептам, каждый раз он работал со светом и тенью по-новому». Его волновало только одно: найти верный тон, цвета, способные передать интуицию и глубинный замысел режиссера. Он все время что-то изобретал, предлагал невозможное, искал особые приемы. Дзеффирелли вспоминает, что один из эпизодов в «Чувстве», сцена в «комнате предательства», снималась через особый желтый фильтр — это сцена, в которой Ливия передает своему любовнику деньги революционеров. Альдо всегда искал цвет, который, если можно так сказать, излучали сами персонажи.
В разгар съемок Альдо погибает в автокатастрофе, Рози и Дзеффирелли предлагают замену — Джузеппе Ротунно, который уже около года работал с Альдо на других фильмах. Но Висконти поначалу не поверил в него, и только после того, как знаменитый оператор Роберт Краскер отказался закончить работу за Альдо, финальную сцену казни и проезд графини Серпьери в карете снимал Джузеппе Ротунно. Висконти напутствовал его такими словами: «Не жди от меня никакой помощи — покажи, на что способен!»
Даже (или в особенности?) с начинающими Висконти проявлял чудовищную требовательность, а ярость его была опустошительной, Другу детства Дзеффирелли, молодому флорентийцу Пьеро Този едва исполнилось двадцать пять, когда Висконти пригласил его делать костюмы для «Самой красивой». Но самым трудным испытанием для Този стала подготовка к спектаклю «Трактирщица» (он был поставлен в октябре 1952 года для венецианского театра «Ла Фениче»), Летом 1952 года в доме Лукино на Искье собрались друзья и коллеги: в одной комнате Дзеффирелли работал над сценографией «Трех сестер», в другой уже много недель подряд сидел взаперти Пьеро Този, готовя эскизы костюмов дерзкой Мирандолины (Рина Морелли), обнищавшего маркиза де Форлимпополи (Паоло Стоппа), нувориша и свежеиспеченного графа д’Альбафьорита (Джанрико Тедески), кавалера ди Рипафритты (Марчелло Мастроянни). Цвет, линии, стиль, аксессуары — все в одежде должно было выражать характер персонажей.
«Висконти был чрезвычайно строг, — вспоминает Този. — Он в мельчайших деталях объяснял, каким видел тот или иной образ, я рисовал и показывал ему, что сделал; мы начинали обсуждать цвета, и тут сплоховать было недопустимо, особенно если он уже решил, какой цвет выбрать. Так было и с красным платьем Клаудии Кардинале в „Леопарде“ — только этот красный цвет мог выразить чувственность героини и всей сцены в целом».
Кроме того, у творческой группы было много документальных описаний той эпохи, и Лукино тотчас подмечал даже незначительные просчеты в деталях. Този запомнил один из этих приступов гнева, когда Висконти пришел в венецианский «Ла Фениче», где готовились снимать начальный эпизод «Чувства». «Он увидел, что на статистах черные цилиндры, и заорал нам с Эскоффье: „Тупицы! Невежды!“, потому что в ту эпоху, в 1866 году, мужчины приходили в Оперу в серых цилиндрах, а не в черных. Это послужило мне хорошим уроком. Он научил меня дотошно относиться к деталям… Он всегда точно знал цвет времени».
Ставя «Трактирщицу», Висконти хотел добиться новаторского для тех лет прочтения Гольдони — он хотел поставить его в более сдержанных цветах и размеренном ритме. Этот спектакль, в котором Италия не узнала своего Гольдони, простодушного и броского, очень понравился Ролану Барту и снова прошел в 1956 году в театре Сары Бернар. Висконти, идя против всеобщих ожиданий, отказался от декораций в стиле Лонги и Тьеполо. Пьеро Този был откомандирован в Болонью, в тот дом, где среди ваз, толстенного стекла и роз, вдохновлявших его нежные и тихие натюрморты, жил художник Джорджо Моранди. Не согласится ли он поработать над «Трактирщицей»? Моранди был уже стар, с театром он никогда не сотрудничал и от работы отказался. Однако в сценографии остались охристые цвета земли, розовые стены, палевое небо «а-ля Моранди» — эту работу выполнили вместе Висконти и Този.
Еще два долгих года прошли до того момента, когда режиссер стал полностью доверять Този, которого вскоре назовут волшебником итальянской сцены и экрана. Този признавал, что обязан Висконти пониманием того, что «костюм не внешний, декоративный элемент, но сама жизнь». На съемках «Чувства» режиссер наконец-то похвалил его во всеуслышание. Этот день глубоко запечатлелся в памяти Този.
«Нам предстояло снимать сцену в деревне, с крестьянами, работавшими на солнце. Жара стояла невыносимая. Один крестьянский парень принес нам муската. Мы собрались выпить его на сеновале — я, Дзеффирелли и несколько офицеров-гарибальдийцев… Я помню, что все мы были голые по пояс — солнце жарило так, что можно было расплавиться. Тут пришел Альдо и сказал, что нас ищет Лукино — мы опоздали к нему минут на пять, самое большее. Мы даже не успели вскочить на ноги, как перед нами вырос взбешенный Лукино и начал проклинать нас на чем свет стоит. Он велел нам два или три дня не попадаться ему на глаза, но при этом добавил, глядя в сторону: „Пьерино может остаться, если хочет“. Это был знак необыкновенного расположения!»
Такие «знаки расположения» были очень редки, а гнев громовержца Висконти вошел в легенду. На съемках «Земля дрожит», по словам Дзеффирелли, оба ассистента буквально тряслись от страха: «Он обращался с нами, со мной и Рози, словно со скотиной. Но он никогда не требовал от нас сварить ему кофе», ибо приготовить кофе, «крепчайший кофе Лукино», считалось невероятной честью. Висконти разыгрывал перед своими воспитанниками роль властного отца и тем самым воспитывал их: он был скуп на комплименты, но щедро осыпал бранью и оскорблениями, отстранял на время и сажал на гауптвахту.
Витторио Гассман не раз вызывал гнев постановщика и отомстил ему, рассказав, что Висконти «давал поджопники самым знаменитым актрисам». Он же поведал, что как-то раз Дзеффирелли заперли в шкафу только за то, что при подготовке «Трамвая „Желание“» он посмел спросить, так ли уж необходимо мять и пачкать чулки и нижнее белье, лежавшие в ящике комода, «ведь туда никто не заглянет».
О тираническом нраве Висконти ходит куча анекдотов. Рози более тонко проанализировал механизм приливов опустошительной ярости: «Создавалось впечатление, что Висконти хладнокровно накручивает себя, а потом так же хладнокровно превращает свой гнев в ругательства. Думаю, это была не только особенность его характера, но и, прежде всего, его манера добиваться желаемого. Он делал ваше отношение к своим обязанностям настолько болезненным, насколько это возможно, чтобы вы крепко задумывались о своем долге. Именно так некоторые родители ведут себя с детьми. Он был суров и властен, мне казалось, что он испытывает восторг от того, что повергал своих жертв в панику. Но я всегда считал, что так он заботится о нашем будущем, в котором мы будем избегать ошибок и станем лучше».
Властное мановение руки, указующий перст, нахмуренные брови, хищный и угрожающий взгляд — во всех жестах и выражениях Висконти читалась властность, он был гениальным режиссером и безупречно руководил актерами. «На съемочной площадке он полностью преображался», — вспоминает присутствовавшая на съемках «Невинного» племянница Лукино Николетта. А ведь это был уже 1975 год — к тому времени болезнь лишила его изрядной доли сил и раздражительности. Все, кому довелось пройти через его жестокую школу, помнят его язвительные, колкие замечания, леденящие душу взгляды, грубую брань. Он повергал в трепет даже видавших виды актеров — они жили в постоянном страхе скандала, не говоря ни слова, смотрели, как гнев режиссера обрушивается на кого-то из их коллег — этот несчастный, хоть бы и на время, становился для всех остальных спасительным громоотводом.
Висконти мог с ходу распознать недостатки любого актера: суетливость, самолюбование, склонность к переигрыванию — все это он считал признаками беспорядка. Зависть, вспыхивающую между актерами, он разжигает еще сильней и пользуется ею без всякого стеснения. Разрушая прежние иерархии, он тут же создает новые по собственной прихоти, руководствуясь только своими симпатиями и антипатиями, страстями и ненавистью.
Дабы уязвить самолюбие молодых побольнее, он превозносит до небес актеров прежних лет — «рожденных для подмостков», аристократов сцены. Он на все лады расхваливает тех, кто, подобно Лиде Морелли, родился в богемной среде или успел завоевать славу, состояться, как Мемо Бенасси. О Бенасси он пишет:
«Это был потрясающий инструмент! Я только хотел избавить его от недостатков, от этих его выкрутасов базарного кривляки, которые он сам себе придумывает, воображая, что все еще играет у Макса Рейнхардта… Но стоит тебе сказать ему: „Нет, послушай, давай все сначала, оставь, не нужно; вот это ни о чем не говорит, а это, напротив, выражает все точно и ясно, а это сделай спокойно“ — и он все понимает. Что за необыкновенная виолончель! Знай только, как и что сыграть на этом инструменте, — и тебе его вполне хватит. Есть ли что-то подобное среди нынешней молодежи? Такие на дороге не валяются!»
А что насчет молодых? Все это были ученики его «театральной лаборатории»: Джорджо де Лулло, Ромоло Валли, Витторио Гассман, Марчелло Мастроянни. Висконти упрекает их в недостатке того огня, той благоговейной преданности искусству, что превратили их старших коллег в жрецов, служителей священного ритуала. Он корит их за то, что у них нет упрямства — боксер должен «тренироваться по семь-восемь часов в день, чтобы стать чемпионом». Он то и дело рычит на них, как тренер из «Рокко и его братьев»: «Брось курить, кретин! Хочешь голос испортить?»
Он на дух не переносит любительщины. В 1953 году он писал: «Сегодня молодежь приходит в театр просто чтобы показать себя, быть замеченной, а потом заняться чем-нибудь другим. Им недостает того по-военному жесткого воспитания, какое я обнаружил, например, у Руджери». Многочасовые репетиции. Устали? Что с того, выспаться можно и потом. Не справляются, шалят нервы — пусть выберут другую профессию. И все-таки именно они, молодые, способны удовлетворить ненасытного Пигмалиона. Только они принадлежат ему и душой, и телом. Стоит ему однажды их заметить, стоит им однажды прийти к нему — и он превращает их в свои творения, круто меняет ход их жизни. Иногда одна лишь красота актера могла вызвать вспышку интереса Лукино.
Так случилось с Ольгой Вилли, которая в 1945 году сыграла первую роль в спектакле «Пятая колонна» по Хемингуэю. Висконти вспоминает: «Мне было необходимо это потрясающе красивое, белокурое, беспечное животное. Я был знаком с Ольгой, видел ее в ревю, и мне показалось, что у нее есть данные для театра. Мне нужен был именно этот типаж. Пьеса была о гражданской войне в Испании, и для постановки было необходимо, чтобы в ней был этот особенный персонаж — надменная и роскошная девушка по прозвищу Кадиллак. Я без колебаний дал Ольге роль, и после этого она играла только в театре». Но у актеров, к которым он привязывается на долгие годы, было и нечто большее, нечто такое, чем они могли обогатить самого режиссера.
Прежде всего важно нащупать «мост», глубинную связь между актером и его героем. Для достижения этой цели, говорит Висконти, не существует волшебных рецептов, но есть несколько способов и тренировочных техник в зависимости от личности актера. «С кем-то нужно быть потверже, посуровее; с другими следует вести себя мягко, можно даже упрашивать… Актеров надо понимать. Их надо понимать так, как понимают лошадей. Я всегда говорил, что актеры похожи на лошадей. Одной лошади требуется каждое утро пробегать по два километра, другой достаточно простой прогулки. Нужно понимать эту разницу. Если гонять по два километра ту, что создана для прогулок, ничего путного не получится».
С Гассманом он вел себя сурово: тот был слишком сдержан, особенно в «Адаме». «Настал день, когда я, дрожа от ярости, заявил ему, что он всего лишь глина в моих руках и обязан делать то, чего я от него хочу. И после этого наконец он покорился мне. Перестал торговаться, отбросил защитные рефлексы и наполнил образ своего героя нюансами, тонкостями. Сам-то он был не из тех, в ком много тонкости, он был — как бы это сказать? — словно весь из одного куска. Я вправил ему мозги — сказал, что не могу работать с тем, кто мне сопротивляется. Так прямо и сказал, и он меня понял, ума хватило, слава богу, и после этого все пошло как по маслу, к нему пришел успех». Так же непреклонно Висконти вел себя и с Мастроянни, но по другим соображениям. У Мастроянни были иные недостатки: природная апатичность, уживавшаяся с большим актерским талантом… Антониони вспоминает, что Висконти постоянно орал на Мастроянни. Но «если Висконти попадался хороший актер, который его не удовлетворял, он знал, как выжать из него максимум возможного». Позже Гассман будет нападать на Висконти, он попытается принизить его дар. Но Мастроянни превозносил Лукино при каждой возможности: ведь он почти всем обязан именно ему. «Лукино научил меня, — скажет он, — не просто ремеслу, он научил меня любить ремесло… А кроме того, он научил меня, как не быть скверным актеришкой — этой школы не прошли и многие первоклассные актеры… С ним я вошел в театр через парадные ворота».
Поначалу этот беспечный актер, возможно, меньше всего подходил для висконтиевской труппы; режиссер увидел его игру случайно и, поскольку искал исполнителя для «Как вам это понравится», пригласил в спектакль. Мастроянни пришел в театр скорее от скуки, чем по зову сердца. До этого он работал бухгалтером на киностудии. Работа была наискучнейшая, и он проводил время на работе за чтением и декламацией, предоставляя другим зарываться в счета по уши. Надо было чем-то зарабатывать на жизнь… В конце концов ему надоело это бесцветное существование, и он записался в Академию драматического искусства — совсем не потому, что хотел покорить мир, но, как говорит он сам, здесь сыграла роль «женская сторона моего характера, которая нужна в актерском ремесле, и моя дурашливость».
По большому счету, продолжает он, дело тут в простой удаче: «Мне просто повезло. Повезло, что Висконти искал молодого неотесанного увальня вроде меня, повезло, что его труппа так много значила, что там были такие актеры, как Руджери, Стоппа, Морелли, Гассман. Повезло, что Гассман ушел и я занял его место. Наконец, мне повезло с кино». Для него Висконти тоже блистательный «мастер», учитель, «похожий на тех школьных учителей, которых очень любишь, потому что они умны и хорошо учат, а ведь такое случается очень редко. Когда меня спрашивали, чем отличался Висконти от Феллини, я всегда отвечал, что Висконти был любимым учителем всех школьников, а Феллини — соседом по парте».
С годами империя Висконти расширяется; и в театре, и в кино он опирается на постоянные и привычные ему «кадры». Снимая «Чувство», он по экономическим соображениям будет вынужден взять на главные роли Алиду Валли и Фэрли Грейнджера — хотя планировал занять в них Ингрид Бергман и Марлона Брандо. Но при этом Висконти знает, что может во всем положиться на свою группу: Пьеро Този, Марселя Эскоффье, оператора Альдо, монтажера Марио Серандреи. Все они усвоили романтический, «сложносочиненный» стиль кинорежиссера, который умел «пользоваться пленкой так, как писатель пользуется чернилами». А еще в команде Висконти была лучшая сценаристка тех лет Сузо Чекки д’Амико. Она-то и натолкнула его на мысль экранизировать повесть Камилло Бойто «Чувство».
Много лет продюсер Риккардо Гуалино, финансировавший театральную постановку «Ужасных родителей», уговаривал Висконти снять какой-нибудь фильм, «зрелищный, но при этом высокого художественного качества». Предоставим слово Сузо Чекки д’Амико: «Гуалино был крупным итальянским промышленником и пылко любил искусство. Он был родом из Турина и построил там великолепный театр: туда приезжали „Русские балеты“. Это был увлекающийся человек, меценат, которого преследовал фашистский режим». Ему было известно, что он рискует, связываясь с Висконти — в Министерстве культуры от того шарахались, как от чумы.
Подготовительный период к съемкам займет целый год, который был потрачен на кропотливое изучение исторических источников. Большую часть этой работы сделал писатель Карло Айянелло, уже работавший с историческими сюжетами из времен Рисорджименто. Эти изыскания любила и Сузо Чекки д`Амико, она говорила: «Исторические документы придают фильму дополнительный вес, даже если абсолютной необходимости в них нет. На „Чувстве“ доходило до смешного. Мы с Лукино изучили даже битву при Кустоцце и знали, где стояла итальянская армия, а где австрийцы, и как все это происходило. Но я не думаю, что фильм дает представление о том, как в действительности разворачивалась эта битва».
Эта молодая женщина, чья совместная работа с Висконти началась в 1945 году с перевода для него американских пьес, была знакома с миром кино с детства. «Я, в каком-то смысле, дитя этой среды», — признавалась она. Ее отец, писатель и историк искусства Эмилио Чекки, способствовал распространению в Италии американской литературы, которую так ненавидели фашисты. Он же на протяжении целого года занимал должность художественного руководителя крупной кинокомпании CINES. Именно ему, Эмилио Чекки, мы обязаны тем, что во времена расцвета кинематографа «белых телефонов» вышли на экран реалистические фильмы Камерини и Блазетти, в том числе и фильм последнего «1860», рассказывавший о гарибальдийской Тысяче. Уйдя с этого поста и целиком сосредоточившись на своей работе, он еще долгое время был консультантом и читал множество сценариев. «Он тогда поступал так, — рассказывает Сузо Чекки, — как долгие годы спустя, уже со своими детьми, делала и я сама: часто давал мне для прочтения сценарии, чтобы понять, как к ним отнесутся молодые».
В компании выходцев из крупной католической и либеральной буржуазии Висконти чувствовал себя как дома. Во время подготовительного периода к «Карете Святых Даров» они работали с Сузо строго по часам, многократно переделывали и обсуждали сценарий, но с годами их отношения превратились в спокойную связь, основанную на взаимном уважении. В этих отношениях Сузо Чекки д’Амико, такой заботливой, по-матерински умиротворяющей, досталась роль повивальной бабки: «Работали мы быстро, — говорит она, — потому что все время хихикали и усталости совсем не чувствовали. Мы вели долгие, долгие разговоры. Я заставляла его говорить без умолку, пытаясь понять, что там у него в голове, а потом набрасывала все на бумаге, после чего мы снова это просматривали, и так по многу раз. Лукино был перфекционистом, и даже самые второстепенные сцены или монтажные стыки отрабатывались тщательно, с предельной точностью, даже если они заведомо казались лишними и было ясно, что их вырежут. С самых первых сценариев, написанных вместе с Лукино, мы работали в настоящем согласии». Когда он наконец выбирал тему, она первым делом выясняла, что именно его интересует, и начиналась бесконечная подготовительная работа Помощь Сузо была особенно ценна, когда Висконти занимался другими проектами — он мог заниматься несколькими постановками драм и опер одновременно. Венцом их сотрудничества, продолжавшегося до самой смерти режиссера, должен был стать Пруст. Сузо вспоминает: «За тридцать лет мы столько раз говорили о книге и ее персонажах, успели выбрать и отправную точку, и вариант финала, что написать сценарий было делом нетрудным».
Первый вариант сценария «Чувства» (всего их было три) датируется апрелем 1953 года; он был написан в Кастильончелло, на вилле Болонья, где семья д’Амико проводит отпуск. Вместе с Сузо были ее отец, Эмилио Чекки и Феделе д’Амико, ее муж, весьма влиятельный член фракции католиков-коммунистов, а также музыкант и музыкальный критик, сын великого театрального критика Сильвио д’Амико, в довоенные годы основавшего Академию драматического искусства (выпускником которой был Паоло Стоппа)… Этот безмятежный союз между Лукино и Сузо, покоившийся на общности идей и общем культурном уровне, состоялся еще и потому, что беспечность и тосканский юмор сценаристки уравновешивали серьезность и буйный темперамент миланца. В результате этого сотрудничества были созданы все фильмы Висконти, начиная с «Самой красивой»; исключением были «немецкие» картины — Сузо этот мир был чужд. Вспоминая о работе над «Чувством», крайне пунктуальная Сузо по сей день корит себя за то, что «плохо просчитала сроки съемок Висконти. Сначала путешествие героини через охваченные войной места задумывалось как основная часть. По синопсису это должно было занять значительное место в фильме. К несчастью, Лукино уже отснял слишком много. Поэтому самый важный кусок ужался до эпизода в карете. Это была моя ошибка. В то время я еще очень мало умела и не знала, что нужно всегда уделять внимание рутинным вопросам».
Снимать «Чувство» будут долго. «Бесконечно долгими» назовет эти съемки Алида Валли, обвинявшая Висконти в том, что он подчас нарочно затягивал процесс с единственной целью — позлить тех, кто мешал его любовной идиллии с одним из ассистентов, Джанкарло Дзаньи. Актриса намекала, что Висконти влюбился в этого безобразного коротышку. Если вспомнить, что на съемочной площадке работали Дзеффирелли, Массимо Джиротти и обольстительный Фэрли Грейнджер, которого постановщик повадился путать с его персонажем, можно вообразить всю сложность отношений внутри группы. Как бы там ни было, вместо запланированных трех месяцев съемки заняли все девять.
29 апреля 1953 года, в 9 часов 15 минут, Висконти прибывает из Вероны на первое место съемок: Валеджио, в провинции Венето. Он проводит смотр своих войск, проверяет костюмы и лошадей, предоставленных отделом кавалерии Аосты и обнаруживает, что солдаты не до конца экипированы: не хватает котелков и связок овса. С первого дня возникает та атмосфера, которую Висконти собирается воссоздать в своем фильме. Это будет не просто экранизация повести Бойто о любви, сюжет которой выстроен вокруг двух равно красивых, молодых и распутных персонажей — Ливии Серпьери и ее любовника, австрийского офицера Ремиджио. Висконти превращает эту фабулу в пышную и многофигурную мелодраматическую конструкцию, внутри которой венецианская графиня и молодой лейтенант, переименованный во Франца Малера, переживают нравственное падение. Их преступление отражает упадок того мира, к которому принадлежат они оба: страсть Ливии заставляет ее предать гарибальдийское движение, с которым она связана через своего кузена графа Уссони, а Франц предает империю Габсбургов, предвестием заката которой стало поражение от Пруссии при Садове в июле 1866 года, всего через месяц после убедительной победы австрийцев над итальянцами при Кустоцце. Висконти сам все объяснит:
В этой истории есть уникальная интонация, в ней словно бы звучат политические и социальные движения, созревшие к моменту битвы при Кустоцце, а в развязке любовной истории ясно читается, что в истории Италии наступают сумерки… В «Одержимости» любовь между протагонистами напрямую вела к убийству, столкновение интересов и несхожесть характеров вели к роковой развязке; здесь же военное поражение, трагедийный хор в финале проигранной битвы словно бы заглушает мелодию печально закончившегося любовного приключения.
В повести Бойто на авансцене были герои. Висконти же стремился сделать главным героем саму историю. В работе фильм назывался «Побежденные», затем фильм был переименован в «Кустоццу», и все должно было завершаться не казнью Франца Малера, чье дезертирство разоблачено его же любовницей («К чертовой матери Франца! Не важно, умер он или нет!» — говорил Висконти). В замысленной тогда финальной сцене Ливия должна была бежать по улицам Вероны, «мимо продажных девок, и, в конце концов, она замешивалась в толпу пьяных солдат — вероятно, ей также было суждено стать падшей женщиной. В финальной сцене появлялся австрийский солдатик, очень юный, ему не больше шестнадцати, он совершенно пьян, стоит, прислонившись к стене, и поет победный гимн… Он запинается, на его глазах выступают слезы, он рыдает, рыдает без конца, и время от времени кричит: „Да здравствует Австрия!“ Вот каким должен был стать финал „Чувства“».
Висконти продолжает: «Старина Гуалино, мой обаятельный продюсер, приходил посидеть на обсуждениях и все шептал у меня за спиной: „Это опасно, это опасно“. Может, и так, но, по мне, такой финал был куда лучше». Эти заключительные сцены, что уже так близки к некоторым эпизодам «Гибели богов» и «Людвига», так и не были сняты. Вырезали и множество других моментов, без прикрас показывавших битву, а равно и все указания на то, что армия Виктора-Эммануила подвела повстанцев Гарибальди и что именно она несет ответственность за это поражение, в котором не оказалось даже героического отзвука поражений времен Рисорджименто.
Этих вырезанных сцен в конце фильма было так много, что, как позже признал Висконти, финал картины стал непонятен. Венецианская публика все же уловила, что одна венецианка отдала все средства, предназначенные патриотам-гарибальдийцам, своему любовнику, чтобы тот смог уклониться от участия в битве, что тут критиковалось поведение армии, что Рисорджименто изобразили как великую преданную революцию, великую проигранную битву. Параллели с современностью и очевидное сходство освободительной борьбы Гарибальди с Сопротивлением привели к тому, что на Висконти обрушился яростный вал протестующих голосов: он, мол, дошел до того, что извалял в грязи наше святое Рисорджименто!
«В „Чувстве“, — говорил режиссер, — заложено обращение к разным зрителям: к тем, кто хочет понять, но и к тем, кто делает вид, что понимать не хочет. Даже если в 1866 году и одевались по-другому, проблемы и конфликты с тех пор не изменились».
На фестивале в Венеции фильм не получил никакого приза, «Золотого льва» присудили очень академичной картине «Ромео и Джульетта» Ренато Кастеллани. Но левые уже приветствовали знаменательный переход, совершенный пока что одним Висконти, от документальности неореализма к подлинному реализму, который желает показать настоящую Историю.
Фильм, несмотря на цензорские ножницы, остается шедевром: и по степени реалистичности, и по куда более беспощадному и человечному, чем в повести, изображению любовных отношений, в основе которых были сексуальность, низменные интересы и самая экзальтированная романтика (сходными мотивациям обладали и персонажи «Фрекен Юлии» Стриндберга, которую Висконти поставил в 1957 году в римском «Театро дельи Арти»). А главное — никогда еще ни Висконти и никому другому не удавалось добиться столь совершенного синтеза волнующей исторической темы и музыки. «„Земля дрожит“ был снят сразу после моих первых театральных опытов, — говорил Висконти, — но я бы не сказал, что в этом фильме есть влияние театра. А вот в „Чувстве“ оно присутствует, и этого хотел я сам. Театральный воздух есть уже в первых кадрах — на сцене театра играют мелодраму, затем спектакль словно бы перешагивает через рампу и выходит со сцены в жизнь. История, рассказанная в „Чувстве“ это мелодрама».
Тут имеется в виду музыкальная драма, действие с музыкальным сопровождением, а не «страсти в клочья и надрывный плач Марго».[41] В постановках опер и в «Чувстве» Висконти снова вдыхает жизнь в мелодраму и возвращает ей достоинство. По словам Лукино, «мелодрама имеет скверную репутацию с тех самых пор, как ее сторонники отреклись от нее и она стала изобиловать штампами. Итальянцы всегда любили мелодраму, но ведь она по самой своей структуре, столь неповторимой и бесхитростной, вполне годится и для любой европейской публики. Я люблю мелодраму за то, что она расположена как раз на границе, отделяющей театр от жизни. Я старался показать свое расположение к ней в первых сценах фильма „Чувство“.»
Все, что поставил Висконти, по качеству мелодии, по широте симфонизма и по мощному слиянию голосов в хоре, напоминает музыкальный спектакль. В «Одержимости» часто звучали фрагменты из «Травиаты», в фильме «Земля дрожит» музыкой был местный говор, голоса рыбаков, звучавшие как голос самого народа, но была в этой картине и музыкальная цитата из беллиниевской «Сомнамбулы». Наконец, в «Самой красивой» иронически обыгрывалась тема Шарлатана из «Любовного напитка» Доницетти. Эти музыкальные элементы никогда не использовались просто так, без смысла или для красоты, — они всегда связаны с основным действием. Композитор Франко Маннино говорит: «Познания Висконти в области музыки ошеломляли, и он, как и все, конечно же, имел свои предпочтения они простирались от Верди до великих немецких романтиков. Особенно он восхищался Моцартом и прекрасно знал все его творчество, в том числе и малоизвестные вещи».
Гениальная находка Висконти в «Чувстве» — контрастное использование музыкальных фрагментов из Брукнера и Верди. Траурная Седьмая симфония австрийского композитора, которую он заканчивал под острым впечатлением от смерти Вагнера в Венеции, накладывается на ночные блуждания любовников по венецианским улочкам, на полное смятение Ливии Серпьери, на ее путешествие по грязным дорогам в Верону в поисках Франца, музыка Брукнера звучит и в трагическом финале, когда Ливия, обезумевшая и потерянная, выкрикивает имя того, кого сама только что отправила на расстрел…
Этой музыке упадка в фильме противостоят мелодии, написанные Верди, для которого музыка была прежде всего выражением гражданского чувства, а не романтической страсти. Гимны Верди поют карбонарии, когда их строят, чтобы вести на расстрел. «Говорить о Верди, — сказал критик Маесимо Мила на торжественном заседании по случаю пятидесятой годовщины со дня смерти маэстро в 1951 году, — все равно что говорить об отце, о таком, кто моложе и окрыленнее сыновей. В сознании итальянцев Верди занимает то же место, что Виктор Гюго в сознании французов».
Для начальных кадров «Чувства» Висконти выбрал музыку из вердиевского «Трубадура», точнее — из третьего акта оперы, когда Манрико отрекается от Леоноры, спеша на помощь матери, цыганке Азучене, которую вот-вот отправит на смерть граф ди Луна. Костер для Азучены уже сложен, и Манрико, выступив на авансцену, поет:
Как страшно пламя этого костра, Оно меня всего сожжет дотла! …Был сыном я, пока не полюбил.Когда опера в 1850-е годы исполнялась в венецианском театре «Ла Фениче», на пение хора, все громче призывавшего к оружию, откликнулась некая молодая девушка. Она первой бросает на сцену трехцветный букет (зеленый, белый и красный цветок — символ революционного движения) с криком: «Чужеземцы, вон из Венеции!», и на австрийских солдат в зале обрушивается трехцветный бумажный дождь.
Сцены такого рода сопровождали зарождение и развитие Рисорджименто — они были часты в «Ла Фениче» и, особенно в миланском «Ла Скала». Быть может, там и родился замысел «Чувства». Дзеффирелли вспоминает, как однажды был с Висконти в «Ла Скала», в литерной ложе у самой сцены, исполняли «Трубадура»: «В начале четвертого действия, когда сопрано выступает вперед и поет, обращаясь прямо к публике, песнь одинокой женщины в ночи у подножия башни, где заточен ее возлюбленный, мы пережили мгновения необыкновенной, потрясающей силы. Возможно, именно это впечатление и подсказало Висконти идею, которая теперь воплотилась в фильм „Чувство“».
Это был зимний театральный сезон 1952/53 года.
В тот вечер, 2 февраля 1953 года, весь Милан влюбленными глазами Манрико смотрел на Леонору — ведь ее роль исполняла та, чье имя можно было принять за анаграмму «Ла Скала»: Каллас. Все взоры были устремлены на это «необыкновенное создание, в котором воплощено все редчайшее, экстравагантное, необычайное». Висконти грезил об этой встрече с самого детства: ведь это была настоящая дива.
Глава 16 ПОСВЯЩЕНИЕ ДИВЕ
Ничто не могло тронуть этих жестоких римлян — только кровь женщины.
Стендаль…В жизни садизм чаще всего лишь закладывает основы эстетики мелодрамы.
Марсель Пруст, «По НАПРАВЛЕНИЮ К СВАНУ»Висконти писал о Каллас: «Это феноменальное театральное явление. Думаю, что во всей истории музыкального театра таких случаев всего два или три: Гризи — о ней вспоминают все, а также Паста и Малибран». Впервые Лукино видит ее в Риме, в роли жрицы Нормы, потом в роли Кундри, «адской розы» из «Парцифаля», проклятой Евы и Искупительницы… Он приходил на каждое ее выступление и был потрясен этим сопрано, легко переходящим от самых сильных низких звуков к самым блистательным и пронзительным высоким нотам. Он потрясен и ее внешностью, и движениями, от которых, признавался он, «по телу пробегала дрожь. Где она этому научилась? Нигде — она все умела сама».
В это время ей было лишь 24 года, и она была тучна. По замечанию писателя Эктора Бьянчотти, Каллас обладала той «простодушной счастливой полнотой, которая действительно часто встречается у певиц сопрано — ее фигура была непривлекательной, почти гротескной»… Висконти, однако, говорил, что уже тогда она умела держаться «на сцене красиво, и мне нравилась эта дородность, придававшая ей столько величавости. Уже тогда ее невозможно было ни с кем спутать».
Даже недочеты «Парцифаля», которым в феврале-марте 1949 года дирижировал в Оперном театре Туллио Серафин, не могли развеять ее чар: «Во втором действии она появлялась полуобнаженной, на ней были только многометровые прозрачные кисейные покрывала: это была колдовская искусительница, одалиска… Маленькая шапочка соскальзывала с ее головы на лоб всякий раз, как она брала высокую ноту, и ей то и дело приходилось поправлять его…» Но разве это существенно? Висконти не пропускал ни одного ее представления: «Каждый вечер, когда пела она, я занимал свою ложу и, должно быть, выглядел совершенным безумцем, когда она подбирала букеты. Я все время посылал ей цветы и, в конце концов, наша встреча состоялась…»
Композитор Франко Маннино, друживший с Лукино (а затем стал его шурином, женившись на Уберте), был частым гостем в доме на виа Салариа, который посещали тогда многие художники и писатели, в том числе Альберто Моравиа и Эльза Моранте. Маннино работал в Венеции с Туллио Серафином — первым итальянским дирижером, под руководством которого работала Мария Каллас. Маннино представил Висконти и Каллас друг другу в доме Серафина, на этой встрече присутствовал также и Дзеффирелли. «Мы начали беседовать, спорить, — рассказывает Маннино, — и вдруг Серафин позвал Марию к пианино, и она спела отрывок из „Травиаты“. Ее пение в тот вечер навсегда запечатлелось и в моей памяти, и в памяти Висконти».
Тогда талант Марии Каллас еще не был признан единодушно. По сравнению с хрустальным голосом царившей в «Ла Скала» Ренаты Тебальди голос Каллас, такой необычный, не похожий на чистые итальянские голоса, скорее удивлял и смущал любителей оперного искусства. В сентябре 1947 года ее жестоко отвергли на прослушивании в «Ла Скала»: «Все это без толку, — сказали в театре ее импресарио Джованни Батисте Менегини, — отправьте ее обратно в Америку». Каллас не собиралась сдаваться — она берется за сложнейшие партии и работает с удвоенной силой. Однако ей пришлось ждать четыре года, прежде чем она смогла проникнуть в святая святых и занять место ее соперницы, Тебальди. Этот переворот произошел не без участия Тосканини — в 1950 году Каллас встретилась с этим богом оперы и покровителем театра. Знаменитый дирижер, которому было уже 84, ничуть не растерял ни пыла, ни любви к Верди. В пятидесятую годовщину смерти композитора (январь 1951) Тосканини планирует продирижировать в театре Бусетто одним из его произведений, поставленных в «Ла Скала», и ищет новые дарования для этой постановки.
Об этой встрече, произошедшей 28 сентября в знаменитом жилище дирижера на виа Дурини, рассказывает Менегини: Тосканини то бросал на Каллас испепеляющие взгляды, то превозносил ее «изумительное» исполнение партии Изольды — наконец, Тосканини преисполнился энтузиазма, когда услышал спетый «с впечатляющей силой и точностью интонаций» пассаж из вердиевского «Макбета».
«Вы именно та женщина, которую я так долго искал, — писал Тосканини Каллас, — ваш голос отвечает всем моим чаяниям. Я сделаю с вами „Макбета“». Поставить драму Верди было его мечтой; наконец он нашел идеальный голос, в точности тот, каким слышал его сам композитор, голос «женщины злобной и безобразной, голос, полный страсти, глухой и мрачный».
Этот план осуществился не сразу, но все-таки Тосканини, до того превозносивший «ангельский голос» Тебальди, открыл двери «Ла Скала» для Каллас, в голосе которой было что-то демоническое. Сезон в «Ла Скала» открылся 7 декабря 1951 года, на сцене была представлена «Сицилийская вечерня» — Каллас пела Елену, а дирижировал Виктор де Сабата. Сразу после спектакля Висконти отправил ей телеграмму: «Безумно счастлив вашей новой победе — вчера вечером слушал вас по радио, горячо поздравляю! Надеюсь поскорее снова увидеться с вами и мечтаю вместе поработать. Всего вам самого, самого доброго! С самыми искренними дружескими чувствами, Лукино»
Висконти мечтает о работе с Каллас с начала пятидесятых, но это желание осуществится только в декабре 1954 года. Еще осенью 1950 года Висконти предложил своим друзьям по группе «Антипарнас», объединявшей восторженных поклонников оперы, занять Марию Каллас в спектакле, который они ставят в октябре в римском «Элизео», — они ищут для него гибкое сопрано. Ставилась опера «Турок в Италии», почти сто лет пребывавшая в забвении, и этот проект дал Висконти возможность присутствовать на всех репетициях (два раза в день, ибо каждая длилась по три-четыре часа без передышки…)
Однако эта веселая роль для Каллас и эта опера Россини, чья свежесть и легкость так восхищали Стендаля, не слишком устраивают Висконти. Как и Тосканини, он любил мелодраму и, что в те времена встречалось еще реже, мелодраму XIX века, с ее величием и трагедийной напряженностью. Феделе д’Амико подчеркивает: «Висконти не боялся смешного. И он не считал смешным музыкальный театр… Он совершенно не хотел искать в мелодраме то, чего в ней нет, он хотел лишь поставить ее на сцене за ту силу, которой она обладает».
В период с 1948 по 1953 год около десяти театральных проектов Висконти так и не воплотились в жизнь. В 1953 году он должен был начать работу над постановкой «Силы судьбы» Верди с Ренатой Тебальди, однако Министерство культуры закрыло проект и помешало «попутчику коммунистов» снискать новые лавры. В то же время этот простой в работе объяснялся не только политическими или личными причинами.
Завоевать оперные сцены, и особенно самые прославленные из них — вот что теперь задумал Висконти, но он не собирался делать это любой ценой. Ему предлагают постановку «Отелло» Верди в неаполитанском «Сан-Карло». Он отказывается: ведь репетировать можно было бы не больше девяти дней. Ему делают новые предложения — сначала предлагают поставить современную оперу, затем — «Зазу» Леонкавалло. Он снова отвечает отказом, а в последнем случае даже и не думает скрывать своего презрения к «опере и ее автору, лишенному воображения, вкуса и таланта».
Казалось, что против всех его проектов для «Ла Скала» ополчилась сама судьба, однако хореографическая постановка по новелле Томаса Манна «Марио и волшебник» — музыка Франко Маннино, либретто Висконти — наконец-то была заявлена на сезон 1953–1954 гг. Незадолго до этого скандал в «Ла Скала» вызывает одно из сочинений Марио Перагалло на либретто Альберто Моравиа — в этой постановке на сцену выезжал автомобиль. Руководство театра испугалось еще одной бури возмущения (в спектакле Висконти на сцене появляются велосипеды) и отложило до лучших времен — а точнее, до 1956 года — премьеру этой постановки, которая должна была стать первой работой Лукино в «Ла Скала».
В мае 1954 года Висконти в письме к Менегини пишет о своем разочаровании и растущем раздражении. Он изливает всю свою желчь на «эту респектабельную администрацию бестолочей, неспособных подготовить серьезную программу». Но в этом же письме он снова говорит и о своей мечте — поставить оперу с Каллас.
Если я наконец все-таки начну работать в «Ла Скала» — не важно, над какой из опер, — я хотел бы работать с Марией. Что вам известно о программах? Правда ли, что они собираются ставить «Бал-маскарад»? Будет ли Мария петь в нем? Если речь и правда идет о «Бале-маскараде», «Норму» отменят. Не захочет ли в этом случае Мария спеть партию в «Сомнамбуле»? И с кем? С Джулини? Что она думает о том, чтобы «Сомнамбулу» поставил я? И когда? А что скажете насчет «Травиаты»? По предварительным прикидкам, можно начать репетиции в марте-апреле — насчет апреля я абсолютно уверен, в это время я буду в Милане вместе с труппой.
Сейчас я привожу в порядок свои дела в театре и кино и не теряю надежды поработать с Марией. Ла Скала без нее меня не интересует — понимаете?
Немного времени спустя программа сезона 1954–1955 гг. утверждена: его откроет Висконти с «Весталкой» Спонтини, он же будет ставить «Сомнамбулу» и «Травиату». Осенью он возвращается в родной город и частенько заходит к Артуро Тосканини, который, едва оправившись от пневмонии, уже мечтает о том, как на торжественном открытии ближайшего сезона «Пиккола Скала» продирижирует любимой оперой — «Фальстафом». «Вы, молодые, — говорит он Висконти, — постарайтесь, предложите мне что-нибудь новое; я представляю себе все те же замусоленные декорации — таверна, сад. Выдумайте что-нибудь новое — да покрасивей!»
Режиссер приглашает его на репетицию «Весталки», и несколько дней спустя маэстро делится впечатлениями: «Мне очень нравится все, что вы делаете, но не забывайте — я подслеповат. Каллас очень недурна: интересная артистка, прекрасный голос; но у нее скверная дикция… Суть оперы — это театр, слова в ней важнее музыки».
Седьмого декабря на премьере «Весталки» зал «Ла Скала» был украшен традиционными гирляндами красных гвоздик. Тосканини сидел в ложе суперинтенданта Гирингелли, прямо у самой сцены. В конце вечера, когда Мария Каллас подошла к ложе маэстро и протянула ему букет, который только что бросили ей, овации публики становятся неистовыми.
После спектакля Висконти отправляется ужинать с Джулини, Вандой Тосканини и ее отцом. Тот, глядя Висконти прямо в глаза, произносит тост: «За нашего „Фальстафа“». Однако здоровье маэстро не позволит им воплотить заветную мечту обоих: всего через восемнадцать месяцев Тосканини не стало.
В книге, которую он посвятил своей жене, Марии Каллас, Менегини всячески принижает роль Тосканини в приходе Висконти в «Ла Скала». Он даже называет одну из глав своей книги «Как мы привели Висконти в „Ла Скала“». Если верить Менегини, он один воевал за кандидатуру Висконти, а против были и Гирингелли, и Тосканини: «Единственными, кто твердо стоял на том, что Висконти должен работать в „Ла Скала“, были мы с Марией. Мы так часто говорили об этом с Гирингелли, что тот, должно быть, устав слушать, что все рекомендуют ему Висконти, решил в конце концов дать Лукино поработать».
Эта версия истории очень субъективна, и ее легко опровергнуть Лукино с детства был дружен с Валли Тосканини, и с патриархом с виа Дурини у него была крепкая связь. Менегини, однако, пускает в ход все, что бросает тень на обворожительного режиссера, которым во всеуслышание восхищалась его жена. «Висконти, — вспоминает Менегини, — был очень тщеславен, вечно говорил о себе и кичился своей образованностью. Дзеффирелли же, наоборот, был скромным, осмотрительным, мягким, вежливым. Мария любила спорить с Франко, потому что он всегда держал себя в рамках и возражал „корректно“…» Менегини пишет также, что Каллас, очень сдержанная и даже чрезмерно стыдливая, с трудом терпела «невероятно грубый язык» Висконти («особенно во время работы, в разговорах с женщинами»), но в общении с ней он никогда не позволял себе оскорблений. «Меня тошнит, когда ты так разговариваешь», — будто бы говорила она Лукино. А он якобы отвечал: «Люди глупы, они ничего ни в чем не понимают, вот и приходится выражаться предельно ясно…» По словам Менегини, вне сцены певица призналась мужу: «Если он посмеет обратиться в подобных выражениях ко мне, я отвешу ему такую затрещину, что все зубы вылетят…»
Возможно, комментирует Менегини, Висконти догадывался «о том, что у Марии на уме, потому что к ней он ни разу не обратился непочтительно…»
Этот ревнивый супруг со злорадством рассказывает, как однажды вечером в римский отель «Квиринале», где он жил с Марией и ее матерью, вошли Висконти и Анна Маньяни, на которой «было сильно декольтированное платье, выставлявшее напоказ почти всю грудь». Мать Менегини, увидев это зрелище, не сдержалась и воскликнула: «Какой кошмар!» Менегини считает, что столь же шокирована была и его супруга. Он добавляет, что она была «просто опустошена», когда узнала о гомосексуализме художника: «На эту тему заговорил сам Висконти, не делавший никакой тайны из своих пристрастий, и с тех пор Мария терпеть его не могла».
Как объяснить, что Мария, будто бы так ненавидевшая гомосексуалистов, долго и нежно дружила с Дзеффирелли, а многие годы спустя у нее был страстный роман с Пазолини? Менегини утверждает, что Дзеффирелли был человеком деликатным, а Висконти всячески старался рассорить его с Марией. Менегини пишет: «Висконти тогда был суперзвездой, Богом-Отцом театра и кино, и перед ним все склоняли головы. Он был окружен целой свитой подхалимов, лодырей, болтунов, бездельников и тунеядцев, распространявших всякого рода сплетни и злословивших в салонах всего Милана, создавая и уничтожая репутации в мире зрелищ. Если распространялся слух, что какого-то молодого актера или актрису одобряет Висконти, можно было не сомневаться в их будущем; зато его отрицательный отзыв был равносилен смертному приговору».
Сузо Чекки д’Амико свидетельствует: «Висконти не щадил актрис — с ними он вел себя, как страшный ревнивец». Вероятно, по этой причине ему совсем не по душе была дружба Каллас с его юным соавтором и протеже Дзеффирелли — его «Турок в Италии» с участием Каллас совсем недавно стал оглушительным триумфом. Представление этой оперы в «Ла Скала» состоялось в апреле 1955 года, между постановками «Сомнамбулы» и «Травиаты», сделанными Лукино. Дзеффирелли, которого в насмешку над его фамилией прозвали «Зефиркой», лучше всех понимал, как ставить паруса по ветру и как извлечь пользу из дружеских связей — с Каллас, с Анной Маньяни, с актрисой Лиллой Бриньоне, руководившей театральной компанией «Олимпио» в Милане; у него были огромные амбиции, и он не хотел ждать.
По некоторым сведениям, Висконти говорил о Дзефирелли: «Сценограф он прекрасный, но режиссером он не станет никогда». Он хочет полетать на собственных крыльях? Прекрасно — но пусть узнает, чего это стоит. Для начала ему объявлен бойкот, раздаются и скрытые угрозы в адрес тех, кто, подобно Лилле Бриньоне, мог бы предложить ему работу постановщика.
Все смешалось, и при дворе Висконти забурлили страсти: Дзеффирелли официально впал в немилость. Горе тем, кто по незнанию или по дружбе дерзнет увидеться или заговорить со вчерашним фаворитом. Через несколько недель, ночью, когда мела метель, любовники-враги встретились у стен миланского «Пикколо Театро» — здесь, обменявшись колкостями, они завязывают потасовку.
Однако уже через год, в марте 1956 года, они вместе отправляются в южную Италию, а в июле этого же года вместе едут в Испанию, на крестины сына Лючии Бозе. И тот, и другой присылают Марии Каллас множество открыток. «Вчера и сегодня, — пишет ей Дзеффирелли, — мы были в Толедо и даже посмотрели корриду. Дальше по плану у нас Андалусия, и я умираю от нетерпения. Над нами витает призрак „Кармен“. Мы с Лукино часто думаем о тебе. Мы проводим время в разъездах, а сами все надеемся снова пережить то чудесное потрясение прошлого года, когда однажды вечером, в страшную грозу, на севере Франции мы вдруг услышали по радио запись „Нормы“.»
Даже если Мария Каллас была «опустошена», узнав о гомосексуальности Висконти, даже если она решила встречаться с ним реже, избегать его, ничто не подтверждает того, о чем упрямо твердит ее муж: она-де всего лишь отдавала должное его уму, культуре и таланту, но в конце концов очень его невзлюбила. Не было ни одного актера или актрисы, которые хотя бы на некоторое время не попали под обаяние режиссера-тирана. Его чары усиливались в грозах и радостях каждодневного труда, на бесконечных репетициях, по ходу которых актеры неустанно искали одобрения «маэстро». Адриана Асти вспоминает о «магическом воздействии», которое оказывали на нее, «жадно ловившую каждое его слово», последние напутствия Висконти перед выходом на сцену: «Ну, ступай; все пройдет хорошо…»
Что касается Каллас, то, несмотря на всплески сопротивления, она полностью подчинялась Лукино. О постановке «Весталки» он вспоминает: «Она исполняла все, что я от нее требовал, — очень дотошно, тщательно и с восхитительным результатом. Она делала все, что я просил, не добавляя от себя решительно ничего. Иногда на репетициях я говорил: „Ну же, Мария, сделай как-нибудь так, как самой бы тебе понравилось“. Но она спрашивала: „Что мне сделать? А эту руку куда? Я не знаю, что с ней делать!“ Она пылала ко мне страстью, иногда даже нелепой — до такой степени, что хотела, чтобы я руководил каждым ее шагом».
На репетициях «Сомнамбулы» она упрашивала режиссера провожать ее до самых кулис, а для сцены в последнем акте, когда юная сомнамбула Амина проходит по мосту над мельничным ручьем, певица, как известно, страдавшая сильной близорукостью и реально рисковавшая упасть, придумала особую уловку. Этот остроумный трюк Висконти описывает так: «У меня в кармане всегда лежал платок, пропитанный какими-то английскими духами, их запах нравился Марии. Перейдя мост, героиня должна была прилечь на скамейку — так вот, Мария попросила меня положить на эту скамейку мой надушенный платок и сказала: „Так я смогу пройти прямо туда, куда надо, с закрытыми глазами“. И это всякий раз срабатывало. К счастью, никому из музыкантов не пришло в голову пользоваться такими же духами, а то в один из вечеров она свалилась бы прямо в оркестровую яму». Наконец, есть свидетельства о том, как в антракте «Травиаты» она побежала искать Висконти в знаменитый ресторан «У Биффи», даже не сняв расшитого стразами красного платья, в котором пела в третьем акте: он в этот вечер уезжал в Рим, и ей хотелось с ним попрощаться. «Все могло выйти еще хуже, — замечает Висконти. — Вообразите, что она входит к Биффи в ночной рубашке, которую Виолетта носит в последнем акте!»
Вероятно, чудесная физическая трансформация Каллас — заслуга исключительно гения Висконти. Всего за три года она превратилась из пухлой одалиски в хрупкую, стройную, великолепную, божественную Травиату, что вышла на сцену «Ла Скала» весной 1955 года. По словам Эктора Бьянчотти, это был «тот внутренний, тайный образ», то фантастическое существо, тот вампир, «которому она согласилась подчиниться и принести в жертву саму себя, и этот дух оказался столь силен, что ее тело ему подчинилось».
Еще задолго до работы над «Травиатой» Висконти обсуждал с ней такую Виолетту, у которой был бы не только голос, но и стать его Травиаты — это должна была быть не просто Маргарита Готье, но женщина мечты, более величественная, чем королева. Все его постановки были таким королевством дивы начиная с мостовых и мраморных колонн «Весталки» до «Анны Болейн». В «Ифигении в Тавриде» все декорации, платья, шлейфы, украшения казались Висконти недостаточно роскошными, не такими великолепными, как «глаза, лицо, черты и стать» Каллас.
Однажды Каллас попыталась возразить насчет того, что жители деревни в «Сомнамбуле» неправдоподобно элегантны — мужчины здесь были одеты в черное и носили белые перчатки, женщины — в розовом, жемчужном и сером, а ее саму Пьеро Този облачил в белое шелковое платье и увенчал гирляндой из роз, мальв и сирени, Каллас сказала: «Лукино, да ведь я же крестьянка. Зачем тебе понадобилось, чтобы я выходила на сцену во всем этом, да еще и в опаловом ожерелье?» Он ответил: «Ты не крестьянка, нет. Ты — Мария Каллас, играющая крестьянку, и об этом не стоит забывать». Для него она была больше, чем Мария Каллас, — она была новым воплощением Джудитты Пасты, первой исполнительницы партий Нормы, Сомнамбулы и Анны Болейн (две последние партии были написаны специально для этой певицы в 1831 году соответственно Беллини и Доницетти, с интервалом всего лишь в несколько месяцев).
Кроме того, Каллас была еще и уникальным инструментом, который позволил Висконти воскресить мелодраму XIX века во всем блеске, вернуться во времена Пасты и Малибран, и потому он, по его собственному слову, легко «прощает» ей жуткие вспышки ревности. В свою очередь, Каллас упрекает Лукино в том, что он чрезмерно увлекается красавцем-тенором Франко Корелли, дебютировавшим в роли Лицинио в «Весталке», и стремится подслушать его разговоры с дирижером «Сомнамбулы» Леонардом Бернстайном. Только она одна может помочь ему омолодить оперу — и он сам об этом прекрасно знает.
Висконти вспоминал: «Работа с ней походила на состязание, с любой из певиц старой школы было не так. Скажем, Эбе Стиньяни в роли Великой Жрицы в „Весталке“ была совершенно безнадежна с ее двумя-тремя заготовленными жестами. Уборщица и та выглядела бы на сцене не хуже. Смотреть на это было невыносимо! Каллас была полной противоположностью, она училась и росла с каждым днем. Ума не приложу, как это ей удавалось. У нее был настоящий инстинкт сцены, и если ее направить, она всякий раз превосходила ваши ожидания… Что я помню о ней по нашим репетициям? Красоту. Изящество. Выразительность. Ей было дано все. Она была колоссальным явлением. Это было почти как болезнь. Этот тип актрисы теперь не встретишь».
Висконти и Каллас заставили зрителей поверить в то, что происходит в опере, и это произошло впервые. Они добились этого не потому, что нарушали правила. «Надо верить в свое видение, — писал Висконти, — однако правду этого видения необходимо просеять сквозь решето искусства». И к этой правде нужно было прийти, не поступаясь условностями музыкального театра.
Когда было объявлено о том, что Висконти дебютирует в «Ла Скала», миланская публика ожидала чего-то колоссального. Поговаривали о рекордных бюджетах, о декорациях, для которых якобы потребовалось надстраивать сцену. «Весталку» Спонтини, открывавшую сезон, оперу, в эпоху Наполеона ознаменовавшую рождение оперного искусства XIX века, не ставили уже тридцать пять лет.
Публика ждала революции, но увидела реставрацию. Висконти посвятил свою первую работу первому автору мелодрам XIX века, а также и театру «Ла Скала». Декорации, игравшие с перспективой, были выполнены в неоклассическом стиле и перекликались с архитектурой самого театра. Подчеркивая эту преемственность, Висконти возводит по бокам авансцены такие же колонны, что стоят по бокам лож.
После спектакля постановщик предлагает зрителям балетный дивертисмент, как это было принято в самом начале XIX века. После того как чудесное вмешательство богини Авесты приводит к счастливому концу драматическую историю любви весталки Джулии и полководца Лициния, занавес вновь поднимается и зрители видят гигантскую декорацию, которую заселяют божества Олимпа, а слуги в это время уже спешат накрывать столы, разносят блюда, разнообразные закуски и даже гигантских сахарных павлинов. На авансцене, украшенной наполеоновскими орлами и трофеями, танцовщики исполняют балет. Оперный ритуал, задуманный как феерический праздник барокко, вернулся к зрителю в первозданном виде. Более того, можно было подумать, что публика снова очутилась в той эпохе, когда Стендаль назвал «Ла Скала» «лучшим театром мира».
Но если Висконти хотел продемонстрировать верность великим традициям оперной условности, то собственно оперное действо было скромным, а не напыщенным: декорации и костюмы не были пышными, они были просты и символичны. Сценическое движение, игра актеров и декорации были приведены в строгое соответствие с музыкой Спонтини — они лишь оттеняли торжественную, мрачную драму и похоронный ритуал в третьем акте. Огонь, возле которого молилась весталка, контрастировал с окрашенными в холодные цвета облачениями героев — эти костюмы должны были выглядеть «как белый мрамор, обласканный лунным светом».
Отсюда же происходили и жесты Каллас и Корелли, повторявшие пластические решения, которые Висконти показывал им на картинах Энгра, Давида и Кановы. Каллас не терпела насилия, не выносила пламенную жестикуляцию. «Я ненавижу насилие, — говорила она, — не верю в его драматическую эффективность». Хотя ей с легкостью удалось добиться той особой «широты чувств, движений и поз, которая и называется мелодрамой», она, по словам Висконти, всегда сохраняла «выдержку, тонкость и безупречный вкус». Каллас тяготела к классицизму и все делала великолепно — лишь она одна могла достойно передать величие и благородство мелодраматического жанра.
В постановке «Сомнамбулы»; которую Пьеро Този окрестит «почти метафизической», главная героиня и атмосфера были совершенно иными, с оттенками элегии. В весьма неправдоподобной истории юной Амины, которая в приступе сомнамбулизма входит в спальню графа Родольфа и поэтому оказывается отвергнутой женихом, читается борьба дневных сил света и разума, реальности с ночными силами бессознательного. В «Сомнамбуле» Мария Каллас становилась «сильфидой, порхающей в лунном свете» — это слова Този, Висконти же в этом спектакле окрестил ее «волшебной ночной птицей». Чтобы усилить впечатление бестелесной легкости героини, он вспомнил знаменитую романтическую балерину Марию Тальони и научил Марию Каллас брать с нее пример, двигаться, как танцовщица.
Декорации, полностью соответствовавшие меланхолической музыке Беллини, уже предвосхищали «Людвига». Здесь было озеро — ведь Беллини грезил о Джудитте Пасте и писал свою оперу на берегах озера Комо, столь дорогого сердцу Висконти. На заднике были нарисованы и леса, за которыми возвышались башни замка, а в самой дали виднелись синеватые горные вершины. «Нам с Лукино, — рассказывает Този, — хотелось намекнуть, что действие происходит в забытом веке, божественном и меланхоличном». Голос чудачки Амины был как раз той колоратуры, того цвета, по которому можно безошибочно угадать Каллас, — Андрэ Тюбеф описывал этот голос как «дымчатый, лунный, опаловый, переливающийся всеми оттенками радуги»… Висконти собственноручно выстроил умную игру подсветки, чтобы подчеркнуть и лунное сияние, и солнечный свет музыки Беллини. Ни одна сценическая ремарка не требовала внезапно погрузить во мрак всю сцену, как это сделал Висконти во время печальной арии «Ah, non credea mirarti», ничто не предписывало и столь же внезапно зажечь все прожектора в момент пробуждения юной девы. А во время последней арии в зале постепенно включали все освещение, пока наконец на последних нотах не засияла во всей своей красе большая люстра театра «Ла Скала».
В своих постановках Висконти никогда не использовал готовых формул. В сценографии «Сомнамбулы», вдохновленной старинными почтовыми открытками и гравюрами, не было ничего реалистического. В то же время «Травиата» была первой мелодрамой, в которой события и герои были взяты из современности. Висконти, верный указаниям либретто, оставил матадоров и цыганок всего лишь гостями бала-маскарада во втором акте, но не упустил случая поработать с Каллас как с драматической актрисой. «Я поставил „Травиату“ ради нее, а не ради себя, — говорил он. — Ибо должно служить Каллас. Мы со сценографом Лилой де Нобили перенесли действие в эпоху fin de siècle, около 1875 года. Для чего? Потому что Мария выглядела великолепно в костюмах того времени. Она высока, стройна, и в платье с тугим корсетом, турнюром и длинным шлейфом смотрелась, как богиня».
Каллас стала идеальной Травиатой, «мечтой Прекрасной эпохи» — она не только безупречно пела, но и великолепно играла. Такого же величия достигали Сара Бернар и Дузе в «Даме с камелиями», а Пруст изобразил великую трагическую актрису такого же масштаба в собирательном образе Берма. Ее выступление было волшебством оперной техники: в первом акте звучало колоратурное сопрано с невероятным диапазоном, во втором — лирическое сопрано и в третьем — драматическое. Вместе с тем это была и великая театральная постановка — и хотя здесь трудно отделить музыку от театра, дирижер Джулини вспоминал, что в этом спектакле «каждое движение исполнителя было продиктовано музыкальной партитурой».
Висконти, Джулини и певица часами разбирали каждый нюанс партитуры, каждую деталь характера. «В этом процессе, — вспоминает Джулини, — мы открыли тысячу тончайших деталей. Это был долгий, изнурительный, кропотливый труд. Это делалось не для того, чтобы завоевать публику, но ради театра в самом возвышенном смысле слова».
Истинное и возвышенное, театр и музыка, искусство и жизнь впервые гармонически слились на оперной сцене: «Травиата» 1955 года была невероятной. На премьере 28 мая занавес поднимается и открывает взглядам публики залу с темными обоями, здесь всюду зеркала, экзотический фарфор, лампы из опалового стекла, большие японские фарфоровые вазы, полные розовых хризантем — точь-в-точь как в салоне героини Пруста, Одетты де Креси. Это была не декорация: это была сама жизнь. «Я был потрясен красотой, которая открылась моему взору, — это были самые блистательные декорации, которые я когда-либо видел. Каждая деталь рождала во мне чувство, будто я и впрямь попал в другой мир — невероятный, живой. Иллюзия искусства исчезла. Я испытывал это чувство всякий раз, когда дирижировал постановкой — больше двадцати раз за два сезона».
Пьеро Този описал, с каким мастерством декоратор Аила де Нобили, пользуясь цветами похоронного обряда (черным, золотым и темно-красным) сумела показать, что Виолетте суждено умереть. Този говорит о том, что Каллас нужно было изобразить множество настроений: в один миг она была стыдливой девушкой, страшащейся любви, в другой — почти что героиней романа Золя «Нана». Например, оказавшись одна после первой вечеринки, Травиата в этой постановке снимает с себя драгоценности, откидывает волосы назад и швыряет в воздух ботинки, запевая свое знаменитое: «Follie! Follie!..» Когда Каллас проделала это на третьем представлении кряду, публика встретила ее неодобрительным гулом.
Во втором действии, на тихой деревенской вилле, притаившейся среди зеленовато-синей листвы, безмятежный и светлый сад становится местом душераздирающей встречи Травиаты с отцом Альфредо. После этого печального разговора Каллас пишет письмо, в котором прощается с возлюбленным: с Висконти они тщательно отрепетировали, как именно она старается не зарыдать, как именно отирает лоб, как окунает перо в чернильницу и как прижимает руку к груди в тот момент, когда пишет.
Но поразительнее всего было страшное преображение Травиаты в последнем акте. Този вспоминает: «Каллас вставала с постели, и это было поистине пугающее зрелище; она казалась покойницей, восковой куклой, она совсем не походила на человека, а скорее напоминала живой труп. Она пела слабеющим голосом, таким тонким, таким хрупким, таким пронзительным: с большим усилием она добиралась до туалетного столика, за которым читала письмо Жермона, напевая: „Addio del passato…“»
Чуть раньше зрители шумно восторгались «Медеей» в постановке Маргариты Валльманн — в одной из сцен Каллас пела, лежа на крутой храмовой лестнице в длинном кроваво-красном плаще, так что ее длинные каштановые кудри рассыпались по ступеням. Теперь та же самая публика обвинила Висконти в том, что он якобы вынудил примадонну петь «в нечеловеческих условиях — то она пела с разметанными по лицу волосами, то оседая на пол или вцепившись в трельяж». Пуристы сетовали: «Ей следовало спеть Addio del passato более размашисто. Это должен быть стон, а не мольба». Между тем Каллас стремилась именно к такому эффекту, к «болезненной надтреснутости голоса». Она говорила: «Героиня, в конце концов, больна. Тут все дело в дыхании — чтобы удержать пение и речитатив в такой утомленной манере, нужно иметь очень легкий голос. В ее голосе чувствуется усталость. Именно этого я и хотела достичь. Как смертельно больная Виолетта может петь сильным, громким, уверенным голосом?»
В «Ла Скала» забурлили страсти. Неужели Висконти предал Верди? «„Травиата“ в „Ла Скала“ — Висконти больше, чем Верди», гласил заголовок в Corriere Lombarde, другие хроникеры публично обвинили Висконти и Каллас в том, что они породили «чудище о двух головах».
Менегини пишет, что и в этом случае не было согласия между певицей и режиссером. Никогда она слепо ему не подчинялась, настаивает он, не было такого. В том числе и на «Травиате»: «Он хотел, чтобы Виолетту перед смертью с головы до пят одевала Аннина и чтобы на голове у нее была маленькая шляпка. Мария настаивала, что это нелепость: женщина, которая вот-вот умрет, не думает о шляпке. Мне пришлось вмешаться и убедить Марию уступить… На премьере, дойдя до роковой сцены, Мария позволила Аннине надеть ей на голову шляпку, как и было предусмотрено. Потом, начав петь, она элегантным движением отшвырнула ее в угол Висконти, сидевший вместе со мной в ложе Гирингелли, воскликнул: „Бог мой! Она уронила шляпку!“ „Ты не заметил, она это сделала нарочно“, — ответил я. „Тварь! Она мне за это заплатит“, — пробормотал он.
Когда спектакль кончился, он обрушился на Марию, но ничего не добился. На всех представлениях „Травиаты“ она отказывалась петь эту сцену в шляпке». Это утверждение опровергает заголовок одной из статей, которые разжигали скандал: «„Ла Скала“: Виолетта умирает в пальто и шляпке». Как бы там ни было, можно спросить: почему режиссер заставил Виолетту умирать стоя, в строгом и благопристойном наряде, вместо того чтобы последовать традиции, по которой она умирает с распущенными волосами и в ночной рубашке? Возможно, таким образом он отдает героине последнюю дань уважения? Более вероятно, что он следует примеру Золя в романе «Нана» и жаждет разоблачить лицемерные нравы того общества Третьей Республики и короля Умберто I — того общества, которое упивается наслаждениями, швыряет деньги на ветер за карточным столом, превозносит свой полусвет, своих кокоток, куртизанок, а потом во имя благопристойности избавляется от них, как от наскучившей мишуры.
Все героини Каллас живут за границами нормальной жизни, все они — обреченные на заклание жертвы. Ее героини несут на своих плечах всю тяжесть трагических сил, которые их подавляют: в «Весталке» это власть религии, в «Сомнамбуле» — условности, сопутствующие женитьбе, в «Травиате» — буржуазные приличия, в «Анне Болейн» — королевская воля, в «Ифигении в Тавриде» — религиозные обычаи и проклятие, тяготеющее над Атридами. Во всех этих операх любовь вступает в конфликт с реальностью, с обществом.
Драматической вершиной «Травиаты», безусловно, является сцена, где Висконти хотел показать героиню, любовь которой выставлена на поругание общества — так она становится символом разлада между миром желаний и условностями общества. Оскорбленная своим любовником в присутствии хора гостей, Виолетта воспринимает деньги, которые он бросает ей в лицо, как пощечину. «В этот миг, — говорит Пьеро Този, — Каллас застывала, раскинув руки, словно на распятии». Этот же самый жест Висконти воспроизведет позже в финале «Рокко и его братьев», в сцене «распятия» и убийства проститутки Нади: как и Виолетта, она медленно раскрывает объятия, и в этот момент Симоне наносит ей удар ножом.
Опера Висконти — это обожение и жертвоприношение дивы, это явление мира, который с неистовой силой вырывается из-под спуда, наложенного законами и правилами. Об этом же конфликте повествуют и декорации — мрамор храма оттеняет пламя страстей, роскошные драгоценности и украшения подчеркивают обнаженную беззащитность сердец и телесные мучения; песня становится душераздирающим криком, бормотанием или сдавленным плачем. Это неистовство, которое Эктор Бьянчотти называет «таинственной и подлинной реальностью любовной драмы», искусство Каллас не смягчает, не приручает, а напротив, являет в чистом виде — «голос ее то глубок, то резок, временами он едва слышен, она поет то хрипло, то радостно, то скорбно, и это звуки самой любви».
Дворцы — эти театры трагической любви — захлопываются вокруг царства дивы на манер западни. В «Анне Болейн» 1957 года такой ловушкой становится удушливый Виндзорский замок, стены которого увешаны портретами мрачных принцев и королев: сюда не проникает ни одно дуновение свежего ветерка. В декорациях нет других цветов, кроме белого, серого и черного, и на этом фоне особенно ярко играет цвет платьев — платье Анны Болейн цвета ночной синевы и пурпурно-кровавое облачение ее соперницы, Джоан Сеймур.
Для «Ифигении в Тавриде» режиссер выбрал декорации в стиле XVIII века и сделал это вопреки желанию певицы — она, будучи гречанкой, надеялась, что действие будет происходить в Древней Греции. Лукино же подчеркивал, что Глюк написал эту оперу в 1779 году. Поэтому он считал, что верным сценическим решением для этой оперы о трагической ошибке и жертвоприношении послужит сценография, разработанная еще в XVIII веке знаменитым семейством архитекторов и сценографов Бибиена — это монументальные, величественные декорации, в которых мраморные колонны и статуи вооруженных богов вздымаются на фоне тяжело нависшего грозового неба.
Ни одна постановка Висконти не тяготела к реализму — за исключением «Травиаты». Эта «опера, которая сопровождала его появление на свет» и снова погружала его в любимый мир, мир Пруста, д’Аннунцио и его родителей, возможно, напоминала ему и о роскошном блеске, закате, поражении и смерти его матери. По определению Мишеля Лейриса, опера — это «мир исключительный, далекий от реальности, где все переносится в область возвышенного и превосходит действительность настолько, что разворачивающуюся здесь трагедию следует воспринимать как эталон или предсказание оракула». Жизнь в опере поднимается на такую высоту, что страсти могут быть только неистовыми, желания — лишь запретными, расплатиться за преступление можно только кровью, а умереть можно только возвышенно.
Самым большим театральным успехом Висконти стала не «Травиата», а «Анна Болейн» — давно забытая опера Гаэтано Доницетти. В финале этого спектакля голос Каллас меняет тон — сладостный напев ностальгии сменяет вопль проклятия, которое она посылает «нечестивой паре», отправившей ее на плаху. В этот вечер Каллас поставила рекорд по продолжительности вызовов на сцену в «Ла Скала»: аплодисменты не стихали двадцать четыре минуты кряду.
Висконти, однако, всегда настаивал, что самое прекрасное из всего, что они сделали вместе — это «Ифигения», в которой он стремился показать Каллас во всем ее блеске. Вдохновившись фресками Тьеполо в венецианском дворце Лабия, он разодел свою жрицу Артемиды как королеву, как величественного идола. Висконти вспоминает: «На ней было роскошное платье из светлого шелка и парчи со множеством оборок и длиннейший шлейф, поверх которого она набрасывала широкую темно-красную накидку. Ее волосы были украшены крупными жемчужинами, и жемчужный водопад ниспадал с шеи, прикрывая грудь. В одной из сцен она всходила по крутым ступенькам высокой лестницы, и ее широкая накидка развевалась от ветра; каждый вечер она брала самую высокую ноту именно на восьмой ступени — вот как четко были скоординированы музыка и исполнение. Она была как цирковая лошадь, надрессированная совершить любой театральный подвиг, какому ее обучили. Что бы она сама ни думала о нашей „Ифигении“ — именно эта постановка была лучшей из всех наших совместных работ. Потом я поставил еще много опер без нее — в Сполето, Лондоне, Риме и Вене. Но то, что я сделал с Марией, было чем-то неповторимым, созданным только ради нее».
Кем она была? Что она могла подарить Висконти? Летом 1956 года в сознании Лукино она ассоциируется с опаленной солнцем Испанией, и в письме Каллас он пишет: «Я влюбляюсь в нее, все еще полную тайн и необыкновенных чар… Арабская и мусульманская кровь, текущая в жилах испанцев — словно редкое и драгоценное украшение, которое возвеличивает этот народ. Они похожи на тебя, с твоей долей восточной крови, которая добавляет к твоему женскому и артистическому темпераменту так много тайн и так много силы».
До сих пор, за исключением «Травиаты», он поручал ей роли весталки, юной чистой девы, покинутой королевы, которую платонически обожает придворный ухажер, или девственницы, посвященной целомудренному культу Артемиды. В качестве вызова он предложил ей две новые роли: Саломею Штрауса и Кармен Бизе — обе героини вполне подходили для выражения той тайной чувственности, волю которой Мария Каллас могла дать лишь на сцене, и тех неутоленных желаний, той неудовлетворенности натуры, которые он сумел открыть и в ее повседневной жизни.
Но Каллас ответила на это предложение отказом. Она сказала, что не умеет танцевать и не хочет появляться на сцене полуобнаженной. Он осознает, что сам поражен той выразительной мощью и глубиной, которой не обнаруживал ни в одной другой певице. Висконти вспоминает: «„Сомнамбула“, „Травиата“, „Анна Болейн“, „Ифигения“ — все это были постановки, сделанные в золотые годы Каллас, и в ее успехе есть и мой скромный вклад. Работая с Марией, я с удовлетворением смотрел, как рождалась непревзойденная актриса. Ее Травиата и Анна Болейн остаются двумя абсолютными вершинами актерского, а не просто вокального мастерства». Еще сильнее, чем в случае с Маньяни, которая была «скорее язычницей, чем христианкой, с ее энергией и шумной, первобытной мощью», он погружается в мир неисчерпаемо богатый и сложный — зеркало его собственных страстей, чтобы обнаружить тайны, о которых он прежде не догадывался.
Чем яростнее они жили ради искусства, тем сильнее кипели страсти в их собственных жизнях. К Висконти-мужчине Каллас относилась собственнически и ревновала его, и он сам тоже ревновал ее — ту, которую он считал своим творением. Четыре года он не переставая думает о ней, пишет ей, а еще чаще передает слова нежности, и почитания через мужа (потому что, по словам самого Висконти, «Мария никогда не читает писем»). 13 июля 1956 года Лукино в письме Менегини сетует на то, что «руководители „Ла Скала“, столь же непредсказуемые, как приморская погода», для венской постановки «Травиаты» отдадут предпочтение Караяну, а не Джулини. В этом же письме Висконти говорит, что устал работать в Италии и, переходя на игривый тон, объявляет в заключение, что когда его начнет от всего тошнить, даже от кино, он «займется разведением цветов». «Скажи Марии, — продолжает он, — что, если она примет меня в садовники, я с радостью соглашусь. Тогда есть шанс, что из распахнутого окна до меня донесутся звуки ее пения…»
Каллас любила, боготворила Висконти — но она любила его не женской любовью, а так, как любит дива, ведь она была воплощением его мечты о женщине. Актриса Адриана Асти вспоминает о вечерах на виа Салариа в пятидесятые годы, на которых бывал и Франко Дзеффирелли, а Каллас пела, аккомпанируя себе на фортепиано. Асти свидетельствует: «Она была без ума от Висконти. И он был тоже влюблен в нее, поскольку всегда влюблялся во всех, кто его боготворил. Лукино был великим соблазнителем, он любил окружать себя теми, кто любил его, и сам отвечал на любовь своим, особенным образом — он часто заставлял своих любимцев страдать, потому что он был весьма обидчив, а вдобавок еще и ревнив! Это был потрясающий мужчина! Наказывал он вот как: „Ты больше никогда не увидишь такого-то… Ты больше никогда не будешь делать то-то и то-то…“
Отношения с ним всегда были очень сложны — все было не как с простыми смертными. Не нашлось такой женщины, которая бы в него не влюбилась: Эльза Моранте, Каллас, Марлен Дитрих. Все эти изумительные женщины возлежали на диванах на виа Салариа, утопая в драгоценностях. И Лукино тоже был вечно влюблен. Но в случае с Каллас это было нечто особенное. Они вместе ездили на море. Она все время грызла листья салата, была худа и очень красива, немного походила на гречанку и отпустила волосы, как ему нравилось. Лукино переделывал тех, кого любил; любя, он их создавал».
Его «Травиата», этот апофеоз и поругание тела, история о жестоком превращении цветущей девушки в несчастную, чьи силы постепенно подтачивает болезнь, была шагом по направлению к «Людвигу». Из всех опер, поставленных «ради» Каллас, эта была теснее всего связана с наваждениями и тайным миром Висконти. Он обещал Марии Каллас, что эта постановка станет его «шедевром, его Девятой симфонией». Он взревел, как тигр, когда Менегини с садистским удовольствием сообщил ему в 1954 году о том, что планируется телепостановка «Травиаты». Такая перспектива казалась Висконти чудовищной: «Мария — в телевизоре? Это все равно что смотреть ее в аквариуме». Тот же Менегини рассказал ему, что фирма грамзаписи His Master's Voice решила выпустить пластинку с записью «Травиаты» в исполнении Джузеппе ди Стефано в паре с другим сопрано, не с Каллас. Висконти восклицает: «Это оскорбление, это личное оскорбление, в адрес и меня, и Марии…» По словам Менегини, Висконти тут же разгадал в этом «тайный умысел ди Стефано», который так завидовал Каллас из-за ее привилегий, что взбунтовался на первых же репетициях «Травиаты» и ушел, хлопнув дверью. Висконти заявляет:
Конечно, это новое проявление давней неприязни к Марии. И к «Травиате». К тому спектаклю, который на фоне других с такой чудовищной силой бьет по нервам посредственностей, дураков, завистников, всех тех, кто чувствует, что их миру скудости, рутины, интеллектуальной лени приходит конец! Пусть Мария пошлет к дьяволу их всех! Пусть пригрозит, что ноги ее больше не будет в «Да Скала»! Пусть пригрозит, а она это может, что уйдет петь в другой театр! Вот тогда все они в штаны наложат!
Год спустя, получив предложение поставить в «Ла Скала» «Аиду» с Вотто, Стеллой и ди Стефано, он сообщает Менегини о своем отказе: тут нечего и думать, «идти обслуживать этакую троицу — значит не иметь ни грамма мозгов…» И снова вспоминает о «Травиате»:
Когда — и если — мне представится особенно интересный случай поработать с великим артистом (таким случаем была моя встреча с Марией на «Травиате») — тогда я снова продолжу работу по ревизии нашей оперы девятнадцатого века, в которой она так нуждается. Хочется надеяться, что при этом я не утрачу своей чести.
Предположим, что Аиду пела бы Мария — тогда мое решение было бы иным, изменился бы и мой пыл в работе, мой энтузиазм. Ибо «Травиата» останется в истории (что бы ни талдычили недоумки или безнадежные идиоты), и останется потому, что эта «ревизия» отныне — свершившийся факт художественной жизни, и этот переворот состоялся благодаря искусству такой великой актрисы, как Мария. Не забывайте и о том, что все следующие «Травиаты» не сразу (ведь предубеждения приходится долго преодолевать), но по прошествии известного времени станут походить на «Травиату» Марии. Сначала — чуть-чуть, потом (когда решат, что прошло достаточно времени и никто не будет делать прямых сопоставлений) — в значительной степени, и наконец, совершенно примут ее за образец.
Эту легендарную «Травиату» видели очень немногие. Но в наши дни Эктор Бьянчотти с удивлением замечает, что чем больше проходит времени, тем больше становится этих немногих.
Глава 17 ЧУДО В ИТАЛИИ
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Италия за всю ее историю, от Рима до наших дней, не имела ни одной настоящей революции? Историю Италии и все ее тайны можно кратко объяснить вот как. Итальянцы не отцеубийцы; они — братоубийцы. Итальянцы — единственный народ (как мне кажется), история (или легенда) которого основана на братоубийстве. А ведь только с отцеубийства (и смерти старого) и начинается революция.
Умберто СабаЛетом 1956 года Висконти называет Италию «мертвой страной во всем, что касается театра и кино». Всюду царит бюрократизм и рутина. Какое место он может найти для себя в столь узких клерикальных и мелкобуржуазных рамках? Совсем скоро этот «дон Жуан подмостков» начинает подумывать, как завоевать и другие сцены — в Англии, Германии и особенно во Франции. С 1957 по 1959 год он лихорадочно работает — на его счету за этот период 15 постановок, в том числе один фильм, пять опер, еще один балет (вдобавок к «Марио и волшебнику» 1956 года), и не менее восьми театральных спектаклей. Висконти находится в поиске новой публики, нового репертуара.
В этой театральной мозаике, помимо двух опер, поставленных весной 1957 года в «Ла Скала» для Марии Каллас, выделяются еще две амбициозные и масштабные постановки в оперном театре: «Дон Карлос» Верди в Ковент-Гардене в мае 1958 года и последовавший за ним месяц спустя «Макбет» в Сполето. Были еще и постановки не столь пышные, не так единодушно расхваленные, но работал Висконти в бешеном ритме: «Фрекен Юлия» Стриндберга в январе 1957 года в римском «Театре делле Арти» — спектакль мрачный, жестокий, тяготеющий к крайностям; следом фильм «Белые ночи», снятый, словно на спор, за семь недель и три дня, в августе — легкий и поэтичный «Импресарио из Смирны» Гольдони в венецианском «Ла Фениче»; еще через месяц в Берлине — балет «Танцевальный марафон» с музыкальным попурри, которое сочинил Ганс Вернер Хенце.
В 1958 году этот ритм работы становится еще более головокружительным — январский «Вид с моста» Артура Миллера в Риме, затем, после грандиозной вердиевской весны, плодовитая театральная осень: в октябре постановка в память о Дузе, семь дней спустя — спектакль по семейной хронике Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой. Ангел», следом первая парижская работа — американская комедия Уильяма Гибсона «Двое на качелях», ставить которую в «Театр дез Амбассадер» пригласил его Жан Марэ; и, наконец, 20 декабря в Риме еще одна американская пьеса — «Сыновья мадам Гиббонс» Уилла Гликмана и Джозефа Стейна.
Друг Висконти, кинорежиссер-коммунист Франческо Мазелли, говорит об этом времени: «В жизни Лукино в это время намечается поворот, и для меня (мы были тогда очень близки) это обернулось яростными спорами, приведшими ко взаимному охлаждению. Он порвал отношения с некоторыми людьми, у него появились другие друзья. Не то чтобы эти его новые товарищи были какими-то презренными людьми, но они были и не столь взыскательны: теперь Висконти окружал мир театра и все, что из этого следует…» Многие из его новых учеников — всего лишь красивые юнцы с повадками куртизанов. По-видимому, некоторые из них походили на «тех одалисок мужского пола», «ничтожных характером и слабых духом», которыми, как рассказывает нам Робер Мерль, любил окружать себя Оскар Уайльд, чтобы лучше управлять двором — эти придворные «в один голос восхваляют то, что восхваляет Хозяин, поносят то, что он поносит и до бесконечности копируют его речь и стиль».
«Если я чему-нибудь и научился в жизни, — скажет Ренато Сальватори, — то я обязан этим Висконти. Я был как большой щенок, ходил за ним повсюду, навострив уши и стараясь понять … У меня на столах стоят лампы в стиле Галле — только потому, что однажды мы с ним приехали в Париж и он объяснил, что это такое, научил их ценить…» Актер Томас Миллиан, сотрудничавший с Висконти в короткометражном фильме «Работа» (из альманаха «Бокаччо 70»), как больший циник, откровенно и с легкой нотой ностальгии рассказывает о том, как он «куртуазничал». Милиан вспоминал, как однажды, строя из себя шута на манер племянника Рамо у финансиста Бертена, он ухитрился рассмешить своего хозяина с виа Салариа: «Однажды мы сидели за столом. И вдруг подают сыр, который он особенно любил, с червями, они вползали и выползали из него и были длинные, как тальятелле. Я тогда мысленно переиначил римскую пословицу „Чего не сделаешь, чтобы только поесть“ и сказал себе: „Чего только не съешь, чтобы только получить роль!“ Но в то же время я подумал: „Ну уж нет, до такого я не опущусь“, а Лукино явно не считал меня таким уж рафинированным. Уверен, он ждал, что я скажу: „Что за дрянь!“, ну я и завопил: „Что за дрянь!“. Он расхохотался от души, в то время как остальные, обалдев от этой бестактности, все разом молча уставились на меня, дожевывая своих червяков…»
«Он одарил меня своей дружбой, — продолжает актер, — которой я, по правде говоря, не заслуживал, потому что думал только о себе и своей карьере. Правда, всякие интеллектуальные разговоры насчет книг Лукино вел не со мной. Меня он держал при себе, потому что я его забавлял — я кубинец, мой акцент похож на генуэзский выговор, я был обаятелен. К тому же я был хитер и со всем соглашался. Я был наивен и умел смешить: Лукино потешался надо мной, например, когда я запихивал в карман своего единственного приличного пиджака подаренный им очень длинный и плоский золотой портсигар и, не сообразив, что портсигар настольный, гордо дефилировал с этим шикарным предметом, высовывавшимся из кармана на добрых пару сантиметров, а стоило мне наклониться, он всякий раз вываливался на пол».
Но при этом дворе были и люди высочайшего духа, с утонченным вкусом и энциклопедической культурой, настоящие интеллектуалы: немецкий композитор Ганс-Вернер Хенце, сценарист Энрико Медиоли, писатель Альберто Арбазино, драматург Джорджо Проспери и новые актеры, которые пришли на смену старым звездам — римлянин Коррадо Пани, прекрасная флорентийка Илария Оккини, истинная миланка Адриана Асти, неугомонная любительница позубоскалить. На этих людей режиссер в известной степени опирается в годы кризиса и поиска. Он снова стремится преодолеть барьеры — те, что окружают его и те, что существуют между жанрами. Он жаждет идеального театра — абсолютного зрелища, того «совершенного спектакля, где декламация, пение, музыка, танец, сценография сосуществуют и проникают друг в друга». Наиболее совершенной формой такого театра ему представлялась мелодрама.
Висконти мечтал о подобном спектакле уже давно. Еще в августе 1951 года он подписал контракт с Томасом Манном, дающий ему право облечь «Марио и волшебника» в форму «хореографического действа». Задача была не из легких. Висконти — давний и пылкий поклонник немецкого писателя; Франко Маннино рассказывает, что в день встречи с Манном Лукино пребывал в крайнем нервном возбуждении, «почти как лев в клетке». Он был рад и окрылен, узнав, что их точки зрения на это произведение совпадают. «Вы великий театральный постановщик, — сказал ему автор „Волшебной горы“, — и я уверен, что результат окажется превосходным!» Потом он прочел либретто и изучил партитуру — и балетную, и оркестровую — и заявил: «Я и вправду всем доволен, а ведь до этого мысль, что можно переделать мой рассказ в экспрессионистском стиле, приводила меня в ужас У меня нигде нет никакого экспрессионизма».
Эта постановка основывалась как на реалистических элементах, так и на ирреальной атмосфере итальянского курорта тридцатых годов, зрители словно бы оказывались в самой гуще того времени, когда у власти были фашисты. Известно, что, создавая образ волшебника Чиполлы, Томас Манн заимствовал некоторые черты характера у фигляра, шарлатана, гипнотизера толп Бенито Муссолини. Чиполла также испытывает свой опасный магнетизм на публике, состоящей из элегантных курортников, и на наивном и сентиментальном подавальщике из кафе «Эскизито», горделивом «рыцаре салфетки» Марио. Но антифашистское звучание текста Висконти акцентирует не столь сильно: с помощью тонкой и ностальгической сценографии Лилы де Нобили Лукино стремился воссоздать особый колорит дней своей юности в Форте-Деи-Марми — времени, которое было окрашено цветами соблазна и патологии.
В этой постановке Висконти впервые попытается воссоздать атмосферу тридцатых годов — это происходит задолго до «Гибели богов» и до всеобщей моды на стиль ретро, им же и установленной. Он делает это в итальянской манере, феерично — в спектакле есть проносящийся мимо поезд, грот, полный индийских божеств, подвешенные в воздухе малышки с крыльями бабочек, велосипедные гонки и убийство. В «Марио» он создает смесь гротеска и поэзии, и воздух этой постановки воскрешает в памяти и Шагала, и Таможенника Руссо. Сам Висконти скажет о постановке так: «Мы создали спектакль новый, сложносоставной, с преобладанием хореографического начала, но здесь находится место для всего — и для пения, и для балета, и для декламации». Хореографом этого спектакля был Леонид Мясин, воспитанник Большого театра, открытый Дягилевым, после ухода Нижинского и Фокина ставший звездой танца, а потом и главным хореографом «Русских балетов».
Это спектакль, в котором танцорам — среди них был француз Жан Бабиле в роли Марио — приходится еще и петь, где на сцене детский хор подпевает оркестрику из кафе «Эскизито» и музыкантам, играющим на бонго и кларнете. Единственную строго театральную роль — партию Чиполлы — исполнил известнейший актер Сальво Рандоне, и это был сатанинский образ итальянца — forzatore, illusionista, prestidigiatore[42] — , который, держа в руке кнут, заставляет плясать даже тех, кто вовсе этого не желает. Он словно бы представлял на сцене и самого режиссера — тирана Висконти.
За этой постановкой последовал еще один сложно-составной, смешанный спектакль. Это был «Танцевальный марафон», вдохновленный романом американца Хорэса МакКоя «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», а также модой на танцевальные соревнования, которая в пятидесятые годы бушевала в зловещих кварталах римских окраин (позже жизнь этих кварталов опишет Пазолини). Костюмы и декорации для этого спектакля создал художник-коммунист Ренцо Веспиньяни. «Веспиньяни, — говорил Висконти, — это молодой итальянский художник, которым я восхищаюсь. Я долгое время мечтал дать ему работу в театре — с тех самых пор, когда он впервые показал мне свои рисунки, на которых изображен проклятый, чужой мир городских окраин и трущоб, словно бы наполненных призраками». Режиссер уточняет:
Идея сделать «Танцевальный марафон» пришла ко мне в «Ла Скала», на репетициях другого балета — «Марио и волшебник», сюжет которого я взял из рассказа Томаса Манна.
Думая об этой постановке, я держал в уме конкретного актера, Жана Бабиле. Предложить Жану Бабиле идею балета — все равно, что бросить японский цветок в чашу с водой. Из этой расплывчатой и смутной идеи вырастает и расцветает огромный цветок неожиданных оттенков. Я-то подумал предложить Жану Бабиле идею танца — а что может быть богаче и драматичнее, чем конкурс танцев, одно из тех бесчеловечных соревнований, что длятся до полного изнеможения и отчаяния?
С Гансом Хенце мы были знакомы еще с оглушительной римской премьеры его оперы «Бульвар одиночества». Его музыка, скорбная и порывистая, открыла мне человека талантливого и храброго. Я предложил ему тему; и он с энтузиазмом согласился… Еще одной пешкой в нашей игре был Дик Сандерс. Он потрясающе свеж, это новый, неиспорченный талант, он показывает жизнь и отношения между людьми через танец, искренне и чутко — и он обладает грацией заклинателя змей.
Легко было предвидеть, какой бурей восторга встретит Берлин это причудливое зрелище в сопровождении сразу двух оркестров — кроме симфонического в оркестровой яме, на сцене расположился еще и кубинский оркестр. В музыке и хореографическом стиле замысловатые музыкальные цитаты смешивались с самым грубым, «вульгарным» реализмом. «Я тогда интересовался серийной додекафонической музыкой, — рассказывает композитор Хенце. Висконти обычно требовал поправок, и всегда в сторону музыкального реализма. Мне даже пришлось сочинить ту поп-песенку, что звучала с пластинки. Лукино был настоящим диктатором, но он умел убеждать: отказать ему было нелегко. В нескольких словах он объяснял, чего хочет, но всегда оставлял большое пространство для вашей фантазии. Как и все, кто с ним работал, я также испытывал жажду ученика, я хотел учиться и хотел, чтобы меня воспитывали. В Лукино было нечто такое, что наше поколение (Хенце тогда было тридцать — Л.С.) утратило. Он был носителем культуры того типа, которую представитель правящего класса получал в те времена, когда буржуазия еще не клонилась к упадку, — Висконти обладал идеями, которые не зависели от перемен в общественном вкусе. Я считаю себя в каком-то смысле его творением — в те годы он умел интересоваться работой молодых, это был человек, любивший общаться. Его тотальный нонконформизм и его смелость очень повлияли на меня».
Еще один яркий пример стремления Висконти к синтезу жанров и стилей — фильм «Белые ночи», в котором намеренно смешиваются кино и театр, реализм и искусственность, приземленное и «магическое». Фильм-бастард, он появился на свет, по сути, случайно. Сначала эта картина замышлялась как шанс для Мастроянни, которому нужно было избавиться от образа таксиста: до той поры других ролей ему не предлагали. Висконти хотел свернуть с проторенных путей, «выбрать иную дорогу, не ту, по которой тогда шло итальянское кино». Лучшие образцы национального кино все еще снимались в неореалистской манере, от которой Висконти теперь отказался.
Впервые Висконти строит декорации на студии «Чинечитта»: и это не Петербург Достоевского, а квартал Венеция в старом Ливорно, куда он решил перенести действие повести. Декорации, разработанные Марио Гарбульей и Маурицио Кьяри, с их темными узенькими улочками и заснеженными мостиками, были сделаны в театральной традиции. Чтобы создать видимость тумана, использовали, как в театре, тюлевые полотнища, в зависимости от освещения туман казался более или менее густым. Метод киносъемки представлялся Висконти столь важным, что он разрабатывал его с оператором Джузеппе Ротунно «как сценарий». Надо, объясняет он, чтобы «все выглядело словно бы искусственным, ненастоящим, но лишь только покажется, что все это поддельное, оно должно обрести подлинность». «Мы стирали границы между реальностью и воображением, — комментирует Ротунно, — это был в своем роде магический реализм».
Позже Висконти признал, что в этом фильме слишком много театра, но при этом он утверждал, что специфические выразительные средства театра и кино могут прекрасно сочетаться: «Неверно говорить, что в кино следует избегать театральных приемов. Необходимо помнить и переосмысливать истоки кино — например, фильмы Мельеса», Но какого тайного сплава или немыслимого единства он добивался, загружая бессчетное количество элементов в плавильный котел «Белых ночей»? Он создал странное, полное отголосков пространство: были здесь и цитаты из россиниевского «Севильского цирюльника», и пародии на того же Россини, и любовная тема из «Тристана», и ритмы рок-н-ролла, под которые беснуется танцор Дик Сандерс.
Композитор фильма Нино Рота говорит о музыкальной палитре картины так: «Тема любви Натальи к жильцу доминирующая: это мелодия приворотного зелья, роковой страсти. […] Духовный аспект отражает немецкая романтическая музыка, Шуберт и Вагнер. Это любовь в духе „Бури и натиска“, любовь героическая и театральная. Любовь для Висконти ассоциировалась с темой Вотана. Он хотел, чтоб гремели трубы».
Этот героический, «архаичный» мир диссонировал с неореалистическими деталями самой обыкновенной жизни, которую проживает герой фильма Марио. История падшей женщины тоже словно бы взята прямо из другого неореалистического фильма — из «Одержимости» — к тому же играла ее та же самая актриса, Клара Каламаи. «Помнишь Джованну из „Одержимости“? — объяснял Висконти гримеру. — Так вот, прошло пятнадцать лет, дела шли все хуже, она отсидела в тюрьме, вернулась домой и стала проституткой».
В этом фильме — все пласты его жизни, его прошлого: от далеких и усладительных россиниевских мелодий, от мастерской белошвеек в Черноббио до настоящего времени, из которого в картину пришли молодые хулиганы в зале дешевого кафе. Здесь слышны и отголоски «Одержимости», эхо парижских годов, проведенных с Жаном Марэ, а в некоторых сценах используется стиль «а-ля Кокто». Здесь есть даже воспоминание об австрийской невесте Лукино, образ которой попыталась вновь оживить Мария Шелл — и эту попытку можно признать довольно неуклюжей.
Только что сыграв в фильме «Жервеза» Рене Клемана, Мария Шелл была на пике славы и запросила умопомрачительный гонорар, а для Висконти было делом чести снять фильм при небольшом бюджете. Молодой Франко Кристальди, Мастроянни, Сузо Чекки д’Амико и он сам, чтобы сделать кино, создали маленькую компанию. Он подрядился закончить картину за восемь недель — хотя о нем повсюду твердили, что он не способен ничего снять меньше чем за полгода. В сроки они уложились, но бюджетные расходы росли. Сузо признавалась, что «все эти месяцы жила в жутком страхе», боясь, что дело кончится судебным преследованием, поскольку видела, как бюджет фильма, задумывавшийся «ну совсем крохотным», с каждым днем увеличивается.
«Закончилось все катастрофой, — говорит она, — поскольку у нас не было ни гроша, и мы не могли найти производственную кинокомпанию, которая согласилась бы помочь. В конечном счете все мы, объединившиеся в эту компанию, не получили ни лиры прибыли. Лукино заставлял нас просматривать весь отснятый материал: „Не хочу, чтобы вы думали, будто я тут занимаюсь любительщиной“. — „Да что ты, Лукино! Кто может такое подумать!?…“ Но туман, который создавали с помощью дыма, был все-таки бледной копией настоящего: нужно было, чтобы клубы тумана застывали в воздухе, — и тут, к нашему великому изумлению, Лукино заказал для съемок километры тюля. Вот такая у него была экономия. О практичности он и представления не имел. Сколько денег растранжирил! Он был очень богат и сам этого не понимал. А его щедрость! Он дарил подарки, которые становились легендой. Но что было делать тем, кто не живет на широкую ногу? Лукино обладал невероятным вкусом; в наши дни уже научились делать бумагу, идеально имитирующую ткани и дамаст. Он даже не взглянул на заменители, посмотрел образцы настоящей ткани и инстинктивно безошибочно выбрал те, что стоили в двенадцать раз дороже остальных!»
На Венецианском фестивале Висконти опять не получил «Золотого льва». В прокате картина тоже провалилась. Мастроянни готов был смириться, он даже сказал: «Я безнадежен — пора это признать. Придется до конца дней играть только таксистов».
От этой обостренной, барочной театральности Висконти уже в 1957 году возвращается к более прямому контакту с действительностью. Поставленные им тогда американские пьесы при ретроспективном взгляде кажутся многочисленными прологами к «Рокко и его братьям». Все они похожи на «Рокко» своей злободневностью, яростной силой, жанром семейной хроники — эти спектакли даже используют кинематографические приемы. В январе 1958 года, ставя для театра «Элизео» «Вид с моста», Висконти применяет технику, в точности копирующую тревеллинг в кино: нарисованные полотна, на которые падает свет, сменяются одно за другим, проводя зрителя сначала по улицам Бруклина, а потом приглашая его в дом докера Эдди Карбоне, после чего режиссер заключает в рамку главного героя — точно так же, как в кино тревеллинг завершается крупным планом. Через пять месяцев Висконти снова использует эту технику в «Макбете», которого он ставит в Сполето.
Как известно, драма Артура Миллера «Вид с моста» рассказывает о том, как трудно итальянским эмигрантам найти свое место в американском обществе, и о соперничестве, которое разделяет самих итальянцев. Замените Америку на Милан, и вы получите «Рокко и его братьев» — фильм, который Висконти называл «драмой из нашей крови и нашей плоти». Висконти возвращается к реализму после бурных исканий 1956–1957 годов — для многих художников левых убеждений это был период тревожного вопрошания и подведения итогов. И возвращение Висконти к Верди политическому, к его «Дону Карлосу», тоже является частью этих исканий.
«Дона Карлоса», которого маэстро сочинил в 1867 году для «большой модной лавки», читай — для Парижской Оперы, Висконти представляет 9 мая 1958 года в лондонском «Ковент-Гарден» по случаю столетнего юбилея Королевского театра. Об этой постановке он думал многие годы; именно с этой оперой он мечтал дебютировать в «Ла Скала». Редкие режиссеры, решившиеся взяться за нее, испытывали большие трудности: даже если, следуя обычаю, опустить первый акт, опера так длинна, что способна отпугнуть даже самых отчаянных смельчаков. Она требует огромной машинерии и по меньшей мере шестерых певцов высшего класса — в то же время нужно внимательно следить, чтобы ни один из них не затмевал всех прочих.
Висконти начинает с первого акта — он поставит полную версию, не беспокоясь о том, что спектакль будет идти три с половиной часа, не считая антрактов. Он придирчиво воспроизводит на сцене светлый осенний лес Фонтенбло близ Парижа, где, вдалеке от строгого Эскориала, точно во сне, испанский принц впервые видит Елизавету де Валуа, нареченную короля Филиппа II.
В оформлении остальных актов Висконти категорически отказывается от темных и мрачных декораций, изображавших гнетущую атмосферу двора Филиппа II и традиционных для этой оперы (особенно на немецких сценах). Феделе д’Амико вспоминает: «Все было сделано наоборот. Он показал нам царство праздника, где ветер развевает огненно-красные и зеленые знамена, а воздух пахнет корридой. Весь спектакль он заставлял персонажей вести себя в строгом соответствии с испанским придворным этикетом: одеяния героев пышны, а жесты церемонны. О глубине их душевных порывов рассказывала только музыка».
Ансамбль певцов был собран блестящий: Борис Христофф — Филипп II, Джон Викерс — дон Карлос, Тито Гобби — Родриго, Марко Стефанони — Великий Инквизитор, Гре Браувенстейн — Елизавета де Валуа, Федора Барбьери — принцесса д’Эболи. С помощью Джулини режиссеру удается держать весь этот состав в полном повиновении. При таком распределении ролей, заметил обозреватель журнала «Опера», «вы можете только надеяться, что вперед всех не вылезет ни примадонна, ни дирижер, ни режиссер, и мы просто увидим триумф оперного искусства. В этот раз так и случилось».
Чтобы отпраздновать этот триумф, который был и триумфом Висконти, к нему в Лондон приехали друзья: Энрико Медиоли и, разумеется, Филиппо Санжюст, работавшие над спектаклем. Санжюст — кладезь исторической эрудиции и воображения, его имя вскоре появится на афишах других опер, а творческая жизнь Энрико Медиоли навсегда переплетется с судьбой Висконти. Сначала Медиоли станет его помощником, затем напишет сценарии для немецкой трилогии и останется преданным другом режиссера до самой его смерти. В этой компании в Лондоне оказалась и Мария Лаудомия Эрколани, светившаяся молодостью и красотой; ее миланских родителей Лукино знал давно и любил ее общество, ее элегантность, чуткость и постоянство знаков внимания. Она посещает все его премьеры, часто сопровождает его в поездках, вместе с ним она ходит в музеи и в антикварные магазины, откровенно рассказывает о своей жизни и доверяет ему, как нежному и понимающему отцу.
Когда наступает лето, все эти люди снова собираются на Искье, в мавританской башне роскошной виллы «Коломбайя», утопающей в зарослях сосен и эвкалиптов здесь Висконти никогда не остается один. Его всегда окружают десять или двадцать друзей, разделяющих с ним трапезу в большой гостиной, обставленной в стиле Карла V, украшенной картинами венских мастеров начала века, и эта комната всегда пропитана ароматом роз и тубероз… До глубокой ночи они играют. Шарады, загадки и другие развлечения ежевечерне воскрешают ритуалы его детских лет.
Но его друзья — это еще и поставщики новых идей, и у них с Лукино множество совместных планов. Именно из-за дружеских чувств Висконти соглашается открыть постановкой вердиевского «Макбета» Фестиваль Двух Миров в Сполето, созданный композитором Джанкарло Менотти. В 1959 году Висконти снова сделает спектакль для этого фестиваля — «Герцога Альбу» Доницетти, в 1961 году он поставит для него же «Саломею» Штрауса, в 1963-м — новый вариант «Травиаты». Сцена в Сполето маленькая и возможности режиссера здесь ограничены, но Висконти нравился этот вызов.
«Кто будет дирижером?» — спросил он, когда Менотти попросил его участвовать.
«Молодой человек двадцати восьми лет, американец. Он был вундеркиндом, стал дирижером оркестра в девятнадцать лет — это Томас Шипперс».
«Где я буду жить?»
«У меня», — ответил Менотти.
Энрико Медиоли вспоминает: «Лукино спал в каморке рядом с террасой. Он говорил, что чувствует себя, как в тюрьме Реджина Коэли, но его это ужасно забавляло. Он любил простые вещи, воспринимал жизнь по-спортивному, без драм». Менотти вспоминает, как за несколько часов до премьеры «Макбета» Висконти обнаружил в умывальнике скорпиона. «Только не убивай его! — воскликнул он. — Это добрый знак. Я родился под знаком Скорпиона. Будет триумф!» И в самом деле, это был великий «Макбет» — не только благодаря искусству Шипперса, но и по ощущению тоски, замкнутости, кошмара, которое Пьеро Този с Висконти создали самыми простыми средствами. Круглая декорация, чем-то напоминавшая постепенно раскалывающийся череп, включала в себя полотнища тюля, по-разному выкрашенные и по-разному подсвечивавшиеся, и за счет этого представлялась то осенним лесом, то кафедральным собором из мертвых ветвей, то колодцем под луной — по словам Този, этот последний выглядел «словно рот, полный гнилых зубов». Были здесь и руины, и кровь, проливавшаяся в странном, магическом луче света. В середине спектакля белокурые, облаченные в красный бархат пажи выносили большую белую простыню, запятнанную кровью Дункана.
Почему в эти годы холодной войны и разочарований Висконти выбирает для постановки «Дона Карлоса», а вслед за ним и «Макбета» — две самые мрачные оперы Верди? Разве Верди в первую очередь — не певец героизма, любивший фанфары и пылкие порывы Рисорджименто и написавший арию Манрико Di quella pira из «Трубадура»?
Да, это так, но Верди также сочинил и мрачного «Макбета», в котором доминируют изгнанники в черных одеждах — они чем-то напоминают трагические фигуры матерей из фильма «Земля дрожит». Перу Верди также принадлежит и «Дон Карлос» — опера, которая была закончена в тот самый момент, когда композитор узнал о поражениях при Кустоцце и Лиссе. Как и «Макбет», это полотно, написанное разочарованным человеком, но здесь Верди еще размашистей и реалистичнее живописал трагедию власти и гибель детей под тройным гнетом церкви, короля и жестоких родителей. В центре драмы «Дона Карлоса» — тщетная мольба побежденных сынов, фламандского народа, требующего независимости: эта тема заворожила Висконти, он вернется к ней снова в «Герцоге Альбе» Доницетти в 1959 году и в «Эгмонте» в 1967; в перерыве между этими работами он еще раз поставит «Дона Карлоса» в Риме.
«Дон Карлос», а следом за ним и «Симон Бокканегра» были поставлены Висконти потому, что его интересовали мрачные игры властьпредержащих на развалинах диктатур, а вовсе не потому, что он желал возродить несвоевременных вердиевских героев, «чей романтический хмель», по словам Альберто Моравиа, «предвосхитил риторику фашизма и мелкобуржуазную христианско-демократическую ромашку[43]».
Есть ли хоть один настоящий герой — за исключением Родриго, маркиза ди Поза — в «Доне Карлосе», в этом «возвышенно-манерном и бурном» произведении, которое дирижер и музыковед Джанандреа Гаваццени (именно он в 1957 году дирижировал «Анной Болейн») считает насквозь «декадентским»? В отличие от многих опер, герои здесь не одномерны. Монарх-абсолютист Филипп II симпатизирует либеральному маркизу ди Позе, который строит против него заговор, но и сам маркиз в то же время восхищается энергией и силой характера короля. Сын Филиппа, наследный принц дон Карлос помогает своему другу Родриго в борьбе, поддерживая угнетаемых его отцом фламандцев, но под этим его самоубийственным «героизмом» скрываются куда более темные порывы: соперничество с отцом, запретная страсть к той, кого он не прекращает звать матерью, и, наконец, гомосексуальная привязанность к Позе. В этом семейном конфликте участвуют Трон и Алтарь, абсолютная монархия и народ, угнетающие и бунтовщики.
Эти семейные микрокосмы, драматически отражающие все личные и коллективные конфликты, были любимыми зеркалами Висконти. Да и в самом его пристрастии к композитору, которого называли «Прометеем Рисорджименто», ясно читается, что Лукино сочувствует отверженным сынам и отождествляет себя с ними. К этому важно добавить — в творчестве Висконти, как и у Теннесси Уильямса, отцы упрямо исчезают из действия: в картине «Земля дрожит» отец умирает, в «Самой красивой» он замкнут и бессилен.
В фильме «Рокко и его братья», который Лукино задумал еще во времена первой постановки «Дон Карлоса», отца семейства уже нет в живых. На семейной фотографии, которую рассматривает Надя в комнате семьи Паронди, изображена мать с сыновьями, а отца, по замечанию Висконти, «на фото почти и не углядишь — это маленький человечек вот такого росточка. Сыновья всем обязаны матери. Она — словно образец, по которому сделаны все пятеро сыновей — именно такие, о каких она мечтала, крепкие, рослые, красивые, и все похожи на нее. Отец, конечно, был — без него никуда, но он не играл большой роли. И правда, к моменту начала действия он уже умер, он угас, этот маленький человечек, они вынесли его тело и бросили в море». Именно с этого эпизода должен был начинаться фильм, чтобы ярче подчеркнуть связь с образом трагического моря из фильма «Земля дрожит».
«Земля» была задумана в послевоенной Италии, обнищавшей и «очистившейся». Почему же Висконти вновь обращается к тематике Верги, к проблемам итальянского юга в фильме «Рокко и его братья», в эти эйфорические для экономики пятидесятые, во времена, когда промышленник по имени Энрико Маттеи словно бы воплощал в себе триумф нового капитализма? Начиная с 1950 года в стране было построено много дорог, акведуков, фонд Меццоджорно профинансировал большие ирригационные работы. Крупные промышленники Оливетти и Монтекаттини создали заводы в Неаполе и на Сицилии, а крупные латифундисты передали безземельным крестьянам около двух миллионов акров невозделанных земель.
У Висконти есть контраргументы: он говорит о том, что никогда еще Италия не была так разделена и никогда еще предрассудки североитальянцев против южан не были так сильны и остры, как в эти самые годы экономического чуда, когда «газетная хроника регистрирует каждый прожитый день одиссеи южноитальянских рабочих, приезжающих на север в поисках работы и удачи». Этим работягам суждено стать жертвами плотоядного Змея, красующегося на миланском гербе и гербе «Альфа Ромео» — того самого вставшего на дыбы Змея капитализма, который можно увидеть и на гербе семейства Висконти.
«Я хотел, — говорит Висконти, — услышать тайный голос южной действительности», то есть «цивилизации и людей, которых итальянский север поместил в моральную и духовную изоляцию. Северяне смотрели на южан свысока и блюли собственную привилегированность». В этом Висконти был солидарен с Карло Леви, автором книги «Христос остановился в Эболи». В 1960 году Леви так описывал социальные бедствия в Лукании: «Здесь все те же нищета, голод, болезни, беспорядочность в связях, перенаселенные дома, дороги словно сточные канавы, долги, истощение, безработица, слепни, насекомые… Все пронизывает древняя монотонность беспросветной нищеты».
В то же самое время Висконти словно бы вступил в состязание с двумя другими писателями — Данило Дольчи и Рокко Скотелларо. Первый из них публиковал исследования о бандитизме и недоразвитости юга, но именно в честь второго, умершего в 1953 году тридцати лет от роду в бедной луканийской деревушке, Висконти и назовет свой фильм «Рокко и его братья», а в титрах напишет, что Рокко Скотелларо — «один из тех безоружных пророков, которым я верю». Скотелларо — тот, кто дал услышать «тайный голос» юга, голос оставшихся в заброшенной Лукании крестьян, которые тщетно силятся напомнить, что их деревушка — тоже часть Италии.
Тщетно, ибо к южанам, приезжающим на север, относятся не как к «братьям», а как к иностранцам, чужакам, докучливым визитерам, которым можно ломать хребет и делать рабами. Для Висконти был важен разговор об этой братоубийственной борьбе — в основном между южанами и миланцами, братьями, «которые так же неотделимы друг от друга, как пальцы одной руки». В 1958 году вспыхнула полемика вокруг «Леопарда», романа ди Лампедузы, и южноитальянский вопрос снова остро встал на повестку дня. Для Висконти эта тема была важна не потому, что он желал вызвать возмущение в умах, а потому, что он хотел, по его собственным словам, «подвигнуть людей на путь разума». И трактовка этой истории могла быть только реалистической, согласующейся с «той нравственной позицией перед лицом событий, жизни», которую сам Висконти называет реализмом: «Реализм — это позиция, которая, говоря коротко, позволяет нам критическим и ясным взглядом посмотреть на общество и увидеть его таким, какое оно есть сегодня, а также рассказать правду об этом обществе».
Тема, которая в этом случае волнует Висконти больше всего, волновала и Вергу, — это судьбы «отверженных», жертв и принесенных в жертву, о деградации и страданиях которых он рассказывает и на сторону которых он встает. По словам Лукино, тема эта вовсе не нова, как и истории «самых великодушных личных порывов, подвергающихся насмешкам в обществе и терпящих крах». Постановки пьес Миллера «Смерть коммивояжера» и «Вид с моста», равно как и история, рассказанная в «Танцевальном марафоне», уже дали ему возможность показать катастрофу личности в обществе, пропитанном духом наживы и конкуренции.
Но в случае с «Рокко» задача была еще и в том, чтобы показать крушение целой цивилизации. «Я легко могу представить себе, что история „Рокко и его братьев“ могла быть напечатана в разделе криминальной хроники в обыкновенной газете, но я настаиваю на том, что это типичная история. История и характеристики героев полностью вымышлены, но, используя этот вымысел, я, как мне кажется, сумел показать нравственные и идейные проблемы времени, в которое мы живем. Я обнаружил типическое также и в образе мышления южан: с одной стороны, они знают надежду и жаждут обновления, с другой — впадают в отчаяние от того, что никакой помощи не предвидится, или ищут и находят выходы, которые решают проблемы лишь частично — например, они встраиваются в тот порядок жизни, который навязан им извне. Вот фундамент моей истории, которая, как известно, заканчивается убийством; и в центр этой истории я поместил аспект южного характера, кажущийся мне чрезвычайно важным: чувственность, идею закона и запрет, налагаемый честью».
В работе над «Рокко» Висконти использовал множество книг: тут и Грамши, и Верга, и Достоевский, и Томас Манн, и повести миланского писателя Джованни Тестори. Но главным источником его вдохновения все же остается настоящая жизнь переселенцев в северных метрополиях, обычаи Аукании и Милан — но не золотой Милан его детских лет с патрицианскими дворцами центра и «Ла Скала», а миланский район Порта-Тичинезе, заваленная мусором окраина, где в барах тесно и неуютно, где вдоль улиц тянутся ряды доходных домов, слабо освещенные тусклыми уличными фонарями.
Начав работать, он ухватывается за тоненькую, но крепкую ниточку: историю, о которой сам рассказал Сузо Чекки д’Амико еще весной 1958 года. Вот ее свидетельство: «Это была история одной семьи, в которой мать и пятеро сыновей. Их непременно должно было быть пятеро, он настаивал на этом. С этой его идеи все и началось… Потом он начал объяснять: „Я хочу разыграть все это в спортивной среде, может быть, в боксерской — мне нужна обстановка, в которой много насилия“. Большинство итальянских чемпионов по боксу в то время были выходцами с юга.»
Год проходит в планах, обсуждениях, сделаны сотни исследований, набросков, и документация очень скоро обретает угрожающие размеры… Как и в работе над «Чувством», берущиеся за дело писатели постепенно место одной-единственной Сузо Чекки д’Амико, которая готовит окончательный вариант вместе с Висконти и Энрико Медиоли. Сначала каждому сценаристу раздают «повествовательный блок», главным героем которого является один из пяти братьев. Паскуалино Феста Кампаниле и Массимо Франчоза, оба с юга, занимаются сценой похорон из пролога, от которого потом решено будет отказаться, а также разрабатывают образы братьев — Винченцо, самого старшего, и Рокко. Медиоли трудится над характером Чиро, борца-рабочего, Сузо Чекки пишет о боксере Симоне, а Висконти в этом произведении, которое должно будет стать сошествием в ад, пароксизмом насилия, оставляет за собой самые драматичные и жестокие сцены, в том числе и эпизод убийства.
В перерывах работы над текстом (всего было написано три версии) сценаристы снова и снова изучали действительность, постоянно отрываясь от пишущей машинки, чтобы отправиться «в люди». «Мы провели огромное количество времени в тренировочных залах, рассказывает Сузо Чекки. — Я просидела там целый год — и это при моей нелюбви к боксу… Понемногу сюжет обрел форму. Лукино пришел ко мне в Кастильончелло вместе с Пратолини и говорил, говорил без конца. Стоило ему только открыть рот, как сам он преображался и становился прекрасным актером. Начал он с того, что сам видел в Милане, рассказывал про переселенцев с юга. После этого мы пошли посмотреть на жуткие хибары, в которых ютились южане…» И с каждым разом прибавлялась деталь, сцена, так что первый вариант сценария разбух до восьмисот страниц. Иногда отдельные детали приходилось менять. Так, вопреки ожиданиям создателей фильма, у выходцев с юга вовсе не было сильной ностальгии. Тех, кто хотел вернуться домой, отыскалось немного.
По словам Висконти, были отвергнуты два варианта концовки:
В первом варианте сценария Чиро не устраивался на завод «Альфа-Ромео». Чтобы связать юг Италии с севером, нам нужно придумать род деятельности, который бы соединял Ауканию с Ломбардией. И мы представили, что братья вскладчину покупают грузовик. Они оплачивают его в рассрочку, переводными векселями, и возят из Аукании, например, масло или другие тамошние продукты. Эти перегоны из Аукании в Милан совершал Чиро — благодаря им он мог воображать себе, что, даже обосновавшись в Милане, он не бросил родную деревню, а просто связал ее с севером. И все-таки это показалось мне надуманным и вариант отпал.
Была в работе и такая фаза, когда фильм планировали закончить возвращением Чиро в Милан после поездки на родину. Он приезжал оттуда с грузом луканского масла, которое его братья перепродавали потом в Милане. Но это мне показалось неточным, и я решил: Чиро остается в Милане, и точка. Живя в Милане, он поступает на работу на крупный завод […] и его идеалы, вначале мелкобуржуазные, меняются, поскольку он срастается со своей средой и его сознание пробуждается.
Был отвергнут и еще один возможный финал: в нем Рокко сходит с ума, а мать решает вместе с ним вернуться на родину. Тогда же Висконти отказался и от дидактической концовки, в которой Чиро, положительный герой, говорит своему маленькому братишке Луке: «Знаешь что, сегодня стачка… Мне непросто; я должен бороться за права рабочих и в то же время несу груз ошибок, которые совершила моя семья». В конце концов Висконти выбирает «символический финал, который показывает, на чьей я стороне».
Это была долгая и утомительная работа — немыслимое количество рабочих материалов, бесконечные исправления, длительные сокращения. Ситуация совсем обостряется, когда во время длинного подготовительного периода Висконти разрывает контракт с продюсером Кристальди, пытающимся устанавливать сроки, диктовать правила и предлагать актеров: он называет имена Брижит Бардо и Паскаль Пети. «Я мог бы, — отвечает Висконти, — взять их маникюршами, но на самом деле мне нужна Анни Жирардо!» По мнению Кристальди, этот спор выеденного яйца не стоил, однако этого оказалось достаточно, чтобы «Висконти перестал видеть во мне идеального продюсера, а я вдруг увидел перед собой не того, кого знал — режиссера, друга и компаньона, а совершенно иное существо. Мы порвали отношения, обменявшись пачкой телеграмм, которые невозможно было бы напечатать ни в одной приличной книге, и я до сих пор удивляюсь, как их соглашались принимать на почте…»
Теперь фильм стал финансировать Гоффредо Ломбарди, создатель студии «Титанус». Посредником между ним и Висконти встрече выступил Ренато Сальватори. Уставший вечно играть роли второго плана, он в красках расписал продюсеру, кто такой Висконти, в надежде извлечь из этого союза хоть какую-то выгоду для себя. Но почти ни на что особенно не рассчитывал… К его крайнему изумлению, между всемогущим продюсером-неаполитанцем и авторитетным режиссером-миланцем очень быстро возникла симпатия. Вот только Ломбардо не считал, что итальянец может сыграть Рокко — он видел в этой роли Пола Ньюмена!
Известно, какое значение Висконти придавал распределению ролей. Актер для него был неотделим от персонажа. Ренато Сальватори рассказывает, что на роль Симоне, преступного брата, он подошел по характеру: глубоко привязанный к матери, сентиментальный, но при этом подверженный вспышкам неконтролируемого насилия. Как-то вечером Висконти увидел его драку с Умберто Орсини из-за прекрасной Розеллы Фальк. «Это его так впечатлило, — говорит Сальватори, — что мы всю ночь бродили вокруг его дома, и он повторял: „Да ведь ты мог зашибить его насмерть!.. Неплохой у тебя удар, неплохой!“»
Ломбардо уступил настойчивости Висконти и дал добро на участие Ренато Сальватори… После этого актер провел пять месяцев за интенсивными тренировками в спортзале напротив дома на виа Салариа, занимаясь не менее четырех-пяти часов каждый день. В результате такого режима к началу съемок он совершенно сросся с ролью Симоне. Он воспринял своего героя настолько всерьез, что даже влюбился в Анни Жирардо и под конец съемок женился на ней.
Анни Жирардо играла в фильме проститутку Надю. Висконти уже работал с ней — это было в 1958 году, в парижском спектакле «Двое на качелях», в котором также участвовал Жан Марэ. Первая встреча ее потрясла: он самолично разыграл перед ней всю пьесу… Жирардо никогда не смогла бы обратиться к нему на «ты». «Такой стиль общения диктовало уважение к Висконти, — говорит Ренато Сальватори, — мы все его бесконечно уважали. Кстати, то же самое испытывал и Ален [Делон]. Лукино старался, чтобы люди вели себя с ним непринужденно. Но это ему не удавалось — он всем внушал трепет».
Лукино, всегда находившийся в поиске новых талантов, быстро оценил дар Анни Жирардо, которая «прекрасно знала ремесло», но обладала еще и особым темпераментом и, по свидетельству Сальватори, «той меланхолией, той тоской, что жила в ее душе с детских лет — она была разлучена с матерью, ее отец был морфинистом, и у Анни было множество сомнений, которые она прятала глубоко внутри». Она также оценила поразительный талант Висконти — по ее словам, «он медленно подводил актрису к тому, что она незаметно, мало-помалу, с течением самой жизни полностью сливалась со своим персонажем, повинуясь скорее инстинкту, чем рассудку».
Паоло Стоппа, сыгравший здесь одну из своих первых кино-ролей, говорит, что Висконти был «настоящим ясновидящим». Стоппа продолжает: «Лукино обладал неистощимой внутренней силой, и его руководство основывалось не на объяснении, нет — он словно бы захватывал подсознание актера. Это свойство только прирожденных, настоящих режиссеров: а Висконти был именно таким настоящим режиссером, как и Тосканини, руководивший „Ла Скала“.
Катина Паксино играла Пилар в „По ком звонит колокол“ Сэма Вуда и уверенно чувствовала себя в ролях Электры, Иокасты, Гекубы, поэтому она с легкостью вжилась в роль матери Розарии. По словам самой Паксино, ее героиня „это луканская Гекуба, средиземноморская Ниобея, ведь Аукания — это немножко и Греция…“ Висконти говорит, что в этой героине воплотился тип южных матерей, но не безмолвных и кротких, как сицилийская мать в „Земля дрожит“, а больше похожих на героиню Анны Маньяни из „Самой красивой“: „Розария — это женщина, которая верит. И именно от нее исходят все инициативы. Она хотела бы все делать сама, всюду совать свой нос; она воплощение авторитарной матери, и детей своих она воспринимает как предметы, как силу, которую надо использовать… Она — все вместе: и мать, и отец одновременно. Такой я желал ее видеть; я хотел, чтобы она была мелодраматичной, нервной, настойчивой, своевольной…“
И наконец — Рокко: когда на представлении „Дона Карлоса“ Ольга Хорстиг, сотрудничавшая с Висконти и представлявшая интересы самых известных французских актеров того времени, представит ему своего нового протеже, Алена Делона, Лукино наконец-то увидит его — своего Рокко, и пишет с него роль для главного героя будущей картины. В то время Делону всего двадцать три, он никому не известен и божественно красив. Висконти скажет: „Мне была необходима его непосредственность… Если бы меня заставили взять другого актера, я не стал бы делать фильм. Была у Делона и печаль человека, который вынужден драться и поэтому заставляет себя ненавидеть соперника, хотя по природе он не таков“.
Ален Делон был ангелоподобен. Джованни Тесторе воспринимает его таким и по сей день: „Делон — потрясающий, незабываемый мужчина, индивидуум, друг. В повседневной жизни между его обаянием, его успехами и его самыми потаенными желаниями пролегает глубочайшая пропасть. Он мечтал быть обычным парнем, но уже не смог оставаться таковым. Уверен, что сегодня его самая заветная мечта — оказаться забытым“.
Итак, Делон будет играть Рокко — героя, который выходит на ринг не ради славы, а чтобы искупить преступление своего брата Симоне и загладить собственную ошибку, ведь он, как истый южанин, чувствует вину за то, что, украв женщину Симоне, нарушил многовековое табу. Оба этих героя, Рокко и Симоне, воплощают два лика одной реальности — один темный, другой солнечный, и их столкновение обречено, по словам Висконти, „стать вспышкой чудовищного насилия: каждый из братьев должен пасть на самое дно…“ Симоне — падший ангел, низвергнутый со своего пьедестала „супермена окраин“, а Рокко — ангел сияющий, жертвенный, отрекающийся от своей любви к Наде. Сцена отречения снималась на крыше миланского Дуомо и место съемки, таким образом, подчеркивало сакральный характер происходящего. В каждом бою, обрекая себя на удары, а иногда и на свист толпы, он все больше освобождается, очищается от слепого насилия, которое с ужасом обнаружил в самом себе.
„Рокко, — объясняет Висконти, — самый тонко чувствующий, самый духовно развитый из братьев; он добивается успеха, который для него, считающего себя в ответе за несчастья Симоне, есть род самонаказания. Он прославится как боксер, хотя ему отвратительно это занятие. Выходя на ринг лицом к лицу с соперником, он чувствует, как внутри начинает бушевать ненависть ко всем и вся. И эта ненависть ужасно страшит его“. Никогда еще Висконти так не превозносил жертвенность — он рассказывает о жертве, которую приносят „грешница“ Надя и „святой“ Рокко. В Аукании, говорит в фильме Рокко, обычай велит, чтобы „старший каменщик, начиная строить дом, бросил камень в тень первого кто пройдет мимо — надо принести жертву, чтобы дом получился крепким“.
И чтобы показать Делону, чего он от него хочет, Висконти разыгрывает всю эту сцену сам, на французском, в мертвой тишине. Возможно, он тоже чувствовал, что, подобно героям античных трагедий, несет вину, тяжесть ошибок своей семьи, глубоко укоренившееся насилие? Быть может, он стремился искупить эту вину посредством борьбы и очищения и покупал искупление ценой упорного труда, возвышая его искусством? Верно ли, что сам он видел себя в каждом из своих героев, не только в каждом из братьев, но также и в тренере-гомосексуалисте Морини (Роже Анен), который вплывал в зеркальный тренировочный боксерский зал, будто на танцы, и хищным взглядом ощупывал потные тела молодых атлетов?
Не случайно Висконти устраивает ринг — эту театральную площадку истины под вертикальным и беспощадным светом прожекторов — в старом миланском театре Мандзони. Именно здесь боксерский поединок превращается во взрыв насилия и в очищение: это ритуальная демонстрация боли, наподобие тех матчей по американскому рестлингу, которые Ролан Барт сравнивал с корридой. По словам Барта, коррида — это зрелище, которое напоминает одновременно и о распятии, и о позорном столбе. На протяжении всего фильма Висконти намекает на близость оперы и театра к „такому неестественному делу, как бокс“. Бокс тоже шоу-бизнес, со своими ритуалами, ежедневными репетициями, мгновениями славы и позора, и он так же выставляет напоказ тело победителя и измученное тело побежденного. Боксер прежде всего, конечно, атлет, осыпаемый почестями чемпион или освистываемый неудачник. Но он же — и выставленная напоказ примадонна, и обнаженный тореро: его цветные одежды сорваны, и его ждет тяжелое физическое испытание. В этом смысле ясно и указание Висконти на „Кармен“ Бизе в параллельном монтаже финальной сцены: Рокко-Эскамильо заканчивает бой, а в это время Симоне — дон Хозе закалывает ножом Надю-Кармен.
„Рокко и его братья“ — фильм обо всем вышеперечисленном. Прежде всего это история о крушении жизни боксера, столь похожая на многие другие трагедии, о которых пишут в газетной хронике происшествий, — по замечанию Висконти, эти трагедии часто заканчиваются кровопролитием и приводят к „убийствам в отместку жизни“. Эта картина также и история распада южноитальянской семьи от соприкосновения с современной и чудовищно бесчеловечной жизнью, с жизнью, которая, подобно миланскому Змею, пожирающему дитя, убивает тех, кого завлекает. Это семейная сага, отмеченная влиянием Томаса Манна, и социальная трагедия, рассказывающая о судьбе всех иммигрантов — миланских и не только. Наконец, это трагический ритуал, который можно увидеть в любом уголке мира. Эта картина — подлинный шедевр, реалистически соединяющий самые разные уровни частного и общественного, документального и художественного, сакрального и профанного, и все эти уровни сходятся в мелодраме точно так же, как в реальной жизни.
С первого съемочного дня 22 февраля 1960 года и до последнего, 2 июня, „Кармен“, одна из трех камер оператора Джузеппе Ротунно, которую каждый день украшают цветком красной гвоздики, неустанным черным оком следит за тем, как беспощадно развивается эта реалистическая драма. Многочисленные статисты играют в основном самих себя — это проститутки с Навильо, подростки из мрачноватых пригородов, аристократы из больших отелей Белладжо, на берегу озера Комо.
Декорации, над которыми кропотливо потрудился Марио Гарбулья, по его же словам, „лишь слегка заостряют некоторые характерные черты“ этих квартирок, сотен квартир, которые он посетил и где повидал множество людей, странных и несчастных. „Лукино, — рассказывает сценограф, — хотел сохранить что-то вроде девственности в отношении декораций, которые я для него подготовил, и отказывался смотреть на них раньше времени. Он хотел, чтобы его впечатление было свежим, непосредственным. Я помню, как он оживился, когда, приехав на съемки, вошел внутрь жилища, где должен был состояться праздник в семье Лука (по случаю помолвки Винченцо с Джинеттой). Я даже исхитрился сделать так, чтобы мне прислали из Лукании тот пирог, что у них всегда едят на Пасху“.
Гарбулья продолжает: „Работа над „Рокко“ у меня шла как по маслу, я даже ничего специально не изучал, ведь я знал эту среду так же хорошо, как Лукино знал среду „Леопарда“. Были у меня озарения, всякое такое… например, никто не знает, что в финале дом с его cortile (общие балконы, выходящие прямо во двор) использован не потому, что в Милане много таких cortiles, а связан с идеей создать хор, как в греческой трагедии, чтобы оттенить трагедию, происходящую на втором этаже. Нам удалось возвысить эту современную историю до уровня античной трагедии“.
Такое же богатство воображения потребовалось и от Пьеро Този, который не только нарисовал и придумал костюмы для всех женских персонажей, но также вдоль и поперек изъездил всю Луканию в поисках поношенных курток, тренировочных штанов, маек „с долгой историей носки“. Как-то ему попался на глаза работяга, околачивавшийся на обочине дороги, и он решил купить у него штаны и куртку: они в точности годились для Симоне. „Раздеваясь, тот что-то бормотал сквозь зубы, что именно, мы разобрать не могли; потом этот человек — он не был сторонником партии, находившейся у власти — сказал нам, что все это из-за христианских демократов. Мы переспросили его — как так, и вот что он ответил: „Моя одежда вся в дырах — а все потому, что нами правят христианские демократы““,
Карие глаза Висконти следят за происходящим еще внимательнее, чем око „Кармен“ — от этого взгляда ничего не утаишь. В каждой сцене он помнит мельчайшую деталь, мельчайший нюанс, каждую складку платья, каждый оттенок, каждую прядь волос. Любимчикам — в основном Делону — позволяются иногда и розыгрыши, и проделки, но большую часть времени на площадке царит тишина, словно в монастыре. То и дело вспыхивают и перепалки, куда же без них, особенно с самыми строптивыми, например, с Ренато Сальватори. „Лукино, — рассказывает он, — мог все жилы из нас вытянуть, но не по злобе — отнюдь нет, а только из стремления к совершенству“.
Как-то раз Висконти вызывает Сальватори в гримерку к семи утра и томит в ожидании до восьми вечера. Небрежность в работе? А может быть, личная месть — они тогда были на ножах? Возможно, просто плохая организация съемок? Вовсе нет; просто для плана длиной в несколько секунд режиссеру понадобилось лицо человека озлобленного, на грани нервного срыва. И результат превзошел все ожидания: узнав, что план предстоит переснимать, потому что к объективу прилипла ниточка, разъяренный Ренато Сальватори кулаком пробивает стену и ломает запястье — зато сцена выходит великолепной!
„В другой раз, — рассказывает актер, — мы прекратили разговаривать с ним на целых два месяца. После сцены с Делоном пришел звукооператор и сообщил, что мы произносили реплики слишком тихо и голосов почти не слышно. Лукино решил, что дело во мне, и приказал говорить громче. На самом деле виноват был Ален. Но Висконти набросился на меня и стал орать: „Что ты мямлишь, откуда идет твой голос — из жопы, что ли?“ Когда он приходил в ярость, то без крепких словечек у него не обходилось. Я ответил ему в том же духе и покинул этот балаган. За два месяца мы не перекинулись и словом; это был настоящий кошмар. Я не мог снести несправедливых обвинений в свой адрес. Но все это не важно: имея дело с такими людьми, плюешь на их свинский характер — вот бы вернуть Лукино!“
Как и все съемки Висконти, работа над „Рокко“ ознаменовалась целым рядом конфликтов, и не только с актерами, но еще и с мэрией, не разрешившей снимать в некоторых местах города, и главное — там, где он планировал снять сцену убийства. Это был миланский парк Идроскало, где через несколько недель нашли труп убитой проститутки. Запрет был наложен из-за „аморальности и неуместности сцены, слишком отчетливо перекликающейся с действительностью“.
Этот инцидент пробудил в миланских газетах настоящую бурю писем от разгневанных амброзианцев, не желавших, чтобы их город поливали грязью — причем делал это не кто-нибудь, а урожденный миланец! Вполне показательно письмо, присланное в газету Il Giorno одним подписчиком: „Отчего это Лукино Висконти не пришло в голову снять фильм о своем родном городе, о его щедрости, горячем трудолюбии и искренности его жителей? Можно ведь подумать, что ему стыдно быть миланцем! Вот он и снимает кино о „страстях“ южноитальянцев, приезжающих в Милан в поисках работы и прокорма. Да будет известно господину Висконти, что ту „деревенщину“, что приезжает к нам действительно работать и хочет жить в мире со своими северными братьями, здесь и принимают, как братьев“…» От съемок в Идроскало пришлось отказаться. В конце концов крамольную сцену сняли на озере Фольяно, возле местечка Латина.
Это была лишь прелюдия к той бурной полемике, которую вызовет фильм, обвиненный в похабщине не только из-за того, что в нем открыто говорилось о гомосексуализме, но и из-за сцены изнасилования, которую сочли слишком реалистичной и грубой. В итоге цензоры приняли решение затемнить эту сцену, подобно тому, как в прежние времена фиговыми листками прикрывали прикрывали наготу статуй. Это было наименьшее из зол, замечает Ломбардо, который прибег к этой военной хитрости, чтобы весь эпизод попросту не вырезали: «На экране зрители видели все так, как это было снято, только чуть потемнее».
На Венецианском фестивале Висконти ожидает получить «Золотого льва», но приз достается Анри Кайатту за «Переход через Рейн». Вышедший на экраны с купюрами, а в некоторых регионах и вовсе запрещенный, «Рокко», несмотря ни на что, принесет кинематографисту Висконти его первый большой коммерческий успех. Впрочем, ярость цензоров его не слишком обескуражила: через два месяца он поставил в римском «Элизео» пьесу Джованни Тестори «Ариальда» — снова о тех же правонарушителях, иммигрантах, гомосексуалистах, чувствующих себя потерянными в бездушной атмосфере залитых неоновым туманом пригородов. Скандал, тлевший еще со времен «Рокко», разгорелся вновь: перенесенная на сцену миланского «Театро Нуово» пьеса Тестори, этого итальянского Жана Жене, вскоре была запрещена. 25 февраля 1961 года Corriere Lombardo публикует полное распоряжение о запрете, в нем перечисляются все болезненные, эротические, порнографические, аморальные ситуации этого произведения, в котором возобладали исключительно «патологические» темы «задов и пенисов». Пьеса осуждалась как «симптоматическое выражение гомосексуальности, которое в большей степени относится к области медицины, а не искусства».
Скоро этот скандал приобрел национальный размах, и в него был вынужден вмешаться Джулио Андреотти, выразивший публичное «сожаление, что тлетворное влияние одного спектакля распространилось на весь итальянский театр», и потребовавший принять меры, дабы «положить конец этой ситуации, уже напоминающей гротеск».
Не в первый и не в последний раз Висконти вызывает и провоцирует скандал. Но бороться в Италии ему уже неинтересно. На тот момент игра не стоит свеч. Он больше не поставит на родине ни одного спектакля вплоть до осени 1965 года, до «Вишневого сада».
24 октября 1961 года он публикует открытое письмо министру культуры, разоблачая кампанию травли, организованную против «Рокко и его братьев»:
Вы намекнули, что, будь это в вашей министерской власти, «Рокко и его братья» никогда не вышли бы на экран. Или фильм все-таки попал бы в кинотеатры после того, как его искалечат ножницы клерикалов, — уж не знаю, каким образом и в каком виде.
Вот это и укрепляет меня в глубоко укоренившемся убеждении, что теми малыми крохами свободы, которыми еще можно подпитываться в нашей стране, мы обязаны вовсе не политикам с вашим образом мыслей (с недоумением спрашиваешь себя, каким чудом эти господа попали на столь важные посты), а лишь бдительности, сопротивлению и оппозиционной борьбе, а также демократическому общественному мнению. Если бы в защиту «Рокко и его братьев» не выступили в свое время деятели итальянской культуры, а также левая пресса и левые организации, после ваших нынешних заявлений можно быть уверенным, что у фильма отняли бы его конституционное право быть представленным на суд самой широкой публики и картина не получила бы той поддержки зрителей, которую она получила. Замечу также, что картина принесла итальянскому кинематографу лучшую выручку за последние годы, и в этом отношении ее опережает только «Сладкая жизнь».
Я хочу публично напомнить вам эти факты, господин министр, ибо приведенные данные говорят о росте престижа итальянского кино, и этот престиж вы и ваши чиновники не упускаете возможности присвоить себе в ваших официальных докладах и заявлениях. <…>
Говоря лично обо мне, вы не удержались, господин министр, от самого ядовитого аргумента, сославшись на, ни много ни мало, нелицеприятное мнение высокого советского гостя во время его визита в Италию.
Разумеется, я не могу исключить того, что среди официальных представителей такой великой социалистической страны, как СССР, все еще бытуют устаревшие и достойные порицания представления об искусстве. Однако, если я правильно понял, господин, на которого вы ссылаетесь, сожалел о распространении порнографии, действительно воцарившейся на итальянских экранах при полном попустительстве цензурного комитета правительства христианских демократов. Спросите себя, господин министр, не имел ли в виду этот человек те фильмы, что сделали ваши товарищи по партии или такие деятели, которые никогда — ни в творчестве, ни в публичных речах — не восставали против клерикализации государства и которые прекрасно живут в нем, точно черви в яблоке?
В заключение этой ядовитой тирады Висконти вновь напоминает о потрясающем коммерческом успехе своего фильма не только в восточных странах, но и в Англии и Америке, в тех странах, где «пристрастность и критика рождаются из любви к истине, а не из-за страха перед дьяволом».
Глава 18 КНЯЗЬЯ
Дворяне живут в особом мире, который не был создан непосредственно Богом. Свой мир с его собственными заботами и радостями они за долгие века сотворили сами. Вот посудите — дворяне беспокоятся и радуются тому, на что мы с вами даже внимания бы не обратили — а для них это вопрос жизни… Например, князь Салина — уж как бы он переживал, если б ему пришлось отказаться от имения в Донна Фугата… А спросите его, что он думает о революции, так он вам скажет, что никакой революции и в помине не было и все будет, как прежде…
Падре Пирроне, «Леопард»Я не сицилиец и не князь. Я не жалею о старом мире, летящем в тартарары. Я хотел бы, чтобы мир быстрее менялся.
Лукино ВисконтиДо конца дней Висконти останется возмутителем спокойствия; его будут окружать скандалы, бури страстей, споры и судебные процессы. Он продолжает искать истину все последующие годы — начиная с «Ариальды» в 1960 году и до постановки «Это было вчера» Гарольда Пинтера, которую он осуществит в 1973 году, уже прикованный к инвалидному креслу. Он стремится сорвать все маски, обнажить все тела — святотатственно, грубо. В свои пятьдесят четыре он и не думает сдаваться. Ему бросают обвинения, его до сих пор цензурируют. И это хороший знак. В театре, как в жизни, его интересуют только крайности: правила — разрушить, сонных — растормошить. Он и не думает сдерживать свои страсти. Заточить Эрос в темницу, усыпить его хлороформом? Об этом не может быть и речи.
В 1960 году, когда на экраны выходит «Приключение» Антониони, они с Аленом Делоном идут в кино; Висконти выходит в недоумении, этот универсум навсегда останется для него чужим. Интеллектуальные загадки и пронзительный вопль о «невозможности коммуникации», холод чувств, заполонившие экраны и романы как в Италии, так и во Франции — неужели это и есть дух современности? «Нет ни старого, ни нового», — парирует Лукино. Драматург елизаветинского театра Джон Форд и «декадент» Оскар Уайльд звучали для него также современно, как и новейшие пьесы Гарольда Пинтера, Артура Миллера или Джованни Тестори. Его интересовал не кризис чувств, а сотрясаемые муками тела. Любовь, которую Висконти показывает на сцене, не может погибнуть в выбеленном свете антониониевского «Затмения», который так похож на отсвет ядерной катастрофы. Любовь по Висконти — это танец, конвульсия, исступление, при любых переменах света: будь то жестокое освещение в «Рокко», свет кровавых небес в «Ариальде» или бледное сияние луны, пробивающееся через вуаль тумана в «Саломее».
Любовь у Висконти никогда не бывает полуостывшей или болтливой. Красота всегда вторгается в его постановки с взрывной, разрушительной силой: достаточно вспомнить первое появление Тадзио в «Смерти в Венеции», первые выходы Конрада в «Семейном портрете в интерьере» и Анджелики в «Леопарде». Таким же оглушительным было и первое появление Саломеи в висконтиевской постановке одноименной оперы Штрауса, сделанной весной 1961 года. Вернувшись ненадолго на итальянскую сцену, режиссер сам нарисовал эскизы декораций и костюмов, почерпнув вдохновение в чувственных изображениях Саломеи Гюстава Моро. Медленно, церемонно поднимается занавес над дворцом тетрарха Ирода: мы видим здание, окруженное скалами, словно из восточной сказки, а великолепную мраморную лестницу дворца охраняет стражник. Луна излучает зеленоватый свет, рабы с обнаженными торсами несут факелы, в звучащей музыке слышны мотивы тревоги и коварства. Чернокожая Саломея (Маргарет Тайнс) появляется на верхних ступенях почти обнаженной, на ее плечи наброшено широкое черное манто с розовым подбоем. Знаменитый танец семи покрывал — на этот раз не стриптиз, а необузданный языческий ритуал, исполняя который, принцесса под безумным взором тетрарха снова облекается в покрывала, принесенные ей рабами. Луна с течением этого танца все ярче и ярче отливает багрянцем — такого же оттенка будет свет на сцене и в тот самый миг, когда Саломея поцелует оледеневшие губы Иоанна Крестителя.
Эротика у Висконти помещается на грани сакрального и профанного, находится между экстазом и опустошением, это и патетический всплеск жизни, и напоминание о том, что всюду подстерегает смерть. Но прежде всего Эрос у него жесток и смертельно опасен. Красота приводит к исступленному поклонению, но также и к актам надругательства и умерщвления. Это верно и в случае Саломеи, влюбленной девственницы. Действуя в согласии со словами Уайлда «каждый, кто на свете жил, любимых убивал»[44] — она требует голову человека, любви которого страстно желает. Ирод же, в свою очередь, велит предать смерти ту, что на миг пробудила его мертвеющие чувства. Но Висконти привлекали и другие произведения, рассказывавшие истории подобных жертвенных убийств — в том числе и «Билли Бадд» Мелвилла, где капитан Вир, словно библейский Саул, мечтает о юном Билли, Красавце Матросе, но все же отправляет его на виселицу.
Столь же показательно и отношение Висконти к красоте: близкие неоднократно отмечали, что стоило ему увидеть обольстительное создание, как он тут же таял. В то же время фотограф Хорст вспоминает, что на виа Салариа служил один ослепительно красивый лакей, облаченный в ливрею, но наголо обритый. «Так гораздо лучше — прежде он был чересчур красив», — объяснял Хорсту Висконти. Столь же показательно и его отношение к актерам, чей шарм особенно сильно на него воздействовал. Великий киноклассик Джозеф фон Штернберг сотворил из актрисы Марлен Дитрих «голубого ангела», «алую императрицу» — бесплотный, идеальный образ недостижимой красоты, но итальянский кинематографист не идет по тому же пути: он подвергает желанное тело грубому насилию, после которого оно предстанет оскверненным, поврежденным, подвергшимся наказанию — пусть даже и всего лишь на краткий миг.
Во времена «Рокко» в этих отношениях появляется садизм, который подпитывается энергией среды, немыслимой без грубого насилия. Даже Делон, участвуя в боксерских матчах, не может закончить их, не получив ни единой царапины. В «Леопарде» герой Делона носит следы ранения, полученного в битве, — от него он временно ослеп на один глаз. В «Постороннем» у красавцев-арабов с пляжа, ясноглазых и по-кошачьи грациозных, — распухшие, потрескавшиеся губы; эти детали, словно темные пятна на бархате плодов у Караваджо, напоминают о тленности. Герой Хельмута Бергера в «Семейном портрете», как и Рокко, избит до крови, а в «Людвиге» из безупречного красавца он постепенно превращается в одутловатого урода.
Самые близкие друзья режиссера, от Дзеффирелли до Хельмута Бергера, свидетельствуя о своих отношениях с Висконти, сходятся в одном: это было бесконечное противостояние, жестокая игра, приступы ревности и взаимное унижение, война нервов с очень короткими перемириями. И притягательны для Висконти были именно те, кто умел дать ему отпор, унизить и наказать его так, как сам он унижал и наказывал других.
Рассказывает Джованни Тестори: «Я познакомился с ним во времена „Рокко“ и несколько лет был его другом; я был так полон дружеских чувств, что наша размолвка заставила меня сильно страдать. Чудеснейшей была его способность извлекать все лучшее из актеров; чудеснейшей была и его манера принимать вас у себя: он вел себя так, точно к нему пожаловал сам король. Но он мог быть и безжалостным. Возможно, он тайно желал подавлять, а потом уничтожать…»
Висконти не мог созерцать удовольствие или даже красоту — как в «Смерти в Венеции» — без страдания и расплаты, без ритуальной казни. Если он когда-либо и создал мир легкий и мирный, это была всего лишь ностальгия по осенним краскам фантазийного XVIII века, навеки утраченного рая. Любовь для него, как для Оскара Уайлда и Пруста, всегда связана с виной; такой, как он, с его ясным умом и неукротимым стремлением к свободе, вынужден преодолевать препятствия и запреты, чтобы любить. И за это ужасное наслаждение, за этот экстаз ему всегда приходится платить — и деньгами, и страданиями.
Если он к кому-нибудь привязывается, то это всегда мужчины, которыми он не может обладать: Массимо Джиротти — женат, Ален Делон — обручен с Роми Шнайдер, Хельмут Бергер — легкомысленный, ветреный, капризный. Любовь, которую изображает Висконти, — всегда запретная любовь, и это в те времена, когда только и говорят, что о свободной любви. Скорее пуританин, чем гедонист, более римлянин и католик, чем язычник и грек, он все время возвращается к тому последнему табу, каковым является инцест, и раз за разом изображает его на сцене. Задолго до «Гибели богов», еще в 1961 году, он затрагивает эту тему в постановке пьесы «Жаль, что она шлюха», а в 1965 году он снова обращается к ней в фильме «Туманные звезды Большой Медведицы».
Парижская критика и публика прохладно приняли пьесу из елизаветинской эпохи «Жаль, что она шлюха», премьерная постановка которой состоялась 29 марта 1961 года в «Театр де Пари». Спектакль, полный жестокостей и ужаса, повествовал о любви, вспыхнувшей между Джованни и его сестрой Аннабеллой, в пышной и донельзя распутной Парме эпохи Возрождения. Французы упрекали Висконти в том, что историю инцеста он превратил в сказочку для маленьких детей — точно так же, как по другую сторону Альп его прежде клеймили за непристойность и насилие в «Рокко» и «Ариальде». Режиссер со своей безумной жаждой величия мог бы самовыразиться и подешевле, в один голос твердят хроникеры, которые, подсчитав все траты — и денег, и времени, не поверили своим глазам: в спектакле было занято шестьдесят актеров, шестьсот тысяч франков было уплачено за декорации, материалы, драгоценности, меха и километры тканей, а длилось представление целых три с половиной часа. Как расхваливали близкую французскому вкусу умеренность, мягкий и ненавязчивый эстетизм «Трактирщицы», так теперь возмущались безрассудными висконтиевскими роскошествами и тратами (те же обвинения позже предъявят и «Людвигу»).
Помимо того, что постановка пьесы «Жаль, что она шлюха» предоставляла случай раскрыть скандальную и будоражившую Висконти тему, она также позволяла вывести на театральные подмостки Алена Делона. После недолгих колебаний режиссер решил, что Аннабеллу лучше всех сыграет очаровательная двадцатитрехлетняя Роми Шнайдер, лишь недавно щеголявшая в ярко-розовых кринолиновых платьях в фильме «Сисси». Пресса расписывала идиллию жениха и невесты, которую не могло разрушить и сопротивление матери Роми, Магды Шнайдер, знаменитой звезды «Флирта» Макса Офюльса. Шнайдер и Делона называли «европейскими обрученными», на их стороне были грация, молодость, но ни тот, ни другая никогда не выступали на театральной сцене. Больше того, Роми даже не совершенно владела французским — а ведь ей предстояло играть с самыми яркими театральными звездами того времени: Валентиной Тессье, Даниэлем Сорано, Сильвией Монфор и Люсьеном Бару. «Мы были как два птенца, выпавшие из гнезда, — вспоминает Делон. — В первый рабочий день была читка на итальянский манер, мы сидели на сцене за большим столом на сорок пять персон. Там были все, кто только есть у французского театра, все его старожилы… На спектакль пришла даже Эльвира Попеско с тростью и сказала: „Н-ну, па-а-смотрим, все ли пройдет гладко“. В довершение всего, мы с Роми не могли поймать такси и опоздали. Это было ужасно!..
И вот читка все-таки закончилась — это был сущий ад! Все в этой пьесе нас страшно пугало, мы едва не запаниковали Однако Лукино — неподражаемый Лукино! — мало-помалу вселил в нас уверенность на репетициях…» Сначала Висконти, в виде исключения, долгими часами репетирует с Роми и Аленом отдельно от труппы, в их отеле. Конечно, театральные звезды — это «священные чудовища», объясняет он так мягко, как укротитель рассказывал бы о своих львах, но ведь они такие славные и обворожительные. И вот наступает день, когда он бросает Делона и Шнайдер в клетку ко львам.
Висконти рассказывает: «Сцену, в которой Джованни убивает сестру, я никогда не репетировал вместе с труппой. Всегда только отдельно, чтобы они не зажимались. Ведь никакого сценического опыта у них не было».
Наконец он объявил:
— Ну вот, сегодня вы играете сцену со смертью.
— Прямо на сцене?
Да, перед всеми.
И они сыграли так, что все актеры им аплодировали. С этого дня Делон и Шнайдер чувствовали себя прекрасно. И они были мне благодарны. Именно за то, что я полностью «сотворил» их — вдали от посторонних взглядов.
Висконти не упоминает о драме, которую переживала Роми. Да, у нее за плечами действительно была семейная традиция, ее предкам хорошо знакомы огни рампы. Но сможет ли она сыграть с тем же мастерством, что и ее мать? Будет ли ее игра достойна игры ее бабушки Розы Ретти, австрийской Сары Бернар, оспаривавшей благосклонность публики у не менее знаменитой Катарины Шратт, наперсницы императора Франца-Иосифа? На каждой репетиции она ловит на себе взгляд Висконти — и этот взгляд беспощаден. Сидя в полутьме зрительного зала, он лишь иногда роняет: «Неплохо, Ромина, продолжай в том же духе». И больше ни слова похвалы… Но вот как-то раз, измученная, перепутавшая текст, она чувствует, что не в силах будет исполнить песню, которую, по его приказу, нужно спеть по-итальянски, и, дрожа, обращается к нему, бормоча, что не может, не сегодня… Завтра…
Тогда он взрывается и кричит: «Делай, что хочешь! Сама знаешь, что будет, если ты сейчас уйдешь — можешь собирать манатки и убираться к своей мамочке!» И она все-таки спела — как позже заметит Висконти, это произошло потому, что у нее был настоящий дар.
Премьера пьесы была назначена на 9 марта. Шестого числа, придя от портнихи, Роми сваливается с ног — у нее острый приступ перитонита. Но она быстро идет на поправку, и уже 29 марта выходит на сцену, облаченная в шелка и парчу, и предстает перед самой злоязыкой и высокомерной публикой в мире…
Это те самые зрители, те самые критики, которые насмехались над Висконти, называя его «ученым, стильным, испорченным ребенком».
В 1966 году Висконти писал: «Мне плевать на оскорбления. Те актеры, что посообразительней, понимали, зачем мне так нужны были на сцене вещи подлинные, настоящие, драгоценные. Обо мне распространяют сплетни: я будто бы ненасытный режиссер, кошмар импресарио и театральных управляющих. О тщательности, с какой я готовлю постановку спектакля, ходит куча самых разных, но всегда лживых анекдотов. „Ну и полоумный этот Висконти, — говорили обо мне, — хочет настоящие драгоценности от Картье и чтобы на туалетном столике стояли флаконы французских духов, а на кроватях — простыни из фландрского льна…“
Я всегда считал, что театр — это прежде всего зрелище, то есть представление визуального действия. Сценографию надо судить только по тому, как она связана с текстом пьесы и с тем способом, которым эта пьеса играется. Если я ставлю „Смерть коммивояжера“ Миллера, понятно, что мне не потребуется никаких роскошных декораций. Но я-то взял драму XVII века, текст Джона Форда, мне совершенно необходимо держать в голове элементы театра Елизаветинской эпохи, а они предельно зрелищные… Правда заключается в том, что обвинения в мой адрес в расточительстве и гедонистском самолюбовании всегда исходили от тех, кто считал, что пообедать в вагоне-ресторане — уже роскошь».
Придирки парижской публики не заставят его отказаться от поистине бальзаковской веры во взаимовлияние обстановки и характеров. Одна из новелл киноальманаха «Боккаччо-70» — «Работа», которую он тем же летом снимает с Роми Шнайдер, рассказывает о миланских аристократах. Герои этого фильма, граф Оттавио и его жена-австриячка Пупе, буквально утопают в ослепительной роскоши.
Сюжет этой картины был предложен Сузо Чекки д’Амико и основан на рассказе Мопассана «На краю постели». Молодая женщина требует от мужа, чтобы он покупал ее ласки, таким образом она мстит ему за измены с девушками по вызову, которым он платит звонкой монетой. Как и в «Рокко», место действия фильма — Милан, однако на сей раз это среда аристократии и крупной буржуазии, которую Висконти хорошо знает и исследует с позиций стороннего наблюдателя и скептического моралиста. Австриячка Пупе и миланский граф Оттавио — это, разумеется, та пара, которую мог бы создать сам Висконти, останься он верным своему классу и происхождению. Это воображаемый портрет его брака с молодой Ирмой Виндиш-Грец, которую друзья называли Куколкой, Пупе — картина жизни, утопающей в праздности и в золоте. Богатая наследница, вероятно, провела бы всю свою жизнь на показах мод и спектаклях в «Ла Скала», и время от времени встречалась бы с Валли на ланчах (конечно, Валли здесь — это отзвук имени Валли Тосканини). Висконти рисует глянцевый, легкий и пустой мир, где утонченные эстеты читают «Ластики» Роб-Грийе и «Леопарда» князя Томмази ди Лампедузы.
Роми, которую для этого фильма одела и преобразила Коко Шанель, — уже не та молоденькая австриячка с чересчур пухлыми щечками, какой она была еще совсем недавно. Предложив ей новую роль, обнажив ее тело, Висконти подносит к лицу актрисы свое либертинское зеркало и показывает ей ее новый облик: теперь она — настоящая женщина, наконец-то обретшая уверенность в себе, элегантная и утонченная. В новеллах «Боккаччо-70», снятых другими режиссерами, главные роли исполняли звезды того времени — Анита Экберг, София Лорен. В эту компанию Висконти вводит свое новейшее открытие, свое последнее творение.
Когда съемки закончились, Лукино пригласил Роми на обед и, когда подали последнее блюдо, он надел ей на палец деревянное кольцо с инкрустацией из драгоценных камней, доставшееся ему от матери. С его стороны это был редчайший знак благоволения. Одним из тех, кто удостоился такой же огромной чести, был Антонио Пьерфедеричи: он вспоминает, как еще в сороковых, после совместной работы над «Ужасными родителями», Висконти попросил его выбрать из множества дорогих колец одно для себя. «Я так и знал! — воскликнул режиссер, когда Пьерфедеричи выбрал кольцо. — Другого ты выбрать не мог! Это кольцо мне досталось от матери».
В это время Висконти находится в поисках нового секс-символа — он думал, что уже обрел его в Роми Шнайдер, но подмечает мощный эротизм и у Анни Жирардо, и у Клаудии Кардинале. Он похищает у каждой из них ту природную скандальную силу, что сквозит в их движениях, взглядах, голосах: он осмеливается раздеть Роми, несмотря на цензуру, предписывающую не показывать всю грудь целиком. В 1965 году в спектакле «После падения» по пьесе Артура Миллера он заставляет Анни Жирардо исполнить такой стриптиз, который шокирует даже видавших виды парижан. Наконец, он заостряет в образе Клаудии Кардинале ту пылкую чувственность, тот хриплый голос и смех, что нарушают чопорный ритуал княжеского обеда в «Леопарде». Сама актриса говорит о своей героине Анджелике: «Когда она появляется на вилле семьи Салина в Донна Фугата, ее вид лишь подчеркивает, как она вульгарна и агрессивна. Платье слегка тесно, ничего элегантного, но ее взгляд и пленительное тело выражают ее намерения. Моя героиня как бы берет реванш со стороны людей от сохи». Клаудия Кардинале с ее земной, неугасающей, животной чувственностью удачно соединяла невинность с эротизмом.
Несмотря на весь свой пессимизм, «Леопард» от начала до конца живейшее изображение общества и его типов. Ни дидактизма, ни надуманности нет в этом фильме. По словам Висконти, «исторические и политические мотивы отнюдь не превалируют над другими — они так же существенны для героев, как текущая в их жилах кровь».
А герои этой картины поистине великолепны! Князь Фабрицио (Берт Ланкастер) видит, как рушится его мир, но предпочитает жалобам шутки и иронию, даже когда «куртуазно обращается» со смертью. Фабрицио таков потому, что, по словам Лампедузы, «аристократы стыдятся собственных бед». Во-вторых, это обожаемый племянник Фабрицио, Танкреди (Ален Делон), который, подобно Фабрицио дель Донго, уходит за холмы — туда, где по ночам горят костры гарибальдийцев. Это и священник-иезуит Пирроне (Ромоло Валли), бегающий по пятам за доном Фабрицио в тщетной надежде добиться его исповеди, и с трогательной важностью объясняющий крестьянам центральной Сицилии, чем аристократы всегда будут отличаться от прочих смертных. Мы встречаем здесь также дона Калоджеро Седара (Паоло Стоппа) — это разбогатевший мафиозо, гордый ветеран боев эпохи Рисорджименто, ради визита к князю Салине облачающийся во фрак, аплодирующий сперва Гарибальди, потом восшествию на престол Савойской династии, а после этого и казни гарибальдийских повстанцев. Здесь есть и Анджелика (Клаудиа Кардинале), теперь уже достаточно богатая, чтобы вернуть гербу Танкреди утраченный блеск. Всех этих героев несет двойной вихрь — вихрь бала и вихрь Истории, благодаря которым фильм становится не просто тщательной реконструкцией ушедшего мира мир этот и в самом деле воскресает на наших глазах.
В 1958 году Висконти очень увлечен только что опубликованным романом Лампедузы, и его интерес резко контрастирует с реакцией большинства коммунистов, не принявших книгу и даже резко выступивших против нее — им казалось, что на каждой странице разливается дух реакционной идеологии. Среди самых радикальных критиков был и Марио Аликата, ставший после партийного кризиса 1956 года еще придирчивее и ортодоксальнее: стоило лишь упомянуть «Леопарда» и князя Лампедузу, и он сразу вспыхивал. Да как они смеют защищать роман, в котором эпоха Рисорджименто сводится к «романтической, шумливой комедии с парой крохотных капелек крови на платье шута»! А что сказать о следующей из всего этого морали: «Нужно все изменить, чтобы все осталось, как прежде?»
Висконти же, в свою очередь, заявляет: «Роман Джузеппе Томази ди Лампедузы мне нравится безгранично. Я влюбился в поразительный характер князя Салины. Полемические отклики критиков на содержание романа взволновали меня до такой степени, что мне захотелось вмешаться и сказать свое слово. Быть может, по этой причине я и согласился ставить этот фильм». Это предложение ему сделал в 1961 году продюсер Гоффредо Ломбардо, до этого финансировавший «Рокко и его братьев».
Все наперебой твердили и повторяли, что Висконти и был тем самым Леопардом — по манерам, по изысканному умению жить, по чувствительности, по восторженному восприятию Рисорджименто. Он и мыслил, как Леопард, считая, что весь прогресс Италии после войны, после героической эпохи Сопротивления словно бы уперся в «свинцовую крышку трансформизма,[45] который и по сей день мешает нашему обществу измениться по-настоящему».
«Я присоединяюсь к точке зрения Лампедузы, — уточняет он, — вернее, к точке зрения его героя Фабрицио; я солидарен с ними не только в том, что касается исторических фактов и вытекавших из них психологических ситуаций, но и больше того — я согласен с теми местами, где краски произведения темнеют от пессимистического взгляда на происходящее. Пессимизм князя Салины заставляет его сожалеть о крахе того порядка, который хоть и был застойным, но все же оставался порядком». Однако, как и положено верному ученику Тольятти, он добавляет: «Наш пессимизм заряжает нашу целеустремленность — мы не можем предаваться тоске по феодализму и духу Бурбонов. Именно пессимизм приводит нас к тому, что необходимо установить новый порядок».
В фильме двуличие Танкреди, променявшего красную рубашку на униформу кавалериста савойских войск, явно произрастает из темы преданной, извращенной революции, и бал там есть именно то, что увидел в нем Тольятти. С одной стороны, это апофеоз старой аристократии перед неотвратимым закатом, триумф нового класса парвеню, яркий представитель которого — отец Анджелики. В то же время бал — это крах революционных надежд, о котором с бокалом шампанского в руке возвещает полковник Паллавичино, предлагая выпить за поражение Гарибальди в его походе на Рим 1862 года. Роман завершается мрачно-юмористическим образом выброшенного в окно чучела собаки Бендико, которое вдруг принимает фантастическую форму гербового леопарда, чтобы уже через секунду разбиться о землю и превратиться в «праха бледного горсть». Висконти и Сузо Чекки д’Амико все-таки предпочли объединить все события, случившиеся в итальянском обществе между 1860 и 1862 годом, в знаменитом финальном бале эта сцена в одно и то же время «беспощадно критична» и по-прустовски лирична.
В беседе со своим другом Антонелло Тромбадори Висконти замечает: «О „Леопарде“ говорили, что меня больше всего волновали в нем „воспоминания“ и тема предчувствия. Говорили, что мои темы — это мучительное бегство в прошлое и мрачные, неясные предвестья некой катастрофы, и что потому-то я и выбрал прочтение романа, которое ближе к Прусту, а не к Верге…» Однако, по его словам, он всего лишь продолжал свои поиски, начатые в картине «Земля дрожит», снятой под влиянием «Семьи Малаволья» Верги, и продолженные в «Рокко и его братьях». При этом всякий раз он отзывался на «насущную необходимость проследить исторические, экономические и социальные основания» южноитальянской трагедии.
Но в этих работах сыграла роль также и «любовь-ненависть к миру, во всей своей блистательной роскоши обреченному на гибель». Этот мир был также и миром Пруста, и это прустианское начало осеняет всю сцену бала своими отсветами и тенями. Великолепное смешение двух реальностей явлено в финале: на рассвете князь Фабрицио обращает взор к звезде Венере и мечтает о том, как однажды она назначит ему «свидание вдали от всего, в своей обители вечного покоя», а в это время откуда-то из-за города доносятся сухие хлопки выстрелов — только что расстреляли последних сторонников Гарибальди. Фабрицио, Танкреди и Анджелика возвращаются из дворца Понтелеоне в коляске, и звук этих ружейных выстрелов будит едущего с ними и задремавшего дона Калоджеро. «Прекрасная армия, — говорит он в это мгновение, — она все делает правильно. Вот что нам было так нужно. Теперь можно ни за что не беспокоиться». И, зевнув, снова засыпает.
К власти приходит новый класс, феодальный орден «гиен и шакалов», и эти новые феодалы — более хищные, чем «леопарды». Триумф этого нового ордена — соединение аристократа Танкреди с дочерью землевладельца Анджеликой. Зрители картины, в отличие от читателей книги, могли яснее увидеть, на каких эмоциональных и чувственных основаниях покоился их союз, но смысл брака остался прежним: это был договор, сделка двух классов, закреплявшая тот факт, что дворянское сословие открыто для чужеродных элементов. В конце концов, этот брак очень напоминает другой — тот, что заключили когда-то донна Карла с графом Джузеппе Висконти ди Модроне.
Когда окончится этот новый передел власти, ничто не изменится ни для Сицилии, ни для маленькой деревушки Донна Фугата с ее, как выразился Висконти, «темными и забитыми крестьянами, почти обезличенными и, несмотря на это, не дающими о себе забыть». Пьемонтцы, итальянцы с севера — вот кто только что заменил бывших многовековых колонизаторов порабощенной Сицилии. «Если мы хотим, чтобы все оставалось как прежде, нужно, чтобы все изменилось», — говорит Танкреди, и его циничное прозрение сбывается: теперь дон Калоджеро может спать спокойно.
В шестидесятые, когда формируется левоцентристское правительство и ослабевает реакционное давление церкви, Висконти высказывает свое разочарование не только по поводу «Леопарда» — он также озабочен застоем социальных отношений в современной Италии, где, «несмотря на частично проведенную модернизацию, все остается по-прежнему». Страна «страдает от исторического проклятия итальянцев, называемого трансформизмом: после всех великих потрясений века оно успешно поглотило и извратило стремление народных масс к свободе».
Близкий к Лампедузе по критическому настрою, Висконти не похож на него в двух аспектах. В устах нашего миланца невозможно представить реплику, которой романист определяет вместе с аристократизмом и свое «сицилианство»: «Единственный грех, которого мы, сицилийцы, не прощаем себе — это попросту действовать». Высадка войск Гарибальди, схватки в Палермо и на холмах, лежащих за равниной Конка д’Оро показаны глазами Фабрицио — но он видит лишь несколько далеких огоньков бивуачных костров, слышит «блеяние баранов из бурбонской охранки, с которыми расправляются на улицах», да еще на галстуке Танкреди остается несколько капель крови. В то же время Висконти хранит верность стендалевскому методу, в его душе жив пыл эпохи Рисорджименто — он ведь и сам бывший партизан. И потому-то он показывает и уличные бои, и руины, и развернутые знамена, мгновенные расправы, разгневанных женщин, нападающих на мэра Палермо, ребенка, блуждающего в поисках погибшей матери, и другие сцены, подобные этим.
Два темперамента, две художественные формы противостоят здесь друг другу: князь Томази прежде всего был уединившимся мечтателем — это касалось и его политических убеждений, и личных. Кроме того, писатели почти неизбежно становятся одиночками. Кинематограф же, напротив, подчеркивает противоречия, придает предметам и героям физическую, подлинную реальность, не позволяет растворить все в тонах безнадежного угасания, потускневшего золота прошедших времен. Сцена бала у Лампедузы дана как воспоминание, она вся «цвета сожженного и бесполезного жнивья». В фильме этот же эпизод — сама стремительность, музыкальность, яркий блеск, торжествующий смех Анджелики: это огонь, который горит, а в книге — погасшие угли и пепел.
Для съемок был вновь открыт старый дворец Ганджи в Палермо. Для знаменитых сцен бала в гостиных дворца собрались не только актеры, но и весь цвет местной аристократии — в их числе был и приемный сын князя Томази, Джоаккино Ланца. Здесь же были двадцать электриков, сто двадцать швей и еще сто пятьдесят человек, в том числе ассистенты по декорациям, парикмахеры и гримеры, — все они разместились на первом этаже патрицианского дома. Стояло жаркое лето, и по этой причине во дворце были установлены кондиционеры — однако даже эта мера не позволяла начинать съемки прежде, чем зайдет солнце. На целых сорок восемь дней описанный Лампедузой дворец Понтелеоне с семи вечера и до зари наполняется шумом и музыкой, под которую будет танцевать высший свет — старый и новый, князь Салина и Золушка Анджелика Седара.
Гримеры приступали к работе после полудня. Один из них вспоминает: «Помню, что я начинал в 13.30 и заканчивал в шесть утра. Рабочий день был ненормированным. Потом у всех был гастрит — ведь все мы питались бутербродами, курили и поглощали одну чашку кофе за другой. Прежде чем начать съемку, Висконти устраивал настоящий смотр статистам: а ведь их было не меньше сотни!»
«Павильон ошеломлял одним своим видом, — говорит Клаудиа Кардинале. — Лукино был безумно терпелив, от него ничто не укрывалось. Нужно было внимательно следить за тем, чтобы ни одна мелкая деталь не оказалась ненастоящей, несовершенной. Я была одета просто сказочно, но корсет тоже был настоящим и таким жестким, что мне было тяжело даже дышать в нем. Настоящими были соли и духи, которые я носила в сумочке — словом, абсолютно все… Он почти маниакально обследовал каждую мелочь. Сам присутствовал на примерках, на гриме, скрупулезность его была необычайной…
После этого фильма моя парикмахерша впала в депрессию — моя прическа была такой сложной, что ее каждый раз приходилось делать заново, так что каждая укладка волос занимала больше двух часов. Эти съемки были изнурительны для всех. Представители сицилийской знати, которых Висконти привлек, чтобы они сыграли самих себя, валились с ног. У меня между гримированием и причесыванием было еще четыре часа репетиций, но я была здорова, как лошадь, мне все было нипочем. В перерывах я замечала, что люди вокруг чуть не падали от усталости, а я ни на мгновение даже не распускала корсета, чтобы не расслабляться. За всю ночь я ни разу не присела, ибо этого не позволяли кости корсета: Лукино приказал сколотить для меня что-то вроде специального стула, на который я могла облокачиваться, чтобы дать отдых ногам».
Все легенды о сцене бала в «Леопарде» правдивы: здесь были и охапки свежих цветов, которые ежедневно присылали из Сан-Ремо, и настоящие свечи в люстре, которые каждый час надо было менять, и кухни, оборудованные совсем рядом с бальной залой, чтобы жаркое и другие блюда подавали гостям дымящимися. На первом этаже работала прачечная, в которой стирали белые перчатки мужчин, за несколько часов покрывавшиеся пятнами от пота. Учителя танцев были на подхвате и давали уроки вальса, мазурки и галопа.
Старейшие аристократические семьи Палермо предоставили для съемок свою золотую и серебряную посуду. Однажды костюмер Вера Марцот за полчаса «создала» десять ребятишек, чтобы заполнить пустое место в конце крохотной площади Донна Фугата.
Статисты для сцен уличных боев тщательно отбирались по национальному типу каждого региона: гарибальдийцы — уроженцы Пьемонта, Лигурии, Венето и Ломбардии, они должны быть высокие и белокурые; солдаты Бурбонов — небольшого роста, и глаза, усы и волосы у них иссиня-черные. Светловолосых Висконти привозил из Рима, а темноволосых нанимал на Сицилии. Все они прошли начальную военную подготовку. Под руководством итальянских полковников они учились маршировать и держать ружье, а играющие защитников Бурбонов тренировались еще и держаться в седле очень прямо, как было принято в XIX веке.
Граф Висконти на этих съемках более, чем когда-либо, напоминает князя эпохи Возрождения: он желает все делать напоказ и излучает властность. «В павильоне он был абсолютным властителем, — рассказывает Клаудиа Кардинале, — это был последний князь кинематографа. На съемочную площадку трудно было попасть даже продюсеру. Висконти был настоящим богом на этой территории. Войти туда, где он снимал, было как войти в храм — там стояла удивительная тишина».
Окончены последние репетиции, актеры ушли готовиться, техники расставили камеры и проверили декорации. Можно начинать снимать. Актерам, Делону и Кардинале, непросто — им приходится объясняться на трех языках: между собой — по-французски, с Бертом Ланкастером — по-английски, а с остальными — по-итальянски. Висконти великосветски любезен с той, кого он ласково зовет Клодиной — на французский манер, но с Делоном ведет себя иначе — это любовь, которая переходит в конфликт и в бурю. «По отношению ко мне он вел себя скверно, — позже объяснит режиссер. — Ему нужно было репетировать, а он взял и просто куда-то исчез…»
Берт Ланкастер в те годы был кинозвездой, достигшей вершин славы. Висконти принял его недоверчиво и тут же погрузил в царство страха. Лукино не только превратил этого янки в изысканного и породистого Леопарда, но и подчинил себе до такой степени, что сотворил из него свое второе «я», свою восторженную тень. «Первая встреча с Бертом, — вспоминает Клаудиа Кардинале, — получилась бурной. Мы с балетмейстером репетировали сцену танца, в которой Лукино требовал от нас совершенства. Берт только-только пришел на площадку, это был его самый первый эпизод. У него сильно разболелось колено, и все шло из рук вон плохо. Лукино заметил это и принялся кричать, заявил, что ему плевать и на все эти звездные „штучки“, и на его вывих, который тот заработал только потому, что в таком возрасте самонадеянно изображал из себя молодого атлета. Потом Висконти повернулся к нему спиной с поистине королевским презрением, взял меня за руку и увел в другой конец зала, не обронив ни слова.
Во дворце, где шла съемка, для Висконти была оборудована большая квартира — роскошная, для него одного, в которой были его собственные слуги; он молча повел меня туда и запер за нами дверь… Пробыли мы там около часа, пили шампанское, болтали, но о произошедшей только что сцене не говорили вовсе. Потом я все поняла: Берт Ланкастер был звездой, явившейся из Голливуда, и Лукино, думаю, хотел показать ему, кто хозяин на съемочной площадке. Да и потом, физических страданий Лукино просто не принимал в расчет, если уж начали снимать, так извольте обо всем этом забыть. Наконец пришел ассистент и сказал, что Берт хочет с ним поговорить. Лукино, появившись в зале, бросил: „Сначала подготовьтесь, вот тогда и начнем…“, и ушел. Это было жестоко по отношению к Берту, ведь Лукино кричал на него при всех, на глазах у сотен людей. Вскоре мы опять вернулись к сцене танца, и этот день стал началом большой дружбы между Висконти и Ланкастером».
Смог бы Марлон Брандо, которого режиссер сначала выбрал для воплощения обворожительного образа князя Салины, быть таким же податливым и уступчивым, так же повиноваться, так же терпеливо сносить придирки и унижение? Ланкастер не только без сопротивления отдал себя в руки режиссеру, «равного которому не встречал в Голливуде» (это говорит человек, работавший с Джоном Стерджесом, Робертом Олдричем и Джоном Хьюстоном). Кроме того, Ланкастер погрузился в чтение, одолев все, что было написано о той эпохе и о той среде, какую ему предстояло изображать, при том, что в прошлом он был необразованным цирковым акробатом и ковбоем. Висконти скажет: «Это был медленный и сложный рост, но он пошел фильму на пользу». Пошел он на пользу и актеру, который перенес в собственный быт повадки сицилийского аристократа. Подводя Ланкастера к сущности его героя, Висконти в конце концов привел его к тому, что актер сам обнаружил в себе новую сущность.
Образ Танкреди, по-видимому, не стал такой же значительной вехой для Алена Делона ведь для него бунт был уже не в диковинку. В 1961 году Висконти впал в бешеную ярость от того, что актер попросил сократить число представлений пьесы «Жаль, что она шлюха» он, видите ли, захотел сняться в «Лоуренсе Аравийском». Висконти проклинал его на чем свет стоит, и Делону пришлось отказаться от роли в кино. По замечанию Адрианы Асти, Висконти «изменил Делона как актера, но не как человека».
«Образ Анджелики наложил отпечаток на всю мою жизнь», — признается Клаудиа Кардинале. «Висконти, — добавляет она, — научил меня быть красивой… У меня был рассеянный, быстрый взгляд; он потребовал смотреть на вещи ясно и прямо, научил подолгу задерживать взгляд. Он всегда говорил, что надо держать подбородок тверже, чтобы подчеркнуть сияние моих глаз… Он вылепил мой взгляд».
Фильм, триумфально прошедший в Италии и Европе, в Соединенных Штатах терпит фиаско. К гигантским затратам на «Леопарда» добавился еще и громкий коммерческий провал «Содома и Гоморры» — эта постановка привела продюсерскую фирму Гоффредо Ломбарди к финансовому краху, долг составил пять миллиардов лир. Съемки длились семь месяцев. Тогда же Висконти завершает приготовления к новой театральной работе, «историко-пасторальной комедии» в трех актах и четырех картинах, либретто которой он написал в соавторстве с Филиппо Санжюстом и Энрико Медиоли на музыку Франко Маннино: спектакль «Дьявол в саду» предстоит сыграть в палермском театре ди Массимо всего пять месяцев спустя после окончательной правки сценария «Леопарда». «Он был очень энергичен, даже немного чересчур», — скажет Сузо Чекки д’Амико. Уберта вспоминает о его физическом здоровье, феноменальной работоспособности: «В рабочие периоды он пил кофе чашку за чашкой и варил его сам с невероятной тщательностью; кофе, который готовил Лукино, был такой крепкий, что, когда Франко Маннино в первый раз попробовал его, он не спал потом целую неделю. И еще сигареты, он выкуривал штук 80 в день. А если, к несчастью, ему случалось простудиться, он опорожнял целую бутылку сиропа от кашля. Он не был человеком полумер; например, обожал копаться в саду, и на Искье мы все посадили сами. Как я ни умоляла его не делать этого, он сам брался подстригать розовые кусты и отрезал там все, что только можно. Удобрений он тоже не жалел, вываливал их столько, что потом ничего не вырастало». Он никогда не щадил себя, никогда не ленился; он был настоящим транжирой, мотом абсолютно во всем.
Прогуливаясь с друзьями по улочкам Искьи, он вечно останавливался, чтобы что-то купить: то книгу, то украшение. Сузо Чекки вспоминает, что он выписывал у знаменитого миланского поставщика полные комплекты носков, свитеров, рубашек; распечатывая их, созывал друзей и говорил: выбирайте, кому что нравится. Он всем дарил чемоданы, сумки, всю мыслимую кожгалантерею от торгового дома «Луи Вюиттон». Висконти полюбил этот магазин в тридцатые годы в Париже и поспособствовал его славе — все его друзья носили вещи с инициалами LV, а ведь это была и его собственная монограмма. Премьера каждой постановки и завершение любых съемок становились у Лукино поводом для того, чтобы одарить любимых актеров: среди этих подарков были драгоценности, старинные безделушки, редкости, с любовью отысканные в антикварных лавках. Среди множества других подарков была и табакерка XVIII века из золота, слоновой кости и черепахового панциря, на крышке которой был изображен Амур, пускающий стрелу. Эту вещицу Лукино подарил Антонио Пьерфедеричи в память о том, что в висконтиевской «Свадьбе Фигаро» Антонио исполнил роль Керубино и появлялся на сцене в белом шелковом камзоле.
На Рождество Висконти превосходил самого себя. Едва только улицы Рима оглашали первые звуки волынки, возвещавшие, что пастухи из Абруццо спускаются с гор и Рождество уже совсем близко, Висконти начинал искать подарок, который удивил бы каждого из друзей, и перерывал все модные магазины, все антикварные, ювелирные лавки в центре Рима. «Конечно, мы уже забыли об этом, — говорит Тонино Черви, — но он был человеком неиссякаемой щедрости».
Празднество, которое он устраивал в рождественский вечер у себя, было в своем роде театральным шедевром — елку украшал он сам, здесь были и музыканты, и игры, и подарки. Клаудиа Кардинале рассказывает: «Когда я закончила сниматься в „Леопарде“, мы поужинали вместе в рождественский вечер, а на Новый год он подарил мне расшитую золотом индийскую шаль; эта шаль лежала раскинутая на столе, а в ней была бальная записная книжка от Картье, старинная, просто чудо. Он всегда оказывал такие знаки внимания. И когда я снялась в крохотной роли в „Семейном портрете“, он преподнес мне золотой кошелек „Булгари“.» И она добавляет: «Он был одним из последних князей. Настоящий Леопард».
Он вел себя по-княжески во всем — и в жизни, и в своих произведениях. Он был элегантен, любил игры и праздники, оставался по-великосветски учтив, ценил все, что делает жизнь добрее и красивее. Его дух был духом иного века — живого, иронического, светлого и веселого XVIII столетия, которое он сам воссоздал как минимум в двух своих спектаклях: «Дьявол в саду» и «Свадьба Фигаро».
Первый из этих спектаклей — старинная история об ожерелье королевы. Франко Маннино сочинил для Висконти сложную и блестящую музыку, где рассыпались серебром отзвуки мелодий Моцарта, Верди, Пуччини и Оффенбаха. Маннино, аристократ родом из Палермо, работал в тесном сотрудничестве с шурином, который 6 июня 1962 года, еще всецело погруженный в съемки «Леопарда», предложил ему кое-что исправить в музыке «Дьявола». Висконти писал Маннино: «Не то чтобы я считал себя великим музыкальным критиком — боже упаси. Однако, будучи по природе своей перфекционистом, я думаю, что над партитурой, равно как и над фотографиями, или над полотном, полагается потрудиться и как следует попотеть». Для Висконти усовершенствовать — означает «сто раз поверить дело ремеслом», в этом конкретном случае он просил удостовериться, что песенка «В лунном свете» (Аи clair de la lune) может быть использована в постановке с исторической точки зрения. Он также просил убрать из либретто и партитуры все, что может затруднить движение сюжета, и без того уже изрядно запутанного.
Княжеское достоинство он проявлял и в своей требовательности, и в знании драматического искусства. В новом театре Сполето он воспользовался необычно узким сценическим пространством, чтобы создать спертую, удушливую атмосферу для новой версии «Травиаты». Эта постановка была более буржуазной и строгой и не строилась исключительно вокруг Виолетты, как прежняя, сделанная в золотые годы работы с Каллас. На этот раз декорации уже не были пышным и витиеватым фоном для дивы — теперь в красках на сцене доминировал тускло-золотой цвет, от чего Виолетта казалась птицей, заточенной в клетке. Во втором акте Висконти даже отказался от сада и усилил интимную интонацию, тон «сердечной исповеди», перенеся действие внутрь дома. У него был замысел в первом действии поместить на сцене шарманку, которая играла бы музыку бала. Единственное, что осталось неизменным с постановки 1955 года — Виолетта умирала все в той же странной маленькой шляпке на голове; но при этом Франка Фабри умирала сидя, не так благородно, как Каллас или донна Карла — только они могли умереть стоя.
Висконти оставался верен музыке, которую любил. В «Леопарде» — в соответствии с романом Лампедузы — звучит все та же «Травиата». Местный духовой оркестр, давая сигнал сбора в Донна Фугата князю и его семье, играет «Noi siamo le zingarelle»; в другом эпизоде органист (Серж Реджани) наигрывает аккорды из «Ата mi Alfredo», и в церковных креслах рассаживаются члены семьи Салина, словно бы осыпанные прахом времен и такие мертвенно-бледные, что кажутся набальзамированными мумиями из палермских катакомб Капуцинов.
По меткому замечанию Тольятти, Висконти был человеком лейтмотива — он все время возвращался к одним и тем же темам, к одним и тем же произведениям, а если сказать еще короче, он был верен себе. Как знать, не была ли эта шарманка из «Травиаты» 1963 года настойчивым эхом тех далеких дней, когда малыш Лукино, как и Альберто Савинио, мог услышать на миланских улицах «скрипучий голос» шарманки — ее тянет за собой мул, звуки разносятся по «улице, зажатой меж длинных рядов промышленных построек», и на площади Карло Эрба звучат арии «нищей, жалкой и плебейской „Травиаты“». Савинио писал: «Чтобы лучше понять мелодии из „Травиаты“, чтобы почувствовать хрупкость жизни ночной бабочки, для которой нет завтрашнего дня, не надо смотреть „Травиату“ в театре — послушайте лучше шарманку. „Травиата“ обращена скорее к прошлому, чем к настоящему, а шарманка возвращает эту песнь городской печали в ее естественную среду…»
Разрастание декоративных, чрезмерных украшений, неудержимость вездесущих завитков и арабесок в стиле ар-нуво еще не заразили висконтиевский театр — это случится через три года, в его третьей, и последней, лондонской версии «Травиаты». Ставя весной 1964 года «Свадьбу Фигаро» в Риме, он открещивается от того, что сам называет «вычурностями барокко, венскими изысками XVIII века, аффектацией придворного театра, маньеризмами Венского двора». Его новое сотрудничество с дирижером Карло Джулини воспринимают как возврат к неореализму, как новую присягу на верность компартии: в этой постановке режиссер настойчиво акцентирует дворянскую спесь графа Альмавивы, испанского гранда, и фактурность Фигаро — человека из народа.
Но, к изумлению зрителей, весь последний акт был погружен в фантастическую атмосферу: под покровом звездной ночи спит сад, но это сад волшебный, колдовской, похожий на парк монстров Бомарцо или знаменитую сицилийскую Виллу чудовищ Палагония. Герои пьесы преследуют друг друга среди каменных чудищ с разинутыми пастями, вставших на дыбы химер и грозных циклопов. Во тьме этой гойевской ночи, когда «сон разума порождает чудовищ», социальные иерархии стираются, и герои меняются масками в вихре торжественного и пророческого карнавала.
Той же осенью Висконти предпринимает две постановки «Трубадура», представленных с разницей в два месяца: первая — в московском Большом театре, вторая — в Ковент-Гарден. В этих спектаклях становится еще заметнее, что тени в его творчестве сгущаются. Сценографии становятся все более стилизованными, они играют главным образом с эффектами ночи, построены на гамме черного, серого и белого, и эти цвета иногда озаряет пламя горящих костров.
Висконти — человек ночи. Именно ночь заполняет экран в черно-белом фильме, который он снимает летом 1964 года в унылом и богом забытом этрусском городке Вольтерра — этот город, протягивающий к луне свои башни, монастыри, свои серые камни, становится местом встречи призраков. «Туманные звезды Большой Медведицы» наконец-то принесут режиссеру высшую награду Венецианского фестиваля — «Золотого льва», который уже столько раз ускользал из его рук.
И все-таки звезда Висконти начинает клониться к закату. За оглушительным триумфом «Леопарда» следуют пять мучительных лет, которые открывают новую главу в его жизни и творчестве. Его больше не донимают критические стрелы соперников, которых он дразнил с таким горделивым высокомерием: в эти годы контестации его больше ругают за академизм, педантичность, мистификаторство, разумеется, за декадентство и даже за старческий взгляд на вещи. Критики нового поколения пишут: картина «Туманные звезды Большой Медведицы» хороша уже тем, она показывает режиссера таким, какой он есть. «Мы воспринимали Висконти, — писал один из них, — как человека с притязаниями на великое декадентство. Затем мы заметили, что его декадентство — это не результат кризиса и разрушения, а то, что заставляет его потакать своим слабостям (совершенно в духе д’Аннунцио), стремиться к роскоши как к самоцели, ко всем ее складкам и вуалям, к тщательно воссоздаваемой атмосфере…»
Выбирая для съемок Вольтерру, точнее — тот самый дворец Ингирами, где разворачивалось действие романа «Быть может — да, быть может — нет» (1910), Висконти не скрывает того, что источником вдохновения для него послужил именно д’Аннунцио. Он изображает кровосмешение и страсти, доходящие до пароксизма. Над этой историей убийства, сумасшествия и семейной мести словно бы витает роковая тень даннунцианского «города среди ветров и камней, подвешенного над бездной и зажатого между стенами цитадели, отягощенными виной, и исполненными безумия домами Сан-Джироламо». Висконти не скрывает и своего влечения к этой «земле, лишенной нежности, этому уголку бесплодия и жажды, этой злой песчаной равнине, этой пустыне из пепла».
Что он увидел в этом зловещем зеркале? Смерть, к которой куртуазно обращался князь Салина, созерцая картину Греза? Образ собственного бесплодия, собственной обреченности? Или все-таки возможность снова бросить миру вызов?
Глава 19 БУЛЬВАР ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Друзья, ну вот он, дом. Кому ж из нас Судьба сей узел каменный распутать?
Альберто СавиниоТеатр не должен лишать себя ни одного из чародейств, свойственных театру.
Жан-Поль СартрВисконти отдавал себе отчет, что «Леопард» был его вершиной. Но тайный демон подстрекает его заключать все новые пари с самим собой, бросать публике новые вызовы. Лукино был азартен. Все, что уже достигнуто, завоевано, он желал снова поставить на кон, рискуя все потерять. Остановиться для него — то же, что умереть. Название его нового пари — «Туманные звезды Большой Медведицы», и этот фильм — полная противоположность «Леопарду». Фильм интимистский, «в духе каммершпиля Майера и Лупу Пика». Черно-белый, всего несколько персонажей, лихо закрученная интрига, «стремительный и яркий драматизм». Поговаривают, что ему никогда не снять кино, как все, и притом уложиться в нормальные сроки. Ну что ж, он им еще покажет. Съемки, начавшиеся 26 августа 1964 года, завершаются уже 18 октября. Ни разу кинорежиссер не потребовал просмотреть рабочий материал, ни на миг не усомнился ни в чем, как будто фильм до мельчайших деталей уже сложился в его мозгу.
Его прозвали «граф Rovinapopolo» — граф Наро-Да-Разоритель. Даже Дино де Лаурентис в конце концов отказывается финансировать фильм «Библия» — хотя изначально планировалась целая кинотрилогия, в которой Орсон Уэллс, Робер Брессон и Висконти должны были снять по одной части. Лукино собирался ставить свой сегмент по «Иосифу и его братьям» Томаса Манна. По сравнению с тем количеством настоящих золота и лазурита, какое ему понадобилось для дворца фараона, «Клеопатра» Джозефа Манкевича может показаться заурядной гаражной распродажей.
Напротив, «Туманные звезды Большой Медведицы» он хотел снять так дешево, насколько это возможно. Это значит, что он должен был вернуться к продюсеру малобюджетных проектов Франко Кристальди, с которым Лукино уже работал над фильмом «Белые ночи». Кристальди поначалу решил, что грезит наяву, когда перед ним вырос сам создатель «Леопарда», которого жаждали заполучить крупнейшие продюсерские фирмы всего мира, и с самым естественным видом спросил: «Когда же мы вместе сделаем еще один фильм?»
У Висконти в этой игре был туз в рукаве. Жена Кристальди, Клаудиа Кардинале, в полном блеске своих двадцати пяти лет, черные как смоль волосы, смех, от которого мужчины сходят с ума, непокорно вскинутые брови и упрямство во взгляде — это упрямство Лукино велел ей ни в коем случае не терять на съемках «Леопарда». Теперь он должен был найти для нее роль, которая подходила бы именно ей, с ее «слегка земной, почти животной красотой» и той пугливой чувственностью, что сквозит во всех ее движениях, ее жизненной силой, ее животным магнетизмом. «Остерегайтесь Клодины, — говорил Висконти на съемках „Леопарда“, — она выглядит как кошка, которая ждет, когда ее погладят, но берегитесь — эта кошка скоро превратится в тигрицу».
В Кастильончелло он обсуждает с Сузо Чекки д’Амико и Энрико Медиоли, какую роль ей доверить, чтобы раскрыть всю силу и великолепие актрисы. «Мы целыми днями перебирали героинь для Кардинале, — рассказывает сценаристка. — Затем кто-то упомянул Электру, и мы сразу на этом остановились. Мы уже не думали о Кардинале иначе, как о символе дочерней кротости, о воплощении порядка и закона, которые требовали убийства столь же жестокого, как то, за которое она мстила».
Кардинале должна была стать не слабой, а жестокой, непримиримой Электрой, неукротимой в своем стремлении к истине и в жажде справедливости, с «комплексом превосходства еврейского народа». «Нам казалось совершенно естественным, — продолжает Сузо Чекки, — что эта Электра была еврейкой и что Агамемнон умер в концлагере».
Почему возникла эта тема? Прежде всего потому, что в это же время Висконти готовился к постановке спектакля по пьесе Артура Миллера «После падения». Над историей, которую рассказывает эта пьеса, витает тень Освенцима, и холокост здесь становится источником чувства вины и терзаний для совести Европы и Америки, для Старого и Нового Света. Во-вторых, именно этот подход позволяет связать Электру из далекой древности с памятью современной аудитории. «Быть может, — замечает Висконти, — зрители времен Софокла и расходились после представления в убеждении, что настоящий виновник всего не Эдип, а судьба; однако современный зритель не удовольствуется таким объяснением. Он может оправдать Эдипа лишь настолько, насколько сам будет эмоционально вовлечен — как если бы он состязался с ним в греховности…» В это состязание в греховности зритель должен был вступить и с Электрой, чем-то напоминавшей Эдипа, — она и вершительница правосудия, и в то же время убийца, одновременно виновница и жертва.
Поначалу в фильме все понятно: после долгого отсутствия Сандра возвращается в Вольтерру, в тот дом, где задолго до того пережила разрыв своих родителей. Именно отсюда в концентрационный лагерь был отправлен ее отец-еврей — вероятно, по доносу ее матери, новой Клитемнестры, и ее любовника и сообщника Джилардини, адвоката по профессии и нового Эгисфа.
Висконти уточняет: «В „Туманных звездах“ не говорится, кто истинные виновники и кто истинные жертвы. В этом смысле моя собственная ссылка на „Орестею“ — не более чем удобное указание. У Сандры та же мотивация, что и у Электры. Джилардини походит на Эгисфа тем, что не является членом семейного круга, но все эти аналогии довольно грубы. У Сандры облик вершительницы правосудия, у Джилардини — обвиняемого, но на самом деле их можно поменять местами. Что действительно объединяет всех персонажей, за исключением Эндрю, мужа Сандры, так это их двуликость».
Настаивая на этой двуликости, Висконти исходит из того же, что и автор «Затворников Альтоны» Жан-Поль Сартр. Важно сыграть и это же он сделает в постановке «После падения» — на смутном ощущении коллективной ответственности, вовлечь зрителя в суд над персонажами, и вовлечь его туда и как судью, и как обвиняемого, не дать публике примириться с этими, по выражению Сартра, «неясностями, неразрешимыми вопросами». Висконти говорит:
<В «Звездах»> самый близкий зрительскому сознанию персонаж — это Эндрю. Он хочет найти всему логическое объяснение, но сталкивается лицом к лицу с миром, в котором господствуют самые глубинные, противоречивые, необъяснимые страсти. Поскольку найти логическое объяснение он не в силах, то должен будет в конце концов сам ввязаться в дело и спросить себя не о том, виновны ли мать и Джилардини в смерти профессора, или виновна ли Сандра в смерти Джанни, а о том, согрешили ли они, о том, в чем состоит этот грех, и о том, не прячутся ли в каждом из нас такие же Сандра, Джанни и Джилардини.
По мысли Висконти, эта семейная трагедия должна была отразить все наши вопросы, все наши тревоги и тем самым «помочь нам понять нашу действительность, нашу эпоху, а также то, куда они нас ведут». Фоном для этой драмы он выбрал декорации, которые символизируют загадку Времени и Истории — их движение представляет собой двойную дезинтеграцию, которая делает прошлое столь же непонятным, как и этрусков. В это пространство нас ведет женщина, сексуально и эмоционально неудовлетворенная, жаждущая понять прошлое. Вокруг нее — Вольтерра, выстроенная поверх «древней тайны этрусков», буквально на их некрополе. Здесь есть и дом, тот призрачный дом детства, о котором пишет в своих «Воспоминаниях» Леопарди:
Медведицы мерцающие звезды, Не думал я, что снова созерцать Привычно буду вас над отчим садом, И с вами разговаривать из окон Того приюта, где я жил ребенком, И радостей своих конец увидел.Дом Сандры — это знаменитый дворец Ингирами, символ средневековой Вольтерры, который с каждым все ближе придвигается к краю бездны, к краю обрыва Бальзе. Этот замок — словно мрачный кокон, и Висконти умышленно оставляет на его стенах паутину, сохраняет разоренность этого места, чтобы оно было подходящей ареной для сведения семейных счетов. Электра в этом смысле — из этрусков, она возвещает одновременно о жизни и о смерти. Став женой американца Эндрю, она связалась с миром без тайн и глубины, а здесь вновь открывает для себя свои корни, соединяющие ее с Вольтеррой, которую д’Аннунцио называет «подземным городом, населенным мертвецами». И, подобно героям пьесы «Быть может — да, быть может — нет», Электра словно бы несет в себе этот «внутренний город, населенный свирепыми духами». Возвратившись туда, где родилась, она вновь вспоминает магию детских лет — одиночество вдвоем, о котором ей напоминает ее брат, Джанни, секреты, прогулки по краю скал, нависающих над пропастью, бессонные ночи, музыка, страхи, бурные детские привязанности и мрачное колдовство запретной любви.
Прическа Клаудии Кардинале, своего рода корона из кос, указывает не только на опасные игры ее детства, но и на погребальные фрески из Тарквинии.[46] Висконти терпеливо лепит это лицо и это тело Кардинале, чтобы свести воедино тайны своего детства и тайны Этрурии, воспоминания о потерянном рае и погибшей цивилизации. Висконти говорит: «В этой картине Клаудиа иногда кажется малоподвижной; но именно это и позволяет мне смоделировать ее лицо, кожу, глаза, ее улыбку. Я сразу подумал, что ей подойдет роль Сандры. Да что там — героиня была написана именно для нее, и не только потому, что за кажущейся простотой Клаудии скрывается тайна, но и потому, что ее своеобразное телосложение, и особенно черты лица, напоминают об этрусских женщинах». Строгая торжественность делает всю ее пластику похожей на некий священный ритуал, и она, словно жрица, надменна и равнодушна даже тогда, когда сходит с ума ее мать и погибает ее брат.
Висконти хочет, чтобы мать была театральной, невыносимой и жалкой — все это одновременно. Сначала он думает об одной из тех див «с глазами огромными, как церковные витражи», что так волновали его детское воображение — Италия Альмиранте Манцини, Джанна Террибили Гонсалес, Дианна Каренне… Он наносит им визиты — все они или немного не в своем уме, как героиня Глории Суонсон из «Бульвара Сансет», или пытаются нажиться на остатках былой славы. Франческе Бертини он предлагает два миллиона лир; Бертини, которой в то время было уже 76, потребовала сто миллионов. В первый съемочный день среди множества пришедших телеграмм одна была прислана из Женевы и гласила: «Ужасно жаль, что не работаю с вами. Примите бесконечное восхищение. Франческа».
В конце концов на эту роль была выбрана шестидесятиче-тырехлетняя Мари Белль, которая привнесла в образ Коринны Вальд Луццатти свой обширный опыт работы над трагическими ролями. Для нее Висконти придумает пронзительнейшую сцену, которая связана и с его личными воспоминаниями — мать, бывшая пианистка, играет дочери начало «Прелюдии» Сезара Франка, и ее пальцы тщетно пытаются подобрать нужные аккорды. На ней одно из тех длинных жемчужных ожерелий, которыми любила украшать себя донна Карла; в фильме белые жемчужины в ожерелье чередуются с черными. Лежа в детской спаленке, Лукино слушал, как его мать играла этот самый отрывок, эту прустианскую музыку; в фильме эта музыка звучит в то время, как Мари Белль одновременно смеется и рыдает, и эти звуки становятся словно бы плачем отказывающей памяти.
На роль Джанни, брата Сандры, Висконти берет французского актера, которого давно знает, но никогда еще не снимал: это Жан Сорель, мужественная красота и серые глаза которого так напоминают Алена Делона во многих сценах из «Рокко». Это была трудная роль: Джанни — персонаж сложный, неясный, одновременно сатанинский и ангельский, циник и ребенок, жестокий и уязвимый, в высшей степени даннунцианский герой. Он имеет опасное сходство с самим Висконти — Лукино наделяет его любовью к литературе, дает ему собственный талант писателя-интимиста, свою привязанность к прошлому и свое же стремление с ним порвать, свое расточительство — он понемногу распродает в доме всю мебель, приближая разорение семейства. Наконец, Висконти наделяет этого героя собственной чувствительностью: женской, экстравагантной и болезненной.
Четыре камеры внимательно следят за каждым движением, каждым выражением, каждым шагом актера. Однако взгляд Висконти парализует еще сильнее; как прочесть стихотворение Леопарди после того, как режиссер сам прочел его для артиста «со смешанным чувством горечи и негодования»? Как двигаться и как ходить, если ему даны четкие указания насчет всего этого, и не потерять при этом естественности? Висконти кричит на него: «Почему ты ходишь вот эдак? Ты что, рыцарь в поисках святого Грааля?» Он без устали сыпал ироничными замечаниями, которые уязвляли актеров и заставляли их цепенеть.
Чтобы актеры все-таки расслабились и в то же время погрузились в образы своих героев, он иногда выдворяет со съемочной площадки всех остальных и уединяется в павильоне с одними лишь участниками сцены. Он сам показывает им, каким в точности должно быть каждое движение; например, то, как Джанни должен вести себя с сестрой, как он кладет голову ей на колени (Висконти тщательно укладывал голову Жана Сореля для статичного плана, при съемке которого был учтен каждый сантиметр экранного пространства). После сцены ссоры, в которой нужна была особая подлинность, режиссер дает точнейшие указания насчет того, как именно Джанни должен свернуться в кресле, подобно эмбриону, и заставляет его проделать это движение снова и снова.
В Вольтерре все словно бы намекает на возврат к истокам, к родному дому — заметим, что Висконти добился этого невидимым синтезом, «коллажем», как скажет Марио Гарбулья, двух разных строений — дворца Ингирами и дворца Вити. Режиссер словно бы объединяет, только для самого себя, две стороны собственного прошлого: материнский дом на виа Марсала и отцовский — на виа Черва. Места, предметы в этих домах функционируют для Висконти как знаки и символы. Сад при дворце Ингирами остался ровно таким же, каким он описан в романе д’Аннунцио — тот же столетний дуб, та же магнолия.
Ринальдо Риччи пишет в съемочном дневнике: «У подножия магнолии Висконти нашел маленькую скульптурную женскую головку в прерафаэлитском стиле, с прелестной стрижкой ар-нуво, но, увы, с отбитым носом. Такое часто случается со статуями из алебастра, который наряду с песчаником сыграл в архитектуре и скульптуре Вольтерры столь же значительную роль, как и в ее неотвратимом закате… Чуть поодаль была маленькая башенка. И — о чудо! — в ней обнаружилась чугунная винтовая лестница, висевшая практически над пустотой: она вела вниз, в такой мрак, в котором сперва ничего не разглядишь. Спустившись по этой лестнице, мы оказываемся на дне древнеримской цистерны, давно уже пустой, но все еще сырой и прохладной. Сверху лился аквариумный свет. И яркость этого света смягчалась тем, что он проходил через заросли папоротника, который называется венериным волосом. Высокие и древние колонны из камня напоминали о гравюрах Пиранези или о египетских гробницах. Мы выбрались наверх с уверенностью, что открыли что-то очень важное». Здесь назначают свидание брат и сестра, здесь, как в детские годы, они опустят записки в вазу из алебастра — камня, из которого в Вольтерре издавна складывают надгробия. И сюда они спустятся по этой же лестнице, вьющейся, подобно Змею на фамильном гербе Висконти, до самого влажного материнского лона земли, места архаического и проклятого, инфернального, где Джанни попытается вернуть сестру, сняв с нее обручальное кольцо таким же театральным жестом, какой уже был в похожей сцене из спектакля «Жаль, что она шлюха», где речь шла о кровосмешении.
Висконти говорил, что кровосмесительная связь — «последнее табу современного общества». И добавлял: «Эта тема буквально витает в воздухе». Жан-Поль Сартр уже брался за нее в 1959 году, в «Затворниках Альтоны». В середине шестидесятых за этот сюжет берутся и два режиссера итальянской «новой волны»: Бернардо Бертолуччи обращается к нему в фильме «Перед революцией», снятом по мотивам «Пармской обители»; Марко Беллоккио ставит самый скандальный, самый воинствующе антибуржуазный фильм тех лет, «Кулаки в кармане». Пазолини назвал фильм Беллоккио торжеством революционного, поэтического кино, подрывающего все буржуазные устои и буржуазный рационализм. У Бертолуччи, как и у Беллоккио, кровосмешение — это максимально подрывной акт, последний взрыв бунта у врат, ведущих в холодный склеп семьи и буржуазного миропорядка.
Висконти, вероятно, смотрел иначе на этот завораживающий грех: его взгляд был рационален, трезв и лишен как романтизма, так и даннунцианства. Он пишет: «Кровосмешение зарождается исключительно в той среде, где вместе росли два молодых существа; это их отчаянный и драматичный способ объединиться для того, чтобы воспротивиться распаду семьи и одиночеству. Распад семьи особенно остро переживает брат, Джанни; именно он предлагает Сандре последнее средство совместную жизнь в старом доме; и последний судорожный жест Джанни, который умирает в постели своей матери, словно желая вернуться в породившее его лоно, символизирует его последнюю и отчаянную попытку сохранить ядро семьи».
Висконти здесь словно бы изгоняет беса, которого он всегда остерегался — это дух упадка, тяга к смерти. Он приносит в жертву сильной духом Сандре — самой НЕданнунцианской из всех актрис Клаудии Кардинале — этого инфантильного Ореста, которому «нет больше места в мире». В своей первой сцене в фильме Джанни появляется в белом облачении призрака и встает рядом с надгробием отца, таким же белым, так что кажется, что смерть уже предъявила на него свои права.
Всякий, кто видел эту картину, может подумать, что автора нешуточно увлекает зловещая тема смерти и он, совсем как даннунциевский герой, «полон праха и траурных колоколов». Ничего подобного! «Он был в прекрасной форме, — вспоминает Клаудиа Кардинале, — шутил, дурачился, он был в превосходном настроении, рисовал слегка непристойные эскизы, которые я обнаруживала у себя на тарелке, когда садилась за стол. Он ужасно веселился, когда к нам приехала повидаться моя сестра и, увидев эти рисунки, залилась краской».
Его связь с семьей в эти годы была проще, чем когда-либо. Незадолго до съемок «Туманных звезд» он покупает роскошную виллу эпохи Возрождения под названием La Suvera — «Дубрава» — с театром и частной часовней. Впрочем, он так никогда и не поселится в «Дубраве». Сузо Чекки д’Амико вспоминает, как однажды, в то время, как Висконти подбирал себе жилье, они вместе пришли осмотреть заброшенный дом. Поднявшись на второй этаж, они оказались в комнате, в которой кишели летучие мыши — огромные, черные. Она страшно перепугалась и, сбежав по лестнице вниз, выбежала из дома. Но Лукино остался наверху и не моргнув, не побледнев, не шелохнувшись, стоял и смотрел на эти чудовищные гроздья, свешивавшиеся с потолка. «Дубраву» он выбрал потому, что она располагалась неподалеку от Кверчето, в долине Эльза, где у его брата Эдуардо была ферма, раскинувшаяся среди сосен, олив, кипарисов и виноградников. Во время съемок родственники Висконти часто приезжали навестить его, а однажды на ферме Эдуардо устроили пикник.
В действительности Висконти считал распад семьи одним из самых явных и самых вопиющих зол современной эпохи. Он оплакивает оставление отчего дома, этого святого обиталища, «улья», где «каждый живет и работает в своей ячейке», а затем все собираются в обеденном зале, этом центре встреч и конфликтов, вокруг Матери, «царицы пчел». Всякий член семьи приходит за этот общий стол не за тем, чтобы наткнуться там на соперничество и жестокость (как в «Туманных звездах»), а чтобы обрести покой и утешение.
По мнению Висконти, «самый катастрофический пример» этой утраты дома и семьи, в которой следует винить индустриальный прогресс, обнаруживается в Америке, где, по его словам, «мужчина идет направо, а женщина — налево, развод дается слишком легко, пары то и дело перетасовываются, а брошенные дети становятся ничьими». Но «к подобному хаосу семимильными шагами идет и Италия, а все потому, что на иностранную моду обращают внимание больше, чем на старинные обычаи».
Он охотней, чем раньше, возвращается к концепции консервативной роли матери, гаранта порядка и общественной стабильности. «Женщины тоже могут работать, они могут быть и художниками, но их первейший долг: быть возлюбленной, супругой, по возможности — матерью и полностью возродить все то, что еще столетие назад называлось нерушимым семейным союзом. Я считаю, это чрезвычайно важно для того, чтобы общество двигалось вперед. Когда исчезает семья, исчезает и все остальное».
Социальные беспорядки, рост неврозов, потеря молодыми пути в жизни, все больший разрыв между индивидуумами в нашем «новом ледниковом периоде» и в «обществе, которое все еще развивается» — все это Висконти сводит к одному корню: распаду семейной ячейки, который, в свою очередь, ведет к тревоге молодых и старых, к «нехватке любви, участия, бесед у камелька, в которых проявляется сама культура. Отсюда и общий страх перед старением».
«Чувство семьи у него было совершенно патриархальное, — говорит нам Сузо Чекки д’Амико и уточняет, — Висконти были семейством, в котором было много братьев и сестер, очень разных, быть может, даже далеких друг от друга. Но это не мешало Лукино очень их любить и чувствовать с ними неразрывную связь. Он создал здоровую концепцию семьи, на старинный манер… Помните его любимые книги? „Будденброки“ и „Иосиф и его братья“ Томаса Манна. Это истории семей, которые сам он прочувствовал так глубоко, как никто другой».
Висконти с пессимизмом смотрит на трещины в итальянском обществе, которых становится все больше и больше. Он считал, что подоплекой всего этого является распад традиционной семьи. У него не было детей, и он никого не усыновил. Но его всегда окружала еще одна семья, параллельная настоящей. Это были его друзья, преимущественно актеры: по его признанию, они помогают ему преодолеть одиночество. По словам Мастроянни и Вернера Хенце, среди них были и нахлебники, и подхалимы: эти люди просто забавляли его, но Висконти не испытывал на их счет никаких иллюзий.
Вскоре, в 1964 году, в ту осень, когда снимались «Туманные звезды», в этой компании появляется молодой человек, привлеченный славой Висконти, и тот привязывается к нему с первого взгляда. «Оказавшись лицом к лицу с красотой, — говорила Адриана Асти, — Висконти точно сразу слеп… Он смотрелся в зеркало этих прекрасных лиц, и ему становилось хорошо с самим собой».
Как-то вечером на съемочную площадку вместе с Гала, женой Сальвадора Дали, пришел двадцатилетний паренек, дрожавший от холода и почтения. Австриец, белокур и очень красив… Ему известно, что Висконти обожает Роми Шнайдер, и поэтому понимает, какое чарующее воздействие оказывает на Лукино его легкий акцент, белокурые волосы и австрийский тип красоты. Висконти разглядывает его, расспрашивает. И приглашает его позавтракать на следующий день к себе в Вольтерру — в тот дом, который он приказал перестроить и где аромат горящих поленьев смешивается с запахом роз и тубероз. Этот юноша — в одно и то же время скромный и отважный, был словно небом послан Лукино и опустился прямо на съемочную площадку «Туманных звезд». Он родился в окрестностях Зальцбурга, он мечтает о сценической карьере, его зовут Хельмут Бергер.
Хельмут Бергер подарил ему свою молодость в те годы, когда Висконти все чаще чувствовал непонимание, даже враждебность со стороны молодежи. Может ли созданное им растрогать, обольстить, взволновать молодых? Это было чрезвычайно важным вопросом для Висконти. Он делает три спорные постановки, в их числе было две версии «Трубадура» и пьеса Сартра «После падения» — последняя была осуществлена в парижском театре «Жимназ» в январе 1965 года. Здесь он снова обретает свою публику, и это молодежь, оглушительно аплодирующая актерам его труппы: в этом же театре они соберутся вместе еще один раз, словно бы ради прощания с домом Висконти, в спектакле «Вишневый сад».
Висконти говорит, что до него никто не пренебрегал правилами постановки, которые придумал Станиславский вопреки указаниям Чехова. Постановка Висконти шла в «растянутом и угасающем ритме, была пронизана крайней печалью и нескончаемыми парами молчания». Спустя два месяца с лишним после первого показа, состоявшегося 26 октября 1965 года, он приходит в зал театра «Валле», чтобы приободрить своих актеров. «Было много молодежи, — пишет он об этом дне. — Казалось, что мы находимся не в театре, а в каком-нибудь набитом до отказа кинозале на окраине. Персонажи по очереди уходили со сцены, пока не остался один старик Фирс, и вот занавес опустился: аплодисменты не смолкали, как на премьере, но, пожалуй, были подружелюбнее и уж точно гораздо непосредственней, чем те, которые слышишь на представлении, дающемся впервые. Актеров вызывали на сцену не менее пятнадцати раз».
Встреча с Хельмутом Бергером придает сил Висконти и открывает перед ним новые горизонты, обозначает переломный момент пути, новую ориентацию в творчестве и в жизни. Он продолжает работать в Италии, 20 ноября 1965 года представляет «Дона Карлоса» в Римской опере, а 19 апреля 1967 года — «Травиату» в Лондоне; он наконец-то реализует свой давний замысел — снимает «Постороннего» по роману Камю; при этом он все чаще приезжает в Австрию: весной 1966 года в Вене проходит премьера «Фальстафа» Верди, а в следующем году в Кицбюэле Висконти снимает киноновеллу для фильма «Ведьмы».
История из этого киносборника «Ведьма, сожженная заживо» дает ему возможность обратиться к важной для него теме: теме дивы, современной колдуньи. Кинозвезда, сыгранная Сильваной Мангано, в этом сюжете становится заложницей коммерческих соображений, которые берут верх над художественными. Поэтому она, как некогда и героини Каллас, обречена на бесплодие и жертвует своим материнством. Что более важно, Висконти пользуется этим случаем, чтобы впервые, еще во второстепенной роли, снять своего нового любимца.
Бергера еще предстоит всему научить, и прежде всего ему нужно не дрожать от страха перед камерой. «Актеры похожи на породистых лошадей, — утверждал Висконти — Берт Ланкастер — великий профессионал; Делон — латинянин, европеец, он капризнее, меньше поддается дрессировке. Бергер — молодой жеребенок, ему не занимать вдохновения и таланта, но его еще надо поставить на ноги. Его смену настроений невозможно предсказать…»
В самом начале их романа Висконти сказал Бергеру: «Я буду писать истории для тебя». В это время он планирует снять Роми Шнайдер в «Графине Тарновской», чтобы «показать причины, по которым рассыпалось искусственное и бесполезное общество Прекрасной эпохи». В то же самое время он думает и о Хельмуте — он так похож на Шнайдер своей хрупкостью, меланхоличностью, переменами настроения и взаимно переплетенными страстью и тоской, что все это сделает их родственными душами задолго до того, как они сыграют кузенов в «Людвиге». Висконти мечтает, что Хельмут мог бы сыграть у него в экранизации «Душевных смут воспитанника Тёрлесса» Музиля, где, по словам Лукино, «показано, как зарождались жестокость и садизм», которые подпитывали нацистский режим. Две этих эпохи для Висконти тесно связаны.
Понемногу обрастает плотью и его «Макбет», сценарий которого они с Сузо Чекки д’Амико написали в 1967 году. Выбирая место действия, он сперва подумывает об Англии в годы дела Профьюмо,[47] потом об Италии времен экономического бума, где вместо шекспировских королей были бы миланские промышленные магнаты. В конце концов он остановился на гитлеровской Германии и на истории семьи Крупп. Для Бергера в этой истории была превосходная роль: в «Гибели богов» он сыграет Мартина.
Приезжая в Германию или в Вену, он каждый раз скупает немыслимое количество безделушек, он покупает и мебель, и гравюры Климта, Шиле и Кокошки. Обстановка в доме на виа Салариа и на вилле «Коломбайя» на Искье понемногу меняется, становясь той новой средой в стиле ар-нуво, которая отныне будет обрамлять его жизнь, воскрешая далекие годы во дворце Черва. Он никогда не мог жить в доме, обстановка в котором «замерзала» и не менялась. Сказать ему, что дом «обставлен», значило зачеркнуть все, что составляло для него очарование жилого дома — фактически саму жизнь. На глазах у изумленных друзей он всюду, куда его заносит судьба, покупает массу разных вещей и мебели. «Да уж! Вот без этого, конечно, никак нельзя было обойтись»? — иронически поддразнивает его Сузо Чекки. Бесценные предметы обстановки, которые ему не подошли, позже оседали на квартирах его друзей или в римских антикварных лавках.
Каждая вещица у него на полке, каждое полотно связаны с частью жизни, с внезапным увлечением. И все это «было расшвыряно, как попало, в изобилии и повсюду», в первородном хаосе — однако хаос этот подлинно висконтиевский, это его пышная алхимия цветов, предметов и стилей. Часто он влюбляется в какой-нибудь определенный предмет или начинает собирать серии, коллекции, к которым потом теряет всякий интерес. Так придет год терракотовых собачек, и год подставок для париков, год «масляной живописи на шелке» и год быков, мраморных шариков, обелисков, алебастра.
Существует в этом вихре и несколько доминант: так, в начале 60-х у Висконти воцаряется венецианский XVIII век — начиная от самого вестибюля, его римский дом заполняют черные с позолотой статуэтки негров, картины Кривеллоне, миланского живописца начала XVIII века, Пьяццетты, Паннини, столики для прихожих, бюсты Людовика XVI, хрустальные люстры. Потом он принимается коллекционировать вазы и лампы в стиле Галле, статуэтки, зеркала, восковые печатки, гравюры Прекрасной эпохи. Это тот период его жизни, когда он открывает для себя не только Климта, но также, благодаря Антонелло Тромбадори, и флорентийского художника Галилео Кини, чье творчество явно развивалось под влиянием австрийского мастера, а именем Кини подписаны и многие сценографии опер Пуччини.
Этот вкус к ар-нуво выходит далеко за пределы его частной жизни. Декорации «Дона Карлоса» 1965 года используют простую палитру — черное, белое, несколько кроваво-красных пятен в золотистом свете, напоминающем о картинах Эль Греко; сценография «Фальстафа» весной 1966 года сделана столь тщательно и с таким стремлением к реализму, что становится уже почти что заурядной; но уже через месяц висконтиевские декорации словно бы сходят с ума — речь идет о «Кавалере роз», поставленном в лондонском Ковент-Гарден в апреле 1966 года. Возможно, Висконти чувствовал себя более уютно в опере Штрауса, где печаль состязается с гротеском, чем в последнем шедевре Верди, в той «живости взрывной», в той поздней и горькой мудрости tutto е buffoneria (все — шутовство), которой восьмидесятилетний композитор хотел завершить цикл своих «страстей»? Висконти писал: «Я обычно ставлю итальянские оперы — Верди, Доницетти, Беллини, — потому что я хорошо их чувствую. Но я люблю и Штрауса, и Вагнера. И я мечтаю поставить „Тристана“».
В «Кавалере роз», «произведении, полном любви и эротизма», он отождествляет себя с Маршальшеи, видящей, как уходит время ее молодости и любви. Нежные и переливчатые тона костюмов XVIII века, легкая и сумасбродная грация рококо мало-помалу насыщаются мотивами, арабесками, орнаментами и занавесями в духе югендштиля, а затем в спектакле появляются и чудовищные головы животных, выполненные в манере Босха. Этот переход к стилистике начала XX века подчеркивал эротическое напряжение и тревогу — и оперы Штрауса, и постановки Висконти.[48] Публика не усматривает в этом ничего, кроме декадентского самолюбования и бессмысленной попытки шокировать публику.
Однако критик Питер Хейуорт проявляет большую проницательность. По его словам, за плачем стареющей княгини просматривается куда более серьезная драма — драма города, уставшего быть центром империи. Кроме того, говорит Хейуорт, в этой опере угадываются и личные драмы Штрауса и Гофмансталя. В 1910 году, работая над этим спектаклем, оба они находились в зените славы. Но у них, как и у Вены, впереди были совсем другие, трудные годы — драма города была и их собственной драмой. И в этой опере заключено нечто гораздо большее, чем плач Маршальши по своей молодости — это и плач по культуре, которая взрастила и вскормила их таланты, а теперь на глазах двигалась к краху. Хейуорт заключает: Штраус и Гофмансталь создали гобелен этой культуры, на котором были вытканы ее рождение, зрелость и закат — с мирами Марии-Терезии и Фрейда, между которыми был заключен мир Иоганна Штрауса и его «Кавалер роз».
Год спустя, почти день в день, только что закончив снимать «Постороннего», Висконти представляет на суд публики в том же театре «Травиату» в стиле Бердслея. За несколько месяцев до этого он позвал на виа Салариа Веру Марцот.
«Господин граф неважно себя чувствует», — говорит мажордом приехавшей костюмерше. Ей приходится подняться к нему в спальню. «Ты свободна в марте-апреле? — не размениваясь на предисловия, сразу спрашивает он. — Будем ставить „Травиату“…» Потом Висконти объясняет, чего от нее хочет: «Хочу сделать ее в черно-белом, кроме третьего акта Что нужно: использовать все мыслимые оттенки черного, даже от фиолетового до зеленоватого, а белый пусть будет глянцевым, или кремовым, или ледяным».
На следующий день он говорит ей: «Ну что же… Мы хорошенько встряхнем англичан».
Пока готовятся сценография и костюмы, в театральной компании слышно много пересудов о маниях Висконти Он хранит невозмутимость — его совсем не трогают, а всего лишь забавляют вытянувшиеся физиономии коллег. Бросая этот новый вызов, он тверд как кремень: салон должен быть в черно-белых тонах, в псевдоклимтовском стиле, сад должен быть обледеневшим, а в сцену бала-маскарада, решенную в манере Бёрдсли, вдруг врываются золотые, пурпурные и багровые сполохи испанского танца. Виолетта в последнем акте умирает в белом, среди белоснежных хризантем. С плеч медленно соскальзывает красная шаль — она уже слишком слаба, чтобы удержать ее на себе.
Дирижирует Джулини, в ложе — Мария Каллас. Висконти только что убил их «Травиату», постановку 1955 года. В светской хронике пишут: «Это был ледяной душ для тех фанатов оперы, которые не желают ничего, кроме бесконечно повторяющихся стандартов».
В эти годы, когда надежды угасали, а ценности изменялись, когда реформистское движение было парализовано, в душе Висконти, вероятно, боролись две его склонности, которые его биограф Джанни Рондолино определяет как «критический реализм и декадентство, два совершенно разных отношения к жизни и к искусству». Когда он смотрел на похороны Пальмиро Тольятти, умершего 21 августа 1964 года, сознавал ли он, что пора борьбы и надежд закончилась? Позже Висконти напишет: «Наш мир находится в кризисе — в кризисе моральном, социальном, духовном. Но поражения никогда не бывают ни абсолютными, ни окончательными. Они всегда — лишь временные. И из любого поражения рождается новая сила, новая бодрость. Я — не пессимист».
В 1965 году среди призрачных нефов и замерзших пустошей его «Дона Карлоса» слышен реквием по героям. В 1966 году в «Фальстафе» надоедливые юные идеалисты уходят посрамленными со сцены, которую заполняет раскатистый шутовской хохот Дитриха Фишера-Дискау. В 1967 году Висконти ставит «Эгмонта» Гёте с музыкой Бетховена во флорентийском дворце Питти — это последний грандиозный эпизод из его цикла о восстании во Фландрии, в который также входили «Дон Карлос» и «Герцог Альба». Музыка Бетховена звучит как траурный марш на похоронах революционных порывов, а жертва Эгмонта, аристократического героя Просвещения, знаменует крах жизненных идеалов и поражение человеческого разума.
Что же декадентского в таком восприятии жизни? Разве, обращаясь к стилям либерти или ар-нуво, он впадает в чистое, одинокое, экстатическое, болезненное созерцание декаданса и того разложения, которое он несет вместе с собой? Феллини снял «Сатирикон», Бертолуччи — «Перед революцией», Жан-Поль Сартр написал «Затворников Альтоны», но разве мы считаем их певцами упадка? Можем ли мы назвать их безыдейными? Или чрезмерными эстетами? Висконти всегда отбивается от подобных нападок, которым снова и снова подвергаются его постановки. В свою защиту он произносит лишь одно слово: реализм… В 1974 году, в ответ на суровую критику его спектаклей «Жаль, что она шлюха» и «После падения» он пишет: «Основным принципом моей работы является реализм, даже при том, что я постоянно обращаюсь к формалистским приемам — так было и раньше, так происходит и теперь».
А как быть с пристрастием Висконти к стилю либерти и китчу? Он использует их, когда ему нужно обратиться к собственным корням, а также к самым глубоким и чистым родникам европейской чувственности. Одной журналистке, которая в 1970-е упрекает его в «бесконечном пережевывании очарования прошлых дней, этой тюрьмы памяти, в умышленном использовании китча в его творчестве», он отвечает: «Да ведь я родился во времена стиля либерти и вырос тогда же. Дорогая мадам, разве непонятно, что я дышал этим воздухом, а китч окружал меня со всех сторон…» «Но вы все так эстетизируете», — настаивает она. «Вы можете прямо сказать, что я — декадент, ну же, не смущайтесь. Я уже привык к этому вечному рефрену… Жаль, что некоторые люди используют это слово в смысле, противоположном тому, что оно значит на самом деле: в их понимании это связано с пороком и разложением. В то время как на самом деле это просто один из способов смотреть на искусство, оценивать его и создавать его… Вот Томас Манн — он тоже декадент? Сравнение с ним меня бы вполне устроило».
Висконти — гуманист; он вовсе не склонен отрекаться от прошлого, и его грандиозные флэшбэки — не возврат в далекий рай детства и в семейный кокон, не смутное воспоминание о неге и не бегство в выдуманный мир. Вернее будет сказать, что он расшифровывает знамения и перечитывает заново великие творения прошлых лет лишь для того, чтобы точнее угадать исторические перемены, которые произойдут лишь через годы.
Для Висконти образ Танкреди из «Леопарда» предвосхищает будущий тайный сговор правящей элиты с фашизмом, таким же станет для него и ницшеанский сверхчеловек Туллио Эрмиль из «Невинного». Память для Висконти — нечто большее, чем ностальгический ландшафт. Она дает перспективу, в которой самое отдаленное прошлое увязывается с текущим моментом — настоящее может повторять прошлое, или же в прошлом содержатся зародыши настоящего, первые симптомы болезни, которой все еще болеет сегодняшнее общество, может быть, сильнее, чем обычно.
Именно таким должен был получиться его «Посторонний» — Висконти долго обдумывает эту картину, но впоследствии признает фильм неудачным. Ему не удастся передать в этой работе тот смысл, который он вычитал между строк романа Камю. Висконти пишет: «Ужас pied-noir,[49] выросшего в этих краях, который слишком хорошо чувствует и осознает, что ему придется уехать, оставив эту землю тем, кому она принадлежит»; режиссер считает этот экзистенциальный страх предвестием Алжирской войны, которая закончилась лишь незадолго до того, как была сделана картина.
Висконти писал: «Моя интерпретация и мой сценарий „Постороннего“ все еще существуют. Я написал его в соавторстве с Жоржем Коншоном, и это что-то совсем иное. Это работа по мотивам „Постороннего“, своего рода эхо романа, отзвуки которого слышны в событиях наших дней, в деятельности ОАС и войне в Алжире. Вот о чем на самом деле говорит Камю, который, я бы сказал, предвидел это, и я хотел кристаллизовать это пророчество в форме фильма». Однако вдова писателя Франсин Камю не захотела и слышать об этом прочтении.
Трудно шли и переговоры с Дино Де Лаурентисом, категорически отказавшимся пойти навстречу чрезмерным запросам Алена Делона. Висконти же считал, что сыграть Мерсо не сможет никто, кроме него; Лукино, вероятно, была по душе и идея дать Делону такую главную роль, которая стала бы великой вехой его карьеры. Висконти сделал нечто подобное для многих своих актеров: для Гассмана он поставил «Орестею», для Кардинале — «Туманные звезды…», для Хельмута Бергера — «Людвига». Вместо Делона главную роль сыграл Мастроянни — он буквально спас этот фильм для продюсера де Лаурентиса, с которым Висконти был связан контрактом.
Марчелло Мастроянни вспоминает: «Многие спрашивали: „Но почему Мастроянни?“ Вероятно, все думали, что на эту роль подходит актер вроде Жерара Филиппа (я знаю, что до меня обсуждали Делона), и должен сказать, что они все очень ошибались — ведь герой „Постороннего“ никакой не интеллектуал и не загадочный архангел с личиком Филиппа. Мерсо — характер средиземноморский, сангвиник, самый обыкновенный мужчина, который любит девушек, компанию друзей и вкусно поесть. Именно это и делает его незаурядным — то, что он очень здоровый, совершенно нормальный и очень средиземноморский персонаж».
Эта трактовка главного героя как очень заземленного персонажа вполне подходила для первой половины романа и фильма, но куда меньше — для второй части драмы, где был бы вполне уместен стендалевский типаж, Жерар Филипп. Если бы в этой роли снимался Делон, во второй части фильма Висконти, без сомнения, сумел бы высветить более тонкие и глубокие грани его личности. «Возможно, Мастроянни не слишком подходил на эту роль, — соглашается Сузо Чекки д’Амико, — он не задает себе мучительных экзистенциальных вопросов, и он ленив. Он не придает этому фильму дополнительных измерений».
Для Висконти Мастроянни — слишком уж «итальянец». Режиссер прекрасно понимал, как происхождение актера может обогатить или обеднить персонаж; сравнивая Дирка Богарда и Мастроянни, он отмечает у первого «профессионализм высокого класса, английский, куда более глубокий, это была какая-то более развитая общая дисциплинированность. На съемках „Смерти в Венеции“ Богард никогда не выходил из роли; даже уходя к себе, он продолжал быть Ашенбахом; он был Ашенбахом два с половиной месяца без перерыва! Мастроянни таков, что стоит ему увидеть тарелку тальятелли или макарон, и он тут же забывает, что играет Мерсо. Он поест, а уж потом начнет все заново. Это совсем другой тип, очень итальянский, слегка легковесный».
В начальных эпизодах фильма, по атмосфере близких к Теннесси Уильямсу, есть магия; изложение в картине отличается строгостью и прозрачностью; Пьеро Този точно воссоздает Алжир 40-х годов; в картине есть отдельные великолепные сцены — эпизод с убийством, эпизод в тюрьме, когда камера медленно и скрупулезно показывает тела спящих арабов и затем поднимается вверх, чтобы показать силуэт флейтиста, а также сцена суда с ее невыносимой жарой (при просмотре этой сцены трудно не вспомнить съемки суда над Кохом в 1945-м). Несмотря на все это, фильм в целом не согрет тем интимным «дыханием» художника, которое в других его работах позволяло «воспарить над прозой», на которую он опирался, над той прозой, которая, по его же определению, «сама по себе полна подлинными сюжетами, лежащими прямо на земле, но позволяющими нам возвыситься над земным». Сузо Чекки д’Амико замечает: «Если бы фильм сняли тогда, когда был написан сценарий, я думаю, он получился бы лучше, но нам пришлось ждать целых три года. Там есть куски, которые я люблю, например, эпизод убийства, разговор со священником, но в целом я не думаю, что это удачная работа. Мы с Лукино никогда его не пересматривали. Во время болезни он захотел пересмотреть все свои фильмы на видеокассетах, за исключением „Людвига“, потому что этот фильм был искалечен сокращениями; о „Постороннем“ он и вовсе забыл».
Здесь, как и в сумеречном отражении «Постороннего», какими были «Белые ночи», не хватало насилия, которое усилило бы первоначальный замысел Висконти. Он рассматривал роман Камю как пророчество, как предчувствие будущей драмы «черноногих» французов, «экстремизма французских солдат и алжирского восстания», иными словами, того «кошмара, каким является всплеск насилия между людьми, неспособными больше понимать друг друга и жить вместе».
Это столь необходимое ему насилие примет исступленные, пароксизмальные формы в тех современных пьесах, которые он ставит на сцене с 1967 по 1969 год. В «Монахине из Монцы» он возвращается к работе с Джованни Тестори. Но теперь он заставляет Тестори сделать такие сокращения, что сотрудничество двух художников заканчивается публичной ссорой, подогретой критиками, обвинившими режиссера в том, что он испортил текст пьесы.
Несколькими годами раньше один историк снискал большой успех, опубликовав документы, найденные им в архивах миланского архиепископства. Он вытащил на свет скандал, подробно описанный в летописи монастыря Святой Маргериты из Монцы, а позже послужившей материалом для знаменитого эпизода из «Обрученных» Мандзони. Юная аристократка Марианна де Лейве, насильно заточенная в монастырь, она же сестра Вирджиния, и ее любовник Джан Паоло Озио были судимы и приговорены уголовным судом Курии за распутство и умерщвление детей, рожденных в преступной связи.
Перерабатывая для сцены текст, написанный Джованни Тестори на основе этой «итальянской летописи», Висконти очень многое сократил и осовременил эту любовную трагедию. «Действие, как и указано в первом акте текста пьесы, должно было разворачиваться в монастырском дворике Святой Маргериты, — писал один критик. — Но Висконти вешает маленький занавес, под которым видна стройплощадка, символизирующая Монцу 1966 года. Когда же поднимается настоящий занавес, мы с изумлением обнаруживаем, что и монахиня из Монцы, и призраки ее подруг, и викарии, священник и все остальные персонажи переселились в строение типа гаража (с канистрами из-под бензина, шинами, краном и даже старым умывальником). Но и на этом режиссер не остановился. Там есть и рекламные неоновые вывески, и новейшие мелодии эстрады вперемешку с мистическими хоралами, а инфернальный Озио стал криминальным юнцом — на нем черная кожаная куртка на молнии, он зловеще ухмыляется и то и дело поднимает и закуривает бычки».
Как и в фильмах Пазолини, мы наблюдаем странный процесс, в котором прошлое и настоящее соперничают друг с другом в насилии и жестокости. Висконти, однако, превосходит Пазолини в том, что он безжалостнее к современности и показывает это новое уродство так, словно его нельзя преодолеть. Ландшафтами этого мира служат груды строительного мусора, пустыри и загаженные каналы, над которыми чудовищной громадой высится экскаватор — он взрезает внутренности земли, которые нашпигованы скелетами.
Еще через год, 21 февраля 1969 года, в Милане поднявшийся занавес откроет голые стены, похожие на тесные края могилы, в которых развернется еще одно разрушительное действо. «Объявление в газете» Наталии Гинзбург, как и «За закрытой дверью» Сартра, стало нескончаемым сведением счетов между современной парой, бессмысленным и жестоким эпилогом неудачного супружества. Здесь нет обмена репликами, это скорее монолог для трех голосов. Адриана Асти, для которой была написана эта пьеса, отражается в зеркале этой драмы, как безумица, вопиющая в пустыне нового мира.
Эти полные отчаяния и безнадежности постановки создаются в то время, когда общество взрывается: весной 1968 года вспыхнули волнения в университетах, был поколеблен общественный и политический порядок. Хаос, который быстро распространялся по миру, вероятно, вызвал только еще больший приток горечи у Висконти, старого бунтаря.
Внутри самого кинематографического мира, мира деятелей политики и культуры нет единства; старики и молодежь находятся в состоянии конфликта. Теперь Висконти, как и Антониони, в лучшем случае считают интересной бутафорией. В худшем случае его объявляют воплощением реакции и символом элитарного подавления. Что скрывать — он, в отличие от Пазолини или Моравиа, не испытывал никакой симпатии к протестным силам 60-х. Он понимает, что можно выступать против войны во Вьетнаме — он и сам так делал. Но против чего восставали молодые? «Мы часто спорили об этом, — говорит Сузо Чекки. — Это его чрезвычайно волновало. Но мы соглашались в одном — в том, что все эти перемены, все эти маркузевсхие девизы должны иметь цель; нельзя призывать к переменам во имя одного лишь разрушения, ничего не созидая. В отличие от Моравиа и Пазолини, он не пытался влиться в это движение ради того, чтобы казаться моложе».
В это беспокойное время студенческих выступлений, весной 1969 года Висконти ставит в Вене «Симона Бокканегру» Верди, политическую оперу, действие которой разворачивается в Генуе в бурные годы эпохи Возрождения. Опера рассказывает о братоубийственных столкновениях властвующих семей, о противостоянии народа и аристократии и о разделенной Италии в поисках единения и примирения. Написанная в 1856 году опера «Симон Бокканегра» в образе главного героя, старого корсара, вознесенного вопреки своим чаяниям на вершину власти, дает нам политический идеал Верди и самого Висконти, его мечту о единстве и справедливости. Одна из сцен этой политической оперы такова: заседание парламента в зале Совета прерывается ревом уличной толпы, и здесь слышны отчетливые переклички с волнениями конца 60-х. В этой «слишком грустной, слишком безнадежной опере — да ведь иной она и не должна быть» (слова самого Верди), последствия личной вражды, борьбы интересов, нагромождение исторических ситуаций опутывает героев мрачной сетью недомолвок и взаимной ненависти. В конце концов мечта о будущем примирении будет взорвана убийством Симона Бокканегры, «мученика власти».
Это одна из немногих постановок Висконти, которую единодушно раскритиковали все. Современные декорации, воинственная атмосфера постановки, строгие геометрические костюмы, словно сверкающие панцири, обтягивавшие фигуры героев, напыщенная дикция персонажей — все или почти все здесь было доведено до гротеска. Феделе д’Амико вспоминает, что Висконти и сам не был уверен, что все сделал правильно. Как бы там ни было, он справился с одной из самых трудных для постановки опер — а обратился он к ней, чтобы отыскать все «грустные, безнадежные» отголоски той социально-политической ситуации, которая устанавливается как в Италии, так и во всей Европе. То были бурные годы протеста и суда над старшим поколением.
«Молодые? Я их не понимаю…» — говорит Лукино. Их энтузиазм, их яростные выступления, их праздники и тревоги, абстрактные разглагольствования, бессмысленное жонглирование именами Мао, Маркса, Че Гевары, Герберта Маркузе и Вильгельма Райха, шквал нетерпимости и вседозволенности, который проносится по университетам, школам и охватывает все институты, кажутся ему странными, до отвращения чуждыми и враждебными. Явились новые способы жить и мыслить, позаимствованные из Китая периода культурной революции, Америки Вудстока и студенческих бунтов в Беркли; грозные лозунги, гремевшие в Берлине и в аудиториях Сорбонны, атаковали все устои культуры и общества. Эти времена стали большим вызовом и для компартии, которую Висконти, несмотря на вторжение СССР в Чехословакию, продолжает поддерживать с тревогой и печалью. Все, что он видит, лишь подтверждает его догадки о болезнях и разложении общества, которые он уже изобличил в историях распавшихся семей, подточенных ненавистью и злобой. Нет ни малейшей возможности возвратиться к традициям аграрного общества, они раздроблены и разрушены сокрушительной поступью индустриализации — порочность этого процесса он уже продемонстрировал. Нельзя было вернуться и к «озарениям» марксистской культуры, которые прояснили для Висконти его связи с современностью и в пламенные послевоенные годы превратили его в кондотьера левых сил. Ни Маркс, ни Грамши не предвидели этот новый тип протеста, в котором анархия рядилась в пышные одежды революции. В декабре 1969 года в Милане взрывают банк на пьяцца Фонтана, шестнадцать человек убито, и на политическую арену выходит красный и черный террор — эти события пробуждают в Висконти еще более глубокий страх перед возможностью возрождения фашизма. Ему исполнилось шестьдесят два: в 1933-м, когда подожгли рейхстаг, Томас Манн был на четыре года моложе.
Отныне именно с этим великим романистом и гуманистом закатных лет Германии и Европы он отождествляет себя больше всего. Ему нет дела до бойкотов и обвинений в старческой спеси. Живя среди волков, он не станет выть по-волчьи, не станет дудеть в глупый, фальшивый горн, зазывая всех в авангард революции, и не заключит пакт с хаосом. У него остается надежда, что безмолвствующий народ, публика не совершат ошибки, и чувствует горькое утешение, думая о пустых залах, в которых показывают фильмы молодых режиссеров, жаждущих революции.
В это время он говорит: «Я никогда не забывал, что тоже был молодым итальянским кинематографистом. Мы все были молоды. Мы не родились стариками. Мы все снимали кино, которое в определенном смысле можно назвать авангардным. Мы создали неореализм. И публика уходила из наших залов, публика с нами не соглашалась. Хотите сказать, что все начинается сначала, что сегодня происходит то же, что было вчера? Нет, не то же. К несчастью, я не смотрю фильмы новых итальянских режиссеров. И это очень плохо. Мне следовало бы понять их. Мне было бы достаточно, если бы они в самом деле сказали что-то новое, сообщили бы действительно новую информацию. Если бы они действительно брались за новые сюжеты, я бы первым пошел посмотреть их кино, постарался бы понять и поддержать их…
Они не вступают в бой с проблемами жизни, с проблемами своего поколения. Когда мы были молодыми, мы смело брались за проблемы нашего времени. Мне бы хотелось, чтобы так же поступали и молодые итальянские кинематографисты. По-моему, будет неуместно, если их проблемами займется кто-нибудь из нас. Я бы мог попытаться и сделать это. Но в этой роли я чувствую себя неуютно, не в своей тарелке, я словно непрошеный гость. Пусть лучше каждый решает свои проблемы…»
Это заявление, похожее на множество других его высказываний, Висконти делает весной 1970 года возле Hotel des Bains; он смотрит на пляж, на яркие бело-голубые полосатые тенты, и на силуэты, скрытые под кружевами и вуалями, на людей той эпохи, что ушла навсегда — эпохи Томаса Манна, Пруста, Густава Малера и самого Висконти.
«Самый революционно мыслящий, самый молодой из всех, — восклицает Лукино, — это Луис Бунюэль. А ведь ему шестьдесят восемь!» Он и сам, обращаясь к прошлому, к истокам поразившей Европу болезни, чувствует себя намного моложе тех режиссеров, которые уже и в тридцать лет представляются ему иссохшими плодами, крошечными сморщенными старичками, «уже смирившимися со всем, как будто им стукнуло восемьдесят». Менее чем когда-либо он намерен отрекаться от своего кинематографа. Декадент? Возможно. Пессимист? Нет, он просто объективен. Ностальгирующий? «Жить — значит еще и вспоминать», — парирует он. Прошлое для него — не убежище, не укрытие. Чему же служит прошлое? Оно объясняет «вечное». Для Висконти наступило время новых поисков этого вечного не только в Италии, но и в Европе, он хочет проникнуть в самые глубины, дотянуться до корней столетия, до трех роковых вех, столь же зловещих, как три ведьмы из «Макбета»: пожар рейхстага, мир накануне войны в 1914 году и закат Австро-Венгрии и Баварии в 1866 году. Начинается путешествие в сумерки, поиск времени утраченного ради времени настоящего.
Глава 20 GÖTTERDÄMMERUNG (Сумерки Богов)
Идея катастрофы — я говорю о потрясающей, всеобъемлющей катастрофе — так же воодушевляла немцев, как в свое время идея Революции — французов.
Поль КлодельЦивилизации нужна не только похлебка здоровья.
Ф.М. ДостоевскийИтак, Висконти обращается именно ко вчерашней Германии, а не к Китаю или Соединенным Штатам сегодняшнего или завтрашнего дня. Висконти говорил: «Сегодня мир так уродлив, так сер, а тот мир, что вот-вот наступит, низок и страшен».
Жажда приключений, открытость ума и любовь к новому подвигли Антониони на поиск сокровищ в современной реальности: трофеем этой охоты станет для него «Забриски пойнт», фильм неожиданный, пышущий юностью, снятый под документальное кино, с примесью лиризма и легкомыслия, которые были по сердцу новой публике и уже имели широкое хождение в новом кино. «Перед лицом нарождающейся реальности, — заявляет он, — у художника не может быть иной задачи, кроме как исследовать ее, выйти на улицу, затеряться в толпе людей». Давным-давно именно так звучало и кредо неореалистов. Загоревший под солнцем Калифорнии, надевший джинсы, кинематографический певец отчуждения бросается в это море витальности и насилия, как в источник молодости. Идеи, книги, повествовательные формы старой Европы — к черту все!
Антониони говорит: «Читать фильм, как книгу — это слова которые сегодня потеряли всякий смысл. Единственное, что важно — чувствовать фильм». И, если действительность стала хаосом слов и красок, творчество тоже имеет полное право принимать форму бреда. «Как художник, — продолжает он, — я отстаиваю свое право бредить, и прежде всего потому, что сегодняшний бред завтра вполне может оказаться истиной».
В то же время Висконти настаивает на том, что нужно «иметь ясность в мыслях, когда готовишься снимать кино». Он считает, что ни один серьезный, реалистический анализ настоящего невозможен без знания прошлого, истории и великих вех культуры, которые есть у любой цивилизации — даже и у той, которая оказалась на краю пропасти. «Политический, культурный и человеческий кризис последних лет, — заявляет он в 1969 году, кажется мне кризисом, сломавшим все предшествующие схемы, он требует осведомленности и отказа от догм. Я признавал и признаю огромное значение той роли, которую играли, играют и хотят играть в этой ситуации молодые. Однако я хочу заявить совершенно ясно, и с большой озабоченностью, что зачастую подобный порыв молодых продиктован новыми формами догматизма и новыми ошибками, которые могут привести к сумятице и ставят под угрозу ясность, в которой так нуждается человечество».
Менее всех на свете он склонен отвергать всю ту культуру, что до сих пор питает его. Когда в 1971 году Анри Шапье спросит, может ли его творчество сыграть некую роль в «спасении западной культуры», Висконти ответит без пафоса, но твердо: «Да, думаю, может. Культура приобретает все более массовый характер, это неизбежно. И хорошо, наверное, что кино предлагает большой части публики обратиться к великим творениям литературы».
Он не только отказывается от экспериментов, от изобретения новых и хаотичных форм, от всего, что сам называет бессмысленным формализмом, но и, бросая вызов всем модным течениям, условиям, коммерческим требованиям, выбирает самые длинные тексты, произведения, чей объем и сложный симфонизм отмечен влиянием Бальзака, Пруста, Томаса Манна и Вагнера. Он с волнением думает о том, что сегодняшняя несуразица завтра может стать истиной — но для него важнее то, как вчерашний бред предвещает бред сегодняшний. Он считает, что фашизм еще не умер, и в 1968 году, возвратившись к давнему плану экранизации «Макбета», он чувствует, что «та история насилия, крови и звериной жажды власти, что началась 2 февраля 1933 года», когда нацисты пришли власти в Германии, еще может быть «свидетельством и репортажем о действительности, которая нас все еще окружает».
Только непомерная и преступная чудовищность немецкой трагедии, как ему представлялось, перекликается с хаосом конца шестидесятых, ясно показавшим разложение общества и цивилизации, разрушение гуманистических ценностей, высвобождение иррациональных сил. Теперь он не успокоится, пока не отыщет самые корни зла, именуемого декадансом, пока не совершит обратный путь по кругу, вновь пройдя все этапы исторического пути, направлявшие все его внутреннее развитие — от пожара рейхстага в «Гибели богов» до прихода к власти бисмарковской Германии в «Людвиге». «Декадентство, — утверждает он в 1973 году, — это нечто очень ценное. Это было художественное движение исключительной значимости. Если сегодня мы опять стремимся погрузиться в ту же атмосферу, то делаем это потому, что хотим наглядно показать эволюцию общества через потрясшие его катаклизмы, которые привели к закату великой эпохи. Я считаю, что такой образ действий — одна из форм политической ответственности».
Движут им и другие причины, более личные: одна из них — это, конечно же, Хельмут Бергер, которому он хочет дать шанс испытать свои силы; в то же время Висконти заворожен зеркалом насилия, которое в гигантской и трагической пропорции отражает его собственную драму, которую он пережил и как художник, и как человек. Он говорит: «В известном смысле, мы, старые кинематографисты, сделали то, что должны были сделать. Я делал это со времен „Одержимости“ и вплоть до „Гибели богов“, и если я когда-нибудь и позволял себе передышку вроде „Белых ночей“, то это была вовсе не позорная передышка. Отныне мы тоже можем смело обращаться к темам более частным и личным, ибо за плечами у нас боевое прошлое, которое в определенной мере оправдывает это запоздалое и временное возвращение к частной жизни, в которой мы себе столько лет отказывали».
Он находит свои личные темы как у Пруста, так и у Томаса Манна. Едва закончив «Гибель богов» и снимая «Смерть в Венеции», он готовится к работе над фильмом, который должен стать «его последним фильмом» и венцом всего творчества — он собирается перенести на экран эпопею «В поисках утраченного времени».
Сузо Чекки д’Амико, написавшая сценарий этого фильма, который по таинственным причинам так и остался несбывшейся мечтой, вспоминает: «Всю жизнь Лукино думал о прустовском фильме, о „своем“ фильме, как он его называл Он был суеверен, и эта идея преследовала его, я это точно знаю. Это была история и о подавленных желаниях, и об изгнании бесов. Пруст был его автором, он его знал наизусть с детства. Он сам был Шарлюсом».
«А Людвигом он тоже был?» — спрашиваем мы у нее.
Секунду поколебавшись, тронув пальцами золотую цепочку с аметистами, которую подарил ей режиссер, она уверенно отвечает: «Нет, не был У Висконти был очень сильный характер. А Людвиг — слабак».
Будучи сильным человеком, он все же был заворожен поражениями, жертвами, историями тех, чьи «судьбы были растоптаны реальностью». Он, как Пруст и в еще большей степени Томас Манн, тянулся к мученикам, страстотерпцам, художникам-Прометеям, жившим и творившим в пору смятений, катастроф, войн. Германия, которая манила его — это Германия, пережившая шок, страна великих потрясений, где мечта о могуществе погибает вместе с самой чистой экзальтацией романтизма. Его влечет та Германия, душу которой, по словам Томаса Манна, еще во времена железного канцлера воспел Вагнер — и это душа ностальгирующая, закрытая от мира, влюбленная в невозможное и в смерть.
Разумеется, Висконти не отрицал влияния, которое на него оказала французская культура, он говорил: «Она сформировала меня, ведь я жил во Франции с юных лет». Подобно большинству великих итальянских гуманистов, подобно Сеттембрини из «Волшебной горы», Висконти был вскормлен философией Просвещения. Однако, говорит он, «хоть я и открыл немецкую культуру позже, именно она сделала меня более сознательным, более строгим и серьезным…»
Немецкий дух XVIII столетия контрастировал с блистательным и легким французским духом — он придавал произведениям искусства тяжеловесность, насыщал их моральной риторикой и рефлексиями вроде тех, что звучат из уст персонажей «Смерти в Венеции» и «Людвига». Этот же немецкий дух нес с собой и ощущение пессимизма — он создавал ту особую атмосферу, которую Ницше со ссылкой на Шопенгауэра и Вагнера назовет этической — «фаустовский аромат, распятие, смерть и могила…» Подобно Томасу Манну, Висконти чувствует себя «околдованным загадкой болезни и страдания». Он признается: «„Будденброки“ — это роман, который навсегда запечатлелся в моей душе. „Волшебная гора“ — книга, которую я хотел экранизировать с очень давних пор». Хотя в его личном пантеоне великих по-прежнему присутствует и Верди, музыку он теперь слушает почти исключительно немецкую: в его доме всегда звучал Моцарт, а еще Штраус и Вагнер, но теперь к ним добавился еще один композитор, которым он прежде пренебрегал — Густав Малер.
В этом обращении к новой родине своей души — а Висконти прекрасно помнит, что его предки были выходцами из Германии — огромную роль сыграл Томас Манн. «В своих творениях был каждым из нас — и в счастье, и в несчастье. Я прекрасно понимаю его, при том, что он — немец из Любека, а я — миланец». Было бы удивительно, если бы Висконти не понимал Манна — ведь они столь близки и по социальному происхождению, и по художественным вкусам, и по чувству музыки, по сочетанию критического морализма с декадентством. К тому же оба они исследовали те демонические силы, которые композитор Ханс Вернер Хенце назвал «опасной тайной Германии».
Вдохновленная «Будденброками», как ясно видно уже по первой же сцене семейного обеда в семье Эссенбек, «Гибель богов», как и все фильмы Висконти — это результат сложного соединения литературных влияний: здесь и Шекспир, и Достоевский, и «Затворники Альтоны» Сартра… Но выше и важнее всего здесь — элементы специфически немецкие. Сам режиссер говорит: «Мне хотелось бы сделать так, чтобы в моей картине чувствовалось больше немецкого, но, увы, должно быть, Германию я знаю недостаточно, хотя я прочел многое из Томаса Манна. Чтобы лучше уловить кое-какие тонкости, мне следовало бы немного пожить… в патриархальной немецкой семье».
Он прочитал или просмотрел все источники, где говорилось о семьях такого рода — о семье Крупп, об основных действующих лицах того кровавого гиньоля, которым обернулось зарождение гитлеровской Германии. Художественная литература и исследования, биографии, мемуары, исторические эссе — Висконти изучил все это вдоль и поперек. Для съемок мрачной финальной сцены свадьбы Софии фон Брукман, этой одурманенной леди Макбет, и ее любовника Фридриха Брукмана, были собраны и тщательно проштудированы различные версии двойного самоубийства Гитлера и Евы Браун, Висконти не расстается с исследованием Уильяма Л. Ширера «Взлет и падение Третьего Рейха» — он называет ее «настоящей энциклопедией эпохи».
Все декорации, костюмы и атмосфера времени были с маниакальной, скрупулезной тщательностью воссозданы Пьеро Този и Верой Марцот, Рассказывают про некоего еврея, который из окна своего автомобиля увидел выплывшие из кошмарного небытия фашистские знамена, военную униформу и знаки отличия, и его тут же свалил сердечный приступ. Снова зло посмеивались над режиссером, который для съемок сцены о Ночи длинных ножей велел доставить в трактир австрийской деревушки Унтерах-ам-Аттерзее белые телячьи сосиски прямиком из Баварии, чтобы в кадр не попали местные колбаски — они куда розовее.
Роли тоже были распределены в соответствии с исключительно немецким духом истории: офицера СС Ашенбаха играл Хельмут Грим, в главных ролях были заняты актеры-немцы, за исключением роли либерала Герберта Тальманна — его роль досталась Умберто Орсини, и молодого виолончелиста из рода Эссенбеков — его сыграл француз, Рено Берлей. Что до двух главных ролей, которые исполнили Дирк Богард и Ингрид Тулин, то первый получил при рождении имя Дирк ван ден Богерде (его отец имел голландские корни), а вторая, муж которой был австрийцем, германский мир знала тоже отнюдь не понаслышке.
Роль сынка-дегенерата, вставленная в первый же вариант сценария этого нового «Макбета», предназначалась, конечно же, молодому рысаку из висконтиевской конюшни — Хельмуту Бергеру. Эта роль стала его первым боевым крещением. За четыре месяца съемок Бергер прошел через бурю страстей и море публичных унижений. Висконти постоянно ссорится с ним, мечет молнии и клянет актера, на чем свет стоит. Он истошно орет на Бергера: «Паршивый засранец, если ты не сделаешь этого сейчас, ты не сделаешь этого никогда; можешь валить обратно в Австрию!» Актер постоянно выводит Лукино из себя — и своей неумелостью, и вспышками недовольства. Особенно трудно далась сцена, в которой Бергер должен был пародировать Марлен Дитрих: Висконти почувствует удовлетворение только после того, как сделает двадцать дублей и устроит для актера просмотр «Голубого ангела», чтобы тот, наконец, понял, что от него требуется.
Мартин фон Эссенбек в фильме — это наследник семьи Крупп, Арндт фон Болен унд Гальбах,[50] отец которого, Альфрид, состоял в СС и был крупнейшим в мире производителем оружия. Кроме того, Альфрид Крупп построил одновременно более ста производств, где работали люди, пригнанные сюда отовсюду. Городок Эссен, промышленная вотчина семейства, фигурирующий в фильме как Эссенбекс, был переделан в одну большую стройплощадку, где использовали труд детей, в том числе и шестилетних. Ходят слухи, что в конце войны Альфрида Круппа, совсем как Макбета, стали преследовать галлюцинации — бывало, что во время обеда в большой столовой своего замка он вдруг вставал из-за стола и, тыча пальцем в темные утлы, бормотал: «Кто они, все эти люди?»
Через три года после приговора на Нюрнбергском процессе, где Крупп получил двенадцать лет тюрьмы, его освободили и вернули состояние. Лишь в этот момент он пожелает дать образование сыну, который отдалился от него с момента развода родителей, то есть в возрасте трех лет. Однако молодой человек не проявляет никакого интереса к торговле, он предпочитает совершать кругосветные путешествия в обществе матери или прохлаждаться во дворце на юге Рио-де-Жанейро, построенном по образцу Версаля. В день 150-летнего юбилея предприятия, когда отец впервые представляет его своим верным служащим, «круппианерам», мальчик производит на них впечатление поразительно красивого плейбоя с подчерненными тушью ресницами и выщипанными бровями — при этом он явно безразличен ко всему, что продолжает питать хищническую страсть его отца. После смерти последнего Арндт продает свои акции за ежемесячную ренту в миллион долларов и проводит оставшиеся двадцать лет жизни в вихре блестящей и дешевой светской мишуры, окружив себя целым двором юнцов-подхалимов, подворовывающих у него все, что плохо лежит. Весной 1986 года он умрет от осложнений, связанных со СПИДом. Он почти не расставался с матерью, но на смертном одре обвинил ее в том, что она всегда пагубно влияла на его жизнь.
Когда «Гибель богов» впервые показывали в Гамбурге, тот, кого называли «малыш Крупп», объявил, что в честь такого события хотел бы устроить пышный прием. «Должен признаться, — говорит Висконти, — это мне понравилось. Я решил, что он не лишен остроумия».
Реальная судьба семьи Крупп исторически опровергает историю, задуманную Висконти: крупных промышленников при нацистах уцелело гораздо больше, чем было раздавлено. Заметим в скобках, что гитлеровская Германия вытолкнула на авансцену истории целый сонм отвратительных мелкобуржуазных посредственностей, однако они вовсе не показаны в этом фильме о трагическом закате аристократии. Висконти хотел изобразить «сумерки богов», тех самых богов, через которых, по формулировке Маркса, цитируемой Висконти, «выражает себя капитализм»; это фильм о тех, кто «управляет родом человеческим и калечит его еще и сегодня так, как это некогда делали языческие божества, боги Вагнера. Инструмент их власти есть деньги; храмовая башня их культа — завод, ощетинившийся дымовыми трубами».[51]
Висконти упрекали в том же самом грехе, что и создателя «Затворников Альтоны»: он сделал главными героями королей, принцев индустрии, обретающих «в преступлении, в абсолютном слиянии со злом свое зловещее величие», и этим-де придал нацизму инфернальный, но все же романтический ореол. Защищаясь от нападок, Жан-Поль Сартр давал ответ, в равной мере подходящий как для его фон Герлахов, так и для висконтиевских фон Эссенбеков: «Обратившись к подобным персонажам, я сразу же сталкивался с фундаментальным противоречием: между промышленным могуществом этих людей, их высоким происхождением, их прошлым, культурой и, с другой стороны, их сотрудничеством с нацистами, которых они презирают… Так мне удалось выйти на проблему сговора, которая является ключевой, если мы хотим понять этих людей».
Висконти хотел показать такой же процесс заражения, которого не избежали ни его собственная семья, ни Савойская династия; он с грустью подчеркивает контрасты между аристократическим прошлым, тем патриархальным укладом, который продолжает царить в семье, пока еще жив старик Иоахим, и настоящим, которое звучит, как какофония — это ясно показано сразу, когда «благородная» музыка, соната Баха, которую играет Гюнтер, противопоставляется вульгарным ужимкам Мартина, нарядившегося певичкой Лолой-Лолой. Те же мотивы диссонанса звучат и во вспышках яростного соперничества внутри семейства, в проявлениях порочности, извращений и смертоносных инстинктов.
«Еще раньше, чем погаснет пламя, охватившее рейхстаг, — предсказывает Ашенбах, этот вестник темных сил, выполняющий здесь роль макбетовских ведьм, — люди старой Германии обратятся в прах. Этой же ночью». А вместе с ними превратятся в прах и все, подобные Иоахиму, Герберту, Гюнтеру, вся либеральная и демократическая, буржуазная концепция политической жизни. Жертвами этих перемен станут Томас Манн, Стефан Цвейг, Андре Жид, Эрих Мария Ремарк, Джек Лондон, Золя, Пруст и другие, подобные им: гигантские костры, в которые швыряют их книги, словно в эпоху Инквизиции, вновь запылают на многолюдных площадях.
Знаменательно, что Висконти отказался от первоначально запланированных исторических эпизодов в начале и в конце фильма: картина должна была открываться и заканчиваться кадрами хроники, пожаром рейхстага и образом Германии в 1935 году. «Я хотел, — объясняет он, — чтобы действие происходило в Германии, ибо я собирался рассказать историю о нацизме, и этот фон здесь весьма важен. Но фильм не является чисто историческим — он стал чем-то большим. Наступает момент, когда персонажи становятся почти символами, и таким образом это уже не фильм об истории зарождения нацизма, а фильм, события которого происходят сейчас. Это картина, которая должна вызвать споры и, больше того, через связь с героями она должна привести зрителей к определенному катарсису. В любом случае я никогда и не стремился снять исторический фильм».
«Гибель богов» — это прежде всего притча о нацизме; ее, как и «Макбета», можно назвать «легендой, выдуманной историей из далеких и мрачных времен». Это также и марксистская притча, позволившая Висконти еще раз подтвердить свое антикапиталистическое кредо: «Самой точной из всех интерпретаций фашизма мне представляется та, которая обозначает фашизм как последнюю фазу капитализма в мире, как последний итог классовой борьбы, дошедшей до высшего градуса, до чудовищного явления на историческую сцену фашизма или нацизма, до той фазы, после которой возможно только движение общества в сторону социализма».
Однако главные навязчивые идеи Висконти в этом фильме проявляются в неистовой экспрессионистской и извращенной стилистике, которая принадлежит к области фантазии, а не к исторической правде или к какой-то идеологии. Все, что мы видим на экране — терзании персонажей, погружение в экспрессионистскую стилистику, болезненного обаяния которой Висконти до сих пор избегал, краски пряной и гротескной пародии, вульгарное пение Мартина или траурный маскарад в сцене свадьбы — все это гротескно преувеличенные тревоги автора, его беспокойство по поводу стремительного распространения ржавчины, «распада и гниения», смерти. Это чудовищная симфония, кошмар, которым он хотел «нащупать тот предел, переступив который, обращаются в пепел Содом и Гоморра», и где он ad nauseam громоздит акты насилия, безнаказанные преступления и весь спектр сексуальных извращений.
Достоевский и Фрейд, раскрывшие теневые стороны психики, повлияли на этот фильм не меньше, чем свет марксистского учения. Эта картина — словно «Леопард», отраженный в кривом зеркале: семья распадается, молодые уничтожают стариков, «понятие о личной нравственности умерло». Это повесть об «обществе избранных, которым дозволено все»: изнасилование, убийство, кровосмешение, братоубийство, матереубийство, детоубийство — все, что угодно. Ничто теперь так не интересует Висконти, приверженца дисциплины и порядка, как это тотальное нарушение всех табу, в котором виновен Мартин. И лучшими сценами фильма оказались как раз те, где ярче всего заметен сплав влечения с отвращением: морок кровосмешения (эта сцена снята в синих тонах) и следующее за ним преображение Софии, в которой, после того как Мартин овладел ею и растоптал ее, вдруг пробуждаются материнские чувства к сыну.
«Это фрейдистское возвращение к прошлому, — объясняет режиссер. — Малыш, белокурые кудри которого она сравнивает со своими волосами, тетрадки с детскими рисунками Мартина, в одной из них надпись Martin tötet Mutti (Мартин убивает маму), и там же детский рисунок — маленький Мартин с ножом в руке и окровавленной женщины рядом. Эту сцену я придумал уже на съемках, почувствовав, что необходимо закончить ее именно так — образом, который показывает, что хотя Мартин еще всего лишь дитя, но в будущем он может стать опасностью, угрозой. Тогда я попросил, чтобы мне нашли ребенка, умеющего рисовать, и в вот в мой кабинет в „Чинечитта“ привели девчушку и сказали ей: „Нарисуй малыша, убивающего даму“; она нарисовала мать с ребенком; нож мне потом пришлось дорисовать самому, потому что она не захотела. Ужасно смешно! Под одним рисунком я написал детскими каракулями: Martin tötet Mutti, а под другим — Mutti und Martin».
Столь же вдохновенно исполнен и эпизод Ночи длинных ножей — на берегу Аттерзее, среди вод и горных вершин, предвосхищающих «Людвига», но также напоминающих и об озере Комо в Черноббио. Штурмовики плескаются в воде, их тела расслаблены опьянением и дремотой, так что приобретают женственные черты — камера снимает эту сцену нежно и изобретательно, а сопровождают ее нацистские песни и ностальгические мотивы вагнеровского «Тристана».
На рассвете в эту идиллию вторгаются эсэсовцы — они превращают эту гомосексуальную оргию в кучу бессмысленных, извивающихся в агонии тел, как на полотнах Бэкона, в кровавый ритуал позора. Для художника этот позор — еще и драматичная экзальтация мазохизма, и кара, ужасающая и желанная для гомосексуалистов, какими были и Висконти, и Пруст. Эта сцена — словно бы визуализация проклятия, которое их преследовало. Американские продюсеры отказались назвать фильм «Гибель богов» и предложили другое название, которое режиссер всегда отвергал — «Проклятые». Это название помогло фильму собрать большую кассу, но меньше отвечало духу фильма и вагнеровскому образу пылающего костра, пожирающего твердыню повелителей мира. Хуже того, ему не разрешили использовать в фильме музыку Густава Малера, и пришлось удовольствоваться помпезными мелодиями Мориса Жарра.
Идеальным местом встречи Висконти и австрийского композитора стала картина «Смерть в Венеции».
«Между ними существовало тесное душевное родство», — замечает Франко Маннино, который дирижировал записью фрагментов из Третьей и Пятой симфоний Малера для следующего фильма. — «Два этих великих художника драмы во многом схожи между собой. Это и склонность к театральным эффектам, и нежелание хоть в чем-то уступить слабостям и рутине, и абсолютная преданность литературным текстам, которые они умудрялись оживить для современной публики. Они глубоко изучили разные стили. Кроме этого, оба имели склонность к декадентству, вопреки своей образованности — они жили, наблюдая упадок гуманности и культуры, который окружал нас в XIX веке». Что может быть лучше для их союза, чем «Смерть в Венеции»?
По определению Теодора Адорно, музыка Малера — это «музыка критическая, она порывает с традицией, по которой сама же испытывает ностальгию». В эти «гигантские симфонические попурри» вдруг врываются элементы простонародные, шарманки, популярные шансонетки и мотивы модных шлягеров, ярмарочные куплеты и военные марши. Презирая хороший вкус и успокоительную для буржуазии благостную гармонию, «Малер в качестве закваски вводит в благородную музыку элементы музыки народной, взятой прямо с улицы…» Этот «бродяга от музыки» умел услышать настоящую полифонию в звуковых ландшафтах ярмарочных балаганчиков и тиро, среди крикливой суматохи, которую внезапно мог разрезать еще и звон фанфар.
Выстроить из всего этого некую гармонию — задача для нового века, для революционной эпохи. Как же все это связано со «Смертью в Венеции», с Томасом Манном? Венецианская повесть, в которой немецкий писатель одарил своего героя не только физическими чертами, но также и именем Малера, «человека истинно великого», была в значительной мере навеяна тем, что в мае 1911 года писатель читал публиковавшиеся каждый час коммюнике о состоянии умирающего композитора. Томас Манн, как напоминает нам Висконти, видел в Густаве Малере «человека, в котором воплощается самая священная и самая суровая художественная воля нашего времени». Уже одного этого было достаточно для того, чтобы его музыка прозвучала в фильме Висконти.
Художественное творчество, отношения между художником и его публикой, художником и миром, отношения художника с самим собой — вот тема, которую Висконти, достигший возраста, когда пора подводить итоги, вознамерился «взять штурмом». Ему понадобились годы работы, он пережил провалы и поражения, пересмотрел многие из своих убеждений словом, он достиг зрелости и лишь в этот момент осмелился взяться за тему, которая, по его словам, «привлекала его с очень давних пор: тема конфликта, который может произойти между художником с его эстетическими устремлениями и жизнью, между тем, что возносит его над историей, и тем, что заставляет участвовать в исторической судьбе буржуазного сословия». Это тема, которая вовсе не кажется Висконти устаревшей в ту пору, когда «политическое» доминирует над «эстетическим» и повсюду только и говорят о том, что «искусство умерло».
Как и в «Гибели богов», в «Смерти в Венеции» Висконти рассказывает о кризисе и конфликте, в котором патологические силы, иррациональное, тяга к саморазрушению берут верх над спокойным и умиротворяющим, но иллюзорным буржуазным миропорядком. Фильм начинается с того, что Густав фон Ашенбах (в исполнении Дирка Богарда) расставляет в номере отеля фотографии жены и дочери, тем самым ритуально восстанавливая порядок нормальной, безопасной жизни. Висконти благоговейно воссоздает очарование этого старого и тихого семейного уклада, вновь оживляя собственные детские воспоминания о жизни в этих венецианских и парижских дворцах, в этих огромных отелях начала века, которые все, как один, походят на Баальбек из «Поисков утраченного времени». Сам Лукино повсюду, где ему случалось жить, любовно расставлял по комнатам портреты близких, матери, словно бы изгоняя собственных демонов. Мать Тадзио, роль которой исполнила Сильвана Мангано, неподражаема и элегантна, и в этом образе легко угадывается возвышенный портрет матери самого Лукино — ведь кино лучше прочих искусств способно воскрешать умерших. Кино — это своего рода спиритический сеанс, на котором, по словам Висконти, «те, кого с нами уже нет», еще вполне могут «рассказать нам немало весьма интересных вещей».
В мире Ашенбаха все еще сохраняются порядок и безмятежность, пусть даже хрупкие, в этот исторический миг его мир переживает пик своего развития; через каких-нибудь три года эту цивилизацию сметет огненный вихрь войны, а вместе с ним, по словам Висконти, «рухнут и все прежние установления, и иллюзии старого века». Зловещее предупреждение заключено в эпизоде, где рядом с изысканной террасой Hotel des Bains играет аккордеонист, ухмыляющийся щербатым ртом, которому аккомпанируют три столь же колоритных гитариста. Затем он поднимается по лестнице, чтобы попросить денег у Ашенбаха и у матери Тадзио. Когда хозяин гостиницы прогоняет его, он все никак не уходит и вместе с товарищами опять выпрашивает монету, закончив исполнение «Шуточной песенки» традиционной mossa (непристойное движение бедрами в тарантелле), и лишь после этого исчезает, не забыв напоследок показать публике язык. Зрители наблюдают за этой сценой, сначала забавляясь, а потом все с большей тревогой и в конце концов с озлоблением.
Густав фон Ашенбах, как и родственная ему душа — Адриан Леверкюн из «Доктора Фаустуса» — человек сдержанный, достойный, из породы noli те tangere.[52] Его, пятидесятилетнего композитора, завоевавшего честь и славу, смутная тоска побуждает к бегству в ориентальный город чувственности и смерти, в ту Венецию, которая, как и он сам, отмечена признаками неотвратимого физического и нравственного упадка. Этот город бередит его старые раны, пробуждает старую боль от пережитых провалов и скандалов, вызванных его музыкой, и усиливает его страх перед старостью, перед безжалостным ходом «песочных часов меланхолии».
Чем строже, неумолимее, ригористичнее пуританская, буржуазная мораль художника, тем сильнее соблазн поддаться притяжению утонченной и опасной сферы сексуальности. Вот поэтому ангельская красота Тадзио очаровывает Ашенбаха так же, как Леверкюна — или Ницше — завораживала чувственная, сладострастная и губительная связь с Эсмеральдой — шлюхой, больной сифилисом. Фильм дважды отсылает к ее имени: так называется лодка, на которой композитора везут в Венецию, а позже образ Тадзио, при помощи флешбэка, прямо сопоставляется с образом юной проститутки. Монтируя один за другим эпизоды, в которых «К Элизе» сначала играет Тадзио, а потом проститутка, Висконти призывает на помощь волнующий язык музыки, соединяя чистоту и порок, духовную любовь и чувственную страсть.
Тадзио, этот ребенок, который отождествляется со шлюхой, «воплощает в себе тот полюс жизни Ашенбаха, который можно назвать полюсом влечения» — говорит Висконти. Он продолжает: «Это полюс подлинной жизни, альтернатива и антитезис миру строго интеллектуальному, той атмосфере, в которой замкнулся Ашенбах — и эта жажда жизни приводит его к смерти».
«Тот, кто своими глазами созерцал красоту, уже обещан смерти» — эта строчка из стихотворения Августа фон Платена-Галлермюнде, поэта и гомосексуалиста, умершего в 1835 году в Сиракузах, становится как бы лейтмотивом фильма. Свет, который источает красота, становится для героя «Смерти в Венеции» болезненным отсветом тления: если в одной из первых сцен он всего лишь разряжен в пух и прах, то позже он падает в самые грязные канавы сточных вод, прежде чем умереть от холеры «уже полностью накрашенным, точно посмешище, клоун, как сломанная марионетка».
По мере того, как Ашенбах осознает собственное разложение, нарастает и пафос истории: в конце своих блужданий по зловонным венецианским переулкам в поисках Тадзио он вдруг, слабея, не может сдержать смеха, который, по словам Висконти, «есть горькая и ироническая насмешка над собой. В сценарии не было этого смеха, я придумал его уже в процессе съемок. Я решил, что Ашенбах не может просто разрыдаться и этим показать свою боль, но он должен был пожалеть себя, потому что прекрасно понимал свое положение».
Ницше писал, что уровень и тип сексуальности личности отражаются в самых высших проявлениях ее духа. Эрос ставит художника в оппозицию к миру, к жизненному укладу, вырывает его из буржуазной сферы, доводя до мучительного и экстатического вырождения. В то же время именно Эрос раскрывает художнику связи между искусством и преисподней, делает более ясным его взгляд на темные источники подавляемых чувств. Разрыв с миром и связь с ним, униженность в поисках высокого, возможность искупления и угроза гибели — искусство по природе своей двусмысленно и неуловимо. Именно эту амбивалентность и хотел запечатлеть в своем фильме Висконти. И его работа, действительно, сияет светлыми красками, образуя удивительный контраст с той темнотой, в которую погружены многие другие художники.
Необходимо было любой ценой сохранить эту двоякость, присутствующую у Манна, бережно передать тон его повестворання; сам немецкий писатель говорил, что это история «весьма благопристойная», или, если следовать французскому выражению, tout à fait convenable — «совершенно приличная». Чтобы остаться верным этому завету, Висконти месяцы напролет колесил «в поисках Тадзио», прекрасного юноши, в которого влюбляется Ашенбах. Во всех городах, от Будапешта до Хельсинки, он будет просматривать самых красивых, самых белокурых юношей, которые ходят, раздеваются и позируют перед ним, пока, наконец, в Стокгольме перед ним не появится этот пятнадцатилетний подросток со сказочным именем: Бьорн Андресен.
Когда взгляд людоеда-Висконти остановится на найденной добыче, следует длинная пауза. Потом он скажет: «Он очень красив… Поверни голову. У тебя есть с собой фотографии?» И — ассистенту, по-французски: «Скажи, чтобы снял пуловер и посмотрел в камеру… Ростом чуть выше, чем нужно». Висконти ни на миг не забывал того идеального Тадзио, о котором писал Томас Манн. Ангел утра и смерти, Тадзио должен был улыбаться в фильме той таинственной, нежной и бессловесной улыбкой, которая была присуща ангелам, нарисованным Леонардо да Винчи.
Трудность заключалась в том, чтобы «рассказать все, ничего не говоря напрямую, с такой тонкостью, чтобы нигде не сорваться в непристойность и удержаться в границах двусмысленности». Висконти отказался и от эпизода оргиастического кошмара Ашенбаха. «Поначалу я действительно подумывал снять его кошмарное видение в стиле „Фотоувеличения“, в одном мюнхенском кабаке, который чем-то похож на восьмой круг дантова „Ада“,[53] с оркестром проклятых грешников, в который я мог бы включить и Ашенбаха, хоть для этого и пришлось бы перепрыгнуть через полвека. Но я предпочел отказаться от этого плана, ибо рассудил, что это станет сбоем в интонации, огрехом стиля. Я заменил сцену кошмара, которая в повести связана с минутами самого безнадежного отчаяния и предвестия смерти, на провальный концерт, который играет в картине ту же роль и говорит об отчаянии, предвещающем конец». По признанию Висконти, на съемки этого эпизода его сподвигли воспоминания о том, как десятью годами раньше был освистан фильм «Рокко и его братья».
Вся картина балансирует между иронией и лиризмом, демоническим и ангельским началом, вплоть до финальной мистерии в заключительной сцене, где лицо художника, превратившееся в маску смерти, с которой стекают румяна, сопрягается с лучезарным ликом Тадзио, и юноша указывает на бесконечный и отливающий синевой горизонт над морем. Этот жест и это небо над морем — словно бы визуальный эквивалент септета Вентейля[54] из «Поисков утраченного времени», «призыв к неземной радости», «мистическое ожидание пурпурного Ангела Утреннего».
Присутствие Пруста, современника Малера, тоже ощущается в фильме — оно проявляется в элегическом взгляде на исчезнувший мир, в обращении к искусству как к утешению в заведомо проигрышной партии, делающему смерть «не такой бесславной, а быть может, и не такой правдоподобной», и в том божественном вдохновении, которое, по Висконти, не есть «ни декадентское, ни эстетское, ни гедонистическое, а, по более серьезному и глубокому определению древних греков, ищет истинного совершенства и полной гармонии».
При всем сходстве их внутренних терзаний, между одиночеством Ашенбаха и одиночеством Висконти есть разница; музыкант в борьбе со своим личным дьяволом отдаляется от мира, отдается падшей силе, возносящей его высоко над пошлостью, но и разрушающей его вместе с печалью и наслаждениями. Образ мыслей Висконти не утрачивает критичности. Не случайно Ашенбах — еще и фамилия офицера СС из «Гибели богов». Устанавливая генеалогическую связь между нацистом и эстетом из «Смерти в Венеции», Висконти хочет подчеркнуть, что чудовищный процесс вырождения гитлеровской Германии восходит к отдаленным, глубоким корням: они — в той культуре, где зарождался фашизм и к которой он без конца возвращался. Это культура Belle Époque, видевшая расцвет конца века.
Чтобы добраться до этих корней, он в который раз откладывает экранизацию «В поисках утраченного времени» по причине финансовых трудностей и вновь заимствует у Германии зеркала, которые обличают болезни и кризис ценностей. Неотступно следуя за Томасом Манном в его исследованиях упадка гуманистической европейской культуры, он добирается до Вагнера и эпидемии вагнеризма, охватившей всю Европу второй половины XIX века.
Томас Манн называет это «упоение мертвецом, сумевшим завоевать мир, парадоксальным и необычайно пленительным». Отвернувшаяся от действительности, погруженная в феерическую атмосферу сновидений и мифов, в самое сердце иррационального, чувственная и инфернальная музыка «современного Калиостро», без сомнения, порывает не только с пресной и материалистической буржуазной цивилизацией, которая все-таки была основана во времена Второго Рейха, Бисмарка и Вильгельма II, но также и со всей гуманистической традицией.
Автор «Смерти в Венеции» и «Страдания и величия Рихарда Вагнера», при всей своей восприимчивости к чарам «Тристана», заключает, что это произведение, смутное и смущающее воображение, «было создано и направлено против цивилизации, против всей культуры и модели общества, господствовавшей со времен Возрождения» и является «детищем эры буржуазного гуманизма так же, как им является гитлеризм». В каком смысле? В том, как оно превозносит и потворствует фаустовской гордыне духа, поддерживает культ тьмы, смерти, разрушения и высвобождает иррациональные силы. Сомнительными, но зато крайне обольстительными способами эта опера приносит с собой «контрабандную религию», которая во вкусах покоренной, впитавшей заразу публики вытесняет французскую философию Просвещения, ясный и уравновешенный идеал личности гетевского образца. Томас Манн вычисляет своеобразное противоречие вагнерианского искусства, стремящегося к «абсолютной чистоте», но использующего при этом способы столь «нечистые»: «Чувственный жар, опьянение, гипнотическая ласка, щедро рассыпанные мелизмы — не эта ли сладость и не это ли сладострастие музыки так покорили воображение буржуа?»[55]
Портрет Вагнера, который Висконти создает в «Людвиге», вполне согласуется с забавным описанием его фигуры в манновских «Страданиях и величии Рихарда Вагнера». То был «саксонский гном» с вечной табакеркой для нюхательного табака, кипучим талантом и скаредным характером, со всем тем, что делало его таким «буржуазным» — но, уточняет Томас Манн, отнюдь не в благородном смысле XVI века, а в самом что ни на есть современном. При этом сей творец — всемогущий, таинственный волшебник, покоривший своим обаянием не только салоны всевозможных мадам Вердюрен, но и многих писателей, поэтов, философов, от Бодлера до Томаса Манна и Ницше.
Но самой поучительной жертвой его чар, по всей видимости, был все же король Баварии Людвиг II, удалившийся от мира анахорет и самый яркий провозвестник глубочайшего кризиса, еще не захватившего весь мир, всю Европу. Висконти настолько увлекли подробности жизни Людвига, что он решил даже отложить экранизацию Пруста — как ему казалось, лишь на время. В первую очередь Лукино заинтриговали отношения короля с Вагнером, напрямую связанные с собственным пристрастием Висконти к немецкой музыке. По его словам, замысел фильма восходит ко временам гораздо более далеким, чем 1971 год, в котором он предлагает Роми Шнайдер «роль, для нее уже привычную», «Понимаю… Роль шлюхи?» — отвечала она, от души расхохотавшись.
Да нет же! Речь идет о роли императрицы Елизаветы Австрийской, той легендарной Сисси, которой она в пятидесятые годы подарила свое простодушное лицо пышущей здоровьем австриячки. Этот образ словно преследовал Роми. Еще снимая «Гибель богов», Висконти присматривается к натуре в Баварии, к окрестностям этих псевдоклассических, псевдобарочных, псевдоготических замков. Эти строения сомнительного вкуса, нелепые и китчевые, затерянные в глуши лесов, среди грандиозных и туманных горных вершин давно служили утехой для тех путешественников, которых заворожила тайна Людвига II и, больше того, всей эпохи — XIX столетия, в котором, по словам Томаса Манна, «пошлость так причудливо сочетается с меланхолией».
Кроме того, Висконти давно размышлял и о проклятой семье Виттельсбахов, породнившейся с Гогенцоллернами и Габсбургами, которая более семи веков царствовала в Баварии и соседних регионах до тех пор, пока XIX век не превратил ее историю в странный дивертисмент — он разворачивается между настоящей королевской властью и театрализованной грезой о королевстве, между здравым смыслом и безумием. Еще в тридцатых Висконти думал о том, чтобы снять фильм о трагедии, случившейся в Майерлинге.
Отложив подготовительные работы к «Поискам утраченного времени», к которым уже утверждены и декорации, и костюмы, и актеры, и драматургическая модель, Висконти решает снимать «Людвига». При этом он не так уж далеко отходит от прустовского универсума, как может показаться на первый взгляд. Многие герои «Утраченного времени» с одинаковым удовольствием посещают и помпезные салоны Мюнхена, и вечера у мадам Вердюрен. Да, Грете Гарбо не суждено было сыграть королеву Марию-Софию Неаполитанскую, сестру Елизаветы Австрийской и кузину Людвига II. А принцесса Германтская — она что же, не породнилась с той кровью, которую рассказчик, прилежная пчела геральдических соцветий, называет «одной из самых благородных кровей во всей Истории, из более всего напоенных опытом, скепсисом и гордыней» — от нее, от этой крови у барона де Шарлюса тот «особенный смешок», звучащий так же желанно, как «эхо некоторых древних, а теперь и вовсе редчайших музыкальных инструментов», эхо самых старых маленьких дворов Европы?
«Людвиг» — «не более чем интермеццо» перед экранизацией Пруста, уверяет на съемках Висконти, не предчувствуя, что судьба, да и сама работа рассудят иначе и придадут этому проклятому фильму черты настоящего шедевра, в своем роде патетического «Ивана Грозного», трагической Симфонии поражения, и станут органной ферматой «немецкой трилогии».
С самого начала работы над этим проектом возникают почти непреодолимые трудности. Бюджет фильма колоссален и требует участия четырех кинокомпаний — одной итальянской, двух немецких и одной французской; это приводит к бесконечным финансовым затруднениям. «„Людвиг“, — скажет Висконти, — был для меня необычайно, нечеловечески утомителен. Как во время подготовительного периода, так и на съемках, из-за неуверенности в других, из-за того, что и перед съемками, и во время съемок все трудности мне пришлось взвалить на себя. Сегодня снимаем, а завтра уже возможности нет. Вот такие неурядицы и недоговоренности очень меня издергали… Согласия достичь было нелегко, потому что фильм очень дорого стоил. Я вовсе не критикую продюсера; напротив, должен сказать, он всячески способствовал тому, чтобы фильм был снят. Напряжение сил было восхитительным, однако прежде, чем я снял фильм, это напряжение меня слегка измучило. Полгода борьбы. Два шага вперед — два назад. Приступаем к делу — и вот уже снова откладываем. Наконец начался поиск натуры и потом — репетиции, которые всегда проходили по ночам, в жутко холодном климате. Сказать по правде, холод меня не слишком донимал, однако, возможно, он не лучшим образом сказался на моем здоровье».
За несколько месяцев до 31 января 1972 года, когда об одну из кинокамер будет, по символической традиции, разбита бутылка шампанского, возвещающая о начале съемок, у режиссера случился приступ болезни, от которого он, переоценив свои силы, просто отмахнулся. Однажды летним вечером на Искье у него вдруг онемела рука, это продлилось секунд двадцать, не больше… «Не произошло ничего такого, что заставило бы меня лечь в постель, сказать самому себе: „Мне плохо, это было что-то опасное“. Вовсе нет, я продолжал веселиться с друзьями. Я продолжал преспокойно курить. Возможно, это был сигнал тревоги, на который мне следовало обратить внимание. Но я подумал: „Ведь я сильнее других. Стоит ли беспокоиться?“ Врач дал мне лекарство, чтобы я принимал его на съемках „Людвига“, но я этого не делал, потому что противно было носить флакончик в кармане, он вечно проливался… В один прекрасный день меня так разобрало, что я выкинул его со словами: „Не могу я вечно ходить с мокрыми карманами из-за этого чертова лекарства!“ Дорого же я заплатил за свою дурость — слишком дорого!»
Съемки наконец-то начались, первым их местом была локация в двух километрах от местечка Бад-Ишль. Это термальный курорт, где в ночном небе сияют огни конного шапито — онто и станет местом встречи Елизаветы Австрийской, «первой амазонки Европы», со своим кузеном Людвигом II, «самым красивым королем Европы». Висконти уже очень давно знал последовательность линз, которые предстоит использовать, все движения камеры, все точки съемок и освещение. Воссоздание исторической действительности в «Людвиге» по точности и скрупулезности может посоперничать с «Леопардом».
За месяцы съемок в Баварии группа беспрестанно переезжает в трейлерах из одного замка в другой, из Мюнхена в Обераммергау, неподалеку от которого возвышается дворец в стиле рококо в Линдерхофе (это единственный дворец, полностью достроенный Людвигом II). Из Линдерхофа они перебираются в Херреншимзее, новый Версаль, чья стеклянная галерея растянулась на 65 метров в длину и на 11 в ширину — эта декорация заставляет оператора Армандо Наннуцци решать сложные проблемы с освещением и бликами. Из Херреншимзее они едут на остров Роз, на озере Штарнберг, в Хохеншвангау, в Нимфенбург, в Нойшванштайн, где режиссер все время сетовал: дождь для него был недостаточно проливным, а туман и снег — недостаточно густые.
Предоставленные потомками семьи Габсбургов предметы мебели, охотничьи трофеи, гравюры, картины, столовое серебро — те самые, что служили и Людвигу, все было подлинным. Появляется в картине и знаменитый «немой слуга» из Линдерхофа — это механический столик, выдвигающийся прямо из пола, на нем уже расставлены цветы и блюда, а сделан он был для того, чтобы король мог вовсе не встречаться со слугами. Здесь все детали подлинные и взяты из истории — даже букеты свежих фиалок, которыми украшены головы лошадей Елизаветы.
Сходство актеров с персонажами было таково, что впору поверить, будто ожил семейный альбом королевского дома. В соответствии с фотографиями Людвига II Висконти постепенно изменял внешность Хельмута Бергера — из юноши ангельской красоты он постепенно превращается в полного и сутулого человека с одутловатым лицом… Он отрабатывал каждую реплику, каждое движение, каждую интонацию Хельмута Бергера. «Бергер — само совершенство в этой роли, — скажет Висконти позднее. — У него самого такие же слабые истерические припадки с самого отрочества, что и у Людвига, и та же меланхолия, которая с возрастом становится все отчаяннее…»
Висконти прочел и просмотрел все, что написано об истории Короля-Луны. «Этот фильм — его подлинная история, — говорил он, — воссозданная по старым документам и точным свидетельствам. О смерти его мне не удалось узнать ничего сверх того, что написано в исторических исследованиях. Ни семейные архивы, ни родственники, ни потомки свидетелей не расходятся в своих рассказах с официальной версией». Он захотел взглянуть на могилу короля, и его привели в подземелья церкви Святого Михаила, где иезуиты, заклятые враги короля-ренегата, за долгие столетия собрали гробы всех Виттельсбахов. Здесь покоятся останки Людвига II с того самого июньского дня 1886 года, когда императрица Елизавета в знак любовного прощания велела вложить в его сложенные руки погребальный букетик жасмина. «Его гроб — это ветхий ящик, весь покрытый пылью, среди многих других таких же запыленных. И корона на нем почти уже стерлась».
В Мюнхене за целый век, прошедший с тех дней, умершему королю, который провел на троне двадцать два года, не поставили ни одного памятника. Зато там процветает множество молодежных «Людвиг-клубов», где царит его культ; эти клубы, по словам Висконти, «весьма похожи на американские клубы в память о Джеймсе Дине или Мэрилин Монро». Романтизм не умер — его крайнее проявление и есть Людвиг II с его порывами, грезами, ностальгией по прошлым дням, его любовью к горным вершинам и одиночеству.
Его пристрастие к грандиозному, замки, которые он приказывал строить, сам не селясь в них, его страстное преклонение перед Вагнером, «обожаемым другом», называвшим короля «чудеснейшей красы божеством, сошедшим с Олимпа», благородным Лоэнгрином, вся эта чрезмерность его личности делают его в глазах Висконти «фигурой сложной, необыкновенной, абсолютно не вписывающейся ни в какие рамки, чья жизнь была доходящим до предела длинным восторженным сновидением». Не зря же и проклятые поэты разместили его под тем же трагическим созвездием, что направляло их собственные судьбы — все они находились под «влияньем злым Сатурна», как писал Поль Верлен.
Он решительней всех отринул «дня обманчивую ясность», чтобы жить, подобно Тристану или Филиппо Марию, последнему из герцогов Миланских, в «чудесном царстве ночи»: известно, что в последние годы «истинная жизнь» для него начиналась лишь с заходом солнца. В шесть часов вечера он принимал ванну, потом приказывал подать легкий завтрак, обедал час или два спустя после полуночи, ужинал между шестью и семью и ложился спать в 8 утра. Фильм также целиком будет снят или в первые рассветные часы, или в сумерки, или ночью.
В очерке про Вагнера Томас Манн писал: «Ночь — родина и область романтики, ею открытая; всегда романтики противополагали ее как истинное благо мишурному блеску дня царство чувствительности противопоставляли разуму. Никогда не забуду впечатления, которое на меня при первом моем посещении дворца Линдергоф, любимого местопребывания душевнобольного и алкавшего красоты короля Людвига, произвело это преобладание ночи, выраженное там в пропорциях покоев. Жилые, предназначенные для дневного пребывания помещения небольшого дворца, расположенного в чудесном горном уединении, невелики и сравнительно скромны, заурядные комнаты. Лишь один зал в нем, огромных сравнительно размеров, отделан позолотой, обтянут шелком обставлен с громоздкой пышностью. Это — спальня с увенчанной балдахином, роскошно убранной кроватью, по обе стороны которой высятся золотые канделябры: настоящий дворцовый зал для празднеств, посвященных ночи. Это подчеркнутое преобладание „более прекрасной половины суток“, ночи, исконно, подлинно романтично; романтика связуется со всеми проявлениями материнско-мифического культа луны, который с самой ранней поры человечества противостоит почитанию солнца — религии мужского, отцовского начала; и вагнеровский „Тристан“ вовлечен в обширный круг этих магических соотношений».[56]
Мы можем добавить, что Людвиг тоже склоняется к этому культу, ведь его последние слова в фильме эхом вторят анализу автора «Страданий и величия Рихарда Вагнера». «Темница позволила мне слушать тишину, как и ночь, — объясняет он профессору Гуддену. — Ночь… нет ничего прекраснее ночи. Говорят, что культ ночи и луны — это культ материнский… А вот культ света, солнца — это будто бы мужской миф… Что до меня, то все-таки тайна и красота ночи всегда манили меня — мне казалось, что передо мной открывается царство героев. И в то же время ночь — это царство разума… Бедный доктор Гудден! С утра и до вечера так стараетесь постичь меня. А ведь я — тайна. И хочу остаться тайной, для всех и для самого себя».
На сей раз Висконти цитирует самого Людвига, который 25 апреля 1876 года в два часа пополудни писал кузине Елизавете: «Наши души, как я теперь понимаю, соприкоснулись и сплелись там, где нас соединяет общая ненависть ко всяческой низости и несправедливости. […] Быть может, однажды он настанет, тот день, когда и я перестану бороться и заключу мир с этой тягостной землею! Это случится, когда все грани моего идеализма будут истреблены навеки, и угаснут все порывы, которые я так истово подогревал священным огнем… Но я вовсем этого не желаю… Я хочу остаться и для себя, и для других вечной тайной. Милая и драгоценная, вы — такая тайна для меня, и таковой и останетесь, ибо я знаю, что вы никогда не усомнитесь во мне…»
Висконти всерьез воспринимал эту страсть к «истине и справедливости», как воспринимал ее всерьез и Стефан Цвейг, когда исследовал страсть, поднявшую «высоко над тягостной землею» Гельдерлина, Клейста и Ницше, «трех поэтов той прометеевской породы, что не признает никаких границ, ломает все преграды жизни и разрушает самое себя чрезмерностью и страстью».
Незаурядный, эксцентричный, неуравновешенный, исключительный — Людвиг II, был, вероятно, именно таков, как многие поэты. Как сказал бы герой «Доктора Фаустуса» композитор Адриан Леверкюн, у него имелся свой «паук на потолке». Но он не был сумасшедшим, несмотря на диагноз, поставленный шестью психиатрами, которых наняло правительство. Ничто не вызывает больших подозрений, чем такая вот успокоительная концепция безумия, «слишком охотно использующаяся мелкими буржуа на основании сомнительных критериев», замечает Томас Манн. Биографы Людвига больше всего любят муссировать живописные странности Короля-Луны, его страсть к переодеваниям, к маскам, которые он заставлял носить своих караульных и конюхов, жестокое обращение со слугами, беспорядочность его времяпрепровождения и смену настроений, странные церемонии, которые он установил в своих замках.
Висконти, в свою очередь, значительно смягчает все эти черты. Так, он прямо связывает неуравновешенность короля с «материнским комплексом» и патологической «манией величия», отмечая, что «с матерью у него отношения были всегда очень конфликтные; когда он, будучи католиком, решился отвергнуть догму о папской непогрешимости и изгнать иезуитов из Баварии, его мать в тот же самый момент перешла в католичество».
Однако в своем фильме Висконти отказывается от любых сцен, так или иначе демонстрирующих ненависть Людвига II к той, кого он презрительно называл «вдовой моего предшественника», а позже, во время войны 1870 года, «Пруссачкой». От этого конфликта — «острого», как выразился сам режиссер, — в его фильме и после добровольно сделанных сокращений остается только смутный образ истеричной марионетки, заводной куклы, до которого он низвел властную королеву-мать. Что до отца, педанта, крючкотвора и туповатого скряги, трупу которого Людвиг мечтал дать пощечину в склепе церкви Теати-нок, то о нем упоминаний в картине и вовсе нет.
Сквозь этот фильм-расследование чередой проходят свидетели, разглагольствуют доктора, но на крупных планах их лица наполовину скрыты тенью, в которой им суждено исчезнуть: тайна остается неразгаданной. «Безумен он — или нет?» — загадка, загадочной остается и его смерть, в которой автор «Доктора Фаустуса» видит свидетельство его достоинства: «Этого человека низвели до уровня жертвы психиатрии, заперли в замке на берегу озера, закрутили на дверях запоры и зарешетили окна. То, что он не смог этого вынести, то, что он взалкал свободы или смерти и увлек с собой в могилу своего врача-надсмотрщика, говорит о его чувстве собственного достоинства и ничуть не подтверждает диагноз об умопомешательстве. Как не подтверждает его и поведение всего окружения, полностью преданного ему и готового встать на его защиту, и любовь деревенских жителей к своему Kini.[57] Когда крестьяне видели своего короля въезжавшим на гору, в ночи, при свете факелов, закутанного в меха, в золотых санях и с конной свитой впереди, они думали, что видят не безумца, а короля, и близкого их суровым сердцам, и химерического; если бы Людвигу удалось переплыть озеро, как он, очевидно, собирался сделать, они вилами и цепами защитили бы его и от медицины, и от политики».
Более приверженный абстрактной идее власти, нежели реальным действиям, которые вынужден был предпринимать, Людвиг II — последний из королей, «в веке сем он один настоящий король», напишет Поль Верлен. Это не буржуазный король, каким был его отец, не монарх на службе буржуазного государства и железного канцлера, как Вильгельм I, — но «король настоящий», по образу и подобию абсолютных властителей, какими были Людовик XIV и Людовик XV.
К этим чертам у Людвига прибавлялось еще и острое чувство высокой духовной миссии, желание «дать человечеству возможность духовно созреть», предоставить своему народу свободу и независимость и это были желания, которые шли вразрез как с неизбежным подъемом буржуазии, так и с рождением Второго рейха, которое предвещало конец Баварского королевства.
12 марта 1864 года восемнадцатилетний принц впервые облачается в королевские наряды и пошатывается под тяжестью всех своих регалий — Висконти, накладывая на эту сцену коронации тихую, отрывистую военную музыку, разыгрывая ее среди множества зеркал и не скрывая нервозности актера, подчеркивает ее смехотворную и тяжеловесную театральность. «Скипетр и корона, — замечает сценарист Энрико Медиоли, — больше не защищают Людвига, как не смогла власть защитить семейство фон Эссенбеков из „Гибели богов“, или как чувство покоя, дарованное прославленной знаменитости, не защитило профессора Ашенбаха из „Смерти в Венеции“. И снова боги с их мечтами отступают перед судьбой, которая сильнее них».
Людвиг обличает тщету войн, которые ему приходится вести и с которых его брат возвращается с опаленными ужасом глазами. Запершись в замке Берг, в своей детской спаленке, он, не имея возможности изменить ход мира, с помощью волшебного фонаря повелевает движением звезд. «Я дезертировал, — признается он верному Дюркгейму, — с этой идиотской войны, которую не смог предотвратить. Я не трус. Я ненавижу обман и хочу жить честно…» «Войны не существует!» — восклицает он, когда его брат вспоминает грязь полей сражений, стоны раненых, трупы убитых. Инфантильный отказ взглянуть в лицо реальности, но и ясное понимание собственного бессилия заставляют его узнать себя в короле из «Марион Делорм» Виктора Гюго, «лишенном власти, армии и трона», который тоже попытается отречься. С 1866 года, с поражения при Садовой, он думает об этом, ибо, по его словам, «если нам придется подчиниться прусской гегемонии, я предпочту уйти; я не хочу быть тенью короля, лишенного всяческой власти». Висконти считал, что Людвиг хотел «быть властителем эпохи Возрождения, этаким современным Лоренцо Медичи». Он желал царствовать, но трезво оценивал непреодолимое сопротивление, которое оказывала по отношению к его мечтам реальная жизнь; при этом ум его был ясен, и эту ясность признавал даже самый хитрый лис из политиков, Бисмарк. Решив, что он не будет «тенью короля», Людвиг поневоле стал королем теней.
Когда его министры беспокоились о финансовых проблемах, вполне нешуточных, Людвиг угрожал заменить их на собственных парикмахеров и конюхов. Он опустошил государственную казну для того, чтобы Вагнер смог осуществить свои мечты и творческие планы. Без него не появились бы на свет ни «Мейстерзингеры», ни знаменитая тетралогия, ни «Парсифаль», ни театр в Байройте. Но его свобода, его власть с каждым днем все более просчитаны и ограничены. Еще до того, как группа министров в промокших от дождя пальто явится в его орлиное гнездо — замок Нойшванштайн, чтобы арестовать его, он уже пленник, трагическая фигура, столь же оторванная от действительности, как герои Расина или безумные короли Шекспира.
Да, Людвиг виновен, и сам это знает. За каждый бесцельно прожитый день придет время расплатиться. Нельзя безнаказанно делать власть заложницей пусть возвышенной, но абстрактной монархической идеи. Нельзя бросать вызов долгу человека, понятому в узком смысле, — об этом напоминает ему «положительный» Дюркгейм, не оторвавшийся от грешной земли: «Тому, кто исповедует возвышенные идеалы, идеалы не от мира сего, нужно большое мужество, чтобы не гнушаться посредственностью. Но это единственный способ спастись от непристойного одиночества».
По ходу фильма Висконти часто делает упор на борьбе, которую его герой ведет ради приближения к действительности и укрощения своих демонов: это и долгая молитва Людвига, и его обращения к Богу, к Елизавете, и его старания «стать нормальным», помолвка с Софией, которую он, как свидетельствуют его письма, расторг скорее с облегчением, нежели страдая («Софи уничтожена», — замечает он в своем дневнике). Дальше следует еще и печальная и тщетная битва с гомосексуальностью, пережитой и перенесенной как несчастье, проклятие. Символом этого проклятия служит мертвое дерево из декораций вагнеровской «Валькирии», и на его фоне происходит сцена оргии в хижине Тегельберга. Эта сцена трагически противопоставлена эпизоду Рождества у Вагнера, где звучит светлая музыка идиллии, написанной для Козимы, где стоит елка, увешанная подарками, а вокруг нее — восторженные лица детей… Вот они, два полюса универсума Людвига — и, конечно, Висконти.
Муки Людвига закончатся лишь в ночных водах озера Штарнберг, в месте столь же значимом, каким был и пляж Hôtel des Bains в «Смерти в Венеции», и так напоминающем берега озера Комо и Черноббио. Именно на этом озере Людвиг видит обнаженное тело лакея Фолька и в нем пробуждается желание. Католицизм и вагнерианство обрекают его на вечное терзание между хмелем и аскезой, он мечется между мечтой о недостижимой чистоте и наслаждениями жизни, без возможности искупления и счастливого слияния. «Что же вас гнетет?» — спрашивает Вагнер, и Людвиг II (который мог бы ответить, как Изольда: «Все, что я знаю, гнетет меня, и все, что я вижу пред собою. Меня гнетет это небо, и это море, и мое тело, и жизнь моя»), прощается с автором «Тристана», так ничего и не ответив.
«Нет ничего вокруг, что не причиняло бы ему терзаний», — говорит Дидье из «Марион Делорм» — и вот уже Людвиг не может воспротивиться собственному падению и наблюдает падение тех, кого он осыпал милостями. Его предают все, даже Вагнер, этот идеальный отец, заставивший его «поверить в небеса на земле» и в котором он вдруг открыл буржуазную сущность. Именно раскрытие скандального супружества втроем (Вагнер, Козима фон Бюлов и ее супруг Ганс) Висконти считает причиной отъезда Вагнера. В действительности отъезд произошел еще и потому, что мюнхенцы очень враждебно относились к бывшему революционеру, которого их государь столь щедро осыпал милостями. Эту первую мотивировку Висконти, вероятно, предпочел не потому, что Людвиг был пуританином, а потому, что он сам чувствовал обиду на своих родителей за некоторые эпизоды их частной жизни.
Верности короля Висконти противопоставляет в фильме предательство всего его окружения: Елизавета, подставившая ему вместо себя свою сестру Софию и, куда более приверженная долгу и реальности, чем ее реальный прототип, в конце концов и вовсе переставшая его понимать, тогда как известно, что императрица, напротив, все теснее сближалась с кузеном и привозила в павильон на острове Роз поэмы, в которых прославляла взаимосвязь их судеб.
Изменяет ему и актер Йозеф Кайнц, тот, кого Людвиг II осыпал дарами, как Висконти — своих актеров, и кто, устав от королевских прихотей и приказов, кончил тем, что продал его письма — так поступит и Хельмут Бергер после смерти режиссера. Изменяет Людвигу и Гольштейн, сообщивший властям Мюнхена о психической неуравновешенности монарха и явившийся арестовать его. Наконец, его предают и лакеи, образовавшие свой двор в кругу придворных. Людвиг говорит Веберу: «Ты — единственный, кто остался мне верен; даже Майер, и тот предал меня…»
«Людвиг, — объясняет Висконти, — персонаж невероятно симпатичный, ибо, будучи настоящим королем, он — побежденный, жертва реальности. Меня не интересуют герои. Я ищу человека».
Лукино был в той же степени жертвой реальности, что и Людвиг. Влюбленный в свои грезы, заточенный в чародейской пещере собственного детства и ее ночных духовных озарений, пленник своих мечтаний о совершенстве и чистоте, он — распятый Нарцисс, сраженный молнией Икар, мятежная душа.
«Каким может быть произведение, говорящее о падении, о проклятии, если не религиозным?» — спрашивает рассказчик из «Доктора Фаустуса». Расследование и политическая трагедия, фильм «Людвиг» в то же самое время — еще и литургия, громадный витраж, озаренный лунным светом. С самых первых кадров Ангела с фрески дворца в Нимфенбурге и до финального стоп-кадра мертвого Людвига, голова которого окружена светящимся нимбом в стиле Эль Греко, эта картина изображает, как человечество побеждает человека и цивилизацию, которые видели прометеевские сны и прах которых еще и по сей день источает таинственное свечение.
Когда биограф Гайя Сервадио спросит у Висконти, чем же для него так притягателен образ Людвига II и нет ли какого-нибудь сродства между их душами, режиссер сделает акцент на поражении «государя, который верил в абсолютную монархию, но сам был при этом человеком несчастным, жертвой. Меня привлекала слабая сторона его существа, неспособность жить в повседневном быту. Он вызывает сострадание, даже когда считает себя победителем. Проигрывает — с Вагнером, с Елизаветой, с актером Кайнцем, его последним фаворитом… Меня интересует в нем то, что он жил у самых высших пределов необыкновенного, не подчиняясь никаким правилам. То же самое можно сказать о Вагнере и о Елизавете. Меня взволновала эта история „монстров“, существ за гранью повседневной реальности. Но я не нахожу у себя никакого сродства с душами моих героев. Я не чувствую себя ни слабым, ни проигравшим. Из всех измен и битв, что мне пришлось претерпеть, я вышел невредимым, а вот Людвиг разбился вдребезги. Чувство, которое я хотел бы вызвать этим фильмом — это чувство жалости».
На фильм, столь явно выбивавшийся из всех и всяческих норм, воспринятый как вызов привычной кинопродукции и реальной жизни, обрушатся и силы реальности, и силы судьбы; они превратят Висконти в того поверженного Икара, чье головокружительное падение он мог созерцать бесконечно — на полотне Галилео Кини работы 1907 года, которое купил несколько лет назад. Могущественный сеньор-змееносец отнюдь не был застрахован от участи вагнеровского Лоэнгрина, слишком уязвимого Рыцаря-Лебедя.
Глава 21 ПОСЛЕДНИЕ ДУЭЛИ
Жизнь — это поле битвы.
Лукино ВисконтиЭта мысль о смерти окончательно засела во мне — ровно так же, как поселяется в сердце любовь.
Марсель ПрустДвадцать седьмое июля 1972 года. Три месяца прошло со времени отъезда из Баварии — за эти три месяца Висконти заканчивает «Людвига», снимая в раскаленных павильонах «Чинечитты» убийственно сложные сцены, в том числе и эпизод коронации. Отдыхает он лишь урывками — несколько дней на Искье или в Тунисе: жара изнурительна, солнце ослепляет.
Удушающая жара стояла и в Риме — от нее нельзя было укрыться даже под раскидистыми деревьями на виа Салариа. Тот день Висконти проживает «нормально, как всегда», то есть в работе: кофе — чашка за чашкой, во рту неизменная сигарета, а на вечер запланирован ужин с продюсерами Янни и Перуджа — для обсуждения новых проектов. Когда совсем стемнело, за ним заходит Сузо Чекки д’Амико. В тот вечер он был необычайно бледен. Но на террасе отеля «Эдем», в баре с маленьким садом, откуда виден весь Рим, гуляет легкий ветерок. Висконти еще никогда не бывал здесь. Он заказывает шампанское, подносит бокал к губам. «Нет, оно плохо охладилось», — говорит он, ставит бокал на стол и как раз в этот момент падает, словно сраженный.
Его память сохранила все до мельчайших деталей. «Я помню все абсолютно ясно, — говорил он Констанцо Константини. — Я ни на минуту не терял сознания…»
Он помнит слова Сузо, когда она увидела, как он — нет, не упал, а осел в кресло, «перегнувшись пополам» и еще сильнее побледнев: «Лукино, Лукино. Что с тобой? Тебе плохо?» И потом другие голоса, говорившие: «Наверное, лучше увести его отсюда!»
Его перенесли в комнату и раздели, ожидая, пока придут врачи. И как Энрико Медиоли, тут же примчавшись, снимал с него ботинки. Когда он увидел, какие на нем были носки — ярко-синие, цвета электрик, Висконти подумал: «Что за безвкусица? Как я мог так оплошать, так явно оплошать?» Нужно извиниться перед Сузо, извиниться, он беспрестанно просит прощения. Сузо вспоминает: «Одна его нога тряслась сама по себе, абсолютно неконтролируемо… Я никогда не видела ничего подобного — как будто сошла с ума только одна его нога. А Лукино все извинялся и извинялся, так что я в конце концов вышла из комнаты, чтобы не нервировать его еще больше».
Висконти слышит, как называют клинику Mater Dei — позже он рассказывал: «Я подумал, что все обошлось. Но меня повезли в другую клинику, намного хуже первой, потому что там тогда работал мой врач. Стояла нестерпимая жара. Палата была слишком маленькая. Все время появлялись новые люди, их было очень много. Они выходили в коридор или шли в бар, чтобы поговорить. Я помню всех поименно. Я даже с ними поболтал. Пришли все или почти все друзья. Я лежал, мне делали уколы, хотели убедиться, что я не терял сознания, а я не терял его ни на мгновение. Помню некоего профессора Лопеса, прибывшего из Испании — он приехал срочно, специально ради меня. Он склонился надо мной, был в черном галстуке, в очках, волосы с проседью».
Две недели полной неподвижности, половина тела парализована. Он мысленно цепляется за все указания на то, что, если даже тело и получило «здоровую оплеуху», «опасный удар хлыстом», удар очень жестокий и необычайно сильный, его умственные способности в то же время остались нетронутыми, как и способность мыслить, рассуждать, слушать музыку на кассетнике «на полной громкости» — Вагнер, Моцарт, «Волшебная флейта». «К счастью, у меня была парализована правая сторона тела, а не левая — вот тогда бы мне был конец, ведь слева находятся центры речи и мышления. Ну, конечно, это если считать, что у меня есть способность к мышлению».
Он во всем винит себя, и ярость его бессильна. Он проклинает собственную неосмотрительность и несдержанность. «Если кому-то случается оступиться и сломать ногу, он может сказать себе: „Что же я за бестолочь, чего мне стоило посмотреть, куда я ступаю!“ Я очень быстро осознал, что все случилось по моей вине, из-за несоблюдения режима, который необходимо было соблюдать. Я продолжал курить, совсем не отдыхал… Мне сказали, что удар был вызван курением. Это правда — я много курил, по 70 или 80 сигарет в день, а бывали дни, что я выкуривал и 120. Я дымил, как паровоз, курил автоматически, даже не считая сигарет. Когда работаешь, совершенно не замечаешь, сколько ты куришь».
Четырнадцатого августа, как только позволило состояние, его перевозят в кантональную клинику в Цюрихе, где его будет лечить знаменитый швейцарский невролог — профессор Хуго Крайенбюль. Чтобы победить «эту проклятую болезнь», приковавшую его к постели, придется терпеть бесконечные процедуры, часами делать гимнастику. Это единственный шанс восстановить даже не полное владение всем телом, а просто возможность передвигаться.
Начинается долгий период бесконечных унижений. Теперь ему, как ребенку, нужна помощь, чтобы встать, чтобы надеть ботинки. У него плохо получается даже сидеть в кресле — он валится вперед, как тряпичная кукла. «Это ужасно, — говорит он, — скучно, ужасно выматывает». Он ненавидит эту хворь, столь неожиданно укравшую у него молодость и свободу.
«Раньше я был свободен и обращался со своим телом скверно, как будто так и надо… Внезапно следует жестокая оплеуха и все меняется. Неожиданно я понимаю, что больше не смогу делать того и этого. Свобода улетучилась навсегда. Вот за что я ненавижу свою болезнь — она лишила меня свободы. Она унизила меня и продолжает унижать… Я ненавижу мою болезнь за то, что теперь мне приходится заново учиться ходить, двигать руками, что-то ими делать… И еще необходимо, чтобы все время кто-то был рядом, чтобы одеть, натянуть носки, побрить, причесать. Это падение. Это ранит ужаснее всего. И тогда ты восстаешь».
Доктора твердят: нужно быть терпеливым, нужно быть осторожным. «Но именно эти слова выводили его из себя», — замечает Энрико Медиоли. Он никогда не переживал такого унижения страданием и физической немощью. Его окружало множество других пациентов. Висконти рассказывал: «В клинике было полным-полно итальянцев, тут калабрийские рабочие, к ним приходят их подружки, и все хотят со мной повидаться… Эти проявления симпатии меня очень трогали». Каждый день Медиоли читает ему письма, горы писем, которые присылали и его актеры — Берт Ланкастер, Ален Делон, Дирк Богард, Каллас — и писатели, и кинорежиссеры (с некоторыми из них, например с Джозефом Лоузи, он был едва знаком). Марлен Дитрих прислала свое фото и написала на снимке по-французски: «Я думаю о тебе всегда». Этот портрет теперь всегда будет стоять у изголовья его постели.
В эти два месяца, которые он провел в Цюрихе, все настоящие друзья спешат его навестить. Некоторые приезжают к нему на день, другие остаются на целый месяц. В Цюрих перебирается его сестра Уберта, здесь уже живет Энрико Медиоли, который, по признанию режиссера, «обслуживал меня, как санитар, да так усердно, что порой я чуть ли не ненавидел его. Я ему говорил: „Слушай, Энрико, вали-ка отсюда — ты как заноза в заднице!“»
«Это был вовсе не эгоизм, — объяснит он два года спустя Лине Колетти. — И не эгоцентризм. Когда близкий человек попадает в такую страшную беду, это то, что важнее всего: не имеют значения ни расстояния, ни дела, ни препятствия… Это ясно, как день… Если ты человек, конечно, если ты умеешь чувствовать. Если ты сам страдал и позволял жизни когтить тебя, вместо того чтобы безучастно наблюдать, как она проскользнет мимо, даже тебя не оцарапав. Вот я и говорю: мне в тысячу раз милее чувствительный идиот, чем чудовище с циничным и колодным умом. Я всегда сторонился и буду сторониться такого типа людей. Мои друзья — нечто совсем другое, это люди, которых я люблю. Хельмут Бергер кажется таким обидчивым, трудным, а ведь стоит только узнать его поглубже — и окажется, что он человек мягкий, благородный, верный. Таков же и Делон: он готов в лепешку расшибиться, чтобы помочь тебе и вытащить из неприятностей. В общем, если явится этакая светская дама с гвоздичкой в руке, мне с ней не о чем говорить. Неискренние, светские и дурацкие связи всегда вызывали у меня отвращение».
Ранимый, сентиментальный, он яростно бросается на защиту самого неблагодарного из своих «детей», Хельмута Бергера, который на людях не раз вел себя высокомерно и презрительно по отношению к Лукино. Бергер был одним из тех, кто в Цюрих не приехал.
И все-таки у Висконти есть то, что позволяет ему жить с гордо поднятой головой и преодолеть страшный удар судьбы: это мысли о незавершенном «Людвиге», который осталось домонтировать и закончить работу над фонограммой. «Воля к работе еще сильней, чем воля к жизни» — никогда еще он не чувствовал этого так остро, с такой жизнеутверждающей силой, как в эти кошмарные, нескончаемые дни в больнице. «Фильм. Фильм. Страх, что не успею закончить „Людвига“, страх, что не доживу до его выхода на экран. Моя главная, первейшая забота — о „Людвиге“. Ни на минуту, ни на миг я не перестаю думать о „Людвиге“. Должен признаться, что эти-то тревоги и придают мне силы для того, чтобы бороться с болезнью, чтобы ежедневно проделывать изнурительные физические упражнения, в результате которых суставы снова обретут подвижность. Вот почему из всех моих фильмов я больше всего люблю „Людвига“…»
«Если бы мне велели лежать в постели и ждать, когда придет мой час — вне всякого сомнения, меня бы уже не было среди живых, — заявляет он в ноябре 1974 года. — Профессор Крайенбюль из Цюриха понял это сразу и сказал мне: „Висконти, вам не стоит тут оставаться. Выписывайтесь, уходите из этой больницы и начинайте все сначала“. И я уехал, как только смог».
В конце сентября он уезжает из клиники в свой родной Черноббио; там, в бывших конюшнях Вилла Веккья, оборудовали монтажную, чтобы он мог работать. «Людвиг» наконец-то увидит свет. И не только «Людвиг»: у него множество замыслов. Теперь, пережив «мучительный опыт больничной жизни», он еще больше хочет экранизировать «Волшебную гору».
Незадолго до выписки ему нанес визит старый профессор литературы, который дружил с Томасом Манном. «Он пробыл у меня два часа и неустанно рассказывал о Томасе Манне. Я спросил его: „Правда ли, что Томас Манн умер в этой самой клинике?“ Он ответил: „Ну вот, вы сами об этом и заговорили. Здесь об этом предпочитают помалкивать. Но раз вы уж спросили: да, он умер здесь“. Я так и не понял, почему они не захотели мне об этом рассказать. Может быть, потому, что он умер как раз в той самой палате, где лежал я. Как знать?..»
Вернуться в Черноббио, в эту осень, сверкающую золотистой пыльцой детских воспоминаний, значило для Лукино возвратиться к жизни. Наконец-то он сможет вдохнуть жизнь в своего короля теней, в это тяжеловесное порождение мрака, вырванное у преисподней, — в его «Людвига». Здесь, между солнцем и ночным мраком, между погружением в старость и возвратом к детству, рождается фильм, в котором борются свет и тьма. Для того чтобы воскресить звуки детства, Висконти начинает и завершает эту картину мелодиями из шумановских «Детских сцен». В Черноббио не изменилось ничего — «в некоторых комнатах все тот же особый свет в разное время дня»; по-особенному здесь светит и солнце, «даруя жизнь, радость, как никогда прежде».
«Во мне все больше побеждают те черты, — признавался он на съемках „Людвига“, — которые я унаследовал по материнской линии». Его мать тоже болела в Черноббио, но она боролась с недугом до конца, представая перед детьми воплощением силы и достоинства. Та же неукротимая воля вдохновляет и ее сына, когда два месяца спустя после пережитого удара он снова берется за дело. Вместе с техниками и сценаристами, последовавшими за ним на берег озера Комо, он завершает монтаж фильма.
Висконти сделал множество сокращений: он вырезал из фильма представление «Тристана», где присутствует Людвиг II, похороны Вагнера, ярость Елизаветы, которая, узнав о смерти кузена, восклицает: «Они убили его! Предатели! Негодяи!», свидетельство старого слуги, утверждающего, что в куртке короля он видел дыру в области сердца. В общей сложности он изъял из картины полдюжины эпизодов. Несмотря на это, фильм все еще слишком длинный — он идет четыре часа и десять минут. Висконти подумывает о том, что возможно, следует разбить фильм на две части (впоследствии именно так поступит Бертолуччи со своим «Двадцатым веком»).
Рассказывает монтажер Руджеро Мастроянни: «В конце концов фильм был сокращен до трех часов экранного времени. Для одного сеанса это было все равно слишком много, а сам фильм при этом стал непонятным. „Людвиг“ строился на диалогах и их контрапункте с изображением; когда его сократили, все это волшебство пропало». Утрачен оказался и очень красивый ритм «Людвига», который Сузо Чекки называла «ритмом медленного вальса». Они с продюсерами договорились на построении, которое всегда, сколько режиссер себя помнил, вызывало у него отторжение: теперь в фильме присутствовала серия флэшбэков, которая разрушила гармоничное развитие сюжета — фатальная поступь судьбы теперь стала сбивчивым шагом, а пульс картины вместо размеренного превратился в прерывистый. Тем не менее Висконти был вынужден бессильно наблюдать за тем, как кромсают его творение.
Пострадав от требований прокатчиков, фильм так и не снискал зрительского успеха. Во Франции его приняли с прохладцей. Продюсер обанкротился, и много позже это позволило близким друзьям и сотрудникам Висконти — Сузо Чекки д'Амико, Марио Гарбулье, Энрико Медиоли, оператору Армандо Наннуцци, Пьеро Този, Руджеро Мастроянни — выкупить и благоговейно восстановить искалеченный шедевр.
Старый воин, пусть и сраженный недугом, не признает себя побежденным. «Дело „Людвига“ закрыто», — заявляет он, едва вернувшись в Рим в конце ноября. Теперь он живет в маленькой двухкомнатной квартирке на виа Флеминг, прямо напротив квартиры Уберты. Он называет ее «своим чердаком».
Дом на виа Салариа выставлен на продажу. В его необъятных залах он чувствует себя одиноким, потерянным — к тому же там столько лестниц, по которым ему уже не взбежать! «Этот дом мне больше не по душе», — объяснял он. — «Сам не знаю, почему, но мне не хочется больше его видеть. Здесь мне хорошо; тут весело, и все так блестит!»
Из окна ему виден Рим, густые кроны деревьев, терраса, стены покрыты драпировками работы Валентино с изображением розовых орхидей. В вазах стоят душистые цветы — розы и львиный зев; в квартире есть кое-какая мебель и несколько картин, привезенных сюда по его распоряжению. Разумеется, есть здесь и его книги, фотографии, самые дорогие сувениры — вот обстановка, в которой он должен вновь обрести жизненную силу. Он считал, что эта квартира — только временное жилище и говорил: «Я решил переехать на виллу в Кастельгандольфо. Там я смог бы быстрее восстановиться и больше работать. Я должен довести до конца все свои планы. Я не могу от них отказаться. Я обязан все это сделать».
Римская толкотня и шум, хиппи, кучкующиеся на ступенях церкви Тринита-деи-Монти, вызывают в нем желание сбежать. Ему будет гораздо спокойнее работать в Кастельгандольфо, в том доме, где, по словам Уберты, «у него был прекраснейший зимний сад с видом на озеро, напоминавшее ему Комо. Мебель и утварь туда возили целыми грузовиками. Но этот дом, конечно, не обошелся без визитов „незваных гостей“ — его обчищали бессчетное количество раз. Бывало, что полиция находила все украденное, и тут же следовала новая кража… Сильно ли он дорожил вещами? Нет. Он не делал из этого драмы. И все-таки он, всю жизнь бросавший миллионы на ветер, теперь вынужден был считать каждую копейку».
Несмотря на ежедневные бесконечные упражнения, двигательные способности восстановились не полностью: левая нога и левая рука по-прежнему не слушались его, а ходил он с трудом, опираясь на трость. Его лицо покрылось морщинами и он словно бы стал ниже ростом.
«Держался он по-прежнему прямо, — вспоминает Констанцо Константини, — его лицо было загорелым и очень живым. Он по-прежнему был очень язвителен. Речь его лилась свободно, будто ничего и не произошло — он то и дело говорил колкости и вовсе не сдерживался. Он был очень боек, внимателен, рассуждал здраво — даже невероятно здраво, и выказывал поразительную волю. Он решил не просто противостоять болезни, а победить ее».
Он больше не может посещать выставки, просмотры, но внимательно следит за всем новым. Он читает «Глупости» Жака Лорана, скорее напоминающего ему Селина, чем Стендаля; по-прежнему перечитывает Пруста, но теперь от конца к началу. В школьной тетрадке он ведет дневник своего недуга. Ему пришлось отказаться от множества планов. Поставить в «Ла Скала» вагнеровскую тетралогию? Врачи категорически против, они говорят: «Вам придется поселиться в Милане, а тамошний климат для вас вреден». «Волшебная гора»? Да ведь это Давос, где холодно, как на полюсе. «Избранник» Томаса Манна? Это огромная работа по созданию декораций средневекового Рима, также нужно будет задействовать сотни актеров. Нет-нет, о подобном нечего и думать. Однако Висконти упрямился, предлагал собственные варианты, и при этом, по словам Медиоли, «внимательно следил, какую реакцию его слова вызовут у собеседников. Он становился крайне раздражителен, едва не набрасывался с обвинениями на всех, стоило ему только заметить, что с ним соглашаются с некоторой задержкой».
Никогда еще он не испытывал такой настоятельной необходимости работать: «Если бы я не трудился, я бы от тоски бросился вниз с террасы. Тот, кто, как я, работал без передышки тридцать-сорок лет, не может оставаться бездеятельным. Это все равно что отнять морфий у наркомана». Возможность поставить в «Театро Арджентина» пьесу Гарольда Пинтера «Это было вчера», а потом «Манон Леско» Пуччини для фестиваля в Сполето воодушевляет его. Эти новые проекты скрашивают и горечь от того, что приходится прекратить все разговоры о «Людвиге» — в январе 1973 года в Италии выпустили в прокат его укороченную версию.
Теперь Висконти уподобился хирургу, который не может оперировать; для него стало проблемой показать актерам жесты, которых он добивается, вместе с ними физически войти в роли, которые предстоит сыграть. Репетиции «Это было вчера» в течение месяца проходили в его квартире на виа Флеминг. Позже он стал каждый день приходить в театр и, садясь в ложе, давал указания троим актерам на сцене — Умберто Орсини, Валентине Кортезе и Адриане Асти. Зал этого театра был частично перестроен, часть кресел для оркестрантов убрали, чтобы расширить основную сцену, которая теперь врезалась в партер полукругом.
Вот так, против всяких ожиданий, тот, кто заявлял, что никогда больше не вернется в театр, снова дышит воздухом подмостков, без которого не может жить. В день премьеры, 3 мая, весь Рим спешит поприсутствовать на этом яростном поединке любовников, которые бьются друг с другом, словно на ринге на фоне пастельных декораций, напоминающих картины Бальтуса.
Джорджо Проспери на страницах Il Tempo восклицает: «Где найти слова, как выразить, что театр — это по-прежнему он, Висконти, и еще лишь несколько имен. Или все-таки он один? Нет сомнений, что на вчерашнем спектакле в „Театро Арджентина“ был весь Рим, в том числе и те, кто пришел не посмотреть и послушать, а показать себя. Но ведь таков театр, и старого льва, не утратившего ни грамма своего мастерства, это ничуть не рассердило. Он смотрел на них из своей ложи, куда его на время заточил недуг, он созерцал этот прекрасный мир кино и театра, и он видел тех, кого он сумел взволновать, как первоклассников, — зрители вертели головами направо и налево, они вздрагивали от страха. Много народу пришло поаплодировать ему, но многие пришли и посмотреть, что с ним сделала болезнь. Так вот, надеюсь, теперь им стало ясно, что Висконти — все еще самый яркий талант».
Однако в тот же день одна из переводчиц Пинтера протестует против того, что постановка шла в переводе Джерардо Геррьери, а не в переводе, который сделала она. Это приводит к приостановлению спектаклей. После этого из Лондона неожиданно прибывает Гарольд Пинтер — не предупредив никого о своем появлении, он как смерч ворвался в театр и на многолюдной и шумной пресс-конференции обвинил Висконти, что тот нанес его пьесе ущерб тем, что ввел в действие двух лесбиянок, на протяжении всего спектакля непрестанно ласкающих друг друга. Возмущение Пинтера также вызвала сцена, где муж устраивает жене сеанс мастурбации, в то время как его любовница осыпает тальком ее обнаженную грудь. Висконти приходится подчиниться и внести изменения.
Зато 21 июня в Сполето он возьмет блистательный реванш. Для постановки «Манон Леско» — произведения, еще никогда не вызывавшего абсолютного одобрения публики, быть может, из-за непомерной длины последнего акта, он заручился помощью своих верных соратников: Лилы де Нобили и Пьеро Този. Скрупулезный реализм этих художников, их мягкость, их острое чутье помогли создать декорации и костюмы одновременно поэтичные и меланхолические, идеально подчеркивавшие безумие страстей и крах обреченных любовников.
Пуччини когда-то писал Марко Праге, что ему бы хотелось, чтобы его оперу, полную «духа его бурной юности», ставили «не с пудрой и менуэтами», а «с отчаянной страстью». Висконти с помощью дирижера Томаса Шипперса смог добиться этого высокого напряжения не только от исполнителей главных партий (артистов вполне заурядных), но и от актеров на второстепенных ролях, и от всех статистов.
Постановка вышла такой по-юношески изящной, что никто и не заподозрил, каких усилий она стоила человеку, ставшему инвалидом. Предвидя, что ему придется взбираться по лестнице, ибо в театре Сполето именно она вела на сцену, он велел сколотить такую же у себя дома и каждый день поднимался по ней для тренировки. «Перед репетициями, — рассказывает Сузо Чекки д’Амико, — он тренировался, прохаживаясь от машины до своего кресла возле самой сцены, опираясь на трость таким образом, чтобы это было почти незаметно». Ему сказали, что на выздоровление потребуется по меньшей мере год. «Да нет, — говорил он, — думаю, много больше. Понадобится терпение, воля. Терпелив я не был никогда, зато воли у меня предостаточно».
Прошел год; не имея возможности взяться за что-нибудь более амбициозное, он готовится к съемкам «Семейного портрета в интерьере». К началу съемок в апреле 1974 года он все еще неважно ходил. Однако большую часть фильма он снимал стоя, под неусыпным присмотром Сузо Чекки д’Амико, которая боялась, что он в любой момент может упасть.
Давно, еще до «Людвига» и «Смерти в Венеции», он хотел рассказать современную историю, повесть без излишеств, где не будет безумной роскоши. Энрико Медиоли вспоминает, как в Цюрихе кто-то спросил Лукино, что за фильм он снял бы, будь у него десять миллиардов. Висконти с горькой иронией отвечал: «В этом случае я бы снял простую и короткую историю, в ней было бы всего два действующих лица, а все действие уместилось бы в одной комнате». Он понимал, что для него прошло время бала из «Леопарда», Ночи длинных ножей из «Гибели богов», коронации из «Людвига». Но вот идея, подсказанная ему Энрико Медиоли, фильм на современную тему о возрождающемся в Италии черном терроризме, заинтересовала его: «Лукино постоянно задавал мне вопросы, спустив очки на кончик носа, нетерпеливо допытывался: „Ты уже придумал что-нибудь? Ты начал писать?“ Времени терять было нельзя…»
Наконец, зимой 1973 года сценарист рассказывает ему сюжет: вся история разворачивается в двух комнатах, расположенных на двух этажах, одна над другой. Комнаты обставлены в противоположных стилях: одна в старомодном, другая — в современном. В центре истории — старый профессор, живущий с одной только старой служанкой, среди книг, произведений искусства и старинных картин. Он собирает жанровые сценки и «семейные портреты». Он был женат, развелся, детей у него нет: семью ему заменяют люди на его драгоценных потрескавшихся полотнах, которые он тщательно изучает. Это, говорит Медиоли, «человек зрелый, на пороге старости, и человек выдающейся культуры». Но, продолжает он, в конечном счете на нем лежит вина, ибо он укрылся в башне из слоновой кости, «в безопасном и привилегированном уединении, в чем-то вроде роскошного материнского лона, где, все больше отдаваясь любимым привычкам и не переживая драм, словно бы черствеет в созерцании искусства».
Но стоит только четырем юным чужакам ворваться в этот замкнутый и глухой к миру камерный театр, как он поневоле погружается в вихрь страстей, которые в конце концов потрясают его и вырывают из того «глубокого мечтательного сна», где ему, как и герою «Смерти в Венеции», так приятно и хорошо живется. «Мне нравится эта история», — заявляет Висконти. Действительно, режиссер во многом похож на протагониста этой картины, которого сыграл Берт Ланкастер, скопировавший жесты и манеры самого режиссера. Они примерно одного возраста, у них похожее образование и вкусы. Висконти говорит: «Он коллекционирует портреты, а я создаю их, начиная с „Рокко и его братьев“ и до „Людвига“, не говоря уж о „Гибели богов“ и „Леопарде“». Оба они разочарованы неудачными попытками «примирить политику с моралью» — Висконти эту обеспокоенность героя полностью разделяет. Наконец, оба они одиноки — у Висконти тоже нет ни детей, ни планов кого-то усыновить.
Однако сам Лукино говорит, что ничего автобиографического в фильме нет. Он очень своеобразно объясняет разницу между собой и героем фильма: «Этот человек — эгоист, он замкнулся в себе; вместо того, чтобы приумножать связи с людьми, он коллекционирует искусство. Он помешался на вещах. В действительности самое важное — люди с их проблемами, а не вещи, которые они делают. Люди с их проблемами намного важнее, чем их произведения или их имущество. Я не столь эгоистичен. Я помог множеству молодых, давал им советы, а когда мог — помогал и деньгами. У меня много друзей».
Гораздо ближе к образу старого профессора художественный критик и утонченный коллекционер предметов искусства Марио Прац. Его труды (а точнее, исследование «Жанровые сценки») и сама его жизнь вдохновляли на создание этого персонажа сценаристов и Висконти. Он тоже жил в своеобразном эготистском музее со старенькой служанкой. Свои апартаменты в римском палаццо Риччи Прац называл «Домом жизни». В гораздо большей степени, чем Висконти, он предпочитал реальной жизни зеркала — он ценил их за то, что в зеркалах отражаются образы, уже «немного отдалившиеся от жизни, уже превращающиеся в полотна».
Прац ничуть не рассердился, узнав в герое фильма самого себя. Он писал: «Должно быть, Лукино Висконти действовал, как пророк, изобразив, как в жилище, подобное моему, может прийти ватага беспутных юнцов-наркоманов, чтобы в нем поселиться. Это, с некоторыми нюансами, действительно случилось и в том дворце, где жил я, только уже после премьеры картины. Фильм, насколько я мог судить, преисполнен уважения к моему двойнику и, быть может, слишком скверно изображает новых жильцов дома, о которых я расскажу вот что — когда один из них попросил меня посвятить ему мою книгу, я написал на ней: „NN, моему соседу, не склонному думать“».
Марио Прац был знаменит на всю Италию еще и тем, что «его имя лучше не произносить вслух» — у него была репутация человека, который приносит беду. Но в этой схватке Висконти, как минимум, не уступил ему в могуществе мрачных предсказаний. Пройдет еще несколько лет, и собиратель полотен, «еще больше постаревший, если такое вообще можно себе представить», задастся вопросом о пустоте собственной жизни и будет гадать над «символическим значением» статуи из собственной коллекции — Амура с опрокинутым колчаном и сломанными стрелами. Его охватит та же тревога, что снедала и старого профессора из фильма, когда он думал о том, как бежал от радостей и горестей любви, заслонившись от них скучным морализмом.
Берт Ланкастер не сомневался в том, что сыгранный им персонаж — это сам Висконти. «Я знал, — говорит он, — что старый человек, которого я играл — это сам Лукино. Кстати, он сам мне об этом и сказал: „Это моя жизнь — я очень одинок, я так и не научился любить, у меня так и не появилось семьи“. Он хотел сказать, что так и не создал семьи. И он пытался отыскать причины, а ведь в его жизни есть некоторые области, заговорить о которых он так и не решился. Полагаю, что, сделай он это, фильм зазвучал бы гораздо богаче». Если говорить яснее, Берт Ланкастер считал, что «Семейный портрет в интерьере» — своего рода реквием, негромкое признание или недоведенное до конца исследование связи Висконти с Хельмутом Бергером. Теперь все это было в прошлом, и Висконти жил на виа Флеминг совершенно один.
То, что Висконти любил Хельмута Бергера, невзирая на самые скверные черты его характера, хорошо видно по фильму. Эта картина излучает тревожную нежность, которая до этого не проявлялась у Висконти столь ярко. Висконти любил лаже худшие стороны в Бергере — его распущенность, самонадеянность, капризы и неблагодарность избалованного ребенка; в то же время сам Бергер, все еще боявшийся камеры, заливался слезами на площадке и к тому же увлекся наркотиками. Жесты Берта Ланкастера, его постоянная забота о молодом человеке, попросившим у него убежища, это жесты даже уже не отцовские, а скорее материнские: вспомним один из финальных планов, по экспрессивности напоминающий «Пьету» — профессор несет тело Конрада на руках…
Несправедливо говорить, как это делает Ланкастер, что Висконти опасался положить в основу сюжета гомосексуальные отношения и «исследовать эти сложные чувства»: он постоянно поступал именно так во всех своих произведениях. Но никогда прежде он не затрагивал эту тему столь мягко, так благоговейно. Никогда еще эта тема запретной связи не звучала так возвышенно, почти религиозно. Никогда прежде эта тайная любовь не была свободна от всякого желания обладать, как в эти самые годы, когда судьба вынудила Висконти жить одиноко, в башне из слоновой кости, откуда он безуспешно пытался вырваться.
Отклик на вызовы современности — наглядное свидетельство того, насколько для Висконти, в отличие от протагониста фильма, было важно сегодня, как и всегда, идти навстречу жизни, призвать молодых бороться, не стать «наполеоновской армией при Ватерлоо», «преградить путь фашизму». «Семейный портрет в интерьере» — фильм насквозь пессимистичный и задуманный на фоне политического безумия: правительство лишь лавирует между проблемами, и ситуация все более напоминает гротеск. Его министры, приевшиеся до тошноты, запутались в византийских ссорах и властных интригах в то самое время, когда в Италии насчитывается 800 тысяч безработных. В этой неразберихе поднимает голову черный и красный террор. Висконти, не испугавшись неизбежных нападок своих левых товарищей, взял деньги на съемки у издателя из правого лагеря, недавно обратившегося к кинематографу, — Эдилио Рускони.
Оправданием для Висконти вполне мог бы послужить простой довод: летом 1973 года ни один продюсер не рискнул бы вложить миллиард лир в фильм, делать который предстояло инвалиду. Ко одобрению товарищей по цеху он предпочитает провокацию, которая незамедлительно вызывает множество гневных откликов. «Я не хочу слушать эти обвинения, — отвечает он. — Этот фильм снял я, а не Эдилио Рускони. А другие кинорежиссеры — они-то откуда деньги берут? Может быть, их дают рабочие профсоюзы? Промышленники левых убеждений — не встречал таких. Есть ли они вообще? Важен сам фильм, а он не проповедует правую идею… Может быть, кто-то еще из кинорежиссеров изобличил подготовку путча в нашей стране?»
Позже он добавил: «Фильмы снимаются на деньги; эти деньги дают продюсеры, а продюсеры в реальной жизни вовсе не аскеты, терзаемые проблемами социальной несправедливости. Это в лучшем случае деловые люди. Бывают среди них и гнусные типы; бывают еще и трусливые, по уши увязшие в иностранном капитале… Национальная кинематография теперь развивается только с помощью долларов. Американских, конечно. А Соединенные Штаты никогда не допустят к власти левое правительство. Они не уступят и в области кино».
Хотя в фильме нет натурных съемок, «Семейный портрет» все равно обошелся дорого, пусть даже продюсер и экономил на мелочах всюду, где только мог. Для работы над этой картиной Висконти снова сплотил вокруг себя множество ремесленников, скульпторов, художников, сценографов. «Это были последние из могикан, — скажет Марио Гарбулья, — из тех требовательных трудяг, что были лучшими в мире и теперь все, как один, постарели. Их становилось все меньше… Мы так и не смогли создать школу, чтобы всему этому учить».
Фильм, снятый на деньги консерваторов, тем не менее, полностью соответствует замыслу и нравственным установкам режиссера. Выводя на сцену таких персонажей, как супруга промышленника-фашиста маркиза Бьянка Брумонти (Сильвана Мангано), ее любовник Конрад, участник боев 1968 года, перебежавший теперь к фашистам (Хельмут Бергер), и будущий зять Брумонти, юный неофашист, Висконти первым открыто показывает возрождение фашизма в Италии.
В основе сюжета фильма лежала история «черного князя» Валерио Боргезе, который пытался совершить военный переворот в декабре 1970 года, а также волна терактов, начавшаяся 12 декабря 1969 года, когда на Пьяцца Фонтана в Сельскохозяйственном банке Милана взорвалась бомба, унесшая четырнадцать жизней. С 1968 года неофашистские группировки начинают появляться то тут, то там, как грибы, и их символами снова становятся кинжалы и черепа. Начиная с 1971 года неофашистские акции насилия чередуются с акциями боевиков, называющих себя Sinistra Proletaria («Левый пролетариат») или Nuova Resistenza («Новое сопротивление»). В ответ на «черное» покушение регулярно предпринимался «красный» теракт, при этом общество не могло отличить правых бандитов, подкладывавших бомбы куда попало, от террористов «Красных бригад», которые действовали гораздо более точечно и надеялись, что их акции приведут к революционному взрыву.
Съемки «Семейного портрета в интерьере» начинаются 8 апреля 1974 года, а закончатся 15 июля. Первые съемочные дни ничем не отличаются от начала любых съемок: на площадку присылают корзины красных роз с пожеланиями от друзей, в том числе от Федерико Феллини, который от души поздравил своего друга с возвращением к работе «в этот чудесный апрельский день». На съемках присутствует много гостей, журналистов, фотографов, есть здесь и старых «подельники» — в том числе Сузо Чекки д’Амико со своими детьми Мазолино и Сильвией, Пеппино Патрони Гриффи, Энрико Медиоли, актрисы Урсула Андресс и Валентина Кортезе, а также вечные спутники Лукино — Антонелло Тромбадори и Франческо Рози. Каждый день, между половиной первого и половиной второго, Висконти неукоснительно приезжает на студию и принимается за работу. 18 апреля он снял целых четыре сцены — даже несмотря на то, что с трудом заставил Хельмута Бергера «произносить текст не головой, а от сердца» в сцене, когда по телефону тот обзывает любовницу «маркизой Дерьма».
Назавтра первые полосы всех газет пестрят гневными заголовками — накануне вечером в Генуе был похищен судья Марио Сосси. В стране вот-вот пройдет референдум о разводах, и большинство расценивает это похищение как акцию правых в пользу консервативной партии и их лидера Аминторе Фанфани. Но оказывается, что в действительности это акция «Красных Бригад». В специальном сообщении красные террористы говорят, что они хотели умерить пыл судьи, который преследовал левых активистов; этой акцией они также протестуют против того, что глава концерна FIAT Джанни Аньелли стал кандидатом в председатели Национальной конфедерации промышленников. Однако этот «революционный» месседж был плохо понят и обществом, и самими левыми. Так началась большая охота на «Красные бригады», и через несколько месяцев, в октябре, она привела к первым жертвам — в уличной перестрелке был убит карабинер. «Пропаганде с оружием в руках пришел конец, — писал журналист Джорджио Бока, — теперь все идет к партизанской войне, все более жесткой и кровопролитной». В то же время похищенный судья Марио Сосси, тридцать пять дней отсидевший в «народной тюрьме», наконец-то освобожден. Следует волна арестов, и к следующей весне кажется, что в деятельности «Красных Бригад» поставлена последняя точка.
Этого не скажешь о «черном» терроре — 28 мая в Брешии на пьяцца де ла Лоджиа происходит взрыв, унесший еще восемь жизней, еще 102 человека ранено. В этот день Висконти снимает эпизод, в котором Конрад, вовлеченный в заговор «черных террористов», оказывается жестоко избит и профессор подбирает его, ухаживает за ним, пряча в потайной комнате, где, по его словам, мать во время последней войны прятала евреев и участников Сопротивления. Это насилие могли совершить и самые обычные преступники, а не правые террористы; Конрада могли наказать за несколько пакетов с наркотиками; даже его смерть в финале может быть объяснена без политической подоплеки. Однако сам Висконти верил в опасность «неофашистской катастрофы». 4 августа 1974 года, в день, когда он работает над монтажом, происходит нападение на поезд «Италикус» в Сан-Бенедетто-Валь-ди-Самбро, что в 40 километрах от «красного» города Болоньи. 12 пассажиров погибло, 48 — ранено, и страхи Висконти лишь усиливаются.
В фильме он постоянно заставляет чувствовать эту атмосферу заговора, не сняв при этом ни одной сцены на натуре. Достаточно и пяти персонажей, этой случайно образовавшейся семьи, чтобы на этом закрытом драматическом суде показать потерю баланса и «деградацию». Разрыв здесь повсюду — между очаровательным и безмятежным искусством XVIII века и полной насилия современной жизнью, между праведными боями сороковых и грязью семидесятых, между гармоническими семейными отношениями недавнего прошлого и нынешней «борьбой между племенами», в которой сводят счеты друг с другом молодые и старики, и даже браться.
Фильм показывает атмосферу опустошения, которое начинается уже с самого отчего дома, захваченного молодежью, торопящейся жить, сквернословящей, одурманенной наркотиками и разрушающей себя. При этом в картине нет никакого морализаторства: Конрад, мятущийся дух — это неудачник, жалкий осколок волнений 1968 года, который платит своей жизнью за то, что срывает маски с других и отказывается от отведенной ему роли «салонной собачки».
Все великие висконтиевские мотивы здесь звучат по-новому и принимают новые, острые очертания, и фильм зияет, словно открытая рана. В этом плавильном котле режиссер смешивает воедино грубые материи с утонченными и повествует о своем собственном мире. Музыка Моцарта придает всему фильму религиозный оттенок — здесь звучат отрывки из Vorrei spiegarvi, oh Dio и Концертной симфонии К364. Религиозный тон усиливают и подсвеченные иконы, и, наконец, аллюзия на картину Мантеньи «Мертвый Христос» в одном из финальных планов фильма.
Присутствуют здесь и прустианские мотивы: прежде всего в той книге, на которую ссылается и постоянно перечитывает профессор, рассказывающей о том «ужасном знании», которое приносит любая болезнь, «и дело не в том, что ты узнаешь о страданиях, а в том, что она накладывает новые ограничения на жизнь. Тогда чувствуешь себя умершим не в самый момент смерти, а за месяцы, а то и за годы до нее, с того самого дня, как она со своим уродством поселилась в вас».
Влияние Пруста здесь заметно и в том, как настойчиво фильм обращается к воспоминаниям. «Семейный портрет в интерьере» — так, и только так хотел Висконти назвать свой фильм. В последний день съемок он с огромной нежностью снимает эпизод, в котором на мгновение появляется его мать. С прической как на портрете, написанном с нее Антонио Аркани, в сиреневом платье с позолотой, сшитом по образцу платья Дузе, Доминик Санда в длинном жемчужном ожерелье и с браслетом в форме змеи на краткий миг заставляет поверить, что прошлое вернулось. И в последнем фильме, последнем своем земном путешествии в царство теней он снова возвратится к ней, этой навсегда потерянной Эвридике.
Осень 1974 года; еще не закончен монтаж «Семейного портрета в интерьере», но Висконти, пышущий небывалой энергией, хоть и вынужден пока что опираться при ходьбе на трость, строит новые планы — среди них и театральные постановки, и новые фильмы. Он планирует картину о жизни Пуччини, в которой хочет рассказать о последней любви композитора, англичанке Сибил Зелигман. Фильм будет называться «Письма Пуччини к Сибил», а похожий на маэстро Мастроянни мог бы сыграть в нем главную роль. Лукино также задумывает и фильм о Зельде Фитцджеральд по ее повести «Оставь вальс для меня». «История этой пары, — говорит нам Сузо Чекки д’Амико, — могла бы дать ему оживить Париж двадцатых, тот Париж, который он знал… Мне хотелось сделать этот фильм с Лукино и ради Лукино. Мы знали этот мир и чувствовали свою близость к нему: я — поскольку много читала о нем, а он — потому, что пожил в этом мире сам». Но дочь Зельды заломила неслыханную цену за права и пожелала лично утверждать сценарий. «Она боялась, — скажет Висконти, — как бы мы не обидели ее мать. Что еще плохого я мог сказать о женщине, которая была алкоголичкой и умерла в сумасшедшем доме?..»
Гораздо больше понимания он находит у второго сына Томаса Манна, Голо — Лукино обсуждает с ним экранизацию «Волшебной горы». «Конечно, это будет автобиографический фильм, — повторяет он. — Это история о пациенте, а я ведь теперь и сам…» Планировалось, что эта картина будет снята в одной-единственной декорации и с малым количеством актеров: в этой «одной из последних, а может быть, и вовсе последней любовной истории во всей западной литературе» Клавдию Шоша должна была сыграть Шарлотта Рэмплинг, а Ганса Касторпа — Хельмут Бергер. Как только этот проект появился на горизонте, Висконти немедленно начал мечтать о том, чтобы снова побывать в горах. «Увы, — говорит нам Сузо Чекки, — ни один продюсер и слушать не захотел про историю болезни, которую будет снимать больной…»
В конце концов, они решили снимать «Невинного» — фильм по роману, который д’Аннунцио написал, когда ему было лишь тридцать, в погоне за славой. Висконти предпочел бы экранизировать «Дитя сладострастия», но перспектива снимать в обезображенном уличным движением Риме, который к тому же заполонили толпы хиппи, заставила его отказаться от этого варианта. «Невинный», конечно, не был литературным шедевром, но ведь лучшие сценарии вовсе не обязательно основываются на классике. Кроме того, в основе романа лежало преступление, которое всегда интересовало Висконти: убийство ребенка. Главные герои картины, граф Туллио Эрмиль и его жена Джулиана, позволяли ему показать не только распад семьи, но и деградацию «определенного слоя общества, особой части Италии, поскольку оба они принадлежат к крупной буржуазии, ответственной за приход фашистов к власти».
В 1897 году божественный Габриэле, отчасти черпая вдохновение из своего бурного брака с Марией де Галлезе, создает историю распутного аристократа — узнав о неверности жены, он мстит ей, убивая ребенка, рожденного от молодого писателя. Д’Аннунцио восхищается своим героем — сверчеловеком, образ которого явно создан под влиянием Ницше. Совершив злодеяние, Туллио Эрмиль признается своей любовнице Терезе Раффо, что суд человеческий для него ничто и он сам вершит свою судьбу. Висконти потешается над этим провинциальным пижонством и говорит: «В наши дни такой герой невозможен — его просто подняли бы на смех». По этой причине он изменяет концовку, добавляя самоубийство Туллио, чтобы «изобличить крах героя». К работе Лукино приступает, соблюдая дистанцию, он еще придирчивей, чем обычно. Висконти с иронией вспоминает перипетии жизни д’Аннунцио: «Он пользовался совершенно необъяснимым успехом у женщин. Может быть, дело было в его красноречии? Но голос у него был неприятный, резкий. Он совершенно облысел после дуэли с неаполитанским журналистом Скарфольо, написавшим, что он рогат. На дуэли Скарфольо ранил его в голову, и доктора намазали ему череп каким-то снадобьем, оказавшимся чересчур сильным. Но и будучи лысым, как колено, он ухитрился соблазнить бессчетное количество женщин — среди них были и Дузе, и Рудини, и Манчини. Возможно, он был как-то особенно хорош в постели, как-то необыкновенно талантлив в этом деле? Уж и не знаю…»
Презирая театральное позерство д’Аннунцио, его склонность к пышным фразам, его ницшеанский культ сверхчеловека, да и его самого, Висконти в то же время осмеливается утверждать, что восхищается им «как поэтом и писателем: надо признать, что все мы его дети. Мы все прошли через даннунцианство, даже те, кто родился полвека спустя; и по сей день никто не в силах избежать его влияния. Можно ли говорить о музыке, не упоминая Вагнера?.. О д’Аннунцио пишут много скверного — особенно отличились Моравиа и Пазолини. Вот если бы они только умели писать, как он!» И все-таки он выбирает для фильма наименее «даннунцианское», наименее характерное и наименее напыщенное из произведений писателя.
Найдя продюсера — издателя Риццоли, Висконти испытывает трудности с подбором актеров. Роми? Она ждет ребенка. Делон? Он занят на других съемках. Да и потом, «он сыграл бы Туллио очень красивым, очень обольстительным, даже грубоватым. Но никак не сатанинским — а ведь Туллио именно таков».
Тогда Висконти предлагает главные роли двум итальянским актерам. Туллио будет играть Джанкарло Джаннини, который известен публике как комик — Висконти всегда любил подобные смены амплуа. У Лауры Антонелли, приглашенной на роль Джулианы, точеная фигурка, которая принесла ей множество поклонников, но вот поклонников ее актерского дарования куда меньше. Висконти возражает критикам: «Быть может, Лауру ненавидят за то, что она так необычайно красива. Но кто сказал, что красивая женщина не может быть талантливой актрисой? Тем более она совершенно в даннунцианском вкусе. Д’Аннунцио стоило бы только взглянуть на нее, и он бы сразу же на нее набросился. Она чувственна, горда, совершенно как Барбара Леони, которую в конце века безумно обожал д’Аннунцио. В ней нет ничего искусственного. И это мне по-настоящему нравится: губы — ее собственные, безо всякой помады; глаза — это ее глаза, нет необходимости в туши. О, если бы вы только увидели ее обнаженной! Да и со спины она выглядит изумительно: очертания ее фигуры напоминают мне силуэт виолончели».
Он развешивает фотографии Лауры на стенах своей квартиры. Одному из критиков он говорит: «Взгляните — и вы увидите, как она удивительно похожа на герцогиню де Галлезе, жену д’Аннунцио. Она также похожа и на Дузе, но сходство с Галлезе — важнее!»
Это волшебное животное, это «тело, от которого д’Аннунцио обезумел бы», необходимо ему, чтобы передать то, что кажется самым современным у писателя: эротизм. Висконти поясняет: «Образ жизни д’Аннунцио очень подходит к нашему времени. Мы живем в грубую и очень поверхностную эпоху. Д’Аннунцио дошел до самых глубин эротизма, а есть ли эпоха более эротичная, чем наша?»
Какого градуса эротизма могла бы достичь картина, если бы ее режиссер не был отрезан от мира буйных утех и сладострастия? Той весной 1975 года, когда сценарий окончательно обрел форму, за несколько недель до начала съемок, Висконти уже почти восстановился. Однако он хочет работать на съемках стоя и не опираясь на палку. Поэтому каждый день выставляет всех вон из квартиры и, оставаясь один, тренируется в ходьбе без посторонней помощи. Третьего апреля он падает и ломает правую ногу.
Опять больница, опять вынужденная неподвижность. Он зол на жизнь, которая до сих пор «была ему подругой, а стала самой жестокой врагиней», на «жизнь, которой он привык повелевать, а теперь она повелевает им».
«Когда пришла пора приниматься за дело, — рассказывает Сузо Чекки д’Амико, — он понял, что теперь и правая нога его тоже перестала слушаться; и тогда он махнул на все рукой… Перестал разговаривать, перестал есть. Он сильно исхудал. Однажды мы с Энрико Медиоли пришли его проведать, и я говорю ему: „Если сломана нога, почему бы тебе не снимать в кресле? Ты можешь сидеть даже в носилках“. Все было готово к съемкам, продюсеры теряли деньги, и актеры начали разбегаться. Я сказала ему: „Нужно решать сейчас — снимать фильм или нет“. И он снял „Невинного“, сидя в инвалидном кресле. Однако он каждый вечер продолжал тренировки — из упрямства, а не потому, что верил в возможность улучшения. Все его тело было одной сплошной раной, он страдал невыносимо; это был мученик».
Выписывая Висконти из больницы, где он провел много месяцев жаркой отпускной поры, в слепящем отчаянии лета, доктора предупреждали: «Этот фильм погубит его, но пусть лучше он его снимет». 27 сентября он со съемочной группой располагается в нескольких километрах от Лукки, на вилле XVIII века «Принчипесса», перестроенной под гостиницу. Он непреклонен, как скала. «Я готов к съемкам нового фильма, и плевать, что я буду снимать его в инвалидном кресле, — заявляет он журналистам. — Даже если в следующий раз мне придется снимать лежа, я все равно не сдамся».
Каждый день Висконти тщательно готовит весь материал для завтрашних съемок; он никогда не ложится раньше двух часов ночи и снова начинает курить. Для работы над фильмом он снова собрал своих актеров и постоянных сотрудников. Среди них была и актриса Рина Морелли — она тяжело больна и переживет режиссера только на три месяца. В фильме задействована также и семья Висконти — его племянники и племянницы появляются в римском эпизоде на вилле Мирафьори, построенной по приказу короля Виктора-Эммануила II на виа Номентана для его любовницы, прекрасной Розины. Когда кто-нибудь из них возит его в инвалидном кресле, он ехидно восклицает: «Перевозка трупа!»
Теперь его преследует мысль о смерти, но также и мелодии детства — «Колыбельная» и «Вальс» Шопена, «Фонтаны виллы д’Эсте» Аиста. Все они сливаются с музыкой смерти, с горестной арией Que faro senza Euridice из «Орфея» Глюка. Подобно Орфею, Висконти совершает последнее путешествие к истокам утраченного времени. Это путешествие, которое не приносит утешения: родители терзают друг друга над колыбелью младенца; «порядок, роскошь и красота» приводят к отчаянному одиночеству; яростный пыл чувственности опьяняет и несет только смерть. С самого первого кадра, в котором появляется черно-белая маска фехтовальщика, персонажи фильма словно бы прячутся за личинами и тенями, и в финале картины мы видим мрачный и траурный силуэт Терезы Раффо, удаляющейся по туманной аллее прочь от трупа Туллио Эрмиля и его чудовищной тайны.
Даже Джулиана, роль которой проста и недвусмысленна, не избежала участия в этой жестокой комедии масок. Пьеро Този вспоминает, как Висконти посоветовал ему шляпку определенной формы, виденную им на Дузе и на своей матери: «Он хотел шляпку, на которой много-много вуалей, чтобы они слегка меняли лицо… Я сделал четыре разных, и Лукино выбрал ту, что меньше всего подходила Лауре Антонелли, зато со множеством вуалей. „Примерно такую носила и моя мать, — сказал он мне. — Она вся утопала в вуалях, когда она в сопровождении лакея приходила в „Ла Скала“ в 1910 году; и когда она путешествовала, с ее шляпки спускались длинные вуали, облаком окутывавшие шею“».
«Невинный» — последняя маска Висконти, его последний ритуал перед нисхождением к смерти и возвращением к истокам. Это его последняя семейная трагедия, в которой отец и мать на мгновение сливаются воедино в стремлении избавиться от ребенка — чужого, бастарда. В последний раз Висконти размышляет о жизни, и в этой картине, снятой в чувственных красночерных цветах, торжествуют женщины. Их торжество — это царство трех Парок, ведающих рождением, половым чувством и смертью.
Это путешествие в прошлое снова не станет для Висконти ни бегством, ни утешением, ни нежной элегией. Он прекрасно знал салоны того времени, где, прежде чем подадут пирожные, надо изобразить благоговение и вытерпеть «одну пьесу Моцарта, две — Шуберта и еще четыре — Аиста». В этих гостиных все смотрели в пол или отводили взгляды, и это было гораздо красноречивее всяких слов. Люди на этих вечерах напоминали бабочек на крышках ларцов, отделанных лаком и бархатом. Висконти всех их прекрасно знает — ведь он видел их своими собственными глазами. Супружеская пара из фильма, истерзанная взаимной ревностью, — это его родители. А портрет Джулианы Эрмиль, один из самых ярких портретов женщины и матери, какие только дало нам кино, — это его последняя любовная песнь в честь донны Карлы.
«Отчего, — спрашивает Тереза Раффо своего тщеславного любовника Туллио Эрмиля, — так необходимо, чтобы мужчины то возносили женщин к звездам, то втаптывали в грязь?»
В Джулиане, которую сотворил Висконти, виден отпечаток того очарования, что навсегда остался в памяти мальчика, завороженного всем, к чему прикасалась его мать, покоренного всем тем, что она носила и любила. Он знал все малейшие и самые интимные детали ее одежды, он выучил назубок весь этот арсенал вуалей, тесемок, кружев, шпилек и застежек, которые он воспроизводит в фильме; и он восхищался ее женственностью, столь земной, и ее материнским чувством, мучительным и почти звериным.
«У моей матери, — рассказывает Уберта, — на самом деле было восемь детей; между рождением Эдуардо и Иды Паче она потеряла ребенка». Тайна этой картины — в том, что она питается воспоминаниями о физических и моральных муках донны Карлы — Мадонны семи младенцев, семи печалей, самого совершенного воплощения материнства. И память здесь, в полном соответствии со словами Марселя Пруста, — «что-то вроде аптеки или химической лаборатории, в которой ты шаришь на ощупь и в руку ложится то успокоительное, а то и опаснейший из ядов…»
В этом последнем из зеркал Висконти наблюдает смерть за работой: лошади везут катафалк, белые чехлы уже покрыли мебель, которую скоро продадут, смерть младенца и театральный и ничтожный конец Туллио Эрмиля. Смерть в этом фильме присутствует всюду. Висконти уже знает: «Невинный» станет его собственным некрологом. Это его последний «семейный портрет», на котором появятся дети Уберты и Иды, дочь Ванды Тосканини Маргерит Горовиц, а все музыкальные фрагменты, как бы озвучивающие его память, исполнит на фортепиано Франко Маннино. И наконец, рука на гранатовом бархате переплета — его собственная рука, которая на вступительных титрах медленно переворачивает пожелтевшие страницы старинного издания «Невинного» и каждый раз медлит, словно бы наслаждаясь прикосновением к веленевой бумаге.
Жизнь Висконти теперь зависит только от фильма, он словно бы цепляется за эту последнюю, невыносимую исповедь; съемки непостижимым образом возвратили ему его прежнюю гордость и авторитет. Висконти никогда не искал в искусстве спасения и не считал его безусловным обещанием радости и красоты. Никто более него не был уверен в том, что настанет день, когда все обратится в прах. Он верил, что жизнь людей и их борьба намного важнее, чем показывающие эту жизнь произведения искусства. Но он взялся за постановку фильма; и этого оказалось достаточно, чтобы поддержать в нем огонь жизни. Однажды он сказал: «В тот день, когда я не смогу работать, я пущу себе пулю в лоб».
Анна Маньяни умерла; Витторио де Сика, так беспокоившийся о его здоровье, ушел раньше него; в день его рождения, 2 ноября, на пляже в Остии нашли труп Пазолини. Воздавая им должное, по телевидению начали показывать их фильмы. «Скоро и мой черед, — говорил Висконти. — Рано или поздно покажут и мои работы. Так всегда и бывает. Но это будет знак, что со мной все кончено».
«Висконти, — вспоминает Франко Маннино, — был уверен в неминуемости своей смерти; до такой степени, что, когда один из продюсеров, Лючио Трентини, принес ему на утверждение макет титров „Невинного“, он собственноручно исправил первый титр: „Это фильм Лукино Висконти“ на „Это был фильм Лукино Висконти“…»
Он много говорил о собственной смерти. «Я умру среди своих гардений», однажды заявил он. Он хотел, чтобы сестра пообещала, что развеет его прах над морем, в Искье. Бывало, что он забавлялся тем, что мучил близких насмешками над загробной жизнью. Когда ему говорили, что о нем написали в газете, он откликался: «А! Знаю, знаю! Лукино Висконти, родился 2 ноября 1906 года…» Вскоре после окончания съемок «Невинного» к нему зашел Марио Гарбулья и очень встревожился, увидев, сколько он курит:
«Сколько сигарет в день ты выкуриваешь?»
«Тыщи три», — ответил Висконти. — «Думаешь, мне хватает?»
Уберта вспоминает, как однажды вечером, укладывая его в постель с помощью Фндальмы, его верной служанки из Абруццо, услышала от него:
«Обвяжите мне платок вокруг подбородка. Это будет генеральная репетиция…»
Семнадцатого марта 1976 года он не поднялся с постели; у него уже несколько дней грипп и высокая температура. По спальне, заставленной цветами, бродят две его собаки, Теодор и огромная белая пиренейская овчарка, названная им Конрадом в память о герое «Семейного портрета в интерьере». Уже далеко за полдень, и солнечный свет начинает тускнеть. С одной из фотографий в серебряной рамке хмуро смотрит Хельмут Бергер, с другой по-осеннему улыбается Марлен Дитрих — света все меньше, и уже трудно прочесть написанные ее рукой слова на фото: «Думаю о тебе всегда». Уберта рядом с Лукино. Они слушают Вторую симфонию Брамса.
«Когда она закончилась, — рассказывает Уберта, — он посмотрел на меня и сказал на миланском диалекте: „Довольно. Я устал“. После этого он умер».
Проходит несколько дней, и на стенах домов в Риме расклеивают листовки, на которых черной краской напечатан некролог Висконти. Этот памятный текст констатировал: «Он был человеком высокой культуры, чье выдающееся творчество на протяжении тридцати лет вошло в историю искусства и прославило кино и театр нашей страны, а также всей Европы и всего мира». Здесь же говорилось: «Это был борец и антифашист, участник Сопротивления, всегда проявлявший глубокую и преданную солидарность с теми, кто трудится и сражается».
«Его похороны походили на королевские», — рассказывает художник Фабрицио Клеричи. Отпевание состоялось в пятницу 19 марта в самом сердце барочного Рима, в иезуитской церкви Святого Игнацио, в той самой, где во время пасхальной службы молодые аристократы причащаются, облачившись в костюмы пажей XVI века. В 11 часов на площади возле церкви прощальные речи, обращенные к другу, произносят Франческо Рози и Антонелло Тромбадори. В полдень на похоронную церемонию в битком набитую церковь прибывают секретарь компартии Энрико Берлингер и ее председатель, Джованни Леоне. Когда гроб, простоявший до вечера в церкви, выносят на улицу, собравшаяся на маленькой площади XVIII века толпа взрывается аплодисментами. Точно так же, аплодисментами люди провожали гроб с телом дорогой дочери народа, незабвенной Анны Маньяни тремя годами раньше.
Висконти хотел, чтобы от его тела не оставалось ничего — лишь память о нем самом и о величии его творений. Поэтому его не похоронили рядом с отцом, в Граццано, или рядом с матерью, на Монументальном кладбище Милана. Его тело было предано огню, тому самому огню, что сжигал его всю жизнь, — ведь еще в ноябре 1974 года он говорил:
«Послезавтра мне стукнет шестьдесят восемь. Но клянусь, что ни старости, ни болезням не сломить мою волю к жизни и к работе… Кино, театр, музыка… Я хочу справиться со всем, и все соединить, с пылом и страстью. В любом деле обязательно нужно гореть страстью. Мы посланы в мир ради этого: гореть, пылать до тех пор, пока смерть, этот последний акт жизни, не придет закончить эту работу и не обратит нас во прах».
До сих пор неясно, где был развеян прах Висконти. Вне всякого сомнения, это одно из тех жилищ Висконти, куда не могут проникнуть ни смерть, ни забвение — даже «забвение столь полное, безмятежное, как забвение кладбищ», описанное Прустом. Да есть ли иное место, способное столь ревниво, столь благоговейно хранить его культ, кроме этой повисшей между небом и землей виллы на Искье, завещанной донне Уберте, которая, не моргнув глазом, уверяет:
«Мы ничего не скрываем».
Всякий из Висконти говорит это слово — «мы».
Лукино, как никто другой, умел хранить фамильную гордость рода Висконти. Он, подобно князю из «Леопарда», был радетелем «тех редкостных воспоминаний, которых нет ни в одной другой семье». Но тот же самый Висконти из истовых убеждений породнился и с «коммунистической семьей», и он же, ежедневно и страстно трудясь, создал семью театральную, в которой его любимцы были для него и любовниками, и детьми — иногда они были послушными и преданными, иногда — мятежными и неблагодарными. Он любил их — всегда, и терзал — нередко.
Он любил Тольятти, «чье подлинное величие было в само-отождествлении со своим народом»; он любил Томаса Манна, в своем творчестве «бывшего каждым из нас, в горе и в радости»; и он любил Верди, который «плакал и любил за всех нас».
Его сердце билось в унисон с великими драмами истории, и этот пульс можно почувствовать в его работах. Он все испытал и все запомнил за нас.
КОРНИ
Глава 1 ЛОМБАРДСКАЯ НОЧЬ
Пока славное имя рода не угасло, оно озаряет всех, кто его носит; и, без сомнения, интерес, который будила во мне знатность родов, отчасти объяснялся тем, что их историю можно проследить, начав с нашего времени и постепенно, со ступени на ступень, поднявшись до XIV века и даже… Здесь происхождение какой-нибудь буржуазной семьи еще покрыто непроницаемым мраком, но благодаря тому, что имя освещает все, что за ним, мы различаем происхождение и устойчивость особенностей нервного сложения, пороков и некоторых душевных изъянов.
Марсель Пруст[58]«Что же вам рассказать о происхождении семьи Висконти, о наших предках? — спрашивает нас Уберта Висконти, усевшись на удобном диване, расшитом розами, перед большой картиной в жанре семейного портрета. — Наверняка вы сами знаете намного больше меня». В большой и светлой гостиной ее римской квартиры, полной комнатных растений, цветов, собак и котов, стоит колыбель, а в ней спит младенец: ее внук Филиппо.
— Лукино? Нет, его назвали не в честь того самого герцога Висконти. Это висконтиевское имя, как и Уберта. Но в выборе имен никакой системы не было…
Подобно Германтам, Висконти, будучи цветом аристократии, словно бы и не придают своей знатности никакого значения. Вернее, обитатели виа Черва даже посмеиваются над ней. Каждую неделю к ним заходил часовщик, чтобы подвести все часы, что были в доме, и они говорили: «Какая нам от этого польза, мы в любом случае будем отставать на четверть!», имея в виду ту quarto, ту благородную четвертинку рода, которой им недоставало, чтобы считаться «чистокровными Висконти». Все эти родословные и фамильные гербы, которые, по выражению Пруста, «дарили свои имена лесам и готическим колокольням», придают сильное обаяние семейной истории в глазах буржуа, но, по мнению Уберты, эти темы могут увести нас слишком далеко.
«Как-то раз, — говорит она, — Лукино сидел за столом с принцем Умберто; они крепко дружили. Принц спросил об одном из наших предков, и Лукино ответил очень уклончиво. Но ведь это наш долг, не преминул заметить Умберто, ты должен знать историю семьи… На самом деле Лукино, конечно, все знал, но не хотел к этому возвращаться».
— Вам не кажется, что в истории вашей семьи много шекспировских поворотов, которые могли вдохновить вашего брата, не говоря уж о прямых связях с оперным искусством в таких его образцах, как «Симон Бокканегра», «Беатриче ди Тенда» и даже «Дон Карлос»?
— Разумеется, но это ведь из области искусства, музыки. Лукино никогда даже не помышлял о том, чтобы рассказать историю своих предков.
— А откуда появилось имя Модроне? Правда ли, что Наполеон отблагодарил семью Висконти за поставки продовольствия и зерна войскам во время его итальянской кампании, пожаловав им герцогскую корону?
— Модроне — должно быть, название какой-то сельской местности, но я не знаю, откуда оно взялось. Наполеон действительно пожаловал Висконти герцогский титул, но я понятия не имею, при каких обстоятельствах. В Милане есть и другие крупные аристократические семьи, например, Мельци — они гораздо более знамениты, чем Висконти. А я нашей семье не было никаких героических фигур первого ряда — ни в наполеоновскую эпоху, ни во времена Рисорджименто.
Однако восстановить до мельчайших ветвей генеалогическое древо семейства Висконти — задача такой сложности, что одному эрудиту, который в 1910 году взялся за нее, пришлось в конце концов отступить: во-первых, не хватало многих документов (множество архивов погибло при пожарах), во-вторых, рисунок кроны этого древа содержал слишком много ветвей — как родных, так и привитых. Снимая «Людвига», Висконти с не меньшим интересом прослеживает свою связь с проклятым родом Виттельсбахов. Тщеславный отец Лукино возводил свой род к самому древнему корню, к первому великому Висконти — архиепископу Оттону (1208–1295). Сам Висконти далек от такой гордыни — тем не менее, подобно Леопарду Джузеппе Томази ди Лампедузы, он знает, что «носить знатный титул — значит обладать особенными традициями, то есть неповторимыми, редчайшими воспоминаниями». Носить благородное имя — значит также и соблюдать целый ряд жизненных правил, которых неукоснительно придерживаются все новые члены семьи по отношению к своим предкам: девочки — по отношению к тем далеким княжнам, которых тоже звали Убертами, Вивидами, Виолантами, а мальчики — к тем сеньорам, о которых рассказывается в легендах и учебниках истории. На старинных гравюрах они, как и предки Фабрицио дель Донго, изображены с обнаженной шпагой в руке, готовые нанести удар: среди них Галеаццо (1277–1328), Джованни (1290–1354), Джан Галеаццо (1351–1402), Бернабо, Эрипрандо и, разумеется, Лукино, сей ужасный воитель, который умер в 1349 году (если верить молве, он был убит собственной супругой). Невозможно укрыться от этого присутствия предков, память о которых все еще живет здесь повсюду — в великих каменных книгах, в руинах, в монументах, в надгробных надписях, в статуях и в фамильных гербах. Все это — существенные черты физиономии Милана, и все эти висконтиевские знаки разбросаны по всей Ломбардской равнине, а также и далеко за ее пределами, вплоть до самых дальних уголков Пьемонта, Тосканы и Венето. Невозможно остаться в стороне от этого сонма диковинных историй и легендарных образов, которые влечет за собой имя рода Висконти — вместе с пылью, кровью и золотом веков.
Родовое имя Висконти было дорого и Стендалю, который не только хотел взять его для своего собственного псевдонима, но также упоминает его в предисловии к «Пармской обители» — роману, который был хорошо знаком Лукино. Однако, с сожалением говорит нам автор «Рима, Неаполя и Флоренции», эти двенадцать «великих» Висконти, которые с XIII по XV век своим неудержимым восхождением, взаимными распрями, триумфами и падениями заняли авансцену, еще ждут своего историка. Никто не взялся за перо, чтобы написать эту «потрясающую историю», которая, подсказывает он, могла бы иметь два названия: «Красота истории Милана» и «Введение в изучение человеческих сердец». Стендаль восторженно пишет, что в те времена «исполинские страсти Средних веков полыхали со всей своей неистовой силой… В этих пламенных душах не было места для притворства».
Более верный истинному характеру семьи Висконти, чем его отец, герцог де Граццано, Лукино впитал «неистовую силу» и «пламенный дух» своих угрюмых предков именно через серые и холодные камни их зданий, через их преступления, их руины и всю ту музыку вековых глубин, аккордами которой отзывались в его душе масштабные исторические мелодрамы. Лукино было всего лишь двенадцать, когда он сочинил свою первую пьесу «Тиран», в это же время он ночами напролет лихорадочно читает и перечитывает Шекспира. Есть ли более ясное фантастическое зеркало, в котором он мог бы столь же отчетливо увидеть отражение самой главной страсти всех Висконти: жажды Власти? Существует ли более подлинное описание их зверств, их вероломств и преступлений, их кошмаров?
Сцена истории этой семьи так же залита кровью, как сцена в «Макбете»; ее персонажи так же окутаны тайной средневековых времен, как Женевьева Брабантская и Жильбер ле Мовэ из вступления к «Поискам утраченного времени»; из-за опьянения властью и кровосмесительных браков эти тираны кажутся обреченными на безумие; непримиримые семейные войны; трагедии, убийства… Гувернантка Лукино мадемуазель Элен свидетельствует, что он обладал неуемным воображением — как он мог остаться безучастным к столь жестокой поэзии?
Висконти, архиепископы и военачальники, на протяжении многих веков слыли еретиками и колдунами. Отгон, в 1262 году рукоположенный Папой в архиепископы Милана, овладевает городом при поддержке гвельфов, заставляет признать себя сеньором Милана, после чего становится во главе партии гибеллинов. По стопам дяди Оттона пошел и его племянник Маттео (1250–1322), который назначал главами многочисленных городков Ломбардии членов своей семьи, а впоследствии с их помощью захватил Комо, Лоди и Павию. Купив за 60 000 флоринов у германского императора Генриха VII титул императорского наместника в Милане, в 1311 году он становится главой гибеллинов всей Италии и полновластным владыкой Милана. Разгневанный Папа шлет ему одно отлучение от церкви за другим, обвиняя в том, что он захватил все бумаги архиепископства и присвоил себе Милан, переделав под себя даже городские гербы. Некий человек свидетельствует, что перед каждой битвой Маттео совещается с демонами, а другой показывает, что в целях умерщвления Папы Маттео якобы совершал магические действия с маленькой статуэткой, изображавшей фигуру понтифика — того Папы, о котором с ухмылкой говорит, что «он такой же Папа, как я». С годами обвинения против Висконти лишь множатся — их винят в недопустимом превышении власти по отношению к епископам и духовным особам, в хищении средств, предназначенных для путешествий в Святую Землю, а также в присвоении имущества духовенства.
Они не боятся ни Бога, ни дьявола, но при этом каждый день ходят к мессе, молятся Пресвятой Деве, раздают милостыню, покровительствуют молодым, окружают себя священниками, возводят часовни, церкви, обители, и даже самые кровавые из них в предсмертный час униженно молят Бога о милосердии.
Висконти — гибеллины и вассалы германского императора, и вот уже Папа провозглашает «антивисконтиевский крестовый поход»; однако они могут всего за несколько дней перейти во враждебный лагерь, сообразуясь с минутной выгодой, то есть с такой игрой союзов, в которых будет лучше всего чувствовать себя их необузданное честолюбие. Они тратят чудовищные суммы на приобретение титулов: среди них титул императорского наместника в Ломбардии, который Аццоне (1302–1339) получил от Людвига IV Баварского; титул миланского сеньора с правом наследования (1530); титулы герцога Миланского (1395) и Ломбардского (1397), которые Джан Галеаццо (1351–1402) получил от германского императора Венцеслава IV в обмен на телегу, тяжело груженную золотом. Их мечта — стать королями, и придворные относятся к ним именно так: когда они проезжают через город, любой, в каком бы виде его ни застали, обязан под страхом смерти пасть на колени. Когда архиепископ Миланский отказывается рукоположить одного священника, сочтя его недостойным сана, Бернабо Висконти (1323–1385) приказывает ему преклонить перед ним колени со словами: «Ego sum Papa et Imperator et Dominus in omnibus terris meis (Я есмь Папа и Император и Господь на всех землях моих)». Один француз, проезжавший через Милан, приходит в ужас, войдя в церковь Сан-Джованни-ин-Конка и увидев водруженную прямо на алтарь монументальную конную статую Бернабо работы скульптора Бонино да Кампионе. Этот проезжий был до глубины души возмущен «поганым идолом».
Чтобы придать родовому имени больше блеска, Висконти окружают себя поэтами, учеными, хронистами и составителями генеалогий, которые должны увековечить их славу в грядущих веках. На празднествах, устраиваемых Джованни, Бернабо, Джан Галеаццо, присутствует Петрарка; священники, писатели, генеалогисты сочиняют Золотую легенду рода Висконти и прослеживают его корни до таких глубин, на которые уже не смогут погрузиться историки нашей эпохи, исполненные самых бескорыстных намерений. Новейшие исследователи теряют след рода Висконти около 1157 года — в это время Висконти упоминаются как «vice comites», виконты, мелкие дворяне, владеющие скромной вотчиной в Марьяно, по-видимому пожалованной им в конце X века миланским архиепископом Ландольфо. Генеалогия, изобретенная священником-августинцем Пьетро да Кастеллето до кончины Джан Галеаццо и расцвеченная кистью витражного мастера Миланского кафедрального собора Микелино да Безоццо, берет истоком рода Висконти любовный союз Афродиты и Анхиза.[59] Другие прославляют их легендарные подвиги, их необыкновенные сражения с сарацинскими, баварскими королями, с чудовищами: кто же, как не Уберто, умертвил дракона, отравлявшего своим ядовитым зловонным дыханием весь Милан? И Лукино Висконти (1287–1349), брат Галеаццо и архиепископа Джованни (1290–1354), тот ужасный Лукино, которого История запомнила человеком беспринципным, продажным и жестоким, — он тоже стал частью семейной легенды.
Теперь мы переносимся в 1339 год. Лукино еще не покорил Локарно, Асти, Парму, Тортоне, Алессандрию. Восставший на императора Германии, временно примирившийся с Папой и гвельфами, он вступает в битву с кузеном Лодризио, хранящим верность партии гибеллинов и твердо вознамерившимся овладеть Миланом… Весь день 21 февраля, в воскресенье, всего в нескольких километрах от Милана, Лукино и его воины в страшный снежный буран дерутся, как черти (при этом взывая к святому Амвросию) с тремя тысячами немецких и швейцарских конников. Неприятель многократно превосходит их по численности и исход битвы кажется предрешенным, когда Лукино выбивают из седла, волокут по земле и, узнав, привязывают к дереву. Тогда-то и свершается чудо — из-за горизонта, там, где начинается равнина, на которую уже опустилась ночная тьма, выдвигаются три сотни всадников, присланных на подмогу из Турина графом Савойским. Бой возобновляется, положение кардинально и быстро меняется: и вот уже Лодризио с двумя сыновьями взят в плен, а Лукино тем же вечером входит в Милан триумфатором. Однако легенда, которую рассказывают по сей день, гласит, что в битву вмешался сам святой Амвросий и что люди якобы видели, как он «с небес крушил посохом всех, кто пожелал разорить его город». В местечке Парабьяджо, где произошло это чудо, архиепископ Джованни заложил первый камень цистерцианского аббатства, и на протяжении веков сюда тянулись миланцы-паломники, чтобы возблагодарить святого покровителя, спасшего сеньорию Висконти и их город. Что до Лукино Висконти, то после божественного вмешательства он совершил над побежденными низкий и немилосердный суд, столь свойственный людям — он велел обезглавить кузена, а также и его отпрысков.
Большая часть жизни этих сеньоров протекает на полях битв, но при этом почти все они жаждут блеска и роскоши. Циклы фресок, рассказывающих о величии их деяний, в больших залах Анжерского замка на озере Маджоре и в часовнях кафедрального собора в Монце изображают их в щегольских, роскошных одеждах. Вот архиепископ Оттон в широком плаще из красного шелка, подбитом собольим мехом, торжественно въезжает в Милан со своим эскортом и двором; а вот архиепископ Джованни преклоняет колени пред алтарем и протягивает святому Иоанну Крестителю королевское распятие и вновь обретенные им сокровища. Из всех Висконти Джованни, пожалуй, наделен самым острым режиссерским чутьем — он с невероятной помпой организует зрелищные процессии, в которых сам, надев на голову митру и облачившись в епископскую одежду, выезжает на белом коне за процессией, несущей крест, в окружении своих советников, а за ним следуют все духовные и монашеские ордена из многочисленных миланских монастырей, а также большой эскорт его кавалерии. Эти триумфальные выезды, в которых чувствуется и рука постановщика, и четкая хореография, сопровождают своим звоном колокола всех церквей; толпа неистовствует, желая поглазеть на роскошные наряды из шелка, отделанного позолотой.
У семьи Висконти проявляется мания окружать себя немыслимой роскошью и во дворцах, и в замках. Их двор становится все многочисленнее: Лукино собирает у себя рыцарей, благородных дам, музыкантов, шутов и карликов; на охоту он берет с собой множество слуг, сокольничих, псарей. Каждый день он дает пищу тридцати беднякам, целиком разделяя с братом Джованни пристрастие к пышным пирам, охоте, лошадям; хронисты тех времен пишут, что количество людей, прислуживавших ему, приближалось к шести сотням. Но никто не мог сравниться в роскоши с Джан Галеаццо — хронист Корио писал, что «этот сиятельнейший князь… был великолепен и расточителен до того, что опустошал не только свои запасы, но и запасы своих подданных, многие из которых впали в крайнюю нищету».
Эти расходы на престиж предпринимаются ради того, чтобы по-королевски принять знать и послов, отпраздновать заключение браков, которые теперь, после периода завоеваний и суровых боев, становятся одним из главных элементов висконтиевской политики и дипломатии. Бернабо, у которого, помимо законных отпрысков и признанных бастардов, было еще около трех десятков детей, черпает средства из этого источника, как из садка с рыбками: выдавая своих дочерей за кондотьеров, чья помощь может оказаться для него неоценимой, или заключая браки с могущественными иностранными семьями: свою дочь Берде он выдает за Леопольда Габсбурга, дочь Таддею — за Стефана Баварского, а его сын, Марко женится на Изабелле Баварской. Тот же расчет и у его брата Галеаццо II, чья дочь Виоланта выходит за сына английского короля Эдуарда II — Лайонела, герцога Кларенса. 5 июня 1368 года, когда был заключен этот брак, вошел в историю как день самого роскошного пира, какого доселе не видывали в Европе.
Но самый яркий символ власти и величия рода Висконти — строения, которые они возводят повсюду: замки, дворцы, окруженные фонтанами и колоннами, что возносят к небесам фигуры ангелов, держащих знамена со Змеем. Они возводят и загородные дома (одним из них, выстроенным в Павии, восхищался Петрарка, а Стендаль, наоборот, обругал его за то, что он похож на бонбоньерку). Но главное их детище — это знаменитая fabbrica Миланского собора, титаническое, почти на грани безумия, сооружение: Джан Галеаццо начинает возводить его в 1386 году, но, несмотря на все старания потомков, оно так и не будет достроено до самого XIX столетия. На месте древнего храма, по утверждению Савинио, будто бы посвященного Афине, там, где возвышается церковь с разрушенной башней, Миланский собор занимает пространство гораздо большее, как и милая сердцу Марселя Пруста маленькая церковь в Комбре — это еще одно «здание, помещавшееся, если можно так сказать, в пространстве четырех измерений — четвертым измерением являлось для него Время, — здание, продвигавшее в течение столетий свой корабль, который, от пролета к пролету, от придела к приделу, казалось, побеждал и преодолевал не просто несколько метров площади, но ряд последовательных эпох, и победоносно выходил из них».[60] Миланский собор — символ сплоченности семьи и города, вопреки всем распрям и междоусобицам, вопреки самому времени… Это собор, который придает форму всему городу, ведь именно ради того, чтобы проложить дорогу для доставки мрамора с севера, из края озер, Джан Галеаццо приказывает прорыть первый миланский канал — Навильо Гранде.
В праздники миланцы складывают вокруг церковных алтарей свои приношения собору, и всякий жертвует в зависимости от своего достатка: несут фрукты, старая женщина отдает свой ветхий плащ, кипрская королева дарит позолоченную парчу, а проститутка щедро жертвует золото и серебро. С 1386 по 1399 годы взносы Висконти на строительство собора достигают баснословной суммы в 12 416 флоринов. Плод общего творчества бедняков, церковников в шелковых сутанах и торговцев, Собор привлекает миланских и баварских ремесленников, которые населяют его скульптурами, среди которых не только изображения святых и херувимов, но и пугающие гаргульи и обнаженные женщины, которых обвивают крылатые драконы и змеи.
Висконти построили и другие церкви: Сан-Эусторджио, Сан-Джованни-ин-Конка, Сан-Готтардо в Корте, с усыпальницами, украшенными скульптурными сценами коронации, с фигурами ангелов, фамильными гербами и медалями, символизирующими завоеванные города и их святых покровителей. Здесь, в Дуомо погребены Аццоне, Бернабо и его жена Реджина делла Скала. Но для их далекого потомка Лукино не будут иметь большого значения ни тайна и мрачное величие Собора с его просторным затененным нефом, лишь наполовину освещенным пламенем свечей, ни лес игольчатых шпилей, вонзающихся в небеса в ярком свете солнца.
Здесь, в тяжелом каменном саркофаге, покоится и архиепископ Оттон, отец-основатель рода: легенда гласит, что, когда тело положили в каменную гробницу, на которой его лик был высечен из красного мрамора, камень тут же почернел, как уголь. Здесь покоится и Джованни, который, приказав выгравировать на своей гробнице бесконечный список всех завоеванных им городов, потом вдруг возвращается к смирению, более подходящему его сану, напоминая, что вся земная власть есть тщета:
Сколь легковесны пышность и блеск, И сколь коротка слава мирская, И сколь хрупка власть людская Ты, что проходишь мимо, прочти и узнай: Моя печальная песнь расскажет тебе Кто я, кем был я, запертый ныне в мраморной гробнице. Я был Джованни Висконти по рождению, и благородной крови. Не было в мире человека богаче меня, Ибо я был прелатом и пастырем. В правой деснице я держал посох пастыря, В левой — меч Всеблагого Господа. Я был великим и сильным тираном, Имя нашего рода наводило страх на небесах, на земле и на море, Множество могущественных городов склонилось Перед моим владычеством и моим скипетром, Все области Италии трепетали перед Джованни, Но что мне до всех этих богатств, всех этих больших дворцов, С тех пор, как я заперт в тесном мраморном ящике.«Не измерить ни гордыни его, ни грехов» — поет хор монахов монастыря Сан-Джусто в опере Верди «Дон Карлос», дважды поставленной Лукино Висконти в театре. «Карл, великий император, отныне не более чем безмолвный прах». Карл V, как все князья с той меланхолией, что так дорога романтикам, «познал тщету мира» и, «устав от почестей и славы, тщетно искал покоя» на земле, ибо «битва, происходящая в сердце, успокаивается лишь на небесах».
Без сомнения, Лукино Висконти часто размышлял о своих предках, вслушиваясь в те мрачные и горестные ноты, которыми авторы мелодрам раскрывали судьбы своих героев — одиноких и измученных королей. Иногда одерживал верх иной образ, подтвержденный историческими свидетельствами: образ жестокого короля, но эта жестокость, впрочем, вполне уживалась и с утонченностью, и даже с набожностью.
Известно, что все Висконти отличались живейшей привязанностью к своим лошадям, собакам, вообще ко всякой живности, которой они заполняли свои жилища и велели доставлять из самых отдаленных краев. Так, Аццоне собрал у себя больше двухсот клеток с хищными и дикими зверями. И те, кто подходил к его дворцу слишком близко, рассказывали потом, что слышали, как звериный рык смешивался с человеческими воплями. Ка де Кан (Дом Собак) Бернабо, этот дворец, который когда-то был пристроен к церкви Сан-Джованни-ин-Конка, исчез с лица земли, но оставил по себе мрачные рассказы о свирепых псах, которых натаскивали в нем для всех видов охоты. Властелин этих мест был донельзя строг во всем, что касалось его животных: заметь он, что кто-то из них похудел, чересчур растолстел или — не приведи, Господи — околел, отвечавшего за это слугу неизбежно обвиняли в ненадлежащем исполнении правил, установленных хозяином, и самым мягким наказанием для него становилась полная конфискация имущества. Джованни Мария (1389–1412), старший сын Джан Галеаццо, бросал преступников на съедение своим неаполитанским сторожевым псам; ходила молва, что как-то ночью он вместе с главным псарем по прозвищу Скварчиа (глагол scuarciare означает «растерзать») преследовал случайных прохожих и его собаки перегрызали им горло.
Джованни Марию часто изображали безумцем; однако он немногим отличался от других представителей рода Висконти, которые поставили свою изощренность на службу жестокости и садизма (многие из Висконти были поистине жестоки, даже с поправкой на суровые нравы средневековья). В книге «Город, я слушаю твое сердце» Альберто Савинио, опираясь на подтвержденные историками факты, концентрирует внимание на «маленьком театре жестокости», который устроил набожный, миролюбивый и образованный Галеаццо II (1320–1378). Одаренный чувством меры более всех прочих членов семьи, он разработал научную, строго дозированную систему пыток, которую сам назвал «Постом»: она растягивалась на сорок дней, в течение которых обвиняемому наносили увечья в строго предписанном порядке. Это делалось для того, чтобы по окончании дознания и в том случае, если упрямец все еще будет отрицать свою вину, последняя казнь воспринималась бы им как благословение: «Занавес поднимается. В камере пыток Галеаццо Висконти испытывает на жертве свой знаменитый Сатанинский Пост, им же изобретенный. Девять первых дней, за которыми следует один выходной, виновного секут кнутом; на десятый день и еще три дня после его принуждают пить смесь уксуса с известью; на четырнадцатый — из спины вырезают две полосы кожи; на пятнадцатый — с ног сдирают кожу и гоняют его по сухим горошинам; с девятнадцатого по двадцать первый — он имеет право на снисхождение, и это пытка на дыбе со связанными руками и ногами; на двадцать третий день у него вырывают сначала один глаз, а потом и другой, после чего отрезают нос и, наконец, когда уже отрублены и руки, и ноги, его на глазах у толпы раздирают на куски раскаленными добела клещами. История умалчивает, доживал ли кто-нибудь до конца этого списка процедур».
«Голос Клио (в темноте): Галеаццо, которого ты здесь видишь, немало поспособствовал большой пышности университета Павии, поддерживал изучение канонического и гражданского права, медицины, физики и логики. Жестокость вовсе не мешает любви к наукам. Тот же Галеаццо Висконти в 1376 году начал строить обитель в Павии, дабы исполнить обет, данный Мадонне его усопшей супругой. Набожность и подавно может прекрасно уживаться с жестокостью».
Занавес падает и вновь поднимается, открывая иную сцену: на сей раз это брат Галеаццо, знаменитый Бернабо, чью конную статую, «поганого идола» с насупленными бровями, высоким лбом, обрамленную двумя хрупкими фигурами, олицетворяющими Правосудие и Силу, можно еще и сегодня увидеть в одной из больших гостиных замка Сфорца. «В тот момент, когда поднимается занавес, на сцене стоит солдат, прицеливающийся из аркебузы в зайца, пробегающего по дорожке; он стреляет и убивает его. Тем временем справа входит Бернабо Висконти со своими присными и, видя, как солдат убил зайца, спрашивает:
— Зачем ты закрываешь один глаз, когда стреляешь?
Солдат:
— Чтобы лучше видеть, сиятельнейший сеньор!
Бернабо (слугам):
— Вырвите этому храбрецу тот глаз, который он закрывает, чтобы лучше видеть. Не люблю ничего лишнего».
Занавес опускается и поднимается снова: мы опять видим Бернабо, но в иной обстановке. «Тронный зал в миланском замке. Входит молодой человек, по виду явно вертопрах. Он проходит по залу вприпрыжку, как будто ловит бабочек, порхающей походкой приближается к трону и преклоняет колени.
Молодой человек (обращаясь к Бернабо):
— Ваше величество, мне приснилось, будто я убил вепря.
Бернабо (слугам):
— Выколите этому юному мечтателю левый глаз и отрубите правую руку».
Стендаль четыре века спустя снабдит эту историю примечанием: «Урок скромности».
Эти исторические анекдоты словно созданы для того, чтобы такие любители ярких характеров и черного юмора, как Стендаль и Савинио, оттачивали на них свое перо. Но на фоне чумных годов, пожаров, бедствий и войн театр рода Висконти вскоре поднимается до вершин семейной трагедии. Люди войны покидают сцену истории, меч и знамя с изображением Змея они теперь передают своим кондотьерам. Декорации остаются прежними, разве что с некоторыми вариациями: это тронные залы, спальни, в которых плетутся заговоры, подземные застенки и темницы, куда заточаются жертвы до тех самых пор, пока их не настигнет смерть. Все персонажи этой истории — и палачи, и жертвы — будут схожи между собой в одном: все они — выходцы из семьи Висконти, из одного змеиного гнезда.
Яркий сценарий, дьявольский ритм, драматизм, кровь и побольше яда — вот что нужно этой «грубой драме борьбы за высшую власть, за корону», для этой семейной трагедии, такой же захватывающей, как «Макбет» или «Гибель богов», и, по словам Стендаля, «увлекательной, как романы Вальтера Скотта». «Так вот вам, — продолжает Стендаль-Миланец, — краткий обзор жизни государей из этого семейства. Маттео I, утвердивший единодержавие, умер с горя, когда Папа отлучил его от церкви; его сын Галеаццо I погиб, не перенеся дурного обращения в тюрьме; предел дням Стефано положил яд; Марко был выброшен из окна; Лукино отравлен своей женой; Бернабо умер от яда в тюрьме в Треццо; а Джованни Мария — под ударами кинжала на пути в церковь. Вот сколько смертей только в одной семье властителей случилось менее чем за столетие!»
Если этот восторженный подсчет и отличается достойной лаконичностью, он все-таки почти не проясняет мотивов преступлений, совершенных внутри семьи. Забудем сразу о муках совести, приписываемых Стендалем Маттео и якобы послуживших причиной его смерти; незадолго до своей кончины он публично произносит в кафедральном соборе в Крещенцо свое «кредо» — он хочет не столько публично покаяться и выпросить у Папы отпущение грехов, а, как настоящий еретик и жертва инквизиции, он желает утвердить законность собственной власти, невзирая на гневные отповеди Иоанна XXII. Первая череда насильственных смертей показывает, чем жило тогда семейство Висконти — она совпадает с приездом в Милан Людовика IV Баварского. Здесь, в церкви Святого Амвросия, его провозгласит королем Италии отлученный от церкви епископ в окружении подвергшихся отлучению священников и монахов. Пиры и празднества следуют один за другим; так что Галеаццо может наблюдать, как крепнет его признание в качестве императорского наместника. Но еще месяц спустя вдруг становится известно о загадочной смерти самого молодого из братьев миланского владыки, Стефано. Король Баварский замечает: «Ага, это тот самый, который был виночерпием и попробовал вино из моего кубка». И король моментально делает выводы: уже на следующий день пятеро братьев Висконти — Галеаццо, Лукино, Марко, Аццоне, Джованни и их кузен Лодризио — брошены в тюрьму. Вскоре их отпустят — всех, кроме Галеаццо, которому предстоит до самой смерти томиться в темнице замка в Монце, выстроенной им самим для знатных мятежников.
Избавившись таким образом от старшего брата, чье влияние казалось им слишком обременительным, сообщники Лукино и Джованни могут без помех делить власть между собой. Ничто не указывает на то, что Лукино был убит. Что за мотивы могли быть у его жены, прекрасной генуэзки Изабеллы Фиески, для его отравления? Многочисленные любовные связи мужа, конечно, не могли в те времена заставить принцессу прибегнуть к такому средству. Правда состоит в том, что этот слух, как и множество других наветов против Изабеллы, распустили племянники покойного — с тем чтобы лишить прав на наследство маленького Лукино Новелло, который считался бастардом. Так наследник Лукино был осужден скитаться до тех пор, пока не обрел пристанище у Симона Бокканегры — дожа Генуи, увековеченного в опере Верди (потомок этой ветви рода — Лукино Висконти поставит ее на сцене в 1969 году).
С тех самых пор вопросы наследования в династии Висконти будут решаться при помощи кровопролития. Одним из средств устранения соперников станет яд, также произойдет целый ряд таинственных исчезновений, которые можно было бы списать на пришедшиеся как нельзя кстати эпидемии холеры или даже, как в случае с Маттео, на последствия распутной жизни. Хронисты не скрывают, что сей сеньор «сластолюбию предан был настолько, что, беря самых красивых девушек Милана, никогда не довольствовался одной, а спал со многими, пока не пресытился совершенно и не утратил уже всяческие силу и живость». Как бы там ни было, однажды Маттео вернулся с охоты в таком скверном самочувствии, что был вынужден прилечь, да так и умер «как паршивый пес — безо всякого ухода и без покаяния». Однако перед этим братья Галеаццо II и Бернабо накормили его свининой, до которой он был весьма охоч — на этот раз она была особенно щедро сдобрена приправами.
Более воздержанный и подозрительный, грозный Бернабо рассудительно делил свою жизнь между охотой, турнирами, войнами и любовными утехами. Бесчисленное множество детей избавили его от проблем с наследованием — он даже мог позволить себе роскошь казнить тех своих отпрысков, чье поведение ему не нравилось. Когда его незаконную дочь Бернарду застигли на месте преступления — она предавалась любви с придворным кавалером, копьеносцем, — он без малейших колебаний приказывает заточить ее в тюрьму, а за компанию бросает туда же и одну из своих племянниц, Андреа, дочь Маттео и аббатисы монастыря Маджоре, которая также известна своим любострастием. Чтобы продлить их агонию, которая растянется на семь месяцев, им в темницу иногда приносят немного хлеба и воды.
Молодой Джан Галеаццо, который вскоре после смерти своей первой жены Изабеллы де Валуа, дочери Иоанна Доброго, женился на собственной кузине Катерине, дочери Бернабо, не питал нежных чувств к тому, кого он позже назовет «предводителем бандитов и кондотьеров, чумой Италии» и кого в то время, в 1385 году, подозревает в отправлении магических обрядов, объясняя этим бесплодие собственного брака. В один ясный майский день он объявляет Бернабо, что счел необходимым посетить святилище Мадонны дель Монте в окрестностях Варезе. Проезжая мимо Милана, он желал бы поприветствовать своего дядю, однако, чтобы не следовать через город, просит его выйти к нему навстречу за городские стены. Верхом на муле, без слуг, выезжает Бернабо навстречу Джан Галеаццо, который тут же дает знак одному из солдат схватить владыку Милана.
— Да как ты смеешь? — кричит тот.
Потом оборачивается к хранящему молчание племяннику:
— Не предавай родную кровь!
Но Джан Галеаццо невозмутим. У Бернабо и двух его сыновей — князей Родольфо и Лудовико — забирают посох и меч. И кортеж следует далее — до Милана с его темницами. Не требуется много времени, чтобы занять замок и дворцы Бернабо и объявить, что у Милана новый хозяин. На суде против своего дяди Джан Галеаццо перечислит все преступления Бернабо: попытка убийства матери Бланш Савойской; убийство Маттео; магические ухищрения против Катерины; многочисленные попытки убить его самого — и так далее. И Бернабо вместе с последней любовницей бросают в застенки Трецца, где он будет ждать (семь месяцев), когда принесут это блюдо — нет, на сей раз не свинину, а зеленый горошек. Он-то и положил конец карьере, которая за счет физической мощи Бернабо могла бы продлиться намного дольше.
О Джан Галеаццо, «человеке очень осторожном и дальновидном, однако же замкнутом, всячески избегавшем утомления, опасавшемся неудач, в хорошие дни проявлявшем храбрость, скрытном», хронист Корио замечает, что он «честолюбиво помышлял стяжать славу своему имени по всему миру и из всех князей итальянских был в своих начинаниях счастливейшим». Все кузены отправлены в изгнание, он один царит над кровавым семейным театром. Он покупает наследственный титул миланского герцога и этим придает своей династии легитимность, подкрепляет которую и девиз, придуманный для него Петраркой: «С полным правом». Никогда еще объединенные Ломбардия и Милан не казались такими процветающими и уверенными в своем превосходстве. За два месяца до смерти герцога была завоевана и Болонья; он оставляет после себя настоящее королевство; его погребение 20 октября 1402 года становится апофеозом славы и власти Висконти: на нем присутствуют 39 представителей рода, в траурной процессии проходит кортеж из высших сановников, всадники везут гербы покоренных городов, идут каноники, архиепископ, придворные, народ.
Но как только этот князь умирает, звезда рода Висконти начинает клониться к закату. В завещании Джан Галеаццо распорядился разделить свои владения между тремя сыновьями. Первому — Джованни Марии вместе с герцогским титулом отходят Милан, Лоди, Кремона, Плезанс, Парма, Бергамо, Брешия, Комо, Сиена, Болонья, Перуза. Второму — Филиппо Марии вместе с титулом графа дарованы Павия, Новарра, Вереей, Тортона, Алессандрия, Верм, Виченца, Беллуно. Третьему — незаконнорожденному Габриэле Марии — отходят Пиза и Крема. Но первому из них всего тринадцать лет, второму — десять, и их матери Катерине предстоит бороться со всеми врагами, которые, едва услышав о смерти миланского тирана, снова вывешивают флаги своих городов и возвещают о близком конце «Змея, врага всего разумного», «змеи проклятой, червя ядовитого»; в это же время восстают и бесчисленные жертвы тирана, ссыльные, изгнанники. Они, словно Макбет, ликуют, что «старый Змей будет раздавлен», но понимают и другое — «нужно задушить змеенышей, которых Змей оставил себе на смену». Плетутся интриги с целью устранить советников, которым Джан Галеаццо поручил править вместе с вдовой. Множатся убийства. В городе вспыхивает гражданская война. Посчитав, что великодушие принесет ей поддержку тех, кто был сослан, Катерина созывает изгнанников в Милан и вскоре уже наблюдает, как они подстрекают к хаосу и бунтам. В Милане сводят старые счеты, идет борьба за власть, а за стенами города возобновляются яростные схватки между гвельфами и гибеллинами.
Следуют три года непрекращающихся волнений: герцогиня отправляет самого младшего из сыновей в безопасное место — в укрепленный замок в Павии, под покровительство кондотьера Фачино Кане. Не в силах справиться с оскудением сокровищницы, бунтами и заговорами, она отбивается от мятежных группировок, щадя одних членов семьи, которые много раз предадут ее, и безжалостно истребляя других, однако ничего этим не добивается. Тогда она прибегает к последнему средству спасения и ищет поддержки у партии гвельфов, укрывшись в замке в Монце. Здесь ее собственный сын, жестокий гибеллин, повелевает заточить ее в темницу и, как всегда случалось в этой семье, отдает роковой приказ одному из Висконти — Франческо, которого Катерина после смерти мужа вернула из изгнания. Через два месяца по Милану разносится весть о смерти вдовы Джан Галеаццо. Ее хоронят с должными почестями. Новоявленному Нерону едва исполнилось шестнадцать.
Те черты характера, та смесь тревожности и садизма, что часто проявлялись в роду, доходят у Джан Марии до неистового, близкого к безумию бешенства. Возможно, давший ему жизнь кровосмесительный брачный союз и жестокие времена частично объясняют его свирепый темперамент. На него не оказывают никакого влияния мудрые советы быть повоздержаннее, которые настойчиво дает ему Карло Малатеста, властитель Римини, товарищ его отца и друг Петрарки. В действительности он не способен владеть собой и является лишь орудием, игрушкой в руках кондотьера Фачино Кане, без которого у него нет никакой власти. Однако, именно ему он обязан восемью годами царствования в Милане. Весной 1412 года распространяется слух, что Фачино Кане смертельно болен. В Монце Эсторре, незаконный сын Бернабо, поддержанный группой дворян, изгнанных тираном, решает, что пришел час избавить Милан от «чудовища». 16 мая, когда Джан Мария входит в церковь Сан-Готтардо на мессу, на него нападают вооруженные люди и пронзают его мечами и кинжалами, а потом еще живым бросают на церковной паперти; убийцы бегут по городу, разнося новость и выкрикивая имя Эсторре как нового герцога Милана. Незамедлительно следует сокрушительная реакция Филиппо Марии, о существовании которого непредусмотрительно забыли: по его приказу убийц его брата арестовывают и казнят после ужасных пыток. Зато той проститутке, что осыпала лепестками роз тело умершего герцога, возлежавшего на траурном ложе смерти в соборе, дарованы милости и оказаны почести.
Странный, молчаливый двадцатилетний молодой князь выходит из тени, в которой пребывал с десятилетнего возраста. Этот человек, чей бурный темперамент и кровавые страсти воспламенят воображение композитора Беллини, будет последним из династии Висконти, и в нем ярче всего соединятся характерные черты всего рода. В стенах павийского замка его детство прошло в одиночестве и страхах. Ночью он пробуждается от кошмаров и приказывает поставить вокруг ложа койки для слуг — их присутствие успокаивает его. Мир представляется ему сценой, на которой плетутся интриги, заговоры, а актеры разыгрывают кровавые эпизоды трагедии Власти. Кровь! Она повсюду, как в ночной тьме «Макбета». Кровь его матери, умершей в 1404 году, и кровь брата… Ребенком Филиппо Мария редко предается играм; все свое время он проводит в богатейшей библиотеке, собранной в замке в Павии его отцом; он находит там французские рыцарские романы, «Ад» Данте, Светония, Тита Ливия и Тацита.
Как и все члены семьи, он страстно любит лошадей, собак и охоту и имеет пристрастие к роскоши; однако он болезнен и слаб. При ходьбе он часто опирается на чье-нибудь плечо, будто желая подчеркнуть свою физическую немощь, так отличающую его от Лукино или Бернабо. И оружием его всегда будет оружие слабых: коварство и скрытность. Он никогда не раскрывается, никогда не выступает против врага лицом к лицу. Чтобы разгадать чувства и планы своего окружения, он задает ничего не значащие, сбивающие с толку вопросы, отведя взгляд и слегка склонив голову набок; с его кривящихся губ срываются злые, ядовитые фразы, полные ледяной иронии и рассудительности.
Человек действия? Нет, он не таков, как другие Висконти. Но так же, как и они, это человек власти — его решения вызревают медленно и исполняются быстро. У него повадки гадюки, долго ползающей кругами под камнями и внезапно нападающей на жертву, — он непредсказуем и изворотлив, он нападает стремительно и благодаря этому непобедим. Еще 16 мая 1412 года он доказал это: в тот самый день, когда в Милане убивают Джованни Марию, в своем замке в Павии умирает самый прославленный и богатый из всех кондотьеров — Фачино Кане. Граф Филиппо Мария не тратит время на бессмысленные соболезнования: он принимает решение жениться на вдове Фачино, Беатриче де Тенде; она вдвое старше, зато в приданое принесет ему, помимо 400 дукатов золотом, еще и графство Бьяндрате, сеньории Тортоне, Новарра, Алессандрия и — самое главное — великолепное войско ее покойного мужа, которым теперь командует храбрый Франческо Буссоне по прозвищу Карманьола. Эта армия — козырная карта для того, чтобы восстановить и упрочить свою власть. С 25 мая ворота Милана заперты. Город переходит на осадное положение. 15 июня его берут приступом, и уже на следующий день, под колокольный звон всех церквей, Филиппо Мария провозглашен герцогом Милана. 24 июля, сочетавшись браком с Беатриче, герцог с герцогиней торжественно въезжает в свой город.
Тяготят ли его брачные обязательства, которые он принял на себя в перед алтарем на свадьбе без свидетелей? Искренне ли он верит, будто Беатриче, так любящая музыку, уступила обаянию юного и грациозного пажа Микеле Оромбеллы? Одна из камеристок Беатриче уверяет, что сама видела, как красивый юноша играл на лютне у подножия постели герцогини — и этот донос дает Филиппо отличную возможность избавиться от нее. Ради драматического эффекта Винченцо Беллини в своей опере «Беатриче де Тенде» изображает Филиппо Марию в момент последнего сомнения, последних сожалений о тех днях, когда Беатриче приютила его, «отверженного бродягу», в мрачном павийском замке. Однако сеньор Милана скорей уж напоминает Генриха VIII, каким его задумал Спонтини в «Анне Болейн» — произведении, которое в 1957 году воссоздадут на сцене «Ла Скала» Лукино Висконти и Мария Каллас. Историческая драма закончится точно так же: любовников застанут вместе, обвинят, бросят в застенок в Бинаско и через двадцать дней, 13 сентября 1418 года, итальянская Анна Болейн сложит голову на плахе. Пользуясь случаем, Филиппо Мария устранит всех свидетелей, начав с камеристок «провинившейся». Он также многим обязан своему кондотьеру Карманьоле, чьи воинские подвиги и талант к интригам позволили ему менее чем за десять лет полностью овладеть герцогством в тех границах, которые сложились к моменту смерти его отца. Однако втайне Филиппо недоволен честолюбием своего генерала, уже получившего руку одной из дочерей Висконти и выстроившего себе роскошный дворец в Милане. По частым сменам настроения кондотьер догадывается, что ему грозит опала. Опережая господина, пока тот не успел от него избавиться, он готовится предать его. И однажды, когда миланский сеньор отказывается его принять, он вскакивает на коня и уезжает, чтобы предложить свои услуги самым сильным врагам герцога — венецианцам, принявшим его с распростертыми объятиями. Лишившись одного из лучших военачальников, Филиппо Мария снова оказывается беззащитен перед объединившимися против него Тосканой, Венето и Пьемонтом.
Отныне князь живет странной жизнью. Терзаемый миллионом подозрений, в ужасе от перспективы нового передела его владений, он укрывается в своих замках. В них уже томятся три женщины, скрашивавшие его одиночество, и первая из них — Аньезе дель Майно, единственная, кого он любил. Она была родом из семьи, которую Висконти вечно преследовали. Ее брата сожрали псы Джованни Марии. Она очень молода и хороша собой. Филиппо Мария приказывает похитить ее и заточает до конца дней. Вторая — его дочь, Бьянка Мария. Она родилась в 1425 году, и ей суждена такая же затворническая жизнь, как и матери, вплоть до замужества с Франческо Сфорца в 1441 году. Им запрещено переходить из одной залы в другую, подниматься на верхние этажи, где живет герцог, встречаться с гостями. У камеристок строжайший приказ докладывать хозяину о каждом их шаге. Третья из этих женщин — его законная жена, Мария Савойская. Это бракосочетание по политическому расчету было отпраздновано в сентябре 1428 года при довольно странных обстоятельствах, ибо супруг отсутствовал, поручив дальнему родственнику представлять себя. Он придет познакомиться со своей шестнадцатилетней супругой лишь через несколько дней, официально объявит о браке и тут же вернется в Милан в одиночестве. Брак останется бездетным: хронист утверждает, что в ту ночь, когда справляли столь диковинную свадьбу, герцога охватила нервная дрожь, «причиной которой было то, что сторожевой пес, спавший в его покоях, прыгнул на него и залился лаем». Это показалось герцогу дурным предзнаменованием. Он навсегда отдалился от супруги, приговорив ее к такой же жизни затворницы, что и Бьянку Марию и Аньезе — теперь она заточена в его дворце д’Аренго, под наблюдением своего исповедника и придворных дам. Через несколько лет ей по просьбе отца предоставят чуть больше свободы; но на высказанное пожелание «жить вместе с большей радостью и завести потомство» он так никогда и не ответит. Это желание бедной девушки шло вразрез с тем невыносимым отвращением, какое герцог питал ко всем женщинам, кроме Аньезе, да и это единственное исключение он сделал ненадолго…
С годами Филиппо Мария залегает на дно все глубже и глубже. Он избегает появлений на официальных церемониях и религиозных праздниках. Когда осенью 1431 года германский император Сигизмунд прибывает в Милан, чтобы торжественно принять Железную корону Италийского королевства, Филиппо Мария приказывает военной знати принять его и следить за ним. В ответ на настойчивые приглашения Сигизмунда он жалуется на боли в животе и глазах, не позволяющие ему покидать покои. Повсюду ему мерещится западня. Чтобы уменьшить опасность, он устанавливает четкие правила для приемов: у каждой из комнат замка свое назначение. Знать вводят в самые первые залы. Пройти дальше могут только советники, и совсем немногие из вельмож удостаивается сидеть за одним столом с ним самим. Еще меньше тех, кто может входить в его личные покои. Филиппо Мария собственноручно проверяет список гостей, которых соглашается принять.
Тому, кто добился аудиенции, не следует приближаться к окнам — его могут заподозрить в том, что он подает тайный знак врагу. Во время бесед герцог непрестанно ходит по залу и все время оборачивается, словно боясь внезапного нападения. Преследуемый навязчивой идеей, что его хотят убить, он все время переезжает из одного замка в другой, из Миланского, окруженного громадным парком, в замки в Кузаго, Виджевано, Павии, Аббьятеграссо; избегая ловушек, он в своих переездах следует по сплетениям каналов или по дорогам, предназначенным только для него.
Будучи очень суеверным, перед каждым важным решением он советуется с лучшими астрологами Павии. Лунного затмения или неблагоприятного расположения звезд достаточно, чтобы он изменил все свои планы. Он приказывает убивать ворон, ибо опасается их зловредного влияния, и после ночи, полной тревожных снов, его часто видят бормочущим молитвы и шепчущим заклинания. Он запрещает, чтобы в его присутствии говорили о смерти и появлялись в черных одеждах. Веря в магический смысл цветов, он приказывает подавать ему в первый день каждого нового года белого коня. Всем придворным, советникам и даже судьям предписано носить туники и платья ярких цветов. Сам он меняет цвет одежды в зависимости от времени года. Зимой он носит горностаевые куртки с серебряной окантовкой и двухцветные шаровары: бело-аметистовые или бело-красные, весной — туники и широкие зеленые плащи.
Старея, он проявляет все больше отвращения к церемониям и праздникам. Он уже не выезжает за пределы своих замков. Расплывшийся и тучный, вовсе не следящий за собою, он больше не появляется на людях. Имея столько конюшен, полных лучших чистокровных жеребцов, он отказывается и от выездов, и от охоты. Его мучают боли в глазах, и он подолгу сидит, закрывшись в полутемной спальне, с повязкой на глазах. И мало-помалу превращается в короля-призрака…
Ночи его беспокойны; едва опускается вечер, как для него начинается другая жизнь. Тьма и тишина для него невыносимы. Пробуждаются страхи детства: боязнь привидений, ужас перед грозой. Гром вселяет в него такой страх, что он приказывает сделать в спальне стены двойной толщины и скрывается там, даже если просто поднимается сильный ветер. Ночью кошмары заставляют его вскакивать с постели и уходить в другие покои. Если заснуть не удается, он велит подавать еду и питье. Вечно мучимый жаждой, он держит рядом с собой прислужника, который подает ему воду и вино, а также пьет все подаваемое первым.
Единственное приятное ему общество — пажи и слуги, с которыми он ведет веселые непринужденные беседы и отбирает по точным критериям, ясно выраженным в письме к графу Скотти 1434 года, где он просит изыскать для него «людей молодых, рослых, смелых и красивых, дабы держать их при себе». Будущие пажи проводили два года под надзором воспитателя, решавшего, смогут ли они оказаться на высоте задачи и развеять одиночество молчаливого и мрачного господина. Их «стажировка» начиналась со строгого режима изоляции: не дозволялось никакого контакта с окружающим миром, ни с родными, ни с друзьями. Взамен, если герцог проявлял благосклонность к кому-нибудь из них, он осыпал его почестями и милостями. Только слугам позволено свободно ходить по всему замку; через них Филиппо Мария общается со знатью и от них узнает все новости. Здесь всем известен его «тайный и постыдный порок», как именует его Леонелло д’Эсте, советуя биографу герцога, Пьеру Кандидо Десембрио, вовсе об этом не упоминать.
Князь по-прежнему благосклонен к пажам, но в целом его нрав становится все хуже. Для защиты своего королевства он опирается на военных, которым до конца не доверяет: шпионя за ними, разжигая их распри и иногда даже составляя против них заговоры. Несколько лет подряд он пытается заручиться поддержкой одного из них, Франческо Сфорца, незаконного сына крестьянина из Котиньолы, предлагая ему руку своей единственной дочери Бьянки Марии. В 1432 году впервые объявляют о женитьбе. Сфорца отдает приказ собрать все, что кажется ему необходимым для церемонии: слуг в изысканных ливреях, чтобы подавать на стол, поваров, множество видов ветчины, барашков, ягнят, козлят, дичь, рыбу и т. д.; но в день, намеченный для свадьбы, герцог и герцогиня Миланские не являются, как и сама нареченная, малышка Бьянка Мария, которой нет еще и семи лет. Филиппо Мария не захотел лишаться такого драгоценного залога, каким была его дочь; он предпочел выждать и держал в своей власти Франческо Сфорца еще целых девять лет, до 24 октября 1441 года.
Его здоровье слабеет с каждым днем. Боли в животе становятся сильнее, как и резь в глазах — через какое-то время он уже не может читать и в конце концов слепнет. 6 августа 1447 года лихорадка приковывает его к постели; лекари предписывают сменить режим и хотят сделать кровопускание; он отказывается. Еще через несколько дней, выгнав прочь исповедника, чьи нудные проповеди только бесят его, он умирает, опираясь на руку одного из своих лакеев. Ему было всего пятьдесят пять лет.
В отличие от последнего короля Баварии Людвига II, с которым у него оказывается так много сходных черт, что он кажется его прототипом, последнего из Висконти народ не любил. Его похоронный кортеж был скромен: духовенство, несколько вельмож и горстка простолюдинов. Гроб поместили рядом с гробом его брата, в миланском соборе. Однако никто, даже и его дочь, не сочли необходимым воздвигнуть мраморное надгробие над местом его последнего упокоения, так что его останки затерялись среди других гробниц.
Множество висконтиевских замков и дворцов было разграблено и сожжено. Драгоценные рукописи из их библиотеки в Павии, что была гордостью Джан Галеаццо, разворовали французские завоеватели; одни гробницы еще в XVI веке были переставлены по приказу нового владыки Милана Карло Борромео, а иные — навсегда утрачены вследствие подземных работ вокруг Соборной площади в конце XIX века. Однако тень рода Висконти, его незримое присутствие продолжает ощущаться в том тумане, которым с наслаждением дышат миланцы. И именно эта тень прошлых дней, тень предков на каждом шагу сопровождает Лукино Висконти и его героев. В «Чувстве» бушующие на экране страсти как будто повторяются и отражаются в сценах настенных фресок на вилле Годи. В «Рокко и его братьях» высеченные из камня фигуры святых, глядящие с галереи миланского собора прямо в небеса, становятся немыми свидетелями развязки современной и в то же время старой, как мир, драмы — разрыва Рокко и Нади.
Прошлое, даже давно погребенное, не умирает никогда: возможно, это главный урок истории рода Висконти — та непрестанная трансформация, то преображение, в которое время вовлекает и людей, и предметы. На месте древних дворцов и храмов возникли театры: когда Ка де Кан, «Дом собак», возведенный Бернабо для его знаменитых свор, сгорел в пожаре 1776 года, там, в ожидании окончания строительства «Ла Скала», устроили временный театр, а сам театр «Ла Скала» был выстроен на развалинах церкви Санта-Мария-делла-Скала, возведенной Бернабо для своей супруги Реджины делла Скала, дочери одной из знатных веронских фамилий. Это место, корни которого так глубоко уходят во тьму Средних веков, как никакое другое способно воскресить волшебство и мелодику мрачных драм ломбардской ночи. Зев тьмы, пасть преисподней — здесь все еще звучат замогильные голоса, а может быть, за этими Макбетами, Генрихами VIII и Аннами Болейн, Филиппами II и Дон Карлосами, графами ди Луна и Манрико можно различить и исторические фигуры тиранов-змееносцев. Стендаль говорит, что «когда они не впадают в отупение и в беспредел, они являют собой великие характеры, какими так богата Италия XVI столетия», добавляя, что «музыка — вот единственное искусство, способное так глубоко проникать в сердце человеческое чтобы изобразить порывы этих душ».
И то аристократическое прошлое, что таит в себе имя Висконти, вместе со всем, что ему сопутствует — а это картины и шум сражений, развевающиеся орифламмы, блестящие победы и горькие поражения, заговоры и убийства, — не запирает, не замуровывает Историю в каменном мавзолее. Оно словно бы иллюстрирует тот закон, по которому сбрасывает кожу и преображается висконтиевский Змей. Хотя от основной ветви рода остался лишь засохший обрубок, ветвь такая же трухлявая и бесплодная, как мертвое дерево в «Сумерках богов», но Змей рода Висконти, символ его нерушимой силы и величия, перейдя на гербы рода Сфорца, продолжал расти и приумножаться, чтобы в XX веке вновь переродиться и заблистать в огнях рампы и в свете юпитеров — в искусстве Лукино Висконти.
Глава 2 ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ЗМЕЙ
Не кажется ли вам, что изображение живого существа на гербе тайно связано с идеей жертвоприношения? Если мы обратимся к самым корням этого явления, то увидим, что тотемное животное — это животное укрощенное, убитое, съеденное, и посредством всего этого оно и передает свои добродетели носителю символа. А каков самый известный, самый священный человеческий символ? Конечно, распятый Христос — величайший символ жертвы всесожжения! Получается, что изображать на своих гербах ритуальное жертвоприношение орла или льва, заклание чудовища вроде дракона или минотавра, а то и порабощение черного раба или дикаря вполне в порядке вещей. Но в сходных обстоятельствах можно изобразить на гербе и воина, и женщину — и даже ребенка!
Мишель Турньв, «Лесной царь»Герб Висконти: «Извивающийся лазурный змей на серебряном поле проглатывает красного младенца». Это знаменитое мифологическое существо в детстве Лукино встречал повсюду. Даже когда он еще не умел читать, он натыкался на этот зловещий образ везде: на каменных украшениях дворца на виа Черва, на семейных портретах, на переплетах книг, на всевозможных предметах и на фамильной мебели. Он находил его в Милане, в Граццано, в Дуомо, в замке Сфорца и в старинных церквях, задрапированных темно-красными тканями. Змей был везде, где некогда господствовали Висконти и их кондотьеры, во всех тех замках, которые они приказали построить, чтобы готовиться там к битвам, плести заговоры и замышлять убийства, и он был во всех аббатствах, куда они приезжали исполнять обеты или вымаливать прощения у Бога, которого так часто оскорбляли.
На многих других гербах изображены диковинные звери — на гербе Кольберов есть даже змей, вставший на хвост. Но змей на гербе Висконти — это чудовище, держащее в зубастой пасти обнаженного младенца — он уже наполовину исчез в глотке и отчаянно молит о помощи, протягивая к нам руки. Виктор Гюго в своих «Восточных мотивах» пишет:
У Рима есть ключи, а у Милана — Младенец, в пасти Змея вопиющий…[61]С исторической точки зрения, «ехидна, в бой ведущая Милан», на которую с презрением указывает Данте в VIII песне «Чистилища», тот символ, который в поздней традиции ассоциируется исключительно с семейством Висконти, в действительности была эмблемой города. Впоследствии род Висконти овладел Миланом и присвоил себе этот символ. В XI веке на белом штандарте города был изображен Голубой змей, наделенный мистической жизненной силой, как и обновляющий человечество Христос (иногда считается, что этот змей символизирует Христа). В Библии говорится: «И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив» (Числа, 21, 8–9). Миланский архиепископ Арнольфо, тот самый, что придал наследственный статус титулу vicecomites, от которого произошли и имя, и положение семьи Висконти, якобы привез из Византии такого медного змея вместе с говорящей машиной, умевшей предсказывать будущее. Змеиный талисман и сейчас можно увидеть на порфировой колонне во дворе церкви Святого Амвросия, и миланцы приписывают ему чудодейственные свойства исцелять некоторые детские болезни.
Только после первого крестового похода к первоначальному змею добавляется человеческая фигура — не младенца, как может показаться, а поверженного сарацина. Монах-августинец Пьетро ди Кастеллето после кончины Джан Галеаццо Висконти в 1402 году произносит по усопшему надгробную речь. В ней Кастеллето говорит, что первый из знаменитых Висконти, доблестный архиепископ Оттон, в схватке один на один победил сарацинского короля, носившего «на гребне шлема дракона, в пасти у коего поедаемый человек, раскинувший руки». Позже этот символ Оттон перенес на свои новые гербы.
Чтобы смягчить жестокость этой истории, Петрарка, подолгу гостивший у Висконти, рассказывает другую легенду, подчеркивающую выдержку и храбрость другого предка Висконти — Аццоне, который был наместником германского императора в Ломбардии в XIV веке. Во время войн с флорентийцами Аццоне как-то раз заснул под деревом, положив рядом шлем; пока он спал, вокруг шлема обвилась гадюка; он просыпается, надевает шлем, и на глазах у перепуганных солдат гадюка взвивается над его головой, уже готовая ужалить. Однако Аццоне невозмутимо снимает шлем и позволяет змее уползти, даже не убив ее.
Знаменательно, что потомки первых Висконти, завоевателей, воителей, по мере того как возрастает их стремление утвердить свою духовную власть, добавляют на герб другие символы — и более традиционные, и более миролюбивые: лежащая на бревне собака, которую обвивает змей; тлеющая головня с двумя ведрами, подвешенными по краям, которую несет лев в шлеме, украшенном змеем; змей, выползающий из лучей солнца; леопард; пальмы и борзые псы. Еще один вариант герба снабжен девизом, который изобрел Петрарка: «С полным правом» (что можно буквально понять как «По закону») — на этом гербе изображена горлица в ослепительных солнечных лучах. Но ни один из этих символов не сможет ни вытеснить ненасытного змея, ни приглушить его зловещее влияние. Этот роковой символ словно бы распоряжается судьбой всего рода Висконти, многие представители которого «с полным правом» могли бы найти себе место в последних кругах Дантова «Ада», в Злых Щелях, кишащих гадюками и змеями всех мастей, которые вцепились в грешников, обвив их со всех сторон.
Висконти хоть и дистанцировался от своего знатного происхождения, всегда хранил верность родовому гербу: Жан Марэ вспоминает его почтовую бумагу с печатью в виде змея. Тонино Черви, продюсер «Боккаччо-70», рассказывает, как однажды Висконти захотел ему что-нибудь подарить: «Дома о нем говорили, как о графе Лукино, человеке утонченном. Я много за ним наблюдал и никогда не забуду, как он усаживался и вынимал из кармана золотой портсигар с гравировкой эмблемы дома — младенец в пасти змея… Я просил его подарить мне этот портсигар, но он отказал мне, потому что это был подарок его матери».
Конечно, в этой привязанности Висконти к родовому Змею можно усмотреть его сильную связь с матерью, не говоря уже обо отце и остальных членах семейства. Но образ такой поразительной силы, по всей вероятности, волновал его еще в самом детстве и повлиял на его взрослое творчество. Что видел он в нем, когда был ребенком, а потом и художником в этом свирепом Змее, увенчанным короной, в том Змее, перед которым, по замечанию Гастона Башляра, «проходит, трепеща, вся когорта наших предков, и этот трепет отзывается в наших сердцах»?
Для знатоков геральдики, в том числе для Жерара де Сорваля, «этот змей (guivre) — иногда он пишется и как vivre[62] — или же bisse, сказочная змея, проглатывающая мужчину или ребенка, есть символ универсальной жизненной силы, которая позволяет человеку быть цельной личностью. Человек должен броситься в пасть к этой гадине, чтобы выйти из нее коронованным младенцем. Эта змея-мать символизирует Мировую Женственность, порождающую Дитя-Слово». Однако Змей, прежде чем начать ассоциироваться со Злом и Сатаной, в античности воспринимался как один из атрибутов богинь-матерей — Изиды, Кибелы, Деметры и связывался с символикой рождения и жизни. Комментируя мексиканский миф о пернатом змее, гласящий, что «в самом сердце земли, посреди пламени, согревающего землю жизненной силой, спит великий змей», Башляр называет «энергическим» характер фантазий, связанных с этим змеем, «который объединяет противоположные атрибуты — перья и чешую, медь и металл, в нем все возможности живого; в нем есть и человеческая сила, и леность растения, и способность творить, не пробуждаясь». Тот, кто сумеет ценой опасной инициации овладеть силами змея и воспользоваться ими, познает тайны жизни и смерти, приобретя, в том числе, и силу исцелять. Обе змеи — змея-bisse, изображенная на кадуцее дома Эрба, и отцовский змей-guivre Висконти, соединяясь в браке, объединяют энергию и жизненную силу и порождают тех, кого в Милане называют biscioni — «змееныши». Первоначально Голубой Змей, «Пылающий», пожирающий сарацинского короля, и символизировал победу Добра над Злом, Христа над Сатаной. Но ребенок, воспитанный в самой строгой католической традиции, не мог не задаться вопросом о том, как это изображение соотносится с традиционными религиозными изображениями торжества божественных сил над темными началами: Мадонны, попирающей змия, святого Георгия, сразившего дракона? В церковных версиях человек победоносно попирает подлого змея; но в мире геральдики торжествует уже змей с короной на голове, а ребенок (или мужчина) приносится в жертву, его терзают, он кричит от боли и ужаса.
Инстинктивно ребенок — да и взрослый — не может без трепета внимать этим мифам и сказкам, повествующим о том как чудовища пожирают людей — Иону проглатывает кит, а Сатурн поедает собственных детей. Подобный страх могут пробудить и другие «пасти»: например, зияющие зевы пещер, манящие и отталкивающие одновременно. Так, Мишель Лейрис в книге «Правила игры» (1955) размышляет по поводу своих прогулок по пещерам и иным местам, «напоминающим рот, раззявленный в земле», и пишет о страхе, «который вполне может быть связан и со знакомым всем нам детским страхом быть съеденным», проглоченным «смертью смутной и безглазой». Этот страх охватывает нас, когда мы попадаем в ямы, пучины, пещеры, символизирующие материнское лоно. «Это воспоминание о подлинном проникновении в самые кишки смерти, чувство, как если бы я заживо был пожран чудовищем — это чувство, видимо, было знакомо и тем, кто был посвящен в разные древние культы. Это память о встрече с пропастью или о нисхождении в ад».
Герб — это талисман, ловушка для фантазмов, оракул. В его загадочных письменах отражена загадка корней и судьбы семьи и индивидуума. И этот образ проглоченного ребенка притягивает к себе, тем паче что взывает одновременно и к жизни, и к смерти, изображая как рождение — ребенок, вылезающий из змеиной глотки, так и агонию — дитя, погружающееся в «кишки смерти». Здесь мы обнаруживаем ту же двойственность, которую Лукино нес в себе с самого начала, появившись на свет в День поминовения усопших. В 1971 году он говорит: «Что умереть, что родиться — это одно и то же». Гербовый символ, таким образом, становится чем-то большим, чем жертвоприношение обесчещенного сарацина; в действительности это жертвоприношение мученика-младенца, непреодолимо влекущее и столь же ужасающее. Ни ухищрения ума, ни пути христианской религии с ее четким разграничением Добра и Зла, света и тьмы, духа и тела, не позволяют расшифровать или распутать этот узел противоречий, воплощенный в паре «чудовище и ребенок», в столкновении сатанинских сил и невинности, Этот великий конфликт осеняет и само рождение Лукино — ожидалось, что он родится на Праздник всех святых, но он появился на свет под звездой, сулившей дурные и инфернальные влияния. И это неразрешимое противоречие породило фантазмы, которые хорошо иллюстрирует сделанный в юности набросок рассказа, напрямую связанный с тайной рождения, причем рождения незаконного — «Трое, или Опыт».
Один ученый, глубокий знаток биологии, уже давно живет, запершись в темном обиталище, вдали от цивилизованного мира, в горном ущелье. Для опытов он построил лабораторию и живет замкнуто, всецело отдавшись опытам над природой — он отрекся от мира и ничего не желает о нем слышать. Ученый выстроил свою философскую систему, сухую и строгую, в основании которой лежат природные законы, понятые сугубо материалистски. С ним живет и его жена, которая много моложе его. Он женился на ней еще до того, как замкнулся со своими научными мечтами в старом доме на краю света. Она — очень земное создание; она красива, но пуста — хрупкая и безвольная, она подчиняется тирании мужа и его привычкам ученого-самоуправца. Их жизнь безмятежна и монотонна. Старик запирается в лаборатории, а молодая женщина проводит время в своих комнатах или в дремучем лесу.
Приезд молодого ассистента профессора нарушает иллюзорную гармонию между супругами. Угадав, что между ними вспыхнула любовь, старик решает доказать, что всякая любовь — это всего лишь инстинкт и она не сможет преодолеть того испытания, которому он подвергнет любовников: он замуровывает их в подземельях замка и с дьявольским хладнокровием ученого наблюдает, что произойдет.
Так проходят долгие месяцы. С помощью множества уловок старому безумцу удается усыпить все подозрения, пробужденные исчезновением любовников. /…/ Однако его теории пошатнулись. Его наука теперь уже не обладает прежней убедительностью. К нему подкрадывается безумие. Доходит до того, что однажды ночью он впервые слышит душераздирающие вопли, доносящиеся из подземелья. Он вскакивает, охваченный ужасом. От этих звериных завываний у него леденеет кровь — даже несмотря на то, что они подтверждают правильность его предположений. Но он все же дрожит от ужаса, сам не зная почему. Он с факелом спускается в подземный склеп, где заживо погребены любовники, и, взглянув через потайное окошечко, служившее для наблюдений, застывает от ужаса. В огромной луже крови лежит женщина, распластавшись, словно ее четвертовали. Рядом с безжизненным трупом — молодой человек. Но на руках у него, живым свидетельством лживости, ошибочности, преступности теорий ученого, словно конец всего мира опытов, науки, веры, смеющийся, сияющий новорожденный младенец, словно бы разгоняющий своим криком мрак подземелья. Старик убивает себя.
В этом рассказе в стиле Эдгара По Висконти выражает ужас перед фактом рождения. Месяцы зачаточного состояния в сокрытом и инфернальном месте, плод слабости плоти, явленный под знаком крови и смерти — для чтобы избавиться от всего этого, он разрабатывает туманную спиритуалистскую теорию, противостоящую теории тиранического и ревнивого профессора, и разъясняет ее в предпосланных истории записях:
Тезис: Материя в условиях этиоляции (нехватки света) имеет тенденцию преодолевать материальное начало. Плоть пресуществляется в дух.
Теория профессора: человек, в сущности, животное. Его природа не способна преодолеть законы биологии или избежать их. Все проявления его личности — это манифестации натуральных и материальных причин. Лишь наука может пролить свет на загадку материи — это и есть познание. Дух существует только в виде интеллекта.
Рождение в этом рассказе связано с «темной» материей и Злом, но тем не менее, оно становится победой светлой и сверхъестественной силы жизни.[63] Здесь Висконти находится под влиянием христианского учения об искуплении греховности материи через страдание, но он выражает здесь и мученическую веру в существование законов, которые превосходят рациональность и научное знание. Это вера, в которой король Людвиг признался перед смертью своему слуге Веберу: «Я немало читал о материализме. Он никогда не сможет удовлетворить человека, если человек не хочет пасть до уровня зверя».
Главное, что здесь он выдает навязчивую идею, подспудно проходящую через все его творчество, скрытую за известными культурными предпочтениями и достигающую апогея в последнем фильме — экранизации «Невинного» д’Аннунцио, где мы вновь встречаем эдипову триаду — отец, мать и ребенок. В этой картине Висконти присутствует та же светлая полутень, какой писатель окружает положение во гроб младенца, плод грешной любви Джулианы Эрмиль и Филиппо д’Арборио. Сквозь крышку хрустального гроба они видят «маленькое мертвенно-бледное личико, скрещенные ручонки, платье и хризантемы. Вся эта белизна — лицо, руки, цветы — казалась бесконечно далекой, недосягаемой, а хрустальная крышка гроба словно бы давала заглянуть за край сверхъестественной тайны, пугающей и очаровывающей».
Тема незаконного рождения — была ли она для Висконти всего лишь литературным мотивом? А может быть, это было его личное наваждение — ведь он прекрасно знает, что его любят меньше, чем старших братьев, и к тому же он часто конфликтует с отцом? Ясно здесь лишь одно: для всех его произведений, за исключением «Леопарда», характерно отсутствие или устранение фигуры отца. Фигура отца ненадолго появляется и в «Невинном», но лишь для того, чтобы отомстить «чужаку» — малышу-бастарду, которого выставляют на снег и мороз в святую ночь Рождества. И когда бабушка берет на руки младенца, ручки которого свело судорогой от холода, она словно бы воспроизводит то самое первое жертвоприношение, которое изображено и на висконтиевском гербе.
Эту сцену детоубийства можно счесть метафорической, говорящей о том, что всякий отец — враг незаконнорожденного сына. Также возможно, что это изображение другой ситуации — сын горит чудовищным желанием изменить изначальные отношения в паре Мать-Дитя, и мать для должна претерпеть такую же чудовищную трансформацию: нежная, как Мадонна, она должна превратиться в ведьму, в адскую змею, а отец мстит сыну за эту попытку кровосмешения.
Именно такая фаллическая мать, перенимающая всю жизненную силу умершего отца, изображена в «Гибели богов»: сын Мартин, всецело находящийся под ее влиянием, в письме называет мать «гадюкой». Интересно проследить, как в этом фильме сосуществуют, при этом не сливаясь полностью, два мотива-близнеца: кровосмешение и изнасилование, а также смерть еврейской девочки, произошедшая по вине Мартина. Две эти темы нанизаны на сюжетную нить шекспировского «Макбета», причем вторую тему Висконти заимствовал у Достоевского одного из своих любимых авторов. К слову, и Достоевский также немало размышлял о теме незаконного рождения. В фильме «Гибель богов» Висконти переворачивает классическую сюжетную схему (ребенок в опасности, беззащитный, умерщвленный сразу после рождения) и превращает ее в разгул садистских и смертоносных наклонностей. Сын, поначалу изображаемый как жертва матери, с детства крепко державшей его в ежовых рукавицах, освобождается от нее, овладевая ее телом (кровосмешение), а также и ее ядовитой силой (он убивает ее ядом, который может быть понят и символически, как смертоносное сыновнее семя).
Каждый раз, обращаясь к теме кровосмешения, Висконти будет укрываться за произведениями, которыми он восхищался: например, в «Туманных звездах Большой Медведицы» история любви брата и сестры навеяна как «Затворниками Альтоны» Сартра, так и произведениями д’Аннунцио и Томаса Манна. В «Туманных звездах…» архаическая коннотация фантазма подчеркнута еще и выбором места действия: Вольтерра — город, который больше всего напоминает преисподнюю. Суарес в «Путешествии кондотьера» описывает его как царство темных, подземных сил:
«Вольтерра — это спуск в ад, место, великолепно подходящее для того, чтобы убить, чтобы потерять себя, это земля, которая поглощает грешников. Здесь все можно совершить во имя ненависти… Нигде глас мощной средневековой Италии не звучит более свирепо… Вольтерра — столица угрюмой Этрурии… Она — словно факел погребальной страны, где живет смерть, этот город одержим сумрачными видениями той жизни, какую люди, лишенные дневного света, ведут под землей — а может быть, это не жизнь, а сон?… Я бы ничуть не удивился, наткнувшись тут на какой-нибудь жестокий и горестный призрак. Как Медузы, в разверстых пастях которых извиваются змеи, как дьявольские образы, придуманные этрусками, пейзаж Вольтерры напоминает мне Мексику, в одно и то же время яркую и мрачную. Кажется, что на этой земле можно встретить и зловещих богов инков — этих шутов кошмара, ужасающих и не вызывающих смеха. Как знать — не являются ли эти странные, по сей день неразгаданные этруски инками Европы?»
Сандра и Джанни назначают свидание в древней цистерне — чтобы попасть в нее, нужно пройти по винтовой лестнице, похожей и на круги Дантова ада, и на кольца змеиного тела. Нисхождение в ад — это одновременно и возвращение в детство. В сцене, когда Джанни вырывает у сестры ее обручальное кольцо, Висконти изначально планировал флэшбек, от которого позже отказался. Сразу после этого он хотел показать мать, которая причитает: «Мои дети, два моих чудовища… Я хочу знать, не чудовища ли мои дети?»
Эти кошмарные мечты о кровосмешении, по-видимому, посещали его с юности, и они маскируют другое, столь же сильное его наваждение: гомосексуальность, что сознательно выбрана как альтернатива кровосмешению. И тут снова возникает волнующий образ Змея — он словно символ обреченной на гибель связи, в которой молоко — это семя и яд, оргазм — это ужас и боль, а потакание свои желаниям — в одно и то же время и пытка, и экстаз. Суинберн пишет о Змее, чьи «зубы и когти сведены ужасной судорогой наслаждения болью, веки опалены темным огнем желания, и яд в его дыхании, которое он с силой испускает в лицо, в глаза и в божественную человеческую душу». Гомосексуальность влечет и захватывает так же неодолимо, как воды каналов, разносящие холеру. В «Смерти в Венеции» композитор Густав фон Ашенбах должен капитулировать перед этими водами, чтобы созерцать божественную и солнечную красоту Тадзио. И хотя этот фильм как и «Гибель богов», нисхождение в ад, именно в нем образ матери воссоздан Висконти во всем блеске и красоте, которые не подвластны времени.
Роковой знак при рождении обрекает художника на жизнь, полную адских мук — то же случилось и с доктором Фаустусом. Но в качестве компенсации за договор с дьяволом он допускается в мир красоты и побеждает телесное бесплодие плодовитостью своего искусства. Таким образом, по замечанию Марты Робер, творец, «подобно Эдипу, восстает против собственного отца, с помощью своих персонажей изобретает для самого себя незаконное рождение, позволяющее ему проникать в интимные отношения родителей».[64] Он становится еще и тем, кто «похищает у отца-божества фаллическую силу в полном смысле слова, которая одна только и способна уравнять его с его образцом». Его творения — это его сыновья; для Висконти его творения — это «семейные портреты».
Не преувеличено ли влияние фамильного Змея на творчество Висконти в этом анализе? Давайте посмотрим, с чего начинается его предпоследний фильм — «Семейный портрет в интерьере». Тридцать секунд тишины, совершенно черный экран, но вот под плач виолончели медленно разворачивается лента кардиограммы. Эту же ленту, напоминающую одновременно и кинопленку, и расплетающиеся извивы змеиного тела, мы увидим и в финале картины; заканчивается фильм, заканчивается и жизнь. Но Змей все еще тайно правит жизнью старого человека, который скоро умрет, а равно и самым ночным из искусств — искусством кино.
ТЕНЕВАЯ СТОРОНА
Зрелость — зто все.
Уильям Шекспир, «Король Лир»«Был ли он декадентом? Не знаю, вправе ли я судить об этом. Гомосексуалистом? Я так и не прояснил для себя этот вопрос, но считалось, что да. Жестоким? Иногда. А надменным? Да, это правда. Любезным? Часто. Великодушным? Еще каким. Забавным? По правде говоря, не думаю. Я редко видел, как он смеется. Только смутная улыбка, чуть приподнятая бровь. Это было всего лишь несколько раз, обычно в обществе хорошего повара. Поскольку у него была страсть к кухне, я слышал его веселый хохот, потом быстрый обмен репликами уж не знаю на каком диалекте — на нем говорил повар. Но полагаю, что я никогда еще не встречал человека из мира кино, который мог бы, как он, рассуждать о Климте и Караяне, о Прусте и комиксе „Арахис“, о Моцарте и Мантовани (он обожал фестивали Евровидения), или о Дузе и Дорис Дэй.
После инсульта мне было позволено прийти повидаться С ним на виллу в Черноббио. Только десять минут, и не больше…
Аллею, по которой я шел, освещали стройные ряды фигур, высоко державших ярко горящие факелы. Он сидел в инвалидной коляске, кутаясь в плед, маленький, сморщившийся — словно лев, съежившийся до размеров изувеченной борзой. Я обнял его, и он взял мою руку своей — той, которой мог двигать. Я просидел рядом с ним два часа, пока лакеи приносили большие альбомы с фотографиями из его последнего большого исторического фильма „Людвиг“. Тогда он вдруг оживился, заволновался и загорался все больше и больше, перелистывая страницу за страницей».[65]
Это воспоминание, которое в конце восьмидесятых записал Дирк Богард, актер «Гибели богов» и «Смерти в Венеции», может рассказать больше о трагизме жизни и ее закате, чем иная длинная повесть. Это и история о том, как необычные и старомодные декорации определяют путь человека голубых кровей в самый разгар XX столетия, это и этюд о блеске вчерашнего мира, к коему по-прежнему принадлежит загадочная фигура графа Лукино Висконти ди Модроне, и рассказ о сжигавшей его страсти к творчеству. Чтобы снова придать этой фигуре человеческие черты, очень хочется перестроить модель повествования, присмотреться к «его кухне», как предлагает Серж Даней. Не слишком ли близко мы к нему подойдем в этом случае? Не приуменьшим ли мы его фигуру? Но есть и противоположный соблазн: смотреть на Висконти слишком издалека или говорить о нем чрезмерно напыщенно — и снова для этого больше всего подошел бы самый незаурядный персонаж из всех, каких только Висконти создавал на экране: опять Людвиг… Его сценарист Энрико Медиоли, один из главных творцов этого фильма, категоричен: «Висконти всегда возражал против сравнения себя с Людвигом. Но это не совсем правда: „Людвиг“ раскрывает нечто, очень ему близкое […]: здесь и его жажда жизни, и его вкус к еде, и его юмор, и его веселость и в то же время моменты неодолимой ипохондрии, о которых никто даже и не подозревал, потому что в такие минуты он от всех прятался».[66]
Говорят, что идеальное жизнеописание должно соблюдать подобающую дистанцию по отношению к герою — биография должна содержать не только подлинные исторические детали, но и проникнуть в изнанку описываемых вещей, осветить полосы тени, проникнуть в тайны, если они есть — и вытряхнуть на всеобщее обозрение тот «презренный кулек с тайнами», про который не без желчи пишет Мальро. Не следует пренебрегать и фоном, или общим планом, чтобы именно в него поместить живую личность и рассказать о ней. Общий исторический план, а равно и план общекультурный представлены в нашей книге очень подробно — с тем, чтобы включить героя книги в самый широкий контекст, чтобы создать перспективу, которая будет под стать его кругозору. «Лишь немногие великие режиссеры, например, Эйзенштейн или Висконти, — пишет Жан-Луи Летра, — работали с культурным наследием так же, как с цветовым решением. Их кино воспаряет над традицией».[67] У таких мастеров важно проследить направление взгляда и исследовать творчество в неотделимой связи от всех обстоятельств их жизни. Да, критики могут вынести мгновенное решение — анахронично его творчество или актуально. Однако отыскать огонь и глубину живой души творца, избегая скоропалительных вердиктов, стоит большего; и этот огонь обнаруживается у художников, пытавшихся всмотреться в то, что находится за пределами чистого бытия, за пределами индивидуальной жизни, в работе, битвах и ранах, которые она обнажает. Быть может, именно творческая биография, это совершенное или несовершенное зеркало завершенного творчества или творчества, близящегося к завершению, лишь одна и способна вытащить из-под мнимой множественности случайных черт истинную динамику и настоящую форму жизни.
Мартин Скорсезе, представляя в Париже свой фильм о Бобе Дилане в марте 2006 года, сказал об этой работе так: «Стоило мне осознать, что передо мной история предательства и мести, как у меня больше не было затруднений с постановкой этого фильма». Пусть же те страницы, которые следуют дальше, и собранные в них рассказы о встречах и беседах прозвучат как эхо этой фразы и как ответ на вновь и вновь задаваемый вопрос: какова же была глубинная история Висконти, в какую драматическую форму его творчество преобразило его жизнь?
О ТРАУРЕ И О ЛЕГЕНДАХ
Семнадцатого марта 1976 года знаменитый бразильский кинорежиссер Глаубер Роша, фильм которого «Земля в трансе» (1967) прямо цитировал картину «Земля дрожит», узнает о смерти Висконти. В это время он находится в Лос-Анджелесе и внезапно вспоминает 1969 год. Висконти председательствовал тогда в жюри Каннского кинофестиваля, где Роше присудили приз за режиссуру фильма «Дракон Зла против Святого Воителя»… Так они встретились в первый раз. Позже, уточняет он, «мы дважды вместе обедали в Риме». Эта странная встреча, в ходе которой возникло странное взаимное притяжение и обнаружилось удивительное сродство душ. Роша — художник прежде всего вычурный и эпатажный, тридцатилетний революционер с неистовым эпическим талантом, пламенный пророк и апологет классовой борьбы в Сертоне.[68] Шестидесятитрехлетний Висконти — состоявшийся мастер, которого уже обвиняют в академизме, прустианец и скептик, снявший «Леопарда», приверженец порядка и традиции, воистину наследник великой культуры. Но перед мысленным взором Глаубера Роша предстает совершенно другой человек. Потрясенный известием о смерти Висконти Роша пишет текст в форме надгробного слова: «Другу Висконти, маэстро Висконти, в день его смерти». В этом очерке он пылко перечисляет весь свой висконтиевский алфавит, начав с буквы «А»: «Лукино Висконти умер, когда монтировал „Невинного“, мелодраму по роману д’Аннунцио», и дойдя до финала, до «Я»: «Он преподал мне уроки кино и уроки жизни. Я любил этого великого художника и надеюсь, что он с миром пребывает в раю».
Каковы же были эти уроки жизни? В том ли они состоят, что «он был антифашистом, его заключали в тюрьму и пытали»? Или еще и в том, что «он жил великой любовью, познал самые утонченные наслаждения декаданса в лучших домах Европы, был обожаем мужчинами, женщинами, итальянским народом и публикой всего мира»?
Каковы же были эти уроки кино? Для Роши он был не просто режиссером, а кем-то гораздо большим. Висконти, пишет он, это «сценограф необычайного уровня культуры, презиравший голливудский китч и французскую нищету сценографии. Он отомкнул для кино несгораемый сейф Искусства и воссоздал блеск итальянской и европейской аристократии».
За сверкающим и мишурным блеском светского обличья Висконти, за его ореолом антифашиста и за его аристократической гримасой неприятия всепроникающего буржуазного меркантилизма, Роша рассмотрел своего Висконти — и для него это был прежде всего «великий художник». Даже post mortem Роша ясно видел за суровостью старомодного «маэстро» его мятежную страсть, исключительность, нетерпимость к логике современности и к современной же тенденции закрепощения (финансового, политического, демагогического) во всех сферах, начиная со сферы искусства. И наоборот — именно в Глаубере Роша, а не в интеллектуальном, маньеристском, склонном к нигилизму Годаре, и не в действительно суперталантливом Бертолуччи Висконти смог не только распознать своего ученика, члена своей эстетической и моральной семьи, но вновь узреть и образ собственной юности: дерзкой, боевой и творческой. Висконти увидел в Роше личность, не признающую правил и установлений, художника с всепоглощающим талантом, верного только себе, собственным наваждениям и страстям.
В 1973 году мир смог увидеть — или мог думать, что видел, — «Людвига». Фильм был искалечен и урезан ради того, чтобы он уложился в принятые в прокате стандарты киносеансов. В разных копиях он теперь имел продолжительность от 2 часов 30 минут до 3 часов 5 минут и при этом был прохладно принят парижской критикой, у которой нашлись хвалебные слова для снятого тогда же скандального фильма Ганса-Юргена Зиберберга «Людвиг, реквием королю-девственнику». Людвиг II Баварский изображен у Зиберберга карикатурным персонажем — как и Гитлер, который механически танцует, как и Вагнер, который представлен в виде карлика, постоянно исполняющего кульбиты. Десять лет спустя «Людвиг» повторно выйдет на экраны в так называемой «первоначальной» и окончательной версии — теперь зрители могут оценить оригинальный размах фильма, который длится более четырех часов. Однако сомнения все еще остаются: пусть даже эта версия картины благоговейно восстановлена близкими людьми, друзьями и соработниками Лукино, но действительно ли это тот самый «Людвиг», что был задуман самим Висконти? Серж Даней замечает в газете Libération: «Никогда не утихнут споры о Висконти, который остается — что бы о нем ни говорили — режиссером столь же знаменитым, сколь и непознанным; его стиль — один из самых герметичных в истории кино». Если его и переоткрывают сегодня, то это происходит, по словам Сержа Данея, в свете сложившихся и подчас «постыдных» стереотипов Висконти-де «внутренне противоречивая фигура: политически ангажированный эстет, герцог-марксист, да еще к тому же и мужеложец…». Это скептическое отношение к Висконти во Франции все еще сохраняется и переломить его так и не удалось.
«Мы были леопардами и львами. Нам на смену придут шакалы и овцы. И все мы — леопарды, львы, шакалы и овцы — продолжим считать себя солью земли», — негромко говорит князь Салина в холодном свете зари на маленькой площади Доннафугата, прощаясь с посланником нового пьемонтского правительства и объединенной Италии Шеваллеем, марионеточной фигурой с заурядными повадками итальянского чиновника эпохи Кавура. Если нужно быстро вспомнить что-нибудь о Висконти, тут же приходит на память эта сцена и знаменитая фраза из «Леопарда» Лампедузы. И не важно, что граф ди Модроне всегда напоминал, что по линии матери он происходит из простонародья, не важно, что он открещивался от политического консерватизма и пессимизма князя Салины, не важно, что всегда, и в театре и в кино, он не упускал случая свести счеты с анахроничными мумиями феодального мира В числе этих мумий — и старая богатая деревенская баронесса в фильме «Земля дрожит», и граф Альмавива в «Свадьбе Фигаро», и силуэты обезглавленных призраков в костюмах XVIII века, и граф Альбафьорита, маркиз де Форлимпополи из «Трактирщицы», и свирепый барон Окс из «Кавалера роз», и инфантильные аристократы из короткометражного фильма «Работа»; но в глазах всего мира — и, разумеется, в своих собственных — Висконти и есть Леопард, князь, аристократ… Пьеро Този рассказывает, что в начале съемок картины Берт Ланкастер все время спрашивал совета — как ему играть этого героя, столь далекого и от него самого, и от всех его предыдущих ролей. Но в ответ на эти вопрошания он получал лишь очень скупые ответы. Този говорит: «И вот однажды я одевал для его съемок, и тут он выпалил: „Уже целую неделю я прошу Висконти объяснить мне характер этого героя. Ну какой же я кретин: вот он, князь, прямо у меня перед глазами!“. С этой минуты он больше не задавал вопросов, и возникшая было у Висконти холодность по отношению к актеру, выбранному, как кажется, по настоянию продюсера, обернулась большой любовью».
И когда падре Пирроне на пути в Доннафугату, обыкновенное поместье семьи Салина, затерянное в центре спящей под солнцем Сицилии, рассказывает нищим крестьянам об этом мире семейства Салина, этом особом универсуме, со своими правилами, развлечениями, блеском и ценностями, частенько непонятными тому, кто не был рожден в этой среде, как не вообразить, что за этим рассказом скрываются образы мира Висконти? Среди вспоминавших, каким он был в жизни, нет ни одного, кто не увидел бы в нем аристократа. Во время работы над сценарием «Марии Тарновской» Антониони спрашивал у Висконти: «Кто, кроме тебя, точно знает, что должно лежать на подносе для завтрака в венском дворце, в Гранд-Отеле или в Hotel des Bains в Венеции?» Моравиа задается вопросом: кто, как не Висконти, может знать, какие именно детали фрака и манер дона Калоджеро сочтут чудовищными, несуразными и смехотворными в гостиных палермских семейств Салина и Понте-леоне? К этому хору вопрошающих присоединяется и Стрелер: кто, кроме Висконти, мог столь же властно ввести в театрах Рима и Милана новые правила — уже на следующий день после окончания войны? У кого еще мог Мартин Скорсезе, снимая «Век невинности» — от Пруста в этой картине взято куда больше, чем от Эдит Уортон, — найти точное и совершенное знание нарядов, а также и весь их символизм, который присутствует также и в жестах, проявляется в цвете платья, в выборе портсигара, зонтика, веера? «Я чувствую, что Висконти мне ближе, чем Уэллс», — признается Скорсезе Майклу Х.Уилсону в 1993 году. «Особенно в „Леопарде“. […] Свою личную копию „Леопарда“, восстановленную трехчасовую версию, я показал всей съемочной группе „Век невинности“».
Не ограничивал ли аристократизм его видение? Не жертвовал ли он самой страстной, чувственной, современной частью себя? Вот что пишет Жиль Делез: «Висконти с первого своего фильма до последнего (с „Одержимости“ до „Невинного“) пытается докопаться до самых глубинных, самых первобытных порывов. Но, будучи слишком аристократом, он не достигает цели, ибо настоящая его тема лежит вне этого и непосредственно связана со временем».[69] Утверждение странное, если вспомнить, как остро проявляются эти первобытные порывы в «Гибели богов», если припомнить смех Ашенбаха из «Смерти в Венеции», безумие брата Людвига, характерные для творчества Висконти мотивы физической и психической деградации (в этом смысле Томас Манн оказал на него гораздо большее влияние, чем Пруст), а также его неослабевающий интерес к болезни, упадку, нищете, страданию — интерес, который заметен еще в неоконченной юношеской повести «Анжело».[70]
Стоит ли отрицать, что именно аристократический мир дал ему самое главное в его искусстве видеть, что этот мир сформировал его взгляды, научил виртуозно распознавать, а также и создавать знаки, определяющие принадлежность персонажа к тому или иному обществу? Еще Моравиа писал об образе Салины: «Один лишь Висконти, коммунист и аристократ, мог так тонко отмерить нужную долю скептицизма и патетической ностальгии в характере князя по отношению к социальным и политическим вопросам эпохи. Он, почти как Пруст, точен в изображении семейной и светской сторон личности своего героя». А вот слова Глаубера Роша: «Этот марксистогомосексуалисто-аристократ всегда хранит верность своим корням…» Отсюда, из области частной жизни, тоже берет начало его свобода, от своего аристократического рода он принял в наследство и неприязнь к буржуазному морализму, который конфликтовал с его политическими принципами.
В нем, утверждает Энрико Медиоли, не было ни ханжества, ни стыда за гомосексуализм: «Прустовская мысль о проклятии, мысль, что оно может повлечь наказание — все это Висконти не волновало. Гомосексуальность или бисексуальность скорее была некой семейной чертой, которая была свойственна и его братьям, кузенам, племянникам; его мораль была такая же, как и у Уистана Хью Одена: мораль желания. […] Вот это и влекло его к Хельмуту Бергеру, что так очевидно в „Семейном портрете в интерьере“: любовь без уважения. Без малейшего ощущения вины за гомосексуальность. Я никогда не видел его спешащим к мессе, он был выше любых осуждений как Ватикана, так и компартии во всем, что касалось гомосексуализма. „Я таков, каков я есть“, — так он говорил…»
Он не был и воинствующим — ни в политике, ни в любви. Он не делал из своего Людвига ни «безоружного пророка, шута и мученика гомосексуализма», ни глашатая своего мнения — его герой сам не разоблачает взлет прусского капитализма, исследованного Висконти с момента зарождения и до превращения в нацизм. Задолго до маньеристских картин Пазолини Висконти искал подлинное достоинство в представителях народа, черпая вдохновение в сочувственном и религиозном взгляде Берги и в реальной жизни деревни Ачи-Трецца, снимая рыбаков в «Земля дрожит»; он прямо срисовывал с Анны Маньяни образ Матери в «Самой красивой» — и, конечно, это прообраз аллегорической Mama Roma Пазолини и Феллини. Да, конечно, Висконти происходит из другого мира, но не из той реальности, которой свойственно видеть в нищете сомнительное обаяние экзотики. И он — не из другой эпохи. Он всецело был хронистом, романистом и историком своего времени. Он руководствовался личным опытом, теми чувствами, которые испытал во времена фашизма и Сопротивления. Томас Манн, рассказывая о рождении замысла «Волшебной горы», также говорит о важности личных переживаний: художнику нужен особый опыт чувств, «опыт, разделенный со своим народом опыт, которому позволено зреть до той поры, пока он не станет искусством».
И все-таки кое-что остается непонятным в этом графе ди Модроне — ему прислуживают лакеи в ливреях и белых перчатках, а сам он ставит Артура Миллера, голосует за коммунистов и снимает фильмы о сицилийских рыбаках, римском рабочем классе, семьях с юга, приехавших из Аукании в Милан.
С точки зрения Роша, настойчиво вглядываться в аристократизм Висконти означает не прояснить, а лишь затуманить картину: «Говорить о Висконти как об аристократе-марксисте — пустая трата времени. Его концепция антропоморфного кино или его позиция как образец критического реализма куда значимее для тех комментаторов, что следуют по пути Гвидо Аристарко и с помощью идей Дьердя Лукача пытаются сблизить литературу и кинематограф. Двадцать лет пример Висконти объединяет критиков справа и слева в том, что они относят его к промежуточной зоне и воспроизводят свой излюбленный миф о марксисте-аристократе». Теперь, когда ни марксистский, ни аристократический миф не в состоянии определить, кто есть кто, наш князь повисает в воздухе.
О ВЛАСТИ, ДИСЦИПЛИНЕ И УМОЛЧАНИЯХ
Та область, тот остров, на котором он владычествует, простирается гораздо дальше, чем аристократический, приватный мир; его сфера влияния гораздо шире, чем малый круг избранных — тот двор, который он собирает вокруг себя в Риме на виа Салариа или летом на Искье, в «Коломбайе». Для стороннего взгляда он — человек власти и человек партии. Его коммунизм — это, как говорят, коммунизм попутчика, соблюдающего известную дистанцию. На это особое отношение к партии повлияли и его представления об этике, и дружеские связи, и близость эстетических позиций, и его отношение к власти как таковой. Висконти расслышал в речах коммунистов евангелие о такой власти, которая способна, в соответствии с мечтами профессора из «Семейного портрета в интерьере», «уравновесить политику и мораль». Но сам профессор тут же и добавляет: «Это поиск невозможного». Эта политическая ангажированность, которую Висконти разделяет с «интеллектуалами своего поколения», предписывает ему ответственность, круг обязанностей, которые он берет на себя как художник. Но в то же время партийность также велит ему и умалчивать о многом.
Нет сомнений, что героическое время подпольной борьбы, как и дань, заплаченная мучениками Ардеатинских рвов и жертвами фашистской и нацистской полиции, наложили на Висконти глубокий отпечаток. Именно из этого опыта он почерпнул нравственные обязательства и дисциплину, в этих событиях — корни его верности партии, его тревог и нежелание навредить коммунистам, пусть даже ради этого придется чем-то пожертвовать. По всей видимости, он мог пойти на эти жертвы ради крепкой дружбы, и таким настоящим другом для него был не непримиримый ортодокс Марио Аликата, и даже не умерший в 1964 году Тольятти, а Антонелло Тромбадори. Крепкая связь с ним, выкованная еще во времена Сопротивления, его образованность и его страсть к искусству обладают достаточным весом, чтобы в 1946–1947 годах Висконти по его просьбе отказался от постановки «Мертвых без погребения», а позже — и от «Мух» того же Сартра, от «Недоразумения» Камю и от «Лже-искупителей» Гвидо Пьовене. Все эти произведения с одинаковой яростью противопоставляют человеческое и божественное правосудие.
Сотрудничать с человеческим судом Висконти согласился без колебаний, когда 23 сентября 1944 года делал документальную съемку суда и казни начальника фашистской полиции, квестора Пьетро Карузо. На жизнь Карузо покушались в Риме, и в отместку он предоставил гитлеровцам список 44 членов Сопротивления и 335 гражданских заложников, которых казнили выстрелами в голову и чьи тела, сваленные в Ардеатинские рвы 24 марта 1944 года, были эксгумированы в июне, когда освобождали Рим. Начиная эту съемку, Висконти случайно оказался свидетелем другой сцены, которую тоже снял, но так и не включил в фильм: это «страшный эпизод», в котором толпа расправляется с Донато Карреттой, бывшим директором римской тюрьмы Реджина Коэли. Очистительный суд над Пьетро Карузо мог способствовать восстановлению объединенной Италии через справедливое наказание тех, кто нес ответственность за нацистко-фашистскую бойню, но политическая осторожность режиссера привела его к решению вырезать сцены народного гнева с их взрывным насилием и сократить показ толпы, крупные планы лиц — особенно женских — и общие планы начинающейся расправы. Де Сантис уточняет: «Мы решили, что показывать в такой момент ужасную, драматичную, трагическую ярость было бы чересчур… Эта расправа была единичным случаем, итальянский народ совсем не таков. Нам хотелось показать другую Италию — Италию Сопротивления».
Через несколько месяцев Висконти, и сам побывавший в пансионе Джаккарино и подвергшийся там пыткам, выступил свидетелем на суде над Пьетро Кохом, обвинявшимся в убийствах и пытках множества участников Сопротивления на двух «виллах скорби», которыми он заправлял в Риме; казнь Коха он тоже заснял 5 июня 1945 года.
Три этих эпизода, снятые в разное время, вошли в коллективный монтажный фильм «Дни славы», сделанный по заказу коммунистической партии и смонтированный Марио Серандреи: начиная с «Одержимости», он был постоянным монтажером Висконти. Ритуал суда и казни смонтирован как единое и последовательное действие — так создается ощущение правосудия, вершащегося ради всеобщего блага. Зрителю не дают понять, что место съемки изменилось, а ведь после расправы над Карреттой действие переносится из Дворца правосудия во дворец Корсини, где будет происходить суд над Карузо. Разницу во времени, отделяющую одно событие от другого здесь также нельзя почувствовать: монтаж переносит зрителя из зала суда на место казни, земляную насыпь Форта Браветта с помощью короткого затемнения и монтажной вставки листка календаря. Таким же образом и так же бегло датируется каждая из трех экзекуций. Эта непрерывность действия и быстрый переход к первой сцене казни здесь выглядит логическим завершением суда, приговор которого закадровый голос (кинокритик-марксист Умберто Барбаро) называет «справедливым и неизбежным». Действительно, такой финал необходим, ибо в ту документально заснятую сцену, где прокурор Берлингуэр зачитывает обвинительный приговор, вмонтированы восемь планов с фотографиями жертв из Ардеатинских рвов. В то время, когда еще шла война, осенью 1944 года, ради этого итальянского народа, ради «наших героических партизан», ради «братьев наших, которые ждут, страдают, но сражаются», Берлингуэр, напомнив о тяжелых временах и о «величии этого Дворца правосудия», выносит приговор: смертная казнь. Безымянному и почти бесстрастному закадровому голосу, повторяющему этот приговор, эхом вторят трагические кадры — фотохроника убийств, совершенных в Ардеатинских рвах.
Но 1945 год, кажется, несколько поколебал столь ясную и безоглядную веру в людское правосудие; мы говорим о подлинных обстоятельствах, при которых 28 июля 1945 года погиб актер Элио Маркуццо, сыгравший Испанца в «Одержимости». Знали ли об этих обстоятельствах уже тогда его старые друзья-антифашисты из Экспериментального киноцентра — Пьетро Инграо и Висконти? Не приходится сомневаться, что второму из них все становится известно довольно быстро, поскольку 2 февраля 1946 года он составляет и подписывает документ, который должен быть приобщен к следственному делу. По всей видимости, Висконти стремится обелить Маркуццо, которому в «Одержимости» поручил сыграть особенно интересовавший его образ доносчика, от обвинений в том, что он якобы был предателем и получал деньги от фашистов. Лукино категорически утверждает, что Маркуццо был антифашистом; объясняя поездку актера в Берлин, он ссылается на подготовку антинацистской акции и на «его связи с общими друзьями немецкой национальности, однако решительными антифашистами». Здесь названо даже и имя немецкого товарища: Карл Кох. Показания Висконти намекают на возможное предательство, или «трагическую ошибку», или же «личную месть», но причины гибели Маркуццо так и не выяснят, следствие не будет закончено, и дело не получит огласки. С 1954 года (в этом году была объявлена амнистия по делам о послевоенных расправах, совершенных при невыясненных обстоятельствах) и по 1998-й, когда Пьетро Инграо публично заявил, что в этом случае произошло «ужасное недоразумение… для меня это очень горькая и печальная история…», — об этом случае никто не вспоминал.
Сам Висконти никогда не комментировал публичное убийство актера летом 1945 года — возможно, он опасался, что этот случай замарает официальный образ свободной, единой, братской Италии? Ясно, что он знал все подробности гибели друга: он знал и про то, как односельчане просили его под благовидным предлогом перевести им два письма — одно с английского, другое с немецкого. И про то, как после его возвращения из Германии ему угрожали, что ему, «мавру смазливенькому», вскоре устроят темную. И про то, как группа людей в униформе фашистов-республиканцев пришла арестовать его вместе с младшим братом Армандо вечером 28 июля 1945 года, как их вывезли в Бреда-ди-Пьяве, повесили, а потом похоронили в объятиях друг друга еще живыми… Висконти наверняка знал и о том, что под личиной республиканца орудовал один из самых жестоких боевиков Сопротивления этой провинции Тревизо, прославившийся под боевой кличкой Сокол. Говорят, что братья Маркуццо, поверив, что попали в руки фашистов, успели уничтожить бумаги, доказывавшие их связь с Сопротивлением, которые могли бы спасти им жизнь.
Свидетельство Висконти ясно показывает, что у Маркуццо были крепкие связи с Германией, однако он явно стремится снять с актера обвинения; в этом же свидетельстве он упоминает о самоубийстве Карла Коха, друга Жана Ренуара и мужа Лотты Райнигер, с которым Висконти работал на фильме «Тоска» — но на самом деле Карл Кох не убивал себя, следовательно, Лукино не знал реальной судьбы немецкого режиссера. «Он покончил с собой, — пишет Лукино, выбросившись из окна, когда гестапо пришло в его берлинский дом». Висконти даже неправильно пишет его фамилию — КОК вместо КОСH, словно подчеркивая разницу между антифашистом и его итальянским однофамильцем, зловещим Пьетро Кохом, против которого Висконти недавно свидетельствовал в суде. Он предполагает, что мотивами расправы над Маркуццо могли быть месть или предательство, а может быть — трагическое стечение обстоятельств. Однако отныне Висконти относится к правосудию иначе. Он не поставит на сцене ни «Мертвых без погребения», ни «Мух», ни «Лже-искупителей», зато снимет «Чувство» и «Туманные звезды Большой Медведицы», где правосудие свершается посредством мщения, жестокого сведения счетов, при посредстве доноса. И положительных героев в его творчестве будет все меньше — к большому сожалению сталинистов, которых в партии хватает — зато, по-видимому, все в большем согласии с разумной, умеренной позицией Антонелло Тромбадори.
Его сын Дуччо Тромбадори принимает меня в римской квартире, где до сих пор живет его мать; он показывает висящую прямо у входных дверей маленькую картину с изображением головы Христа — подарок Висконти его отцу. Он вспоминает об их дружбе, родившейся во времена «Дней славы», называет эту дружбу «политической и интеллектуальной» и видит в ней подтверждение того, как далеко ушел Висконти от своего изначального воспитания. Речь шла о «прямом вторжении в жизнь, о таком контакте с действительностью», который удовлетворил бы его тягу к подлинному реализму — «не условному, „вынужденному“ и восхваляющему компартию», а к такому, который продолжал бы борьбу подпольщиков и дискуссии, которые велись в редакции журнала Cinema. Дуччо говорит: «Мой отец был сицилийцем. Они вместе работали на картине „Земля дрожит“. Их дружба крепла. Они обсуждали важные темы, касавшиеся Италии, и не только. При этом они все время возвращались к теме Сицилии, как к метафоре, как к месту эксперимента. […] Быть коммунистом — не значит вечно „дудеть в революционную дуду“,[71] это ведь и эстетический, и идеологический выбор, позволяющий преодолеть самого себя.
„В компартии Италии велась оживленная полемика — журнал Contemporaneo выступал за открытость, Марио Аликата был настроен более бескомпромиссно: он хотел, чтобы за партией оставались все решения, даже те, которые шли вразрез с мнением художников“.
Что Лукино думал о подпольном фашизме, поднявшем голову в 1968–1969 годах? Дуччо отвечает: „Висконти не ставил знака равенства между радикальными проявлениями недовольства и фашизмом; но, как и все интеллектуалы тех лет, он опасался, что это повредит парламентаризму. Людей, подобных моему отцу, пугало отрицание культуры, и эта манера во имя кипения жизни отбросить уроки прошлого и все, чему нас учит История, пробуждала в них опасения, что может повториться ситуация, очень напоминавшая фашистский подъем в 20-е годы“.
Дуччо рассказывает и о том, как Висконти воспринимали в партии: „Я не верю в легенду о Висконтн-декаденте. […] Даже в „Людвиге“, истории вырождения, он всегда сохраняет дидактический фон: углубляет тему, проблему, приближаясь к критическому реализму в духе Бальзака. Он изображает реальность через дискурс; это не просто эстетическое изображение данного момента. Он творит рассуждение об истории… Наверное, сочинения Грамши не были его настольной книгой, как и Библия, но все же. Я думаю, что он почерпнул у Грамши мысль о том, что марксизм хорошо подходит для итальянской нации, он дает ей перспективу. Они с отцом считали, что в нашем времени возможно найти точку опоры для осуществления национальной революции, которая так и не свершилась“.
С явной ностальгией Дуччо Тромбадори вспоминает этот, уже такой далекий, мир, к которому принадлежали художники, артисты, друзья его отца, такие как Ренато Гуттузо, тоже сицилиец. Дуччо говорит: „Это был очень сплоченный мир, что-то вроде „сталинизма по-итальянски““. Вопрос об осуждении партией гомосексуализма и о том, как неприкасаемый Висконти ухитрился стать поразительным исключением, остается открытым… В свою очередь, в 1956 году он во всеуслышание возмущался вторжением русских в Венгрию, но при этом хранил верность этике коммунизма; и он дал тому неоспоримые доказательства. Картина „Земля дрожит“ планировалась как часть сицилийской трилогии — две оставшиеся части, крестьянская и пролетарская, так никогда и не будут сняты. Во втором фильме предполагалось рассказать недавний эпизод итальянской истории: первую расправу нового государства над гражданами. 1 мая 1947 года в Портелла-делла-Джинестра, когда подручные бандита Сальваторе Джулиано расстреляли из пулеметов толпу, собравшуюся мирно отпраздновать 1 мая и несшую красные знамена, погибло одиннадцать человек, среди них женщины и дети. Точно такой же контекст и у наброска третьей части „Земля дрожит“. Фон истории: перспективы захвата земель крестьянами, споры о сепаратизме, предвыборные цели Христианско-демократической партии и ее связи с полицией и мафией, левые силы на передовых позициях в парламенте. Скорее всего, и бойня в Портелла-делла-Джинестра, на первый взгляд беспричинная, должна была спровоцировать всплеск насилия, а планировавшийся государственный переворот в пользу правых должен был вновь принести в общество порядок.
Висконти якобы отказался от съемок второй и третьей частей из соображений политической лояльности, под прямым нажимом Итальянской компартии, не приняв неожиданной финансовой помощи в 37 миллионов лир, пришедшей со студии Universalia — кинокомпании Ватикана,[72] руководимого Сальво д’Анджело. Нагляднейший пример исторического компромисса, дабы избежать малейшего риска дестабилизации (эта же проблема и в почти той же форме возникнет в 1974 г. на „Семейном портрете в интерьере“, на сей раз в виде настоящего заговора). И еще одно подтверждение того, что на основах опыта, политического реализма объединение происходит лучше, чем на основе идеологических законов и революционного идеализма.
Да, Висконти был сторонником коммунизма — как в политике, так и в этике. Выбрал ли он этот путь ради того, чтобы защититься от эстетизма, формализма, жестко ограничить себя самого, дабы не стать „новым Оскаром Уайльдом“? Висконти вряд ли можно назвать официальным глашатаем партии — как и Эйзенштейна, выражавшего аналогичные опасения почти теми же словами.[73] Произведения Висконти — нечто совсем не похожее на ждановские образцы социалистического реализма. Снимая „Одержимость“, он ни на йоту не изменил персонаж Испанца, не последовал призывам Аликаты сделать выходца из Испании положительным героем и даже сделал этого героя очень интересным для самого себя — ведь он не просто гомосексуалист, но еще и доносчик. Разве в его стиле нет „негодной“ примеси, привкуса „декадентской“ Италии? Есть, и немало: он выберет роман „вырожденца“ д’Аннунцио в момент, когда решит оставить сцену ради съемок „Невинного“. Необъяснимым образом Висконти сочетал в своем кредо коммунизм и декадентство: яд с противоядием. Несмотря на явные двусмысленности „Чувства“, не этот фильм, а „Леопард“ подвергается прямым обвинениям — картина пронизана солнцем и все же вновь пробуждающая бурную полемику, которая вспыхнула за пять лет до, сразу после публикации романа Лампедузы. Гуидо Аристарко, один из общепризнанных нравственных и политических авторитетов эпохи в области кино прежде неустанно восхвалявший постановщика „Земля дрожит“ и „Чувства“, пишет ему открытое письмо с официальными упреками: „Дорогой Висконти, должен признаться и тебе, и читателю в своих сомнениях и недоумении, даже в разочаровании твоим „Леопардом““. Именно сложность и острые полемические стороны романа Лампедузы захватили Висконти, и он ни на миг не озаботился тем, что раскалывает культурный мир левых сил. Теперь никто не обвиняет его в том, что он-де искал убежища в прошлом. Даже напротив — в статье в La Reppublica от 5 июля 2007 года приемный сын Лампедузы, Джоаккино Ланца Томази определяет разницу между Лампедузой — человеком прошлого и обращенным в будущее Висконти. „Традиция Висконти, — объявляет он, — это традиция победителей, Лампедуза же находится на стороне побежденных…“
Сталкиваясь с сомнениями, разочарованиями, обвинениями, вызванными его слишком явной склонностью к мотивам упадка и сумерков, Висконти и не думал снова и снова присягать марксизму. В каждом его произведении, начиная с неоконченной повести „Анжело“ 1936 года, звучат мотивы декадентов и натуральной школы, которые настойчиво преследовали Лукино: это темы деградации семьи и болезней молодого героя. Без оговорок и компромиссов, а подчас с едва скрываемым раздражением, он отстаивает свое право обращаться к веризму и реализму, к тем образцам, которые дали ему итальянские, французские, русские и немецкие романисты. „Быть декадентом нелегко“, — повторяет Энрико Медиоли слова писателя Эмилио Чекки. Китчевое и маньеристское декадентство Элио Петри, Кена Рассела, а позднее — и Фассбиндера, не обременяет себя поиском литературных корней у Томаса Манна, Музиля, Достоевского или Шницлера. В отличие от Висконти и Кубрика с его „Широко закрытыми глазами“, в творчестве этих режиссеров не заметен поиск формального противоядия.
„Покончим наконец с навязчивой идеей о том, что Висконти — декадент“, — писал Доминик Паини в 1983-м. Увы, от этой идеи так и не удалось избавиться — что по одну сторону Альп, что по другую. Да и как покончить с этим мифом, если сам Висконти не открещивался от декадентства, а одним из его последних проектов, который он мечтал осуществить еще в молодости, была экранизация „Волшебной горы“?
„Мы пока не сумели, — продолжает Доминик Паини, — извлечь урок из творчества Висконти. Оно выросло из классицизма и раздвинуло его границы, избавив от академизма и тяжеловесности. С помощью киноаппарата Висконти сумел изобразить окружающую действительность с замечательной ясностью, и в этом состоит его великая заслуга“. Сегодня, когда Висконти превратился в памятник, в признанного и изученного классика, обретшего даже свой музей (в „Коломбайе“, на Искье), когда его фильмы благоговейно реставрируют, когда DVD-диски с его картинами хорошо расходятся, стали ли мы понимать его лучше? Вот Серж Даней — о „Людвиге“: „Задайся мы вопросом, что же это такое — фильм Висконти, мы столкнемся с одним из самых герметичных стилей в истории кино, с впечатлением застывшего монумента, со скукой от экскурсов, с ощущением чрезмерной тяжести этого зрелища, которое словно бы терпит наше присутствие или не замечает нас“.
Стоит ли видеть в этом чувстве отчуждения, неприятия искусства, не умеющего смеяться над собой, особенность нашего времени или прогрессирующую атрофию эстетического чувства, более того — чувства Истории? Неясность творчества Висконти в целом, его труднодоступная красота противятся этому и тем самым позволяют сегодня пробить бреши в гранитной стене, почувствовать, как кружится голова, и устремиться к большему, нежели простое посмертное почтение и набор опостылевших клише: „Висконти — 1906–1976. Великий художник. Классик. Вчерашний мир. Дело закрыто. Смерть в Венеции“.
Но ведь от этих клише никуда и не денешься: итальянский маэстро — неисправимый аристократ, рафинированный, академичный декадент, человек из другой эпохи. Его фильмы? Пройдено, забыто, китч. О его театральных постановках почти ничего не знают. Лишь редкие режиссеры, в числе которых Патрис Шеро,[74] признаются в том, что великий итальянец оказал на них влияние, и восхищаются его работами — кто вообще способен оценить его вклад, его наследие? Для французов его „классицизм“ противостоит барочному стилю (кино Феллини), подобно тому, как Расин противостоит Корнелю. Висконти — патриций и, безусловно, прустианец. Как и Феллини, он одержим венецианским Лидо, отличным фоном для воспоминаний — но их лейтмотивы различны. „Два самых прославленных итальянских кинематографиста, Висконти и Феллини, — отмечает Доминик Фернандес, — по-разному увидели Венецию. Более того, это два диаметрально противоположных видения. Висконти, утонченный художник, показывает в „Чувстве“ чарующий декор, созданный трудом, разумом и талантом человека за долгие века: в мире нет другого такого ансамбля фасадов, каналов, переулков, гирлянд, стрельчатых арок, розеток — всего, что известно под именем Венеция. Это классический взгляд, доведенный до абсолюта великим эстетом и великим патрицием, который мог бы быть другом дожей. Венеция Висконти пришлась бы по душе и Рескину, и Прусту. Феллини же — колосс бальзаковского типа — был более восприимчив к первопричинам и скрытым силам, которые движут миром, его больше волновала первобытная закваска, на которой взошла Венеция. Сквозь воды канала он мог разглядеть ил лагуны…“ Чем-то призрачным, даже замогильным веет и от забавного случая, рассказанного в „Словаре влюбленного в Венецию“ Филиппа Соллерса. Эту книгу очерков словно бы осеняет тень четырехголового чудища — Висконти-Манн-Вагнер-Малер, — и действие ее начинается все в том же театре „Ла Фениче“, этом „великолепном будуаре, который, в сущности, только и ждал, когда его снимут в кино, что и сделал Висконти в „Чувстве““. Случай, о котором идет речь, произошел в 1985 году. В честь папы Иоанна Павла II, приехавшего с визитом в город Казановы, дается „сногсшибательный концерт“ в расчете на чувствительную и, как известно, стендалевскую душу Его Святейшества: в программе „бесконечная Пятая симфония Густава Малера (напоминающая сразу и о Томасе Манне, и о „Смерти в Венеции“ Висконти). До этого Папа выступил с проникновенной классической речью об искусстве, Аристотеле и т. д. и, ясное дело, сорвал аплодисменты. Музыка бушует неистово, а Папе скучно. Я вижу, как он нетерпеливо барабанит веером по своей правой коленке. Когда же это кончится? Выглядит до того неподобающе, что ситуация становится нелепой. Иоанна Павла II пытают Малером. Это акустическое оскорбление“. Это происшествие Соллерс считает следствием ментальности, „свойственной бонапартистам или немцам с австрийцами“ (тем духом, который предчувствует неминуемый крах). И, конечно, эта ментальность словно бы вступает в заговор против тех времен, когда бал правили „французские идеи (рай и воскресение, Пруст, Мане, Моне)“ и вечно юный, чуть меланхоличный, но веселый вивальдизм… Снова и снова звучит тема декадентства, упадничества.
О ЖИВЫХ АКТЕРАХ
Висконти, прослывший пылким эстетом, всегда осторожно оценивал свой труд художника и то, что сам предпочитал называть своей „творческой работой“. Если он хотел принять участие в идеологических дебатах своего времени, то сверялся с литературной традицией: Шекспиром, античной трагедией, Томасом Манном, Прустом, Достоевским и т. д. Эту линию, от которой он больше никогда не отступит, которая определяет его отношения с кинематографом, театром, актерами, с самим собой, формально подтверждают редкие тексты, опубликованные в журнале Cinema и написанные в виде манифестов. Когда Висконти после знакомства с Ренуаром решает стать режиссером, ему тридцать лет; когда он снимает свой первый фильм — „Одержимость“, — ему уже тридцать шесть; заявляя об экранизации „Семьи Малаволья“ Верги, в статье 1941 года „Традиция и изобретательность“ он настаивает на литературных источниках как лучшем материале для кино, которое должно придать словам и движениям персонажей „религиозное измерение всего, что составляет сущность нашего человеколюбия“. Если взглянуть шире, здесь Висконти определяет наилучший путь развития кинематографа:
Должен признаться, что, замыслив начать свою кинематографическую деятельность, я сталкиваюсь с самой, как мне кажется, главной трудностью из тех, что препятствуют моему желанию и намерению задумать фильм как произведение поэзии, — я говорю о той пошлости и, если можно так выразиться, нищете, что слишком часто свойственны сюжетам посредственным. […] Поэтому тот, кто искренне верит в возможности искусства кино, вполне естественным образом и с ностальгией может обратить взор к великим повествовательным построениям европейского романа и воспринимать их ныне как, быть может, самый верный источник вдохновения.
Об этом же бремени „человеческой ответственности режиссера (при условии, что он не развращен декадентским видением мира)“ говорится и в статье 1943 года „Антропоморфное кино“:
Опыт всегда учил меня, что бремя человеческого бытия, „присутствие“ человека — вот то единственное „нечто“, что должно наполнять экран, что окружающая среда творится им, его живым присутствием, и именно владеющие им страсти наполняют картину истиной и придают ей глубину. До такой степени, что стоит на время вывести его из этого светящегося прямоугольника, как возникает впечатление мертвой натуры. Самое неприметное движение человека, его походка, сомнения и порывы — лишь они передают поэтичность и трепетность жизни тому, что окружает его в кадре… Я мог бы снять фильм на фоне простой стены, сумей я при полном отсутствии всякого декора раскрыть подлинно человеческие характеры: найти их и рассказать о них.
В то же время в этой почтенной практике экранизации „больших повествований“, в постоянном обращении к европейским романам — в большей степени к романам Пруста, чем Германа Броха, и в большей степени к романам Томаса Манна, чем Музиля, — для Висконти таится опасность отрыва от современности. Это осознанный выбор, и он делает его, нимало не тревожась о том, попадет или не попадет в струю новомодности, будь то волна неореализма или новая волна.
Такая гуманистическая верность литературе и ее гуманистическим ценностям, тем не менее, связана с живейшим и самым что ни на есть реальным жизненным опытом. „Наполнить смыслом хаос“, бороться против нигилизма и его маньеристских изысков, а не изображать абсурд — вот к чему стремились многие политически ангажированные писатели и интеллектуалы, от Мальро до Висконти, принадлежавшие к поколению, которое пережило подъем тоталитарных режимов и сформировалось в военные годы. В таком разрезе его творчество связано, говоря словами Бальзака, и с „той оппозицией, которая зовется Жизнью“.[75] В первую очередь потому, что все его произведения задумываются как битва и как акт сознательной и твердой веры — и эта вера отзовется и значительно позже, уже в 1974 году, в его картине „Семейный портрет в интерьере“, снятой на фоне свинцовых времен и фашистских движений, которые вновь поднимают голову.
Висконти не полагается ни на Маркса, ни на Фрейда; по-видимому, чувство и инстинкт для него куда важнее теоретических трактатов драматургов (Брехта, Пиранделло, того же Сартра) и режиссеров: его собственные чувства, чувства актеров, чувства публики. Джузеппе Ротунно рассказывает, как, снимая „Рокко“, Лукино просил его жену Грациолину, которой горячо симпатизировал, прийти на просмотр рабочего материала. Потом он названивал ей и засыпал вопросами: „Ты правда плакала? Много? Сколько раз? В какой сцене?“ Освистывания, ругань публики, яростные полемические споры 1940-х? О да! — говорил он в 1962-м: вот это и были времена, когда публика реагировала как надо, вот тогда театр жил настоящей жизнью! „Сколько раз люди пускали в ход кулаки прямо в театре, а я стоял за кулисами и не давал актерам вмешиваться. Стой спокойно, пусть они хоть сгрызут друг друга! Вот это и есть успех“.
Ему случалось говорить, что художественное творчество — это дело одних лишь чувств. Поэтому он и предпочитает жанр мелодрамы — „наиболее совершенную форму зрелища, где сливаются в одно целое слова, пение, музыка, танец, сценография“ и где театр встречается с действительностью. Это радикальный выбор, без всякой искусственной дистанции, характерной для маньеризма или китча Альмодовара и даже Фассбиндера. Висконти скорей уж упрекнут в излишней простоте, нежели в искусственности средств, при помощи которых он вызывает эмоции. „С его „лирическим реализмом“, особой смесью филологической строгости и зрелищного ритма, — замечает Стрелер, — Лукино прежде всего был эстетом от режиссуры, до такой степени, что его обвиняли в эстетствующем формализме. Правда, что социальный характер, даже популизм его постановок — как театральных, так и кинематографических, — всегда отличался элементарной простотой, схематичностью, если сравнить его с необычайным богатством формы…“ А Пазолини, отзываясь о „Гибели богов“, упрекает Висконти в уступках дурновкусию, худшим условностям дешевых полицейских романов и романов-фельетонов: особенно невыносимым кажется ему, например, равнодушное манерничанье Ашенбаха, злого гения семьи Эссенбек — „невозмутимый, как персонажи де Сада“, он со скучающим видом доедает виноград, в то время как сын насилует мать…
Актер с самого начала находится в центре кинематографа Висконти, призванного „рассказывать истории о живых людях“. „Из всех моих обязанностей как режиссера, — скажет Висконти в 1943 году, — мне больше всего по душе работа с актерами: это материал, из которого можно вылепить новых людей, порождающих новую реальность, которая тут же начинает жить — реальность искусства“. Сам он, как свидетельствует в рабочих записях его ассистент Джерардо Геррьери, „пламенно“, страстно разыгрывает все роли сам, как в театре, так и на съемочной площадке. Его кино — это еще и театр. Его не прельщает вся та свобода, которую дает режиссеру монтаж. В огнях рампы он видит, что у сцены есть границы; в кино он расширяет мизансцену, устанавливая три камеры, две из которых движутся, позволяя долго следовать за актером; он предельно насыщает мизансцену в кино, старательно избегает скачков во времени, никогда не пользуется „шторками“ и не применяет наплыва.
У Висконти все выстроено под актера — на него работают и декорации, которые знамениты своей точнейшей нюансировкой, и непрерывность действия во времени, которое помогает персонажу обрести свое тело и обрасти им — тело целиком, а не только лицо, как часто бывает у Бергмана. Это тело, которое наезжающая камера дает рассмотреть максимально близко, однако Висконти никогда не растворяет актера в персонаже, как это делает Феллини, перерисовывающий, гримирующий, переодевающий своих актеров и переозвучивающий их другими голосами. Глаубер Роша перечисляет все, что отличает практику Висконти от его собственной режиссерской практики, брехтианской и лирической, от его страстной приверженности монтажу, от его чисто кинематографических приемов: „Герои Висконти — это актеры Висконти: это иконы, созданные не столько историком, сколько прозаиком“, они не основаны на историческом методе, ибо „Лукино думает о себе самом, и кино — всего лишь алтарь для его икон“.
Висконти творит в близкой связи с актерами — это и физическая близость, и психологическое смешение личностей. Лучше всего это демонстрирует сильный эпизод из „Людвига“, происходящий в королевских покоях замка Линдерхоф; странная игра зеркал в стиле рококо, которые на краткое мгновение отражают, объединяют и смешивают актеров, зрителей и режиссера. Людвиг, экстатический и ребячливый, слушает, как актер Кайнц декламирует стихи из „Вильгельма Телля“ Шиллера и „Марион Делорм“ Гюго; потом, вне себя от восторга, вскакивает и восклицает: „Ты сыграешь в самых прекрасных драмах всех стран и всех времен. […] Приготовься к зависти и ревности со стороны собратьев. Но не бойся. Ты будешь под защитой короля. Король покровительствует тебе и избавит тебя от печалей и забот. Но ты… Ты должен быть верен ему…“ „Эта страница сценария, — говорил мне один из его соавторов, Энрико Медиоли, — очень автобиографична, она была целиком написана самим Висконти“.
В этом и заключается суть его „творческого почерка“, в котором нам видится подлинное величие его характера. Витторио Гассман, говоря о неистовом „Оресте“ апреля 1949 года, уточняет: „Ему было совсем неинтересно доскональное воспроизведение текста Альфьери; его приводила в восторг зрелищность, общие эффекты, возникавшие как результат исступленного преувеличения всего — чувств, голосов, жестов, костюмов, музыки“. Сцена — главное место, где обнажается сердце, вот его царство, и он бдит над ним, как бдит Людвиг, когда измученный Кайнц валится с ног и засыпает от усталости. Джерардо Геррьери вспоминает, что в последнюю ночь перед спектаклем он не спал и „как ни в чем не бывало, продолжал подыскивать и примерять в декорациях деталь, которой еще не хватало, расхаживая среди спящих вповалку рабочих сцены“.
О СОВРЕМЕННОСТИ (И О ЖИЗНИ)
„Творческая работа человека, живущего среди людей“ — именно так, а не иначе, он раз и навсегда определил свой труд… Кино, продолжает он, привлекло его тем, что „оно органично сочетает в себе устремления и потребности многих. […] Главное, что привело меня в кино — это обязанность рассказать о жизни настоящих людей“.
Автобиографические черты в его творчестве, без сомнения, не очень-то заметны, и во всяком случае, не так сильны, как у Трюффо, Бергмана, Линча. Нет в фильмах Лукино и импровизаций; пыл и необходимость запечатлевать жизнь — вот что переносит работу Висконти в самое сердце современности. Именно поэтому Висконти, „певец прошлых дней“, современность которого всегда оспаривается, может, не смотря на внешние различия, многое дать такому суперсовременному кинематографисту, как Оливье Ассайяс.[76] Не говоря уже о том, что этот французский режиссер связан личными узами с Италией — по линии отца-миланца и с блеском вчерашнего мира по линии матери, аристократки венгерского происхождения. Ассайяс говорит: „Висконти изображает все, чем я постоянно восхищался, в том числе и в те самые богатые, самые глубокие годы моего учения, когда я задавал самому себе множество вопросов о кино — у него есть все то, что всегда казалось мне воплощенным идеалом. Он привлекает меня мощью своего голоса, глубиной, размахом, чувственностью и богатством материала, преображенного на современный лад: все эти костюмы, декорации, пейзажи превращались у него в остросовременный материал. В его картинах были амбиции, результат высочайшего уровня и загадка, и они волновали меня больше, чем другая классика кино. Пересмотрев недавно „Гибель богов“, я был захвачен сложностью этой картины и тем, как режиссеру удалось передать атмосферу наваждения. „Сало, или 120 дней Содома“ Пазолини снимался как ответ на „Гибель богов“; да и Фассбиндер без этого фильма не освоил бы схожую манеру съемок. А „Леопард“ — это матрица всего современного кино…“
Жан-Андре Фьески одним из первых, вопреки мнению некоторых критиков, разглядел современность за пышной постановкой, исторической фреской. „После „Чувства“, — отмечает он, — „Леопард“ кажется почти академичным. Действительно, здесь больше живописных отсылок к Винтерхальтеру, чем к Моне. Однако, если присмотреться повнимательней, это ощущение академизма, эта декадентская пластика за счет магии большого экрана объединяет более современные, более неожиданные концепции пространства: эти общие планы — словно большие полотна, в которых взгляд может блуждать свободно, не задерживаясь ни на какой определенной детали, могут напомнить скорее картины Марка Тоби. Строгость композиции не мешает здесь смотрящему, используя знаменитое изречение Дюшана, создать картину самому. Это один из способов открыть для себя кино“.
По отношению к современности Висконти не принимает никаких нарочитых поз. У него нет ничего похожего на те маски, какие, кажется, свидетельствуют о славе или о той клоунаде поэта или художника, которая-де требуется для славы: для Кокто такой была маска Орфея, для Дюшана — псевдоним Рроза Селяви, для Дали — Авида Долларс, для Годара — обличья ЖЛГ, Идиота или Годара… У Висконти нет и следа подобных игрищ, которыми так нравилось заниматься многим современным творцам, „паяцам“, превратившим свою жизнь в загадочную, трагическую или буффонную сцену и в пародийное зеркало собственных произведений. Его жизнь для него, как и жизнь Людвига, — совсем не загадка.
Он признается в полном равнодушии к формальным исканиям Антониони. „Затмение“ окатывает его холодом. Ему не нравится фривольность Годара, эта „поверхностность“ слишком одаренного ребенка, который ломает игрушки и манерничает в речи. Тот же Оливье Ассайяс противопоставляет Висконти Годару — первый „простодушно“ верует в кинематограф, второй посвящает весь свой талант его разрушению. Есть те, кто нащупывает пульс, воссоздает ритм своего времени и воскрешает целые пласты исторического опыта, эпохи — и те, кто идет „на ощупь“, отщепенцы, неспособные удовлетвориться никакой формой, неспособные соединить фрагменты своего фильма. Висконти — „самодержец“ (soverain), Годар — нет… По одну сторону — гордая современность, по другую — современность озлобленная, ухмыляющаяся.
Тут дело прежде всего в естественной предрасположенности: ему нравится напоминать, что он ломбардец, рационален, любит во всем меру, дисциплину, „серьезность“. Он говорит: „Я чту традицию, но никого к ней не принуждаю; мне близка ясная строгость мандзониевского воображения“. Эта ясная строгость, проявляющаяся во всем и всегда точно отмеренная, заметна и в его художественном стиле, и в его отношении к другим и к современнику. Висконти знает, что и он сам принадлежит к эпохе, тесно связанной с прошлым. Он также знает, что невозможно смотреть вперед, если не чувствуешь своих корней. Историю во времени, с людьми этого времени, с памятью и культурой нашей эпохи — вот что он стремится понять.
Его исследование прошлого — что, если это просто дань наследственной ностальгии? Говорит Глаубер Роша: „Он идет дальше Пруста — хотя бы в том, что снимает стендалевское по духу кино, что он был марксистом и фрейдистом в те годы (1940-е), когда Сартр был экзистенциалистом“. Гораздо проще выражает ту же мысль Катерина д’Амико, рассказывая, какой дар сестра Висконти преподнесла в 1987 году Институту Грамши. Она говорит: „По-настоящему изучать Висконти означает объехать всю Европу XX века. Конечно, именно поэтому Уберта Висконти и выбрала для хранения его архивов Институт Грамши, а не Экспериментальный киноцентр, „Театро ди Рома“ или Университет. Ей не хотелось отдавать память о Лукино Висконти на хранение ни только одним синефилам, ни только деятелям театра, ни одной лишь университетской интеллигенции. А делить на части столь цельную личность — и вовсе никуда не годится. Конечно, этим жестом она хотела подчеркнуть уникальность и цельность Висконти, художника и интеллектуала с огромным чувством гражданской ответственности, ведь он представляет собой символическую фигуру для европейской культуры своего времени“.
И это еще больше заметно в реалиях его времени. На фоне сумбурных культурных споров о „смерти искусства“ Висконти ждет конца 60-х годов, чтобы снять „Смерть в Венеции“ — фильм почти вневременной, сделанный скорее по внутренней, насущной потребности. Что, если его предшествовавшие работы были всего лишь княжеской прихотью, то есть, как говорит Оливье Ассайяс, „тем же самым возведением баварских замков, которые он строил по собственной прихоти, но оставлял будущим поколениям?“ Тот же „Людвиг“, дитя провала или, вернее, взвешенного отказа от съемок фильма по Прусту, — разве он выражает только поиски абсолюта, Икарову мечту, романтическое стремление вырваться за пределы этого мира? Серж Даней, пораженный тем, с какой отстраненостью Висконти относится к пышности своего „замка“, видит в этом не романтическую позу, а ее противоположность, сознательный „взгляд врача“. Некоторые сцены в операх, отдельные редкие спектакли — в их числе чисто развлекательная историко-пасторальная комедия 1963 года „Дьявол в саду“ — это лишь исключения в творчестве Висконти, которое всегда основано на диалоге с настоящим. „Неверно, что сегодня физически невозможно снять кино, которое отражало бы реальную жизнь“, — заявляет Висконти в беседе с Лино Миччике в 1971 году, когда вышла „Смерть в Венеции“. И он доказывает это, ставя, на пределе сил, свой последний личный фильм „Семейный портрет в интерьере“, политическую историю из реальной действительности, о сотрясавших тогдашнюю Италию событиях, о противостоянии двух поколений — своего собственного и молодых экстремистов, и о кризисе гуманизма, живые и исторические формы которого он показывал неустанно.
Еще и по этой причине, задавшись целью точнее поверить творческое наследие реальностью, Историей, жизнью, людьми, поставив задачу глубже проникнуть в окольные пути и противоречия, следует зайти как можно дальше в исследовании и познании прозрачной и кипучей жизни творца, следуя по этому пути вместе с Сент-Бёвом, „не отрывая художника от его творчества“, раз и навсегда уяснив, что эта жизнь того стоит, что надо спешить получше узнать ее в ее поисках истины. Уяснив заодно и то, что есть тут место и для „суетной стороны“ жизни, и эта ее сторона — легкомысленная, публичная, частная — определяет все.
О ЗАВОЕВАНИИ ТЕАТРАЛЬНЫХ СЦЕН
„Аллюр, во всех смыслах этого слова: физический и нравственный ритм, подобный трем видам лошадиного аллюра; говорят также и об аллюре оленя, когда на псовой охоте он бежит зигзагами и его бег отмечен сломанными ветками деревьев в лесу…“[77] Аллюр Висконти можно проследить по нескольким датам — это и есть вехи его движения и его отношений со временем, они рассказывают о его порывах и о видах, которые он открывал публике в любом из своих произведений. Перечислим не по порядку: „Ужасные родители“ 1945 года — режиссер Лука Ронкони назвал этот спектакль „историческим вечером“; „Розалинда, или Как вам это понравится“ (1948): „Театр Висконти задумывался масштабно. Актеры, сценография, костюмы, освещение — все здесь было великолепно, все работало на то, чтобы вызвать восторг […] Это были воплощенные роскошь, богатство, величие“. То же можно было сказать и о первой и легендарной „Травиате“ с Каллас 1955 года, и о постановке „Это было вчера“ Пинтера, и о „Манон Леско“ Пуччини 1974 года…
Закончив интервью, Пьеро Този незаметно, не говоря ни слова, подкладывает мне машинописный текст; это стенограмма „гольдониевской лекции“, прочитанной 16 марта 1993 года во флорентийском Университете словесности Джорджо Стрелером. Стрелер говорит о том, как в Италии было заново открыто творчество Гольдони, в чем поучаствовал и сам оратор, и Висконти; тут, разумеется, есть и рассказ о постановке „Трактирщицы“ в Венеции в 1952 году, и о висконтиевском „аллюре“ — и кинематографическом, и театральном, боевитом и победоносном. В 1970 году самое важное для кинорежиссера по-прежнему — борьба, и он вспоминает свои предыдущие схватки (называя их щадящими) с молодым поколением (а в те годы это, среди прочих, Бертолуччи и Беллоккио). Висконти говорит: „Если процесс съемок не является борьбой, трудно ожидать, что готовый фильм сможет в ней поучаствовать…“
„В наши дни, — отмечал Стрелер, — „Трактирщица“ стала традиционным спектаклем для итальянского театра. Но в те времена стоило лишь заикнуться о постановках пьес Гольдони, как импресарио готов был тут же дать вам пинка. <…> Вот тут-то и пригодился Висконти“. Поставить „Трактирщицу“ в 1952 году, когда о Гольдони никто и слышать не желал, когда одно его имя наводило тоску, Стрелер называет „отвагой почти самоубийственной“. А вот слова Пьеро Този: „Гольдони был могильщиком театра“.
Висконти четко различает арьергардные схватки, обманные выпады и настоящие битвы, которые вести необходимо. Нужно делать блистательные постановки, чтобы обновить сцены и освободить итальянский театр от клише, предрассудков, провинциализма. И тут снова на ум приходит „Трактирщица“: даже сама Дузе, которую Висконти обожал за строгость артистической манеры, изображала Мирандолину как принято, то есть грациозной и жеманной. У Висконти в исполнении Рины Морелли это женщина хитрая, умная, дерзкая; „бой-баба“ (femme adroite) — разве не так перевел название на французский язык сам Гольдони? — и никакого кокетства, ничего такого, чего вы могли бы ожидать, — ни кружев, ни бантов, ни цветов в духе Фрагонара, нет даже традиционной плотской обольстительности. В рабочих записях есть замечания, сделанные рукой Висконти: „Мирандолина: одета для работы в трактире. На голове колпак. Фартук“. Всех актеров — Мастроянни, Паоло Стоппу, Росселлу Фальк, Джорджо де Лулло и других, он заставил носить корсет от талии до подмышек. Джанрико Тедески, игравший графа Альбафьориту, говорит, что корсеты „придавали нам статность, известную строгость облика — они были нужны для того, чтобы мы двигались на сцене осанисто, с необыкновенной элегантностью. Это требование держать осанку в постановке, которая во многих других отношениях была ультрасовременной, отлично характеризует его аристократизм и его скрупулезность. Мы и вправду выглядели как силуэты героев Лонги и больших живописцев XVIII века“.[78] От костюмера Пьеро Този Висконти требовал „поженить Лонги с Моранди… Чтобы еще больше упростить одежду, он приказал даже отпороть пуговицы… Он воскресил форму, подлинный цвет“, оттенки матового, белого как мел, палево-голубого, цвета бутылочного стекла, густые, плотные тона, гармонирующие с молочным светом небес и земли».
Не дрогнув, он и во время представления в Париже ни на йоту не отступил от того, что столь тщательно продумал и наперекор традиционному французскому вкусу — успех, на который он рассчитывал, оправдал его ожидания. Тот же спектакль, четыре года спустя сыгранный в Театре Сары Бернар и вызвавший живейшее восхищение Ролана Барта своей современностью и строгим чувством меры — с декорациями в стиле картин Моранди, с подлинностью предметов, вплоть до того, что едят герои — остается примером борьбы Висконти с модой, пустой риторикой, эстетизмом и педантизмом. Его задача — освободить сцену (как в изобразительном плане, так и в манере декламации) от шаблонов, накопившихся в Италии и во Франции с 20-х годов. Този говорит, что все ждали «этакого менуэта», а получили буржуазную комедию. До такой висконтиевской «Трактирщицы», говорил Ролан Барт, стиль Гольдони воспринимался как офранцуженная итальянистость. Он писал: «Для наших театральных деятелей, критиков, любая итальянская пьеса — это комедия дель арте. Итальянскому театру запрещено показывать что-нибудь еще помимо живости, остроумия, легкости, стремительности и т. д. Они были не просто разочарованы — они принялись скандалить, что эта труппа играет не так, как принято по-итальянски: и костюмы, и декорации здесь были очень выдержанные, содержательные, неброские, словом — ничего общего с той едкой смесью ядовито-зеленого с ярко-желтым, какой, в представлении французов, обязана быть любая итальянская арлекинада».[79]
Как в театре, так и в кино Висконти овладевает пространством и символической властью над сценой; будь она хоть пышно оформлена, хоть вовсе лишена декораций, иератическая ли это сцена или чувственная — он сумеет превратить ее в горнило истины. Важное место в его предпочтениях занимает ринг, который присутствует и в «Рокко и его братьях» (1960), и в последней театральной постановке — «Это случилось вчера» Гарольда Пинтера весной 1973 года. Спектакль по этой пьесе, длившийся час с четвертью без антракта и разыгранные Адрианой Асти, Валентиной Кортезе и Умберто Орсини в декорациях Марио Гарбульи «на темы Бальтуса», был запрещен на следующий день после премьеры. Еще через несколько дней представления возобновляются под наблюдением английского автора пьесы, который, пренебрегая традицией, выступает с нападками на режиссера: «Я писал пьесу не про двух лесбиянок, которые никак не могут отцепиться друг от друга. В моей пьесе нет сцены, где женщина догола раздевается перед публикой. Текст не дает отсылки и к той сцене, в которой мужчина и девушка рассыпают тальк по голым грудям его жены. Я никогда не писал ничего похожего, и тем более никогда ничего не сочинял для мюзик-холла».[80]
Конечно, в тот ряд исступленных схваток, столь характерных для страстей Висконти, вписываются и другие вехи, и результаты замыслов более возвышенных, вырастающие из его духа подлинного завоевателя. «Кондотьер» — так его иногда называют товарищи по работе. Снова те же качества: авторитарность, сила, властолюбие, деспотизм. Фотограф Марио Турси вспоминает, что прозвал его «хмурым виконтом, потому что у него часто бывал озабоченный взгляд, а насупленные черные брови придавали этому взгляду еще больше драматизма. Тело у него тоже было мощное, и в самой походке чувствовалась властность. Он входил в дверь так, словно никакая сила в этом мире не могла бы его остановить, словно штурмовой танк». Пьеро Този говорит: «Висконти был настоящий пират». И в самом деле, он был завоевателем — это подтверждает та нетерпеливая и бурная деятельность, которую он развернул в конце войны, чтобы отвоевать большие территории для зрелища, театра, оперы, кинематографа, избавить сцену от провинциальности, открыть ее для европейских и американских пьес Сфера его влияния быстро росла, все послевоенные годы он непрестанно работал До самых «немецких» лет, когда он почти целиком посвятил себя съемкам фильмов, энергия, которую он демонстрирует из сезона в сезон как в опере, так и в театре, не имеет себе равных. Возьмем наугад: сезон 1954–1955 годов — «Как листья» миланского драматурга Джузеппе Джьякозы («Театро Олимпиа» в Милане, октябрь), «Весталка» Спонтини (Скала, декабрь), «Сомнамбула» Беллини («Ла Скала», март), «Травиата» Верди («Ла Скала», Май). Сезон 1965/66 (год, когда на экраны вышла картина «Туманные звезды Большой Медведицы» и начался подготовительный период к «Постороннему»): «Вишневый сад» Чехова («Театро Валле» в Риме, октябрь), «Дон Карлос» Верди («Театро дель Опера» в Риме, ноябрь), «Фальстаф» Верди («Штаатсопер» в Вене, март), «Кавалер роз» Рихарда Штрауса («Ковент-Гарден» в Лондоне, апрель). В среднем каждый год — две оперы, одна театральная постановка или один фильм, а иногда еще и балет!
Стрелер пишет о почти «средневековой» отсталости довоенного итальянского театра, вспоминает бестолковую и беспорядочную атмосферу, воцарившуюся тогда в области режиссуры, всевозможные административные и идеологические препоны, которые мешали любому новаторству. С его точки зрения, деятельность Висконти дала такие молниеносные всходы потому, что он имел возможности — невообразимые возможности крупного сеньора — при помощи угроз и авторитета насаждать собственные вкусы, пристрастия, свои дорогостоящие потребности, даже не столько в области маниакального декорирования или неслыханной сценографической точности, сколько в плане свободного времени: для репетиций, для работы. Стрелер рассказывает: «С ним у нас было время рассесться вокруг стола и всем вместе прочесть текст пьесы. Это весьма впечатляло нас, нам-то не всегда удавалось поесть дважды в день и мы не могли позволить себе такой же роскоши, как он. Положение Висконти позволяло ему сказать импресарио: нравится — спасибо, нет — ну так идите прочь. Он помогал нам в борьбе, которую мы вели». Иногда требования Висконти повергали директоров театров в оторопь. «Помню, — продолжает Стрелер, — как во время постановки „Трактирщицы“ Гольдони я руководил моей первой труппой в миланском „Одеоне“. Управляющий в ужасе подошел ко мне и сказал: „Этот псих Висконти хочет в понедельник закрыть театр, чтобы провести генеральную репетицию „Трактирщицы“. Он вознамерился закрыть театр на денек, чтобы провести генеральную репетицию „Трактирщицы“!“ Пьеро Този уточняет: надо помнить, что в то время царили обычаи и иерархии, бытовавшие в театре еще с XIX века, — всем заправлял всемогущий capocomico (руководитель труппы), а амплуа были жестко поделены между актерами. Висконти требовал только одного — чтобы актеры работали „всерьез“, чтобы „декламировали, как должно… Ведь в наши дни искусство декламации почти утрачено — я думаю, и во Франции дела обстоят так же. Единственная страна, где еще играют, как следует — это Англия“. Действительно, Висконти, ставя Гольдони („Трактирщица“) и Верди („Травиата“), пробудил и преобразил итальянскую сцену.
Невозможно отделить жизненную траекторию Висконти от линии жизни Стрелера. Энрико Медиоли говорит о том, что они были сообщниками, но при этом в их отношениях было еще „и артистическое соперничество, и восхищение“. Известно, что в течение тридцати лет два постановщика движутся параллельными и взаимодополняющими путями, один в Риме, другой в Милане. Висконти работает со своей „Компания итальяна ди проза“, учрежденной с Риной Морелли и Паоло Стоппой в Риме осенью 1946 года — Паоло Грасси, соучредитель миланского „Пикколо театро“, называет эту компанию „элитарной“, в то время как они со Стрелером изо всех сил продвигают театр „народный“, обращенный к социальному чувству актеров и публики. Верность этого суждения оспорил сам Стрелер — он утверждал, что Висконти развивался как творец, и что без этого развития возрождение театральной жизни в Италии, быть может, тоже бы состоялось, но произошло бы гораздо позднее. В части репертуара они иногда играли в догонялки (так, оба они ставили Гольдони и Чехова), но есть между ними и существенная разница — Висконти не ставил ни Брехта, ни Пиранделло; и все-таки оба режиссера держались друг от друга на почтительном расстоянии. В свою очередь, Висконти говорит о том, что оба они внесли свой скромный вклад в перевоспитание публики и как следует проветрили театр. Он работал быстрее, чем совсем молодой Стрелер, хотя бывало, что и Стрелер делал первопроходческие спектакли в области национальной оперы и драмы: так было, например, в 1947 году, когда Стрелер поставил „Травиату“ в „Ла Скала“, и в том же году на сцене совсем нового „Пикколо театро“ — „Арлекин — слуга двух господ“.
Их жизни во многом параллельны — у каждого свои опасности, схватки, завоевания и искушения… Следуя логике силы и старшинства, Висконти покорил — иногда всерьез и надолго — гораздо больше итальянских сцен, чем Стрелер. В 1964 году, вступив в соперничество с нарождающимся римским „Театро Стабиле“, Висконти планирует расширить компанию Стоппа-Морелли, объединив ее с „Компанией дельи Джованни“ (Де Лулло — Фальк — Валли — Альбани). В 1960 году он уезжает из Италии — прежде всего ради работы в Париже, где ставит в театрах „Амбассадор“, „Жимназ“, „Театр де Пари“ современную драматургию („Двое на качелях“, „После падения“ с Анни Жирардо), а также костюмные пьесы (трагедия драматурга елизаветинских времен Джона Форда „Жаль, что она шлюха“ с Роми Шнайдер и Аленом Делоном). Начиная с 1956 года Висконти штурмует самые прославленные сцены Европы, на которых показывает свои любимые оперы: в лондонском „Ковент-Гардене“ в 1958-м — „Дона Карлоса“, в 1964-м — „Трубадура“, в 1966-м — „Кавалера роз“, в 1967-м — „Травиату“; в Большом театре в Москве в 1964-м — „Трубадура“, в берлинском „Штаатсопер“ в 1966-м — „Фальстафа“, в 1969-м — „Симона Бокканегру“.
О ДИСТАНЦИИ
Если взглянуть на творчество Висконти в официальной, исторической перспективе, то мы увидим, что все темы у него интимистские, семейные; все его истории рода выстраиваются или распадаются вокруг одной-единственной комнаты, у одного-единственного алькова; однако из этого универсума, построенного им по своему замыслу, он исключил самого себя. Когда хотят определить природу его дарования — поэтическую, мелодраматическую, романтическую, смотря о чем заходит речь, — неизбежно заговаривают о памяти и о происхождении Висконти. Но, кроме руки, листающей книгу на заглавных титрах „Невинного“, сам он никогда не появлялся перед публикой на сцене или в кадре. Можно по пальцам одной руки пересчитать мимолетные, отрывочные эпизоды, он присутствует почти осязаемо, но все же не появляется: в сценах завтраков на траве и больших балов, или когда показывают длинные вуали и жемчуга (точь-в-точь, как у его матери), когда звучит мелодия Сезара Франка, когда в кадре появляются чугунные сирены на мостике в миланском парке… Однако настоящую историю собственной жизни он не рассказывал никогда.
Однажды они с Сузо Чекки д’Амико подумывали вытащить из небытия семейные воспоминания и архивы Висконти и сделать из этого материала фильм, но в конце концов он отказался от этой мысли. Даже в „Земля дрожит“ комментарий к истории семьи Валастро читает за кадром не сам Висконти; не его текст появляется и во вводных титрах — предуведомление к фильму написано его сицилийским товарищем Антонелло Тромбадори, у которого, конечно, куда больше прав утверждать, что „бедняки здесь, в Ачи-Трецца, по-итальянски не говорят“… О лучшем периоде его жизни — Сопротивлении и последовавшем за ним освобождении — сценарий писали Сузо Чекки д’Амико и Энрико Медиоли, и этот фильм, „Семейный портрет в интерьере“, можно было бы счесть его свидетельством о прожитой жизни — но и оно романизировано и представлено в виде воспоминаний человека, который вскоре умрет.
Его творчество в конце войны еще хранит прямые отпечатки личности, причем весьма сильные. Это съемки, сделанные самим Висконти, — суд над Пьетро Карузо, вынесение ему смертного приговора и казнь 23 сентября 1944 года; в картине есть потрясающие кадры, когда они находятся лицом к лицу, в зале суда, — и мы наблюдаем удивительное физическое сходство режиссера с приговоренным.[81] Как раз к этому времени и обращаются воспоминания профессора из „Семейного портрета“; даже само устройство его жилища напоминает строение памяти — здесь есть потайная комната, позволяющая спрятать и защитить Конрада; комната, в которой его мать в войну прятала „разыскиваемых за их политические убеждения, а может быть — евреев“. „Этого я не знаю точно, — продолжает профессор. — Ведь моя мать умерла еще до того, как война закончилась, и я мало знаю о том, как она жила в этом доме. Да и она тоже ничего не знала про нас. Например, про то, что я выжил…“ Висконти точно так же прятал у себя на виа Салариа тех, за кем охотилась фашистская полиция.
Столь прямая автобиографичность в его работе — скорее исключение, хотя критики незамедлительно отождествляют Висконти с его героями, стоит ему только изобразить их богатеями, князьями, эстетами или даже гомосексуалистами. Он всегда отвергает подобные отождествления: и с князем Салиной, и с композитором фон Ашенбахом, и с Людвигом, и с Шарлюсом из сценария Сузо Чекки д’Амико по Прусту… И все-таки в каждом его произведении есть и частица его самого.
Антониони был первым из тех, кто задумался о мере присутствия Висконти в его фильмах и дал мэтру высокую характеристику. В 1949 году Антониони отказался подпевать хору левых критиков и согласиться с их предубеждениями — тем самым он возвысил картину, считая ее чем-то большим, чем социальная критика. „Рыбацкая деревня Ачи-Трецца, — подчеркивает Антониони, — противостоит миру Висконти“, — и как раз в этом „врожденном различии между автором и изображаемым, между автором и героем“ и до́лжно видеть источник удачи и лиризма этого фильма. Красоту фильма „Земля дрожит“ следует искать не в дидаскалиях[82] или провозглашаемых благих намерениях, и уж тем более не в революционной мифологии, изображенной с „надменным аристократизмом“; она вырастает из иной логики, внутренней, и лишь эта поэтическая логика, замкнутая внутри произведения, может пролить свет на сокровенную сущность почерка Висконти. Антониони спрашивает — почему „Земля дрожит“ для Висконти фильм более характерный, чем „Одержимость“, которая более автобиографична и снята, если можно так сказать, „сгоряча“? Кинематографист из Феррары, как близкий приятель Висконти и как художник, отвечает так: „В „Одержимости“ есть чувственный автобиографический импульс, мешающий образам зажить той самостоятельной и роковой жизнью, которая и есть свойство великих произведений, где сходство персонажей с автором отдаленно, неуловимо, тайно“.
Так звучит теорема Антониони: чем дальше автор способен отойти от своего сюжета, тем больше он улавливает в нем истины вообще и личную истину — в частности. На первый взгляд Висконти приносит в жертву часть самого себя, ветхость своего аристократизма и часть своей общеевропейской культуры; на первый взгляд он явно держится социальной темы и говорит о революции; на первый взгляд он экранизирует Вергу. Но суть этого произведения — не в верности тексту Верги и его религиозному видению семьи, как и не в преданности партии и ее идеям классовой борьбы. „Этика Висконти состоит в великом человеколюбии и впрямую сопрягается с его искусством. Когда между первым и вторым возникает зазор, звучит навязчивая риторика, нанося вред произведению“. Имеются в виду карикатурно издевательское изображение оптовых торговцев и дидактические воззвания Нтони.
Поэтичность Висконти, утверждает Антониони, не в этом: она — в интимной правдивости семейных портретов, в индивидуализации каждого члена семьи, каждой судьбы, вплоть до беглой обрисовки детских образов — дети, „злые, всклокоченные, в лохмотьях, появляются в кадре и так же быстро исчезают или растворяются в общих планах“; эта поэтичность проявляется и „в современном характере планов-эпизодов, в тщательном кадрировании, точной и резкой операторской работе“, уверенность и техническая точность которой не укрывается от будущего создателя „Приключения“; поэзия видна в эпизодах неистовой драматической силы, все же не сваливающихся в мелодраму — в те же годы Росселлини не смог удержаться от мелодраматизма в своих фильмах „Рим, открытый город“ и „Германия, год нулевой“. Висконти строго соблюдает дистанцию со своим материалом — именно в этом нуждается его воображение, его изобретательность. Еще в 1948 году Антониони подмечает у создателя „Земля дрожит“, в самой сердцевине документального реализма, эти черты его творческого почерка: романтический вымысел и лирическое преувеличение. Висконти, отмечает Антониони, „приезжает на Сицилию, наблюдает, видит и придумывает. Вот главное: он придумывает“. Это значит, что видит он реальность живую и далекую. И он упорядочивает ее своим взглядом, восторженно наблюдая издалека. Точно так же, хотя и с помощью других визуальных приемов, он покажет через двадцать лет любовь Ашенбаха к Тадзио в картине „Смерть в Венеции“. В этом все своеобразие Висконти, каким его видит Антониони. Из того факта, что Висконти был аристократом, заключают, что он был анахроничен или архаичен, с такой же прямотой рассуждают о его марксистских убеждениях и о „коммунизме“ как определяющей идеологии его фильмов, однако эти излишне прямые постановки вопросов к его творчеству попросту лишены смысла. Что действительно есть в его фильмах, так это его скромное присутствие и участие, которые произведение не отражает как простое зеркало, „прямо и без прикрас“, а которые раскрываются шаг за шагом, через жесты актеров, с мощью, какой теперь уже нет, порожденной искусством романа.
Ибо связь, которую он устанавливает с миром посредством драматического искусства и своих актеров, даже при соблюдаемой им дистанции, отличается от отстранения „энтомолога“, от „клинического взгляда“, который мог бы сблизить его с Антониони. Серж Даней так определяет суть висконтиевского видения — „всякое желание рассматривается как сексуальное (по происхождению) и как экономическая сделка (по форме)“, в качестве доказательства ссылаясь на киноновеллу „Работа“ — скетч по рассказу Мопассана: это „короткий, но восхитительный фильм“, где жена (Роми Шнайдер) продает свои ласки собственному мужу. „Он не столько свидетель классовой борьбы, — замечает Серж Даней, — сколько энтомолог, изучающий открытое пространство, где тесно сосуществуют разные классы“. Сосуществуют — сексуально? Конечно. Общие страсти персонажей явно зависят от личного видения самого Висконти; можно сказать, что он холодно смотрит на отношения в обществе и между любовниками, но его взгляд оживляется всякий раз, когда речь идет об отношениях, проясняющих самую суть, в том числе и об отношениях семейных. Вопрос этот в том виде, как его упрямо ставит Серж Даней, не чисто эстетического свойства, и он не вполне соотносится с проблемами реалистического искусства. Говоря о „Земля дрожит“ — фильме, следующем за Флаэрти и Росселини в изображении красоты и подлинности мира, мира первобытного, невинного, „непорочного“,[83] Андре Базен вспоминал о способности Висконти „диалектически интегрировать черты итальянского кино в эстетику более широкую, более разработанную, в которой уже не имеет особого значения само слово „реализм““. О какой эстетике говорит французский критик? Этого он не уточняет; однако многие планы заставляют вспомнить о классицизме, ставившем в центр композиции человеческое лицо. Важно добавить, что выше эстетики и всякого эстетства здесь ставится та эмоциональная близость с героями, которой Висконти добивается, грамотно используя мизансценирование. Начиная с картины „Земля дрожит“, можно отметить мастерство Висконти-живописца в создании великолепных портретов — множество портретов рыбаков из Ачи-Треццы, этих оживших полотен, унаследованных, как и у Пазолини, от гуманистического искусства Кватроченто: на ночном фоне — в лодках, а при дневном свете — в простой рамке окна, или на фоне белой штукатурки, который подчеркивает выразительность линий человеческого лица. В одной из таких сцен Мара, старшая из дочерей Валастро, перебрасывается репликами через окно с влюбленным в нее каменщиком. Есть здесь портреты в интерьере, в предрассветном сумраке и в опускающейся ночной мгле, есть и такие, где использовано два источника света: прямоугольник окна и керосиновая лампа. Есть и планы, где используется глубина кадра, более естественным образом, чем у Орсона Уэллса — например, в глубине дома вдруг распахивается дверь прямо в залитый солнцем внешний мир, и через дверной проем виден будто бы набросанный черным грифелем силуэт женщины, развешивающей белье. Это его блистательные первые шаги — а сколько еще будет этих портретов, снятых в головокружительном отражении зеркал, в светотени, в караваджиевском освещении, столь внятно говорящих как об ограниченности и фальши классицизма, так и о зрелости его антропоморфного кино.
Уникальный дар Висконти заключен в том, что его драматическое искусство транслирует его частные драмы. Примером такого экспрессивного эффекта служит эпизод, упоминаемый Годаром в его „Истори(ях) кино“ — Мара упрекает младшую сестру в связи, „бесчестящей“ семью: простой, очень медленный поворот скорбного, бессильного лица старшей, которое постепенно переходит из света в тень, тогда как младшая остается на свету, замкнутая, дикая, мятежная… Франческо Рози рассказывает, как трудно было снять эти несколько секунд в условиях реальной жизни, без того подспорья и необходимых средств, которые имелись на студии: „Эпизод стычки двух девушек в столовой, при свете керосиновой лампы, потребовал большой работы. Висконти пришлось приспосабливать движения камеры к параметрам пространства, а поскольку в этой сцене трэвеллинг комбинировался с панорамированием и сложными движениями персонажей, на репетиции ушел целый день. Подвесить осветительные приборы повыше не было никакой возможности: пользоваться одним источником света никак не получалось, и приходилось выкручиваться, потому что если с одной стороны комнаты свет падал как надо, то в другой половине это не выходило никак. Словом, это был сущий кошмар“. Для Висконти это была не просто техническая проблема. На картине „Земля дрожит“ для оператора Альдо, как и на остальных фильмах для Ротунно, свет „придавал форму“ и правдивость, „ту правдивость драматизма и персонажей, которая может возникнуть только из внутренней, личной правды кинематографиста“.
Почти неуловимое чудо висконтиевской творческой манеры: эта искомая действенность кинематографического движения, объединяющего движение актера, движение камеры и постепенное затемнение кадра, заполненного отворачивающимся человеческим лицом. На соединении всех этих элементов построен и план из „Туманных звезд Большой Медведицы“, в эпизоде дарения сада Валь-Луццати муниципалитету Вольтерры, когда Сандра (Клаудиа Кардинале) догадывается о том, что ее отчим виновен в депортации ее отца. Каждый портрет героя у Висконти согласован с драматическим напряжением момента, сцены, характера, с его простотой или — чаще — с его двойственностью. Он очень точно просчитывает меру в создании атмосферы, музыки, драматического действия. И в точности реплик, то туманных, то неистовых, содержательная наполненность которых, кажется, порождена самой окружающей обстановкой, с дистанцией и тайной.
Спустя более чем двадцать лет, в теме, по общему мнению, абсолютно неотделимой от него самого — в „Людвиге“, а потом и в „Семейном портрете в интерьере“, — к той же творческой дистанции и технической смелости присоединяется и хищная сила оптического зума. Мишель Шион, отмечая в 1985 году свободу панорамирования, „перетекающего с одного персонажа на другой“, и „оптического зума — наездов и отъездов камеры и изменений угла съемки по логике подчас неуловимой раскадровки“, подчеркивает то, что сам он определяет как выражение желания, якобы составляющего самую суть искусства Висконти — „патетичного и ненасытного желания быть полотном живописца […] эту невозможность создать базовый образ семьи, фронтальный и окончательный, дабы обрести в нем свое собственное место…“
Далеко от реальной оценки Висконти общее мнение критики, что чрезмерное использования оптического зума еще с „Туманных звезд Большой Медведицы“ 1964 года повергает в растерянность. Глаубер Роша даже несколько злорадствует: „Слабость картины „Посторонний“ (1967) всех озадачила: маэстро доказал, что отверг свой собственный идеал, предпочтя ему смесь оптического наезда с экзистенциализмом“. Быстрый наезд на зеркало мы можем отметить уже в „Рокко и его братьях“, в „Туманных звездах Большой Медведицы“ (1964) он используется уже патологически часто»… Может быть, оптический наезд и казался чем-то патологическим для приверженцев народно-национального кинематографа, ярким представителем которого является верный ученик Лукино Франческо Рози. Для Висконти, который часто называл Годара «поверхностным умником», оптический наезд был разумной встряской, «прорехой в том полотне провинциальных мифов, которое и зовется итальянской культурой». Пазолини увидит в этих наездах огромную уступку современности. Но Висконти еще с 60-х годов не запрещал самому себе посматривать и на современность (начало «Туманных звезд…» в известной степени напоминает первые эпизоды «Маленького солдата»); а главное — оптический наезд для Висконти выступает средством, которое согласуется с его сознательным, «агрессивным отношением к реальности» и с частым обращением к драматургии взгляда, достигающим кульминации в «Гибели богов» и «Смерти в Венеции».
С точки зрения Глаубера Роши, эти раскритикованные оптические наезды — признак того, что происходит «здоровое» расставание и с традициями итальянской живописи, и с перспективистской стабильностью гуманизма. Висконти навязывает эти наезды вопреки суждениям коллег, более авторитетных в техническом плане. Джузеппе Ротунно рассказывал мне, как он противился прямолинейности и резкости в характере Висконти: «Его манера была немного рваной, мучительной, он был склонен к перегибам». Прославленный оператор противопоставляет неистовую мощь висконтиевского видения той незаметной, естественной манере, с какой доносит свое видение, «не меняя объектива», Феллини: «Федерико делает это так, что никто не замечает». Ротунно настаивает на том, что оптический наезд у Висконти — это что-то вроде протеза, особенно, по его словам, «в те времена, когда он был парализован». Глаубер Роша, напротив, воспринимает его как суровый и эффективный способ создать и подчеркнуть дистанцию: «Висконти принадлежит к временам fiction и потому-то именно зум дает ему возможность изобразить примитивный, преступный, романтичный облик нацистов с той мощью, на которую способно кино».
Сегодня Оливье Асеайяе видит в этой почти что осязаемой манере съемки — словно бы «резкими движениями, касаниями», диссонансно — творческий почерк Висконти, его изысканную и брутальную современность. Этот почерк включал в себя и чувственную, романтическую драматургию. Но этот же почерк подразумевает и неравновесия в сюжете, и порывистые движения камеры, и сверхкрупные планы, и отступления от гомогенной структуры фильма; камео, ценные как ностальгические воспоминания (короткие появления матери — Доминик Санда, и жены — Клаудиа Кардинале — в «Семейном портрете в интерьере»). К этому почерку можно отнести и более драматичные разрывы единой повествовательной ткани, подчеркиваемые топографически, архитектурно и словно оркестрованные самой сложной и чувственной музыкой, какая только существует, с ее быстрыми взлетами и падениями — музыкой Малера и Вагнера.
То, что пишет Антониони о необыкновенной современности картины «Земля дрожит», можно с полным правом отнести ко всему творчеству Висконти. Музыка в «Земле» также обретает свое особое место, и это подчеркивает режиссер из Феррары: «Тайну его поэзии следует искать во всем том, что он в нас пробуждает, из этого надо извлечь вибрации поверхности, в целом все то, что он отражает инстинктивно, алогично, бессознательно. Кто знаком с Висконти, тот знает, что его дела несравненно больше, чем его слова, и бесконечно сильнее выражают его суть. Вот они — его дела, в упомянутых сценах, голосах и шумах отплывающих ловить рыбу, когда наступает ночь, в песнях каменщиков, бледном свете бури, в переливах голоса младшей сестры и в напряженном силуэте старшей […] и еще во множестве моментов, в которых, при всей их социальной полемичности, поэтический голос Лукино Висконти звучит ясно и искренне». Поэзия и музыка, всегда, как и у Годара, рождающиеся из интереса к простым предметам, деталям, движениям, живым людям. «Он всегда исходит из подлинных вещей, полных смысла, — замечает о его театральной работе Джерардо Геррьери, — даже маски в „Свадьбе Фигаро“ были настоящими, подлинными, в них была заключена частичка духа этого времени. Здания Нового Орлеана тоже настоящие, и очень быстро становятся для героев воплощением и прошлого, и новых возможностей».
Почему Висконти иногда неудобен, почему сегодня не знают, куда его определить и потому зачастую относят к «мастерам прошедших времен»? Не оттого ли, что в эпоху виртуальности он верит в реальность сцены, в живых актеров, в магию театра? Или оттого, что он не хочет следовать никаким теориям и прислушивается только к собственному инстинкту? Оттого, что маньеризм и китч — а ведь пытались нацепить на него и эти ярлыки — пришлись на годы расцвета его деятельности? Потому ли, что он ненавидит формализм, подмигивания, мелкотемье? И не оттого ли, что он-то как раз верит и в кино, и в музыку, в театр и в искусство вообще?
И почему тогда «Людвиг» выглядит произведением критическим, более загадочным и проблемным, чем «Реквием хоролю-девственнику» Ханса Юргена Зиберберга, который в те годы критики дружно превозносили за формальные искания? На этот вопрос в 1983 году ответил Оливье Ассайяс: «„Людвиг“ Лукино Висконти можно сразу отнести к категории фильмов, более великих, чем само кино, более смелых, чем их эпоха, и одно только существование которых является вызовом материализму нашего века. Масштаб проекта был таков, что его никак нельзя было уложить в существующую систему кинодистрибуции. Слишком длинный, слишком созерцательный, с крайне запутанным сюжетом, „Людвиг“ был изначально обречен не просто вырваться за пределы, установленные его эпохой, но еще и стать своего рода памятником безрассудству. Он и не провалился, и не снискал успеха. Висконти явно хотел идти не в ногу со временем, как в свое время и сам Людвиг. Спустя многие годы режиссер словно бы на равных беседует с баварским монархом. Вглядываясь в последнего представителя всемогущей аристократии, он хочет стать последним из его биографов. Поставив себе столь недостижимую цель, кинорежиссер не мог оказаться ниже своего образца: „Людвиг“, как и замок в Линдерхофе, создан не для того, чтобы в нем жить…»
О ПРИЗРАКАХ
Величие способно встревожить, если его нельзя занести ни в какую графу или категорию. Мы говорим о человеке, который был неподражаемым во всех смыслах. Висконти — такой, какой есть, — всегда создавал больше проблем для критиков, чем для публики; само его присутствие кое-что значило для современных творцов, которым поневоле приходилось соразмерять с ним самих себя. При жизни он обладал достаточным влиянием, чтобы стать для современников, как молодых, так и состоявшихся и даже знаменитых, чем-то вроде навязчивой идеи.
Бернардо Бертолуччи вспоминает, как в 1970-е годы он, уже снявший «Перед революцией», «Стратегию паука», «Конформиста» и «Последнее танго в Париже», проходя мимо дома на виа Салариа, никогда не мог удержаться, чтобы не посмотреть в его сторону и не сказать себе: «Здесь жил Висконти…»
Что касается Феллини, то в свое представление о мире как клоунаде белых и рыжих клоунов супермощную фигуру кондотьера Висконти он вписал абсолютно органично. Следуя этой игре, он перечисляет и других клоунов, в ряду которых он помещает и самого себя: «Моравиа — клоун рыжий, но хотел стать белым. А еще лучше бы мсье Правильным, директором цирка, который все хочет примирить две тенденции на абсолютно объективных основаниях. Пазолини — белый клоун, такой изысканный и педантичный. Антониони — рыжий клоун из молчаливых, немой и печальный. <…> Пикассо? Рыжий, триумфальный, дерзкий, бесстыжий, без комплексов; он в конце концов одерживает верх над белым клоуном. <…> Висконти: белый клоун, очень властолюбивый; у него единственный в своем роде костюм, такой роскошный, что это даже смущает. Гитлер — белый клоун. Муссолини — рыжий. Фрейд — белый клоун. Юнг — рыжий».
Если заговаривали о соперничестве между ним и Феллини, Висконти всегда протестовал, и во всяком случае, не подтверждал, что такое соперничество было: «Вечно они преувеличивают — мы были друзьями…», однако сны не лгут, и Висконти для Феллини был в буквальном смысле слова постоянным кошмаром. В апреле 1962 года, во время съемок «Восьми с половиной», когда Висконти работает над «Леопардом» и они оба снимают Клаудию Кардинале, Феллини зарисовывает один из своих снов и заносит в первую «Книгу моих сновидений».
На первом рисунке — грубый набросок пляжа, Висконти стоит в черных плавках. Импозантная, изысканная осанка, атлетическая нагота, инквизиторский взгляд устремлен на простертую у его ног Джульетту Мазину. Позади нее Феллини набрасывает карандашом собственную тень и подписывает рисунок: «Дж. на пляже старается прикрыть меня от взгляда Висконти, поскольку знает, что его выправка средневекового солдата заставит меня потупиться и выдать собственную слабость». На этом рисунке Феллини словно прячется в тени Джульетты. Годом позже, 14 июня 1963 года («Леопард» вышел в широкий прокат в конце марта, после «Восьми с половиной»), еще один рисунок Феллини изображает двух режиссеров над сценарием, который на сей раз, кажется, пишется по мотивам одной из самых знаменитых песен «Ада» Данте, песни XXVI, где Улисс, которому Итака быстро надоела, отплывает в новое путешествие, везя своих спутников на смерть. «Комната вся затоплена водой, и мы гребем, плывя в шлюпке. Лукино тоже здесь, он молча пристально смотрит на меня, стараясь докопаться до моих истинных намерений; наконец он дает знак отплывать, и я, сидящий в носовой части первым гребцом, должен исхитриться и так маневрировать шлюпкой, чтобы мы смогли развернуться в ней и пройти в дверь, потом выплыть в илистый канал, на горизонте впадающий в море. Я хочу помириться с Лукино, мы обнимаемся, угощаем друг друга сигаретами, он мне вправду симпатичен, я всегда очень уважал его, я его люблю. Небо разбухает от черноватых туч, море мертвенно-синее, оно вселяет ужас. „Если случится буря, мы ведь сможем вернуться?“ — спрашиваю я у старого моряка и прошу его сесть со мной рядом».
В обоих случаях Висконти предстает в образе верховного судии и преследователя, вездесущего, деспотичного, несущего гибель; это образ, отзвуком которого мог бы быть кошмар режиссера из первого эпизода «Восьми с половиной». Каждый из этих рисунков выражает превосходство деспотической фигуры, одной из тех, которых создатель «Дороги» в своей личной мифологии отождествляет с тираническим белым клоуном, одетым в «роскошный костюм», а инфантильному рыжему клоуну остается лишь подсчитывать полученные пинки — он слаб и унижен.
Висконти это «Сверх-Я» итальянского кино — как вчера, так и сегодня. Отец, которого надо уничтожить… Почти сверхчеловеческая мощь, несмотря на паралич, — таким Феллини 30 ноября 1974 года снова видит его во сне. Облаченный в зеленый костюм, правой рукой он опирается на трость, левая рука поднята, взгляд повелительный. «Опираясь на трость, быстро входит Лукино Висконти, чье почти абсолютное выздоровление повергает меня и моих друзей в изумление: вот так нежданный гость! Было ли это у меня дома? Пошатываясь, Лукино идет к креслу и садится, у него сильная одышка. Должно быть, его выздоровление не такое уж абсолютное, каким кажется». Вторая виньетка изображает его сидящим в коричневом кресле, а Феллини на сей раз стоит и краем глаза наблюдает за Висконти, который, кажется, с отсутствующим видом смотрит куда-то вдаль.
Бернардо Бертолуччи, которого в 60-е годы называли «самым молодым маэстро итальянского кино» и часто видели в нем продолжателя дела Висконти, радушно встретил меня в своей римской квартире, где все, вплоть до мельчайших сувениров, напоминает о его далеких путешествиях и его фильмах; по странному совпадению ему, как и Висконти после «Людвига», теперь приходится передвигаться с помощью ходунков. Он посмеивается над этой иронией судьбы, над этой дантовской игрой в contropasso (шаг вперед — шаг назад): «А ведь когда-то я частенько делал трэвеллинги…» Когда мы договаривались о встрече, он сразу предупредил: «Я не был таким уж страстным поклонником Лукино Висконти. Быть может, я держался поодаль от него потому, что боялся попасть под его влияние и потерять индивидуальность. Мы, надеюсь, подробней поговорим об этом: коль скоро в двадцать лет я бредил Росселини и Годаром как своими духовными учителями, исключив кинематограф Висконти из своих образцов, значит, на то были причины…»
Он вспоминает, как однажды был на дружеском обеде, персон на восемь, не больше, у Висконти, который тогда еще «не был прикован к инвалидному креслу; кажется, это был год 70-й или 71-й, у него на виа Салариа. Я немного волновался… Мне казалось, что я вот-вот замечу какие-то моральные или психические искажения. Однако в тот вечер я увидел перед собой человека, которого присутствие Хельмута Бергера повергало в странную грусть: он одновременно и сердил его, и веселил…» «Более очарованный им как человеком, нежели как режиссером», Бертолуччи чувствует, что Росселини и Пазолини ближе ему по духу, но при этом все-таки уточняет: «Возможно, мои отношения с Висконти как с человеком и с его кинематографом немного испортились после того, как кругом начали твердить, будто мое кино очень похоже на его фильмы. Я соглашался с этим мнением, потому что был демократичен. Но такое сближение всегда казалось мне скорее надуманным, чем выражающим суть».
Все время нашей беседы Бертолуччи напоминает о существующей в их отношениях двойственности — с одной стороны, он соблюдает строгую дистанцию по отношению к Висконти (во время съемок он даже запрещает себе снимать планы «по-висконтиевски»), с другой стороны, связь между ними тоже существует (в своих фильмах младший то там, то тут сознательно ссылается на старшего). Первым фильмом Висконти, который он посмотрел, было «Чувство». Режиссер признается: «Этот фильм словно расколол меня надвое: с одной стороны великолепие, которое создается при помощи цитат из живописи и литературы и мощный эффект присутствия.» «Это было одно из тех впечатлений, какие не забываются никогда и открывают глаза на многое: тенор выбегает прямо на авансцену, топает ногой перед будкой суфлера и запевает знаменитую Di quella pira, на которой опускается занавес в конце III акта… Этот момент словно открыл мне глаза на мелодраму, что-то пробудил во мне…» Дальше в картине следуют «эпизоды необыкновенные, великолепные: горечь утраты и горечь мести», и все это действие разворачивается на фоне «мира венецианской аристократии»: большие сельские виллы, военные воззвания и призывы Рисорджименто, как на полотнах художников группы Маккьяйоли.[84]
Но уже была рядом французская новая волна, кинематограф по-настоящему бойкий, сам себя создающий, изобретающий киноязык, притяжение которого оказалось не в пример сильней, и который Висконти сознательно игнорировал Бертолуччи говорит: «То, что называлось экспериментаторством, стекало с него, точно капли воды с мраморной статуи; его это никак не затрагивало». Его, «участвовавшего в съемках „Правил игры“ — одного из фильмов, на которых я вырос и к которым не перестаю возвращаться. Проходят годы, а „Правила игры“ для меня все еще живы — в этом фильме множество характерных черт и загадок».
Позже Бертолуччи с большим волнением посмотрел «Одержимость»: «Это фильм, который я, наверное, люблю у Висконти больше всего, с его внешним стремлением вписаться в рамки реализма, коснуться его мимоходом и пройти в иные сферы, которых реализм еще не сумел достичь, до места сочленения, до стыка», соединяющего романные формы ХЕК и XX веков. Именно эта конкретная историческая ситуация и тяга Висконти к сближению истории и современности и позволили этому режиссеру, по мнению Бертолуччи, сделать для итальянского кино то, что Ренуар сделал для французского. Это школа высочайшего уровня. Бертолуччи продолжает: «Висконти отчасти похож на Ренуара — оба они создали что-то вроде моста между видением века XIX и века XX…»
Я говорю о том, что и у Бертолуччи, и у Висконти — превосходное чувство зрелищности и отменный вкус в постановке, оба они берут за образец оперу и оба снимают фильмы, которые требуют значительного количества декораций и костюмов. Бертолуччи возражает: «У меня вы видите все как есть. Я не стараюсь спрятать ничего из того, что показываю». Бертолуччи тоже сотрудничал со сценографом Висконти Фердинандо Скарфьотти — на «Конформисте», «Последнем танго», «Последнем императоре». «Мы работали без той маниакальной тщательности, которая была свойственна Висконти — взять хотя бы случай со скатертью», — говорит Бертолуччи и проводит ладонью по столу. Он продолжает: «Один из старших операторов на „Смерти в Венеции“ рассказывал мне, что на скатерти не должно было быть ни малейших следов беспорядка. Стоило на ней появиться одной-единственной складке, это оборачивалось наказанием для всех, отвечавших за подготовку сцены к съемке. Вокруг этого сложилась целая мифология, которой итальянское кино так гордилось…» А если говорить более общо, Бертолуччи признается, что его всегда коробил слегка анахроничный классицизм Висконти: «Я отдавал должное мощи, но при этом видел и старомодность той драматургии, из которой его фильмы черпают свою мощь. Есть ощущение некой театральности происходящего… Как и Дзеффирелли, Висконти не знает, что такое камера». А фильм «Луна» самого Бертолуччи — он разве не напоминает «Чувство»? Бертолуччи возражает: «У Висконти театр поистине самовыражается. В „Луне“ мне хотелось слегка иронично изобразить пятнадцатилетнего парнишку, который обнаруживает, что жизнь вокруг него состоит из маленьких обманов. И его это очень беспокоит; в своем фильме я пытался при помощи камеры проникнуть в самое сердце театра». А как же Алида Валли — в «Стратегии паука», «Двадцатом веке» и «Луне»? «Да, виноват именно тот план в карете, когда ей жарко и с нее течет пот из-за него я и снял Алиду в „Двадцатом веке“, где она поет отрывок арии сопрано из „Чувства“ — D’amor sull’ali rosee. В самом деле, стиль Висконти — это его умение оживить мир XIX века; ухитряясь не разрушать киноязык, он создает очень красивые планы, и источником его вдохновения служит декадентский дух — это великий, немного подправленный декаданс, который низвергает красоту… Если такой декаданс частично свойствен и мне самому — что ж, пусть так, но ведь у меня много разных корней».
А что он думает о коммунистических убеждениях Висконти? Бертолуччи отвечает: «Вот этим он был мне симпатичен больше всего. Он мог сказать: да, я хочу пожертвовать собой; я отрекаюсь от всего, во что верую как аристократ из очень богатой семьи, как художник и как очень утонченная личность; я отрекаюсь от всего этого ради одной только идеи, эстетической сути, ради лиц рыбаков из Ачи-Треццы… Моя собственная приверженность коммунистическим идеалам была продиктована совсем другой причиной — чувством вины, которое возникло у меня, начиная с восьми-девяти лет. Я верил и до сих пор верю в Итальянскую компартию как в упрямую революционную утопию; я понимаю коммунизм по-своему — вкладываю в это понятие что-то очень личное, не имеющее прямого отношения к реальности…» Бертолуччи также вспоминает об атмосфере почтительности, окружавшей «графа», о том, как им восхищались режиссеры и молодежь, в том числе подражавший ему Мауро Болоньини, а равно и о том, что перед ним преклонялся «вулканический и гениальный» Глаубер Роша.
— Революционер Глаубер Роша?
— Да, и этот неистовый революционер обожал Висконти…
О РАБОТЕ И ДРУЖБЕ
Болезнь, а затем и кончина Висконти ничуть не ослабили, а скорее укрепили связи между всеми, кто окружал его и работал с ним: его сотрудники, которые стали для него настоящей приемной семьей, напоминающей ту, что показана в «Семейном портрете в интерьере». Однако эта настоящая семья отличалась еще дисциплиной, все ее члены были преданы режиссеру душой и телом, все они были покорны и в то же время повелевали. Висконти также создал и школу с множеством преданных учеников. Пьеро Този, одевавший статистов, актеров и актрис, от Анны Маньяни в «Мы — женщины» и «Самой красивой» (1952–1953) до Лауры Антонелли в «Невинном» (1976); Джузеппе Ротунно, главный оператор громадного таланта, делавший первые шаги на фильме «Мы — женщины», а позже сумевший сотворить чудо — стать другом и Феллини, и Висконти. «Как для одного, так и для другого, — объясняет Ротунно, — было важно отыскать во всем подлинную суть. Создавать светлую атмосферу, в которой все прекрасно себя чувствовали и все вместе двигались по одному и тому же пути».
В их числе и Марио Гарбулья — декоратор, живущий сейчас в странной квартире на римской окраине, среди ширм с психоделическими фигурами и своих полотен, которые явно беспокоят его; а за большой ширмой — афишные доски со старыми черно-белыми панно: снег и сны из «Белых ночей» (1957) и декорации для спектакля «Это было вчера» (1973).
Энрико Медиоли живет в Орвьето и приехал оттуда, чтобы встретиться со мной; он с насмешливым юмором и светлой нежностью вспоминает о воле к жизни, великодушии и приступах меланхолии, и еще о мстительном характере Висконти… И, конечно, о работе, непрерывавшейся совместной работе еще с первоначального варианта сценария «Рокко», где ему было поручено написать персонаж Чиро, вплоть до последней экранизации, «Невинного». Сценарист все время повторяет, что Висконти был необычайно изобретателен — так, однажды он в компании Медиоли и Филиппо Санжюста задумал сочинить роскошную фантазию, одним из главных героев которой станет Калиостро; позже этот замысел воплотится в либретто оперы «Дьявол в саду», историко-пасторальной комедии в трех актах и четырех картинах, действие которой разворачивается в Версале накануне Революции, с музыкой Франко Маннино — мужа Уберты. Медиоли рассказывает: «Это был подарок для его сестры Уберты, выражение его любви» — великолепнейший спектакль, который несколько вечеров подряд играли в феврале 1963 года в палермском «Театро Массимо». Висконти, сам нарисовавший для него костюмы и эскизы декораций, «от души забавлялся, ставя эту пьесу, и ни в чем себе не отказывал как, впрочем, и всегда. Королевы, маги, кардиналы, шлюхи, демоны — всего около пятидесяти персонажей, и все играют, поют. Получилось очень весело, полемично и немножко зловеще. Это был большой спектакль. Жаль, что нельзя его восстановить; но Висконти говорил, что театр — дело сиюминутное и повторению не подлежит». Спектакль построен на сюжете об ожерелье королевы, его действие разворачивается в садах Версаля, между Рощей Венеры и Большой Колыбелью Королевы, и ставился он во время съемок «Леопарда». Каждый вечер Висконти, устраиваясь в некоем подобии садовой крепости, недавно отреставрированной под его руководством, обсуждал с Медиоли детали и сценические ходы пьесы.
Когда в сегодняшней Италии опрашиваешь тех, кто с ним работал и контактировал, и близких его друзей, и просто коллег, в ответ на вопрос о первых шагах под надзором беспощадного маэстро на лице говорящего всегда отражается мимолетный ужас. Сузо Чекки д’Амико вспоминает, как в начале их сотрудничества он приглашал к себе на виа Салариа сценаристов. «Сам он усаживался на председательское место, мы рассаживались по партам, и у каждого перед носом стоял маленький пюпитр, как у школьников». Через этот «ритуал приема», более или менее долгий, прошли все. Эта первая встреча — первое знакомство, первый мимолетный знак внимания, ритуал отбора, здесь звучат вопросы о возрасте, и Висконти держится с подчеркнутой дистанцией. Когда экзаменуемые, полные надежд, дрожа от нетерпения, приносили свои эскизы, рисунки, макеты (Този: «Как мы все в те времена спешили заявить о себе!»), Висконти сначала отводил глаза в сторону, а потом вдруг выпаливал: «Сколько тебе лет? Двадцать? У тебя есть время. У тебя еще много времени…» А Този: «Мне казалось, что я скоро умру, а ведь я так любил кино… „Чинечитта“ для меня была такой же далекой, как и Китай!»
Ни один из них не избежал проб, необъяснимых задержек проектов и неожиданных вызовов на съемку: так было и с Този («Самая красивая»), и с Гарбульей, и с Франческо Рози; распоряжения им передавал кто-нибудь из приближенных к маэстро людей… С Този общались Рози или Дзеффирелли — к вящему неудовольствию Пьеро. О работе над «Самой красивой» Този говорит так: «С Лукино у меня прямого контакта не было. Он был неприступен и держался поодаль, явно желая оградить себя от съемочной группы. Если я в чем-то сомневался, если пытался глубже понять, как он хотел показать беспорточную Италию того времени, мне приходилось обращаться к Дзеффирелли. Именно он передавал мне все, что „изрек маэстро“, все распоряжения и суждения Висконти».
Все его сотрудники рассказывают о строгих правилах и о периодах заточения. Даже если клетка, точнее сказать — башня на Искье или комната в Риме, — была золотой, плодотворное затворничество сотрудников, сценаристов, костюмеров, сценографов длится с утра до вечера, пока Висконти на Искье проводит время с заезжими гостями. Под стать этой тюремной практике и другие методы работы: Висконти всегда опирается на текст, говорит: «Сделай мне разработку…», и все несут ему промежуточные результаты. Рассказывает Пьеро Този: «Пока он принимал ванну, я раскладывал на полу в передней рисунки. Он смотрел, выбирал один-единственный и говорил: „Продолжай в этом направлении…“ У него были точные идеи. Не то что у Феллини, на того абсолютно невозможно было положиться». Подготовительный период мог длиться несколько недель или месяцев, во время которых, добавляет Този, «работа, эскиз за эскизом, с каждым днем прояснялась и обретала точность». Този говорит: «Так вызревал замысел».
Он требовал абсолютной верности и не терпел возражений. Горе тому, кто восстанет или предаст его. Висконти и в кино, и в театре был всецело поглощен мыслью о совершенстве, и он был готов на все, готов был пойти до конца, что доказывает и рассказанный Пьеро Този случай с «Трактирщицей». 1952 год. В это время Този работал на Дзеффирелли — он создал эскизы костюмов для комедии Карло Бертолацци «Аулу», действие которой происходит в Милане в 1910 году. Работа над постановкой шла трудно, пьеса была освистана критиками и изъята из репертуара после единственного представления — вполне возможно, что к этим сложностям приложил руку Висконти, уязвленный тем, что Дзеффирелли тоже стал режиссером и решил взлететь на собственных крыльях. У Този, тогда совсем еще юного, едва опомнившегося от такого болезненного опыта, был заключен контракт на создание костюмов для фильма Марио Сольдати «Провинциалка». «Мы были в Лукке. На следующий день должен был сниматься первый дубль, — рассказывает Този, — и тут пришло письмо от Висконти. Он вызывал меня для работы над „Трактирщицей“, которую собирался представить на осеннем „Фестивале делла Проза“ в Венеции… По правде сказать, мне совершенно не хотелось уезжать от Сольдати, из этой идиллической, беспечной атмосферы. Я ответил, что не могу просто так взять и бросить работу над фильмом. Он подключил к этому Паоло Стоппу: тот прислал письмо, в котором метал громы и молнии и предупреждал о последствиях. Сказать Висконти „нет“ было ужасно само по себе. Я устроил так, что за меня ответило руководство студии. Очень скоро от Лукино пришло еще одно письмо, совершенно меня поразившее: он обвинил меня в неблагодарности…» На этом дело не закончилось. Паоло Стоппа попросил вмешаться самого Джулио Андреотти, тогдашнего куратора кинопромышленности видного деятеля христианско-демократической партии, добиваясь, чтобы студия «освободила» Този. Результат: «Мне пришлось уехать. Я вновь увиделся с Висконти в „Коломбайе“, на его вилле в Искье. Он ни словом не обмолвился о потерянном времени и о моей попытке отбрыкаться. А ведь я, приступая к работе, ужасно этого боялся». Этот случай хорошо иллюстрирует прагматизм, если не сказать — цинизм Висконти, но также и то, какой степени подчиненности он безо всяких угрызений совести требует от сотрудников и, главное, от актеров, с которыми поддерживает абсолютно синкретическую связь. Самые мятежные сотрудники порывают с ним после бурных скандалов (так в 1949-м, после безумной постановки «Ореста» Альфьери, хлопнул дверью Витторио Гассман). Отдаляется от него и Делон — Делон, о котором Висконти десять лет спустя вспоминает: «Когда я снимал „Леопарда“, он вел себя крайне скверно. Ему надо было репетировать сцену из фильма, а он пропал неведомо куда».
Все это еще и сейчас называют bottega viscontiana, мастерская Висконти: место учебы и творчества, напоминающее об эпохе Возрождения, когда мастер работал вместе с подмастерьями и занимался их воспитанием. Несколько драгоценных строк о его манере работать в театре написал Джерардо Геррьери: «Его чувство реальности было сродни ощущениям домохозяйки: он сам все выбирал, сам обставлял комнаты в доме, сам варил кофе, все любил делать сам, своими руками, и за всем наблюдать. Он постоянно творил: разводил цветы, котов, собак, лошадей, актеров, иногда казалось, что это был не руководитель, а животновод. Окружающих он любил любовью поистине материнской — при этом он был суров с ними так, как бывает суров только отец». Вот как об этом писал актер Дирк Богард: «Он требовал наивысшей степени совершенства и всегда ее добивался. Он требовал совершенства от плотника, электрика, от девицы-белошвейки, от своих актеров, от сценаристов, от главного оператора и от его ассистентов, от мальчишки, делавшего самую простую работу. Все они были избранными, он выбирал лучших из лучших. И все они с легким сердцем умерли бы за него. Ибо работа у Висконти была знаком качества, свидетельством, что вы — лучше всех».
Эта эпоха — без сомнения, золотой (а может быть, навсегда ушедший?) век итальянского театра. Лучшие декораторы, лучшие музыканты, самые одаренные сценаристы, самые умелые техники сотрудничали в те годы с Висконти, который заметил их талант, кропотливо отобрал каждого из них и научил видеть ту живую, «обитаемую» реальность, которая неотступно преследовала его самого. Так было с Пьеро Този — сын кузнеца из Флоренции, самоучка, он набил руку и впервые продемонстрировал свой почерк на курсах у художника Оттоне Розан в Институто д’Арте, а потом в Академии изящных искусств во Флоренции. В то же время он не пропускал в кинотеатрах ни одного костюмного фильма — он смотрел картины Джино Сенсани и Алессандро Блазетти («Железная корона», «Трагифарс», 1941), Марио Сольдати («Маленький старинный мирок», 1941), а несколько позже работал во флорентийских садах Боболи на монументальной постановке «Троила и Крессиды» под руководством сценографа Марии де Маттеис. Это была школа строгой исторической точности, пришедшая на смену сумасбродным фантазиям Прекрасной эпохи и ревущих двадцатых. Впоследствии Този примет участие во всех больших висконтиевских постановках и в кино, и в драматическом и оперном театре, а на первой своей работе для Висконти, в «Самой красивой», он обрядил всех актеров в ношенную одежду — здесь были старые домашние платья, халаты, льняные дамские костюмы и самые обыкновенные фартуки. Историческая точность, непревзойденное знание цвета любой эпохи, ее тканей, вышивок, аксессуаров, силуэтов будут отличать костюмы Този, сшитые по его эскизам в ателье Тирелли. Это и платья для «Трактирщицы» в неожиданно сдержанных тонах XVIII века, вневременные одежды «Сомнамбулы» — специально для невинной героини Каллас, а также и костюмы для «Людвига».
Този признается: «Работа над „Людвигом“ была трудной еще и потому, что фильм охватывал период более чем в двадцать лет — с 1860 по 1886-й. Это означало, что для платьев Елизаветы, которая станет императрицей Австрийской, нужно было пройти весь путь от широченных кринолинов Ворта до стиля limace 1878–1880 годов, когда французские портные шили очень облегающие платья с маленькой кулисой, вшитой в шлейф и делавшей юбку пышнее. Именно эти платья, в которых Елизавета разъезжает из одного замка в другой, чтобы налюбоваться на архитектурные безумства Людвига, позволили мне на равных побороться с эпохой и модой, которые я никогда не рисовал — я воссоздавал эти костюмы исключительно по книгам. Но подлинной ловкости от меня потребовала сцена коронации: здесь были и король с королевой, и придворные дамы, военные в мундирах, дипломаты во фраках и придворные в плащах. Что касается пальто самого Людвига, то Габриэла Пескуччи специально съездила в Мюнхен и зарисовала оригинал. Оно было бледно-голубого цвета. Ателье Тирелли сшило его из бордовой ткани — так распорядился Висконти. Украшениями и вышивками занималась мадам де Доминичи, мастерица с золотыми руками: она умела вышивать гладью, кружевами и золотом».
В работе над «Людвигом» речь не шла о том, чтобы восстановить все наряды с точностью археолога: напротив, одежда не должна была выглядеть безупречно, она не должна была быть «навязчивой реконструкцией костюма». «На этой работе Пьеро Този понимал меня абсолютно правильно, — скажет Висконти. — Хотя в других фильмах он контролировал себя хуже». «Контролировать себя» в этом случае означало подчиняться главнейшему правилу: находить согласие между точностью и жизнью, между запечатленной в памяти Историей и историей живой. Как Висконти это делал, ведь он не гнался за современностью? «Одежду можно перешить, — отвечает Пьеро Този. — Главное здесь — выбрать основные линии и представить трансформации героев. Я не умею рисовать модную одежду: я рисую персонажей. Так же работали Марсель Эскоффье и Мария де Маттеис. Если физические данные актера или актрисы не отвечают изображаемой эпохе, бывает трудно. Так, на Гибели богов было сложно работать с Ингрид Тулин, которая была крупновата для эпохи 30-х годов с их склонностью к миниатюризации и тонким чертам в моде. Творец моды ставит свое искусство на службу манекенщице, модной внешности; здесь нужно быть свободным, изобретать». Не может быть и речи о том, чтобы переносить строгие буржуазные костюмы из «Трактирщицы» в чувственную «Манон Леско» 1973 года — пусть даже в обоих пьесах действие происходит в XVIII веке.
Декорации к «Манон», сделанные Лилой де Нобили, Пьеро Този и сегодня вспоминает с восхищением. «С правой стороны сцены, за великолепными ширмами, виден альков», — гласит ремарка Пуччини ко второму акту. У Висконти постель всегда находилась в центре сцены, притом часто она была монументальной … Този заново и точно находит цвета, теплоту, тон, легкость, поэзию мизансцены в этом акте: «Манон распахивает занавески алькова; она потягивается, показывая себя, точно нагая фигурка с полотна Буше, под голубым, расписанным мифологическими героями потолком. На постели лежат подушки, перина, все в кружевах; утро; входит брат Манон, переодетый офицером; краски этой сцены очень теплые. Внезапно на этот эпизод словно бы падает тень кровосмешения; Манон выскальзывает из постели и следует прямо в купальню… потом начинаются уроки пения, танца, и все это происходит в присутствии старого любовника». Память об этом очаровании хранят памятные вещи в собрании Пьеро Този. В маленькой комнатке, где он меня принимает, майский свет играет на эскизах котов и букетов, зарисованных мастерски и с блистательной легкостью. «Тот рисунок гуашью, где белые розы? Это подарок Лилы…» Лилы де Нобили. Пара ее эскизов к декорациям «Манон Леско» висит рядом с маленьким полотном Дали в светлой деревянной раме. Вот и еще один сувенир-воспоминание, возвращающий к 1948 году и постановке «Как вам это понравится» в римском «Элизео»: память о роскоши, которая провозгласила конец неореализма…
О ТЕХНИЧЕСКОМ ФЕТИШИЗМЕ
Возможно ли возродить этот блеск? Сегодня Пьеро Този не скрывает сожаления: от тех драматических и оперных постановок почти ничего не осталось. «Ничего, кроме разве только самых дрянных фотоснимков; даже подготовительные эскизы и те исчезли. Если бы только можно было хоть десять минут посмотреть Каллас в „Травиате“! Но тогда снимать театр было не в обычае. Засняты лишь овации в самом конце, когда актеры выходят на поклон!» На пленку эти выступления тоже не записывали… Всегда отказывался от этого и Висконти, хотя его много раз приглашали поработать на телевидении. А что с фильмами? Този скептически настроен и в этом случае. Можно ли будет когда-нибудь восстановить подлинные краски «Чувства» и «Леопарда»? Разве что «Людвиг», снятый на более современной пленке, остается безупречным.
Ностальгия, верность, да — но только не фетишизм. И уж точно не технический фетишизм. В настоящий момент оператор Джузеппе Ротунно успешно завершает «Проект Висконти», длившийся многие годы: он искал в американских и английских продюсерских фирмах оригинальные негативы и технику для широкоэкранного показа, который в те годы быстро завоевывал киноэкраны. Затем следует убрать следы старой лабораторной цветокоррекции (практика, которая сложилась еще в 50-е годы), тщательно проверить целостность фильма — кадр за кадром, и сделать окончательную запись на носители, способные храниться без повреждений. Ротунно говорит, что он по праву контролирует эту огромную работу — не только как признанный всеми художник света, но еще и как свидетель самих съемок, наблюдавший процесс принятия решений о цветах и оттенках, и о том, какое освещение следует использовать; например, в «Леопарде», где съемки на улице «надо было рассчитать чрезвычайно точно, на все три съемочных месяца вперед, начиная с самых первых весенних дней, и учесть изменения в движении солнца с весны до лета, чтобы как можно лучше осветить пейзажи, перспективу и персонажей».
Эта работа была почти научной, ставка была сразу сделана на непрерывность планов (съемки велись тремя камерами). Подчас этот труд напоминал монашеские бдения: «Жара стояла такая, что свечи проседали и оплывали. Чтобы ускорить подготовительный процесс, мы все превратились в экспертов по зажиганию и тушению свечей, словно церковные сторожа…» На съемках «Постороннего», проходивших в неблагоприятных условиях — сначала в разгар зимы в Алжире, потом в самом начале весны 1967 года в Италии, — нужно было передать ощущение летнего зноя; чтобы добиться этого, Ротунно велел разбросать на песчаном пляже в Сперлонге крупные осколки зеркал. Так был снят эпизод убийства. Он помнит в мельчайших деталях и то, как создавался «Рокко и его братья» — фильм, который прошел строгую цензуру. В «Рокко», помимо уже известной истории со специально затемнявшейся сценой изнасилования Нади, Висконти пришлось убрать отсылки к тревожным политическим событиям тех лет, в том числе и выпуск новостей на телеэкране — предполагалось, что он будет служить контрапунктом к гомосексуальному эпизоду у тренера Морони, сыгранного Роже Аненом. Этот сюжет новостей пришлось заменить на телепередачу об истории живописи — впрочем, тоже прозвучавшую в фильме сильно и необычно. Даже фамилию главных героев — Пафунди — пришлось заменить на Паронди, дабы избежать ассоциаций с фамилией видного судьи того времени. Поскольку фамилия Пафунди в последних кадрах фильма была крупно напечатана на афише боксерского поединка Рокко, ее исправляли вручную, прямо на отснятом материале. «Там есть след от вымарывания, который я оставил намеренно», — уточняет Ротунно.
«Для меня, — говорит Ротунно, — эта работа по реставрации — не холодная, не механическая. Я лично, а значит, и эмоционально, являюсь частью кинематографа Висконти. Я работал в операторской группе еще на картине „Мы — женщины“, а затем и на „Чувстве“. Я был оператором-постановщиком на „Белых ночах“, „Рокко и его братьях“, „Работе“, „Колдуньях“, „Постороннем“, не говоря уж о „Леопарде“ — видите, сколько времени мы проработали вместе. Для меня эта реставрация фильмов была попыткой возродить кинопавильон Висконти…» Будучи еще очень молодым человеком, но уже прошедшим школу цветного кино, он работает вторым оператором на «Чувстве» — и здесь ему удалось добиться, в том числе, и того, чтобы австрийские мундиры, сшитые точь-в-точь по исторической модели, выглядели на экране настоящими, то есть «кипельно-белыми», как этого желал Висконти и невзирая на несовершенство цветного кинематографического процесса Technicolor Three-Strip. «Пеппино, — сказал ему Висконти, — ну это же невозможно, не могу я видеть на австрийцах эту серую форму!» За этим первым испытанием последовало и следующее, когда после смерти главного оператора Альдо и ухода из съемочной группы Роберта Краскера (подписавшего контракт на съемки «Третьего человека» Кэрола Рида) Ротунно доверили съемки остававшихся «самых трудных сцен». Это были финал фильма и сцена ночной казни, снятая в Риме, в замке Святого Ангела, при свете факелов, которые держали австрийские солдаты. «От меня никакой помощи не жди!», предупредил его Висконти, очень быстро заметивший искушенность Ротунно. И вместо того, чтобы обидеться, Ротунно проявил подлинно режиссерское мастерство в искусстве построения мизансцены, в продуманной и педантичной подготовке к съемкам самых сложных сцен (сцены битвы, сцены в опере и бал), а равно и в соблюдении сроков. Вот тогда-то зародилось и окрепло это сотрудничество — они понимали друг друга без слов, и это был необычайно прочный творческий союз. Ротунно рад, что они с Висконти были настоящими сообщниками, и делится еще одним воспоминанием: «Лукино говорил мне, чтобы я стоял слева от него, потому что на правое ухо он был туговат и всегда приберегал его для самого несносного зануды или для того, кто за столом громче всех чавкал».
С годами понимание между ними росло. Ротунно входил в число двух-трех избранных (Марио Гарбулья, Пьеро Този), обычно сопровождавших Висконти в его многодневных экспедициях по поискам натуры: в ноябре 1959-го для «Рокко» — в богом забытые деревушки, в самую нищую и печальную глушь призрачной Базиликаты; в конце марта 1962-го — на Сицилию для «Леопарда», затем в Алжир — для съемок «Постороннего». Каждый раз они погружались в новую реальность, стараясь расслышать ее, подышать ею, овладеть той жизненной средой, которая будет питать фильм и его атмосферу. В конечном итоге выбор натуры не всегда заканчивается у Висконти настоящими съемками — так, не был снят и не вошел в «Рокко и его братья» начальный эпизод похорон отца с чтением погребальной молитвы и прощальными речами детей вокруг гроба (хотя и для этого эпизода была придумана фактура). Тем не менее эти поездки задавали настрой, они помогали прочувствовать постановщику, оператору, костюмеру, сценографу суровость местной зимы и отчаяние бедности: эту предысторию мы не увидим, как не увидим шелковых рубашек князя Салины в ящиках его гардероба, но они станут плотью произведения.
Для «Рокко» Ротунно сделал сотни фотографий выбранной натуры. «Эти фотографии давали нам возможность, — объясняет он, — прийти к общему мнению при создании в Милане или на студии среды, обычаев, коренных привычек Базиликаты, которые эмигранты с юга всегда приносят с собой. Так мы входили в фильм, обговаривая, обсуждая с Лукино каждую деталь, чтобы его видение стало и нашим». Такое же взаимовлияние, хоть и достигнутое не на путях реализма, было на «Белых ночах». Ротунно рассказывает: «Это был первый фильм, на котором я работал с Лукино после „Чувства“, и он был целиком снят на студии. В это время Висконти стремился к чему-то среднему между театром и кино. Его интересовал театр, включавший весь спектр от драмы до мелодрамы, а в кино он отталкивался от Ренуара. „Белые ночи“ были смесью кинореальности с театральной условностью. Все должно было казаться настоящим, будучи искусственным, и искусственным, будучи настоящим. Я понял это и точно следовал его указаниям, чередуя световые эффекты, то реалистичные, то более искусственные, в просчитанном равновесии, с точным чувством меры».
Реальность, театр, тексты и все, что в них сохраняется пережитого и живого — таковы были ориентиры группы Висконти. Он не черпал вдохновение из кино (за редким исключениями, среди которых «Голубой ангел» и «Правила игры»): для Висконти кино было средством, а не самоцелью. Самым важным для него оставался урок Ренуара и неореализма.
О ТАЙНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛОГИКЕ
В любой театральной или кинематографической «семье», разумеется, существуют похожие синкретичные отношения, целью которых является создание спектакля или фильма. Члены висконтиевской семьи потихоньку и с некоторой оглядкой на подозрительный и ревнивый характер маэстро предугадывают некоторые его начинания, советуют режиссеру и предлагают ему идеи. Сузо Чекки д’Амико говорила о плане экранизировать Пруста, а Ротунно рассказывает о «Рокко»: «Я точно знал, чего он хочет, как он сам сделал бы то или другое, что именно ему было нужно сохранить». Энрико Медиоли — о «Гибели богов»: «Я знал, что ему придется по вкусу, и не предложил бы ничего подобного ни Дзурлини, ни, скажем, Леоне». Медиоли говорит о кровосмесительной связи Мартина с матерью в «Гибели богов»: «Этот поворот его шокировал, но потом он сказал: „Ладно, набросай сцену, а там посмотрим“. Я написал сцену, состоявшую только из взглядов и жестов. <…> Висконти считал, что, если тема найдена, если по ней что-то уже сделано, надо проработать ее до конца, не оставлять в подвешенном состоянии, в непонятном виде, не ограничиваться одним предложением; это бы ему не понравилось. Ему хотелось внести в эти семейные отношения амбивалентность, такую любовь/ ненависть к матери <…> Тетрадь маленького Мартина придумал сам Висконти. Рисунок сделала одна девчушка, а нож он пририсовал своей рукой — по-моему, это был удачный ход». Сузо Чекки д’Амико не одобряет перегибов и крайностей этого фильма, в создании которого сама не участвовала — в это время она выполняла другое поручение Висконти (писала сценарий по Прусту) и к тому же не очень хорошо знала германский мир. Не слишком комплиментарно она отзывается и о сценарии «Туманных звезд Большой Медведицы», но отмечает, что в нем очень подробно прописан финал истории, полной ярости и патологии, а в образе матери уже звучит мотив безумия, который станет главным в «Людвиге».
После внезапного отказа Висконти снимать фильм по Прусту заявление о съемках «Людвига» звучит как гром среди ясного неба, и он тотчас же бросает на этот новый проект все силы. В 2006 году Джорджо Тревес снял очень глубокий документальный фильм «Лукино Висконти на подступах к „Поискам утраченного времени“. История так и не снятого фильма»; но абсолютно не прояснил ни причин решения Висконти, ни его подспудной логики — эта история остается тем более загадочной, что каждый или почти каждый участник событий норовит высказать свои догадки. Ротунно вообще «никогда не был уверен в реальности этих планов»: по его словам, «проектом, о котором Висконти твердил постоянно, была экранизация „Кармен“». Сузо Чекки д’Амико намекает, что если бы работа над «Людвигом» не оказалась «минным полем» на пути к Прусту, фильм вполне мог бы и состояться, поскольку все — сценарий, выбор натуры и реквизита, кастинг, контракты, все более изумлявшие по мере того, как режиссер проявлял сомнения, а продюсеры нетерпение, — все, абсолютно все было готово к весне 1971 года, когда вдруг, неожиданно для всех Висконти без обиняков заявил французскому продюсеру Николь Стефан, что отказывается от этого проекта и не будет подписывать контракт. Николь Стефан называет главной причиной такого решения давление со стороны Хельмута Бергера; Сузо Чекки д’Амико предполагает, что Висконти отступил от проекта из-за суеверного страха — он будто бы боялся, что этот заранее разрекламированный фильм окажется для него последним. «За все тридцать лет нашего сотрудничества, — пишет она, — у меня было много случаев обсудить с Лукино Висконти план перенесения на экран „В поисках утраченного времени“ или хотя бы одну из частей этой грандиозной эпопеи. Этот проект и увлекал, и ужасал Висконти, испытывавшего к Прусту неподдельное благоговение. Он любил и перечитывал его с юности. „Это будет мой последний фильм“, — такими словами заканчивалось каждое наше обсуждение. […] Никто не разубедит меня в том, что именно эта фраза, эта навязчивая мысль сыграла важную роль в решении взяться за „Людвига“, когда для „Поисков“ не только были выбраны натура и реквизит, но даже проведены совещания по бюджету».
В действительности, Висконти больше не заговорит об этом проекте; после «Людвига», когда он вновь набрался сил, речь шла только о «Волшебной горе», кинобиографиях Пуччини, Зельды Фитцджеральд, Нижинского… О Прусте не говорилось ни слова. Энрико Медиоли, в свою очередь, настаивает на том, что сказал ему сам Висконти: «„В поисках утраченного времени“ — три больших тома издательства „Плеяды“ — просто не могут быть экранизированы.» Он не хотел это снимать. Говорили, что Висконти боялся разонравиться Хельмуту Бергеру, и это якобы могло повлиять на его решение. Это неправда. Он не смог поставить Пруста потому, что «В поисках утраченного времени» невозможно поставить в принципе, потому что невозможно в финале распознать Даму в розовом в Одетте де Креси и передать ощущение утраченного времени. […] Дело не в деньгах: это Висконти никогда не останавливало, он всегда рисковал в случае необходимости. Так было на «Гибели богов», когда не хватило денег на съемку эпизода Ночи длинных ножей. Если уж актеров выбирали из таких звезд, как Марлон Брандо, Грета Гарбо и Ален Делон, средства он бы нашел Кроме того, он вечно твердил: «Я хочу снимать „Жана Сантея“ — это, конечно, не так прекрасно, как „Поиски“, что правда, то правда; но ведь это генеральная репетиция „Поисков“, пусть даже специалисты и не обнаружат в этой книге их излюбленного „туалета, пропахшего ирисами“.[85] Он ездил повсюду с томиком „Жана Сантея“. Это было святое… Пруст был его личной вотчиной. Лоузи и Пинтер ничего в Прусте не смыслили. И его отказ от экранизации эпопеи был бесповоротным. С тех пор он и не пытался снова взяться за этот проект. Другое дело — „Мираж“ и „Волшебная гора“ по Томасу Манну».
ОБ УЧАСТИ НЕКОТОРЫХ ФИЛЬМОВ, БЕГУЩИХ ОТ СВОЕГО СОЗДАТЕЛЯ
А что же с «Людвигом»? «Замысел этого фильма впервые возник в 1968 году, — свидетельствует Энрико Медиоли, — когда мы выбирали натуру в Германии для „Гибели богов“. Ни Лукино, ни я никогда не бывали в этих местах, не видели замков: то были пейзажи фантастической красоты. Они очень ему понравились. Я ради шутки бросил фразу: „А не снять ли нам здесь какой-нибудь другой фильм?!“ Висконти вынашивал этот замысел очень долго и тайно; сказано было вроде невзначай, но что-то осталось… Если зерно, попав в землю, не умрет… Фильм мало-помалу обретал контуры. Писали сценарий мы с ним вместе, сначала в Риме, потом, летом 71-го, на Искье. Осваивая столь фундаментальный исторический материал, мы опирались на множество биографий и писем…» Дальнейшее известно — как и то, что после первоначального монтажа, сделанного осенью 1972 года Висконти и Руджеро Мастроянни, длительность фильма составляла около четырех часов, а потом продюсеры потребовали сократить его до двух, и Висконти, хотя и пришел в бешенство, все же согласился искалечить свое детище. В таком виде в январе 1973 года «Людвиг» и вышел в прокат.
От первого, подлинного «Людвига» остались подробные документы: в апреле 1973 года был опубликован сценарий Энрико Медиоли (с указанием купюр), а также дневник съемок в Австрии и Германии, который вел Джорджо Феррара.
Сохранился и режиссерский сценарий, подробно доработанный по ходу съемочного процесса Ренатой Франчески — от первых дублен под Зальцбургом 31 января 1971 года до съемок эпизода игры в жмурки 29 июня в студии «Чинечитта».
В первой, урезанной версии все-таки сохранился первоначально задуманный пролог. Оливье Ассайяс в 1983 году рассказывает о своем давнем воспоминании от первого просмотра «Людвига», который тогда еще носил название «Сумерки богов»:
В этой укороченной версии я хорошо помню только одну вещь — повествование начиналось с ареста Людвига в Нойшванштайне. Это было сделано, чтобы упрочить прием «множественности рассказчиков», который, впрочем, был вполне оправдан сам по себе. Кое-каких эпизодов не хватало, большинство других было искалечено, они длились меньше, чем должны были. Первой задачей Руджеро Мастроянни и Сузо Чекки д’Амико было восстановить хронологический порядок, задуманный самим Висконти, и вернуть всем эпизодам рассчитанный им темп. Оригинальность его подхода держалась на отрицании классической драматургии — он любил выстраивать широкие полотна гипнотической силы, которые связывал между собой только портретный план, выбивавшийся из внутренней структуры. Никакого правдивого рассказа, никакой истории, ничего похожего на те нарративные эрзацы, сложенные из фактов, которые, как правило, и называются биографическими фильмами. Висконти по пятам, шаг за шагом, ходит за своим героем и из каждой сцены он терпеливо извлекает частичку своей правды.
«Возвращенное» в 1983 году к линейной хронологии начало фильма как будто обретает временной размах, висконтиевский ритм, который Сузо Чекки д’Амико называла «медленным вальсом». Но что тогда делать с изначальным авторским монтажом? С тем вариантом, в котором сразу после эпизода исповеди следует сцена коронации 12 марта 1864 года, а затем и арест Людвига II 10 июня 1886 года в замке Нойшванштайн? В предисловии к сценарию Энрико Медиоли пишет: «По Висконти, в судьбе Людвига (как и каждого человека) нет ни лазеек, ни надежд, и он всячески старается это показать, когда после славного утра коронации одним махом переносит нас в ночной Нойшванштайн, где для короля, как в свое время для Ричарда II в замке Понтефракт, начинается последний акт драмы. У зрителя не должно оставаться никаких иллюзий. С самого начала должно быть совершенно ясно, к чему все это приведет; и только так, именно в этой строгой перспективе, мы должны рассматривать этого героя и наблюдать, как он поддается чувству доверия, дружбе и любви». Дальше Медиоли говорит совсем ясно: «Висконти не делает никаких намеков, он прямо показывает нам, какая судьба ждет персонажей, которые переживут Людвига, чья жизнь выйдет за рамки той истории, которую он рассказывает. Так он покажет Елизавету — убитую, лежащую под вуалью, как на женевской фотографии. Это один-единственный план, который сразу же перебивается веселыми мелодиями Оффенбаха».
Даже если сцена коронации была снята между 20 и 30 мая, а сцена ареста Людвига II в Нойшванштайне — 10 марта, режиссерский дневник Ренаты Франчески точно фиксирует именно ту последовательность в монтаже, о которой говорит Медиоли. Что касается плана с Елизаветой на смертном одре, то он действительно был снят 24 июня и вмонтирован в фильм сразу после спора между Людвигом и его кузиной на Острове роз о безумных тратах на Вагнера.
Теперь напомним, что нужно знать об обстоятельствах, в которых была сделана нынешняя версия фильма. Началось все почти случайно — в тот прекрасный день 1980 года, когда Марио Гарбулья прочел в газете, что фильм «Людвиг» выставлен на открытые торги. Его семья (Уберта, Франко Маннино) и близкие друзья и соратники (Сузо Чекки д’Амико, Марио Гарбулья, Энрико Медиоли, Пьеро Този, Марио Кьяри, Умберто Тирелли, Армандо Наннуцци) немедленно договариваются выкупить фильм и перемонтировать его так, чтобы восстановить все вырезанные эпизоды, которые еще можно было восстановить. Они учреждают общество «Охонте фильм», приобретают «Людвига» и заново монтируют его, внося обратно все, что было вырезано. В конце концов получится четырехчасовая отреставрированная версия, однако композиция фильма изменена — реставраторы отказались от первоначального монтажа, в котором сильнее звучит тема предопределения; также был изъят из фильма план с мертвой Елизаветой — предположительно, это решение приняла Сузо Чекки д’Амико, стремившаяся сохранить в «Людвиге» неукоснительный историзм, не добавляя ничего лишнего к и без того сложному материалу («Нам всего хватало, кроме одного: воображения!» — сказано в сопроводительной брошюре к итальянскому изданию «Людвига» на DVD). По мнению Сузо Чекки д’Амико, сам Висконти остановился бы на линейной композиции и, безусловно, убрал бы план Елизаветы Австрийской на смертном одре, ведь еще в монтажный период многие высказывались за линейное течение сюжета, которое приглушало масштабную трагедию, намеченную Энрико Медиоли.
Так появляется новая версия фильма, называемая полной; но окончательная ли это версия, и такой ли хотел бы видеть картину сам Висконти? Энрико Медиоли не преминул уточнить, что по ТВ показывают и еще одну версию, в которой постарались восстановить все — просто потому, что это позволяет эфирное время; в эту версию попали и те эпизоды, которые сам Висконти наверняка бы вырезал — скажем, чрезмерно затянутые сцены при дворе или просто куски, которые его не удовлетворяли: например, ночная прогулка под снегом, заканчивавшаяся поцелуем Людвига и Елизаветы. В силу разных обстоятельств Хельмут Бергер сыграл эту сцену неважно — ему не шел головной убор, и в целом он плохо держался; и наоборот, в этой версии странным образом отсутствуют эпизоды, действительно снятые набело, как, например, эпилог фильма, когда в кадре появляется редингот короля с дырой, вокруг которой «еще виден ореол прожженной ткани» — ведь тело короля не так уж долго пролежало в водах озера Берг.
Еще одно решающее свидетельство принадлежит Ренате Франчески, не только записывавшей все в дневник, но и присутствовавшей на съемках и на первом монтаже.
По правде говоря, я не думаю, что версия, которую сделала Сузо Чекки д’Амико, то есть линейная история Людвига, была бы одобрена Висконти. Я очень хорошо помню, как важно ему было показать персонаж, начиная с его падения. Полагаю, любой знаток Висконти прекрасно понимает, что он рассказывает историю, не прибегая к упрощениям. Однако Сузо посчитала правильным сделать историю (и без того сложную) более доступной для публики. Больше всего мне было не по душе, что в той законченной, дублированной версии, которую меня — в качестве единственной зрительницы — пригласили посмотреть и где уже ничего толком нельзя было изменить, оказалась вырезанной финальная сцена, короткий диалог лакеев, показывавших на дыру в пальто Людвига и спрашивавших друг у друга, что же произошло на самом деле. Эта сцена всегда считалась ненужной и лишенной красоты. Но я знаю, что Висконти она нравилась, он называл ее шекспировской. Я бы сказала, что эта сцена была частью его любимого мира, в том числе мира прислуги, который он столько раз показывал на сцене и в кино. Что ж, возможно, я ошибаюсь, но должна напомнить, что на «Людвиге» я работала рядом с Висконти каждый день на протяжении года и трех месяцев. Я получала от него бессчетное количество полезных сведений, он держал меня в курсе своих желаний, своих проблем, да и разочарований тоже — виной тому частенько оказывались его сотрудники. У нас было молчаливое соглашение, что подобные «исповеди» останутся между нами, и мы его соблюдали.
По счастью, у меня были (и есть сейчас) монтажные листы, то есть тетради, где я записывала все снятые кадры, сокращения, случайные комментарии и мотивы, по которым был сделан тот или иной выбор. Коротко говоря, меня позвали восстановить «Людвига» в оригинальной версии, потому что я была единственным человеком, точно знавшим, как первоначальную полную версию смонтировал сам Висконти. Неделю я просидела за монтажным столом наедине с фильмом (уже изрезанным, что в те годы очень меня опечалило) и со своими тетрадками и восстановила фильм на бумаге. Потом я пришла в Technicolor и восстановила в авторском порядке те сцены, которые были вырезаны полностью или частично, после чего монтажер, специалист по диалогам, музыкант, короче говоря, все, имевшие к этому отношение, закончили фильм уже по своему усмотрению. Сузо Чекки д’Лмико на показе восстановленной версии, в своем интервью газете Reppublica, признала, что без моей помощи ничего бы восстановить не удалось…
Почему для некоторых людей, наблюдавших вынашивание замысла, но не видевших его воплощения, и для стольких зрителей этот фильм и сегодня остается самым лучшим — несмотря на то, что он, наверное, самый искромсанный, самый неровный и сильнее всего искалеченный? Пьеро Този: «„Людвиг“ — фильм Висконти, который я больше всего люблю, наряду с ранними картинами — „Одержимость“ и „Земля дрожит“. Я одинаково люблю и его достоинства, и его недостатки. В этом фильме есть боль и тайна, и они облагораживают эту историю. Сейчас все кругом куда-то бегут; в фильмах действие разворачивается с бешеной скоростью; а такая манера повествования, как в „Людвиге“, кажется мне загадочной». Быть может, за неимением полных архивов и за невозможностью привести к согласию противоречивые свидетельства, вся эта неспособность сделать настоящую версию «Людвига» и заставляет отнестись к фильму как к решительно необыкновенному, так и не понятому и живущему своей жизнью…
Лучше всех выразить смысл экстраординарного и такого современного масштаба этой незавершенности удалось Оливье Ассайясу: «В поразительной системе отношений, неразрывно связывающей „Людвига“ с судьбой его создателя, — замечает он, — самое захватывающее — это сопоставление конца фильма с завершением съемок. Две мечты, обе несбыточные, достигая апогея, разбиваются о реальность. Невыносимый эпизод, когда Людвига, якобы психически больного, его же буржуазное правительство сажает под замок, внушает леденящий ужас. Он соразмерен вызову, который этот властитель бросил своему времени. Ответом на это стали болезнь Висконти и расчленение фильма: они по-своему подтверждают непререкаемую верность кинематографиста своему замыслу. Они ратифицируют достигнутое им. „Людвиг“ Висконти преодолел границы кинематографа своей эпохи. „Людвиг“ — фильм восстановленный, и потому на нем осела особая патина, здесь есть нечто такое, что живет исключительно внутри этой картины. „Людвиг“ — это фильм, вырванный у небытия. Часть его красоты, бесспорно, заключается в случайности некоторых стыков, в произвольности расположения каких-то эпизодов; в присутствии там сцен автономных, отдельных, почти вставных. Есть особая прелесть и в кадре, сделанном с утраченного негатива, и когда посреди эпизода случайно виден контратип — зернистый, смутный, призрачный».
Главное, что, начиная с «Людвига», черты образа Висконти меняются, модифицируются; траектория сурового, всевластного кондотьера отклоняется, превращаясь в историю судьбы, которую нависавшие над ней глубокие тени делают более выпуклой и значительно ее очеловечивают.
О СУДЬБЕ, ПРОЯВЛЕННОЙ В ТВОРЧЕСТВЕ, И О «ЛЮДВИГЕ»
Зная о том, как Висконти восхищался творчеством Пруста, соблазнительно применить метод последнего из трактата «Против Сент-Бева» к биографии режиссера и различать между мнимым «я» художника и его же «я» глубинным, этим «другим „я“, чем то, которое мы выражаем в наших привычках, в общественной жизни, в пороках», «производным» и проявлением которого становится книга. Конечно, Висконти был не писателем, а работником зрелищного цеха; к тому же он был человеком, который всегда очень заботился о том, чтобы внешняя сторона его жизни соответствовала его принципам и устремлениям. С другой стороны, если зазор между жизнью и творчеством кинематографиста, театрального режиссера зачастую неощутим, то в случае Висконти он неощутим вдвойне.
Можно даже сказать, что по мере того, как проходит все больше времени, его связи с жизнью и его страсти без остатка сливаются с творчеством. Вокруг него складывается семья избранных, и каждый спектакль возобновляет или завершает предшествующие отношения с теми же сотрудниками, с теми же актерами; произведение рождается на свет в результате этих связей. И здесь не напрямую, зато весьма ясно угадывается сюжетная линия фильма «Насилие и страсть», шедшего в итальянском прокате под названием «Семейный портрет в интерьере». Это история приемной семьи, которая возникла стихийно, в которой есть чувство социального неравенства — так же, волей случая и ненадолго, возникает семья в театре или кинематографе. Завязывающиеся подобным образом эмоциональные и умышленно накаляемые отношения еще раз выявляют излюбленную висконтиевскую тему — тему семьи, где, «без сомнения, остаются общие табу, предельные социальные и моральные запреты, крайности невозможной любви. Семья выступает как род фатума, судьбы, которой невозможно избежать».
Еще интимнее: все более синкретичные связи и отношения абсолютного господства, какие Висконти выстраивает с собственным творчеством, развивающимся одновременно и тайно, и совершенно явно, ясно сформулированы в его декларациях о намерениях, датированных сороковыми годами. Оливье Ассайяс даже называет его «властелином», чтобы подчеркнуть, что в случае с Висконти мы имеем дело с исключением из всяческих правил. У него нет обязанностей, и никто не способен повлиять на его высочайший выбор извне. Его творчество и сам он в фундаментальном смысле не зависят ни от партии, ни от публики, ни от продюсеров, ни от морали — все исходит лишь от него самого. Он сам — единовластный монарх в своем творчестве. И форма, в которую он его облекает, больше, чем у любого другого режиссера, кристаллизует его глубинную суть, даже если — как в кино, так и в театре — он проявляет ее, обращаясь к произведениям, которые были написаны до него. Или, как в последнем своем фильме, он в первый и последний раз за все время появляется на экране только как увлеченный читатель романов — ведь это его руки переворачивают страницы первого издания «Невинного» д’Аннунцио.
В какую форму Висконти хотел облечь свою жизнь? На этот вопрос отвечает его творчество. Во-первых, в форму политическую (каждая постановка — это его участие в общественной жизни, это его дидактическая связь с публикой и его позиция по отношению к своему времени — почти всегда полемическая). Во-вторых, в форму литературную, «большую форму» (ведь каждая его постановка черпает из тщательно отобранного культурного наследия, которое, по его мнению, только одно и может воспитать вкус, вдохнуть жизнь в истину человеческую, всеобщую, пламенную, фатальную) — здесь Висконти подпитывается не только Прустом или Манном, Достоевским, Стендалем или Чеховым, но всем этим богатством в целом, вкупе со знанием других искусств и «уровня наивысочайшего» (Верга и Пруст — для «Леопарда»). В-третьих, он облекает свою жизнь в искусстве в форму народную — мелодраматическую и романтическую; каждая его постановка призвана как всколыхнуть, так и просветить самую широкую публику. Выбор экранизируемых произведений — Шекспир, Верга, Томас Манн, Достоевский — ясно показывает масштабы его задач.
Висконти вступает в спор о проблемах реализма и культуры, он должен «сказать свое слово в этих дебатах» — он сам говорил об этом, когда снимал «Леопарда». И он всегда подчеркивал, что выбирает роман, предпочитая его слишком сиюминутному высказыванию по актуальному поводу. Кино с самого начала своего существования — это одно из средств расшевелить публику, заставить ее реагировать, но для Висконти это не просто способ проявить свои поэтические способности. Для него это возможность идти в ногу или даже опережать эволюцию итальянской культуры, возможность дать импульс для ее развития. И он делает это, не только возвращаясь к национальным формам культуры, к наследию — как учит Грамши — и особенно к наследию оперному, но и вмешиваясь в это наследие конкретно и точно; все драматические повороты в его работах всегда подобны грозным окрикам, новым требованиям, он словно бы добавляет новые стежки на полотне культуры — для того, чтобы культура не впала в спячку, не потеряла способность помнить, не стала бы слишком буржуазной или слишком услужливой. Следовало порвать с неореализмом, как только он начал деградировать и в конце концов превратился в неореализм розовый или в то, что назовут «комедией по-итальянски»; и вот после лебединой песни неореализма — картины «Самая красивая» — Висконти сразу же снимает «Чувство»: заново открывая форму большого исторического полотна. В эти нищие времена он ставит в театре самые роскошные зрелища, какие только можно себе представить — «Как вам это понравится» и «Ореста» Альфьери. На всеобщую эйфорию от экономического чуда он отвечает новым исследованием живой реальности в кино («Рокко и его братья») и в театре («Вид с моста»). Тогда же, открыв итальянские сцены французскому и американскому репертуару, уже готовый после «Чувства» и «Леопарда» занять нишу лучшего выразителя национального самосознания, он бесстрашно поворачивается к Германии — он делает это не ради того, чтобы отыскать собственные истоки, но с тем, чтобы докопаться до корней европейского фашизма. В кино этой же линии следуют «Туманные звезды Большой Медведицы» (1964); в театре — «После падения» по Миллеру (1965). В ответ на ставшие модными после 1968 года «истеризмы» Living Theatre[86] и Кена Рассела[87] Висконти в своих постановках стремится к большей правдивости и почти классической строгости (такими были театральные постановки Чехова, такой была экранизация «Смерти в Венеции» Томаса Манна, и столь же строг и достоверен трагический, медленный ритм «Людвига»).
Один из глубинных мотивов всего его творчества, тянущийся от «Леопарда» к «Людвигу», через Томаса Манна и Густава Малера, связывающий Ницше и «Смерть в Венеции», — мотив сна и пробуждения; как и у Годара, у Висконти был особый дар пробуждать и держать в напряжении — дар, которым должен обладать всякий творец.
Энрико Медиоли подчеркивает: невозможно было повлиять на его желания; что он хотел, то и делал; если он что-то выбирал, его было не отговорить, а все, что оставалось лишнего, он отбрасывал. Он отбросил Пруста, захотев снимать «Людвига», даже зная, что это многим придется не по вкусу и что этим фильмом он сам увеличит дистанцию между ним и его друзьями, которые ранее приходились ему политическими союзниками: марксистскому критику Гвидо Аристарко, не принимавшему декадентства, никогда не одобрявшему ни грозных окриков, ни громких проклятий, он посылает еще не законченный сценарий «Гибели богов» и интересуется его мнением. Но как только Висконти получает от Аристарко ответ, он сразу же о нем забывает, хоть и рассыпается в заверениях в вечной дружбе. Висконти пишет ему: «Я могу огорчаться, что больше не получу твоего одобрения, но я не попаду в положение Вагнера, когда Ницше принялся всячески его поносить! Я охотно приехал бы в Турин встретиться с твоими студентами, но я уже двадцать дней готовлюсь к началу съемок моего следующего фильма, „Людвига“, который (на сей раз совершенно точно) тебе не понравится». И дело тут, конечно же, не в бодлеровском «аристократическом удовольствии позволять себе не нравиться», не в позе денди, а в непререкаемой верности своему творчеству, которое пытались определять по-разному: декадентское, эстетское и тому подобное; Медиоли настаивает, что все эти определения «были ему совершенно безразличны».
Могут сказать: вот так повадки — сначала он настойчиво просит совета, а потом им пренебрегает. «Да, именно так всегда и происходило», — подтверждает Энрико Медиоли. Висконти не доверяет ни интеллектуальным построениям, ни системам, ни идеологиям, хотя на первый взгляд может показаться, что он следует им. Не доверяет он и критикам, какими бы неоспоримыми авторитетами они ни выглядели. Историк кино Лино Миччике рассказывал мне, что был весьма озадачен и испытал чувство легкой обиды, когда за несколько дней до важного интервью о съемках «Смерти в Венеции», о котором договорился с режиссером, он получил от Висконти… полное собрание сочинений Томаса Манна! А как же Грамши? Висконти упоминает, что чтение Грамши, который свел в целостную систему все его размышления о проблемах итальянского юга, было своего рода озарением — но озарение это произошло уже главным образом после того, как был снят «Рокко»; прочесть тексты Грамши о юге до съемок фильма было невозможно — в то время их еще не опубликовали. Тем самым Висконти подчеркивает внутреннюю логику собственного творчества — ему даже aposteriori важно указать на связь с идеями Грамши, чтобы подтвердить: оба они шли сходными путями и мыслили одинаково.
Борьба. Победа. Непреклонность. Воля. Самая суть. Образ Висконти как кондотьера по-прежнему жив и мог бы возобладать над всеми остальными, если бы в один прекрасный день о своих правах не заявило самое точное зеркало, отражающее истинную глубину его личности — творчество. Но этот момент для Висконти, который годами не унимался, утверждая свое абсолютное господство над полным противоречий и конфликтов материалом, к которому он неустанно возвращается, смело его атакуя, наступает слишком поздно. Несомненно, сильнее всего он желал единения — как в интеллектуальном смысле, так и в смысле формы, и это его стремление прослеживается на всех уровнях — эмоциональном, политическом, эстетическом, — и во всех картинах, от «Одержимости» до «Невинного». Это устремление он и сам сознавал очень глубоко и ясно, и эту цель он точно сформулировал еще в «Леопарде», ставившем главную проблему Италии — проблему национального объединения. Отвечая Антонелло Тромбадори, забеспокоившемуся, как бы в таком повествовании исторический материал и идейная основа не перевесили психологических и экзистенциальных мотивов, Висконти напоминает о том, что решающее значение имеет состыковка разных уровней нарратива. Висконти пишет: «Не думаю, что эти вещи можно разделять. […] Проблема точного соединения всех слоев внутри произведения — основа основ реализма, и я никогда о ней не забываю. Меня много раз упрекали, что я решаю ее своевольно и ради откровенно дидактических целей — в подобной критике, быть может, есть доля истины. Но из-за этого я не намерен сворачивать с пути. В „Леопарде“ я надеюсь добиться успеха. Историко-политические мотивы в этой картине не преобладают над всеми прочими: они словно кровь, текущая в жилах моих персонажей. У кого-то из них эти мотивы обнажены и проявляются открыто, у других — словно бы застывают (и остаются до конца непроясненными), в других случаях они даже слишком быстро возникают и исчезают».
Одержимый этой органической связью внутри каждого произведения, Висконти был также одержим и связностью внутри всего своего творчества. Он выражает эту преемственность, эту связь с прошлым в форме; во многих интервью, в том числе на съемках «Туманных звезд…» и «Смерти в Венеции» он упоминает о «разговоре, который я начал более двадцати лет назад», а также о «повести, состоящей из многих глав, которую я словно бы пишу все эти долгие годы». Отказавшись от двух заключительных фильмов трилогии «Земля дрожит», он вновь подчеркивает цельность своего творчества, когда решает, что «Рокко» — еще один рассказ о страданиях юга, тематически примыкающий к картине «Земля дрожит» — будет фильмом черно-белым (и завершает рассказ о бедствиях южан их переездом в Милан). Он снимает в цвете «Чувство» и «Леопард», оба этих фильма рассказывают о Рисорджименто. Другие загадочные или роковые переклички внутри его работ связаны с актерами (Берт Ланкастер, Ален Делон, Клаудиа Кардинале, Сильвана Мангано, Рина Морелли, Паоло Стоппа), с местами съемок, даже с именами персонажей: Ашенбах — это и офицер-эсэсовец в «Гибели богов», и композитор в «Смерти в Венеции», Малером зовут героя «Чувства», а также и композитора, чья музыка звучит в «Смерти в Венеции». Он называет героя «Чувства» Францем Малером, во-первых, для того, чтобы сквозь персонаж смутно проглядывал горизонт Богемии с ее немецкими меньшинствами (вероятней всего, этот персонаж еврейского происхождения), а во-вторых — чтобы его имя ассоциировалось с именем Антона Брукнера, отрывки из Седьмой симфонии которого использованы в фильме. Странное сближение, замечает Висконти, если вспомнить, что Густав Малер был учеником Брукнера. Странное или преднамеренное? Висконти пишет: «Берясь за новое произведение, мы не отделены или не изолированы от нашего прошлого. Вероятно, каждое произведение наследует нечто от всех тех, которые уже завершены и отчасти предвещали будущие творения».
Симфонизм Висконти особенно ярко проявляется в цикле «германских» картин, в той трилогии, что отсылает уже не столько к Прусту, сколько к Томасу Манну, — ее завершением первоначально должен был стать фильм по «Волшебной горе». Возможно, категоричный отказ от экранизации Пруста — не просто эпизод, а выражение какой-то внутренней потребности. И если предположить, что такая потребность есть, то, вероятно, это потребность в цельности творчества и в желании покорить неосвоенные территории, закончить начатый цикл. «Почему вы так хотели снимать „Людвига“, — спрашивает в 1973 году Констанцо Константини, — ведь у вас осталось столько нереализованных проектов, неужели и это не вызывало никаких особых сожалений?» Висконти отвечает: «Я хотел этого по многим причинам. Потому что вместе с „Гибелью богов“ и „Смертью в Венеции“ он составлял нечто вроде трилогии о современной Германии: речь здесь идет о радикальной трансформации общества, которое гибнет, уступая место новому обществу, происходит распад большой семьи». Заметим в скобках, сколь редки художники, коим под силу выступить биографами Италии или Германии и чье творчество принимает формы обширной романной конструкции, которая одна только и может отразить историю современной Европы.
С точки зрения Пазолини, одна лишь смерть, как последний штрих, выявляет в любом человеческом существе его подлинную суть. До этого никто не вправе точно определять, кто мы. Пазолини пишет: «Таким, какие мы есть в живой жизни, нам недостает смысла, и язык нашей жизни (которым мы выражаем себя и которому придаем самое важное значение) невыразим: это хаос возможностей, никогда не прерывающийся поиск связей и значений. Смерть полностью завершает монтаж нашей жизни: она выбирает из нее самые значительные моменты (которые теперь уже не находятся в зависимости от других моментов, антагонистичных или противоречивых) и накрепко состыковывает их, превращая наше настоящее, бесконечное, нестабильное и неопределенное, да к тому же и лингвистически неописуемое, в ясное, стабильное, твердое и хорошо поддающееся описанию словами прошлое». В чем способна обрести форму и смысл такая «работа», работа времени, как не в зеркале искусства, искусства, которое старается заменить собой хаос и стать, в соответствии с формулой Мальро, «антисудьбой», то есть выражением борьбы со временем?
Это волюнтаристская формула, наглядно показывающая, что бывает и такое — внезапное и весьма романтическое — вторжение произведения в творческий путь художника.
Произведение словно само выбирает его, нежели он повелевает им. «Людвиг» — именно из таких творений… До «Леопарда», казалось, ничто не в силах было омрачить или исказить аполлоническую динамику мировозррения Висконти — его сформировала мысль Просвещения и галльский дух. Быть может, настоящей вехой нового разрыва в жизни и творчестве Висконти следует считать последнюю сцену «Леопарда», когда князь шепотом молит о последнем свидании со своей звездой «вдали от всего, в ее обители вечного покоя».
И вот, по-видимому, теперь уже не столько Висконти контролирует свое творчество, сколько его творчество ведет его… Это царствование автора над своим творчеством и самой своей жизнью,[88] которое Висконти осуществляет и рационально, и при помощи силы, ослабевает, разрушается, тем самым обновляясь. Говоря о «Смерти в Венеции», он вспоминает, как созревали его замыслы: «Годами эти планы живут абсолютно одиноко, требуя, чтобы их реализовали. Я всегда говорил, что это не я выбрал „Смерть в Венеции“, напротив — это „Смерть в Венеции“ выбрала меня. Разве я не говорил, что художник — охотник, рыщущий во тьме? Вот, если угодно, кто я такой, и таковы же и Манн, и Малер…»
«Людвиг» придает его жизни и работе новую тональность, которая полифонически связывает первое и второе: произведение, родившееся под знаком Скорпиона, словно бы пожирает того, кто произвел его на свет. Вот слова Энрико Медиоли: «Есть фильмы, которые убивают. Таков и был „Людвиг“: шесть месяцев на австрийском морозе, невероятно изнурительные шесть месяцев…» И одна трагедия влечет за собой другую: за очевидной историей изуродованного фильма проступает история искалеченного и растерзанного человеческого тела. Сердце режиссера уже бьется неровно, и сбивается ритм, темп картины — то самое сердцебиение, которое верные друзья позже постараются возродить… Отныне в его цельном мире недостает чего-то такого, что Висконти еще надеется возместить. Приближение смерти заставляет его глубже осознать свой творческий долг и необходимость его исполнить. Он пишет: «Я решился переехать на виллу в Кастель Гандольфо. Там я смогу быстро прийти в себя и больше работать. Я должен осуществить все свои планы. Отказаться от чего-то я не могу, я должен выполнить все». В 1973 году, в период выздоровления, он хочет пересмотреть все свои картины — кроме искалеченного, непризнанного «Людвига» и «Постороннего». Эти два произведения, в которых он не узнает самого себя, словно бы ускользнули от него.
После сказанного выше нет особенного смысла говорить о незавершенном сценарии «Поисков утраченного времени» как о «развалившемся кафедральном соборе». Проблема искусства приобретает иную окраску, несводимую к знаменитой формуле из «Обретенного времени», которая цитируется в сценарии по тексту Пруста: «Искусство — это всего лишь продолжение жизни». Эта фраза позволяет сблизить Висконти с Прустом — оба этих художника взволнованы темой памяти, оба они пишут автобиографии души, оба они вечно находятся в поиске эмоций и впечатлений. Висконти говорил: «Я думаю, что могу визуально проникнуть в этот глубокий прустовский лабиринт, чтобы выразить для вас чувство, точку зрения, позу, печаль, минуту ревности». Вот оно, обещание — и весьма скромное — потенциального экранизатора Пруста. В то же самое время автор «Людвига» доходит до самых корней истории, в его поисках звучат сила, готовность действовать, здесь он обнажает саму суть жизни и трагически раскрывает тему судьбы; а прустианский фильм он уже снял, и это — «Смерть в Венеции». Его прустианская экранизация могла бы стать фреской, широкой картиной общества, фильмом о страстях и гомосексуализме, вполне в модном духе эпохи, но уж никак не великой политической трагедией, которой как раз станет «Людвиг».
Итак, это не «развалившийся собор», но Саграда Фамилия, собор незавершенный. Караваджийский полумрак семи последних лет жизни Висконти превращает его жизнь и творческую биографию не столько в триумфальный поход, сколько в историю человеческой жизни, многие тайны которой остаются еще неразгаданными. Эти зоны тени и «зияния» (здесь мы можем использовать термин, предложенный Доминик Паини для описания специфики «Людвига») словно бы дополняют и углубляют архитектуру его творчества. Так во времени навсегда запечатлевается эта особенная художественная форма — одновременно и памятно-личная и историческая, индивидуальная и коллективная — итальянская и европейская, «в духе Шатобриана», с тайными обертонами. Позднему висконтиевскому кино свойственна прерывность, которая есть признак модерна — это живая и романтическая ткань кино, связанная с фрагментарностью и с несовершенством, за гранью мгновенных вспышек опыта и бытия, по ту сторону прочтения, за гранью даже «распадающегося кристалла», как говорил Делез о создателе «Гибели богов».
Поразительно, как вскользь Висконти упоминает о «Людвиге», называя его «маленьким фильмом, который надо снять перед тем, как взяться за Пруста»; поразительно наблюдать, как фильм развивается, пожирает его, убегает от него, предает его. С этой точки зрения, судьба «Людвига» перекликается, во многом обгоняя его, с признанием Томаса Манна о неожиданном развитии «Волшебной горы», которая поначалу представлялась ему «в невинном, простом, практическом свете: если вы сразу ясно видите все возможности и все трудности произведения, если вы сознаете его собственную волю, которая зачастую расходится с волей самого автора, то у вас опустятся руки и совершенно недостанет храбрости сесть за работу. Бывают случаи, когда у произведения появляется собственное устремление, опережающее устремления автора, и с этим ничего не поделаешь. На самом деле, устремление не должно исходить от автора, оно не должно предшествовать произведению, нужно, чтобы оно рождалось из себя и развивалось по собственным правилам. Только так, думаю, рождаются шедевры, а не из желания apriori создать великое произведение».
О ТЕНИ
И ЕЕ ОБЕЩАНИЯХ
Висконти спрашивал у Бертолуччи в пору его безумного увлечения Годаром: «Скоро ты наконец покончишь с этой эквилибристикой, с этими химерами, и расскажешь историю про настоящих людей?» Признавая, что фильмы Бертолуччи и Годара «любопытны», Висконти не собирался изобретать новый киноязык. Его цели иные — прежде всего исследовать мир, общество, сферу страстей и экзистенциальных ситуаций, сотворить персонажей из плоти и крови — так, как это делает романист. Роша отмечает отсутствие у него «персонажей совершенно выдуманных (в его фильмах нет ни одного картонного, строго положительного героя); нет у Висконти и заранее заданной ситуации (в духе клишированной мелодрамы). Он снял три любовные истории: 1. „Белые ночи“; 2. „Посторонний“; 3. „Смерть в Венеции“. Достоевский, Альбер Камю, Томас Манн — три самых великих европейских романиста. В этих фильмах любовь не подчиняется законам классовой борьбы. Речь здесь идет о желании, удовлетворении и отказе. Инстинктивная любовь Висконти к мифам, необъяснимые рационально поступки его персонажей, ведущие к преступлению, вырождение и смерть тела, не воскресающего в обладании другим, юным и прекрасным молодым телом, — вот они, темы висконтиевского „я“». Бразильский режиссер добавляет о «Рокко», что «маскируясь под традиционный киноязык, Висконти разрушает строгую временную последовательность старого кино, строя произведение по сложноразветвленной модели романа…»
Эта висконтиевская модель не исчерпывается одним только романом-эпопеей, но подпитывается и Достоевским, и Манном, и Библией, и всегда поверяется реальной жизнью. В одном своем письме Антонелло Тромбадори проучил педантичных критиков, словно бы в насмешку перечислив все возможные литературные аллюзии, содержащиеся в повествовании «Туманных звезд Большой Медведицы». Во-первых, название картины взято из стихотворения Леопарди. «Дальше можно указать в качестве аллюзий все что угодно: от Леопарди — тяга к античности, от Сапфо — томление духа, от Софокла — чувство ожидания и страдания, от Эсхила — тотема мести; психоаналитические поиски — от О’Нила, а героиня фильма родственна по духу персонажу Ингрид Тулин из бергмановского „Молчания“; есть тут и Байрон, и Ницше, и д’Аннунцио, и даже приемы в духе Фолкнера, соединяющие античную трагедию с саспенсом современного детектива. Вот так урожай для Аристарко; так и просидит он годами, уставившись в „Туманные звезды“!» ехидно заключает Тромбадори. Можно справедливо указать на сложность сюжетной ткани этой картины, на многочисленные аллюзии, вмонтированные в этот фильм, снятый по мотивам истории Электры, но со всеми своими темными лабиринтами и пиранделловскими сменами перспектив, ценностей, смысла, и своими превращениями, расположенный под змеящимся, таинственным и в то же время ясным знаком Гермеса.[89]
Романтизирует ли Висконти современность? Не станем разыскивать этот романтизм в его черновиках или в зачеркнутых строках, не отыщется он и в бесстрастном стиле «нового романа» — даже не забывая о том ироническом эпизоде в короткометражном фильме «Работа», когда среди книг, разбросанных на диване юной княгини, мы мельком видим и томик «Ластиков» Роб-Грийе. Всмотримся лучше в пышно-величественную недосказанность, окутывающую туманом персонажей и историю. Семейный дворец — отчий дом, разрушенный, опустошенный, преданный запустению. Безумная мать. История этрусков и история Освенцима. Бесцеремонный оптический наезд, при помощи которого взгляд проникает в роковую спальню матери, внезапно приближающий и так же быстро отдаляющий желанные предметы. Кровосмесительная пара «брат и сестра» у алебастровой статуи Амура и Психеи, ослепительная белизна целомудренного стиля Кановы, отбрасывающая на стену тень в виде чудовищной химеры.
Картины сокровенные и неотступные. Картины родные. Ради последнего стоп-кадра, венчающего фильм «Невинный», застывающего на образе осеннего сада, залитого туманом, в конце ночи, в конце лета. Так начинается последний акт оперы, написанной в 1893 году Пуччини — тот, в котором умрет Манон Леско: «Последний час ночи; уже яснеют небеса…» В 1973 году в Сполето Лила де Нобили нарисовала фантастическую декорацию: набережные и корабль, растворяющийся в тумане. Д’Аннунцио написал «Невинного» в 1897 году — в ту же эпоху и на четыре года позднее, чем Пуччини свою оперу. В конце фильма Висконти придумывает для Туллио театральный конец жизни. Граф говорит любовнице: «Сейчас ты увидишь, как я умру», и пускает себе пулю в лоб. Тереза Раффо убегает, и камера следит, как она бежит прочь, в черном вечернем платье, ожерелье из гагата и длинных белых перчатках: и это снова стиль либерти, а платье напоминающий о том черном платье, что за двадцать лет до этого было придумано для Марии Каллас в культовой опере Висконти, «Травиате» — той опере, под знаком которой он был рожден.
Занавес — тот самый занавес «Ла Скала», заставлявший маленького Висконти замирать от таинственного предчувствия, — снова опускается. Дальше — только мрак.
ФОТОГРАФИИ
Алида Валли и Фарли Грейнджер в фильме «Чувство»
Витторио Гассман играет на пианино, 1954
Висконти и Паоло Стоппа в 1956
Висконти и Каллас репетируют «Травиату»
Мария Шелл и Марчелло Мастроянни в «Белых ночах»
Клаудиа Кардинале в фильме «Туманные звезды Большой Медведицы»
Ален Делон на съемках «Леопарда»
Висконти, Делон и Кардинале
Кинопроба Софи Лорен на роль монахини из Монцы, 1961 год (этот фильм так и не был снят)
Марио Сольдати, Висконти и Каллас в 1956
Римляне идут на встречу с Пальмиро Тольятти (1948)
Тольятти на трибуне, 1948
Висконти в «Ковент Гардене» во время работы над «Кавалером роз» (1966)
Анна Маньяни в фильме «Самая красивая»
На съемках «Гибели богов»
Хельмут Бергер разговаривает с продавцом арбузов. Таормина, 1973
БЛАГОДАРНОСТИ
Автор искренне благодарен тем, кто выразил готовность встретиться и предоставить необходимые для книги материалы. Я выражаю глубокую признательность Уберте Висконти Маннино и Николетте Маннино; Сузо Чекки д’Амико и Катерине д'Амико де Карвальо; Энрико Медиоли, а также Лючилле Альбано, Габриэле Анаклерио, Микеланджело Антониони, Оливье Ассайясу, Бернардо Бертолуччи, Фабрицио Клеричи, Констанцо Константини, Джорджо Де Винсенти, Ренате Франчески, Марио Гарбулье, Жану Марэ, Дориане Леондефф, Микеле Раго, Джузеппе Ротунно, Пьеро Този, Дуччо Тромбадори, и Режи Робберу из отдела документов Французской Синематеки.
Особую благодарность автор выражает Жану-Ноэлю Скифано, без которого эта книга никогда не увидела бы свет.
ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЛУКИНО ВИСКОНТИ
1906, 2 ноября: в Милане родился Лукино Висконти, четвертый ребенок герцога Джузеппе Висконти ди Модроне и Карлы Эрбы, наследницы одной из богатейших семей миланских промышленников.
1910–1915: годы детства, отличавшиеся очень строгим воспитанием. Музыкальное образование, первые визиты в театр «Ла Скала»; в совсем юном возрасте Лукино ставит в маленьком семейном театре первые собственные спектакли: пьесы Шекспира и оперы, которые он сочиняет сам и исполняет вместе с братьями и друзьями.
1915–1918: война вынуждает семью Висконти отказаться от части роскоши. Герцог Джузеппе, ушедший на войну добровольцем, подолгу отсутствует в доме.
1919–1922: возникновение и подъем фашистской партии в Милане. В 1922 году состоится фашистский «Марш на Рим» — в этом же году Лукино открывает для себя творчество Марселя Пруста. Вместе с матерью он посещает последние представления Элеоноры Дузе.
1924: убийство депутата-социалиста Маттеотти. Разлад в семье Висконти. Окончательное расставание дона Джузеппе и донны Карлы. Лукино несколько раз сбегает из дома.
1926–1928: Висконти — ученик Кавалерийской школы в Пинероло, а вскоре и старший сержант Савойского полка.
1929: двухмесячное путешествие в Ливийскую пустыню. Покупка первых скаковых лошадей, для которых он приказывает построить образцовую конюшню близ Милана.
1930–1936: увлечение лошадиными бегами. Лукино разводит чистокровных лошадей; поездки во Францию, Германию, Англию. Неоконченные литературные опыты. Съемка первого любительского фильма на 35-мм пленке. В конце 1934-го знакомится с княжной Ирмой Виндиш-Грец, на которой он собирается жениться. Родители девушки отвечают на его сватовство отказом и следует разрыв.
1936: знакомство с немецким фотографом Хорстом. С помощью Коко Шанель Висконти становится ассистентом и костюмером Жана Ренуара на фильме «Загородная прогулка» и все лето проводит на съемках. Он все чаще приезжает в Париж.
1936–1939: участвует в трех спектаклях, профинансированных отцом. Поездки в Грецию (летом 1937) и Соединенные Штаты (зима 1937–1938). В январе 1939 года умирает донна Карла. Лукино уезжает из Милана и поселяется в Риме.
1939–1941: Жан Ренуар предлагает ему поработать на своем следующем фильме, «Тоска», но война прерывает съемки. Фильм с помощью Висконти заканчивает Карл Кох. Знакомится с актером Массимо Джиротти и молодыми интеллектуалами-антифашистами, группирующимися вокруг Экспериментального киноцентра и журнала «Чинема»: Джузеппе Де Сантисом, Дарио и Джанни Пуччини, Марио Аликатой, Пьетро Инграо, художником Ренато Гуттузо. Возникают замыслы множества фильмов, среди которых экранизации «Большого Мольна» Алена-Фурнье и «Семьи Малаволья» Верги.
В декабре 1941 года умирает отец Лукино, Джузеппе. Римский дом Висконти на виа Салариа по наследству переходит в его собственность.
1942: Съемки «Одержимости» с 15 июня по 10 ноября. 28 октября — смерть в Эль-Аламейне Гвидо, старшего брата, командующего дивизией Фольгоре. В декабре фашистская полиция арестовывает товарищей-коммунистов Лукино — Марио Аликату и братьев Пуччини.
1943–1944: 16 мая 1943 года — скандал с «Одержимостью»: фильм запрещен. Активизируется деятельность Сопротивления: Висконти поддерживает жертв фашизма и помогает бежавшим из плена англичанам и американцам. Он пытается присоединиться к союзным войскам; дом на виа Салариа служит укрытием для участников Сопротивления, которых ищет гестапо. 15 апреля 1944 года Лукино арестовывают и заключен в Пансион Джаккарино, затем его переводят в тюрьму Сан-Грегорио, из которой он выходит 3 июня, накануне вступления в Италию американских войск.
1945: 30 января — триумф постановки «Ужасных родителей» в постановке Висконти на сцене римского театра «Элизео».
23 марта: постановка «Пятой колонны» Хэмингуэя в переводе Сузо Чекки д’Амико с декорациями Ренато Гуттузо. Начало дружбы с видным деятелем компартии Антонелло Тромбадори.
4 июня: его вызывают свидетелем в суд над Пьетро Кохом, бывшим директором Пансиона Джаккарино; Висконти дает отягчающие показания. Он снимает часть суда, как и казнь Пьетро Коха и Пьетро Карузо, начальника полиции в годы немецкой оккупации. Эти документальные кадры позже войдут в фильм «Дни славы», профинансированный коммунистической партией — премьера картины состоялась в октябре этого же года. С октября по декабрь он с успехом ставит на сцене «Пишущую машинку» Жана Кокто (с Витторио Гассманом в главной роли), «Антигону» Жана Ануя, «За закрытой дверью» Жана-Поля Сартра, «Адама» Марселя Ашара, «Табачную дорогу» по роману Эрскина Колдуэлла. Спектакли сопровождаются громкими скандалами.
1946: 19 января — премьера спектакля «Свадьба Фигаро» с Витторио де Сикой. 12 мая в газете L'Unita, по случаю организованного референдума об отмене монархии, публично высказывается за республиканскую форму правления и коммунистическую партию.
В этом же году он знакомится с Франко Дзеффирелли, с которым завязывает отношения любовные и длительные, несмотря на многочисленные размолвки.
Сентябрь: основывает «Компания Итальяна ди Проза» с Риной Морелли и Паоло Стоппой. С успехом ставит: «Преступление и наказание» по Достоевскому (12 ноября), «Стеклянный зверинец» Теннеси Уильямса (13 декабря) и (уже в феврале 1947-го) «Эвридику» Жана Ануя.
1947–1948: вынужденный отказаться от многих проектов, над одним из которых — о суде над Марией Тарновской — работал Микеланджело Антониони, — он с помощью Франческо Рози и Дзеффирелли снимает фильм «Земля дрожит» — первую, «морскую» часть задуманной сицилийской трилогии. Снятый за период с ноября 1947 по май 1948 года в деревушке местечка Ачи-Трецца, фильм 1 сентября 1948 года показан в Венеции. Через два месяца он осуществляет на сцене первую постановку Шекспира — «Как вам это понравится» с невероятными декорациями Сальвадора Дали. В этом спектакле на сцене впервые появляется Марчелло Мастроянни.
1949–1951: Висконти присутствует на всех спектаклях Марии Каллас в Риме. Все ярче проявляются в его постановках и планах вкус к опере и грандиозному размаху декораций — от «Трамвая Желание» Теннесси Уильямса (январь 1949) до «Ореста» Альфьери (апрель) и особенно «Троила и Крессиды» Шекспира в июне в садах Боболи во Флоренции.
Июнь 1950 года: Висконти примыкает к Движению сторонников мира. В феврале и апреле 1951-го ставит «Смерть коммивояжера» Артура Миллера и вторую версию «Трамвая Желание»: вместо Гассмана в главной роли теперь Мастроянни, а сценографию делает Дзеффирелли. Съемки «Самой красивой» с Анной Маньяни. В августе — встреча с Томасом Манном, который дает разрешение переделать в хореографический спектакль его рассказ «Марио и волшебник». В октябре выступает против запрета гастролей Бертольта Брехта и театра «Берлинер Ансамбль» в Италии. Обращается к жанру кинематографического расследования в «Заметках из газетной хроники», короткометражном фильме об изнасиловании и убийстве маленькой девочки на окраине Рима.
1952–1955: постоянные нападки со стороны христианско-демократической цензуры вынуждают Висконти отказаться от множества планов, в том числе от постановки «Свадебного марша», написанного вместе с Сузо Чекки д’Амико. После «Трактирщицы» Гольдони в октябре 1952 года в Венеции, и первой постановки по Чехову — «Трех сестер» в декабре, он с головой окунается в работу над «Чувством». Съемки картины ведутся с весны до конца 1953 года. В сентябре 1954 года фильм показан на Венецианском кинофестивале, публика принимает его в штыки. Через месяц в Милане Висконти ставит спектакль «Как листья» Джузеппе Джьякозы. Он готовится дебютировать в «Ла Скала» — 7 декабря сезон открывает «Весталка» Спонтини с Марией Каллас, исполняющей главную партию, под управлением дирижера Антонио Вотто. 3 марта 1955 года, снова премьера с Каллас — «Сомнамбула» Винченцо Беллини, дирижер Леонард Бернстайн. 28 мая — главная «Травиата» века, над которой он работал в тесном сотрудничестве с Карло Марией Джулини и Марией Каллас. Спектакль приносит ему столько же славы, сколько и хулы.
В конце года возвращается в драматический театр, ставя «Салемских колдуний» Артура Миллера и «Дядю Ваню» Чехова в Риме.
1956–1957: в феврале 1956 года, Висконти наконец осуществляет проект, который вынашивал с лета 1951-го: хореографический спектакль по «Марио и волшебнику» на музыку своего зятя Франко Маннино.
29 октября — Висконти в числе 101 подписавших протест против подавления антикоммунистического восстания в Венгрии.
Той же осенью с Сузо Чекки д’Амико, Марчелло Мастроянни и молодым продюсером Франко Кристальди он создает кинокооператив, чтобы иметь возможность профинансировать свой следующий фильм «Белые ночи», который снимает за семь недель, до того успев в январе 1957 года поставить в театре «Фрекен Юлию» Августа Стриндберга с Массимо Джиротти и Лиллой Бриньоне.
Весной он делает две постановки с участием Каллас: «Анну Болейн» Доницетти, дирижер Джанандреа Гаваццени (14 апреля) и «Ифигению в Тавриде» Глюка, дирижер Нино Санцоньо (1 июня). 1 августа — Лукино в Венеции на премьере своей постановки «Импресарио из Смирны» в театре «Аа Фениче», а 6 сентября здесь же показывает на кинофестивале «Белые ночи». 24-го числа в Берлинской опере по либретто Висконти с музыкой композитора Ханса Вернера Хенце танцор Жан Бабиле исполняет «Танцевальный марафон» (хореография Дика Сандерса).
1958–1960: 18 января 1959 года Висконти снова обращается к творчеству Артура Миллера и к реализму, ставя на сцене «в очень кинематографичном стиле» «Вид с моста». 9 мая — триумф его «Дона Карлоса» в лондонском «Ковент Гардене» — теперь его слава становится международной. Ему случайно представляют абсолютно никому не известного Алена Делона, и тот вдохновляет его на идею следующего фильма — «Рокко и его братья». В июне он открывает Фестиваль Двух Миров постановкой «Макбета» Верди. Осенью — он снова возвращается к постановкам драм и размышляет о работе актера (юбилейные мероприятия в честь Дузе 3 октября 1958-го, постановка «По стопам родителей» Диего Фаббри 1 марта 1959-го). Помимо этого, он ставит в Риме спектакль по роману Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, Ангел» и «Двое на качелях» с Жаном Марэ и Анни Жирардо в театре «Амбассадор» в Париже. На фестивале в Сполето он показывает «Герцога Альбу» Доницетти. Его ассистент на этом спектакле — Энрико Медиоли.
1959–1960: появление романа ди Лампедузы «Леопард» вызывает полемику в левых кругах. Висконти страстно увлечен романом. В 1959 году, после долгого и скрупулезного изучения условий жизни средиземноморских мигрантов, он заканчивает сценарий «Рокко», съемки которого продолжаются с февраля по июнь 1960 года. В сентябре фильм плохо принимают в Венеции, снова вмешивается цензура; однако в широком прокате он приносит Висконти признание публики. Через три месяца разгораются споры вокруг постановки «Ариальды» Джованни Тестори, которую магистратура Милана распоряжается запретить за непристойность (25 февраля 1961 года). Тогда Висконти принимает решение поработать за границей, по крайней мере в театре.
1961–1964: 29 марта 1961 года премьерный показ в парижском театре спектакля «Жаль, что она шлюха» драматурга елизаветинской эпохи Джона Форда. В главных ролях заняты Ален Делон и Роми Шнайдер, которые выходят на театральные подмостки впервые. 30 июня в Сполето — «Саломея» Штрауса, эскизы декораций и костюмов для этого спектакля он сделал сам. Летом 1961 года снимает одну из киноновелл для киносборника «Боккаччо 70» — «Работа» с Роми Шнайдер. 1962 год полностью посвящен подготовке и съемкам «Леопарда» (премьера — 27 марта 1963-го); параллельно он работает еще и над «Пасторальной комедией», либретто которой написал совместно с Филиппо Санжюстом и Энрико Медиоли на музыку Франко Маннино. Премьера «Пасторальной комедии» — 28 февраля 1963 года в палермском театре Массимо. В июне показывает вторую постановку «Травиаты» на фестивале в Сполето. 21 мая 1964 на этой же сцене ставит «Свадьбу Фигаро» Моцарта, дирижирует Карло Мария Джулини.
Съемки «Туманных звезд Большой Медведицы» («Сандра»), фильма, задуманного ради Клаудии Кардинале, приостановлены из-за смерти Пальмиро Тольятти (21 августа 1964 года). Висконти присутствует на похоронах. На съемках фильма, которые завершаются осенью, он знакомится с Хельмутом Бергером. Вокруг Хельмута Бергера и Роми Шнайдер выстраиваются проекты его будущих фильмов («Душевные смуты воспитанника Тёрлесса») и воскресают прежние замыслы («Графиня Тарновская»). Тем временем Висконти ставит «Трубадура» (в московском Большом театре в сентябре 1964 года, в «Ковент-Гардене» — в ноябре).
1965–1967: 19 января 1965 года в парижском театре «Жимназ» состоялся премьерный показ «После падения» Артура Миллера с Анни Жирардо и Мишелем (Эклером. В сентябре «Туманные звезды Большой Медведицы» завоевывают в Венеции Золотого льва, но у широкой публики фильм успеха не имеет. 26 октября — новая премьера спектакля по Чехову, самое трудное для Висконти произведение: «Вишневый сад». Публика римского театра «Валле» приветствует спектакль бурной овацией.
В ноябре 1965 года Висконти поддерживает мирные протесты против войны во Вьетнаме.
Висконти посвящает себя опере: в Риме вновь ставится «Дон Карлос» — премьера 20 ноября 1965 года (дирижер Карло Мария Джулини); «Фальстаф» — первое представление 14 марта 1966 года с Дитрихом Фишер-Дескау (дирижер Леонард Бернстайн) в «Штаатсопер» в Вене; «Кавалер роз» Рихарда Штрауса 21 апреля 1966 года с Сеной Юринац (дирижер Джордж Солти) в лондонском «Ковент Гардене»; сняв эпизод для фильма «Колдуньи», посвященный судьбе «кинозвезды» («Ведьма, сожженная заживо»), он ставит свою последнюю версию «Травиаты» 19 апреля 1967 года в «Ковент Гардене». В июне того же года ставит «Эгмонта» Гете на музыку Бетховена во флорентийском дворце Питти.
В перерыве между этими роскошными постановками Висконти снимает «Постороннего», законченного в начале 1967 года и показанного на Венецианском кинофестивале в сентябре. Это единственный его фильм, от которого он отречется, по крайней мере отчасти, из-за слишком большого количества поправок, внесенных по требованию наследников Камю и исказивших первоначальный замысел.
28 октября — его постановка по «Монахине из Монцы», пьесе Дж. Тестори, снова вызывает скандал. Он все больше отходит от театра.
1968–1972: в начале 1969 года Лукино ставит спектакль «Объявление в газете» по пьесе Наталии Гинзбург с Адрианой Асти в главной роли. Он также представляет оперу Верди «Симон Бокканегра» в венской «Штаатсопер» — эта работа признана всеми слишком спорной, в том числе и самим Висконти, после чего он всецело посвящает себя кинематографу. Давний замысел перенести в современные реалии сюжет шекспировского «Макбета», обретает воплощение в картине «Гибель богов», впервые показанной 16 октября 1969 года. Висконти проезжает весь восток и север Европы «в поисках Тадзио», которого в конце концов находит в Швеции. Еще работая над «Смертью в Венеции», он дописывает сценарий «В поисках утраченного времени».
В конце съемок, в первые месяцы 1971 года, он даже выбирает места для съемок прустианской эпопеи в Париже и Нормандии. Серьезные разногласия с продюсером Николь Стефан.
Он решает незамедительно приступить к съемкам «Людвига». Изматывающая съемочная работа продолжается с 31 июля 1971 года по июнь 1972 года, 27 июля Висконти сражен инсультом, у него парализована вся левая сторона. Два месяца в больнице в Цюрихе, потом месяц выздоровления на берегу озера Комо в Черноббио — после этого он может приступить к монтажу «Людвига». Но продюсеры требуют сократить фильм, и в начале 1973 года он выходит в прокат в совершенно искалеченном виде. Придется ждать до 1978 года, чтобы сотрудники, друзья и близкие смогли выкупить фильм и восстановить его в полной версии.
1973–1976: Теперь Висконти живет в маленькой римской квартире, где задумывает один проект за другим: поставить вагнеровскую «Тетралогию» в «Ла Скала», снять «Волшебную гору» или «Избранника» по Томасу Манну. 3 мая 1973 года он возвращается к театральной деятельности, поставив «Это было вчера» Гарольда Пинтера: следует бурный спор с автором пьесы. Зато поставленная в Сполето 21 июня «Манон Леско» Пуччини становится триумфом. Параллельно Висконти работает с Сузо Чекки д’Амико и Энрико Медиоли над сценарием «Семейного портрета в интерьере» («Насилие и страсть»), семейной хроники на фоне террористических атак, которую он снимает с 8 апреля по 15 июля 1974 года и в декабре представляет на суд публики. Споры вызывает то обстоятельство, что съемки финансировал Эдилио Рускони, издатель правого толка.
Глубоко огорченный болезнью и смертью друзей — Анны Маньяни и Витторио Де Сики (в 1973-м и 1974-м), Висконти продолжает строить многочисленные планы. 3 апреля 1975 года, он снова падает, вновь теряет способность двигаться и вынужден руководить съемками своего последнего фильма «Невинный» уже из инвалидной коляски. Снимавшийся с 27 сентября 1975-го по январь следующего года, фильм находится в стадии озвучания, когда 17 марта 1976 года, в 17.30, Лукино Висконти умирает в своей римской квартире в доме 101 по виа Флеминг.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Источники по истории и культуре
1. История Милана
Guiglelmo Barblan, Toscanini e la Scala, ed Della Scala, 1972.
Mosco Carrier, Giaccomo Puccini, Lattes, 1984.
Francesco Cognasso, I Visconti, Ed Dall’Oglio, 1966.
Fondazione treccane degli Alfieri per la storia di Milano, 1955.
Borghesi e imprenditori a Milano dall’Unita alla Prima Guerra Mondiale, a cura di Giorgio Fiocca, Biblioteca di Cultura Moderna, Laterza, 1984.
Carlo Gatti, Il Teatro alla Scala nella storia de Milano, Ricordi, 1964.
Carlo Gatti, Verdi, Mondadori, 1950.
Massimo Mila, L'Arte di Verdi, Einaudi, 1980.
Guido Piovene, Voyage en Italie, Grasset, 1958.
Harvey Sachs, Toscanini, ed. F. van de Velde, 1980.
Alberto Savinio, j’écoute ton coeur, trad. J.N. Schifano, Gallimard, 1982.
Andre Suares, Voyage du condottiere, Granit, 1984.
Nello Ajello, Intellettuali e PCI (1944–1958), Laterza, 1979.
John Ardoin and Gerald Fitzgerald, Callas, ed. Holt, Rhinehart and Winston, 1974.
Giorgio Bocca, П terrorismo italiano, Rizzoli, 1978.
Giorgio Bocca, Paimiro Togliatti, Laterza, 1973.
Giuseppe Antonio Borgese, Gabriele d’Annunzio, R. Ricciardi, 1909.
Giuseppe Antonio Borgese, Risurezzioni, Società anonima editrice, F. Perrella, 1922.
Giuseppe Antonio Borgese, Golia Marcia del Fascismo, Mondadori, 1983.
Irene Brin, Usi e costumi 1920–1940, Sellerio, 1981.
Andre Brissaud, Mussolini, Librairie Academique Perrin, 1983.
Camilla Cedema, Nostra Italia del Miracolo, Longanesi, 1980.
Camilla Cedema, Il Mondo di Camilla, Feltrinelli, 1980.
Edmonde Charles-Roux, L’Irreguliere ou mon itineraire Chanel, Grasset, 1974.
Claude Delay, Chanel solitaire, Gallimard, 1983.
Arthur Gold and Robert Fitzdale, Misia, La Vie de Misia Seri, Gallimard, 1983.
Antonio Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Editori Riuniti, 1975.
Horst and Hoyningen-Huene, Salute to The Thirties, The Viking Press, 1971.
Valentine Lawford, Horst by Horst, The Viking Press, 1984.
Adrian Lyttelton, La Conquista del potere: Il Fascismo dal 1919 al 1929, Laterza, 1974
Maria Antonietta Macdochi, Deux mille ans de bonheur, Grasset, 1983.
Denis Mack Smith, П Risorgimento Italiano, Rizzoli, 1976.
Denis Mack Smith, Storia d’Italia, 1861–1969, Laterza, 1972.
G.B. Meneghini, Maria Callas, ma femme, Flammarion, 1973.
Pierre-Jean Remy, Callas, une vie, Ramsay, 1978.
Sergio Segalini, Callas, les images dune voiv, Van de Velde, 1979.
Arianna Stassinopoulos, Maria Calla par-delà sa legende, Fayard, 1982.
Francis SteegmuBer, Cadeau, Buchet-Chastel, 1973.
Angelo Tasca, Naissance du fascisme, Gallimard, 1967.
Fulco di Verdura, Estati felici. Un infonda in Sicilia, Feltrinelli, 1977.
Общие работы по истории итальянского театра и кино
Обзорные работы
Fedele d Amico, I casi della musica. Il saggiatore, 1962.
Silvio dAmico, Chronache del teatro, a cura di F.F. Palmieri e Sandro dAmico, Laterza, 1964.
Silvio d Amico, Palcoscenico del dopoguerra, ERI, 1953.
Gian Piero Brunetta, Storia del Cinema Italiano, voi. 3 et 4, Rome, Editori Riuniti, 1979–1993.
Freddy Buache, Le Cinema Italien (1945–1990), ed. L’Age ddiomme, 1992.
L. Micdche, Il cinema italiano degli anni 60, Marsilio, 1975.
Massimo Mida et Giovanni Vento, Cinema e Resistenza, Landi, 1959.
G. de Santis, Verso il neorealismo, a cura di Callisto Cosulich, Bulzoni, 1982.
Laurence Schifano, Le Cinéma Italien de 1945 à nos jours, Crise et création, 2e edition, Armand Collin, 2007. Pierre Sorlin, Italian National Cinema, Roudedge, 1996.
Giorgio Strehler, Une vie pour le théàtre, entretiens avef Ugo Ronfani, Belfond, 1989.
Коллективные труды
Antologia di Cinema Nuovo, a cura di Guido Aristarco, Guaraldi, 1975.
L'Avventurosa storia del cinema italiano raccontata dal suoi protagonisti, a cura di F. Faldini et G. Fofi, (1939–1959 et 1960-69), Feltrinelli, 1979–1981.
П cinema italiano dalfacismo all’antifascismo, a cura di M. Mida e L. Quaglietti, Laterza, 1980.
Il Lungo Viaggio del cinema italiano, antologia di Cinema 1936–1943, a cura di O.Caldiron, Marsilio, 1965. il Neorealismo cinematografico italiano, a cura di L. Micciche, Marsilio, 1975.
Исследования жизни и творчества Лукино Висконти
Биографии
Album Visconti: la vita e le opere in 221 fotografie, a cura di Caterina dAmico de Carvalho, ed. Sonzogno, 1978.
Costanzo Costantini, L'Ultimo Visconti: la sua lunga, dura, spietata lotta contro malattia e la morte, SugarCo, 1976.
Gaia Servadio, Luchino Visconti, Weidenfeld & Nicolson, trad. It. Mondadori, 1980.
Gianni Rondolfìno, Luchino Visconti, UTET, 2003.
Monica Sterling, A Screen of Time: a Study of Luchino Visconti, Seeker and Warburg, 1979.
Naoki Tachikawa and Toshiichi Nakajima, Le Visage inconnu de Luchino Visconti, ed. Shogaku-Kan, 1981. Renzo Renzi, Visconti segreto, Laterza, 1994.
Visconti e il suo lavoro, Electa, 1981.
Очерки жизни и творчестве
Cadierina dAmico de Carvalho, ed. Luchino Visconti e il suo tempo. Electa, 2006.
David Bruni, Veronica Pravadelli, Studii viscontiani, Venise, Marsilio, 1997.
Florence Colombiani, Proust-Visconti, Histmrr dune affiniti elective, ed. Philippe Rey 2006.
Giuseppe Ferrara, Luchino Visconti, Seghers, 1970.
Yves Guillaume (Youssef Ishaghpour), Luchino Visconti. Ed. Universitaires, 1966.
Youssef Ishaghpour, Luchino Visconti: le sens et l'image, ed. De la Difference, 1984,2-eme éditìnn revue 2006. Michele Lagny, Luchino Visconti, B1FI / Durante, coll. «Cine-Regards», 2002.
Bruno Villien, Visconti, Calmann-Levy, 1986.
Театр
Catherina d’Amico de Carvalho, ed. Il mio teatro, voi. 1 (1936-53), voi 2 (1954-76), Bologna, 1979. Catherina d’Amico de Carvalho, ed. Visconti: il teatro, Catabgo della mostra, Teatro rminizipale di Reggio Emilia, 1977.
Federica Mazzocchi, «La Locandiera» di Goldoni per Luchino Visconti, Pise ETS, 2005.
Stefano Geraci, ed. Il teatro de Visconti, Scritti de Gerardo Guerreri, Rome, 2006.
Опера и музыка
Catherina d’Amico de Carvalho, ed Viscontiana: Luchino Visconti, e il melodramma verdiano, Milan, 2001. Franco Marinino, Visconti e la musica, Akademos & LIM, Lucca, 1994.
Кино
Очерки
Pio Baldelli, Luchino Visconti, Milan, 1973.
Sam Rohdie, «Rocco and His Brothers», London, BFI, 1992.
Suzanne Liandrat-Guigues, Le couchant et У aurore: sur le cinéma de Luchino Visconti, Meridiens Klincksieck, 1999.
Lino Micciche, Luchino Visconti: un profilo critico, Venise, Marsilio, 1996.
Lino Micciche, Visconti I el neorealismo, Venise, 1990.
Geoffrey Novell-Smith, Luchino Visconti, London, BFI, 1967,1973.
Veronica Pravadelli, ed. Il cinéma de Luchino Visconti, Rome, 2000.
Alain Sanzio et Paul-Louis Thirard, Luchino Visconti cinéaste. Persona, 1984.
Исследования отдельных фильмов
Mario Serandrei, Gli Scritti un film Giorni di Gloria, a cura di Laura Gaiardoni, Rome, 1998.
«La terra trema» di Luchino Visconti: analisi di un capolavoro, ed. Lino Micciche, Rome-Lindau, 1993-94. Michelle Lagny, Senso, étude critique, Nathan, 1991.
Laurence Schiffano, Le Guepard, étude critique, Nathan, 1991.
Il Gattopardo, a cura di Lino Micciche, Rome, Electa, 1996.
Susanne Landrat-Guigues, Les images du temps dans Vaghe stelle del'Orsa, Sorbonne, 1995.
Veronica Pravadelli, Visconti a Volterra: la genesi di Vaghe stelle del’Orsa, Lindau, 2000.
Il film «Lo straniero» di L Visconti: dalla pagina allo schermo, ed Leonardo di Fransceschi, Rome, 1999.
Исследования по мизансценированию
Catherina d’Amico de Carvalho, ed Damiani, de Nobili, Tosi, Sceni e costumi Tre grandi artisti del XX secolo, L’Accademia di Francia a Roma,
Orio Caldiron, Giuseppe Rotunno. La venta delia luce, Rome, 2007.
Piero Tosi, Costumi f scenografie, Milan, 2006.
Сценарии и другие тексты
Сценарии
За исключением «Постороннего» и «Невинного», все сценарии фильмов Висконти опубликованы болонским издательством Cappelli.
Ossessione, ed. E Ungari and G.B. Cavallaro, 1977.
La lena trema, ed. E. Ungari, C. Battìstini and G.B. Cavallaro, 1977.
Bellissima, ed. E. Ungari, 1978.
Senso, ed. G.B. Cavallaro, 1955.
Le Notti bianche, ed. R Renzi. 1957.
Rocco e i suoi fratelli, ed. G. Aristarco and G. Gavandni, 1960.
Сценарий эпизода «Работа» из альманаха «Бокаччо-70» можно найти в книге: Boccacio'70, ed. С. di Carlo, 1962.
Il Gattopardo, ed. Suso Checd d’Amico, 1963.
Vaghe Stelle del'Orsa, ed. P. Bianchi, 1965.
La Caduta degli dei, ed. S. Roncoroni, 1969.
Morte a Venezia, ed. L Micdche, 1971.
Ludwig, ed. G. Ferrara. 1973.
Gruppo di famiglia in un intemo, ed. G. Treves, 1975.
Diavolo in Giardino, ed. Luchino Visconti, Filippo Sanjust and Enrico Medioli. Curd, Milan, 1963.
Нереализованные сценарии
М Antonioni, A Pietrangeli, G. Piovene, L Visconti. U processo di Maria Tamowska. Una sceneggiatura inedita, Museo nazionale del cinema, 2006.
Proust, Visconti et «La Lanterne magique»: Scenario pour «A la recherche du temps perdu» par Suso Checd d’Amico, Dliers-Combray, 1992.
Suso Checd d’Amico, Luchino Visconti, A la recherché du temps perdu, Persona, 1984.
Неоконченный роман
Luchino Visconti, Le Roman d'Angelo, trad. R. de Ceccatty, Gallimard, 1993.
Фильмы о Висконти
Luchino Visconti (RAI TV, 1975). Режиссеры — Джорджо Феррара и Лука де Мата.
Luchino Visconti, ricordo in musica (RAI TV, 1977). Режиссер Вальтер Лакастро.
Luchino Visconti, ou le puissance d'ètre (RTV, 1977). Режиссер Мишель Рандом.
Luchino Visconti, le chemin de la Recherche, histoire dì un film jamais realisé (RAI Educational, 2006). Режиссер — Джорджо Тревес.
Luchino Visconti, Alla ricerca di Tadzio, RAI TV, 1970.
Visconti e il teatro, RAISAT, 2001. Режиссер — Мария Тереза де Вито.
Библиография статей и книг о Висконти
Antonella Montesi and Leonardo De Franceschi, biblio Visconti, Rome, Istituto Gramsd, voL 1–2, 2001–2004.
Примечания
1
Имеются в виду книга Флоранс Коломбани «Пруст-Висконти» (2006) и документальный фильм Джорджо Тревеса «Лукино Висконти: в поисках пути» (2006). (Прим, ред.)
(обратно)2
Строки из стихотворения «Воспоминание» (1829), перевод А.Г. Наймана.
(обратно)3
Уют (нем.).
(обратно)4
Здесь: большая стройка (ит.).
(обратно)5
Амвросианцы — название местной монашеской общины, которое иногда используется для обозначения всех миланцев. В Милане существует поговорка: «Миланцы не католики, а амвросианцы». (Прим, ред.)
(обратно)6
Имеется в виду картина У. Боччони «Город встает» (1911). (Прим, ред.)
(обратно)7
Аллюзия на фильм Марио Сольдати «Маленький старый мирок» (Piccolo Mondo Antico, 1941) по одноименному роману Антонио Фогадзаро. (Прим, ред.)
(обратно)8
Здесь: обожание (ит.)
(обратно)9
7 мая 1898 года генерал Ф. Бава Беккарис, подавляя голодные бунты в Милане, приказал открыть артиллерийский огонь по восставшим. В ходе уличных столкновений было убито от 200 до 400 человек. Три года спустя сам генерал пал от пули анархиста Гаэтано Бреши. (Прим, ред.)
(обратно)10
Растиньяк — герой бальзаковского «Отца Горио», имя которого стало нарицательным для обозначения карьериста. (Прим, ред.)
(обратно)11
Марко Висконти — персонаж одноименного романа Томмазо Гросси, написанного в романтическом ключе в подражание Вальтеру Скотту. (Прим. ред.)
(обратно)12
В общих чертах (лат.)
(обратно)13
Выдающийся французский поэт, ученик Стефана Малларме, друг Андре Жида и Поля Валери. (Прим. ред.)
(обратно)14
Имеется в виду конная статуя кондотьера Бартоломео Коллеоне работы Андреа дель Вероккьо в Венеции. Коллеоне, одно время сражавшийся за Висконти, изображен здесь в тяжелом шлеме, напоминающем по форме морскую раковину. (Прим. ред.)
(обратно)15
Перевод С.П. Боброва и М.П. Богословской.
(обратно)16
Белый крест на красном фоне — символ герцогов Савойи и королей Сардинии, а впоследствии и Италии. (Прим. ред.)
(обратно)17
Большой Мольн — влюбленный подросток 17 лет из одноименного романа Алена-Фурнье, остальные дети в романе — 15-ти лет и младше. (Прим, ред.)
(обратно)18
Слишком веселым (фр.)
(обратно)19
Horst — в немецком не только распространенное мужское имя, но и слово, обозначающее гнездо птицы, преимущественно хищной. В этом пассаже обыгрывается омонимия имени Хорст: ours — фр. «медведь», horse — англ. «лошадь». (Прим. ред.)
(обратно)20
«Journal de Gréce», Афины, август 1937 года (неопубликованная рукопись).
(обратно)21
Рабочее название этого сценария позаимствовано у романа Андре Жида «Paludes». В этом произведении действие разворачивается в Бордо и слово paludes означает некогда заболоченные места у морского берега, которые были осушены и использовались под виноградники. (Прим. ред.)
(обратно)22
Фильм шведского киноклассика В. Шёстрема по роману Сельмы Аагерлёф (1921).
(обратно)23
Итальянская радикальная мелкобуржуазная партия, существовавшая в 1942-47 гг. Провозгласила себя преемницей республиканской Партии действия периода Рисорджименто. Партия действия активно участвовала в национально-освободительном движении 1943-45 гг. (Прим. ред.)
(обратно)24
Премьер-министр первого коалиционного правительства Италии, созданного в июне 1945 г.
(обратно)25
Нам нужен огонь (англ.)
(обратно)26
По одной из версий, Мокки сдался без сопротивления для того, чтобы не тронули остальных. (Прим. ред.)
(обратно)27
На улице Сан Витале находилась квестура (полицейское управление) итальянских фашистов. Кьяри предполагает, что не выжил бы, если бы попал в тюрьму СС. (Прим. ред.)
(обратно)28
Автор статьи намекает на Филиппа Эгалите — французского политического деятеля, происходившего из младшей ветви Бурбонов. После революции 1789 года он отказался от дворянского титула и голосовал в Конвенте за смерть Людовика XVI. В 1793 году казнен по подозрению в соучастии в заговоре генерала Дюмурье. (Прим. ред.)
(обратно)29
Представитель группы неореалистов, один из соавторов сценария фильма «Похитители велосипедов».
(обратно)30
А. Фадеев на Вроцлавской мирной конференции 1947 года назвал Сартра «гиеной с пишущей машинкой», а также «шакалом с вечным пером». (Прим. ред.)
(обратно)31
Politechnico — периодическое издание о культуре, основанное Элио Витторини, он же был главным редактором; публиковалось в Милане с 1945 по 1947 годы. Журнал отличался фундаментальной антифашистской ориентацией, самой живой открытостью Европе и всему миру и широким спектром интересов (от философии до технических наук, от литературы до социально-политических проблем). Журнал прославлял новый тип культуры, не «соглашательской», а активно вторгающейся в реальность.
(обратно)32
Несколько лет в 50-х годах Сартр был редактором этого журнала, названного в честь фильма Чаплина.
(обратно)33
Строчка из стихотворения А. Рембо «Пьяный корабль». Пер. Е. Витковского.
(обратно)34
Аллюзия на фильм Штернберга «Алая императрица» (Scarlet Empress) с Марлен Дитрих в роли Екатерины II. Scarlet — отсылка одновременно к багрянцу как цвету одежды царственных особ и к убийству Петра III. (Прим. ред.)
(обратно)35
Экспедиция Тысячи на Сицилию под руководством Дж. Гарибальди (1860 г.) — один из ключевых моментов объединения Италии. В результате этой экспедиции Королевство обеих Сицилии, в состав которого входила Сицилия и южные области Италии от Неаполя, прекратило свое существование и стало частью Королевства Италии. (Прим. ред.)
(обратно)36
Malavoglia (ит.) — нежелание, сопротивление. По звучанию это слово также напоминает прилагательное malevolo — зловредный, злоумышленный.
(обратно)37
Вероятно, речь идет о Массимо Джиротти (Прим. авт.).
(обратно)38
В 1915 году Сара Бернар повредила ногу на сцене во время одного из выступлений. Правую ногу поразила гангрена и ее пришлось ампутировать. Несмотря на это, Бернар продолжала играть в театре и сниматься. (Прим. ред.)
(обратно)39
Источник сведений об этих указаниях Чехова к постановке установить не удалось (Прим. ред.)
(обратно)40
Еще один пример того, как бережно относился Висконти к исторической эпохе. Пьеса «Вишневый сад» была опубликована в России в 1903 году. (Прим. ред.)
(обратно)41
Намек на полные жгучих страстей романы Альфреда де Мюссе (Прим. ред.)
(обратно)42
Взломщик, иллюзионист, престидижитатор (ит.)
(обратно)43
Ромашка была эмблемой одной из фракций итальянской христианско-демократической партии, пытавшейся снова ввести в действие некоторые фашистские законы. (Прим. ред.)
(обратно)44
Строчка из поэмы Оскара Уайлда «Баллада Рэдингской тюрьмы». Перевод Н. Воронель.
(обратно)45
Трансформизм — политика, при которой умеренно правые и умеренно левые объединяются в крупную центристскую партию. За счет создания такой коалиции итальянским центристам удавалось вытеснить из реальной борьбы более радикально настроенные политгруппировки, однако в целом такая тактика приводила к ослаблению роли парламента, росту в нем коррупции и отсутствию реальных изменений в обществе. (Прим. ред.)
(обратно)46
Этрусские настенные росписи в Тарквинии содержат похожие изображения людей с венками на головах (Прим. ред.)
(обратно)47
Дело Профьюмо — политический скандал в Британии в 1963 году. Работая в должности госсекретаря по военным вопросам, Джон Профьюмо был уличен в связи с девушкой по вызову, в которой заподозрили советскую шпионку. Профьюмо был вынужден подать в отставку, некоторое время убирал общественные туалеты и в конце концов стал видным деятелем в области благотворительности.
(обратно)48
В этой опере композитор намеренно допускает анахронизмы, смешивая стили XVIII и XX веков. Вероятно, это и была одна из причин, по которым Висконти взялся за постановку. (Прим. ред.)
(обратно)49
Pied-noir (фр.) — «Черноногие», т. е. французы, родившиеся и выросшие в Алжире (Прим. ред.)
(обратно)50
Арндт родился в 1937 году, его мать — Аннелизе Ламперт, с которой Альфрид Крупп развелся в 1941 г. (Прим. ред.)
(обратно)51
Источник, по которому Висконти цитирует Маркса, в данном случае установить не удалось. (Прим. ред.)
(обратно)52
Недотрога (лат.)
(обратно)53
В восьмом круге Ада (называемом Злые Щели) Данте поместил фальшивомонетчиков, льстецов, лукавых советчиков и лицемеров — всех тех, кто обманывал недоверившихся. Для сравнения, в девятом круге помещаются самые страшные преступники — те, кто обманул доверившихся (в т. ч. Иуда Искариот, Брут и Кассий). (Прим. ред.)
(обратно)54
Вентейль — персонаж романа-эпопеи Пруста, великий композитор, который умирает, не окончив труд жизни, феноменально красивый септет. Уже после его смерти септет исполняется впервые благодаря племяннице композитора, расшифровавшей его нотные записи. Септет Вентейля — устойчивое выражение, обозначающее редкое по красоте и глубине произведение искусства. (Прим. ред.)
(обратно)55
Автор цитирует эссе Т. Манна «Страдания и величие Рихарда Вагнера» в неаттрибутированном французском переводе. Ср. то же место в переводе Р. Кулишер: «Разве не было все то сладострастно-упоительное, чувственно-ранящее, чувственно-томящее, дурманящее, гипнотизирующе-обволакивающее, плотно и пышно простеганное — словом, все то изысканно-роскошное, что есть в его музыке — разве не было все это именно тем, что так неудержимо привлекало в нем буржуазную публику?» (Прим. ред.)
(обратно)56
«Страдания и величие Рихарда Вагнера», перевод Р. Кулишер.
(обратно)57
Производное от König — король (баварский диалект).
(обратно)58
«У Германтов», пер. Н. Любимова. Перевод несколько изменен.
(обратно)59
Анхиз — в древнегреческой мифологии представитель рода троянских царей. Афродита явилась к нему в виде пастушки и родила сына Энея, позже ставшего родоначальником латинян. (Прим. ред.)
(обратно)60
«В сторону Свана», пер. А.А. Франковского.
(обратно)61
Строки из стихотворения В. Гюго «Канарису» (Прим. ред.)
(обратно)62
Французский глагол «жить». (Прим. ред.)
(обратно)63
Рассказ Висконти существует только в черновике, поэтому произошедшее в подвале до конца не ясно. Вероятно, погибшая умерла от тяжелых родов и лежит, неестественно раскинув руки и ноги (как бы в позе четвертуемого). Вероятно, профессор ожидал, что взаперти влюбленные убьют друг друга, однако в действительности победила жизнь — пусть даже и дорогой ценой. (Прим. ред.)
(обратно)64
Marthe Robert, Roman des origines et origines de roman, Grasset, 1972. (Прим. авт.)
(обратно)65
Dirk Bogarde, The Mountain and The magician // For the time being. Collected Journalism, L., 1998.
(обратно)66
Интервью с Энрико Медиоли, Рим, 7 мая 2007 года.
(обратно)67
Jean-Louis Leutrat, Echos d'Ivan le Terrible. Bruxelles, 2006.
(обратно)68
Сертон — общее название для бразильских провинций, находящихся в глубине континента. Слово произведено от порт, sertão, сокращ. от «desertão» пустошь, пустыня, глушь.
(обратно)69
Giles Deleuze, L'image movement, Minuit, 1983.
(обратно)70
L. Visconti, Le roman d‘Angelo, Gallimard, 1993.
(обратно)71
Знаменитое выражение Элио Витторини. (Прим. авт.)
(обратно)72
См. Антон Джулио Манчино, «Il processo della verita. Le radici del film politico-indiciario italiano»: «Человек, которого называют официальным спасителем картины „Земля дрожит“ […] — продюсер Сальво д’Анджело, знатный образованный сицилиец, архитектор и музыковед, за которым, однако, угадывается слой общества, теоретически враждебный итальянской компартии. Тем не менее, на практике д'Анджело желает достичь политического согласия. Люди из этого мира, предугадывая конфликты, предлагают идти на взаимные уступки и компромиссы; они ссылаются на то, что таким образом будет достигнут справедливый обмен, а будущее в этом случае определяется на основании практических соображений, в духе бисмарковской Realpolitik. Все это вполне понятно; но они действуют таким образом еще и ради того, чтобы умолчать о целях, об истинных заказчиках и вообще скрыть всю доступную информации о бойне в Портелла-делла-Джинеетра» (Филиппо Чеккарелли, La Reppublica, 29 июня 2008).
(обратно)73
Вероятно, имеется в виду полемика против формализма в СССР в 1930-х годах. Сложные взаимоотношения Эйзенштейна с компартией, которая навязывала художникам свое руководство, закончилась уничтожением его фильма «Бежин луг» (Прим. ред.)
(обратно)74
Патрис Шеро (1944–2013) — французский режиссер театра и кино, работавший, в том числе, с Джорджо Стрелером. Некоторые из его киноработ (например, «Габриэль» по мотивам повести Дж. Конрада) близки по духу к историческим картинам Висконти.
(обратно)75
В 1849 году Бальзак писал своей матери: «Я остаюсь здесь, прикованный болезнью к постели. Увы! Я отдал дань 1848 году, как и те, кто уже погиб и еще погибнет. Однако при моем бычьем организме властительнице человечества придется еще повозиться со мной. Я состою в оппозиции, которая называется Жизнью», Corr., V, 556–557. (Прим. ред.)
(обратно)76
Оливье Ассайяс (р. 1955), французский режиссер и кинокритик. В качестве примера того, как он черпает вдохновение в висконтианстве, можно привести его фильм «Облака Зильс-Марии» (2014). (Прим. ред.)
(обратно)77
Строки из очерка Пруста «Против Сент-Бёва».
(обратно)78
Gianricho Тedesci parla della Locandiera / Federica Mazzocchi, La Locandiera di Goldoni per Luchino Visconti. Pise, 2005.
(обратно)79
Roland Barthes, «La Locandiera» // Theatre populaire, n. 20,1956.
(обратно)80
H. Pinter, Dramma, n. 3/4,1973.
(обратно)81
Как тут не вспомнить фразу из Скотта Фитцджеральда, которую Патрик подчеркивает в своем «Ночном дозоре»: «Отчего я должен был отождествлять себя с теми, кто вызывал у меня ужас и сострадание?»
(обратно)82
В Древней Греции — указание автора актерам.
(обратно)83
Мир, представленный «непрофессиональными актерами, которые помимо того что привносят волнующее ощущение простоты, кажутся еще и более естественными и разумными, ибо они, будучи продуктами неиспорченной среды, являются еще и прекрасными людьми» (А Висконти, «Антропоморфное кино»).
(обратно)84
Маккьяйоли — группа художников, сформировавшаяся во Флоренции в 1860-х годах. Противопоставляли себя академизму, обращаясь к современным сюжетам (эпизоды недавней войны, жанровые сцены, сельские и городские пейзажи). Многие из участников группы были гарибальдийцами. (Прим. ред.)
(обратно)85
Ср. соответствующее место из романа «В сторону Свана»: «Увы, напрасно умолял я башню руссенвильского замка, напрасно просил я ее послать мне навстречу какую-нибудь девушку из окружавшей ее деревни, взывая к ней как к единственному свидетелю, которому я открывал первые свои желания, когда с чердака нашего дома в Комбре, из маленькой комнатки, пахнувшей ирисом, мне видна была в четырехугольнике полуоткрытого окна одна только эта башня, в то время как, с героическими колебаниями путешественника, отправлявшегося в не исследованные еще страны, или разуверившегося в жизни самоубийцы, почти лишаясь сил, прокладывал я в себе самом неведомую дорогу, могущую, казалось мне, привести меня к смерти, пока эмоция не иссякала, а на листьях дикой черной смородины, свешивавшей ко мне свои ветви, не обозначался некоторый естественный след, вроде следа, оставляемого улиткой». (Пер. А.Л. Франковского).
(обратно)86
Нью-йоркский экспериментальный театр, основанный в начале 50-х годов Джулианом Беком. Труппа опиралась на идеи Брехта и Арто и позиционировала себя как антитеатр. (Прим. ред.)
(обратно)87
Кен Расселл (1927–2014) — выдающийся британский кинорежиссер, во многих своих картинах («Малер», «Любители музыки», «Листомания», «Дьяволы», «Дикий Мессия») соединял исторический материал с исступленным изображением эмоциональной жизни героев.
(обратно)88
Ср. Ренцо Ренци, «Тайный Висконти»: «Лукино Висконти умер 17 марта 1976 года в одной из последних своих римских квартир. Рядом была его сестра. Он повернулся к ней, чтобы сказать: „Все, довольно!“, и уронил голову на подушку. Ему, как и Туллио Эрмилю из „Невинного“, нравилось думать, будто именно он выбирает даже час собственной смерти…»
(обратно)89
Вероятно, автор имеет в виду символ Гермеса — кадуцей. Кадуцей — это волшебный жезл, обвитый змеями, который Гермес использовал для того, чтобы усыпить человека и передать ему послание богов. (Прим. ред.)
(обратно)
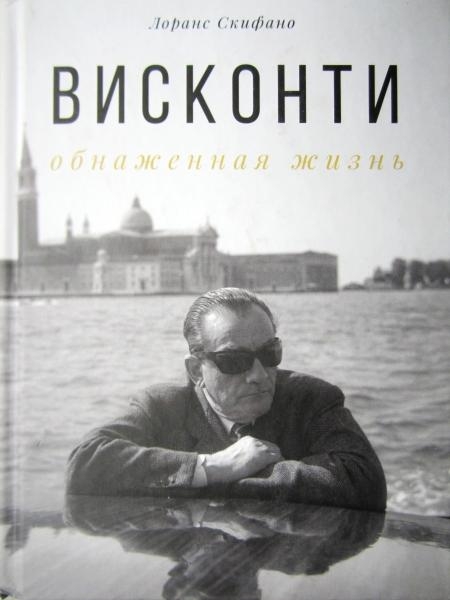

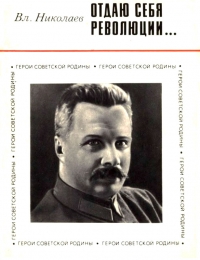
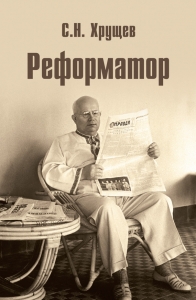


Комментарии к книге «Висконти: обнаженная жизнь», Лоранс Скифано
Всего 0 комментариев