Майкл Муркок Византия сражается
Действующие лица
Максим Артурович Пятницкий (Дмитрий Митрофанович Хрущев), рассказчик.
Елизавета Филипповна, мать Максима.
Капитан Браун, шотландский инженер.
Эсме Лукьянова, подруга Максима.
Зоя, девочка-цыганка.
Профессор Лустгартен, школьный учитель.
Фрау Лустгартен, его жена.
Саркис Михайлович Куюмджан, армянский инженер.
Александр (Шура), кузен Максима.
Евгения Михайловна (тетя Женя), двоюродная бабка Максима. Ванда, ее бедная родственница.
Семён Иосифович (дядя Сеня), двоюродный дед Максима.
Эзо, кабатчик из Слободки.
Миша Япончик, бандит из Слободки.
Витя Скрипач – посетитель таверны Эзо.
Исаак Якобович – посетитель таверны Эзо.
Малышка Граня – посетитель таверны Эзо.
Боря Бухгалтер – посетитель таверны Эзо.
Лёва – посетитель таверны Эзо.
Господин Ставицкий, торговец наркотиками.
Катя, молодая проститутка.
Мать Кати, проститутка.
X. Корнелиус, дантист.
Гонория Корнелиус, английская авантюристка.
Со-Со[1], грузинский революционер.
Никита Грек, друг Максима.
Мистер Финч, ирландский моряк.
Сергей Андреевич Цыпляков (Сережа), балетный танцовщик. Марья Варворовна Воротынская, студентка.
Мисс Бьюкенен, ее няня.
Мистер Грин, агент дяди Сени в Петербурге.
Мистер Паррот, его помощник.
Мадам Зиновьева, квартирная хозяйка Максима в Петербурге. Ольга и Вера, ее дочери.
Доктор Мазнев, преподаватель в Петербургском политехническом институте.
Профессор Меркулов, другой преподаватель.
Князь Николай Федорович Петров (Коля), богемный петербуржец. Ипполит, мальчик на содержании князя Петрова.
Луначарский, большевик.
Маяковский, поэт.
Лолли Леоновна Петрова, кузина Коли.
Алексей Леонович Петров, ее брат.
Елена Андреевна Власенкова (Лена), соседка Марьи Варворовны Воротынской.
Профессор Ворсин, ректор Политехнического института.
Гетман Павло Скоропадский, марионеточный диктатор.
Атаман Симон Петлюра, военный предводитель украинских националистов.
Генерал Коновалец, командир сечевых стрельцов.
Винниченко, лидер украинских националистов.
Потаки, украинский большевик.
Маруся Кирилловна, украинская большевичка.
Сотник (капитан) Гришенко, казачий офицер-григорьевец.
Сотник (капитан) Ермилов, то же.
Стоичко, казачий офицер.
Бродманн, социалист, офицер связи.
Нестор Махно, лидер анархистов.
Капитан Куломсин, офицер-белогвардеец.
Капитан Уоллис, австралиец, командир танкового экипажа.
Майор Пережаров, командир белогвардейцев.
Еврейский журналист в Аркадии[2].
Мадам Зоя, хозяйка гостиницы.
Капитан Осетров, белогвардеец, офицер разведки. Майор Солдатов, командир Максима.
Главный инженер «Рио-Круз», собрат по духу.
Прочие персонажи:
Кориленко (почтальон); капитан Бикадоров (казак); шлюхи и актеры в Одессе; шлюхи, актеры и художники в Санкт-Петербурге; революционеры в Санкт-Петербурге; казаки (красные, белые); полицейские, чекисты, офицеры Военно-морского флота, офицеры сухопутных войск, гайдамаки, нищие, пьяные, евреи из штетла близ Гуляйполя, обитатели селений в украинской степи и, за кулисами, Лев Троцкий, Деникин, Краснов, Ульянский, князь Львов, Керенский, Путилов, Иосиф Сталин, Столыпин, Ленин, Антонов, Сикорский, Савинков, Катерина Корнелиус, Герберт Уэллс.
Предисловие
Человек, на протяжении многих лет в районе Портобелло-роуд[3] именуемый «полковник Пьят», а иногда просто «старый поляк», постоянно сопровождавший в 1960–1970‑х годах госпожу Корнелиус в ее излюбленных пабах «Бленхейм Армз», «Замке Портобелло» и «Элджине», в августе 1977 года стал жертвой ноттинг-хилльского карнавала, во время которого несколько чернокожих мальчиков и девочек, собиравших средства в помощь пожилым людям, вырядившись в странные карибские наряды, ворвались в его магазин и потребовали пожертвований. Сердце старика не выдержало, он умер в госпитале Св. Чарльза[4] несколько часов спустя. У него не осталось родственников. В конце концов, после долгой и неприятной волокиты, я унаследовал его архив.
За последние два года мы с ним успели сблизиться. Полковник выяснил, что я профессиональный писатель, и не давал мне прохода, буквально преследовал меня, настаивая, чтобы мы занялись подготовкой к печати его воспоминаний о госпоже Корнелиус, которая умерла в 1975‑м. Он знал, что я уже, по его словам, «эксплуатировал» ее имя в своих книгах, догадался о моем интересе к местной истории, увидев меня впервые, несколькими годами ранее, когда я фотографировал старый женский монастырь клариссинок[5] накануне сноса. Много позже мы столкнулись во время съемок трущоб на Бленейм-кресчент и Вестбурн-парк-роуд[6], также незадолго до их уничтожения. Именно тогда Пьят впервые подошел ко мне. Я пытался не обращать на него внимания, но когда он заговорил о госпоже Корнелиус, называя ее «известной в Британии персоной», я проявил любопытство: эта необыкновенная женщина меня очень интересовала. Пьят уверял, что весь мир пожелает прочесть его воспоминания о даме, по его мнению, не менее популярной, чем королева Елизавета… Мне пришлось по- дружески напомнить ему, что госпожа Корнелиус была знаменита лишь в крошечном районе Северного Кенсингтона. Мои собственные рассказы о ней были в значительной степени выдумкой. Никто не считал ее выдающейся личностью. Но Пьят настаивал, что на известности дамы можно подзаработать, он был убежден, что масса читателей с нетерпением жаждет узнать подлинную историю жизни госпожи Корнелиус. Он обращался в газеты, в «Дэйли миррор» и «Сан»[7], пытался продать им свою историю (ужасающее собрание рукописей на шести языках, на бумаге почти всех возможных цветов и размеров, хранившееся в одиннадцати обувных коробках), но с подозрением отнесся к предложению направить текст по почте, а не вручить лично редактору.
Пьят рассказывал всем, что доверял мне больше, чем кому бы то ни было, за исключением госпожи Корнелиус. Я напоминал ему, очевидно, Михаила VIII[8], последнего великого спасителя Константинополя. Полковник даже предполагал, что я – реинкарнация этого византийского императора, он показал мне чернобелую фотографию иконы, на которой, как и на большинстве икон, мог быть изображен кто угодно. Тогда все носили бороды. Подозреваю, что Пьят доверился мне, потому что я ему потакал и по- настоящему интересовался его жизнью, а равно и жизнью госпожи Корнелиус, всегда крайне туманно рассказывавшей о своем прошлом. Так что у меня имелся личный интерес.
Полковник Пьят не был приятным персонажем, и его нетерпимость и неистово выражаемые крайне правые взгляды оказалось трудно принять. Я покупал ему выпивку в тех же пабах, которые он посещал с госпожой Корнелиус, надеясь получить материал для новых историй, но у него имелись другие планы. Не интересуясь моим мнением, Пьят решил, что я должен стать его литературным консультантом за десять процентов от аванса. Вместе, заявил он, мы должны подготовить рукопись. Предполагалось, что я представлю ее своему постоянному издателю, а мое имя и влияние, а также известность госпожи Корнелиус, позволят нам продать книгу «по меньшей мере за пятьдесят тысяч фунтов».
Я вскоре перестал ему объяснять, что авансы за первые книги редко достигают пятисот фунтов и что у меня нет никакого особого влияния. Вместо этого приходил к нему в свободное время и помогал разбирать бумаги. Я нашел переводчика, моего старого друга и соавтора М. Г. Лобковица, готового работать с рукописями большого объема, написанными на русском, плохом немецком, польском и чешском, а по большей части – на дурном английском с забавными вкраплениями французского, когда речь заходила о сексе. Также я беседовал с полковником, пытаясь заполнить пробелы в его истории.
Мне трудно предположить, какая судьба ждала бы этот проект, если бы полковник не умер. Моя собственная работа существенно страдала. Жена говорит, что я едва не сошел с ума, полностью одержимый Пьятом. Я не мог находиться вдали от него. Он встречал многих выдающихся деятелей политики и культуры межвоенной эпохи, зачастую не понимая значительности этих людей, и, обладая способностью все запутывать, зачастую, казалось бы, невольно, отмечал весьма удивительные детали. Сначала, из-за его ярого антисемитизма, ненависти к местным жителям, злобных и реакционных суждений о современной жизни, я с трудом сохранял уважение к возрасту и перенесенным страданиям и еле сдерживал себя. Это Лобковиц, видевший многое из того, с чем сталкивался Пьят, помог мне работать с полковником. «Великие исторические трагедии, – сказал он, – создаются из личных трагедий. Чтобы решить судьбы двенадцати миллионов человек, погибших в лагерях, нескольким миллионам Пьятов придется вступить в сговор. Его душа разрушена».
Сначала точка зрения Лобковица казалась мне слишком благостной, даже сентиментальной, но потом, со временем, я смог примириться с ней. Кроме того, мое любопытство всегда оказывалось сильнее отвращения. Я посещал полковника по воскресеньям, записывал на магнитофон монологи. Некоторые из них почти дословно повторялись в его рукописях. Я редко использовал запутанные сведения, записи на смеси языков, оставленные Пьятом, но чтобы у читателей сложилось представление, с чем мне пришлось столкнуться, я процитирую в Приложении А фрагмент текста. Прежде всего я хочу указать на трудности, связанные с переводом, упорядочением и разъяснением содержимого архива. Факсимиле в начале книги представляет одну из наиболее пригодных для чтения страниц.
Пьят отнюдь не был глупцом в обычном смысле слова. Многие из его замечаний казались удивительно проницательными. Именно обилие противоречий в его рассказе и вынудило меня отказаться от литературной обработки материалов. Поэтому читатели обнаружат на следующих страницах очень мало иронических комментариев, а использование приемов, присущих современной беллетристике, существенно ограничено: это повествование не соответствует требованиям, обыкновенно предъявляемым к литературным произведениям. Было бы лучше считать этот текст не биографией, как предлагал Пьят (госпожа Корнелиус появляется на страницах этого тома нечасто), но автобиографией.
Это история необычайной жизни, и посему она содержит необычайные совпадения, парадоксы и странные, нелогичные заключения. Для первого тома, действие которого доведено до конца Первой мировой войны и последних эпизодов Гражданской войны в России, я отобрал материал, напрямую связанный с этим периодом в жизни Пьята. Не относящиеся к повествованию сведения я не использовал вовсе или отложил для следующих томов, где они будут более уместны. Относительно некоторых эпизодов полковник высказывался неопределенно, например, о времени, проведенном в заключении в Киеве, но в дальнейшем повествовании читатель обнаружит факты, по крайней мере объясняющие причину, по которой Пьят избегает рассказывать об этих событиях. Я пытался не углубляться в рассуждения, объединяя фрагменты истории, предпочитая, чтобы читатели решали сами, что относится к делу, а что – нет, так как их предположения могут оказаться не хуже моих собственных.
С переводом возникли огромные проблемы. Пьят в основном писал на разговорном русском, и, согласно Лобковицу, его тексты напоминают искусную прозу Андрея Белого, Бориса Пильняка и других «сказовых» авторов, у которых, как утверждает мой коллега, многое позаимствовал Набоков. Я должен признать, что практически незнаком с современной русской беллетристикой, так что мне пришлось целиком и полностью положиться на мнение Лобковица. Естественно, я испытываю огромное уважение к своему другу. Никто иной, возможно, не справился бы со всеми трудностями так успешно. У полковника Пьята было литературное чутье, но он слишком часто менял интонацию повествования. Редактирование и сокращение привели к потере некоторого противоречивого очарования оригинала (еще одна причина для включения части наиболее безумных фрагментов сочинения Пьята в приложение, а не в основной текст), хотя, я думаю, даже остатки этого «потока сознания» дают представление о состоянии духа повествователя – униженного, пораженного, охваченного ужасом человека. Лобковиц не смог перевести текст в нескольких местах, где ему не удалось даже предположить, какой именно язык использовался. Вероятно, перед нами тайный или вымышленный язык – иногда люди, склонные к паранойе, прибегают к подобным средствам. Полагаю, мне следует честно признать: в последние годы жизни Пьят страдал психическим заболеванием и иногда лечился в специальных заведениях.
Мне посоветовали включить в это введение краткое пояснение ко второй половине книги, которая посвящена приключениям Пьята во время русской Гражданской войны, одной из самых разрушительных войн в истории. Краткую информацию о ней вы обнаружите в Приложении В. Я с радостью положился на интерпретацию тогдашних событий на Украине, предложенную Лобковицем, – по крайней мере, в тех немногих случаях, когда рассказ нуждался в дополнительных пояснениях. Ясно одно: в те годы многое было поставлено на карту. Следует помнить о жестоких казачьих побоищах, о страшных погромах, особенно 1905–1906 годов, о географическом положении «пограничной области» (именно так и следует понимать само название «Украина»), богатой полезными ископаемыми и земельными ресурсами. Этот край всегда страдал от вспышек насилия, а в ту эпоху – тем более. Но если бы не большевики и союзники, надо сказать, что Украина избежала бы подобных приступов агрессии, включая запланированный сталинский голод, по крайней мере до немецкого вторжения в 1941‑м, когда все ужасы повторились с увеличенной силой. Во многом недавняя история Украины может быть воспринята как концентрированная версия всей истории нашей эры. Большинство политических проблем нам знакомо. Методы, использованные для решения проблем, также известны. События на Украине стали прообразом событий во всем остальном мире, и это одна из причин моего интереса к воспоминаниям полковника. Вот почему я решил, что стоит попытаться создать нечто вроде последовательной истории из материала, который в первоначальном состоянии был абсолютно непоследовательным и разрозненным.
Я вообще не проявлял интереса к Украине и ее проблемам, пока не встретил полковника Пьята, и должен признать, что многие из моих представлений о Российской империи, которые основывались на полученной от него информации, оказались как минимум ошибочными. Его характеристика событий в России между 1900 и 1920 годами столь же пристрастна, как и любые другие его оценки. Лобковиц полагает, что я должен объяснить читателю: рассказы Пьята нельзя считать подробными описаниями реальных событий, происходивших в те годы, хотя многие из его утверждений, связанных с простой констатацией фактов, нам удалось проверить и подтвердить.
Полковник был тяжелым, утомительным в общении человеком, и работа с ним отняла более двух лет моей жизни. Редактирование остальной части рукописи, которая поведает его историю вплоть до концентрационных лагерей и 1940 года, займет намного больше времени. И все же я почти с ностальгией вспоминаю о тех воскресных днях, когда мы с женой посещали его неопрятную двухэтажную квартиру и слушали зачастую резкие, иногда злобные, иногда громкие нападки на ту или иную нацию, политическую партию – и на тех, кто, с точки зрения Пьята, вступил в сговор против него, чтобы лишить всех земных благ.
Квартира располагалась над его магазином. Сначала это была обычная лавка подержанной одежды, где, будучи мальчиком, я часто покупал поношенные эдвардианские наряды. Я думаю, что один из сыновей миссис Корнелиус – почти наверняка Фрэнк – в 1960‑х предложил переименовать заведение в «Дух Санкт-Петербурга. Магазин подержанных мехов», чтобы воспользоваться расцветом туризма и новой модой, которая, на мой взгляд, приобрела самые отталкивающие черты. Теперь магазином управляет семейство индусов, торгующее одеждой, изготовленной на современных заводах Ист-Энда, использующих рабский труд.
Комнаты полковника Пьята пропахли бывшими владельцами этих помещений: их нафталиновыми шариками, несвежим парфюмом и кислым ароматом старости; борщом и польской водкой под названием «Старка» – выдержанной, приятной на вкус, цветом напоминавшей ирландский виски. Водка оставалась его единственной слабостью, и я полагаю, что он пил ее, поскольку она позволяла сохранять связь с Россией его детства. «Старка» была гораздо дешевле более известных на Западе марок вроде «Столичной», но ее почти невозможно найти в Англии. Думаю, полковник пополнял свои запасы через русских моряков, выходивших в увольнение на берег в Лондоне и Тильбюри. «Старка» пахла острее большинства водок и к тому же была куда крепче. Пьят лишь однажды предложил нам выпить стаканчик в обмен на несколько пачек папирос, которые я привез ему.
Хотя полковник очень слабо разбирался в английской культуре (он жил неподалеку от госпожи Корнелиус в беднейших кварталах Ноттинг-Хилла с тех самых пор, как приехал в Англию в 1940 году, заявив о своем польском происхождении), но не был ни безграмотным, ни глупым человеком. Его представления о современной культуре могли показаться весьма странными – в основном он говорил о телепрограммах и фильмах, но при этом презирал англичан за недостаток «изысканных чувств», а также за отсутствие идеализма, прагматизм и лицемерие, и почти все проблемы, не связанные с евреями или большевиками, объяснял тем, что считал нашей слабостью, – отказом от империи. Благодаря наблюдениям Лобковица я смог понять: жизнь нанесла Пьяту такие глубокие раны, что он искал спасения в фантазиях и фанатизме, но иногда было очень тяжело выслушивать мерзкие и слишком хорошо знакомые расистские высказывания, которыми он часто потчевал нас, в особенности с тех пор, как начал считать меня как минимум близким по духу человеком, «одним из немногих подлинных интеллектуалов, которых встречал в этой стране». Полковник настаивал, что Англия практически лишилась культурной жизни. А то немногое, что осталось, по его словам, выдавало наш ужасный упадок. Его жизненный опыт ничем не отличался от опыта многих других буржуазных беженцев из Европы, которые, не говоря по-английски, почти не имея денег и друзей, приехали в Англию и Америку накануне войны. Они вынуждены были поселиться в рабочих районах крупных городов, где им пришлось столкнуться с замкнутыми людьми, ничего не знающими о политических проблемах и культурной жизни, столь важной для эмигрантов. Пьят не мог понять нравы и шутки представителей лондонского рабочего класса, а приветливость и терпимость большинства окружающих, казалось, способствовала развитию у него представления, что англичане беззаботны и ленивы и не заслуживают его доверия. Но у него сохранилась романтическая привязанность к нашей стране, как вы увидите в дальнейшем.
Этот ограниченный опыт позволил полковнику предположить, что госпожа Корнелиус знаменита не меньше королевы. Все, кого он встречал в своем районе, казалось, проявляли больше интереса и дружелюбия к этой даме, чем, скажем, к Адольфу Гитлеру или Маргарет Тэтчер. Вот почему Пьят искренне полагал, что нынешнее поколение заплатит ему за воспоминания об экстравагантной, но практически неизвестной дамочке-кокни гораздо больше, чем за частные воспоминания о великих диктаторах. Должен признаться, что мое воображение гораздо больше занимает госпожа К., чем Муссолини, но я понимаю, что очень немногие разделят мой энтузиазм. Можно также утверждать, что я был лично заинтересован в ее популярности, так же как в популярности полковника – ведь я упоминал о нем в своих книгах еще до того, как мы познакомились.
К тому времени, как я повстречал Пьята, его внешность стала довольно невзрачной. Он выглядел обычным старым европейцем, смуглым, сутулым, сварливым, немного неряшливым, с морщинистым лицом, большими губами и выдающимся носом. Его кожа имела нездоровый цвет. Он носил старомодные, покрытые пылью костюмы или спортивную одежду, наряд дополняла белая кепка для гольфа, которую он не снимал ни зимой, ни летом. Старик собирал всякий хлам, которым были завалены верхние комнаты, и владел множеством бесполезных вещей вроде старых велосипедов, бензиновых двигателей, свечей зажигания, древних электроприборов и так далее. В его квартире иногда очень сильно пахло горелым машинным маслом. Коллекция фотографий и засаленных газетных вырезок была единственным свидетельством былого изящества и светского лоска. Моя жена считала, что раньше он выглядел очаровательно, но я мог разглядеть на фотографиях лишь симпатичного мужчину, взгляд которого, казалось, никогда не мог ни на чем сосредоточиться. Я видел снимки, на которых он стоял у гондол воздушных кораблей, сидел в кабинах гидросамолетов, принимал участие в церемониях открытия дамб и мостов, спускал на воду корабли. Пьят, разумеется, путешествовал и встречался со многими известными людьми. Госпожа Корнелиус упоминалась лишь в нескольких газетных вырезках, но на большинстве фотоснимков, сделанных в разное время в разных странах, она присутствовала; это подтверждало ее заявления о том, что она «немного постранствовала в молодости». Полковник передал весь этот материал, вместе с рукописями, мне на хранение. Не было никаких сомнений в том, что он считал меня наследником мемуаров и своим литературным душеприказчиком. Удивительные требования мистера Фрэнка Корнелиуса, против которого я успешно выступил в суде, давно признаны необоснованными, и у меня теперь есть законное право распоряжаться рукописями, но не изображениями. Мы с Пьятом и в самом деле были знакомы недолго, но я действительно стал его единственным другом. Он часто говорил, что это его наследство, и оно достанется мне, если что-нибудь с ним случится. Я могу пригласить свидетелей, которые подтвердят тот факт, что полковник неоднократно публично называл меня «сыном, которого никогда не знал», и человеком, способным обосновать его притязания на историческую значимость. Я должен был сохранить память о нем. Я держу рукопись в банковском сейфе и надеюсь выполнить желание Пьята.
Как я уже отметил, при редактировании этих мемуаров я столкнулся с целым рядом технических и моральных проблем. Например, полковник позволил мне воспроизводить особенности речи миссис Корнелиус по своему усмотрению, но настаивал, чтобы я сохранил его «философию». Ядовитые ремарки по поводу пола, расы и культуры почти всегда излагались на других языках, не на английском, так что их можно было исключить, но, вычеркнув их полностью, я бы лишил читателей понимания всех особенностей материала и самого Пьята. Несомненно, полковник был позером, лгуном, шарлатаном, наркоманом, преступником, но когда-то обладал огромным обаянием – это очевидно по его успехам. Люди чувствовали к нему расположение и бросались на помощь, зачастую испытывая огромные неудобства. Именно эти свидетельства, а не его собственные заявления убедили меня в том, что он не всегда был таким испорченным, как в последние годы. Кроме того, полковник оказался не совсем уж некультурным. Он превосходно схватывал технические понятия, что выглядело весьма необычно для человека его времени и происхождения. Он неплохо разбирался в искусстве и литературе, хотя его вкус, как вы увидите, иногда вызывал сомнения – в этом смысле Пьят отличался некоторой невинностью.
Мне бы хотелось, чтобы читатели сами решали, где ложь и где истина. Именно поэтому я вмешивался в исходный материал как можно реже, просто восстанавливая связность рассказа в тех случаях, где это было совершенно необходимо. Уверен, что переводы М. Г. Лобковица превосходны и очень точно передают дух оригинала. Я перефразировал и отредактировал множество предложений, чтобы улучшить их, но сохранил некоторую грубость там, где у читателя могли возникнуть сомнения в подлинности мемуаров. Проблема объема также стояла передо мной, пришлось сократить несколько эпизодов. Обычно я прибегал к сугубо литературным методам – к парафразам, например создавая усиленную версию первоначального текста. Альтернативный вариант – представить конспект некоторых фрагментов – показался менее привлекательным. Я стремился, как мог, сохранить оригинальный текст, так как уверен, что история полковника Пьята будет уникальной. Он много путешествовал и между 1920 и 1940 годами принимал участие в важнейших технических экспериментах того времени – эпохи, известной эйфорическим, оптимистичным отношением к технике, которое мы никогда не сможем возродить, но наш герой сохранил его в полной мере. Я полагаю, что он был наделен проницательностью, редко встречающейся у более искушенных профессиональных обозревателей. Эта проницательность сменялась иногда обычной наблюдательностью, с помощью которой он мог распознавать близких себе по духу людей; но он был, по его словам, «оставшимся в живых» – обладал инстинктом выживания, в отличие от моральных инстинктов, чрезвычайно сильным, который позволял ему распознавать тех, кого можно было использовать, и тех, кто думал, что сможет использовать его. Как говорил сам полковник, он не отличался благородством – проявлял жестокость по отношению к слабым или просто забывал о них; унижался перед сильными. И все-таки Пьят воплощал дух своей эпохи.
Я сохранил большую часть его громогласных заявлений о собственной гениальности, а также множество простодушных оговорок, примеры бессознательного юмора; я даже не пытался исправлять неточности в его научных теориях или изменять даты и места, которые он указывает в описаниях отдельных событий. Еще раз повторю, что я предпочел бы, чтобы читатель сам определил степень правдивости тех или иных, зачастую невероятных, историй полковника Пьята об эпохе, которая так сильно напоминает нашу и так существенно влияет на нее. Как сказал мне Лобковиц: «История Пьята исключительна, но страдания вполне обычны».
Мне удалось навести справки и в сербской церкви, и в русской православной церкви в Бэйсуотере. Там никто не вспомнил Пьята. Мне сказали, что под это описание подходят многие из «плывущих по течению».
Я еще раз хотел бы выразить огромную признательность князю Лобковицу, Ли Фелдманн, которая смогла подтвердить некоторые из воспоминаний Пьята о Махно (она была швеей на его учебном поезде), Стюарту Кристи и Альберту Мелцеру, Чарльзу Плэтту, Максиму и Долорес Якубовски, Джорджу и Борису Хоффману, Украинскому научному институту Гарвардского университета, Джону Клюту, Хилари Бэйли и Джайлсу Гордону, который помог мне скомпоновать окончательный вариант текста, моей жене, Джилл Ричес, которой так долго пришлось жить с Пьятом – и затем, еще дольше, с его призраком, и, наконец, Саймону Кингу и Тиму Шеклтону, редакторам, которые решили, что мемуары Пьята достойны публикации.
Майкл МУРКОК Лэдброк Гроув, май 1979
Глава первая
Я дитя своего века и ровесник его. Я родился в 1900 году, первого января, на юге России – древней подлинной России, где зародилась вся наша великая славянская культура. Разумеется, название «Россия» осталось в прошлом; изменился и календарь, который теперь соответствует англо-саксонским меркам. Так что, следуя новой системе имен и летоисчисления, я родился в Украинской Советской Социалистической Республике 14 января. Мы живем в мире, где множество личин упадка прикрывается мантией прогресса.
Я не еврей, как это часто предполагали невежды, с которыми мне приходилось сталкиваться. Большой казачий ястребиный нос на Западе часто принимают за отвратительный клюв стервятника.
Я не дурак. Я чувствую свое славянское происхождение, чувствую свою кровь. Она шумит в моих венах; она рокочет, как древние реки мой родины, вечно стремящиеся к гармонии с нашей святой, таинственной землей. Моя кровь принадлежит России – так же, как принадлежат ей Дон, Волга и Днепр. Она все еще слышит зов нашей огромной, бескрайней степи, под ее бездонными небесами аристократ и крестьянин, купец и рабочий ощущали собственную ничтожность и осознавали, насколько малозначительно материальное благосостояние, ибо они едины пред Богом и следуют его неисповедимыми путями. Чужеродные западные идеи создали угрозу этому единству. Все началось с промышленных городов, где дымящиеся трубы скрыли наши несравненные русские небеса, а люди отвергли Божий кров и спасение, скрылись от милостивых очей Господа. С городов, застроенных синагогами. И тогда русский народ начал восставать и бросать вызов воле Божьей, как не посмел бы сам царь; как не посмел бы даже Распутин, сыгравший роль Крестителя при Антихристе-Ленине и разрушивший царство изнутри. Под влиянием еврейских социалистов в Харькове, Николаеве, Одессе и Киеве эти кочегары и клепальщики сначала отказались от самого Господа, затем от своей крови, а после и от своих душ, от своих русских душ. Я не могу отказаться от своей души даже после пятидесяти лет изгнания – как же тогда я могу быть евреем? Петром? Иудой? Думаю, что не могу.
Следует признать, я не всегда был религиозен. Я перешел в ортодоксальную греческую веру сравнительно поздно, и, возможно, именно поэтому я ее ценю так же высоко, как миллионы гонимых христиан в так называемом Советском Союзе, которые служат Богу с невиданным в христианском мире усердием. Я всю жизнь терпел расистские оскорбления, и в этом следует винить моего отца, который расстался с верой так же легко, как с семьей. Я познал эти страдания еще ребенком, в Царицыне, и все стало только хуже, когда мы с матерью, к тому времени, вероятно, уже вдовой, переехали обратно в Киев после погрома.
Мать была полькой, но ее семья давно осела на Украине. Она рассказывала, что мой отец был потомком запорожских казаков, в течение многих столетий защищавших славян от нашествий с Востока и натиска империализма с Запада. Мой отец подхватил радикальные идеи сначала в Харькове, где служил чиновником, а потом и на военной службе. После выхода в отставку он жил в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Потом у него начались проблемы с властями. Отца выслали в Царицын. Многие из этих названий, вероятно, незнакомы современному читателю. Санкт-Петербург был переименован в Петроград в 1916‑м[9], с целью избавиться от всяких напоминаний о Германии в названии столицы. Теперь город именуется Ленинградом. Несомненно, название поменяют снова, как только появится новое политическое веяние. Царицын стал Сталинградом и затем Волгоградом, поскольку прошлое в очередной раз пересмотрели, а неизбежное будущее и непостоянное настоящее требуют новых лозунгов и слов, способных даже самых здравомыслящих граждан превратить в шизофреников. Царицын, вероятно, сейчас называют как-то иначе. Как именно, не знает никто, и уж точно не те украинские националисты, эмигранты, с которыми я иногда беседую после церковных служб. Они стали такими же невежественными, как и все прочие местные жители. Мне трудно отыскать равных себе. Я культурный человек, получивший университетское образование в Санкт-Петербурге. Но какая польза от образования в этой стране, если ты не входишь в «круг бывших однокашников»[10], если ты не гомик из Центрального управления информацией[11] или Би-би-си или не любовник принцессы Маргарет[12], если ты не один из многих псевдоинтеллектуалов, которые являются сюда и выдают себя за крестьян, что, вероятно, недалеко от правды? Просто удивительно, как легко эти чехи, поляки, болгары и югославы умеют выдавать себя за академиков и художников. Я постоянно вижу их имена на книгах в библиотеке, в титрах похабных фильмов. Я до них ни за что не унижусь. А что касается девушек, все они – шлюхи, которые нашли на Западе добычу побогаче. Я вижу двоих почти каждый день, когда покупаю хлеб в литовском магазине. Они выставляют напоказ длинные светлые волосы, огромные накрашенные губы и роскошные платья, их кожа покрыта косметикой, они насквозь пропахли духами. Они постоянно трещат по-чешски. Они приходят ко мне за меховыми шапками и шелковыми юбками, а я отказываюсь их обслуживать. Они смеются надо мной. «Старый еврей думает, что мы русские», – говорят они. Ах, если б это было так! Настоящие русские получили бы скидку. Девчонки говорят по-русски, конечно, но они наверняка из Чехии. Поверьте мне, я знаю, что и сам могу вызвать подозрения, потому что я не сообщаю никому, даже британским властям, свою настоящую фамилию. Мой отец много раз менял ее во время революционной деятельности. По различным причинам мне тоже приходилось брать другие имена. У меня все еще есть родственники в России, и было бы нечестно по отношению к ним использовать нашу общую фамилию, у нас очень значительные аристократические связи – и по отцовской, и по материнской линии. А всем хорошо известно, как большевики относятся к аристократам.
Вот какого сорта эти девицы. Коммунизм уничтожил их задолго до того, как они явились на Запад. Никакой морали! Есть у чехов такая шутка: коммунисты избавились от проституции, сделав всех женщин шлюхами. Я помню точно таких же девушек, из хороших семейств, отлично говоривших по-французски. Пятьдесят лет назад они ползали по полу заброшенного Fisch château близ Александрии[13], когда снаряды свистели повсюду в темноте и половина города была охвачена огнем. Грязные и голые, они прикрывали свою наготу дорогими мехами, подаренными бандитами Григорьева. Некоторым не исполнилось и пятнадцати лет. Их маленькие груди раскачивались, плотные губы открывались, чтобы принять нас, они были крайне развратны и наслаждались всем этим. Я почувствовал тошноту и сбежал оттуда, рискуя жизнью, и до сих пор чувствую отвращение, вспоминая об этом. Но следует ли винить девушек? Тогда – нет. Сегодня, в свободном мире, я отвечу: «Да, следует». Ведь в Европе у них есть выбор. И они представляют здесь славянских женщин, столько лет остававшихся чистыми, прекрасными хранительницами домашнего очага. Вот что происходит, когда люди отвергают свою веру.
Моя мать, несмотря на польское происхождение, в своих религиозных предпочтениях склонялась скорее к греческой церкви, чем к римской, хотя, насколько мне известно, она не посещала храмы. Зато соблюдала все православные праздники. Я не помню икон, но уверен, что они были. В алькове у нее висел портрет моего отца в мундире, перед которым всегда горели свечи. Здесь матушка молилась. Она никогда не осуждала отца, но часто напоминала мне о том, как он сбился с пути. Он отринул Бога. Став атеистом, принял участие в восстании 1905 года и, вероятно, был убит, хотя обстоятельства его смерти так и не удалось установить. Мать не говорила прямо, когда об этом заходил разговор. А мои собственные воспоминания исключительно запутанны, припоминаю лишь ощущение ужаса, которое испытал, прячась, кажется, под какой-то лестницей. Но, если задуматься, уравнение представляется достаточно простым: Бог лишил моего отца своей милости и поддержки в наказание. Я очень мало знал о родителе, за исключением нескольких фактов: он служил офицером в казачьем полку, но отказался продолжать карьеру, его семья была довольно богатой, но отвергла его. Мои тактичные родственники никогда о нем не вспоминали. Только дядя Семен в Одессе изредка говорил об отце, но это всегда звучало как ругательство: «Дурак, но дурак с мозгами. Хуже быть не может». В любом случае я ничего об отце не помню, поскольку он редко бывал дома, даже в Царицыне, а мои воспоминания о тех днях ограничивались несколькими узкими, пыльными, невзрачными проулками, по которым мы проезжали, возвращаясь в Киев, где жила сестра моей матери. Здесь они обе работали белошвейками. Это стало ужасным падением для такой женщины, как моя мать, наделенной утонченной чувствительностью, говорящей на нескольких языках и разбирающейся в литературе и науке. Позже она стала управлять паровой прачечной, а после того, как ее сестра во второй раз вышла замуж, мы переехали в двухкомнатную квартиру неподалеку от места работы. Дом стоял в зеленой части города, окруженный старыми деревьями, рощами, парками и полями, рядом с Бабьим Яром, ставшим моей любимой детской площадкой.
Здесь я мог защищать Хайберский проход Киплинга[14] или, играя роль Верной Руки из романов Карла Мая[15], исследовать Скалистые горы, сражаться в Бородинской битве, защищать Византию от нашествия турок. Иногда я отправлялся на берег Днепра и был Гекльберри Финном, Ахавом[16], капитаном Немо.
Уже тогда в Киеве начались революционные бедствия. Агитацией занимались главным образом рабочие в фабричных предместьях за ботаническим садом, в огромных кварталах одноэтажных домов, столь же неприметных и грязных, как и сегодня. Власти весьма решительно подавляли волнения, но все, что я знал об этом, сводилось к одному: мать не выпускала меня на улицу или запрещала ходить в школу. В целом, однако, мне удалось избежать неприятностей. Киев был замечательным городом для подростка. Неподалеку от нашего дома пролегала дорога, ведущая через овраги. Этот район называли киевской Швейцарией. Таким образом, я обладал всеми преимуществами обоих миров, деревенского и городского, хотя мы были совсем не богаты.
Киев, как и вся Украина вообще, вдохновлял и художников, и мыслителей. Добрая половина величайших русских писателей создала здесь свои известнейшие произведения. Лучшие русские инженеры родом отсюда. Даже евреи здесь процветали. Но им, как всегда, было мало.
Возведенный на холмах над рекой, город соборов и монастырей с блестящими куполами-луковицами, украшенными медью, золотом и ляпис-лазурью; со множеством огромных общественных зданий из знаменитого желтого песчаника, деревянных домов с резными фасадами, переполненных уличных рынков, памятников, больших магазинов и театров Крещатика, нашей главной улицы; с университетом и различными институтами, ботаническим садом, зоопарком, современными трамваями; с площадями, сверкающими электрическими вывесками и рекламными щитами, с киосками и театральными афишами; с улицами, забитыми автомобилями, конными повозками, телегами и омнибусами; с многочисленными деревьями, парками и лужайками, с плывущими по великой судоходной реке пароходами, яхтами, баржами и плотами – таким был мой Киев, основанный скандинавами для защиты своего важнейшего торгового пути. Не провинциальный город, но столица Древней Руси, он знал себе цену. Когда-то, много веков назад, его окружала крепостная стена из темных камней и некрашеного дерева. Мать городов русских. Русский Рим. Неверные приходили и отступали, или переходили в нашу веру, или заключали перемирия, возможно, временные, – а Киев всегда оставался. Тогда он был Киевом Желтокаменным, теплым и гостеприимным для всех. В летнем солнечном свете казалось, что весь город сделан из золота, поскольку его кирпичи пылали, а мозаики, цветы и деревья сияли, как драгоценные камни. Зимой город превращался в белую сказку. Весной гул и треск льда на Днепре раздавался по всему городу. Осенью теплое сияние и цвет падающих листьев смешивались так, что город обретал тысячу оттенков нежного загара. К началу двадцатого столетия Киев достиг вершины своей красоты. Теперь, благодаря большевикам, он спрятался в тусклой раковине, став еще одним человеческим ульем с несколькими неприметными памятниками в угоду туристам. Немцев обвиняют в уничтожении Киева, но известно, что чекисты взорвали большую часть города при отступлении в 1941 году. Нынешние памятники – всего лишь копии. История Киева древнее истории большинства европейских городов, отсюда берет начало культура, сформировавшая славянскую цивилизацию. Здесь зародились наши величайшие эпические сказания. Кого, например, не потрясла киноверсия истории Ильи Муромца и героев Киева, защитников христианского мира от татарских орд, – «Богатырь и Чудовище»? Как ни странно, то, чего не добились татары, с успехом осуществили армии большевиков и нацистов, проявившие недюжинное упорство, сочетавшееся с полным отсутствием воображения.
Мы были бедны, но нас со всех сторон окружали богатство и красота. Наш пригород, Куренёвка[17], считался захудалым, хотя выглядел он по-деревенски живописно; деревянные дома с садиками соседствовали с новыми, построенными на французский манер, с внутренними двориками. При желании я мог прогуляться до центра города или сесть на трамвай номер десять, который шел мимо Кирилловской церкви на Подол; а если меня не привлекали виды и запахи еврейского квартала, поднимался по холму к Андреевской церкви, бело-голубой снаружи и золотой внутри, и смотрел оттуда на далекий Днепр, на Труханов остров, где располагался яхт-клуб. Туманными осенними вечерами я любил прохаживаться по широкому бульвару Крещатика, где росли каштаны и работали магазины и рестораны. Но лучше всего Крещатик выглядел на Рождество, когда горели фонари, а снег сваливали у стен и желобов, прокладывая дивные тропинки от двери к двери. Я помню ароматы хвои и льда, печенья и кофе и тот особый запах свежесрубленного дерева и краски – так пахли рождественские игрушки. Такси и тройки мчались в золотистой тьме; дыхание лошадей было белее снега, теплые грохочущие трамваи сияли ярким электрическим светом.
Но это лишь призрак. Того Киева больше нет. Большевики уничтожили все, удирая от нацистов, лишь несколькими месяцами ранее помогавших им грабить Польшу.
В детстве я предпочитал действовать, а не наблюдать. Меня считают интеллектуалом, но по натуре я скорее человек дела. Своим образованием я всецело обязан матери. Она настаивала, чтобы я учился лучше своих сверстников. К счастью, ее окружало множество друзей, вероятно претендовавших на ее руку и сердце, – матушка была красивой жизнерадостной женщиной. Эти люди могли посоветовать лучшие школы и предметы, которыми мне следовало заниматься. К нам постоянно приходили гости, причем не только русские. Зачастую их собиралось много. Нередко у нас появлялся капитан Браун, шотландский инженер, джентльмен, живший в стесненных обстоятельствах. Он занимал комнату этажом выше. По слухам, он дезертировал из индийской армии. Конечно, он много знал о северо-западной границе, Афганистане и о Кавказе, где провел несколько лет (откуда и пошли слухи о дезертирстве). Я не помню, чтобы он хоть раз повторился, рассказывая свои истории. Их было много: о казахах, туркменах, таджиках и киргизах, о Кабуле и Самарканде, о строительстве железных дорог в Грузии. Капитан был невысоким, смуглым человеком, всегда приветливым, но при этом сдержанно-агрессивным. С матерью он вел себя очень заботливо и нежно, словно опасаясь своей собственной силы. Он не только начал учить меня английскому, но и подарил подшивку журнала «Пирсон»[18], который я перечитывал в течение всех своих детских и юношеских лет; он разжег мое воображение, а впоследствии и честолюбие. Я очень любил капитана Брауна еще и потому, что матушка находила интересным его общество. Она ходила с ним в оперу и в театр гораздо чаще, чем с другими поклонниками.
Куренёвка в те годы была одним из самых космополитичных районов. Моя мать нравилась клиентам, по большей части холостякам или слугам состоятельных людей, то ли от скуки, то ли от одиночества проводившим много времени в прачечной. Некоторых из них она допускала в свою контору – крошечную комнату на первом этаже прачечной. Мать угощала их чаем и, возможно, кексом с тмином. Иногда там появлялся и капитан Браун, но наиболее частыми посетителями были мелкие чиновники, в том числе Глеб Альфредович Кориленко, местный почтальон, высокий, тонкий, печальный, похожий на заплутавшего аиста. Раньше он служил на Черноморском флоте, пока не стал инвалидом, пострадав от рук коварных японцев в 1904‑м. Глеб Альфредович был в курсе свежих сплетен, и мать с ее немногочисленными подругами внимательно слушала его, хотя я подозреваю, что и почтальона, и некоторых других посетителей поощряли лишь потому, что их рассказы могли быть полезны для моего образования. Иногда мне разрешали послушать истории о местных богачах, которые рассказывал Кориленко. Я замирал в углу с куском пирога в одной руке и стаканом чая в другой, исследуя мир почти столь же романтичный, как и тот, о котором слышал от капитана Брауна. Я помню запах чая, лимона, пирога и тяжелой смеси мыла, щелока, крахмала и красок. Помню горячий влажный пар, от которого листы газет и журналов сворачивались, а стулья, скатерти и коврики были всегда немного сырыми.
Почтальон иногда посещал и нашу квартиру, вместе с парой женщин и, случалось, с капитаном Брауном. Они приносили бутылку водки и обсуждали сплетни из Москвы и Санкт-Петербурга, а также скандальные слухи о Распутине и царице, не забывая выказывать должное почтение. В то время Распутин был знаменит – странствующий монах, месмерист, мастер по части подмешивания наркотиков в напитки, он втерся в санкт-петербургское общество, вел исключительно безнравственную жизнь, даже совратил младшую из царских дочерей. После пары стаканов водки Кориленко обычно начинал ругать двор, который, по его словам, вырождался. Он полагал, что нужны более сильные мужчины, чтобы управлять женщинами, что царь Николай слишком снисходителен. Но мать всегда заставляла его умолкнуть. Она избегала любых разговоров о политике, подобные темы ее нервировали по очевидным причинам. Вероятно, именно поэтому я до сих пор не переношу бессмысленных политических споров. Я никогда не судил о людях, основываясь на том, за кого они голосуют, – до тех пор, пока они не пытались навязать мне свой выбор. Но, разумеется, только дурак согласится перейти в рабство социализма. В своей жизни я встречал разных людей. Их политические убеждения очень редко соответствовали их действиям.
В это время я гораздо чаще общался со взрослыми, чем со своими ровесниками. Мне всегда трудно давалось общение с другими детьми. Возможно, с тех пор, как я попал в общество взрослых, мир детей стал казаться унылым. Да и дети меня недолюбливали, потому что я участвовал в разговорах старших, и моим завистливым потенциальным друзьям казалось, что я не по годам развит.
Рядом жила одна маленькая девочка, которая восхищалась мной, – Эсме, дочь соседа, джентльмена, который когда-то, думаю, был одним из поклонников моей матери. Мать подозревала, что он анархист, сбежавший из Сибири и живущий под фиктивным именем, поэтому отвергла его. Матушка ни в чем не была уверена, но жизнь научила ее осторожности. И нельзя винить ее за это. Фамилия джентльмена была Лукьянов. Он служил в кавалерии (походка выдавала в нем бывшего наездника) и жил на пенсию. Кориленко сказал нам, что жена Лукьянова сбежала от него в Одессе с английским капитаном, бросив дочь, которой тогда не исполнилось и года. Лукьянов редко выходил на улицу. Чаще мы видели его белье, которое приносила в прачечную Эсме. Она восхищалась мной, что очень льстило. Мать не одобряла нашей дружбы; она могла принять за провокатора даже лошадь с красной лентой на хвосте. Эсме, прелестное белокурое создание, вела домашнее хозяйство и таким образом подобно мне была приобщена к миру взрослых. Мы, вероятно, выглядели очень забавно, обсуждая тревоги и заботы мира, когда я провожал Эсме до дома из прачечной.
Мне нравилось общество Эсме, но я не испытывал к ней никаких романтических чувств. Мое сердце принадлежало черноокой девочке, торговавшей подержанными оловянными игрушками с лотка на углу возле трамвайной остановки. Иногда она носила клетку, в которой сидела ученая канарейка, клювом указывавшая на буквы и знаки, предсказывая тем самым будущее. Девочка была настоящей цыганкой, из табора, расположившегося в одном из оврагов. Однажды пасмурным осенним днем я осмелился приблизиться к табору. Он оказался совсем не таким, как я ожидал. Я не увидел расписных кибиток, только скопище лачуг и телег и костры, темный дым от которых поднимался высоко в небеса. Это место не было раем, который я себе воображал, оно больше напоминало ад. Увиденное до некоторой степени охладило мой пыл, и я больше не собирался тотчас жениться на своей возлюбленной согласно обычаям ее народа (с цыганским бароном, разумеется, во главе стола), но покупал с ее лотка столько игрушек, сколько мог себе позволить. Ее канарейка всегда предсказывала мне удачу. Я узнал, что девочку звали Зоя. У нее были красные губы и вьющиеся черные волосы, а манеры, вопреки обстоятельствам, завораживали. Думаю, ее родители были румынами. Поведение Зои решительно отличалось от пассивной женственности моей подруги Эсме. Юная цыганка не обладала ни скромностью, ни спокойствием. Она говорила на диалекте, который напоминал мягкое южноукраинское наречие, многих слов я просто не понимал, «а» и «о» всегда путались и сливались в один звук. Зоя вела себя по-мальчишески развязно. Я думал, что она считала меня привлекательным. Возможно, дело было в ее глазах, казалось, с сексуальным интересом смотревших на все живое. Моя мать сочла ее еще более сомнительной знакомой, чем Эсме. Когда я предложил пригласить Зою к нам домой на чашку чая, с матерью случился сильнейший истерический припадок. После этого Эсме больше не считалась персоной нон грата.
Однажды Зои не оказалось на обычном месте, и я отправился к оврагу, чтобы отыскать ее. Табор исчез. Все, что от него осталось, – только груды мусора, которые цыгане оставляют после себя по всему миру. Я узнал от прохожего, что власти прогнали их прочь. Он предположил, что они отправились по дороге на Фастов[19], а оттуда по побережью в Крым. Этот человек обрадовался, когда увидел, что цыгане уходят. У него пропало несколько цыплят с тех пор, как они разбили здесь лагерь. Я почувствовал тогда, что лишился чего-то большего, чем просто дешевого источника немецких игрушек.
Надежда привела меня на Бессарабку, как будто я рассчитывал отыскать Зою среди шарманщиков, нищих и торговцев экзотической живностью, среди ярмарочного шума и гама. Я почти верил, что увижу телеги, в которых везут глиняные печи и самоварные трубы. Здесь стояли несколько продавцов игрушек с лотками. Все они были очень старыми, длиннобородыми, неискренне усмехавшимися. Также я повстречал ремесленников, чинивших горшки и ботинки, но моя цыганка уехала до первого снега и направилась в солнечные края. Я купил себе в качестве утешения балабуху[20], знаменитое киевское лакомство, и пошел домой. Я надеялся еще когда-нибудь увидеть Зою.
В течение следующей весны и лета мы с Эсме не раз ходили гулять в Кирилловский лес[21], находившийся неподалеку. Отчетливее всего я помню буераки и аромат сирени, в кустах которой мы спрятались во время летнего дождя, на вершине оврага, глядя сверху на другой цыганский табор. Дождь все лил и лил. Оранжевое пламя и черный дым от костров взлетали в полутьму. В конце концов мы промокли достаточно, чтобы набраться храбрости и попросить убежища. Я повел Эсме вниз по скользкому склону, все ближе и ближе к пестрой толпе бродяг, которые сначала не замечали нас, а потом приветствовали с необычайной предупредительностью, интересуясь, не желаем ли мы купить игрушку или амулет на удачу. Поскольку эти сомнительные сделки совершались еще более сомнительными руками, мы лишь качали головами и, как только дождь прекратился, снова поднялись наверх. Мы вернулись на следующее утро, все еще очарованные нашим открытием, а потом Эсме стала одержима мыслью, что нас похитят; она сбежала, оставив меня наедине с сомнительными предложениями, хитрыми усмешками и вкрадчивыми голосами цыган. Это сборище разогнали полицейские несколько дней спустя; я полагаю, основной причиной действий властей стал донос моей матери. Мне запретили впредь ходить к цыганам.
Некоторое время спустя после этого инцидента нас с Эсме определили в превосходную местную школу, которой самоотверженно управляла немецкая чета по фамилии Лустгартен. То, что нас зачислили одновременно, было, как я узнал от расстроенной матери, просто неудачным совпадением. Я понял, что кто-то из родственников помогал оплачивать мои занятия, но так никогда и не узнал, кто именно. Возможно, это мой дядя Семён, или Сеня, как мы его называли.
Строгий и щедрый, не расстававшийся со своей ротанговой тростью, герр Лустгартен оказался превосходным наставником. Наибольшей радостью для него было обнаружить ученика, в котором удавалось разжечь подлинную жажду знаний. Очень высокий, сероглазый, со впалыми щеками, он носил строгий сюртук с высоким воротником. Его черные ботинки всегда были отполированы до зеркального блеска. Так и вижу, как его руки и ноги извиваются, точно стяги на ветру, а трость взлетает вверх, когда он разъясняет какую-нибудь алгебраическую задачу. Я оказался одним из его любимых учеников. Обнаружилось, что я наделен от природы способностями к языкам и математике. Я овладел практическими навыками немецкого и французского, выучил чешский, на котором Лустгартены, прожившие несколько лет в Праге, говорили превосходно; а с помощью матери я освоил польский язык. Знанием английского я в основном обязан капитану Брауну, который продолжал поощрять меня во всех моих занятиях. Подобно многим сверстникам, по-украински я знал лишь несколько слов. Моим родным языком был русский. Мания национализма тогда еще не овладела Украиной. Кто-то недавно предположил, что, когда красные запретили украинцам погромы, те нашли альтернативу – национализм. Что же, я не любитель евреев, но и не националист. Герр Лустгартен, как и многие немцы его поколения, был отчасти филосемитом. Матушку могли бы потрясти до глубины души его рассуждения о русском характере. Я почти дословно могу вспомнить его излюбленное высказывание о том, что русские похожи на американцев. Они лишены представлений об этике, у них есть только благочестие. Их церковь, при поддержке чиновников и военных, дарует им формулу жизни. Вот почему в поисках этических идеалов они обращаются к романистам, к которым относятся с таким уважением. Вот почему юноши и девушки подражают персонажам Толстого и Достоевского. Эти писатели – не просто сочинители, они наставники, отшельники, подобно моравским братьям Германии и Богемии, Лютеру или Джону Уэсли, квакерам. У русских людей нет моральных принципов, за исключением одного простейшего: служить Царю и Богу.
Я запомнил слова герра Лустгартена, потому что в некотором отношении они оказались пророческими. Думаю, русские снова начали осознавать растущую угрозу жидомасонского заговора. Я слышал, что армия печатает брошюры, предупреждающие солдат об опасностях международного сионизма. Что касается «желтой угрозы», то большинству славян об этом уже хорошо известно. Великое учение, которое так и не смог понять профессор Лустгартен, – это теория панславизма[22], распространенная на Украине, в центре и исходной точке крупнейшего славянского государства в мире. Потенциально именно здесь – основа единого славянского государства, включающего Польшу, Литву, Чехословакию, Болгарию, Югославию, даже часть Греции. Такое государство могло бы спасти основы западной культуры, сопротивляясь упадочным влияниям Америки и варварству новой татарской империи Мао. Мелкие навязчивые идеи германского богословия – не для нас. Нас интересует наша собственная судьба. Украинский национализм существенно отличается от панславизма, поэтому он никогда не был мне близок. Я родился в Российской империи, и мое самое сильное желание – умереть там же, хотя, боюсь, пройдет гораздо больше времени, прежде чем русские люди окончательно вернутся к своему древнему наследию.
Исторические воззрения герра Лустгартена не всегда совпадали с моими, но я превосходно отвечал на его уроках. Он это оценил и начал заниматься со мной дополнительно по вечерам. Учитель уверял меня, что, при должном прилежании, я смогу добиться успеха на академическом поприще. Матушка была счастлива, а я радовался, что могу хоть как-то вознаградить ее за принесенные жертвы. Она говорила, что умственные способности у меня от отца, но моральные ценности – ее заслуга. Я решил не тратить впустую свои интеллектуальные силы, как истратил их мой отец. Мать занялась шитьем, чтобы платить за дополнительное обучение, и с одиннадцати лет (в тот год в Киеве убили Столыпина) я учился математике и естествознанию у герра Лустгартена, а также языкам и литературе у фрау Лустгартен. Эта замечательная леди являла полную противоположность мужу: она была настолько тихой, апатичной, низенькой и толстой, насколько ее муж – шумным, подвижным, высоким и худощавым. Фрау Лустгартен познакомила меня с книгами, которые произвели на меня сильнейшее впечатление. Гриммельсгаузен, Диккенс, Гёте, Гюго и Верн к тринадцати годам стали моими любимыми писателями. Я также читал подшивки «Пирсона», подаренные мне капитаном Брауном. Всего их было двадцать восемь. Мне жаль, что ни одной не сохранилось, они, наверное, стоили бы сейчас целое состояние, но пропали вместе со многими другими вещами во время Гражданской войны, после установления власти Ленина. У них были одинаковые переплеты с золотым, синим и темно-зеленым тиснением на корешках. Я прочитал в них каждое слово по меньшей мере дважды. Здесь были рассказы Герберта Уэллса, Катклиффа Хайна, Макса Пембертона, Гая Бутби, Конан Дойла, Генри Райдера Хаггарда, Рафаэля Сабатини и Роберта Барра[23] – эти имена сегодня почти никто не слышал. Фильмы, радио и телевидение полностью уничтожили грамотность. Социалисты дошли до предела – народ опустился до уровня мужиков. В мое время все стремились к совершенствованию. Сейчас даже представители так называемых образованных классов испытывают лишь одно желание – казаться тупыми и неграмотными.
К 1913‑му году моя жизнь сводилась исключительно к работе и чтению. Я видел Эсме только по дороге в школу (девочки занимались отдельно от мальчиков), и мы редко говорили о чем-то помимо учебы. Ее отец захворал, и она все реже посещала занятия, потому что ухаживала за ним. Эсме была ангелом. За исключением этой дружбы, я не заводил знакомств и оставался одиноким ребенком. Все это, вкупе с моей тягой к знаниям, вызывало неприязнь у большинства других мальчиков; я терпел самые ужасные оскорбления, обычно не отвечая на них. На некоторое время у меня появился друг. Его звали Юра, он был примерно моего возраста и происходил из очень бедной семьи. Он часто приходил и сидел возле нашей печи, в то время как я занимался по вечерам. Я помогал ему с уроками. Мать обрадовалась тому, что у меня появился приятель. Но потом пропало несколько украшений, и взять их мог только Юра. На следующий день я обвинил его в воровстве. Он откровенно признался. Я спросил, почему он украл у нас, у людей, которые были добры к нему, – и получил отвратительный ответ.
– Потому что вы жиды, – сказал он. – Жиды – законная добыча. Так все говорят.
Страдая от того, что меня так опорочили, я пожаловался герру Лустгартену, который не проявил ко мне сочувствия; его отношение я почему-то никак не мог определить.
– Я сын казака, – сказал я ему и его жене. – Пойдемте ко мне домой, и я вам это докажу.
Герр Лустгартен привел Юру к нам домой, чтобы, по его словам, вор мог лично отдать украденные вещи; не все, но то, что удалось отыскать, передали в руки моей матери. Под угрозой трости герра Лустгартена Юра извинился, хотя было очевидно, что он считал себя жертвой. Я достал раскрашенную вручную фотографию отца в shapka и казачьей форме. Если и требовалось доказательство чистоты отцовской крови, то этого было достаточно. Я показал портрет Юре. Его ответ довел мою мать до слез:
– Это ж просто картинка. Все знают, что ты еврейский ублюдок. Что она доказывает-то?
Я вырвал трость из тонкой руки учителя и обрушил ее на голову Юры. Я никогда не испытывал такой ярости. И на сей раз, вновь неожиданно, герр Лустгартен оказался на моей стороне. Юра угрожал, упоминая черносотенцев (патриотов, которые пытались справиться с коварными происками еврейских сил), и сдался лишь тогда, когда герр Лустгартен сказал, что выгонит его из школы и сообщит причину родителям. Это положило конец нашей дружбе. Юра сколотил банду, причем не только из детей бедняков, и начал всячески изводить меня. Они преследовали меня от школы до самого дома, предлагали «честную драку», а когда я отказывался, просто гнались за мной, обзывая «раввинчиком» и «иерусалимским полковником» – в тогдашнем Киеве эти клички были не просто неприятной клеветой, при определенных условиях они могли стать смертным приговором. Тем не менее подобные оскорбления в годы моего детства звучали достаточно часто, и им не придавали особого значения – все равно что обозвать жидом человека, не имевшего ни капли семитской крови. Однако именно эти нападки раздражали меня сильнее прочих, таких как «учительский любимчик», «подхалим», «ябеда» или даже «дебил». Из-за них я и швырялся камнями и участвовал в кулачных драках.
Эта городская шушера, многие представители которой были иностранцами по происхождению, вероятно, ревновала к моему древнему неотъемлемому праву казака. Мой отец – атеист с нелепыми «прогрессивными» идеями – не только сделал мою мать бедной вдовой, он также бесцеремонно распорядился и моим детским телом; как объясняла мать, по гигиеническим причинам. Таким образом, будучи абсолютным гоем, я получил еврейское клеймо. Я не знал тогда, в какой смертельной опасности окажусь много лет спустя из-за этой отцовской прихоти. Он мог с тем же успехом попытаться перерезать мне горло в младенчестве. Сейчас в подобных операциях нет ничего необыкновенного, но на Украине в 1900‑х это было все равно что принять иудаизм. Евреев удивляет негодование украинцев. Здесь, впрочем, нет ничего странного. Заняв земли польских дворян, евреи много лет эксплуатировали наших помещиков и крестьян. Когда казаки изгнали шляхтичей, они также отомстили и ростовщикам, их прислужникам. И евреи защищали поляков с мушкетами и мечами в руках. Я не собираюсь оправдывать жестокость и дикость. Но евреи не так безупречны, как изображают себя в наши дни. Если бы я был одним из них – принял бы причины украинской ненависти. Это могло бы всех примирить. Но евреи слишком горды для этого.
Да, моя мать могла во многом винить моего отца, но говорила об этом очень редко. Она вспоминала о нем с уважением и грустью (исключая упоминания о его атеизме) и требовала чтить его имя. Увы, я не был способен на это даже ради нее. Как я заметил, он оставил меня на дороге жизни в таком невыгодном положении, что можно только удивляться, как я оказался сегодня здесь. От него мне достались лишь интеллектуальные способности, которые не раз спасали меня от смерти или пыток; но воображение и чувствительность я унаследовал от матери, как она сама говорила. Бунт отца против великого казачьего наследия, против русской религии и культуры принес ему лишь страх и гибель. А тем, кого он покинул, – только горе. Чего добилась победившая революция? Только смерти. Только унижений. Как мы не раз говорили: «Лучше быть евреем в царском Минске, чем православным в советской Москве». И разве это – прогресс?
Возможно, я унаследовал от отца еще одно свойство: веру в будущее, которая исказила его восприятие реальности, заменила религию, а в моем случае обернулась верой исключительно в научный прогресс. Верн и Уэллс, а также статьи и рассказы из «Пирсона» пробудили во мне восторг перед чудесами науки и техники. Еще до моего знакомства с этими произведениями я решил стать инженером. К этому меня побуждала благородная любовь к самой науке. Я не смешивал свои благородные чувства с псевдорацио-нальными рассуждениями, подобно какому-нибудь нервному средневековому монаху, который оправдывал свой интерес к алхимии, уверяя, что это дело Божье. Я испытывал ненависть ко всем формам казенного благочестия. Я считал себя одним из тех, кто может воплотить славянский дух в науке и поставить научное знание на службу славянской душе. Вводя посторонние темы в свои истории, Верн, анархист, и Уэллс, социалист, сильно вредили и себе, и читателям, искажая их восприятие, которое приспосабливалось к усвоению далеких от науки материалов; примерно так же Распутин искажал религию, позволяя себе тем самым разные сексуальные извращения. Мы жили в эпоху, когда чистые помыслы и откровенные слова были в большом дефиците. Даже Джек Лондон, который с таким глубоким чувством повествовал о природе и благородстве дикого Севера, предал свой дар, сочиняя пессимистические и полемические рассказы. Он был вынужден делать это, иначе никто не относился бы к нему всерьез. Он утратил бы престиж среди так называемых либералов, которые довели наш мир до нынешнего жалкого состояния. Все беспокоятся о хорошей репутации, но иногда цена, которую мы платим за нее, слишком высока.
Как ни странно, желание стать инженером зародилось у меня гораздо раньше, чем я достаточно овладел английским языком и смог читать рассказы в «Пирсоне». Однажды мы с Эсме куда-то шли по центру Киева, возможно, на Крещатик, и наткнулись на большой магазин на углу, возле театра. Я помню еще один из тех старых киосков с куполообразной крышей, скопированной у французов, и общественный писсуар, также на французский манер. Большинство инженеров, с которыми я познакомился позднее, испытывали потрясение после первой поездки на поезде, при первом знакомстве с автомобилями или монопланами. В моем случае все было иначе – я увидел обычный английский велосипед. Как и во многих киевских магазинах того времени, окна не использовались для демонстрации товаров, но мы смогли заглянуть внутрь и увидеть велосипед, стоявший на особом возвышении. Эсме, казалось, разделила мой интерес к этому механизму (хотя, возможно, она просто хотела меня порадовать) и начала рассуждать, как мы могли бы купить его или как владелец магазина подарил бы его нам за некую значительную услугу. Было солнечное весеннее утро. На каштанах распускались первые почки. Позади нас проезжали по широкой мощеной улице пролетки, телеги, фургоны и автомобили. Начался не просто новый год – началась новая эра. В магазине также продавались граммофоны, пианолы, механические органы, гитары и балалайки, но велосипед казался местным аристократом. Красивый черный агрегат (мужской велосипед Райли «Принц Альберт»[24], ныне давно исчезнувший) сверкал на солнце, лучи которого касались красных и золотых рычагов и полированных стальных деталей. Он был мне не по карману. Этот велосипед стоил гораздо дороже более доступных немецких и французских моделей. Я не помню, чтобы представлял себе, как велосипед станет моим. Я даже не думал о том, чтобы попасть в магазин, изображая покупателя, осмотреть или потрогать механизм; мне даже не хотелось на нем прокатиться. Эсме попыталась заставить меня войти внутрь и даже предложила составить компанию, но я отказался. Меня впечатлил не сам механизм, а то, что за ним стояло. Он воплощал собой все величайшие изобретения последних столетий. За ним были воздушные корабли и самолеты; электрические поезда, паровые турбины, моторные автобусы, трамваи, телефоны, беспроводное радио; там же были стальные мосты, небоскребы и механические комбайны. Вот так отвлеченная математика воплотилась в реальность. Я изучал тормоза, цепи, спицы, гайки и стальной каркас. Меня покорила божественная простота механической системы, которая при обычном давлении на педали заставляла двигаться цепное колесо, которое затем передавало свое движение заднему колесу, чтобы с минимальными затратами помочь человеку перемещаться быстрее и дальше, чем способно любое другое живое существо. За пределами этой идеи – откровения, если пожелаете, – меня ничто не интересовало. Конечно, почти все научные изобретения тех времен служили пользе человечества, но для меня их прелесть состояла в самом факте существования. Они работали. Они воплощали решение проблем. Орудия Круппа и динамит Нобеля пробуждали во мне те же эстетические чувства, что гидростанции или санитарные «мерседесы». Меня вдохновляли механизмы, а не их применение. Поршни и цилиндры, цепи и схемы нравились мне, пока они исполняли свои задачи: двигали корабли, поднимали самолеты ввысь, отправляли сообщения. Мне казалось, что не стоит углубляться в метафизические или социологические рассуждения об их применении. Когда началась война и мы услышали о британских танках, я не выразил ни малейшего неодобрения. Я уже ожидал их. Они стали видением, воплощенным в реальность при помощи стальных листов, резины и двигателей внутреннего сгорания. Я также восторгался бомбардировщиками Сикорского, «Большой Бертой» и огромными цеппелинами[25], атаковавшими Париж и Лондон, и уже начал обдумывать собственные идеи, которые, будь я на пару лет старше, могли бы изменить не только ход войны, но и всю мировую историю. Но мне не хотелось бы слишком преувеличивать свою роль в истории, в конце концов, я ее жертва, а не победитель; если бы я пытался доказать обратное, меня приняли бы за старого дурака. Я не намерен подтверждать мнение мужланов, считающих меня всего лишь смешным дряхлым беглецом из России, владеющим лавкой подержанного тряпья на Портобелло-роуд.
Что ж, меня вполне устраивает это – пусть люди думают что хотят. Они тем более удивятся, когда прочитают эту книгу и увидят, чего я достиг. Вот мое маленькое торжество – знать, что крестьяне и бездельники, отребье с трех континентов, видят меня, не осознавая, кто я на самом деле. Есть несколько человек, которые относятся ко мне с уважением, им я и открываю свои тайны. Но я сейчас не хочу известности. Почестей будет великое множество после моей смерти. Я уже насмотрелся на политиков – хватит на несколько жизней. Мое сердце вряд ли выдержит ту публичность, которую я мог бы получить. Признаю, маленькая пенсия, орден Британской империи, возможно, рыцарство помогли бы мне на склоне лет, потому что я остался один. Только госпожа Корнелиус поддерживала меня. Я переехал в этот район, чтобы быть поближе к ней. Я мог бы перебраться в Эрлс Корт, получить работу в правительстве. Но я пока не стану говорить о госпоже Корнелиус. Лучше вы сначала узнаете, что за человек пишет об этой замечательной личности, получившей заслуженную известность, как и ее одаренные потомки. Здесь я скажу только одно: она никогда не предавала меня.
Я снова и снова приходил к магазину, в котором стоял одинокий английский велосипед, а потом случалось неизбежное – его продали. Я увидел этот велосипед однажды на мосту около зоологического сада и тотчас узнал. Но я не печалился, ведь остался образ.
Много лет спустя я прочел роман Герберта Уэллса «Колеса фортуны» и был разочарован. В книге обнаружились зачатки последующего литературного упадка писателя. Роман в целом оказался слишком легкомысленным и не содержал ни малейших следов мистического вдохновения, которое я обнаружил в «Войне миров», прочитанной в «Пирсоне». Его «Морская дева», напечатанная там же, оказалась столь же никчемной вещицей. Желание стать модными и забавными может овладеть даже лучшими из нас. Почему выходит так, что автор может быть полон оптимизма и веры в одной книге и глуп и циничен – в другой? Изучение сочинений Фрейда – который, как я узнал, был злобным, ненавидящим людей венским евреем, пренебрежительно обходившимся со всеми, кого он причислял к низшим классам, – помогло мне найти объяснение этой загадки. Не то чтобы я уважал так называемых психологов, особенно тех, которые относились к отвратительной венской школе. Если спросите меня, то узнаете: многие из них в зрелые годы находились на грани окончательного помешательства. Во время моей единственной встречи с Гербертом Уэллсом я спросил его, почему он потратил впустую так много времени на свои ненаучные романы; он ответил, что когда-то считал себя способным достичь тех же целей с помощью комедии. Его ответ меня очень огорчил. Приходится предположить, что он смеялся надо мной, или был пьян, или испытывал, как случается со многими художниками, приступ временного слабоумия. Также возможно, что он просто ослышался, хотя мой английский язык превосходен, что подтверждает это повествование.
Впрочем, у меня поначалу возникали некоторые трудности – иногда собеседники не понимали меня. Разговорный английский я изучил с помощью госпожи Корнелиус. Мои попытки применить его для непринужденного общения не всегда были успешными. В первый год моей жизни в Англии я нередко попадал впросак благодаря своей подруге. Мне гораздо лучше удавалось общаться, как случалось в двадцатые, используя английский язык «Пирсона», который по крайней мере все легко понимали. Мое дружеское и восторженное приветствие «Как поживаешь, старый пидор?», адресованное мистеру, а позднее лорду, Уинстону Черчиллю на встрече с польскими эмигрантами, было принято отнюдь не так хорошо, как я ожидал, и я так и не смог поблагодарить мистера Черчилля за горячую поддержку, оказанную им по делу законных правителей России.
Теперь я понимаю, что у англичан есть нечто общее с японцами, которым не нравится, когда иностранцы слишком хорошо владеют их языком. В Японии, как мне рассказывали, люди, знающие японский в совершенстве, должны изображать сильный акцент, чтобы их принимали в обществе. Как и все жители Востока, наши японские друзья с исключительным вниманием относятся к правилам этикета, которые иностранцам нелегко усвоить. Как явствует из моего опыта, это заметно, пусть и в меньшей степени, во всех странах. Я по своей природе невероятно дипломатичен, но иногда мое поведение истолковывали превратно из-за того, что я неподобающе свободно владел языком.
Чувство такта у меня от природы, и его поощряла моя мать, страдающая от позора, навлеченного на нас деятельностью отца. Когда в Киеве начались волнения, к нам не раз приходили полицейские. В основном они были доброжелательными, веселыми офицерами, просто исполнявшими свои обязанности. Даже расследуя серьезные преступления, они вели себя достойнее, чем фанатики в кожаных тужурках из ленинской ЧК. В самом деле, полицейские являлись настоящими представителями царской власти, доброжелательными, заботливыми, немного сдержанными. Они полагали, что наши молодые люди увлекались романтическими идеями прежде всего французского, немецкого и американского происхождения. Я вспоминаю такую историю: встретив Керенского после первой революции, царь сердечно заметил: «Этот человек любит Россию. Мне очень жаль, что я не познакомился с ним раньше, поскольку он мог быть полезен». Подобное великодушие, куда большее, чем я сумел бы изобразить в подобной ситуации, было типично для человека и для системы, которую критиковали со всех сторон. Когда действительно требовались активные действия, они совершались решительно и без злобы. Каждой атаке казаков предшествовали тысячи противозаконных выступлений. Провинившихся юношей из хороших семей редко казнили за преступления, их отправляли в изгнание, зачастую оставляли на попечение родственников, чтобы немного остудить горячую кровь. Только самые настырные и порочные революционеры-пролетарии получали длительные тюремные сроки или приговаривались к высшей мере наказания. Мать это понимала, она сознавала, что полицейские делают свою работу. Когда они звонили в дверь, их всегда радушно принимали и приглашали к столу – поесть пирогов и выпить чаю из нашего самовара. Я помню большие сине-золотые мундиры, висевшие у печи. Мое впечатление от этих мужчин не имело ничего общего с ужасом. Я восхищался их роскошной форменной одеждой, ухоженными бородами и усами.
Помню, как однажды порадовал наших гостей, сообщив им совершенно серьезно, что, если бы мне не было суждено стать великим инженером, я хотел бы стать полицейским или солдатом на царской службе. Свершилось так, что оба моих желания необычайным образом исполнились, хотя и здесь меня поджидали неудачи и недоразумения. Матушка была горда мной и удостоилась комплиментов от офицеров. Один из них, видимо знавший моего отца, заметил, что я значительно разумнее своего родителя. Мать улыбнулась, но я видел, что ее это покоробило. Она не принимала критики в адрес отца, даже если та звучала в ее пользу и в пользу ее единственного сына. Полицейские покинули нас в хорошем настроении, очевидно помимо чая хлебнув еще и водки, и мать, тяжело вздохнув и странно посмотрев на меня, велела продолжать ужин, прерванный неожиданным визитом. Она прислонилась к печи, на которой я обычно спал зимой. У нее перехватило дыхание, как будто ее облили ледяной водой. Будучи сильной женщиной, мать очень скоро пришла в себя, но оставалась рассеянной до конца вечера. Позднее выяснилось, что мой отец был не единственным красным в семействе. Брат матери оказался вторым. Насколько я знаю, он никогда не попадал под суд. Ходили слухи, что он жил в Женеве. Матушка никогда не получала от него писем.
Газет и брошюр радикального содержания в доме никогда не хранили. У нас под запретом находились даже самые умеренные националистические издания. Мать была настолько осторожна, что осматривала бумагу, в которую заворачивали мясо или рыбу, – нет ли там пропаганды мятежников. Она однажды развернула большой сверток, чтобы выбросить из него листок «Киевской мысли»[26], – лишь бы не нести его домой. Матушка страдала от нервных припадков, и в этом я также виню ее мужа.
У нее случались кошмары, у женщины, которую мне приходится называть Елизаветой Филипповной (это имя я позаимствовал у одной из соседок, которые были добры к нам; а по-настоящему ее звали так же, как знаменитую княгиню). Часто я просыпался посреди ночи, слыша лихорадочный шепот, доносившийся с ее кушетки. Я смотрел поверх высокой спинки кровати и видел, как мать поднимается, подобно трупу на Страшном суде. Потом она кричала, издавая длинный, жалобный звук. Иногда выкрикивала: «Прости меня!» Потом молилась во сне или заламывала руки и тихо плакала, распущенные черные волосы вздымались вокруг ее бледного лица, как демонический нимб. Я знал, что мне следовало проявлять больше сочувствия, но слишком боялся. Казалось, матушка чувствовала себя виноватой (возможно, потому, что не была рядом с отцом в момент его смерти), но был ли этот грех подлинным или выдуманным – мне не известно. Она часто засыпала, даже не понимая, что произошло, но иногда я будил ее, если мне казалось, что ей грозит опасность. Через некоторое время я привык к этим кошмарам и, поскольку очень много занимался, зачастую спал, не замечая их. Способность засыпать в самых неподходящих обстоятельствах стала для меня и преимуществом, и недостатком. Кошмары моей матери чаще всего случались осенью и зимой. Именно из-за них я больше не приглашал Эсме к нам, когда ее отца забирали в больницу; мать не позволяла мне ходить домой к революционеру, но капитан Браун заботился о моей подруге, когда мог. Он стал все чаще напиваться, и матери приходилось выпроваживать его, потому что сосед был слишком пьян. Впрочем, он никогда не выходил за рамки приличий.
У матери появились и другие причины для беспокойства, связанные с нашими одесскими родственниками, – многие из них имели неприятности с законом по разным мелким поводам, позоря тем самым семью. За исключением дяди Сени, все они были двоюродными или троюродными братьями матери. Время от времени они приезжали в Киев, изредка останавливаясь у нас, к ее превеликой тревоге. Мы всегда получали какие-то вещи в качестве платы за гостеприимство: душистое мыло, импортные консервы или французское вино. Мать старалась по возможности продать эти подарки, случалось, что даже раздавала их, лишь бы не держать в доме. Я думаю, что молодые люди из Одессы занимались контрабандой. Они, конечно, казались более состоятельными по сравнению с бедными киевскими родственниками. Дядя Сеня был преуспевающим посредником по морским перевозкам, куда более представительным и богатым, чем сомнительные фарцовщики, так цинично пользовавшиеся кровным родством, но он утверждал, что не в состоянии контролировать своих подручных. Именно к дяде Сене, полагаю, моя мать чаще всего и обращалась, когда требовалась помощь с оплатой счетов за обучение.
Помимо литературы, языков и математики я изучал географию и основные научные теории. Полноценное образование лежало за пределами возможностей доброжелательного немца. Я очень много читал и особенно увлекся американской книгой, доставшейся от одного из моих одесских кузенов, – в ней описывались современные методы строительства летающих машин. В то время можно было не только научиться летать самостоятельно, без инструкторов и лицензий, но и построить свой собственный летательный аппарат. В книге обнаружилось множество подробных чертежей, а также рукописных указаний, которые показались бы совершенной загадкой всякому, кто не au fait[27] с современными летающим машинами: оптимальный угол падения, центр тяжести, центр сноса, вращающий момент пропеллера и так далее. Сверяясь с ней, я мог построить весь самолет, за исключением двигателя, самостоятельно – от сооружения каркаса до пропитки холста. Эта книга тоже пала жертвой революции и Гражданской войны.
К тому времени, когда мне минуло тринадцать с половиной лет, герр Лустгартен решил, что больше ничему не способен меня научить. Полагаю, я превзошел его ученостью. Незадолго до войны Киевский политехнический институт, где, по логике, я должен был продолжить свое обучение, стал рассадником радикализма. Мать отказалась отправлять меня туда, несмотря на заверения, что я хочу только учиться. Я бы никогда не заразился нигилистическими чувствами молодых людей, которые вместо того, чтобы познать мир, собирались изменить его и заставить принять их невежество. Институтская система квот была слишком либеральной. Встал вопрос о документах, удостоверяющих личность. Мой покойный отец вновь препятствовал моей карьере. Я полагал, что достаточно будет просто подать заявление, но мать посчитала, что прежде мне следует подготовиться к устным вступительным экзаменам. Это решение приняли после заключительной беседы с герром Лустгартеном, который предостерег мать, что приемная комиссия сочтет меня «больно умным». Увы, в этом мире у человека с мозгами нет никаких преимуществ. Чтобы не терять времени, наконец договорились, что я начну зубрить по вечерам, готовясь к вступительным экзаменам в институт, а в течение дня стану приобретать то, что герр Лустгартен называл «практическим опытом». Меня отправили на работу к Саркису Михайловичу Куюмджану.
Так звали знаменитого местного механика, которого я поначалу глубоко презирал. Куюмджан был обрусевшим армянином, родившимся в Батуми, и христианином. Он служил инженером на корабле, а потом повстречал в Одессе украинскую девушку и в конечном счете обосновался в Киеве, работая сначала на компанию речного судоходства, позже – на трамвайную компанию и, наконец, на себя. Этот человек мог справиться с любыми механизмами – от электрических генераторов, паровых двигателей, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания до оборудования, принадлежавшего мелким предприятиям, процветавшим тогда в Киеве. Его основными клиентами являлись евреи с Подола, владевшие жуткими грязными заводиками. Услуги Куюмджана стоили дешево, а сам он был всегда весел. Я полагаю, что англичане назвали бы его словом «bodger», лататель. Ему платили не за обслуживание новых машин, а за поддержание в рабочем состоянии старых с минимальными затратами. Он жил в нескольких кварталах к востоку от нас, за Кирилловской, в ветхом деревянном домишке, заваленном обломками механизмов и различных изобретений, которые он начинал, но никак не мог закончить. Он не прислушивался к моим советам, которые уже тогда были исключительно разумными. Ему недоставало воображения, которое необходимо великому инженеру. Саркис Михайлович рассказал мне, что он последний в роду. Вся его родня, мужчины, женщины и дети, оказались среди тех ста пятидесяти тысяч армян, которых турки согнали в пустыню на верную смерть в самом начале столетия. В наше время все считают нацистов изобретателями современного геноцида, но они, возможно, многому научились у турок, которые решили армянский вопрос не так суетливо и с меньшими расходами. Мы на Украине научились бояться угрозы с Востока до того, как обнаружили себя воюющими с Западом.
Слово «турок» было самым грубым ругательством, которое я слышал от Саркиса Михайловича, но пробирало сильнее любой брани.
Мне не хотелось становиться учеником армянского кустаря-механика, пробавляющегося случайной работой, но мать настояла на том, что я должен узнать, как ведутся дела. Таким образом, в июне 1913‑го я стал помощником Саркиса Михайловича Куюмджана, отправлялся с ним почти по каждому вызову, даже сам делал небольшой и простой ремонт, и впервые ознакомился с азами инженерного дела. Матушка оказалась права. Мне стала нравиться моя работа. То лето было чудесным. Даже гетто на Подоле раскрасилось зеленью и яркими цветами.
В одном отношении, однако, учиться у моего первого начальника было трудно. Он никогда не хвалил и никогда не ругал. На его маленьком смуглом лице всегда виднелась слабая улыбка, черные глаза лучились непонятным весельем, независимо от того, что творилось вокруг. Саркис Михайлович как будто жил в своем собственном мире. Он был опрятен, работал споро и умело, на всем экономил, редко разговаривал с клиентами, но всегда внимательно слушал, а потом решительно брался за дело, чтобы поскорее устранить проблему, если это было возможно. В борьбе с механизмами он никогда не уклонялся от брошенного вызова – и обычно становился победителем, хоть на время. Независимо от того, оказывалась ли работа трудной или легкой, он брался за нее с одинаковой серьезностью – и с той же легкой улыбкой. Манеры и гримасы Куюмджана могли раздражать. Люди думали, что он выражает презрение или, по крайней мере, иронию. Зачастую разгневанные клиенты кричали на него и заявляли, что он может не браться за работу, если не желает. Мастер не обращал внимания на крики, раскладывал гаечные ключи, отвертки и прочие инструменты и делал свое дело. Потом вытирал руки, по-прежнему улыбаясь, давал мне знак собрать инструменты, мысленно подсчитывал стоимость работы и коротко называл цену, которая устраивала даже самых скупых клиентов. Саркис Михайлович знал, что его услуги стоят дешево; в отличие от всех других известных мне армян, он ненавидел торговаться.
Я быстро понял, что Куюмджан был чрезвычайно застенчив. Он оказался доброжелательным человеком, относился ко мне очень терпеливо. Общаясь с ним, я оценил положительные качества армян. Естественно, несмотря на все мои теоретические познания, я совершал немало ошибок на практике. Но никогда не слышал от мастера обидных слов и насмешек. Он мрачно показывал мне, как правильно сделать ту или иную вещь, – и этим ограничивался.
С его помощью я изучил все рабочие районы Киева, хотя трудились мы в основном на Подоле. Украина тогда переживала настоящий бум. Она оставалась самой развитой частью империи в сельскохозяйственном отношении, но теперь началось и промышленное развитие, угольные шахты и железные рудники снабжали заводы Юзовки, Харькова, где строили огромные локомотивы, и Екатеринослава[28], а также других городов, которые вырастали вокруг новых шахт и заводов. Следует заметить, что я был не единственным молодым украинцем, которого вдохновили чудеса современной техники. Сикорский, изобретатель вертолета, родился в Киеве и провел свои первые эксперименты за пару лет до моих опытов. В отличие от него я не имел преимуществ, которые давало богатое и влиятельное семейство. Нас были тысячи, и мы стали первым поколением, увидевшим и постигшим будущее и в последующие годы давшим России и миру множество великих инженеров.
Нас, украинских казаков, кто-то назвал «русскими шотландцами», и в этом отношении, как и в других, сравнение вполне уместно. Киев, однако, ни в коем случае нельзя было назвать развитым промышленным городом. Здесь занимались в основном торговлей и банковским делом. В детские годы я ни разу не видел больших заводов и фабрик. Как правило, в поле моего зрения попадали маленькие машиностроительные мастерские, текстильные фабрики и другие, им подобные, обычно состоящие всего из одного-двух навесов. Но ни в каком другом городе я не смог бы работать с таким человеком, как Саркис Михайлович, который не специализировался на чем-то одном. В итоге я стал разбираться в автомобильных двигателях, паровых насосах, динамо-машинах, механических ткацких станках. Это всестороннее обучение сослужило мне хорошую службу в будущем, но, с другой стороны, поставило меня в несколько невыгодное положение – кое-кто считал меня одним из тех, кто за все берется, но ничего не способен сделать.
Работа у армянина пробудила мое воображение и изобретательность. В это время я начал должным образом развивать собственные идеи, основанные на том, что вычитал в «Пирсоне» и прочих журналах. Мне казалось, что я смогу построить одноместную летающую машину без обычного фюзеляжа, использующую возможности человеческого тела. Центр тяжести будет определяться положением двигателя, а не позицией пилота. В то время как Сикорский работал над все более и более крупными самолетами типа «Илья Муромец»[29], я мечтал о своеобразной летающей пехоте. Каждого человека можно было бы снабдить крыльями и двигателем. Крылья пристегнуть к рукам пилота, двигатель на станине прикрепить к его спине, чтобы обеспечить вращение пропеллера. Хвостовое оперение и руль присоединить к ногам летчика.
Я изложил свой план Эсме, которая к тому времени целыми днями ухаживала за больным отцом; ее это впечатлило. Она захотела знать, когда увидит первых людей, летающих над куполами собора Святой Софии. Я пообещал ей, что это случится скоро; полечу я, а она станет свидетельницей моего самого первого полета.
Дав обещание, я решился сдержать его. Я не хотел выставлять себя дураком в глазах Эсме. Она стала прекрасной юной девушкой, с длинными, восхитительными золотистыми волосами, огромными синими глазами, бледной кожей и сильным, полным телом, типичным для украинских женщин. И все-таки я по-прежнему видел в ней лишь давнюю близкую подругу, хотя сексуальные желания уже одолевали меня. Самое сильное возбуждение я испытывал, гуляя ночью по Крещатику и разглядывая дорогих шлюх, прохаживающихся туда-сюда по бульвару. А еще я мог зайти днем в кондитерскую Кирхейма, знаменитую своим кофе и пирожными с кремом, и смотреть на молодых красоток, которые появлялись там в сопровождении матерей. Немало темноглазых юных особ бросали на меня страстные взгляды, но все же не было ни одной, способной сравниться с моей замечательной, утраченной Зоей. Тоска по ней все еще увлекала туда, где когда-то стоял цыганский табор; но цыгане там больше не появлялись.
С тех пор как у меня зародилась мысль о летающем человеке, подобные проекты уже не раз воплощались в жизнь, но тогда принципы соотношения силы и веса были еще не вполне ясны. Кроме того, двигатель, который я собирался использовать, не совсем подходил для моей цели. Я пообещал Эсме, что совершу свой первый полет в следующее воскресенье. Я ничего не сказал своему начальнику, который только посмеялся бы, о моем будущем изобретении; однако единственный двигатель, доступный мне в то время, находился в его цехе. Вполне надежный маленький бензиновый двигатель, он использовался в моторном трехколесном транспортном средстве, принадлежавшем одной из самых крупных пекарен Подола. Двигатель был в превосходном рабочем состоянии; его просто сняли, чтобы Куюмджан мог слегка отрегулировать цепи и заднее колесо. Мелкий ремонт. Конечно, теперь я понимаю, что не стоило заимствовать двигатель, особенно принадлежащий таким серьезным клиентам, но обещание, данное Эсме, оставалось для меня важнее всего остального.
Когда в субботу вечером Саркис Михайлович, по обыкновению, оставил меня запирать мастерскую, я взял маленькую тележку и отправился за прочим оборудованием. Я соорудил раму, которая должна была поместиться у меня на спине и обеспечить достаточное пространство для движения пропеллера. Это устройство мне удалось совместить с зубчатой передачей на моторе. Я испытывал сильнейшее волнение, заканчивая подгонку механизма. Потом прикрепил к деревянной раме, укрытой плотным холстом, крылья и две части хвостового оперения, которые присоединялись к моим ногам. Я не сомневался, что, сжимая лодыжки, смогу управлять этими деталями как хвостовой частью планера. Я проверил двигатель и с удовлетворением обнаружил, что винт вращается как следует. Минула полночь, так что я отложил дальнейшие приготовления до утра и возвратился домой. Мать сильно волновалась, представляла, что меня убили. Ее беспокойство вызвало то, что совсем неподалеку от нашего дома и в самом деле убили ребенка. Это было ритуальное убийство, устроенное бандой фанатиков-сионистов, и я не верю, что удалось поймать истинных убийц – евреев. Тело спрятали в пещере в долине; его обнаружение, насколько я могу припомнить, привело к жестокому погрому. Я очень сожалел о той боли, что причинил моей бедной матери своими выходками, но она никогда не могла понять: жертвы приходится приносить не только тем, кто посвятил себя науке, но и их близким.
Рано утром в воскресенье я встретил Эсме и отвел ее в мастерскую. Там она помогла мне погрузить все оборудование на тележку, и мы покатили ее к Бабьему Яру, достаточно широкому и потому лучше всего подходившему для моего эксперимента. Мне пришлось несколько раз заверить Эсме, что полет будет совершенно безопасным. Конечно, небольшой риск все-таки существовал, потому что предстояло лишь первое испытание, но я не ожидал серьезных проблем. С помощью Эсме я нацепил на себя раму, привязал крылья и встал на вершине склона, на тропинке, которая вела к маленькому выступу и скамейке, где обычно сидели влюбленные пары. Я планировал пробежать по тропинке, пока не достигну выступа, а потом взлететь над оврагом, по дну которого протекала речушка. Утро было прекрасным. Эсме надела белое платье с красным передником. Я нацепил свою самую старую одежду. Над ущельем поднимался туман, сквозь него сияли лучи солнца. Небо над нами было абсолютно синим, лишь дым от неутомимых заводов Подола поднимался вдалеке над сверкающими куполами и шпилями церквей. Вокруг стояла абсолютная тишина. Когда я объяснял Эсме, как завести пропеллер, со всех сторон раздался воскресный колокольный перезвон. Я начал свой первый полет под благовест сотен колоколов!
Помню, как рев двигателя заглушил все колокола. Потом я сорвался с места и побежал, ускоряя шаг, вниз по тропинке. Эсме поначалу следовала за мной, но потом отстала. Я достиг уступа, раскинул руки, поднял ноги – и начал падать…
Падение продолжалось пару секунд. Несколько движений руками – и я снова набрал высоту. Я поднимался все выше и выше над ущельем, пока не смог разглядеть весь Киев, увидеть, как Днепр течет по степным просторам, мчится к запорожским быстринам, приближаясь к океану. Я мог разглядеть леса, деревни и холмы. И, планируя вниз, я увидел Эсме в красно-белом наряде, глядящую на меня с удивлением и восхищением. Ее лицо отвлекло меня. Каким-то образом я потерял управление. Двигатель заглох. Раздался свист рассекаемого воздуха, затем крик. А потом снова зазвонили колокола, а я беспомощно падал под их перезвон – прямо к реке в нижней части ущелья. Прежде чем мое тело ударилось о воду, я подумал о том, что по крайней мере умру благородной смертью. Второй Икар!
Глава вторая
Новость о моем полете появилась во всех киевских газетах. Я парил над городом в течение нескольких минут. Свидетелями эксперимента стали люди, которые шли в церковь воскресным утром. До тех пор, пока большевики не завоевали Украину, мое достижение имело документальное подтверждение: я спикировал и совершил пируэт в ясном небе; меня видели над Святым Андреем, Святой Софией и Святым Михаилом[30]. Я помню рисунок в одной из газет, где меня изобразили взгромоздившимся на зеленый центральный купол церкви Трех Святых. Но свидетельства моего подвига были уничтожены вследствие безумного желания ЧК, упростив прошлое, упростить настоящее, так удивлявшее чекистов и противоречившее их чрезмерно рациональному кредо. Если бы я оказался коммунистом, членом союза революционной молодежи или кем-то вроде того, все сложилось бы совершенно иначе. Но у меня было слишком много недостатков.
Какие-то солдаты видели, как я упал, и вытащили меня из реки. Я ненадолго очнулся (пропеллер рухнул вперед и оглушил меня, когда я свалился в воду), услышав, как один из солдат, смеясь, сказал: «Еврейчик пытался взлететь!»
Прежде чем снова потерять сознание, я произнес: «Я не еврей. И я точно взлетел». Думаю, это было странным совпадением: великое множество еврейских душ вознеслось к Небесам из этого самого ущелья, в котором немцы во время Второй мировой войны создали печально известный концлагерь. Здесь, впрочем, стоит отметить, что не только евреи погибли в Бабьем Яре: солдаты и гражданские славянского происхождения также умирали здесь тысячами. Но, как обычно, о других жертвах забыли, а удел мучеников достался евреям. Они умеют поведать о своих страданиях.
Эсме, скатившись вниз по склону холма и порвав платье, обнаружила, что солдаты вытаскивают меня из воды. Она сказала им, где я живу, и меня отнесли к матери, которая немедленно упала в обморок и была приведена в чувство уже несколько выпившим капитаном Брауном, который незадолго до этого отправился меня искать.
Впрочем, мне повезло в одном: двигатель остался неповрежденным, и через пару часов Саркис Михайлович привел его в порядок. Я разбил голову, сломал руку и лодыжку, но ликовал. Я взлетел! Я смог! Мне не терпелось провести новый эксперимент как можно скорее, хотя в следующий раз я решил нанять кого-нибудь помладше и полегче меня – и научить его летать. В таком случае я мог бы увидеть, каковы будут последствия, если что-то пойдет не так.
В первые дни, когда Эсме приходила в больницу, я, желая лишний раз удостовериться, снова и снова расспрашивал о своем полете. Я обезумел, не мог доверять собственной памяти. Эсме горячо уверяла, что мне первому удалось взлететь в воздух с мотором, но без корпуса летательного аппарата. Мои достижения подтверждались ее словами и газетными новостями, которые появились снова много лет спустя в британском журнале «Ревейл» и в американской газете под названием «Нэшионал Инквайрер»[31]. Мне очень жаль, что не сохранилось российских публикаций, они пропали вместе с остальными вещами. Даже тогда не все поверили мне. Лишь через несколько недель я узнал, что Саркис Михайлович, обеспокоенный тем, что я позаимствовал мотор, решил в дальнейшем отказаться от моих услуг, отчасти, я полагаю, для того, чтобы успокоить владельца пекарни. Моя мать ничего об этом не говорила, пока я не выздоровел. Пригласили герра Лустгартена, чтобы не прерывать моих занятий; мать проводила большую часть свободного времени за сочинением длинных писем родственникам, в том числе и очень дальним, по поводу моего образования. Ее самоотверженность была безгранична, и, когда дело коснулось моего благополучия, ничто не могло ее остановить.
Эсме разрешали навещать меня, и я делился с ней планами усовершенствования механизма «человека-птицы». Говоря о тех, кто с сомнением относился к моим достижениям, я упоминал о солдатах, утверждавших, что я просто упал в ущелье. Она возмущалась: «Конечно, ты летал! Конечно, ты это сделал! Ты облетел весь Киев!» Это было, разумеется, преувеличением, основанным на преданности, но Эсме славилась правдивостью, ее прозвали в округе «маленькой святой» за то, как она заботилась об отце.
Когда Эсме не было рядом, а это случалось часто, я удовлетворялся чтением книг на разных языках и совершенствованием своей «летающей пехоты». Я отправлял в Министерство обороны письма, в которых излагал суть своего опыта, но ответа не получил. Весьма вероятно, что какой-то ревнивый бюрократ, возможно, сам Сикорский, позаботился о том, чтобы они никогда не попали в нужные руки. Я также разработал новую модель телеграфа и решил проблему связи между Бердянском и Еникале на Азовском море с использованием плавучих понтонов. Это только два из множества моих проектов, утраченных в годы Гражданской войны, но они значительно опередили свое время. Я очень сожалею, что не запатентовал ни одного из своих изобретений. Я был слишком доверчив. Слова чести и рукопожатия вполне хватало для порядочных людей в годы моего детства, а к тому времени, когда я достиг зрелости, этим начали пользоваться абсолютные мерзавцы. Будь я менее легковерным, уже давно стал бы миллионером, мне хватило бы одного только прожектора ультрафиолетовых лучей.
Находясь в госпитале, я разработал жизненный план на немецкий манер: составил график на следующие несколько лет, обозначив все свои цели. Среди них были образование, работа в правительстве, наем агентов для поиска Зои, дом, который я намеревался приобрести для матери, где о ней могли бы заботиться Эсме и капитан Браун, которым я смогу платить хорошее жалованье. И тогда не находилось никаких причин считать этот план нереалистичным.
Революционеры и фанатики вновь сговорились помешать моему счастью, когда в августе 1914 года я достаточно оправился от увечий, чтобы сдать вступительные экзамены в техническое училище. На сей раз убийство в Сараево – «выстрел, который облетел весь мир» – привело к чудовищному армагеддону, Первой Великой войне. Мать поведала неутешительные новости: герр и фрау Лустгартен сбежали из страны, очевидно, в Богемию, опасаясь антигерманских настроений, с которыми уже столкнулись многие люди с немецкими именами и фамилиями, владевшие лавками в киевских предместьях. Так, оказавшись между армянами и немцами, я разом лишился и наставника, и работодателя.
Теперь только родственники могли спасти меня. Некоторые из тех, кому написала моя мать, включая моих бабушку и дедушку по отцу, которых я никогда не видел, и дядю Сеню, ответили к осени. Наверное, именно тогда начались разговоры о том, чтобы получить образование в Санкт-Петербурге (это меня радовало, поскольку там находились лучшие технические училища), но дядя Сеня хотел, чтобы сначала я навестил его в Одессе; все расходы он брал на себя. Дядя никогда не говорил мне прямо, почему хотел со мной увидеться. Я предполагал, что он собирался посмотреть на объект своих инвестиций. Мать сочла интерес дяди Сени ко мне подозрительным. Она не слишком любила его. Теперь мне кажется, что он возлагал на меня большие надежды, потому что его сыновья не интересовались наукой. Ни один из моих кузенов не отличался особенной грамотностью. Я думаю, что это разочаровывало дядю, но напрасно. Его дети были готовы к жизни в будущей России. По крайней мере двое из них стали влиятельными комиссарами во время страшного голода двадцатых и тридцатых годов. Большевики считали грубую силу, хитрость и слепое повиновение намного более ценными качествами, чем образованность. Я не слишком интересовался причиной, по которой дядя Сеня согласился с матерью относительно моей дальнейшей судьбы. Того, что он собирался оплатить мне и образование, и каникулы, оказалось вполне достаточно. Следующие несколько месяцев представлялись по-настоящему восхитительными. Если я уже потряс Киев, чего мне стоило поразить ленивых жителей южного, свободного от предрассудков города или пресыщенных столичных граждан?
Все три недели до моего отъезда мать непрерывно плакала. Она снова и снова упаковывала мои немногочисленные пожитки, заставляла клясться, что я не свяжусь с радикалами, что не стану подражать поведению и речи одесситов. Она вынудила меня пообещать, что я не буду якшаться с «бандитами с Молдаванки»[32] (читатели комиссара-журналиста Бабеля знают, о ком идет речь). Она плакала, напоминая о судьбе отца. Плакала, наказывая, чтобы я менял нижнее белье. Она была самой замечательной, заботливой матерью, какую только мог пожелать мальчик. Я теперь сожалею, что не слушался ее так, как следовало бы. Моя зажившая голова была полна мечтаний о будущих деяниях. В ночь накануне моего отъезда из Киева Эсме пришла к нам и принесла медаль Святого Христофора[33], которую ее отец привез из каких-то чужих краев. Она со всей подобающей серьезностью повесила медаль мне на шею, обняла меня, расцеловала в щеки и заплакала. После ее ухода мать осмотрела медаль, подозревая, что эта вещь могла быть как-то связана с мятежом. Затем с большой неохотой, немного всплакнув, вернула ее мне. Я считал эту медаль символом утешения и носил в течение долгого времени; она напоминала, что у меня есть по крайней мере один верный друг.
Вскоре после ухода Эсме явился мой кузен Александр. Он предпочитал, чтобы его звали Шурой, и был хитрым и дерзким молодым человеком, коротко стригся и носил на шее краснобелый шарф по моде того времени. Он оставил у нас свои вещи, отказался от предложенного матерью завтрака, снисходительно выпил полстакана чая у нашего старого самовара, а потом отправился в город по делам. Кузен вернулся с коробкой шоколада и каким-то грузом в мешке, который немедленно уложил в свой багаж, к превеликому беспокойству моей матери. Изрядно выпив водки (даже в дни «сухого закона» немногие обращали внимание на суровые запреты), Шура встал у печи, грея руки и подмигивая мне.
Моя бедная мать едва не лишилась чувств; она поспешила проводить кузена в другую комнату, где тому предстояло переночевать. Матушку можно было понять: он казался не самым подходящим спутником для ее сына, впервые покидавшего семейный очаг. Однако Шура не сразу уснул. В темноте, в последний раз лежа на своей кровати, я слышал, как он напевал какие-то загадочно-непристойные песни с мягким, музыкальным одесским акцентом, в то время как мать выводила носом сложный контрапункт у себя на кушетке.
Матушка проводила нас на станцию. В сентябре 1914 года железнодорожное сообщение начало ухудшаться (хотя назначались дополнительные поезда в крупные города – такие, как Одесса), и приобрести билеты становилось все труднее. Тем не менее Шура энергично преодолел все формальности, провел нас через утренние скопища полицейских в форме, солдат и матросов – сквозь разноцветные мундиры и золотые галуны, мимо продавцов конфет, напитков, карт и скандальных журналов и газет. В те времена всю Россию заполонили лоточники – мужчины, женщины, дети. Продемонстрировав хорошее знание вокзала, его особых нравов и обитателей, Шура по крайней мере сумел успокоить мою мать. «Раз уж ты отправляешься в мир, лучше это делать в сопровождении кого-то практичного», – сказала она, когда он удалился на мгновение, чтобы переговорить с какой-то худощавой девицей; потом Шура вернулся – развязной походкой, держа в руке несколько длинных сигарет, одну из которых он предложил мне. Я, разумеется, отказался. Мать напомнила Шуре о вреде курения и предупредила, как расстроится дядя Сеня, если узнает, что его «маленького ученого» развратили. Шура все терпеливо выслушал, явно сочувствуя нам обоим, а затем объявил, что поезд прибыл и нам следует занимать места.
Мать последовала за нами, мешая мне восхищаться чудесами железнодорожного состава: кухней, топкой и всем прочим. Это был один из самых лучших экспрессов Юго-Западной железной дороги. Его тянул поразительной красоты локомотив (вероятно, 4-6-4, хотя я уже не могу теперь вспомнить модель), цвета которого – темно-зеленый, золотой и кремовый – повторялись на всех вагонах. Этот длинный поезд, экспресс Киев-Одесса, преодолевавший весь путь меньше чем за четырнадцать часов, состоял только из вагонов первого и второго класса, третьего класса в нем не было. Даже пар локомотива казался белее, чище и солиднее, чем пар других поездов.
На дальних платформах я видел несколько военных составов с тяжелой артиллерией на плоских платформах; это, вместе с большим количеством вооруженных людей на самом вокзале, напоминало о том, что страна находилась в состоянии войны. Я снова ощутил давнее желание надеть форму. Я сказал Шуре, что ему следует с нетерпением ждать призыва на военную службу. Единственным ответом стал выпущенный мне в лицо дым папиросы; потом кузен, подмигнув, снова предложил мне закурить. Матушка разрыдалась при мысли о войне, и Шура попытался утешить ее – терпеливо и слегка презрительно.
Каким-то невероятным способом он нашел для нас места в купе и оставил меня наедине с матерью. Воротник моего нового пальто промок от ее слез прежде, чем проводник доброжелательно сказал, что пора выходить. Кузен крикнул, что нечего бояться: если машинист собьется с пути, Шура сумеет отыскать верную дорогу. Это вызвало смех у других пассажиров в вагоне; мать всхлипнула еще пару раз и вышла на платформу, вытирая глаза и нервно улыбаясь. Я занял свое место. Мы с Шурой выделялись среди пассажиров, поскольку были моложе и не носили форму. Большинство наших попутчиков оказались солдатами, матросами и санитарами; они улыбались нам с тем особенным самодовольством, с которым люди, носящие форму, смотрят на тех, кто ее не носит.
Это было первое долгое путешествие на поезде, которое мне хорошо запомнилось (сохранились очень туманные воспоминания о нашей поездке из Царицына в Киев). Путешествие длилось целый день, с половины девятого утра до поздней ночи, но мне бы хотелось, чтобы оно продолжалось вечно. Поезд уносил меня в новый, романтический мир, мир Руритании Хоупа, поэзии Пушкина и книги Грина «Шапка-невидимка»[34], с ее историями об экзотических портах и дивных сапфировых морях. Я был готов всю дорогу просидеть на месте, но Шура заставил меня подняться, едва поезд покинул станцию и мать, которая ковыляла, размахивая промокшим носовым платком, осталась позади. Шура хотел показать мне вагоны первого класса, так что мы совершили прогулку по поезду, разыгрывая невинность всякий раз, когда служащие спрашивали, что мы здесь делаем; мы отвечали, что потеряли свой вагон.
Я дивился роскоши первого класса, темно-зеленой плюшевой обивке, полированной меди и дубовым панелям. Шура сказал, что не раз путешествовал первым классом, но я не поверил. Он знал, по его словам, как вести себя по-джентльменски: «Когда-нибудь это станет частью моей работы».
Как мой кузен мог стать своим в этом мире бархата и роскоши? Я не представлял, чем он собирался заниматься, однако с одобрением отнесся к его амбициям. Эти чудесные вагоны напоминали ангельскую обитель и пахли, как ухоженные животные. И люди, находившиеся здесь, казались полубогами. Я полюбил их, жаждал разделить их жизнь, войти в их круг.
Мне следовало запомнить все радости путешествия в роскоши – неважно, насколько часто я буду испытывать их в дальнейшем. Я поднялся из глубочайшего мрака к вершинам невообразимого благополучия. Минуло еще несколько лет, прежде чем я всесторонне ознакомился с этой поразительной формой транспортного сообщения. Теперь она практически исчезла с лица земли. Сегодня ее заменили утилитарные детали из пластмассы и нейлона; холодные, безличные, эффективные государственные железные дороги и авиалинии. Не только прежние поезда умчались в бездну забвения. Большие корабли, властелины линий «Cunard» и «Р&О»[35], окончательно исчезли. Что мы получили взамен? Паромные перевозки. Неудивительно, что все транспортные системы работают в убыток. Неужели люди в самом деле захотят путешествовать в чем-то, напоминающем грязную больничную палату? Как человек, который пользовался почти всеми средствами современного транспорта, от огромных довоенных лайнеров до преданных забвению цеппелинов, я могу прямо сказать, что демократизация не принесла пользы никому, в том числе и народу. За исключением нескольких нелепых круизных кораблей, не осталось летательных аппаратов и роскошных пароходов, которые в прежние времена являлись подтверждением изречения о том, что путешествие приятнее прибытия.
Когда я в пабе с ностальгией вспоминаю о самолетах класса «С» Имперских авиалиний, надо мной просто смеются. Эти безграмотные полукровки, обитающие в безликих жилищах, возмущаются, слыша, как кто-нибудь вспоминает дни, когда слово «цивилизация» означало нечто большее, чем название бирж труда и муниципальных художественных галерей. Из их жизней исчезла романтика, которую они не разглядят, даже если ее преподнесут на тарелочке, как подносят все остальное. Они потешаются над прошлым, копируя лишь самые безвкусные, «очаровательные» элементы ушедшей жизни. Сенсации заменили им все. Эти люди демонстрируют свой цинизм, как их матери и отцы демонстрировали утонченность. Они смешны, подобно торговкам и унылым клеркам, заполонившим танцевальные залы в двадцатых и тридцатых годах, сопровождаемым презрительными взглядами представителей настоящего высшего общества. У них есть и еще кое-что общее: отсутствие малейшего уважения к старшим. Они лишены воображения, и все-таки заполняют огромные залы, чтобы посмотреть фильмы вроде «Убийства в „Восточном экспрессе“»[36]. Неужели они полагают, что им позволили бы даже просто ступить на подножку такого поезда? В свое время «бритоголовые» и «пижоны» знали свое место. В грязи! У них есть тот транспорт, которого они заслуживают: скрытый в подземных глубинах, шумный, грязный и тесный, пригодный только для морлоков Герберта Уэллса[37].
Когда мы вернулись на свои места, я сам себе казался разве что не принцем. Я чувствовал комфорт и безопасность во всем поезде. И, очевидно, многие из наших спутников ощущали то же самое. Все места в купе, разумеется, были заняты. Люди в форме заполонили коридоры. Казалось практически невозможным разглядеть за их спинами прекрасные пшеничные поля Украины; в это время мякина была отбита, сено уложено в стога, поскольку урожай уже собрали. Небо приобрело те дивные бледно-золотистые и серебристо-синие оттенки, которые иногда появляются в девять часов утра, в преддверии теплого осеннего дня. Две католических монахини, одна – двадцати с небольшим лет, другая – совсем юная, спросили, можно ли открыть окно, и все согласились, что было бы неплохо подышать свежим воздухом. Я предложил помощь, но не сумел разобраться, как действует запорный механизм. Шуре пришлось вмешаться, к великому моему смущению.
Воздух наполнился ароматом сельской местности, сладостным и густым, и мое настроение снова улучшилось. Помимо монахинь, занимавших места у окна, мы делили купе с двумя моложавыми лейтенантами флота; есаулом в серой папахе и кафтане, с патронташем и широким поясом, за который был заткнут кинжал и к которому крепилась традиционная казачья шашка; джентльменом в темной фетровой шляпе и пальто с каракулевым воротником и греческим священником, который мало говорил по-русски, но улыбался нам, как будто благословляя. Есаул сидел рядом с Шурой, напротив меня. Подбородок его был чисто выбрит, но лицо украшали огромные вьющиеся седые усы с вощеными концами. Он сидел, сжимая шашку коленями, спину держал очень прямо, не опираясь на сиденье, как будто ехал на невидимой лошади. Казаки часто ведут себя так, словно лошади постоянно рядом, и я вообразил, по всей вероятности, ошибочно, что в грузовом вагоне в хвосте поезда путешествует каштановый жеребец.
Попросив отворить окно, монахини начали внимательно рассматривать друг друга, очевидно устанавливая телепатическую связь. Они не произнесли ни слова за всю поездку, и поэтому нам было очень неудобно приближаться к окну, чтобы купить что-то у торговцев на платформах во время остановок поезда. Этим торговцам не хватало лоска киевских лоточников, но они были очень шумными. Босые крестьянки предлагали нам пироги и парное молоко, а их дедушки возили самовары на тележках и хриплыми голосами расписывали чудесные целительные свойства своего чая. На станциях вертелось множество детей, из них мало кто торговал, в основном они просто попрошайничали. Монахини сидели, чуть приподняв ступни, их юбки полностью скрывали ноги. Мы старались избегать контакта с ними, все, кроме Шуры. Он, влетев в вагон после небольшой прогулки по платформе, пошатнулся и опустил руку на колено одной из монахинь, но тут же извинился. Позже, в коридоре, когда они не могли услышать, он пробормотал какую-то грубость – подивился их «невероятной вместительности». Я с трудом уяснил смысл сказанного, но морские офицеры, услышавшие его слова, от души повеселились. Я покраснел. Греческий священник, ничего не поняв, рассмеялся вместе с моряками, в то время как мужчина в пальто с каракулевым воротником что-то проворчал из-за страниц журнала «Нива».
Шура завел разговор с казаком, которому, казалось, он очень понравился. Есаул сказал, что служит интендантом и едет в Одессу для закупки провианта и снаряжения, ничего больше он сообщить нам не мог. Он удивился, когда я упомянул, что мой отец тоже был казаком. Шура рассмеялся, посоветовав мне поменьше болтать: «Такие заявления, – заметил он, бросив взгляд на есаула, – до добра не доведут». Офицеры возвращались из Москвы, где проводили отпуск, и непрерывно рассказывали о чудесах второго по величине города России. На эти чудеса они постоянно намекали Шуре – взглядами, жестами и шепотом. Кузен был ненамного старше меня, но казался куда более осведомленным и понимал все намеки, достаточно тонкие, чтобы не шокировать монахинь, прислушивавшихся к беседе очень внимательно.
Добродушный казак предложил всем водки, священник принял предложение, джентльмен в шляпе отказался, монахини как будто ничего не расслышали. Есаул сдвинул папаху набок и расстегнул кафтан, распахнув ворот расшитой черным и красным рубахи. На нем были синие галифе и мягкие кожаные сапоги; он выглядел свободнее и в то же время воинственнее остальных пассажиров поезда. По нашей просьбе он показал нам шашку, кинжал и пистолет, но не позволил прикасаться к оружию, сказав, что шашку следует доставать из ножен лишь для того, чтобы пролить кровь, но все же показал нам несколько сантиметров клинка, так что мы смогли разглядеть гравировку в виде мотылька (грузинскую, кажется) на рукояти. «Этот клинок, – сказал есаул, – такой острый, что мотылек, коснувшись его, будет разрублен пополам, прежде чем поймет, что случилось. Он все поймет, лишь попытавшись снова взлететь!»
Увиденное меня весьма впечатлило. Я сказал, что у моего отца, наверное, тоже имелся подобный клинок. Казак весело поинтересовался, к какой сечи он принадлежал. Я сказал, что к Запорожской. Он спросил, когда родился отец. Я ответил, что не знаю. Есаул уточнил, уверен ли я, что отец не был «москалем». Я его не понял. Он объяснил, что так казаки пренебрежительно называют великороссов. Слово приблизительно переводилось как «чужак». Я уверил его, что мой отец никогда не был чужаком. Он служил в казачьем полку в Санкт-Петербурге. Казак спросил, в каком именно. Я вновь ответил, что не знаю. Он рассмеялся, очевидно, довольный тем, что кто-то притязает на казачье происхождение, даже не имея на то оснований.
Я разволновался и начал настаивать, что говорю правду. Шура решительно заявил: «Поймите, его отец умер». После этого казак смягчился, коснулся рукой моего колена, протянул мне шашку и улыбнулся:
– Не переживай, малыш. Я тебе верю. Мы скоро будем скакать рядом, ты и я. И убивать евреев и немцев направо и налево, а?
Морские офицеры, веселый священник и мой кузен рассмеялись вместе с ним, и на душе потеплело. Путешествие на поезде осталось в моей памяти одним из самых светлых воспоминаний. Казака, кстати, звали капитан Бикадоров.
Шура спросил офицеров о ходе войны, о настроениях в Москве. Они сказали, что все уверены в победе, от царя до рабочих. Наши союзники предсказывали, что «российский паровой каток раздавит немцев за несколько недель». Танненберг[38] оказался случайной неудачей просто из-за нашей самонадеянности. Мы выучили свой урок в Японии, стали сильнее, чем когда-либо прежде, и будем разыгрывать нашу военную партию осторожней, но при этом намного разумнее.
– Особенно, – заметил один из них, – теперь, когда Япония стала нашей союзницей!
После этих слов джентльмен в фетровой шляпе снова что-то проворчал.
– А турки? – спросил я. – Когда их разобьют? Когда царь придет на службу в собор Святой Софии Константинопольской?
– Только дайте начать, а потом все пойдет как по маслу, – сказал капитан Бикадоров. – Хотя нет лучших врагов, чем эти ваши турки.
Было бы неплохо освободить Царьград (Константинополь), но во французах он был не уверен. Они сильно сдали после Наполеона. Их уже не раз поколачивали немцы. Кроме того, есаул сомневался, что англичане были надежными союзниками, «потому что они и сами – почитай что немцы». Но французов он считал действительно слабым звеном. Морские офицеры согласились, что французы, которых они встречали в Одессе, просто лягушатники, слабые и в то же время напыщенные.
– Французы не способны даже думать о смерти, – добавил старший. – В то мгновение, когда француз сталкивается с мыслью о ее неизбежности, как правило, еще в начале сражения, он сходит с ума. Они не трусы. Они просто невероятно самодовольны!
Джентльмен, читавший «Ниву», встал, поклонился морскому офицеру и сказал, что родился в Одессе и имеет честь носить французскую фамилию. Его дед был французом. Он снова сел, раскрыл свой журнал, а потом, будто поразмыслив, снова отложил его и добавил: «Наполеона победили не солдаты, друзья мои, а снег. А за наш снег мы можем благодарить только Бога».
– А я возблагодарю Бога и за наших солдат, – сказал Шура.
При повторном упоминании о Боге священник молитвенно сложил руки, а монахини разом отвернулись к окну. Спросив их, не будут ли они возражать, если он закурит, есаул Бикадоров вытащил огромную трубку и начал набивать ее, в то время как Шура, по его примеру, предложил спутникам несколько папирос. Морские офицеры приняли предложение, старый джентльмен французского происхождения отказался, фыркнув, но вытащил сигару, как только все остальные закурили, и вскоре купе наполнилось табачным дымом. К счастью, окно было открыто, а значит, ни монахинь, ни меня самого это не слишком беспокоило. Теперь этот запах связан с давними приятными переживаниями. Я испытывал такой восторг, что позднее, когда мы насладились совместной трапезой, в которой приняли участие все, кроме монахинь и старого джентльмена, я впервые затянулся сигаретой. И тут же пожалел о съеденном – колбасе, хлебе, телятине, цыплятах, даже о чае, который мы купили на станции. Мой дискомфорт смешался с довольно приятным ощущением легкого головокружения. Я вышел на перрон на следующей станции. Думаю, это был Казатин, очень приятное место с ивовыми деревьями, резными фронтонами и колоннами. После настойчивых предложений Шуры я взял у него еще одну сигарету.
– Всегда садись на лошадь сразу после того, как с нее упал, – заметил он.
Под действием его обаяния и умения убеждать я впервые в жизни испытал радость греха. Мы помчались назад, вместе с остальными пассажирами, потому что поезд тронулся. Заняв свое место, Шура предложил мне глотнуть водки. Я подмигнул и согласился.
К вечеру я был немного пьян. Я следил, как красные и черные тучи проплывали на горизонте, на котором изредка вырисовывались шпили или купола, побеленные деревенские домики, стройные тополя и кипарисы на землях добрых помещиков, которых, возможно, описывал Толстой до того, как сошел с ума. Когда солнце село, есаул затянул печальную песню о девушке, лошади, реке и саване. Он пытался заставить нас подпевать хором, но только Шура сумел запомнить слова:
Глаза мертвы, глядят из-под воды, И грива белая колышется от ветра. Уж скоро снег пойдет. Прощай, моя Катюша…И так далее. Такова оборотная сторона характера казака. Если он не скачет на своем коне в бой и не рубит головы, он поет о смертной тоске и потере любимых. В этом глубоком, почти суеверном, почтении к религии и склонности к печальным песням у казака есть нечто общее с американским негром. Я должен поделиться этим наблюдением (оно прекрасно известно тем, кто меня знает), чтобы показать: у меня нет никаких расовых предубеждений. Понимание особенностей конкретного народа приводит к тому, что человек может преодолеть ненависть к нему. Я первый скажу, что питаю исключительное уважение к еврейскому уму. Никто не усомнится в нем, равно как и в способности смеяться над собой.
Мне показалось, что слегка похолодало, когда мы в конце концов достигли Одессы-Главной, центрального вокзала Одессы, расположенного в сердце города. Желтые газовые и масляные лампы, такие же яркие, как электрические фонари, освещали огромную территорию. Так мог бы выглядеть собор Микеланджело; здесь обнаружилось столько новых видов и запахов, что я немедленно почувствовал себя в два раза пьянее, чем был на самом деле. Шура продемонстрировал обычный энтузиазм, когда мы высаживались из поезда. Он дружески махнул на прощание рукой Бикадорову и офицерам, глубоко и серьезно поклонился монахиням, усмехаясь, кивнул старому джентльмену, а затем, на удивление быстро, провел меня сквозь толпу, мимо чиновников, контролеров, солдат, матросов, мелких торговцев, накрашенных дам, больших семейств, греков, хасидов, суровых англичан в хаки – наружу, прямо на улицу, залитую светом газовых фонарей.
– Разве нам не следует взять извозчика, Шура? – Я вспомнил наказ матери.
– Хочешь выбросить пятьдесят копеек на ветер? – ответил он. – В любом случае они все разъехались. Идем.
Ароматы специй и духов не могли заглушить еще один запах, приносимый южным ветром, – соли, сладковатого озона. Я с искренним восторгом понял, что это море.
Среди ночного мрака, подобно существу из океанских глубин, возник одесский трамвай с двумя вагонами из сверкающей меди. Поднявшись в вагон, Шура заплатил за проезд, мы сели на большие деревянные сиденья и уставились в окно.
– Ничего, кроме дерьма, ты ночью не увидишь, – сказал Шура. – Я покажу тебе завтра кое-что по-настоящему интересное.
Он взял билет до товарной станции. Я спросил, пересядем ли мы потом на другой трамвай.
– Только до угла Сиротской и Хуторской, – сообщил он.
Вероятно, это были большие проезжие улицы. Мне не хотелось, чтобы он еще что-то объяснял. Я наслаждался волшебством странного города и не желал знать о его границах. Я всегда ненавидел карты новых для меня городов, пользовался ими только в случае крайней необходимости.
Выбравшись из трамвая, мы двинулись по мощеной улице и дальше мимо парка, пересекли еще одну улицу и вышли на ярко освещенную площадь, окруженную большими жилыми домами, особняками и магазинами. У лестницы, ведущей в один из особняков, мы остановились. Возле дома располагалась контора, на вывеске которой была фамилия моего двоюродного деда. Мы достигли цели.
Шура поднялся по ступенькам и позвонил в звонок. Нам отворила невысокого роста горничная, которая продемонстрировала дружеское и непочтительное отношение к моему кузену. Мы вошли в хорошо обставленную комнату. Почти тотчас же появилась крупная темноглазая женщина в зеленом шелковом платье. Она взволнованно заговорила:
– Ты должен был позвонить, Шура! Мы послали бы извозчика или экипаж. Как вы сюда добрались?
– На трамвае, – прозвучал лаконичный ответ Шуры.
Женщина очень беспокоилась, но все-таки нашла в себе силы улыбнуться:
– Тебе нужно было подождать, чтобы дядя Сеня заказал…
– Мы бы так до сих пор и ждали в этой толпе, – ответил ей Шура. – Вы давно там бывали? Настоящее безумие творится из-за войны. Извозчики? Только если повезет.
Она пригладила его взъерошенные волосы.
– Сеня еще занят. Он бы хотел… Да, хорошо…
Я опустил свои сумки на ковер. Она раскрыла объятия.
– Максим! – последовал тяжелый вздох. – Я твоя тетя Женя.
Мы обнялись.
– Мы так рады! Как твоя дорогая мама?
– Все хорошо, спасибо, тетя Женя.
– Такое бремя. Какая отважная женщина! Но такая гордая! Что ж, гордость есть гордость.
Я принял похвалу, стараясь не обращать внимания на нападки в адрес матушки. Обдумывая минувшие события, я предположил, что раньше между женщинами существовало какое-то соперничество. Возможно, тетя Евгения, невестка моей матери, предложила благотворительную помощь, от которой мать отказалась. А может, они даже любили одного и того же мужчину, моего отца. В семейных историях часто встречается такая ревность. И не стоит даже особенно задумываться над этим. А как некоторые хотят изменить прошлое! Я видел, как взрослые люди совершали исключительные глупости, пытаясь притвориться, что все произошло не так, как на самом деле. Все мы стремимся предстать в хорошем свете, конечно, но некоторые идут ради этого на удивительные жертвы.
Мы сидели в комнате около двадцати минут, тетя Женя безмятежно ворковала, как канарейка. Я почувствовал, что мои глаза уже слипаются, но внезапно хозяйка закричала, как попугай:
– Еда!
Я оживился. Мы перешли в другую комнату. Этот дом был настоящим замком. На столе стояли красно-белые немецкие суповые тарелки и огромное блюдо с борщом, украшенное видами Данцига или Мюнхена. Я заметил также два разных вида хлеба и масло. Я тотчас сел, но Шура покачал головой и сказал, что ему нужно уходить.
Я научился никогда не отказываться от еды. К тому же я уже не мог отличить реальность от фантазии и надеялся, что пища поможет мне спуститься на землю. Борщ, цветом напоминавший рубины, оказался превосходным – ароматным и густым. И пока тетя Женя продолжала говорить, я непрерывно ел. Я уже раздулся от еды к тому времени, как раздался крик:
– Спать!
Невысокая девушка с рыжими волосами и добрым лицом появилась вновь. Она была какой-то бедной родственницей, работавшей в качестве прислуги.
– Ванда, проводи Максима Артуровича в его комнату.
Девушка подхватила мою сумку одной влажной, красной рукой, а другой указала на дверь. Я последовал за ней. Тетя Женя пожелала доброй ночи и поцеловала меня. Если что-нибудь потребуется, я мог спросить у Ванды. Мы вышли из столовой, преодолели несколько пролетов по темной, покрытой тяжелыми коврами лестнице; на каждом этаже нас встречали новые запахи. Наконец мы достигли верхнего этажа, и Ванда отворила дверь.
– Я живу рядом, – сообщила она, шагнув вперед, в красновато-коричневую полутьму, и повернула кран, сделав огонь газовой горелки поярче. – Вот мы и на месте.
Я не сразу понял, что в моем распоряжении оказалась целая комната. Настоящая кровать, туалетный столик, комод, жалюзи, которые я мог задвигать и раздвигать, окно… Я подошел к нему. Оно выходило на площадь – сквозь дымку проступали желтые фонари и мрачные тени. Из одного из далеких таинственных зданий донесся звонкий смех, чей-то крик эхом прокатился по площади – ведь было уже поздно, и даже Одесса погружалась в сон. Теплое тело Ванды прижалось ко мне. Она показывала, как пользоваться жалюзи.
– Лучше всего держать их закрытыми, если у вас горит газ, – пояснила она. – Мотыльки.
Ее голос был ленивым, мягким и приветливым. Позднее я узнал, что так разговаривали все южане, но тогда решил, что она особенно мила. Это крепко сбитое создание произносило звук «р» так, что он звучал сексуально. Я даже не мог уловить смысла ее слов.
– Что?
– Мотыльки.
– Ах да.
Я вспомнил о мотыльке на шашке казака, о чудесах недавнего путешествия, о потрясающих первых впечатлениях. Я едва не плакал, благодаря Ванду и наблюдая, как она уходит. На двери я обнаружил задвижку. В кувшине на умывальнике была вода. Я осмотрел ночной горшок и коврик, чистые белые простыни, стеганое одеяло и две подушки в вышитых наволочках. Какие щедрые родственники! И какие богатые! Я не имел ни малейшего представления об этом. Мать упоминала, что они зажиточные, но никогда не говорила, что они владеют целым домом, а возможно, и двумя, ведь по соседству располагались конторы. Я вновь подошел к окну. Тяжелый запах увядающей сирени поднимался с площади. Я ощутил дуновение южного ветра, запах теплого ночного моря. Потом лег спать. Решив в полной мере насладиться своей свободой, я помастурбировал, думая о Ванде и ее большом, пассивном теле, затем о Зое и, наконец, когда все кончилось, об ангелочке Эсме. Как поразили бы ее мои рассказы об Одессе! Я лежал на спине в темноте, всматриваясь в открытое окно, наслаждаясь острыми ощущениями от того, что впервые ночую один в комнате. Я заложил руки за голову, с восхищением улыбнулся, думая об окружающей меня роскоши, обратился к воображаемым друзьям и поведал им о моей удаче. Я понял, засыпая, что мысленно уже начал подражать уверенным движениям Шуры. Я уже наполовину покорился его обаянию. И меня это радовало.
Глава третья
Я проснулся, открыл глаза – и сразу зажмурился от яркого солнечного света. Несколько мгновений я прислушивался, улавливая новые, незнакомые прежде звуки: звон трамваев, гул товарного поезда, стук лошадиных копыт и скрип тележных колес по мостовой; крики, смех. А еще чувствовался удивительный запах: смесь ароматов океана, переспелых фруктов, цветов, как будто все богатства восточных морей принесло сюда утренним приливом. Я медленно направился к окну. Большинство величественных зданий на площади оставались закрытыми, поскольку было слишком рано. И над Одессой взошла осенняя заря. Все крыши, ограды, кирпичи, деревья, кусты и стены словно светились. Сочные краски неуловимо сияли в теплом городском воздухе.
Киев был наделен особой красотой, но она казалась скучной по сравнению с этим великолепным очарованием. Каждый силуэт: животного, цветка, камня или дерева – окружало слабое сияние. Красно-золотистый автомобиль пересек площадь и остановился возле недавно открывшейся бакалейной лавки. Он был похож на машину из волшебной страны. Мужчины и женщины, сидевшие в нем, были разряжены в белые костюмы, павлиньи перья, японские шелка, лакированную кожу – казалось, они явились прямо из роскошной постановки «Веселой вдовы»[39].
Не хватало лишь музыки, но я ожидал услышать ее в любое мгновение. Я вытягивал шею поверх железной оконной решетки и смотрел в ту сторону, где, как я надеялся, находилось море. Но увидеть удавалось только тротуары и деревья – возможно, там был парк. Я почувствовал запах кофе. Увидел, как девочки в черно-белой униформе выходят на улицу, вынося кувшины, которые заполнятся, когда приедет тележка молочника. Я почувствовал аромат свежего хлеба и определил его источник, булочную в дальнем углу площади. Почтальон медленно прошагал по улице, разнося письма. Женщины из близлежащих домов окликали друг друга. Именно так я представлял себе город, подобный Парижу, но никак не нашу Одессу. Можно было понять, почему многим русским она казалась вульгарной, но полюбилась художникам и писателям, например Пушкину, который хотел поселиться здесь.
Я чувствовал одновременно и возбуждение, и умиротворение. Я отдыхал. Такое раньше попросту не приходило мне в голову – от занятий я отвлекался, работая по дому. Но здесь, насколько я знал, этого не требовалось. Я был гостем, меня следовало развлекать. Я почувствовал голод.
Ванда постучала в дверь и позвала меня. Я осознал, что не одет, и устыдился своего тела, пожалуй, в первый и единственный раз (хотя я так всю жизнь и стыдился отметины на моем члене). Возможно, я вспомнил свои фантазии о Ванде. Я попросил ее подождать, надел брюки и рубашку и отпер дверь. Она вошла, улыбаясь.
– Скромный маленький мальчик.
Она была только на год старше меня, но все одесситы выглядели взрослее киевлян. У меня сложилось впечатление, что они наделены каким-то первобытным, язвительным лукавством. Возможно, это связано со смешением разных кровей. В местных жителях соединились черты характера разных народов, но самые примечательные пришли с Ближнего Востока. Сама Одесса названа в честь греческого героя Одиссея, и примерно половину ее населения в те времена составляли евреи и иностранцы. Вероятно, именно поэтому погромы были такими жестокими. Людям не давало покоя могущество чужаков, хотя я первым признаю, что Одесса обязана своей атмосферой иноземцам.
Разумеется, не только евреи и преступники обитали на Молдаванке. Такую репутацию район приобрел благодаря Исааку Бабелю, прожившему там не более недели и изгнанному рассерженными обывателями, которых оскорбляло его любопытство и вранье. Говорят, кого-то даже убили из-за его лживых россказней.
Мой дядя Семен был уважаемым коммерсантом, торговал со множеством иностранных держав через свою контору. Он занимался импортом и экспортом самых разных товаров. На него работали более двадцати служащих в конторе по соседству; с его фирмой не было связано никаких скандалов. Следует добавить, что никто никогда не пытался напасть на него или выкрасть деньги, хранившиеся в сейфе.
Многие говорят, что проблема русских – в неумении отличать правду от вымысла. Мы верим всему, что слышим. Может быть, это так. Но лично я всегда легко мог провести границу между истиной и ложью.
Ванда принесла мне на подносе маленький завтрак – кофе и рулет. Роскошь никуда не исчезла. Ванда казалась еще эффектнее этим утром, но ее речь уже звучала не так сексуально. Возможно, в голосе девушки ночью была просто усталость, которую я принял за тайну. Я почти равнодушно поприветствовал Ванду и взял поднос.
– Что мне делать после завтрака?
– Я спущусь и все узнаю. – Она крутила рыжий локон у шеи. – Мадам в хорошем настроении. Месье тоже.
Мне следовало привыкнуть к тому, что в Одессе многие говорили по-французски. Город считался практически наполовину французским, хотя на самом деле большинство иностранцев были немцами; они даже издавали собственную «Одесскую газету»[40]. Многие из книг, прочитанных мною тогда, тоже были немецкими. Кроме того, я читал английские издания Таухница – Уильяма Кларка Расселла, Герберта Уэллса и Уильяма Петт Риджа[41].
В конце концов за мной пришли – но не Ванда, а мой кузен Шура. Он в это утро казался более представительным – в рубашке, галстуке-бабочке, сером костюме с жилетом, с соломенной шляпой в руке. Шура был добр, он понял, что мне будет не по себе в незнакомом городе. Он вошел без стука, прислонился к дверному косяку и, как обычно, подмигнул. Затем закрыл дверь и спросил, нравится ли мне моя одежда (вполне приличный темный пиджак и галифе). Я сказал, что у меня практически ничего больше нет. Шура ответил: «Сейчас что-нибудь придумаем», – а потом посоветовал мне причесать волосы на английский манер с пробором посередине и предложил свою расческу, пропахшую бриллиантином. Я взялся за дело и попытался соорудить пробор. Шура усадил меня перед маленьким туалетным столиком и, высунув язык от усердия, расчесал волосы точно по линейке. Потом сосредоточенно пригладил расческой свои короткие волосы и удовлетворенно кивнул. Я надел свитер и пиджак.
– Думаю, сойдет, – заявил Шура. – Все полагали, что ты будешь похож на школяра.
– Я и есть школяр, – подтвердил я. – Потому дядя Сеня и послал за мной – посмотреть, кого он отправляет на учебу.
Шура цинично усмехнулся:
– Конечно, он – старый филантроп.
Я рассердился:
– Дядя Сеня очень добр, он столько сделал для нас с матерью! Он в меня верит. Верит сильнее, чем мой собственный отец!
Шура смягчился:
– Ты прав. Что ж, пойдем.
Мы встретили на лестнице раскрасневшуюся Ванду. Она была очарована Шурой так же, как и я. Он коснулся ее щеки и что-то прошептал на ухо. Девушка радостно вздохнула и зашагала дальше.
Мы спускались по лестнице. В воздухе пахло едой. Мы достигли первого этажа. Солнечный свет проникал сквозь грязные стекла. Его лучи сияли на портьерах, на картинах, на вешалках для шляп и зеркалах. Мы прошли в заднюю часть дома, мимо комнаты, где я повстречал тетю Женю, мимо гостиной, где мы накануне ужинали, и приблизились к двери из красного дерева, в которую Шура, внезапно остановившись, постучал.
– Входите!
Голос был приветливым и радушным. Мы перешагнули порог.
– Максим Артурович! Я твой двоюродный дед, Семен Иосифович.
Я ожидал увидеть дородного патриарха, богатыря с длинной серой бородой, облаченного в деловой костюм. А столкнулся с невысоким мужчиной с резкими чертами лица, заостренной бородкой, одетым в льняные пиджак и брюки; из-под блестящего воротничка виднелся аккуратно завязанный старомодный черный галстук, выделявшийся на фоне накрахмаленной рубашки. На руках были серебряные кольца, на нескольких пальцах темнели чернильные пятна. Дядя Сеня казался слегка смущенным. Он снял очки, взял их в левую руку и, вытянув вперед правую, бросился ко мне через всю комнату. Схватив меня за локоть, постепенно, в несколько приемов, нащупал ладонь, которую сжал и потряс. Он оказался лишь на несколько сантиметров выше меня.
– Мой мальчик! Мой внук! Единственный сын моей племянницы. Какое счастье! Твоя мать гордится тобой, как следует? Так же, как я горжусь ею? Я твой двоюродный дедушка; можешь звать меня дядя Сеня. Шура все тебе расскажет. Он позаботится о тебе. Он хороший мальчик. Но ты должен помочь ему с учебой. Ты должен стать самым умным в нашей семье, да? – Он провел по бороде очками, которые все еще сжимал в руке, как будто придя в восторг от этой мысли. – Ты отправишься в Питер и станешь там Иисусом в синагоге, а? – Столицу тогда часто называли Питером. Мой двоюродный дед выражался более четко, чем большинство одесситов, но и он время от времени переходил на одесский говор, как будто пытаясь придать своим словам особое значение. – Ты вернешься к нам и станешь нашим голосом. У тебя нет призвания к юриспруденции?
– Боюсь, что нет, Семен Иосифович… Наука…
– Вот именно. Законник в семействе нам не нужен. Пока нет. Но ученый прекрасно подойдет, конечно. Профессора постоянно общаются с юристами, так что ты будешь полезен семье не меньше, чем адвокат. Адвокаты в Одессе, Максимка, сплошь негодяи. И так можно сказать, полагаю, о большинстве профессий. Но как только ты станешь интеллигентом, получишь доступ к лучшим из них, а? Они поделятся с тобой секретами, будут считать своим. Ты единственный интеллектуал, который у нас есть. Тебе цены нет! Ты должен стать гордостью нашего семейства. Любишь Шекспира, Пуччини, как и я? Мы будем вместе ходить в оперу и в театр.
Он сдержал свое слово. Мне было скучно, но я смог получить знания в области драматургии и музыки, которых в противном случае был бы лишен.
Я начал понимать, почему дядя Сеня так хотел, чтобы я преуспел в Санкт-Петербурге. Все прочие родственники добились успеха в различных коммерческих предприятиях. Мне же следовало заняться чем-то более отвлеченным.
– Шура предложил тебе посмотреть город? – спросил дядя Сеня. – Должен был. Я и сам бы этим занялся, но у меня контора. Корабли никого не ждут. Мыло нужно отправить в Севастополь. Из Рио-де-Жанейро должен прибыть груз кофе. И это несмотря на то, что немецкие мины угрожают мирным судам. Не скажу, что война так уж вредит делу. Откровенно говоря, наоборот. Если, конечно, нам и впредь позволят работать. Пусть Шура покажет тебе нашу Одессу. Она тебе понравится. – Дядя Сеня расстегнул пиджак и отыскал во внутреннем кармане бумажник. Он протянул Шуре десятирублевую банкноту. – Позавтракайте где-нибудь за мой счет. Увидимся вечером за ужином. До свидания. И старайся не перенапрягать мозги, пока ты здесь. Прибереги их для Санкт-Петербурга. – Он растягивал звук «р» в каждом слове, будто хотел описать какой-то необычайный деликатес.
Мы откланялись.
Возле кабинета моего деда мы столкнулись с тетей Женей. Она держала в руках ворох светлой одежды.
– Ты не можешь выйти наружу в таком наряде. Уже сейчас жарко. Вот Ванины вещи. Они будут тебе впору. А он уже надел свою форму.
Сын тети Жени служил в армии. Она была намного моложе дяди Сени, который вполне разумно подождал, пока его дела не пойдут в гору, – а потом решил жениться. Я подумал, что постараюсь последовать примеру деда. Мой отец, в конце концов, женился молодым, и ничего хорошего из этого не вышло.
Взяв старую летнюю одежду Вани, мы снова поднялись по лестнице. Под присмотром Шуры я переоделся в костюм цвета шоколада, шелковую рубашку с мягким воротником и шляпу. Мне, привыкшему к северной сдержанности, эти вещи казались немыслимо яркими и безвкусными, но Шура удовлетворенно вздохнул.
– Настоящий денди, – заметил он. – Ваня, конечно, был щеголем, пока его не забрали.
– Забрали?
– В армию.
Ваню убили полгода спустя. Я так никогда и не смог поблагодарить его за то, что он помог мне вписаться в жизнь «русской Ривьеры».
Я повесил свои галифе на спинку кровати. Мы с Шурой спустились вниз, попрощались с тетей Женей и Вандой, которые были заняты какими-то домашними делами, и вышли из дома.
Сверху площадь казалась фантастическим миром, сценой для музыкальной комедии. При ближайшем рассмотрении она предстала еще более чудесной. С самого утра ее заполонили люди. Теперь вокруг маленького сквера в центре площади появились прилавки, где расположились мужчины в кепках и темных передниках, беседовавшие друг с другом. Полные женщины в красных или синих косынках раскладывали бутылки и коробки, демонстрируя прохожим свои товары – фрукты и овощи, некоторые из них казались мне очень странными; цветы и ткани добавляли красок этому миру. В тени больших деревьев скрывались зеленые холщовые навесы. Пахло лошадьми, сладостями, кровью (когда мясники раскладывали свой товар на деревянных лотках и отгоняли мух). И все-таки самым сильным оставался запах моря и цветов. Собаки лаяли на мальчишек с тюками, бежавших, не разбирая дороги. Шарманщик начал настраивать свой инструмент. На него закричала огромная круглолицая женщина в украинской рубахе, и он ушел, не сыграв ни единой ноты.
Издалека слышались долгие завывания и короткие гудки – должно быть, корабельные сирены. Шура спросил меня, как я хочу отправиться в гавань – на трамвае или пешком. Я сказал, что предпочту пройтись, несмотря на то что мне не терпелось поскорее увидеть море.
– Отлично, – ответил он, – тогда мы пройдем через старое кладбище, это кратчайший путь.
Мы свернули за угол и вышли на улицу. Несмотря на то что здесь находилось множество людей, кричавших на поливальную машину, которая проехала мимо и промочила их обувь, было почти тихо. Ошеломленный, я свернул на центральную улицу как раз в то время, когда там проходил эскадрон; пики были украшены небольшими вымпелами, красные и синие гусарские мундиры казались совершенно обычными в этом разноцветном мире. Думаю, что увидел тогда часть парада рекрутов.
Мы прошли через ворота и окунулись в тишину старого кладбища; помпезные памятники из черного мрамора, гранита и известняка, огромные мавзолеи, древние ивы. Дойдя до конца, Шура сказал, что можно пролезть через трещину в стене, но не хочется портить костюм.
– Я теперь редко здесь бываю, – произнес он, желая пояснить, что отказался от детских забав.
Я увидел еще одну большую улицу, очень широкую, похожую на Крещатик. Вдоль нее росло множество деревьев, полагаю, вязов. Роскошные магазины, витрины которых были скрыты синебелыми жалюзи; киоски, напоминавшие миниатюрные готические соборы; небольшие деревянные прилавки, у которых инвалиды продавали газеты роскошным дамам, носившим зонтики из белой парчи или японского шелка. Экипажи, открытые четырехдверные повозки с izvoshchiks в униформе, стояли у обочин, ожидая клиентов, которые могли выйти из гостиниц, ресторанов, магазинов и контор. В те дни извозчиков было больше, чем пассажиров. В наше время стало много такси, и практически любой может воспользоваться ими. Я даже видел, как женщины из рабочего класса с пятью детьми останавливали машины в Лондоне.
Улицы Одессы уходили в бесконечность. Когда мы мельком увидели море в проходе между двумя высокими зданиями, я уже почти вымотался. Затем мы поднялись по лестнице на железнодорожный мост и увидели гавань – зеленую воду и множество кораблей. Я лишился дара речи.
Шура решил, что я разочарован увиденным.
– Подожди, пока не увидишь все остальное. Вот там прогулочные шлюпки. Оглянись.
Я замер, изучая изогнутую линию огромного каменного мола, который тянулся, как мне показалось, на многие мили к морю. Я посмотрел дальше, в сторону горизонта, уходящего в бесконечность, широкого и бескрайнего, как степь. Весь остальной мир внезапно стал очень далеким и в то же время более реальным. За горизонтом находились Китай, Америка, Англия, а корабли, среди которых были и военные суда, могли увезти меня в эти дальние страны. Я видел, как небольшие буксиры пересекали гавань с тяжелым пыхтением, вспенивая зеленую воду; видел, как лениво поднимался дым над большими лайнерами; видел красные корпуса наемных грузовых пароходов; и над всем этим простиралась сверкающая сеть подъемных кранов и вышек.
– Наверное, – сказал Шура, – я уже привык. Я вырос здесь, поэтому так люблю все это. – Он зашагал вперед по мосту. – Мы спустимся по лестнице. Тебя это должно впечатлить. А потом можем проехать на трамвае к Фонтану[42] или пойдем к лиманам. Ты слышал о лиманах?
Я знал о соленых озерах Одессы, куда богачи ездили поправлять здоровье, но не испытывал никакого желания осматривать их. Мне хотелось просто стоять на этом мосту, в то время как поезда проносились взад и вперед у меня под ногами, от центральной железнодорожной станции к гавани и обратно; хотелось мечтать о Шанхае, Сан-Франциско и Ливерпуле, о которых никогда не мечтал прежде. Я не желал никуда идти, пока Шура не потащил меня вперед.
– Знаешь, есть еще много чего интересного.
В тот момент я не хотел разговаривать и переубеждать его и позволил отвести меня вниз, в гавань, мимо ангаров, складов и величественных труб огромных кораблей, мимо еще одного мола и совсем другой гавани (в Одессе их было много), мимо занятных машин, осуществлявших разгрузку и погрузку, починку и бункеровку, мимо магазинов, торговавших инструментами и провиантом. Наконец прибрежная дорога стала бульваром, деревья и окрашенные в зеленый цвет железные ограды пришли на смену подъемным кранам, и теперь можно было разглядеть другую гавань, куда приплывали маленькие шлюпки и быстрые пароходы. Шура привел меня к подножию знаменитой гранитной лестницы, к месту, где снимался тот жуткий эпизод из большевистского фильма «Броненосец Потемкин»[43].
Мне это сооружение показалось лестницей в небеса. Позади нас была церковь Святого Николая с огромным золотым куполом. Я хотел продолжить прогулку по гавани, но Шура настоял на том, что нам следует свернуть к лестнице. С правой стороны располагалась маленькая касса; мы заплатили четыре копейки за двоих и разместились в небольшом вагончике фуникулера. Как только сторож решил, что пассажиров собралось достаточно для подъема, мы начали движение вверх по склону. По мере того как мы приближались к вершине, море становилось зеленее, а горизонт – шире. Наконец мы оказались на залитом солнцем, восхитительном Николаевском бульваре. Здесь, как сообщил Шура, летом можно встретить самых модных обитателей Одессы. На бульваре находились рестораны и гостиницы, обращенные фасадами к морю. Внизу раскинулась Угольная гавань, в которой расположились два фрегата и канонерская лодка Императорского флота, украшенные яркими вымпелами. С одной стороны от нас располагались неоклассические здания, с другой – деревья городского сада. Мы слышали, как играет оркестр. Частные экипажи приезжали и уезжали. Изящные леди и джентльмены прогуливались по бульвару. Шум гавани звучал приглушенно, почти нежно.
Я был очень рад, что надел костюм Вани, потому что все кругом было светлым: белые шелка, страусиные перья, бледные сюртуки и кремовые мундиры. Лестница и впрямь вела в небеса.
– Теперь мы снова спустимся вниз.
Шура взял меня за руку. Мы медленно пошли вниз мимо продавцов сувениров, торговцев газетами, лотков с игрушками и фотографиями. Шура купил нам мороженого и указал далеко вправо. Там находился Фонтан, а вокруг раскинулись летние дачи и парки. Можно было повернуться в одну сторону и посмотреть на море, повернуться в другую – и окинуть взглядом степь. Но «самая богатая пожива» была слева от нас – там, где находились лиманы и курорты.
– Там полно глупых старых дам, которым совершенно нечего делать; целыми днями они только обналичивают чеки или просят кого-то этим заниматься. Рядом еще есть казино. У меня там друзья. Мы как-нибудь вечером сходим туда.
Вдалеке виднелись роскошные здания, церкви и памятники (в Одессе их было множество) и участки, скрытые зеленью.
– Там живут настоящие богатеи. Сидят в своих неприступных крепостях и уязвимы, лишь когда прогуливаются по Никитской или отправляются за покупками к Вагнеру[44].
Я не совсем понимал, о чем говорил Шура. Неужели завидовал богатым? Сочувствовал революционерам? Но он никогда в открытую об этом не упоминал. Возможно, так думали и говорили все одесситы?
Шура повел меня обратно в город. Я надеялся позавтракать в одном из маленьких кафе с видом на гавань. Шура сказал, что там слишком дорого. Да и кормили там плохо.
– Пойдем в одно место, где я постоянно бываю, познакомишься с моими друзьями.
Эта перспектива меня встревожила. Обычно мне не слишком-то удавалось сходиться с людьми. Но теперь я стал гораздо спокойнее. Я шагал рядом с Шурой сквозь розоватые солнечные лучи, восхищаясь всеми подряд рекламными объявлениями, даже теми, что призывали вступать в армию. Большинство иностранных надписей было на знакомых мне языках, за исключением нескольких греческих и азиатских; мне они казались бессмысленными, несмотря на приобретенное на Подоле поверхностное знание иврита. Одесса казалась одновременно и древним, и современным городом. Подобно Нью-Йорку, она объединила все нации в одну. Улицы наводнили толпы солдат и матросов из гавани – встречались французы, итальянцы, греки, японцы, турецкие моряки, главным образом с торговых судов, а также англичане разных чинов и званий. Турки и японцы держались вместе большими группами. Их считали ближайшими союзниками немцев в городе, в котором военные события переживали достаточно остро. Мы находились неподалеку от Галицийского фронта и после наших первых успехов в Восточной Пруссии столкнулись с трудностями.
Город был, по словам Шуры, «слегка переполнен», но это позволяло местным жителям успешно вести дела. Черный рынок быстро развивался; шлюхи «обслуживали трех клиентов разом. Они сразу принимали бы и четверых, имей пупки побольше». Я тогда еще оставался настолько невинным, что совершенно не понял смысла его слов.
Мы протолкались сквозь группу французов, которые были сбиты с толку куда сильнее, чем я. Благодаря Шуре я начал чувствовать себя так, будто всегда жил в Одессе. Мы, рискуя жизнью, проскочили перед звеневшими трамваями, заставив лошадей подняться на дыбы; на нас гневно кричали старые дамы – а мы просто потешались над этим. Мы глазели на переполненные витрины «Английского магазина» Вагнера и флиртовали с цветочницами, потом покинули шумные парадные улицы и скрылись в лабиринте маленьких переулков. Здесь находилось гетто. Крошечные лавки торговали подержанной обувью и инструментами; еврейские мясники и пекари развешивали объявления на идиш; ателье, похоронные бюро и заведения, где совершались обрезания (мы называли их еврейскими пивнушками), располагались рядом. Я увидел и выстиранное белье, и вопящих детей, и говорливых старух, и одетых в черное торговцев-хасидов, и раввинов, и нищих, и невообразимую смесь барахла, консервов, резного дерева, немецких игрушек, готовой одежды, скобяных товаров, домашней птицы, рыбацких снастей, музыкальных инструментов, готовящейся еды – такого я ни раньше, ни позже не встречал. Как и сами евреи, этот район и отталкивал, и привлекал одновременно, он казался страшным и романтичным, спокойным и тревожным. Если бы я был один, никогда не посмел бы зайти туда.
Шура свернул в темный маленький подвал, поманив меня за собой. Миновав разбитую дверь, мы оказались в шумном, дымном полумраке кабака. Стены украшали старые рекламы туристических контор, исписанные язвительными комментариями. На полу виднелись остатки красивой кафельной плитки. В дальнем конце помещения располагался облицованный плиткой прилавок с жутким самоваром и двумя кувшинами с водкой или гренадином. За ним сидел древний бородатый еврей, опустив руку на железную кассу и сохраняя на лице неизменное выражение одновременно свирепости и добродушия. Он был одет практически во все черное, за исключением серой рубашки без воротника, его жилет был наглухо застегнут, несмотря на дым и жару. Шура фамильярно приветствовал еврея, но не дождался никакого ответа, за исключением легкого кивка. В помещении находились женщины и девушки, а также юноши и взрослые мужчины, одетые на роскошный одесский манер. Все ели одно и то же – жирный bortsch, ножки ягненка (клефтико), шашлык в жирном соусе, с макаронами и черным хлебом. Также на столах стояли блюда с салатом из перца, соленых огурцов и помидоров. Возможно, что-то еще подавалось в заведении «У лохматого Эзо», как его называли, но я никогда не видел, чтобы это ели, и не мог набраться храбрости, чтобы заказать. Надменная, с тонкими чертами лица, черноглазая еврейка принесла нам с Шурой тарелки с борщом и немного хлеба почти сразу же, как только мы нашли свободные места. Я немного нервничал; моей матери всегда не нравилось, если я связывался с евреями, но они, казалось, принимали меня с большой охотой, и я был готов жить и дать жить другим. В самом деле, надо сказать, среди одесских евреев, ни на кого не похожих, я чувствовал себя почти как дома.
Около прилавка, поставив одну ногу на скамью, аккордеонист наигрывал модные песни об известных актерах и актрисах, о Распутине, о наших поражениях и победах на войне, о местных знаменитостях (эти песни были самыми популярными, но непонятными для меня). Эти песни встревожили меня гораздо больше, чем здешнее общество. Некоторые куплеты казались очень радикальными. Я прошептал Шуре, что в кабак, вероятно, скоро явится полиция. Шура расхохотался.
– Кабак под Мишей, – сообщил он мне. – А Миша главный на Слободке. Никто: ни армия, ни полиция, ни сам царь – не посмеет совершить налет на Эзо. Только сам Миша, но зачем ему это? Он ведь один из владельцев этого заведения.
Я поинтересовался, кто такой Миша. Несколько посетителей услышали вопрос и похлопали меня по плечам.
– Спроси еще, кто такой Бог! – сказал один из них.
Я узнал, что речь шла о скандально известном местном бандите, одесском Аль Капоне, известном как Миша Япончик. У него в банде было якобы пять тысяч человек, и власти предпочитали вести с ним переговоры, нежели угрожать ему. Почти все в Одессе имели прозвища. Меня Шура представил как Макса Гетмана из-за того, что я рассказал ему в поезде о своей казачьей крови.
– Он киевский гетман, – пояснил Шура.
Хотя Шура преподнес это как шутку, его друзья все равно посмотрели на меня с уважением. Я понял, что меня приняли. Еще несколькими днями ранее я бы испугался, оказавшись в компании богемы, но теперь начал учиться одесской терпимости. Я решил не судить об окружающих по внешнему виду – так же, как они не судили обо мне. Шура ловко пользовался своими преимуществами и умело использовал всех вокруг. Он восхищался и вызывал восхищение. Кузен был в большом фаворе у взрослых завсегдатаев Эзо. У него имелось множество друзей-ровесников, и он гордился ими:
– Это Витя Скрипач, он когда-нибудь станет великим музыкантом. Это Исаак Якобович, самый ловкий зазывала на рынке. Это Малышка Граня, тебе нужно посмотреть, как она танцует. Познакомься с Борей – он ничего не видит без очков, но числа слушаются его; все хотят, чтобы он занимался их счетами… Вот Лева, он живописец получше Мане, попроси, чтобы он пригласил тебя в гости… Купи картину, если сможешь… У него там такие холсты! Новый Шагал!
По словам Шуры, все были героями и героинями, и хотя он говорил шутя и никогда не относился к своим словам серьезно, все-таки мог возвеличить самого что ни на есть обычного человека и воодушевить его. Еще до конца завтрака я сам превратился в великого изобретателя, ожидающего патентов на дюжину различных машин, получившего десять золотых медалей от академии и уже готового пожинать плоды успеха в Петербурге. Я начал в это верить. По крайней мере, я верил Шуре. Он всегда оставался оптимистом.
Я опьянел от водки и гренадина и от общества девиц в ярких блузах и юбках, с густыми темными волосами, нежными восточными глазами, громким смехом и быстрым, мягким, почти неразборчивым говором. Мир теперь не был ограничен домашними делами и учебой. В нем нашлось место развлечениям и радостям. Я начал смеяться. Я пытался подпевать, моя рука обвилась вокруг толстой дамы, от которой пахло одеколоном и грузинским вином; она любезно подсказывала мне слова.
Подпевая, я заметил: кто-то указывает рукой в нашу сторону. Мужчина в костюме в тонкую полоску, в желтом жилете, в желтом галстуке-бабочке, в желтых с белым ботинках остановился в дверном проеме, поглаживая пальцем усы. Он казался неуверенным в себе и в то же время необычайно высокомерным. Он походил на короля, оказавшегося рядом с простолюдинами, который сам не мог понять, как следует себя вести. Мужчина прошел между столами, приблизился к Шуре и вежливо заговорил на идеально правильном русском. Я повернул голову и предположил, что он француз. Он еле заметно улыбнулся и ответил, что это правда. Мы обменялись несколькими фразами. Потом мужчина обратился к Шуре:
– Я все еще интересуюсь зубными протезами. Их сейчас в Париже не найти.
– Идет война, сейчас все в дефиците, месье Ставицкий, – рассмеялся Шура. – В прошлом году вы занимались экспортом, теперь перешли на импорт. Вы увидите, что с голландцем легко иметь дело. Он сам заинтересован, и у него большие связи.
– Как его найти? – спросил Ставицкий.
– Позвольте мне устроить встречу. Он не любит, когда приходят к нему в операционную. Есть на чем записать?
Ставицкий вытащил отделанную серебром записную книжку. Шура взял карандаш и написал там несколько слов.
– Увидимся там около шести. Я вас не подведу.
Ставицкий стиснул плечо Шуры:
– Знаю. Я слышал, что голландец в деле.
Когда Ставицкий ушел, я спросил про дантиста: я чувствовал приступы зубной боли уже давно, возможно, что-то случилось с коренным зубом.
Шура улыбнулся:
– Вся семья к нему ходит. Если болят зубы, надо его навестить. Услуги дантиста стоят дорого, но у нас совместные дела, так что можно договориться подешевле. Но лучше в Одессе никого нет. Мы можем как-нибудь сходить к нему вместе. Идеальный предлог.
Я сказал, что, если зубная боль усилится, я воспользуюсь Шуриным предложением. Связи моего семейства преодолевали все социальные барьеры. В Англии или Америке это было обычным делом, но в России в 1914 году существовало бесчисленное множество замкнутых каст. Они могли пересекаться лишь в богемных или интеллектуальных кругах, но даже здесь присутствовала некоторая натянутость. Вот почему, мне кажется, заведение Эзо в Слободке произвело на меня столь сильное впечатление. Больше никогда я не чувствовал такого товарищества. Несомненно, я ощутил это, потому что не знал механизмов, управлявших отношениями между людьми, встречавшимися у Эзо. Я был, попросту говоря, невинен. Тем не менее я отбросил предвзятость и предубеждение в одно мгновение. Здравый смысл не посещал меня все те несколько месяцев, что я провел в Одессе.
– Он голландец, – добавил Шура, – хотя я могу поклясться, что на самом деле – гунн. Надеюсь, никто об этом не узнает.
– Ты хочешь сказать, что он шпион? – Я внимательно читал газеты.
– Это мысль. – Шура усмехнулся. – Но я не совсем это имел в виду. Идем, у нас есть время прогуляться к Фонтану. Тебе нужно немного осмотреться, а я смогу подышать свежим воздухом.
– Я лучше бы остался здесь, – ответил я.
Шуру это обрадовало.
– Можешь приходить сюда, когда захочешь, – теперь все знают, что ты – мой друг.
Когда мы уходили, все пели шуточную песенку о китайце, который влюбился в русскую девушку и, не добившись взаимности, сжег дотла ее дом. Это на самом деле недавно случилось в Севастополе. Китайцам в России всегда не доверяли. Ирония, конечно, заключалась в том, что они трудились рука об руку с евреями в годы революции: евреи действовали умом, китайцы – силой. Нашу славянскую настороженность по отношению к азиатам легко объяснить: ведь они пытались вторгнуться на нашу территорию многие сотни, если не тысячи, лет.
Шура повел меня к остановке трамвая, расположенной на тихой широкой улице. В конце концов мы сели на трамвай номер шестнадцать, который шел к Малому Фонтану[45]. Шура, устроившись на переднем сиденье, показывал мне достопримечательности, ни одной из которых я не запомнил. Я хорошо помню номера трамваев и имена людей, но в моей памяти не остается никаких сведений о соборах и музеях. Мы оставили позади длинные прямые улицы и оказались на открытой местности. Вдали было бескрайнее изумрудное море.
Шура сказал, что у нас нет времени. Мы сели на открытый трамвайчик до Аркадии и отправились обратно. Кузен обещал привести меня домой к ужину, а в шесть у него были какие-то дела. Я с невинным видом поинтересовался, чем он занимается. Вероятно, я смутил его, но он никак этого не выдал:
– Я все для всех устраиваю. Но работаю в основном на семью.
– На дядю Сеню?
– Верно. Чтобы торговать, ему нужна информация. Я своего рода связной.
Я понимал, что связи Шуры могли оказаться полезными для делового человека, желающего быть в курсе событий. Мое восхищение усилилось, когда я понял, насколько прагматичен дядя Сеня. Вместо того чтобы принудить Шуру заниматься обычной работой в конторе, он платил ему, чтобы тот налаживал связи с людьми, с которыми дядя Сеня по какой-то причине не мог иметь дело лично. С людьми, которые не поверили бы ему, даже если бы он все-таки решился подойти к ним.
Я спросил Шуру, как он впервые попал к Эзо. Оказалось, что случайно; он вырос в том районе. Ему приходилось самому зарабатывать на жизнь в течение многих лет. Мать Шуры, как и моя, была вдовой. Когда ему исполнилось десять, она сбежала в Варшаву вместе с торговцем оружием, должно быть, решила, как выразился Шура, что он уже достаточно взрослый, чтобы жить самостоятельно. Я посочувствовал, но он усмехнулся и потрепал меня по руке: «Не волнуйся обо мне, малыш. Я ее содержал. А когда она исчезла, стал богачом».
Я не стал упоминать о дяде Сене. Было очевидно, что он пожалел Шуру точно так же, как пожалел меня. Он в полной мере использовал Шурины таланты и таким же образом собирался использовать мои.
Проходя мимо парков и лужаек, деревьев и datchas близ Фонтана, мы вдыхали аромат отцветающих акаций. Ровные пляжи; скалы, поросшие желтой травой, цветом напоминавшей яичницу-болтунью; белые готические особняки промышленников; более скромные дома людей, приехавших в Одессу для поправки здоровья. «Здесь, кстати, жили и знаменитые художники», – сообщил Шура.
Мы расстались на площади, перед домом дяди Сени. Кузен не хотел опаздывать на назначенную встречу. Было уже около пяти. У меня оставалось время, чтобы вымыться и переодеться во что-то более привычное. Я перебросился парой слов с Вандой и спросил, когда мы будем есть. Она сказала, что около шести. Я мог спуститься на первый этаж, если пожелаю, и встретиться с тетей Женей. Окно уже не привлекало меня, как утром, поэтому я решил согласиться на предложение Ванды.
Я постучал в дверь комнаты. До меня донеслось приятное воркование тетушки, которая приглашала войти. Комната была залита светом с улицы. Здесь находились книги, журналы и газеты, растения в горшках, фотографии и глубокие кресла. Зеркало с многочисленными открытками, прикрепленными к раме, главным образом от Вани, висело над модной этажеркой в стиле ар-нуво. Я увидел и картины на стенах, в основном романтические пейзажи украинской деревни. Тетя Женя отложила свою книгу, предложила мне сесть в одно из удобных кресел напротив нее (в комнате не было печи, зато у дальней стены и окна стояли обогреватели) и спросила, понравилась ли мне Одесса. За исключением нескольких эпизодов, которые могли ее встревожить, я рассказал тете обо всем, что увидел, в том числе и о поездке на трамвае к Фонтану. Тетя Женя согласилась, что там очень красиво, что она сама туда переедет, если Бог даст. В этом районе изначально располагался источник, снабжавший всю Одессу водой. Теперь половина домов зимой пустовала. Это началось еще во времена тетушкиного детства – все больше и больше домов отпираются только летом. По ее словам, там стало слишком много ресторанов и увеселительных садов.
– Ты видел Аркадию?
– Да, – ответил я.
– Это ужасное место, – сказала тетя. Прозвенел гонг. Она со вздохом встала. – Пора обедать. У Фонтана слишком много детей летом и слишком мало зимой, в то время как у лиманов на другом конце города обитают только старухи, пытающиеся продлить себе жизнь на несколько мучительных месяцев. Подобные женщины ищут бессмертия в грязевых ваннах или в монашеских кельях. Выбор не слишком богат.
Я задумался, не относится ли это и к Распутину. Одесситы, несмотря на то что были окружены осведомителями, рассуждали на удивление свободно.
Дядя Сеня переоделся к обеду в темный костюм, и на пальцах у него больше не было чернильных пятен. Ванда подала нам еду, а затем тоже села за стол. Дядя Сеня некоторое время говорил о грузах и накладных, наслаждаясь восхитительной холодной yushka. Когда Ванда отправилась за маринованной селедкой, он пожаловался на московских мошенников, задешево купивших у него несколько бочек маслин. К тому времени, когда мы перешли к основному блюду, отварной говядине с хреном и картофелем в масле, он достаточно смягчился, чтобы перейти к рассуждениям о ходе войны. Я не мог сосредоточиться на словах деда, потому что был поражен обилием еды. Одно блюдо следовало за другим. Я думал, что наелся супом. Потом нашлось место и для сельди. Теперь мне следовало управиться с говядиной. Я впервые в жизни волновался из-за того, что еды слишком много. Но, судя по тому, как дядя Сеня отнесся к обеду, это была самая обычная трапеза.
– Ты устал, – сказала мне тетя Женя. – У тебя совсем нет аппетита. Ты переволновался?
Я кивнул. В тот момент я не мог говорить. Мне казалось, что если я открою рот, картофель вывалится наружу.
Но случилось кое-что похуже. Дядя Сеня прекратил говорить о военных возможностях немцев и их превосходстве в оружии и спросил меня:
– Чем ты сегодня занимался?
Я поперхнулся. Дядя Сеня спокойно улыбнулся:
– Надеюсь, что Шура не научил тебя ничему дурному. Я предупредил его, что ты вырос в приличной семье и в Киеве жил в уединении. Он не водил тебя в то казино?
Я энергично затряс головой, опасаясь, что Шуру обвинят уже потому, что я слишком испуган, чтобы отвечать.
– Или в тот дом… Как зовут девушку?
– Мы ходили в гавань, – ответил я. – И к Фонтану.
– Да… – Дядя Сеня, казалось, был почти разочарован. – Так ты видел море?
– Мм… – Я все никак не мог справиться с картошкой. – Впервые в жизни.
– К нему быстро привыкаешь. И все же, живя на берегу океана, как мы, гораздо проще сохранять остроту ума. Не только благодаря бодрящему воздуху, конечно, но особому мироощущению. Чувству перспективы. Кроме того, здесь можно ощутить собственную уязвимость. Нас одолевают стихии, не говоря уже о наших собратьях, людях. – Он явно наслаждался. – Мы, городские жители, склонны забывать, что смертны. Но море напоминает нам об этом. Из него мы вышли и в него возвратимся. – Перед ним поставили компот. – Море – наша колыбель.
Так я впервые столкнулся с умеренным пантеизмом дяди Сени. Тогда мне показалось, что он излагает нечто вроде эволюционной теории.
После обеда дядя Сеня удалился в свой кабинет, а я остался с тетей Женей и Вандой и начал читать научную статью в «Знании»[46]. Этот журнал, считавшийся радикальным, у нас дома был под запретом, а здесь я обнаружил несколько номеров. В каждом имелись статьи, которые могли бы меня заинтересовать, но сегодня я был переполнен свежими впечатлениями. Прочитав пару абзацев, я обнаруживал, что думаю о теплых телах и смеющихся ртах, о непристойных песнях и дружеском обществе. И вот ощущение причастности к чему-то большому полностью овладело мной. Одесса была самой жизнью, и эта жизнь легко меня приняла.
Возможно, сейчас мне следовало бы совсем по-другому относиться к Шуре – но я не могу. Полагаю, он делал все возможное, чтобы познакомить меня с миром, который нежно любил и который, по его мнению, мог полюбить и я. Я был счастлив здесь в течение нескольких месяцев, и мне очень жаль, что все закончилось. Я не оценил тогда великодушия кузена. Шура познакомил меня с Одессой в ее последние, славные, декадентские времена, до того как война, голод, революция и торжество буржуазии превратили Одессу в обычный портовый город, построенный для торговли, наполненный людьми, сбивающимися в серые толпы вокруг автострад, эстакад и обводных каналов. Он показал мне упадок, а я увидел лишь жизнь, красоту и дружелюбие. Этот плод созрел под жарким солнцем Одессы. Возможно, он начинал гнить – наступило последнее лето старого мира.
Тетя Женя посмотрела на меня поверх страниц своего романа. Ей показалось, что я очень бледен. Она заметила, что мне следует позаботиться о себе ради матери, загореть под солнцем Аркадии, пока стоит хорошая погода, и ни в коем случае не шататься по темным закоулкам с Шуриными сомнительными приятелями. Я согласился, что немного устал, но о сне не могло быть и речи. Я пытался обдумать все свои впечатления разом.
– Ты уснешь, – сказала она, – я дам тебе кое-что послушать.
Она подошла к большому граммофону, то ли немецкому, то ли английскому, и спросила, есть ли у меня музыкальные пристрастия. Я сказал, что нет. У тети было очень много плотных черных пластинок с красивыми ярлыками; они как раз вошли в моду в те времена. Она поставила несколько оперных арий в исполнении Карузо (тогда я впервые услышал Пуччини и Верди), что-то из Моцарта, пару популярных песенок в исполнении самой модной тогда певицы (думаю, это была Иза Кремер[47]) и модное танго, которое, быть может, потому, что инструмент немного расстроился, звучало как-то необычно. Эта мелодия преследовала меня, когда я отправился спать, и преследует до сих пор.
Я погрузился в глубокий сон сразу, как только лег.
Глава четвертая
В последующие дни Шура познакомил меня со множеством новых удовольствий, против которых я был абсолютно беззащитен. Мать предостерегала меня о революционной опасности, но ничего не говорила о настоящих соблазнах Одессы: веселой, циничной компании вульгарных богемных одесситов, которые не проклинали ни Карла Маркса, ни царя, полагая, что их город – целый мир и нигде на Земле не может быть так красиво. Они во многом оказалась правы. Я очень быстро начал перенимать вкусы и манеры моих друзей. Жители России относились к одесситам так же, как жители Нью-Йорка – к калифорнийцам. Яркая одежда, которую мы носили, казалась вполне естественной, прекрасно сочетающейся с ярким светом, заливавшим город; она выглядела вульгарной лишь вдали от привычных мест. Случаи воровства в Одессе не воспринимались серьезно. Могло даже показаться, что собственность в этом городе уже стала общей; люди пытались завладеть как можно большим количеством вещей, но не обижались, если их обманывали и вынуждали с ними расстаться. Конечно, не все разделяли такую точку зрения. Встречались и люди иного склада, как правило, чиновники или приезжие, вроде напыщенных обитателей приморских особняков или отдыхающих, собиравшихся поплавать в море и позагорать. Женщины хотели флиртовать с моряками и нашими одесскими ребятами.
У одесских парней были темные глаза, белые зубы и сияющие шарфы. Они носили разноцветные галстуки с булавками, рубашки с широкими манжетами и изысканными запонками, огромные кольца, вызывающие шляпы и гамаши цвета шоколада; жилеты у них были из желтого мохера или китайской парчи. Одесские девушки наряжались в шляпки с перьями и темные украинские шали, ослепительно-белые блузы и светлые широкие юбки. Они целыми днями, хихикая, стайками прогуливались по бульварам, а вечерами устраивались в парках, освещенных вереницами крошечных электрических ламп. И тогда в свете огромной одесской луны море становилось похожим на ртуть, столь же изменчивую и не поддающуюся описанию, как одесский характер; в это время аккордеоны и оркестры наигрывали модные мелодии и новые французские, американские, английские и даже немецкие песни. В толпе встречались солдаты и моряки, прогуливавшиеся с подружками; альфонсы, охотившиеся за женами или вдовами самодовольных торговцев; торговцы, наблюдавшие за девушками; карманники, мошенники, фотографы, шарманщики и продавцы открыток. Здесь также появлялись хасидские семьи, которые можно было опознать по темной одежде, платкам и прочим внешним признакам; они в равной мере раздражали всех, в том числе и еврейских торговцев. И все-таки этих фанатиков терпели здесь, как нигде более, несмотря на то что муниципалитет Одессы почти полностью состоял из членов черной сотни, которая начала погромы за десять лет до этого.
Шура познакомил меня с девушками. Они расцеловали меня в щеки, назвали милашкой и душкой, но я‑то надеялся произвести на них совсем другое впечатление. Я учился понимать богатый, сложный одесский диалект и, поскольку уже знал несколько иностранных языков, скоро преуспел в этом. Эта способность, утраченная с возрастом, часто помогала мне. Когда дело касалось языка, я становился хамелеоном.
Мои успехи очень радовали Шуру. Он отвел меня к лиманам, к тем удивительным темным, изумрудно-зеленым отмелям, полным грязи и полезных ископаемых. Большей частью они необитаемы: там носятся птичьи стаи и плавают рыбы, колышется тростник и под искрящейся, покрытой рябью поверхностью воды скользят странные тени. Но там, где рядами стоят огромные гостиницы, лиманы выглядят совсем иначе. Здесь я научился выполнять поручения богатых дам. Мы неплохо зарабатывали, потому что чаевые давали все участники сделок. Иногда мы подрабатывали в доках, где стояли судна: пароходы, парусные лодки, шхуны; они загружались и разгружались. Рыбу, фрукты, вино, ткани или даже уголь продавали зачастую прямо с пристани.
Торговцы были повсюду; они платили за разную информацию. Шуру знали все, и я стал почти столь же известен под немного офранцуженной кличкой Гетман Макс. К тому же дружба с Шурой обеспечивала мне место в богемных кругах. Уже распространилась легенда, согласно которой я в Киеве был большим человеком. Скоро я уже мог свободно блуждать по району без сопровождения кузена и воспользовался этим, чтобы завести собственные знакомства. Однако я никогда не ходил без Шуры в доки. Этот серый мир железных дорог, кранов и изнуренных тяжеловозов казался опасным. Именно оттуда вышло множество революционеров.
Между тем я пытался следовать желаниям моей матери – продолжал заниматься по вечерам, хотя они становились короче, поскольку мои дни были все длиннее, и пребывал на свежем воздухе достаточно, чтобы цвет моей кожи изменился; это успокаивало тетю. Дядя Сеня, казалось, ничего от меня не требовал, за исключением того, чтобы я слегка изучил мир, прежде чем вернуться к занятиям. Я был благодарен ему за философию и опыт, которые заставляли меня еще больше ценить образование. Но вино и эйфория не могли бесконечно поддерживать меня, и иногда мне приходилось проводить целые дни в постели, оправляясь от излишеств, к которым приводил чрезмерный энтузиазм. В один из таких дней ко мне явился усмехающийся Шура.
– Слыхал, тебе нехорошо. Я же предупреждал тебя насчет того крепкого армянского вина, так?
Кузен схватил один из моих журналов. Его губы зашевелились, когда он попытался прочитать по-немецки.
– Что это такое? – Шура указал на статью о работе Одди над химическими изотопами[48]. Это было началом конца практической науки. Вместе с атомными теориями Бора, труды Одди скорее походили на безумные абстракции модернистских картин, авторы которых были представителями того же общества взаимного восхищения. Я объяснил Шуре, что это, скорее всего, ерунда. В ответ он рассмеялся и произнес:
– Вижу. Ты здесь ничего не понимаешь, а?
– Нечего тут понимать, – ответил я. – Что ты здесь делаешь?
Шура почесал нос.
– Я думал, что тебе захочется сегодня прогуляться в Аркадию. Надо найти тебе девчонку.
– У меня нет сил, – ответил я. – Даже думать не могу.
– Тебе нужен доктор.
– Ерунда!
Шура явно сочувствовал мне. Немного неохотно он вытащил что-то из кармана своего жилета. Отбросив шарф за плечо, он развернул сложенную газету и протянул мне листок.
– Не сопи, Макс, не то сдуешь кучу денег.
Я смотрел на кучку белого порошка, лежавшую на газетной бумаге. Это вещество напоминало лекарства от расстройства желудка или головной боли.
– Что это? От похмелья?
– Ага.
Шура подошел к моему туалетному столику и аккуратно разложил на нем газетный лист. Потом вытащил из бумажника рублевую купюру и свернул ее в маленькую трубочку. Я был заинтригован и удивлен.
– И что это значит?
Кузен протянул мне свернутую купюру и газетный лист:
– Ты знаешь, как это делается?
– Нет.
– Нужно втянуть это через нос.
– Но что это?
– Это кокаин. Он поможет тебе собраться с силами. Всем помогает.
– Как лекарство?
– Точно.
В те дни мало кто знал о кокаине и пристрастии к нему. Продажа и употребление наркотика не были запрещены, но, слишком дорогой, он оставался развлечением для богачей. Нерешительно втягивая в ноздрю первые кристаллы, я не считал, что совершаю нечто дурное; я просто приобщался к еще одному удовольствию, до сих пор доступному лишь высшим классам. Сначала нос просто утратил чувствительность, и я испытал разочарование. Я сказал Шуре, что либо на меня порошок не действует, либо мне нужно больше. Он продолжал листать мои книги. Постепенно меня охватил восторг. Хороший кокаин не просто создает ощущение, что все тело переполняет жизнь, он одновременно рождает эстетическое чувство, любовь к самому наркотику, к миру, который создает такие чудеса, к себе и ко всем людям, исключительную веру в себя, утонченную чувствительность, глубокое понимание всех тайных пружин, управляющих Вселенной. Обычно кокаинисту, неважно, вводит ли он наркотик в вену или нюхает, непросто различать реальность и фантазию, управлять энергией, освобожденной наркотиком, но тогда я целиком и полностью подчинился новым ощущениям – точно так же, как подчинялся Шуре. Конечно, мне казалось, что я совершенно другой человек.
– Действует превосходно, – сообщил я. – Чувствую себя в сто раз лучше.
– Я так и знал. Пошли в Аркадию?
Я подумал о симпатичных девушках, о прекрасном впечатлении, которое на них произведу. Я подумал об иностранцах, с которыми могу там встретиться и поговорить, об изобретениях, которые могу создать, просто лежа на песке. Я оделся в лучший Ванин костюм, дополнив его парой безделушек, которые уже успел себе купить.
– Который час?
Шура тряхнул головой и громко расхохотался:
– О дружище Макс, с тобой не соскучишься. Сейчас около полудня. Мы сначала позавтракаем у Эзо.
В Аркадию мы так и не попали. Вместо этого провели большую часть дня в кабаке, и я говорил обо всем, что знал, на всех языках, на каких только умел; о том, что собирался совершить.
Самой внимательной слушательницей была маленькая Катя, на пару лет младше меня, но уже очень известная проститутка. Она, протянув свою крошечную теплую ручку, отвела меня, все еще не пришедшего в себя от кокаина, в какой-то переулок, в залитую солнцем комнату, из окна которой виднелись туманные холмы Молдаванки и Воронцовки и древние степи. Здесь Катя сняла с меня всю одежду и обнажила мое тело, любовалась им и ласкала его; затем разделась сама, легла на белую кровать и обучила трепетным радостям любви. С тех пор наркотические и сексуальные наслаждения неразрывно смешались в моем сознании. Я регулярно принимал наркотики всю свою жизнь и, кроме мелких неприятностей с носом, никаких отрицательных эффектов не обнаружил. Я не одобряю курения марихуаны и опиума, потому что они убивают ум и желание действовать, а это – важнейшие человеческие свойства. При этом я повидал немало людей, нуждающихся в кокаине, чтобы работать. Конечно, наркотиком можно злоупотребить – это относится, например, к большевикам и поп-звездам, – но то же самое можно сказать и о прочих земных дарах.
После того, что произошло с Катей, я очень крепко заснул. На следующее утро, очнувшись, я увидел ее рядом, по-прежнему нежную, но настойчивую. Катя хотела, чтобы я ушел, – из-за меня она могла опоздать на работу. Я спросил, когда можно будет прийти к ней снова. Она ответила, что мы можем встретиться на следующий день, когда она закончит свои дела. Моим читателям это может показаться странным, но я не ревновал ее к клиентам. Я никогда не пытался анализировать свои чувства. Моя любовь к Кате, к ее маленькому, полудетскому телу, роскошным черным волосам, нежным и добрым глазам, тонким губам и пальцам, была одним из самых чистых чувств, которые я испытал в жизни. Даже видя ее с «приятелями», я сохранял дружеские чувства к ней. Несмотря на случившееся позже, не думаю, что хоть раз сталкивался с настолько гармоничными отношениями. Моя жизнь с госпожой Корнелиус оказалась куда сложнее, и ее отношение ко мне, по крайней мере поначалу, было в большей степени материнским.
Моя первая встреча с Гонорией Корнелиус произошла через пару дней после моего первого сексуального опыта. Зубная боль усиливалась, и дядя Сеня решил, что я должен получить самое лучшее лечение. И снова прозвучало имя дантиста Корнелиуса. Чтобы вырвать зуб, Ванда повезла меня на Преображенскую, одну из самых роскошных улиц Одессы. Из-за развеселой жизни я побледнел, глаза налились кровью. Наверное, дядя Сеня предположил, что моя зубная боль могла оказаться симптомом чего-то более серьезного. Он не хотел брать на себя ответственность и сообщать матери о моем недуге.
В шикарном авто (водитель оставался просто силуэтом на переднем сиденье) мы с Вандой проехали по туманным осенним улицам. Колеса ворошили шелестящие листья, которые казались золотыми в желтом морском тумане, приглушавшем все цвета осени, звуки судов в гавани и шум движения на центральных улицах. Мы миновали кладбище, облаченное в канареечный саван. Призрачные дамы в коричневых осенних пальто и шляпах и господа в темных одеяниях ожидали наступления зимы.
К тому времени как такси выехало на длинную, прямую Преображенскую улицу, я чувствовал себя чрезвычайно солидным – в новом костюме, в белой рубашке с жестким воротничком и шейном платке; будто какой-нибудь граф отправился нанести визит принцу. Мой страх перед дантистом исчез – отчасти после soupçon[49] кокаина, принятой прямо перед отъездом, отчасти из-за ощущения собственной элегантности. Мы вышли из машины возле внушительного здания (оно располагалось неподалеку от театра и университета) как раз в тот момент, когда город утонул в лучах солнечного света. Мы вошли в холл и поднялись по изогнутой каменной лестнице прямо к двери, на которой висела медная табличка с надписью «X. Корнелиус, дантист».
Нас ожидали, но в хорошо обставленном вестибюле находилась еще одна посетительница, очень модно одетая дама. Рукава ее платья были отделаны мутоном, а шляпу с маленькой вуалью украшали цветы и фрукты. От нее пахло дорогими духами. Как я теперь понимаю, она была ровесницей Ванды, но казалась какой-то нездешней и романтичной. Судя по всему, ее никто не ждал. По крайней мере, так утверждала регистраторша в приемной дантиста.
Я не могу передать удивительный английский язык необычной леди, пусть попробует кто-нибудь другой. Она казалась очень уверенной в себе, когда стояла посреди комнаты, держа оранжево- розовый зонтик в одной руке и такой же ридикюль в другой. Девушка была одета почти во все розовое с редкими вкраплениями белого, а шляпка поражала настоящей радугой цветов. Казалось, что ожила картинка из одного из моих французских или английских журналов. Перья взметнулись, как шлейф какого-то короля-варвара, когда она обернулась и посмотрела на нас. У нее были светлые волосы (не слишком модные в те времена) и слегка накрашенное бледно-розовое лицо. Она улыбнулась нам сверху вниз, хотя была ненамного выше нас; возможно, именно так сама государыня могла бы снисходительно обратить на меня внимание. Девушка говорила по-английски, как я уже заметил; похоже, ее раздражала глупость регистраторши, которая обращалась к ней по-немецки, а затем по-французски.
– Я го’орю ей: я тут, шоб ви’ить его.
Я узнавал английские слова, хотя не вполне точно улавливал смысл сказанного.
– Эта леди – англичанка, – сказал я девушке, похожей на сбитую с толку овчарку в своем переднике и форменном платье. Я снял шляпу.
– Я могу вам помочь, мадемуазель?
Английская леди пришла в восторг. Казалось, она расслабилась.
– ’Кажите той ’лупой к’рове, – попросила она, – шо я тут, шобы ви’ить маво кузена Эйч… миста Корнелиса. Я мысс Гонория Корнелис, к’торую он ’спомнит, – та маль’кая де’ачка, к’торую он када-то держал на к’ленях. У м’ня непрятности, мне б пого’орить с им с глазу на глаз.
– Вас не интересуют услуги дантиста, мадемуазель?
– Шо?
Я как сейчас помню ее речь, сбивавшую меня с толку. Девушка добавила:
– Еще раз? – Судя по всему, она меня не поняла.
– У вас нет проблем с зубами?
– Ка’ого черта! Сверкаат как жемчуга и кречче ж’леза. Думать, я ст’руха?
Я постарался как можно медленнее и доходчивее объяснить регистраторше по-русски.
– Эта леди – родственница его превосходительства, дантиста. Ее зовут госпожа Корнелиус. Она, кажется, его кузина.
Девушка успокоилась, улыбнулась и сопроводила английскую леди в другую, еще более роскошную комнату. Сказав мне: «’Пасибо те, Иван», – госпожа Корнелиус исчезла. Намного позже я выяснил, что дантист на самом деле не был ее родственником. Она увидела его фамилию в Бедекере в ближайшем книжном магазине и решила навестить. Мисс Корнелиус путешествовала с персидским аристократом, известным плейбоем тех лет. Они остановились в номере гостиницы «Центральная», но слегка разошлись во взглядах, и ее друг уплыл первым пароходом, оплатив счет только до утра. Она ни слова не знала по-русски, но попыталась справиться с ситуацией. Гонория была мне очень признательна, потому что это был ее последний шанс, и поэтому сразу узнала меня, когда мы встретились снова. Она потеряла надежду отыскать кого-то, говорящего по-английски, в Одессе, и я оказался «находкой», хотя, с ее точки зрения, и «говорил, как жалкая книга».
После ухода Гонории мы с Вандой сели; об английской леди напоминал лишь аромат ее духов. Меня пригласили в кабинет. Ванда по-прежнему сопровождала меня. Полагаю, ей очень хотелось увидеть рабочее место дантиста. Красивый мужчина средних лет, бормотавший что-то, насколько я понял, по-голландски, заглянул мне в рот, цокнул языком, опустил маску на мое лицо и попросил регистраторшу повернуть клапан на ближайшем баллоне. Аромат духов сменился странным запахом. Я вдохнул газ. Послышалось странное жужжание – жжж-у, жжж-у – и перед глазами завертелись черно-белые круги. Я почувствовал слабость, мне привиделись Зоя, Ванда и маленькая Эсме, а потом теплое, нежное тело моей Кати. Все девушки были одеты в оранжево-розовые костюмы английской леди, кузины Хенрика – или Ханса? или Хендрика? – Корнелиуса.
Я помню, что уходил, чувствуя пустоту во рту и пульсирующую боль в голове. Когда я спросил, что случилось с мадемуазель Корнелиус, Ванда захихикала:
– Ее кузен, кажется, был только рад ей помочь!
Я успокоился.
Регулярно принимая кокаин, я мог продолжать заниматься и вести свою новую, полную приключений жизнь, а также встречаться с Катей. В конце концов я влюбился в нее почти так же сильно, как когда-то – в Зою. Каникулы, казалось, никогда не закончатся. Дядя Сеня уверял, что я могу оставаться, пока мое место в политехническом не будет окончательно устроено. Когда это произойдет, никто не знал. Иногда я бодрствовал по двадцать часов в сутки. А случалось, не ложился спать вообще. Письма матери были формальными и оптимистичными. При этом моя жизнь не ограничивалась одними только приключениями. Мы с дядей Сеней регулярно посещали театр и оперу, как правило, вдвоем. Он оставался удивительно терпеливым хозяином.
Тетя Женя все сильнее беспокоилась обо мне – она догадывалась, не без оснований, что я переусердствовал. Но дядя Сеня за обедом обычно смеялся, говоря:
– Им нужно перебеситься, Женя.
Эти слова не совсем соответствовали его положению в обществе (высокопоставленные чиновники неоднократно обедали у нас, и тогда мы с Вандой ели на кухне вместе с поваром).
Конечно, жизнь среди любящей удовольствия одесской богемы не была лишена проблем. Почти каждый день случались драки. Чаще всего мне удавалось избегать неприятностей, занимая мирную или нейтральную позицию (это стало моей второй натурой) или, наоборот, выражая свое мнение предельно ясно и резко. Но я не всегда мог избегать встреч с революционерами, от которых меня предостерегала мать.
Чаще всего я мчался прочь, лишь только разговор касался политики, хотя такое поведение считалось непочтительным. Когда все узнали о моих научных опытах и инженерных навыках, вокруг меня начали увиваться разные социалисты. Был один негодяй, от которого я ожидал неприятностей в любую минуту: угрюмый и сосредоточенный на самом себе грузин в отпуске, как он выражался, из Сибири. Он хотел, чтобы я сделал несколько бомб для нападения, которое он собирался устроить в почтовом поезде Одесса – Тифлис. Я содрогался от ужаса при одной мысли о том, что нас подслушают, уже не говоря о возможном участии в деле. Моя мать умерла бы, узнав об этом. Но я не мог просто уйти от него. Этого зловещего бандита с удивительным именем Со-Со природа наделила низким, убедительным голосом и горящими глазами, которые выделялись на его давно не бритом, рябом лице. Учитывая это, я не мог не общаться с ним по крайней мере вежливо. Я пообещал заняться созданием бомб. При следующей встрече я собирался пожаловаться, что невозможно раздобыть материалы. Мне казалось, что будет вполне разумно вернуться в таверну в назначенный день, но, к моему великому облегчению, грузина там не оказалось. Больше мы никогда не встречались. Возможно, его арестовали. Возможно, застрелили полицейские. Возможно даже, подобно человеку, который надул Мишу Япончика с какой-то партией морфия, он отправился на корм рыбам в Карантинной бухте. У воров с Молдаванки были свои, особые представления о чести. Любой не оправдавший доверия получал скорое и внезапное воздаяние; если бы царская полиция решилась действовать подобным способом, то мгновенно предотвратила бы разом все революции, как большевистские, так и прочие.
Возможно даже, что турки спасли меня от ярости Со-Со. Буквально на следующий день, когда я лежал в постели рядом с Катей, моя дивная, мечтательная полудрема была прервана свистом, криками и звуком далекого взрыва. Я подумал, что произошел несчастный случай на одной из фабрик или взорвался корабль в гавани. Но крики и взрывы повторялись, и, когда мы с Катей спустились вниз, мой тощий приятель по кличке Никита Грек промчался по улице, крича, что немцы обстреливают город. Мы шагали в тумане, полагая, что оставаться в доме опасно, миновав крошечную, окруженную деревьями площадь, напоминавшую осенние пейзажи импрессионистов; и эта нереальная, чарующая смерть, неведомая нам до тех пор, свистя, кружилась над нами. Всех охватила паника. С ужасом я смотрел на испуганных людей, то появлявшихся, то исчезавших в тумане. Большинство атак было направлено на гавань и на корабли союзников, стоявшие там, и вскоре защита Одессы начала действовать. Основной ущерб немцы нанесли Пересыпи, фабричному приморскому району, где находились верфи. Нападение удалось отбить сравнительно легко. На следующее утро мы узнали, что город обстреляли турки. Турция официально еще не выступила против России. Несколько дней спустя мы объявили войну жестоким и коварным мусульманам.
До этого налета я мечтал навсегда остаться в Одессе и поступить здесь в техническое училище, очень хорошее, хотя не настолько престижное, как в Санкт-Петербурге. Думаю, что дядя Сеня не стал бы возражать, если бы не та бомбардировка, которая показала, насколько уязвима Одесса.
– Море достаточно ясно напомнило нам о смерти! – с чувством высказался он в тот вечер за столом.
Впервые мне позволили присоединиться к нему и двум его гостям. Один оказался начальником местной полиции, другой – капитаном французского корабля, поврежденного во время обстрела.
Дядя Сеня сказал, что очень сожалеет о том, что не может забрать всю семью в Киев или в Москву. Его коммерческие дела были настолько сложны, что он никому не мог их доверить. После этих слов начальник полиции рассмеялся. Дяде Сене это явно не понравилось, но он заставил себя улыбнуться и сказал, что подумывает заняться синематографом, который будет необходим людям в военное время. Все согласились, что это выгодное дело. В Америке на синематографах уже делались целые состояния.
– Мне было бы полезно, – сказал дядя Сеня, – стать покровителем искусств – хотя бы одного.
Он подумывал открыть театр, но в наши беспокойные времена вложения казались весьма сомнительными. А вот оборудование для синематографов можно было перевозить с места на место и устраивать сеансы в сараях, по ночам, под открытым небом в случае необходимости. Дядя представлял себя и тетю Женю во главе каравана, называя это цыганской жизнью на открытой дороге, с проектором и запасом фильмов, говорил о том, как они будут странствовать от города к городу.
– Мы могли бы прославиться, делали бы людей счастливыми.
– Люди и так всегда счастливы видеть вас, Семен Иосифович, – сказал начальник полиции. – Вы так много делаете для нашего города!
– И для всего мира, – сказал капитан, сторонник интернационализма. – Вас знают в Марселе и Кардиффе. Я слышал, что люди говорят о вас.
– Как, во Франции и в Англии?
– Насколько мне известно.
Дядя Сеня чрезвычайно обрадовался, услышав это.
– Надеюсь, они считают меня честным торговцем!
– О, разумеется, я уверен в этом! – Полицейский, кажется, изо всех сил боролся с приступом смеха.
Меня до сих пор смущает подобный, если можно так сказать, юмор. Я с уважением относился к должности этого человека, но его красное, опухшее лицо, пегая бородка, хитрый взгляд показались мне весьма отталкивающими, особенно после того, как он выпил несколько бокалов вина. Капитан производил более приятное впечатление. У него были яркие зеленые глаза и загорелые обветренные щеки. Он вел себя осмотрительно и даже осторожно, как будто явился к обеду только из чувства долга или для того, чтобы обсудить дела с дядей Сеней. Возможно, грубость начальника полиции тоже его расстроила.
На следующее утро я получил печальное письмо от Эсме. Ее отец заболел гриппом и в одночасье умер в больнице. Моя подруга писала, что у матери все хорошо, но она по мне скучает. Эсме пару раз ходила в театр с ней и капитаном Брауном. Они смотрели кино о войне. Я узнал, что наши солдаты бьют врагов на всех фронтах. Новости из Киева теперь казались совсем провинциальными. Я прочитал письмо с каким-то ощущением превосходства. Также Эсме написала, что решила стать медсестрой на фронте. Я ответил ей сразу, заметив, что это занятие идеально подойдет человеку ее склада и темперамента.
Но прежде чем я отнес письмо на почту, дядя Сеня вызвал меня в свой кабинет. Он спросил, от кого письмо. Я ответил, что от Эсме, подруги детства. Казалось, дядя почувствовал облегчение.
– Я думаю о том, стоит ли тебе оставаться в Одессе. Ты набрался опыта, вырос, повзрослел. По правде говоря, именно этого я и хотел. Ты не сумел бы выжить, держась за материнскую юбку…
Я начал было защищать свою мать, но он жестом остановил меня:
– Я не критикую бедную Елизавету Филипповну. Она много сделала для тебя. Гораздо больше, чем прочие члены нашей семьи для своих детей. У Вани немало достоинств, но я не могу гордиться им так, как она гордится тобой.
Я покраснел от удовольствия.
– Именно поэтому я боюсь, как бы ты не попал в беду. Потребуется еще немного времени, чтобы подступиться к нужным людям в Петербурге, но я думаю, что мы близки к успеху. Тебе, кстати, придется сфотографироваться. Пока не знаю, сможешь ли ты приступить к занятиям в январе, как мы планировали. Я думаю, как поступить: позволить тебе продолжить познавать жизнь в Одессе – я вижу, у тебя здесь много друзей, – или отправить тебя назад, в безопасный Киев?
– Вы думаете, что обстрел повторится, Семен Иосифович?
– Турки застали нас врасплох. Они не смогут этого повторить. Вероятно, все будет в порядке. Но твоя мать обо всем узнает. И как она к этому отнесется?
– Естественно, она захочет, чтобы я вернулся домой.
– А ты как думаешь, стоит тебе ехать?
– Только в случае крайней необходимости. Я счастлив здесь.
Дядя Сеня остался доволен.
– Мы с Евгенией Михайловной говорили о том, как ты изменился, повеселел, стал более уверенным в себе. Я надеюсь, ты не откажешься мне помочь, когда приедешь в Питер.
– Конечно, дядя. Почту за честь.
– Что ж, теперь передо мной не мальчик, но муж. – Дядя Сеня нахмурился. – Ты должен быть осторожен с девушками, Макс. – Он уже не впервые называл меня так. – Бывают разные болезни. Ты о них знаешь?
– Думаю, да. – Я очень хорошо знал об опасности венерических заболеваний, распространенных в портах вроде Одессы, и, по совету Кати, пользовался необходимыми средствами. Пока мне удавалось избегать серьезных проблем.
– А ты был в казино?
Я сознался, что был.
Дядя Сеня развеселился:
– Я любил казино. Весь трюк в том, чтобы никогда не играть на свои деньги. Придумай систему, а потом предложи кому-нибудь войти в долю за половину прибыли. Ты удивишься, обнаружив, сколько найдется желающих. Если выиграешь, они будут довольны и продолжат вкладывать средства. Если проиграешь… Ну, в общем, ты потеряешь их деньги, и придется признать, что система нуждается в усовершенствовании. Именно так я заработал свой начальный капитал.
Такая откровенность меня удивила, даже потрясла. Но я понял, что дядя успокоился достаточно, чтобы дать мне совет как мужчина мужчине. Это свидетельствовало о том, что я достиг совершеннолетия – по крайней мере, с его точки зрения.
Дядя Сеня призадумался, затем вздохнул.
– Мы подумывали об эмиграции. Меньше года назад планировали переехать в Берлин к моему брату, а теперь вынуждены ждать и наблюдать, как пойдут дела. До меня дошел слух, что мы создали новый союз с немцами против турок. В Питере турок боятся не так сильно, как немцев. Нам нужно переехать поближе к центру. Возможно, в Харьков. В центре страны всегда немного безопасней. Но есть причины… – Он таинственно взмахнул рукой. – Давай посмотрим, что скажет твоя мать.
Выражение его лица изменилось, он помрачнел, сказал что-то, как мне показалось, по-немецки, о евреях, но так неразборчиво, что понять было невозможно. Дядя Сеня подошел к столу, вытащил паспорт, задумчиво улыбнулся, а потом убрал документ обратно в ящик.
Чувствуя, что мне дают даже больше свободы, чем прежде, и надеясь, что мать не встревожат новости о бомбардировке (хотя я знал, что она будет волноваться), я вернулся в свою комнату. Поддержав силы небольшой порцией кокаина, отправился к Кате, чтобы узнать, не пойдет ли она со мной к Эзо. Когда я добрался до ее обиталища над скобяной лавкой, мать Кати, тоже шлюха, занимавшая заднюю комнату на первом этаже, сказала, что моя подруга занята. С обычной предупредительностью я оставил записку и в одиночестве отправился в кабак. Я ожидал встретить там Шуру, но он был занят какими-то делами, и я увлекся беседой с парой танцоров из одного кабаре. Они только что вернулись с гастролей по провинции и сильно ругали Николаев, который описывали как «город с одним трамваем».
Вскоре появился Шура. Он поприветствовал меня, стукнув по спине и хитро подмигнув:
– Слышал, ты едешь в Питер.
Я сказал, что это еще не решено окончательно. Шура заказал стакан чая и сделал большой глоток. Потом он кивнул.
– Когда ты окажешься там, заведи дружбу с этими юными университетскими дамочками с хорошими связями, дочками богачей. Я говорил вчера с одной. Она проводит каникулы в особняке у Фонтана; я ей понравился. Ее отец, владелец фабрики в Херсоне, посоветовал мне убраться, когда заметил, как мы переглядываемся. Но он как раз тот, кто нам нужен, – промышленник, заинтересованный в твоих патентах. – Шура снова подмигнул.
– Не предлагаешь ли ты мне сделать ставку? – спросил я.
Шура рассмеялся:
– Разве все это не жульничество, Максик, дорогой? А если война продлится вечно? И мир не изменится до конца наших дней? Нам нужно подумать о себе.
Я разделял общее мнение, что Германия и Австро-Венгрия откусили гораздо больше, чем могли проглотить. Да и вся Габсбургская династия давно прогнила насквозь.
– А ты не думаешь, что это касается и Романовых?
В Одессе я услышал о скандалах в царском семействе гораздо больше, чем за всю свою жизнь. Мне пришлось согласиться, что дела шли плохо. Поговаривали, что царица и большая часть придворных были наркоманами. Все царские министры и командующие армиями брали взятки. В Одессе легко верилось в такое. Я не стал обсуждать скользкую тему, прежде всего из уважения к наставлениям матери, и просто сказал:
– Россия достаточно сильна, чтобы справиться со всеми врагами.
К нам присоединились несколько наших приятелей, только что появившихся в кабаке.
– О, конечно, где же еще есть столько пушечного мяса!
Когда парни и девушка уселись рядом с нами, Шура посмотрел в сторону стойки. Там молодая женщина под аккомпанемент аккордеона пела какую-то безумную песню. Она выглядела худой и нервной, в то время как ее друг-музыкант был огромным и грязным, как будто явился прямиком из какого-то убогого штетла; я читал о подобных местах, но, слава богу, никогда там не бывал.
– Но, как говорили викинги, свободные люди лучше сражаются.
Я сказал ему, что такой вещи, как свобода, не существует; на мой взгляд, это просто фантазия революционеров о рае. Он удивился. Никита Грек (от грека у него было только прозвище) сдвинул свою рабочую кепку на затылок и склонился над столом, изобразив одну из своих странных, угрожающих ухмылок.
– Свободен только человек без души, – сказал он. – Можно прожить жизнь свободным, но лишь отказавшись от бессмертия. Я так думаю.
Никита учился в семинарии до того, как сбежал из Херсона. Он добавил:
– Нельзя сохранить и Бога, и свободу.
Он повторил мою мысль. Я торжествующе обернулся к Шуре, но он утратил интерес к беседе и отвлекся. Кузен беззаботно грыз семечки и, не отрываясь, смотрел на истощенную певицу. За спиной у него Никита вытаращил глаза и сделал неприличный жест, как будто подчеркивая особый интерес Шуры к девушке. Я усмехнулся. Не раз мне приходилось вспоминать ту усмешку с горечью, но в тот момент я произнес:
– Все, что сделали турки, должно еще раз напомнить нам о реальной опасности. Теперь мы будем сражаться как следует. Никто не сможет уничтожить Россию.
Лева, художник, принес всем выпивку и поставил на стол. Он отбросил назад темные волосы, которые лезли ему в глаза.
– То же говорили о Карфагене. Люди, вероятно, отвечали так: «Карфаген нерушим. Это одна из древнейших цивилизаций в мире». И взгляните, что случилось. Римляне все уничтожили за одну ночь. А почему? Из-за недостатка воображения. Они просто не задумывались о своей судьбе. Сделай они это, сегодня были бы здесь.
– Они и так здесь, – сказал Боря Бухгалтер, протирая круглые очки. – Почему, думаешь, в Одессе так много семитов? Это новый Карфаген.
– Скорее, новая Гоморра, – сказал Шура, оборачиваясь и допивая стакан чая. – Давайте возьмем водки.
Он казался мрачным и не смотрел на меня. Я подумал, что он расстроился из-за нашего скорого расставания.
– Ерунда, – сказал Никита, презрительно усмехнувшись. – Русские и евреи слишком наивны. В глубине души они все еще рабы. Мы ведем себя как дети, мы по-детски жестоки друг к другу, потому что и есть дети. А к нашим детям мы относимся…
Граня, кудрявая танцовщица с лицом в форме сердечка, с этим не согласилась. Она неодобрительно вздохнула:
– Никто не любит детей сильнее, чем русские!
Боря с чувством произнес:
– Казаки не слишком разборчивы, когда дело касается еврейских детей…
– Думай, что говоришь, Беня, – с улыбкой предупредил его Лева. – У нас здесь настоящий казачий гетман.
Все развеселились.
– Мы – дети, – настаивал Никита, – любящие своих батек. А материалисты мы, потому что бедны, большинство из нас бедны, как дети. У нас нет власти, нет денег, нет справедливого суда, за исключением суда диктатора. Мы всегда ссоримся из-за имущества. Мы, должно быть, единственный народ в целом мире, приравнявший сентиментальность и лирику к эмоциональной зрелости. В нашей литературе полно деревьев и наивных героев. В русских романах деревьев гораздо больше, чем нужно, чтобы их напечатать.
Я не думаю, что кто-нибудь из нас внимательно следил за странными рассуждениями Никиты, впервые изложившего тогда свои убеждения. Он стал журналистом в большевистской газете и исчез в середине 30‑х – об этом мне поведала его сестра, которую я однажды встретил в Берлине. Боря Бухгалтер, казалось, соглашался с Никитой.
– Мы во власти безумных детей, – произнес он. – Русские сделают все что угодно, лишь бы не расти. Из-за этого ими очень легко управлять.
– И именно поэтому мы можем проиграть войну, – обратился Шура к Боре, давая понять, что считает его мысль необычайно глубокой.
Тот, получив поддержку, продолжил развивать тему:
– Русские – многочисленная незрелая нация. Подобно романтическим юнцам, они считают себя взрослыми и впадают в сентиментальность, рассуждая об общих идеях вроде любви, смерти и природы.
Мы рассмеялись так, как могут смеяться лишь сентиментальные юнцы, которые так и не смогли расстаться с подобными мыслями.
Я пересказываю эти беседы не потому, что они были особенно глубоки, – они дают представление об идеях, которые владели умами одесситов в те дни.
– Вот почему Толстой так нравится молодым и пылким, – заметил Боря. – Наташа – это Россия. Даже старейший и благороднейший седовласый герой – ребенок в душе. Иначе как можно с такой легкостью принять марксизм?
Поскольку разговор зашел о политике, я, повинуясь инстинкту, встал из-за стола. Большинство евреев, подобно Боре, были радикалами; их следовало избегать. Марксисты, кропоткинцы, прудонисты – мне все равно. У них были симптомы болезни мозга, которая могла оказаться очень заразной, поскольку передавалась, как я сказал однажды об ипохондрии, в устной форме. К тому же я все еще боялся Со-Со. Стоит заговорить о дьяволе, и он тут же появится.
Я было решил проверить, ушел ли Катин клиент, как она сама вошла в таверну, бросилась ко мне, обняла и поцеловала, но как-то необычно. Обстрел заставил многих из нас по-новому взглянуть на жизнь, и, возможно, поэтому мы стали придавать слишком большое значение некоторым отношениям.
Шура пребывал в странном настроении. Он слишком недружелюбно встретил Катю, по-прежнему проявляя интерес к певице, которая все пищала странные еврейские песни, перекрывая шум нашей беседы.
Принесли еще водки. Мы подняли тост за певицу. Боря потерял интерес к политике, когда явилась его толстая подружка. Она сообщила, что их родители встретились и решили: им следует пожениться. Боря побледнел и начал делать какие-то расчеты на полях анархистской газеты.
И тут казаки проскакали по Молдаванке, и все евреи в городе задрожали от страха. Певичка перестала вопить, и мы замерли, пораженные. Катя ушла домой, чтобы подготовиться к вечернему выходу, но еще не стемнело. Звук конницы, скачущей по городу, необычен, особенно для тех, кто не слышал его прежде. Сначала мы решили, что нас снова обстреливают, и притихли.
Издалека звук, который издает кавалерия в городе, напоминает о странном, свистящем ветре, дующем из степи; приближаясь, он становится громче и беспорядочнее, пока не сменяется серией синкопированных, рваных ритмов, то усиливающихся, то слабеющих; это похоже на воду, бегущую, меняя направление, по камням; затем он внезапно становится громче – как шум гремящего скоростного поезда, мчащегося по туннелю, – и тогда лучше убраться с дороги любой ценой.
Казаки промчались мимо нашего переулка, и самые храбрые или, в моем случае, самые любопытные из нас высунули головы за дверь и проследили, как они скачут по Молдаванке.
– Они пугают нас, потому что не смогли запугать турок, – сказал Боря. – Они всегда так поступают.
Шура посмеялся над ним.
– Они просто-напросто скачут в гарнизон. Это самый короткий маршрут от товарной, где они высадились. Посмотри на них. Эти парни – не парадная конница и не милиция. Это военное подразделение.
И правда казаки были одеты в поношенные кафтаны; форму покрывал слой пыли. Их оружие выглядело так, будто его использовали в настоящем бою, а не во время погрома.
– И все равно, – сказал Боря, – по какой-то причине городской совет позволил им высадиться на товарной и проехать этим путем. Почему они скачут по улицам? По мостовой? Это плохо для лошадей.
Мы все в один голос сказали, чтобы он умолк. Казаки не причинили вреда, если не считать сильного волнения, и я в одно мгновение был очарован ими. С такими воинами можно поверить в победу. Их были тысячи – возможно, сотни тысяч – всадников из полудюжины главных войск, не говоря уже о мелких отрядах; и теперь, когда турки осмелились напасть на нас, все казаки сплотились. Я представлял, как обрадуются в казачьих станицах, когда узнают, что снова могут убивать турок. Я завидовал им. Только предателей и отъявленных сионистов тревожил вид наших диких степных кавалеристов.
У меня начался приступ головной боли, от которой я страдал всю жизнь; мне пришлось извиниться перед друзьями и вернуться домой. Улицы были необычайно тихими, пустынными. Я обнаружил, что в доме тоже стоит тишина. Он пустовал. Я пошел к себе в комнату, подумывая о новой дозе кокаина, но потом решил прилечь в полутемной комнате (жалюзи были закрыты) и попытаться уснуть. Прием стимуляторов все-таки причинял кое-какие неудобства. Рано или поздно ресурсы приходилось пополнять. Я провел тот вечер в постели, но к ужину спустился вниз. Там я увидел дядю Сеню, тетю Женю и Ванду. Дяде явно недоставало сегодня его обычной благожелательности, а тетя Женя говорила много, но еще менее внятно, чем обычно. В конце концов она предложила всем нам подумать о переезде в Киев. Дядя Сеня сказал, что жилье там стоит дорого, и мы не сможем себе позволить такую жизнь, какую ведем в Одессе.
После ужина я спросил Ванду, что случилось. Она не сказала ничего определенного. Новости о войне были неутешительными. Дядя Сеня позвал всех сходить к Фонтану, чтобы осмотреть datcha, которую собирался снять на зиму. Меня это озадачило – никто не жил на летних datchas в Одессе зимой; могли ударить очень сильные морозы. Потом он отказался от этой мысли, как сообщила мне Ванда. Я предположил, что это была легкая военная истерия, мне доводилось читать об этом. Нас предупреждали о подобных проблемах. Ванда согласилась со мной. Она казалась опечаленной, сидела в моей комнате и не собиралась уходить.
Я чувствовал, что нужно успокоить ее, но боялся, что любое мое движение будет неверно истолковано. Я сказал, что очень устал и хочу спать, и попросил не приносить мне утром завтрак. Я собирался проспать по меньшей мере до полудня. Обычно Ванда понимала, что мне нужно, но сейчас пыталась тянуть время; в конце концов она ушла. Я подумал, не влюбилась ли она в меня и не этим ли объясняется ее необычное поведение. Все стали немного странными после обстрела. Многие восприняли его гораздо серьезнее, чем я; возможно, предчувствовали грядущие бедствия.
Сейчас необычное поведение родственников кажется плодом моего воображения. Наверное, я был излишне наблюдателен. Иногда после длительного употребления кокаина человек начинает слишком тщательно все анализировать, подозревая у окружающих такие мотивы и чувства, которых на самом деле нет, – по крайней мере, в сколько-нибудь явной форме. Я принимал кокаин почти каждый день больше недели и, вероятно, находился в опасной близости к тому состоянию замешательства и неуверенности, которое возникает при злоупотреблении (с тех пор я стал осторожнее – все дело в умеренности, как говорят поляки). В юности, конечно, я не знал меры ни в одном из стимулирующих средств – ни наркотических, ни алкогольных, ни, скажем так, духовных.
Впервые с самого приезда в Одессу я, засыпая, испытал приступ депрессии и тоски по дому. Я думал о сирени под летним дождем, о тумане над крутыми желтыми улицами, о материнской доброте и заботе. Даже моя прекрасная Катя не могла мне этого дать. Это настроение исчезло на следующее утро, но время от времени оно возвращалось. Однако я был настроен оставаться в Одессе как можно дольше, несмотря на то что надвигалась зима и дивная, восхитительная летняя и осенняя жизнь сменялась другой, более прозаической и холодной.
Мне показалось, что Шура догадался о моей легкой депрессии. Он начал приглашать меня на вечеринки в частные дома, которые зимой становились местами общих встреч, и знакомить с разными девушками. Стало сложнее встречаться с Катей. Сначала я не осознавал, что виделся с ней лишь два-три раза в неделю, хотя прежде мы встречались каждый день. Я стал в чем-то подозревать девушку. Мне не хватало ее душевности. Я все сильнее тосковал по дому.
В ноябре выпал первый снег. Мне казалось, что вся Одесса усыпана слоем кокаина. К началу декабря я принимал около двух граммов в день, большей частью из запасов Шуры. Мне написала мать; она считала, что я должен вернуться. Я ответил, что новости в газетах сильно преувеличены, а сам я в полной безопасности и приеду домой ближе к Рождеству. Она не писала дяде Сене, и я с чистой совестью сообщил ему, что матушка успокоилась. В то утро, когда выпал первый настоящий снег, я получил письмо от Эсме; в нем говорилось, что у матери грипп и моя подруга переехала к ней, потому что отцовская пенсия не выплачивается после его смерти и она не в состоянии платить за квартиру. Это казалось идеальным решением. Я обрадовался, что у матери есть близкий человек, который сможет позаботиться о ней, – Эсме лучше всего подходила для этого. Я ответил, что навещу их после Рождества, что занятия и разные дела удерживают меня в Одессе, и дядя Сеня считает, что мне нужно извлечь как можно больше пользы из пребывания здесь. Все это нельзя было назвать ложью, но после роскошного отдыха я не был готов вернуться к бедности и простой еде. Я мало чем мог помочь матери в Киеве. Более того, Эсме было бы гораздо труднее заботиться обо всех нас. Конечно, я не предполагал, что грипп – очень опасная болезнь, и не собирался тотчас возвращаться домой.
Через пару дней Шура спросил, не хочу ли я вместе с ним подняться на борт английского парохода. Я ответил, что предложение очень заманчивое. Шуре требовался переводчик в одном деле, которое он вел со старпомом. Капитана на борту не было. Он заболел и сошел на берег в Ялте. Я предполагал, что по этой причине помощник спешил избавиться от груза и закупить новый товар. В Одессе становилось все меньше иностранных торговых судов, так как наступила зима, а также из-за того, что турки контролировали пролив. К тому же кораблям приходилось менять курс, чтобы избежать нападения немецких подлодок. Время от времени в гавань прибывали австралийские военные корабли, но мы редко общались с их командами. Я с радостью воспользовался редкой возможностью поупражняться в английском. Тем вечером мы спустились в Карантинную бухту, показав полученные Шурой пропуска. Там нас встретили два моряка на корабельной шлюпке и отвезли к кораблю «Кэтлин Сайссон», стоящему на якоре. Судно оказалось не слишком внушительным; похожие грузовые корабли плавали вдоль побережья – от Эгейского моря до Азовского. После того как Турция вступила в войну, они начали исчезать настолько внезапно, что торговля в Одессе прекратилась буквально за один день. Я думаю, что «Кэтлин Сайссон» отозвали в порт приписки, Пирей; возможно, офицеры, единственные англичане на борту, желали убраться подальше от театра военных действий. Остальную часть команды составляли греки и армяне, которые находили общество ласкаров весьма приятным.
Мы поднялись по трапу на капитанский мостик и встретили там мистера Финча, старпома. Тогда он показался мне приятным, очень спокойным и общительным ирландским джентльменом, но подозреваю, что теперь отнесся бы к нему по-другому. Мистер Финч был высокого роста, одетый в грязную белую форму. Он предложил нам выпить – судя по всему, это был арак, но я по глупости решил, что имею дело с шотландским виски. У меня после первого глотка начались такие сильные спазмы в горле, что я не мог нормально разговаривать в течение нескольких дней. Мы уселись вокруг штурманского стола, и мистер Финч спросил Шуру, принес ли он деньги. Кузен попросил меня ответить, что деньги лежат на депозите и будут выплачены в оговоренное время в оговоренном месте. Мистер Финч, казалось, рассердился, но вскоре успокоился и налил нам еще (я с тех пор почти никогда не пил даже настоящий виски). Шура сказал, что стоит сделать пробу, и мистер Финч увел его, а я остался ждать, увлекшись осмотром каюты, разглядывая инструменты, карты и прочие мореходные приспособления. Я впервые оказался на борту корабля, и даже старая торговая шхуна привела меня в восторг.
Шура с мистером Финчем вернулись. Старпом сказал, что если Шура доволен, то стоит обсудить время и место, чтобы встретиться на нейтральной территории. Шура предложил морской клуб возле гавани, излюбленное место английских и американских моряков. Мистер Финч мог почувствовать себя там непринужденно. Старпом согласился, и они пожали друг другу руки. Мистер Финч сказал, что он проделал долгий путь из Малакки и будет очень рад вернуться в Дублин. Я удивился, что он так много проплыл, но мистер Финч рассмеялся:
– Я сел на эту старую калошу в Трапезунде. Путешествуя на чертовых поездах из Басры, я чувствовал себя невыносимо каждую минуту, пребывая на суше. Я начал дело до войны, понимаешь. Теперь жалею, что ввязался.
Было непонятно, что подразумевалось под словом «дело». Я предполагал, что это что-то незаконное. Похоже, Шура ступил на скользкую дорожку, из-за чего у нас могли возникнуть неприятности с полицией. Мы вернулись в гавань и попрощались. Я радовался, что дело – по крайней мере, для меня – завершилось. Шура пришел домой два дня спустя и дал мне столько кокаина, что могло хватить на весь сезон. Казалось, он стал относиться ко мне еще дружелюбнее, чем обычно. Я решил, что кузен считает себя виноватым, поскольку втянул меня в какое-то опасное дело.
Кокаин оказался превосходным. Вероятно, именно его мистер Финч и доставил из Малакки.
Глава пятая
Туман над Одессой сгущался и приглушал гудки последних кораблей, остававшихся в гавани. Похолодало. Люди все реже выходили на улицы, достали пальто, шарфы, меховые шапки. Приближалось Рождество, и лучшие магазины были залиты светом, витрины заполнялись дивными товарами; афиши зазывали на зимние балы и благотворительные мероприятия, проводившиеся с целью помощи фронту. Продавцов мороженого сменили торговцы каштанами, портовые грузчики надели теплые куртки и перчатки; пар их дыхания смешивался с густым паром кораблей. Мое настроение ухудшалось. Зимой Одесса стала самым обычным городом. Я все реже виделся с Катей (она говорила, что очень устает) и все чаще употреблял кокаин, чтобы одолеть почти убийственную депрессию. Я, кажется, переусердствовал по части приключений. Годы опыта уложились в несколько месяцев. Я пренебрегал своей работой как раз тогда, когда стоило сконцентрироваться на ней. Я попытался уединиться с книгами и позабыть о Кате. Это оказалось невозможно. Однажды утром я решил встать пораньше и отправиться к ней, предложить все что угодно, лишь бы она бросила свою профессию и осталась со мной. Катя была неглупой, красивой девушкой и легко могла бы получить место в конторе или в магазине. Дядя Сеня помог бы ей.
В магазине Вагнера я купил Кате подарок – декоративного клоуна из лучшей украинской керамики. За несколько дней до сочельника завернул его в фольгу, обвязав зеленой ленточкой, и отправился в Слободку. В темном костюме, белой рубашке, галстуке-бабочке, темно-коричневом котелке и такого же цвета английском пальто, с подарком, я, должно быть, выглядел молодым человеком, готовым сделать предложение руки и сердца (хотя мне еще не исполнилось и пятнадцати). Для пущего эффекта я купил дорогой заморский цветок, из тех, что уже стали дефицитом, а в руке держал белую трость из слоновой кости с резным набалдашником, подаренную мне Шурой около недели назад.
Я дошел до старого дома в переулке, где жила Катя. Передняя часть, где торговали скобяными изделиями, еще не открылась, но я уже знал, как одним резким движением отворить дверь, даже если она заперта. Я вошел в темную, заваленную вещами лавку и на цыпочках пробрался к узкой лестнице, ведущей в комнату Кати. Она должна была выставить к этому времени всех клиентов, но я не хотел рисковать и беспокоить ее. Решив уйти, если у нее кто-то есть, я пробрался вверх по лестнице, приоткрыл дверь и увидел, что в кровати кто-то лежал и крепко обнимал Катю. Я пытался сдержать ревность, но потом понял, что узнаю эти мальчишеские плечи. Разумеется, это был Шура.
Сейчас я поступил бы иначе, но тогда утратил контроль над собой, закричал и хлопнул дверью. Мне стало понятно, почему Шура был так добр ко мне, почему Катя стала проводить со мной мало времени, почему они с Шурой никогда не разговаривали, встречаясь у Эзо. Меня предали.
Я помню лишь эмоции; как кровь стучала у меня в голове, как моя горячая рука сжала холодную слоновую кость набалдашника, как я бросился к Шуре. Он с криком вскочил, рассмеялся, испугался, попытался защитить Катю, швырнул в меня подушку. Я взмахнул тростью. Он набросился на меня и обхватил ниже талии. Я ударил его по спине и по ягодицам. Я упал. Драка ничем не кончилась, мы быстро вымотались. Я выронил трость. Катя заплакала.
– Разве ты не видишь – я любил тебя!
Шура сидел, задыхаясь, прижавшись к стене, по которой, как будто желая стать свидетелями драмы, ползали тараканы.
– Она любит нас обоих, Максик. И я люблю вас обоих.
Я говорил обычные вещи о предательстве, обмане, лицемерии. Меня с тех пор слишком часто предавали, и я не могу вспомнить что-то определенное. Катя нуждалась и в зрелости Шуры, и в моей невинности. По существу, она так и осталась шлюхой. Не могла устоять ни перед кем из нас. Вероятно, были и другие возлюбленные, в противоположность клиентам. Я думаю, она оказалась одной из тех добрых, слегка напуганных девочек, которые подчиняются малейшему давлению, а потом проводят жизнь, пытаясь всех примирить, боясь сказать правду, которая могла бы спасти от подобных ситуаций. Это свойственно нашим милым славянским девушкам, особенно на Украине. Даже некоторые еврейки ведут себя так же. Они неспособны на коварство, но ткут самые запутанные сети лжи. Этих девочек часто считают роковыми женщинами, но это совсем не так.
Вот с чем я столкнулся в четырнадцать лет. Истощенный наркотиком, который позже оказался мне полезен, измотанный неравным поединком, рыдающий из-за того, что сотворила моя маленькая Катя, я лежал в углу и стряхивал паутину и пыль с моего прекрасного костюма, в то время как Шура, пытаясь успокоить меня, начал одеваться, а Катя вопила, что хотела бы никогда не встречать нас обоих.
Кузен предложил пойти выпить чего-нибудь. Я согласился. Мы отправились к Эзо, где Шура грыз семечки и говорил о том, что мы должны помириться, что он собирался все рассказать мне, но Катя боялась ранить мои чувства. Постепенно вся вина пала на женщину. После двух или трех рюмок водки мне показалось, что нас обоих жестоко обманула маленькая сучка. Еще несколько рюмок – и я был готов зарыдать. Я сказал Шуре, что едва не убил его. Он ответил, что проститутки вроде Кати могут заставить двух друзей подраться, и это ужасно. Мы выпили за погибель всех женщин. Потом за вечную дружбу. Когда встал вопрос, кто из нас должен перестать встречаться с Катей, оба настаивали, что ни у кого нет никаких прав; потом каждый из нас сообщил другому, что у него прав больше, потому что его любовь сильнее. Это продолжалось довольно долго, мы обвиняли друг друга, Шура вскакивал и отворачивался, и я решил отправиться к Кате и заставить ее пообещать, что она навсегда расстанется с Шурой.
Мы вышли из кабака и направились в одну сторону. Остановились на углу переулка, где жила Катя. Мимо прошла женщина, которая вела за собой двух коров (их тогда еще держали в городах ради свежего молока), и мы оказались по разные стороны улицы. Затем оба бросились вперед, прячась за коров, чтобы опередить соперника и первым добраться до скобяной лавки. Эта абсурдная, недостойная сцена закончилась тем, что мы пьяно шатались посреди кучи горшков и кастрюль, которые раскидали по мостовой. Из лавки выскочил хозяин, еврей средних лет, крича и размахивая руками, проклиная пьянство мужчин и продажность женщин. Почему Бог решил, что он, солидный владелец магазина, должен поддерживать безупречно добродетельное семейство, сдавая комнаты женщинам легкого поведения? (Я знал, что вдобавок к непомерной арендной плате он получал еженедельный «сеанс» с Катиной матерью.) Мы потребовали, чтобы он отошел в сторону и не мешал нам войти.
– Чтобы пьянчуги разнесли мою лавку? – Он схватил с прилавка огромный топор. – Чтобы полиция взяла и обрушилась на мою бедную голову! Вей, чудно! Казаки на Молдаванке! Таки устроим новый погром, а! Держитесь подальше, вы оба, или у полиции и впрямь появится причина меня навестить. Ой, я лучше раскрою вам головы и повешусь, а не впущу вас.
Рыжеволосая неряшливая мать Кати появилась позади него. Она была одета в грязный китайский халат.
– Шура? Максим? В чем дело? Где Катя?
– Мы к ней пришли, – сказал я. – Она должна выбрать одного из нас.
– Но она ушла полчаса назад.
– Куда? – спросил Шура.
– К Эзо, я думаю.
– Она смеялась? – многозначительно спросил я.
– Я не заметила. Чего вы от нее хотите? Вы, мальчики, не должны ссориться из-за девочки. Она любит вас обоих.
– Она обманщица, – сказал я. – Лгунья.
– Она слегка нерешительна, вот и все, – сказал Шура. – Я говорил ей…
– Нечего рассуждать об этом на улице, возле моей лавки. – Еврей с топором в руках двинулся на нас.
Мы отступили.
Мать Кати покачала головой.
– Вам нужно успокоиться. Идите прогуляйтесь, поплавайте. – Казалось, она не знала, что наступила зима.
– Она нечестно поступила со мной, – сказал я.
– Нечестно? А что честно? – спросил лавочник, взмахнув своим огромным топором. – Евреи – не киевские богатыри. Они не могут себе позволить такую роскошь, как подвиги.
– Взамен они испытывают склонность к лицемерию, – ответил я.
Он улыбнулся:
– Если хочешь развлечься какой-нибудь раввинской беседой, устроить-таки настоящую оргию самобичевания – давайте возьмемся за книги, мой юный литвак[50].
Неужели он подумал, что я еврей? Я был потрясен. Посмотрев на его грязные руки, курчавую бороду, крючковатый нос и толстые губы, я понял, какую ужасную ошибку совершил. Кто бы мог подумать: евреи – мои друзья, и я находился в их обществе так долго, что перенял некоторые их черты! Я зашагал обратно. Помчался по переулкам, расталкивая в стороны стариков и детей, наступая на котов и собак, срывая бельевые веревки, пиная молочные бидоны; так я вернулся к дому дяди Сени, растрепанный, в расстегнутом пальто, без шляпы, потеряв трость из слоновой кости во время драки у Кати. Я поднялся по лестнице к входной двери. Потом взлетел наверх, в свою комнату. Я лежал на кровати и плакал, обещая себе, что у меня никогда больше не будет ничего общего с евреями, с Молдаванкой, с Шурой, с грубой, испорченной, вульгарной Одессой.
Когда вошла Ванда, я уже оправился от приступа ярости, но плакал, все еще одетый в то, что осталось от моего роскошного костюма.
– Что случилось, Максим? Несчастный случай?
Я смотрел на ее теплое, пухлое тело, на простое, встревоженное лицо. Я подумал, что Ванда как раз та девушка, которая мне нужна, она могла отдаться лишь одному мужчине и была бы благодарна, что он у нее вообще есть.
– Всего лишь любовь, – мрачно ответил я. – Девушка изменила мне.
– Это ужасно. Дорогой Максим! – Женское сочувствие буквально переполняло ее, оно просачивалось в комнату, как пот сквозь поры. – И кто только мог сотворить с тобой подобное? Какой она должна быть сукой!
Я помню, что почувствовал угрызения совести, услышав это, но, обдумав ситуацию, решил, что Катя оказалась более циничной, чем я предполагал. Я попытался защитить ее, вспомнив слова Шуры.
– Она просто слабая…
– Не верь в это, Максим, дорогой. Не верь ни единому слову. Слабость – стена, за которой прячутся женщины. И эта стена, уверяю тебя, крепка как сталь. Тебя обманула…
– Еврейская проститутка, – закончил я.
Это, казалось, заставило ее задуматься. Возможно, она была немного расстроена, что я спал с еврейкой.
– Больше никогда, – произнес я.
– Она тебя ничем не…
Я покачал головой.
Ванда, сидя на кровати, начала поглаживать мои пыльные волосы. Затем помогла мне снять пальто и пиджак, а потом и остальную одежду.
Ванда разделась и улеглась на узкую кровать рядом со мной. Ее мягкая, податливая плоть, массивные груди, большие жаркие бедра, ягодицы, напоминавшие две удобные подушки, сильные ноги и руки, широкий, горячий рот – все это немедленно помогло облегчить мои страдания. Я мысленно поздравил себя с тем, что не только оправился от боли, но и обрел другую женщину, всегда готовую ждать меня. Ванда так сильно отличалась от Кати, что я как будто занимался любовью с существом совершенно иного вида. Стройные, с мальчишескими фигурками девушки вроде Кати и огромные крестьянские девицы наподобие Ванды – у всех есть свои достоинства. Познать сто женщин означает познать сотню разных форм удовольствия. К счастью, мне удалось это понять еще тогда, когда я был совсем молод.
Поднявшись с влажной горячей постели, Ванда сказала, что у нее есть дела по дому, поцеловала меня и спросила, стало ли мне лучше. Призналась, что была девственницей, что сразу полюбила меня. Теперь мне не стоит никуда ходить в поисках утешений. Неловко подмигнув и послав воздушный поцелуй, она удалилась.
Я проспал пару часов, а проснувшись, обнаружил, что комната скрыта холодным бледным полумраком. Теперь я думал, слегка остыв, что неплохо бы навестить Катю. Возникла перспектива заполучить двух возлюбленных – и она мне очень нравилась. Но я понял, что это будет нелегко. Ванда могла следить – и следить ревниво – за каждым моим шагом.
Мне хотелось отомстить Шуре. Я доверился ему, признался, что люблю Катю. Кузен дал мне кокаин, белый костюм, дорогую трость, чтобы отвлечь от своих темных замыслов. Он притворился моим другом и наставником в гетто и познакомил с самыми темными сторонами жизни. А сам втайне все время насмехался надо мной. Я не мог победить его в честной драке – он был слишком силен. Я не мог пойти в полицию и сказать, что он преступник, так как участвовал в некоторых из этих делишек, как и мои приятели с Молдаванки. Не то чтобы я по-прежнему считал их друзьями. Вероятно, все они видели, как Шура выставляет меня дураком, и веселились. Меня считали простаком. Деревенским идиотом. Наверное, немало хороших историй о Максе Гетмане рассказывают по всей Одессе. Я потерял лицо. Я пытался придумать, как мог бы в свой черед оскорбить Шуру. Ничего не приходило на ум. Он слишком уверен в себе. Что бы я ни сделал, он мог это использовать в своих интересах. Существовал лишь один человек, которому он был должен, которого он уважал (кроме Миши Япончика), и этот человек – дядя Сеня. Я усмехнулся. Я просто исполню свой долг – пойду к дяде и предупрежу его о Шуриных преступных делах. Он испугается, вызовет Шуру, накажет его. И это будет идеальная месть, потому что я предстану в хорошем свете, а Шура – в дурном.
Я задумался о Кате. Можно было бы заодно отомстить и ей, рассказав дяде Сене, что есть девица, которая сбила моего кузена с пути истинного. Но дядя снисходительно относился к таким вещам. Он спокойно смотрел на молодых людей, которым нужно перебеситься. Что он подумает, если я ему скажу, что Шура был Катиным сутенером? Из-за этого дядя Сеня не станет мстить Кате. Так что мне следовало придумать для нее особую месть.
Я не слишком горжусь своими мыслями. Но я был испорченным мальчиком, уверенным, что его предали друзья и соплеменники. Я вел себя как фанатик. Конечно, у меня нет склонности к расизму. Моя неприязнь по отношению к евреям, моя ярость, когда меня сочли одним из них, появились по очень простой причине: нас, украинцев, всегда окружали евреи. Революцию начали евреи. Быть славянином в Одессе означало быть в меньшинстве. Как представитель меньшинства, я пытаюсь противостоять выходцам с востока, которые управляют нашими газетами, издательствами, радио- и телестанциями, промышленностью, заводами, финансами. Сколько украинцев занимают в Англии подобные посты?
О Кате можно было бы просто сообщить в полицию. Но так как они с матерью приехали из Варшавы, это означало бы ее арест и высылку, возможно, даже тюремное заключение. Несмотря на самое мстительное настроение, я не мог и подумать о том, что она отправится в тюрьму. К тому же мне требовалась личная, тайная месть.
Я вспомнил клоуна из магазина Вагнера, который теперь валялся, разбитый вдребезги, на полу в ее комнате. Я пошлю ей другой рождественский подарок. От неизвестного поклонника. Она ненавидела пауков, боялась их больше всего на свете. Я соберу их в огромную коробку и отправлю под видом подарка, завернутого в прекрасную бумагу. Катя откроет его в Рождество, и ее крики напугают всю Молдаванку.
А пока я решил отвлечься от своей будущей мести. Милая, улыбающаяся Ванда принесла мне чай с пирогами, а потом начала ласкать меня и разговаривать с интимными частями моего тела, как будто мой член был совершенно независим от меня, как будто она играла с ручной мышью или ящерицей, которую могла целовать, гладить и называть шутливыми именами. Она обладала тем, чего никогда не было у Кати: когда Ванда занималась со мной любовью, я мог думать о чем-то другом, оставался предоставлен сам себе. Я всегда ценил ее за это.
Другое преимущество Ванды, разумеется, состояло в том, что она больше ни с кем не спала. Она была чиста. Мне не следовало принимать никаких мер. Это было очень удобно. В ту ночь я размышлял о том, как отомщу кузену и Кате. Дядя Сеня не пришел к обеду, так что у меня не было возможности выдать Шуру – или себя. После трапезы тетя Женя включила граммофон, и мы послушали несколько популярных еврейских мелодий. Мы с Вандой извинились и удалились пораньше. Мне с ней было гораздо удобнее, чем с Катей. Наши отношения были совершенно другими. Я стал учителем, преподающим внимательной, покорной ученице основы восхитительного разврата.
Мои развлечения с Вандой никак не повлияли на страстное желание отомстить. Я стал собирать пауков для Катиного рождественского подарка. Скоро в старой чайной коробке их было больше десятка. Но я хотел раздобыть побольше. Чтобы пауки не начали поедать друг друга, я ловил различных насекомых и кормил своих пленников каждый вечер. Ванда не знала, что у меня в коробке, я не стал ей говорить. Тем временем я покупал подарки, которые следовало вручить за столом в сочельник. Дядя не хотел отмечать Рождество. Как и моя мать, он не слишком много внимания уделял церковным службам.
Накануне сочельника я сказал дяде Сене, что хотел бы побеседовать с ним в кабинете. Он казался рассеянным. Война, конечно, существенно затрудняла бизнес. Частичная блокада помешала доставке некоторых важных грузов. Я решил отомстить Шуре как можно быстрее. Дядя Сеня сидел за столом спиной к окну. На нем был тяжелый черный пиджак и черный галстук.
– У меня тревожные новости, Семен Иосифович, – начал я, – но я обязан вам рассказать, в чем дело. Вы, конечно, можете поступить так, как сочтете нужным.
Это позабавило дядю. Его настроение, казалось, улучшилось. Он предложил мне сесть на один из любимых жестких стульев с плетеными сиденьями. Дядя Сеня откинулся на спинку кресла, отделанного кожей, и зажег бирманскую сигару. Комната начала заполняться тяжелым маслянистым дымом.
– Надеюсь, ты не попал в беду, Максим.
– Я тоже на это надеюсь, дядя. Мать пришла бы в ужас, если бы узнала о том, что произошло.
– Произошло? – Он встревожился.
– Или могло произойти, как мне кажется. Я уверен, что Шура связался с мошенниками.
Дядя был удивлен. Он положил свою сигару в медную персидскую пепельницу и почесал голову. Наконец недоуменно улыбнулся.
– И почему ты так решил?
– Он впутался в аферу и, похоже, работает с Мишкой Япончиком.
– Каким Мишкой?
– Япончиком. Это очень известный бандит из Слободки.
– Да, я слышал о нем.
Это было не удивительно. Подвиги Мишки описывались во всех известных одесских газетах. Его упоминали даже в дешевых романах о Нике Картере и Шерлоке Холмсе, которыми мы тогда зачитывались.
– Он вымогатель, – сообщил я, – и налетчик, заставляет местных жителей платить ему деньги за защиту. Если они отказываются. убивает людей или сжигает их лавки. Он связан с торговлей наркотиками, проституцией, нелегальным алкоголем, владеет кабаками и кабаре, подкупает полицейских и городских чиновников.
Дядя Сеня снова удивился:
– Такой еврей мог бы присоединиться к черной сотне.
– И он нанимает на работу молодых парней, – продолжал я. – Самых разных. Украинцев, кацапов, как они называют русских, греков, армян, грузин, мусульман – всех. Он плетет сети, как, – я замялся, – как паук.
– Боже, сохрани нас! Ты уверен, что этот бандит существует не только в твоих журналах о Пинкертоне?
– Да, – ответил я, – Шура попал к нему в лапы.
– Не могу в это поверить.
– Шура и меня пытался заманить, использовал как переводчика. Я поднимался на борт английского корабля, где он покупал наркотики.
Дядя Сеня отвернулся от меня и посмотрел в окно. Он наблюдал за маленьким ребенком, шагающим по бревну. Мальчик пошатнулся и упал. Дядя Сеня снова обратился ко мне:
– Думаю, ты ошибаешься, Максим. Шура работает на меня.
– Конечно, он передает сообщения с кораблей и от торговцев и следит за разгрузкой. Но все остальное время проводит с ворами и проститутками. Есть такое место, называется «У Эзо». Еврейский кабак. Возможно, вы слышали о нем?
– Я не часто хожу по кабакам в Слободке.
– Это ужасное место. Шура попал в плохую компанию и пытался втянуть туда меня. Я отказался, и теперь он злится.
– Вы поссорились?
– Я сказал, что он ведет дурную жизнь.
– Он молодой бездельник. Такой же, как и ты.
– Есть разница, Семен Иосифович, между бездельником и преступником.
– И молодые люди не всегда ее замечают. – Он взмахнул рукой.
Я был разочарован.
– Мне кажется, что Шуру надо отослать из Одессы.
– И куда? В Сибирь? – язвительно произнес он.
– Возможно, отправить в плаванье. Это пошло бы ему на пользу, научило бы чему-нибудь.
– Он просил тебя поговорить со мной об этом?
– Вовсе нет. – Шура ни за что не захотел бы уехать из Одессы, от Кати. А если бы его отослали, я заполучил бы обеих девушек. Открыв коробку с пауками, Катя не поймет, что она от меня. Я мог продолжать с того места, на котором мы остановились. Предложение отправить Шуру в плаванье возникло как будто по наитию.
– Шура – тот еще моряк. К тому же идет война… – Дядя Сеня вновь зажег свою сигару.
– Думаю, он сможет научиться.
– Ты сказал ему, что пойдешь ко мне?
– Нет, Семен Иосифович.
– Возможно, ты поступил бы по-мужски, сказав ему?
– Нужно, чтобы с ним поговорил старший.
– И ты ни с кем из взрослых это не обсуждал?
– Только с вами.
– Я поговорю с Александром. Но ты должен держать это в секрете, Максим.
– Чтобы не было семейного скандала?
– Именно.
Он вздохнул. Возможно, обрадовался, что по крайней мере один из младших членов семейства оказался честен.
– Тебе лучше уйти, Максим. Если увидишь Шуру, попроси его зайти ко мне.
– Попрошу, Семен Иосифович.
Не прошло и часа, как я спустился вниз, чтобы подыскать упаковочную бумагу для подарка Кате, и увидел, что Шура вернулся и прошел в дверь, соединявшую контору дяди Сени с домом. Я был в этом помещении лишь однажды: темное дерево и маленькие окна, столы из дуба и красного дерева с медной отделкой, служащие, сидящие за ними, вероятно, с пушкинских времен. Я удивился, почему это Шура отправился в контору, а не в кабинет.
Я замер, следя за дверью, но Шура больше не появлялся. Я решил, что он вышел через другую дверь.
Будучи довольным собой, я отправился к тете Жене за цветной бумагой. Она вручила мне лист, дала ножницы и ленту и попросила не беспокоить дядю Сеню, если я его увижу. Он был в необычайно мрачном настроении.
– Это связано с Шурой?
Она пожала плечами:
– Возможно. Он, кажется, и тобой не слишком доволен. Ты что-нибудь натворил?
– Ничего, тетя Женя.
Я вернулся к себе в комнату, немного озадаченный, и занялся упаковкой подарка. Потом позвал Ванду и спросил, можно ли нанять одного из уличных мальчишек отнести пакет в Слободку. Она пообещала узнать. Я поставил на пакете инициалы Кати и ее польскую фамилию – кажется, она звучала как Граббиц.
– Для кого этот подарок? – спросила Ванда. – Он очень красивый.
Я поцеловал ее.
– Не думай, это не для возлюбленной. Он для моего друга, перед которым у меня должок.
Взяв несколько копеек, она забрала коробку. Вернувшись, Ванда сказала, что один из уличных пострелят с площади согласился ее отнести. Теперь, если Катя спросит, кто дал мальчику коробку, он ответит, что это Ванда, а я буду ни при чем.
Мы с Вандой занимались любовью – но очень недолго. Я в самом деле был не в настроении, раздумывал, что же случилось с Шурой. Учитывая, как удачно все складывалось, он мог сесть на первый же корабль, отправлявшийся из Карантинной бухты.
Я попросил Ванду оставить меня в покое на полчаса и уже потянулся к ящику, где держал свой кокаин, как дверь бесшумно открылась и тотчас закрылась. Я ожидал увидеть Ванду. К моему ужасу, это оказался Шура. Он ухмылялся и выглядел угрожающе. Кузен снял галстук и рубашку и надел крестьянскую рубаху со шнурком у ворота, обмотал вокруг шеи яркий плотный шарф; сверху набросил шубу, истертую до дыр. В руке держал треух. Выглядел он почти что жалко.
– Ты мелкий стукач, – произнес он. – Глупый, тупой мелкий киевский золотарь. Ты же ничего не видел. Какой же я жулик? Это просто смешно. Дядя Сеня – вот кто самый настоящий жулик.
Мне эти революционные доводы были хорошо знакомы.
– Капитализм – не преступление.
– Неужели? Что же, твой план провалился. Меня не отошлют на галеры. Мне просто придется быть поосторожнее, чтобы мелкие зеленые ябеды не увидели ничего лишнего.
– Так сказал дядя Сеня?
– Не совсем. Но смысл именно таков.
– Не могу в это поверить.
– Как хочешь. Я думал, что мы были друзьями, Макс.
Шура говорил так, будто я предал его! Сейчас я вспоминаю его с теплотой и давно простил, но в тот момент Шура, считавший себя жертвой, был почти смешон. Я улыбнулся:
– Шура, это ведь ты разрушил нашу дружбу.
– Ты идиот. Я спал с Катей еще до того, как ты здесь появился. Я попросил ее позаботиться о тебе, заплатил ей. Почему, ты думаешь, тебе было так легко?
– Она полюбила меня.
– Не сомневаюсь в этом. Полюбила, как могла. Она была моей подружкой долгое время. Спроси у кого угодно.
– Ты лжешь. Это подло.
Шура раскраснелся. Его лицо пылало так же, как и его коротко остриженные рыжие волосы.
– Ты мне, кажется, не веришь? Спроси Катю.
Дверь медленно отворилась. Вошла Ванда.
– В чем дело, Шура?
Кузен сказал, чтобы она ушла. Я кивнул.
– Это наше дело.
– Не вздумайте драться, или я позову тетю Женю.
– Я его не трону, – заявил Шура.
Это меня успокоило.
– По крайней мере, ты доходчиво объяснил, что чувствуешь, – сказал я. – А как же я? Мой соперник – мужлан, любитель евреев, с трудом выговаривающий собственную фамилию. Бандит.
– Любитель евреев? – рассмеялся он. – Почему бы и нет? Ты знаешь, какую фамилию мы раньше носили?
– Ты о своем отце? Удивлен, что ты знаешь его имя.
– Ты о своем не знаешь даже этого.
Мы ранили друг друга слишком сильно, такую боль могут причинять только очень близкие люди. Я остановился первым, отказавшись продолжать ссору. Если Шура собирался козырять тем, что он наполовину еврей, – меня это не касалось. Это лишь подтверждало мои подозрения.
– Мне тебя жаль, – произнес он. – Ты мог бы стать здесь счастливым. У тебя были друзья. Люди тебя любили. Но теперь – все. Я советую тебе убираться из Одессы как можно скорее.
Неужели он мне угрожал? Я сказал:
– В Одессе для меня больше нет ничего интересного.
Шура отворил дверь, потащив за собой изъеденную молью шубу.
– Ты заговоришь по-другому, когда у тебя закончится снежок.
Снежком называли кокаин.
Потом Шура ушел. Неужели он решил, что сделал меня зависимым от наркотиков? Я встревожился, но быстро успокоился. Я не из тех, кто становится наркоманом. Я в течение многих месяцев не прикасался к наркотикам. На самом деле, в последние годы, когда цены поползли вверх, я совсем завязал. Временами я могу пуститься во все тяжкие, но что касается ломки – я никогда ее не испытывал. А наркоманом считается тот, у кого бывает ломка. Кокаин запретили после Первой мировой войны. Это была одна из самых глупых вещей, какую только можно сделать. В таком случае следовало объявить вне закона и аспирин, и джин.
Утром в сочельник меня позвали в кабинет дяди. Он отправил моей матери телеграмму, обеспокоенный тем, что давно не получал вестей. Ответ пришел от капитана Брауна. У матери была тяжелая форма гриппа. Она тревожилась обо мне. Казалось, что само Провидение дает идеальный повод покинуть Одессу и не позволить Шуре отомстить. Дядя Сеня согласился, что я должен вернуться к матери, как только закончатся рождественские каникулы и поезда начнут ходить регулярно – насколько это вообще возможно в военное время. Я получил место в Петроградском политехническом институте, занятия начинались в январе. Мне уже подобрали полный гардероб. Дядя будет выдавать небольшое пособие через своих агентов в столице. Они же подыщут квартиру. За это мне придется иногда участвовать в переговорах в качестве переводчика и передавать небольшие посылки другим дядиным агентам. Я сказал, что буду рад помочь ему.
Дядя Сеня сообщил о моем прибытии телеграммой. Он получил и отправил множество телеграмм за последние двадцать четыре часа. Дядя поговорил с Шурой и заставил его поклясться, что больше не будет никаких происшествий, способных потревожить спокойствие семьи. Моя месть не удалась. И не оставалось времени спланировать что-то другое. По крайней мере, подумал я, Катя уже обнаружила своих пауков.
Я поднялся наверх, чтобы рассказать обо всем Ванде. Мы решили провести с пользой оставшееся время. Я дал ей немного кокаина, чтобы поддержать силы. Почти все рождественские праздники мы занимались любовью.
Когда мои чемоданы уже стояли собранными и билет первого класса, подарок тети Жени, лежал у меня в кармане, я понял, что буду скучать по Ванде. Пообещал вернуться в Одессу как можно скорее. Она планировала навестить меня в Киеве, но я никогда ее больше не видел. Ванда забеременела, родила сына и жила у дяди Сени до тех пор, пока не исчезла три-четыре года спустя, в ужасные дни голода и революции.
Ванда и тетя Женя проводили меня на киевский поезд. На перроне оказалось полно военных. Я уже скучал по Одессе, с ее доками и магазинами, туманом и угольной пылью, яркой, шумной жизнью. Кажется, я слегка всплакнул. Ванда, разумеется, ревела. Тетя Женя рыдала. Поезд начал отходить от платформы, унося меня в глубь страны. Мне показалось, что я увидел у входа на станцию Шуру; он злобно улыбнулся, приподняв шляпу; Катя стояла рядом.
Когда поезд выехал на открытую местность, пошел сильный снег. Я радостно устроился в просторном теплом вагоне. Он был гораздо удобнее того, в котором я ехал в прошлый раз. Я делал успехи. На мне был петербургский костюм, дорогая меховая шапка, английское пальто с меховым воротником и черные ботинки из мягкой кожи. За несколько месяцев, подумал я, мне удалось стать не просто мужчиной. Я стал джентльменом.
Обслуживание в поезде показалось мне превосходным. С билетом первого класса я мог сидеть в глубоком шикарном кресле, книги и журналы лежали рядом на небольшом складном столике. Вскоре после того, как мы покинули Одессу, началась настоящая снежная буря. Чем дальше поезд продвигался на север, тем сильнее становился снег. Все, что я мог разглядеть, – холмистые белые равнины, редкие крыши, дым, купола деревенских храмов, силуэты деревьев, иногда – укрытый снегом подлесок. Я почти ощущал снежные хлопья, хотя, разумеется, вагон был закрыт, и поезд двигался так плавно, что казался неподвижным. Просто из любопытства я заказал большой завтрак в вагоне-ресторане. Я ел сыр и холодное мясо и смотрел, как снег прилипает к окнам. Иногда он успевал покрыть всю поверхность стекла, прежде чем скорость и тепло поезда уносили снежинки прочь, вновь открывая степной пейзаж. Я забрел в вагон класса люкс, на двери которого был изображен герб Романовых – двуглавый орел. Здесь я задержался, присев на маленький стул возле декоративной печи, и прислушался к бормотанию генералов, священников, аристократов и прекрасных дам; многие из них уже выпили – запреты военного времени касались только низших классов. Благовоспитанные речи время от времени прерывались взрывами резкого, громкого смеха. Разговоры были циничными, в основном – о военных событиях.
Меня угнетало то, что я находился в салоне, но не мог присоединиться к его обитателям. Я вернулся в свой вагон, где старая дама, одетая во все черное, неожиданно проявила ко мне интерес. Она рассказала, что была вдовой какого-то генерала, убитого во время войны с Японией.
Дама говорила с легким французским акцентом – на петербургский манер. Я быстро распознал его и сумел воспроизвести. Женщина решила, что я образованный, воспитанный мальчик, и угостила меня конфетами. Она спросила, куда я направляюсь. Я ответил, что сначала в Киев, а затем почти немедленно в Санкт-Петербург. Дама сказала, что мне стоит навестить ее, и записала свой адрес в маленькую книжку. В вагоне были и другие путешественники: высокопоставленный военный, который ничего не говорил, только изучал карты, читал «Голос России»[51] и иногда уходил в салон, чтобы выкурить сигару; напыщенная, даже надменная, молодая женщина, уверявшая, что выступала на московской сцене и собралась отправиться на гастроли в провинцию. От нее пахло теми же духами, что и от мисс Корнелиус, которую я все еще вспоминал с огромным удовольствием. Эта актриса ничем не напоминала ту чудесную леди; она была типичной невротичной московской красоткой. Я даже сомневался, была ли она актрисой. Вероятно, просто любовница генерала, которая путешествовала отдельно, чтобы не вызвать скандала. Ее роскошное платье и меха казались трофеями, а не повседневной одеждой.
Снег не прекращался. Очень быстро стемнело, и в вагонах зажгли газовые лампы. Поезд был таким удобным и теплым, что мне хотелось путешествовать вечно. Я надеялся на задержку в пути, на какие-нибудь мелкие поломки, которые позволят продлить приключение хотя бы на день. Миновал завтрак, потом – обед. Я беседовал со старой леди, рассказывал ей о своих идеях, планах, намерении принести пользу России. Она сказала, что мне понравится в Питере.
– Там настоящие русские, не то что в этих ужасных краях. Здесь земля евреев. От них некуда деться.
Я от всей души согласился с ней.
– Но в Санкт-Петербурге, – сказала она, – вы увидите воплощение всего лучшего, что есть в России.
Актриса заявила, что Москва более русский город, чем столица. В Питере слишком много европейцев. Этот город был основан царем, искавшим вдохновения в Германии.
– Взгляните, – продолжала она, – к чему это нас привело. На нас напали люди, перед которыми мы заискивали, которым мы оказали гостеприимство. Половина царской семьи – немцы. Они – сущее проклятье.
Актриса сожалела, что не может навсегда остаться в Москве. Там нет ни социалистов, ни нигилистов, ни убийц. А также евреев и немцев. Это истинно славянский город, а не какой-нибудь поддельный Берлин или Париж.
Старая дама слушала с удовольствием. Ее муж был таким же радикалом, панславистом, мечтавшим повернуться спиной к Западной Европе.
– Но Западная Европа не отвернется от нас, моя дорогая.
– Конечно, нет! – воскликнула актриса. – Она бросится к нам с распростертыми объятиями. С ножом в одной руке и мечом в другой. Нам нужно было давно вышвырнуть всех иностранцев. Включая тех, которые называют себя русскими.
Она намекала на нашу царицу и петербургских дворян, носивших немецкие фамилии. Даже некоторые генералы на фронте и министры в Думе, в том числе премьер-министр, были немцами. Ходило множество слухов о предателях, уничтожавших Россию изнутри; появилась склонность, особенно в Москве, возлагать вину за наши военные неудачи на столичных взяточников; возникли подозрения, что царский двор на самом деле не стремился к победе, что царь в любой момент мог начать мирные переговоры. Мне хочется рассказать об этом более подробно – нужно объяснить, как низко пал моральный уровень нации. Россия никогда не начинала больших войн. Мы не хотели воевать; Германия напала на нас. В результате почти весь цивилизованный мир теперь был охвачен огнем войны. Хотя я чувствовал себя большим патриотом, чем многие мои современники, я мог понять, из-за чего они так переживали. Сегодня можно смело утверждать, что Германия, давшая миру Карла Маркса, подготовила почву, на которой его пагубные доктрины могли принести плоды. Многие верят, что немцы сотворили тот ужас и хаос, которым переполнено наше двадцатое столетие. Я не согласен с этим приговором. Они очень любезно обходились со мной в тридцатых, в общем и целом.
Моя мечта о задержке в пути частично исполнилась. Поезд опоздал. Из-за сугробов на путях, пропуска военных составов и общего беспорядка на железной дороге, вызванного тем, что лучшие сотрудники транспортной компании теперь находились на фронте, мы часто останавливались. Было не очень холодно, но салон, в котором находилась печь, в конце концов оказался переполнен, и мы надели верхнюю одежду и вернулись на свои места. Актриса осталась в салоне и начала пить коньяк. Мы утешались чаем. К рассвету старая дама в черном начала дрожать. Наконец поезд медленно двинулся вперед, преодолев высокие снежные заносы. Было невозможно разглядеть что-то, кроме снега. Казалось, будто мы путешествовали по сверкающей ледяной пещере, по туннелю с крышей, подсвеченной светящимся серым войлоком.
Мы поползли вперед, и когда до Киева оставалось совсем немного, опять пошел снег. Словно огромная простыня опустилась прямо на нас. Ветра не было. Я очень устал, но все равно отправился на смотровую площадку за вагоном охраны и посмотрел назад, на дорогу. Я увидел два темных параллельных следа, оставленных колесами поезда. И пока я смотрел, снег заполнял их. Казалось, будто оставшийся позади нас пейзаж стирала невидимая рука. У меня возникло ощущение свободы, которое быстро сменилось чувством утраты. Я вспомнил летнюю Одессу: живых, разговорчивых людей, их радость, остроумие, доброту, товарищество. Снежная буря скрыла это одесское лето – словно в конце пьесы опустился занавес. Боги мороза отомстили людям, в течение нескольких коротких месяцев осмелившимся быть счастливыми.
Вскоре, выпуская пар и свистя, как будто радуясь тому, что избежал катастрофы, поезд прибыл в Киев. Вокзал показался пустынным, хотя здесь было так же тесно, как прежде. Большие причудливые столбы, на которых гнездились голуби, каменные стены и потолки, неясные барельефы в стиле Ренессанса создавали ощущение неприветливости. Подхватив чемодан, в котором лежала новая одежда и подарки, я спустился на платформу, сбитый с толку быстрым бегом носильщиков, криками пассажиров, паникой, охватившей всех в тот момент, когда остановился поезд. И Шура меня уже не сопровождал.
Я начал, как мог, протискиваться сквозь толпу, не обращая внимания на носильщиков, продавцов, зазывал. Я рассчитывал как-нибудь сесть в трамвай, идущий на Подол, а оттуда пройти пешком или пересесть на другой трамвай и доехать до дома. Когда я добрался до главного входа и увидел, как люди сражались за извозчиков, толкали друг друга, протискиваясь в трамваи, – я пожалел, что рядом нет Шуры с его ободряющей улыбкой. Мне больше никогда не случалось столкнуться с такой душевной теплотой и открытостью. Я прошел мимо конечной остановки. Крыши и улицы были покрыты снегом. На тротуарах стояли жаровни, возле них грелись старые дворники, мужики продавали горячий чай и каштаны, тройки мчались мимо. Все было так знакомо. И я ненавидел все это. Странным образом я стал человеком, утратившим связь с окружающим миром. Мы, русские, готовы на все, чтобы сохранить эту связь, даже ценой рабства – если оно будет единственной возможностью, мы примем ее, лишь бы не остаться ни с чем. Кропоткин это понимал. Вот почему Красный Наполеон, Ленин, вместе со своей бандой добился такого успеха.
Как незнакомец, я осматривал город, который покинул несколько месяцев назад и в котором провел много лет. Как незнакомец, я не мог радоваться тому, что видел. Война уже влияла на нас. Люди вокруг не были такими дружелюбными, или, по крайней мере, общительными, как в Одессе. Я не замечал улыбок, разговоров на ходу, непонятных и забавных жестов. Мне казалось, что все переменилось.
Я добрался до улицы, которую прежде называли Столыпинской. Если пойти по ней, можно добраться до Владимирской улицы и Андреевской церкви и там сесть на трамвай, идущий прямо к дому. Стараясь избегать толп, я свернул на Столыпинскую; высокие желтые здания, покрытые снегом сверху и снизу, напоминали какие-то неаппетитные кексы с тмином… Но вдруг у меня за спиной раздался крик. Я покрепче сжал в руке чемодан и почувствовал легкий приступ тревоги – но, обернувшись, понял, что это был капитан Браун, хромой старый медведь в черной шубе; он гнался за мной по улице.
– Максим! Я думал, что потерял тебя. Разве ты не получил мое сообщение?
Капитан отправил телеграмму в Одессу. Из-за военных условий она не пришла вовремя, до моего отъезда. Мне следовало ждать у платформы, где он собирался встретить меня. Никакого транспорта все равно не было, так что мы зашагали по Столыпинской вместе. Капитан настоял на том, чтобы нести мой баул, сказал, что прождал несколько часов из-за опоздания поезда. Он думал, что я очень устал, но, разумеется, мне было куда удобнее, чем ему.
Капитан Браун постарел. Его лицо стало соответствовать представлениям современных художников – покрылось красными и синими пятнами. Но я был рад видеть его, несмотря на то что от него пахло водкой. Моя мать тяжело болела. Они с Эсме выхаживали ее. Теперь матушка сидела и жаловалась, пила бульон и больше не готовилась встретить старуху с косой. Я понятия не имел, что она так тяжело болела. Я предполагал, что грипп совершенно обычный. Но в беднейших районах города началось что-то вроде эпидемии. Многие умерли, по словам капитана Брауна. Эсме не сообщала об этом, потому что не хотела меня волновать. Капитан написал дяде Сене, попросив не говорить мне о серьезности заболевания. Матери теперь стало намного лучше; она очень хотела меня увидеть. Капитан обратил внимание на мою прекрасную одежду:
– Не слишком ли шикарно для Киева, а?
Также отметил здоровый цвет моего лица, которое одновременно стало и более зрелым. Я сильно урезал дозы кокаина, прекратил принимать его ежедневно. Запас в моем чемодане был невелик, а в течение некоторого времени я не надеялся его пополнить. Поэтому мне следовало беречь то, что осталось.
Мы сели в трамвай номер 10, который шел в наш район. Улицы Подола выглядели беднее и грязнее, чем прежде, несмотря на снег, и люди казались гораздо несчастнее тех, с которыми я встречался на Молдаванке. Отвращение к еврейской бедности, слабости, жадности и гордости охватило меня, но я подавил его. Евреи были добры ко мне. Готов поспорить, евреи встречаются разные. Но все вместе, однако, они наводят тоску. Наша улочка оказалась укрыта сугробами выше моего роста. Сквозь них прорыли тропинки от входных дверей до дороги. Все вокруг выглядело ужасно неухоженным. Я чувствовал себя подавленным, когда мы входили в дом, в котором я провел большую часть жизни. Поднявшись по лестнице, пропахшей капустой, дешевым чаем, квасом и кислыми клецками, мы вошли в квартиру и окунулись в ее гнетущую темноту – шторы были наполовину прикрыты; мать лежала на кушетке, придвинутой к черной железной печи. Эсме, бледная, усталая и, как всегда, очаровательная, бросилась ко мне, взяла за руку и подвела к матери, заходившейся в таком ужасном кашле, какого я прежде никогда не слышал. Матушка заговорила хриплым, каркающим голосом, хорошо знакомым мне после прежних ее болезней; это был ее «больной» голос.
– Максим, мой дорогой сынок! Какая радость! Я думала, мы никогда больше не встретимся в этом мире.
Я обнял мать, позволив ей поцеловать меня, а сам коснулся губами ее щек. От нее сильно пахло какими-то притираниями. Она была замотана во множество халатов, рубашек и платков; надо признать, что я, уже привыкший к стилю и богатству Одессы, испытывал легкое замешательство. В комнате было очень жарко. Я наконец вырвался и погладил мать по голове. Она задрожала. Я остановился, положив руку ей на лоб, и сказал Эсме:
– Ты так добра. Мне очень жаль твоего отца. Ты настоящая принцесса.
Эсме зарделась. Казалось, что она вот-вот сделает реверанс.
– Ты стал таким мужественным, Максим. Какие манеры! По меньшей мере принц. – Она говорила с легкой иронией, но мне это льстило.
Раздался глубокий, сильный кашель матери.
– Ему нужно поесть!
– Я приготовила бульон. – Эсме скрылась в другой комнате и вернулась с горшком, который поставила в печь. – Еще теплый. Скоро будем есть.
Я с тоской смотрел на старый, хорошо знакомый горшок. Запах, исходивший от него, больше не казался аппетитным. Я ел из этого горшка с тех пор, как меня отняли от груди. И он всегда был полон, благодаря усилиям матери. Я помнил репу, лук, свеклу, картофель – все готовилось в нем. Но мне хотелось пряной, вкусной одесской еды. Сколько всего – борщи, юшки, кулеши, щипанки, затирки и рассольники, сельди, жареные осетры и сардины, жаркое с квашеной капустой и черносливом, хаш с гречневой крупой…
– Ты, должно быть, голоден, – сказала мать.
– Я поел в поезде, – ответил я. – Там хорошо кормили. Я не хочу есть, не волнуйся.
– Суп с мясом, – сказала она. – Цыпленок. Ты должен поесть, – Мать снова начала кашлять, на ее глазах выступили слезы.
– Я поем позже, – наконец произнес я. – Я привез тебе подарок.
Мне было неловко, потому что я ничего не привез для капитана Брауна. Из баула я достал черно-красную шаль, купленную для матери.
– Какая красивая, – прошептала она. – Настоящий шелк. Это от Семена?
– От меня, – сказал я. – Я сам заработал.
– Заработал? Как?
– Грузил суда.
– Ты помогал Сене?
– Нет, он ни при чем, – ответил я. – Вот, Эсме. Что скажешь?
Для нее у меня был нарядный передник, украшенный сложной вышивкой. Я купил его у Вагнера. Эсме от радости всплеснула руками. Ее синие глаза засверкали, когда она осмотрела вышивку. Я сделал хороший выбор. Передник идеально подходил к ее фигуре и цвету волос. Я разыскал пачку табака «Сиу» на дне чемодана. Сам я не особенно много курил, поэтому решил отдать табак капитану Брауну. Он пришел в восторг.
– Самый лучший привозной американский табак, – заявил он. – Виргинский. Такой нечасто попадается. Я видел, как он растет, знаешь ли, в южных штатах Америки. Многие мили полей, черномазые, которые собирают табак и поют. Их музыка прекрасна, особенно издалека. Я когда-то пересек Америку от Чарлстона до Нантакета по железной дороге, повидал Нью-Йорк, хотя находился там всего несколько часов. Еще я был в Бостоне. И в Вашингтоне. И в Чикаго, где у меня еще остались друзья.
Он погладил пачку табака, и я обрадовался, что сделал ему такой подарок. Капитан казался самым счастливым из людей.
– Как странно, – продолжал он, – что я в итоге оказался здесь.
Он начал что-то бормотать по-английски себе под нос. Я разобрал всего несколько слов и обрывок фразы, которая, кажется, относилась к «никчемным родичам в Инвернессе». Как-то раз капитан Браун решил обратиться к семье и узнать, найдется ли для него койка, но не получил ответа. Он утверждал, что был в семье черной овцой, хотя мне трудно понять, почему. Он заменил мне отца, а матери – любящего мужа.
– Из-за войны многого не хватает. – Капитан Браун убрал табак в карман. – Теперь ничего не достать. Подозреваю, что дело в спекулянтах. Но, мне кажется, на севере и западе дела еще хуже. Люди из Москвы говорят, что нам повезло.
– Они всегда завидовали Украине, – заметила Эсме. – Отец полагал, что немцы начали войну только для того, чтобы захватить эту часть империи. У нас лучшая промышленность, большие запасы продовольствия, превосходные порты. Причина вполне понятна.
– Твой отец знал, о чем говорил, Эсме. – Капитан Браун попытался прислониться к печи – так, чтобы согреться, но не обжечься. – Я скажу по-солдатски. Они хотят заполучить Россию до самого Кавказа и поделиться с Турцией. Можете быть уверены, какой-то опьяневший от власти гунн и какой-то хитроумный мусульманин уже сговорились между собой. Иначе с какой стати Турция ввязалась в войну?
– Мы сражались с татарскими ордами, – произнес я. – Нам будет легко отбросить немцев и турок прочь от границы.
– Бог на стороне России, – сказала Эсме. – В итоге мы всегда побеждаем, и сейчас победим.
– Уверен, ты права.
Этот разговор был прерван ужасным приступом кашля. Волосы разметались по белому лицу матери – как будто ей привиделся один из обычных кошмаров; она наполовину свесилась с кушетки. От кашля ее тело раскачивалось из стороны в сторону. Она пыталась на что-то указать, опираясь о пол одной рукой и яростно размахивая другой.
– Воды? – спросила Эсме.
– Лекарства? – спросил капитан Браун.
Я помог матери подняться. Она дрожала в моих объятиях. Это была особая, судорожная дрожь, как будто сначала она напрягала, а затем расслабляла мышцы. Зубы матери начали стучать.
– Может, послать за доктором? – спросил я.
– Это звучит бесчеловечно, – ответил капитан Браун, – но он только возьмет деньги и скажет нам то, что мы и так знаем. Твоя мать переволновалась, ожидая, когда к ней вернется единственный сын, все время говорила о тебе. Она гордится тобой, Максим.
– Горжусь, – задыхаясь, прошептала мать. – Поешь супа.
Я подумал, что она чувствовала разом и беспокойство, и радость.
– Вам нужно поспать, Елизавета Филипповна, – проговорила Эсме.
Она достала бутылку хлороформа, сообщив мне:
– Она ждала тебя всю ночь. Мы думали, что ты приедешь раньше.
– Поезд задержался, – ответил я. – Война.
Шумно, почти жадно, мать приняла снотворного. Вскоре она откинулась на подушки и захрапела. Я печально осмотрел комнату, которая теперь казалась невероятно маленькой и захламленной. Увидел свою лавку, на которой когда-то очень любил спать, а теперь мечтал о кровати, пусть даже самой маленькой, с белыми простынями и подушками.
Почти неделю мне пришлось провести в этой квартире; мать то кашляла, то храпела; иногда начинала кричать от одного из прежних, давно знакомых мне кошмаров. По крайней мере, теперь на лавке спала Эсме, а я расположился на матраце в другой комнате. Все было совсем не так плохо, как я ожидал. У меня осталась возможность уединения, хотя рядом со мной хранились запасы еды и стояла кухонная посуда. Вода подавалась с помощью насоса с лестничной площадки внизу, но у нас имелись сточная труба и раковина. Уборную мы делили с парой пьяниц, живших в соседнем помещении. Им было чуть больше двадцати, но оба казались законченными алкоголиками. Когда вступили в силу строгие запреты на продажу спиртного, они оставались такими же пьяными, как и прежде, – пили весь дрянной алкоголь, какой могли достать. В итоге оба умерли спустя несколько месяцев после моего отъезда в Санкт-Петербург. Однако в те дни они тревожили меня каждую ночь.
Часть первого моего дня в Киеве мы провели с Эсме, отправившись на прогулку. Я вкратце поведал ей о своих приключениях. Мой рассказ произвел на нее впечатление. Более подробно я остановился на нескольких эпизодах – происшествии на борту английского корабля и встрече с греками и ласкарами. В основном я ограничивался рассказами об увиденных чудесах: курортах и развлечениях Фонтана и Аркадии, ярмарочных развлечениях, куда более впечатляющих, чем те, которые мы видели в Киеве, бесчисленных кораблях и людях разных национальностей. Эсме держала меня за руку, пока мы блуждали по присыпанным снегом улицам вокруг Кирилловской церкви. Улицы были пусты, только одинокий старый дворник в валенках, казалось, трудился там ради нас двоих. Мы стояли, глядя на серо-желтый мир вокруг, а я рассказывал о бирюзовом одесском море, о солнечных днях, о дружелюбных, веселых людях. Эсме сжимала мою руку так сильно и слушала так внимательно, что я заподозрил: у нее есть планы на мой счет. Но эта мысль пугала. Эсме была слишком чиста, возвышенна для плотских желаний. По крайней мере, она не отдавала себе в этом отчета, и жесты оставались вполне невинными. Я выпустил ее руку.
Мы двинулись дальше. Киев казался маленьким и провинциальным по сравнению с Одессой, несмотря на то что был крупным городом. Мне не хватало моря, не хватало ощущения влекущего к себе мира по ту сторону океана. Я сказал об этом Эсме, когда она спросила, рад ли я своему возвращению.
– Мне нужна возможность побега, – сказал я. – Меня влекут дальние края. Я хочу путешествовать. Хочу строить машины, в которых все мы сможем плавать по воздуху. Помнишь, как я летал, Эсме?
– Помню.
– Мы полетим вдвоем. Я отправлюсь в Петербург и получу диплом. Тогда у меня будет достаточно влияния, чтобы убедить скептиков. Потом поеду в Харьков, найду средства и начну строить разные летающие машины: пассажирские лайнеры, частные самолеты, все, что только возможно. И вагоны с автоматическим управлением. И парусные дирижабли, которые смогут опускаться на воду или летать, в зависимости от желаний и потребностей пилота.
– Ты прославишься, – сказала Эсме. – В Киеве тебя зауважают. Твое имя будет в газетах каждый день, как имя Сикорского.
Сикорский уже перебрался в Санкт-Петербург. Отказавшись от замыслов, целиком позаимствованных у Леонардо да Винчи, он больше не экспериментировал с вертолетами. Я отклонил данное направление исследований как совершенно непрактичное. Другая идея, связанная с использованием велосипедиста, который сам запускает двигатель, была выдвинута примерно пятьдесят-шестьдесят лет спустя. Сикорский так и не ответил на мое письмо, в котором я предлагал ему пятьдесят процентов прибыли, если он поможет мне доработать изобретение. Его планы оказались более грандиозными. Он фактически изобрел страшное оружие, самолет-бомбардировщик. Однако это случилось слишком поздно и уже не успело дать России того преимущества в воздухе, в котором она нуждалась. Мы могли бы переместить театр военных действий в верхние слои атмосферы. Нам больше не пришлось бы зависеть от ненадежных, неподготовленных крестьян, пустые головы которых стали прекрасными хранилищами красной пропаганды. Сталина, «человека из стали», обвиняли во многом, но он, подобно Ивану Грозному, понял необходимость поддержать русских, которым следовало положиться на свой простой ум и навыки. Сикорский, возмущенный этим, вскоре отправился в Америку, где заработал состояние и преувеличенную репутацию. Другие русские так никогда и не удостоились заслуженных почестей. Сталин знал, чего стоило наше воздухоплавание. В годы Первой мировой войны нам нужен был кто-то вроде него. Есть все-таки некая ирония в том, что подобный вождь достался нам позже.
Конечно, я не говорил Эсме ничего подобного, когда мы гуляли по саду у Кирилловской церкви в последнюю неделю 1914 года. У меня был дар предсказывать развитие технических идей, но не стоит сравнивать меня с Калиостро!
В те дни, проведенные дома, я с удовольствием наблюдал, как улучшается состояние матери. Вскоре она смогла передвигаться по квартире. Дядя Сеня, как выяснилось, назначил ей пенсию.
– Ему нужен джентльмен в семействе. – Мать показывала всем дядино письмо. – Он сделает все, лишь бы ты добился успеха.
– Ты бросишь прачечную? – спросил я. Теперь я страдал от того, что мать зарабатывала на жизнь столь недостойным способом.
– Я получаю с нее небольшую ренту, – ответила она. – Сейчас я слишком плоха, чтобы много работать.
– Вам будет только хуже, если сразу вернетесь к работе, – поддержала меня Эсме.
– Тебе следует весной поехать в Одессу, – предложил я. – Там чудесно. Солнечный свет сделает тебя новым человеком.
Это позабавило мать.
– Тебя старый не устраивает?
– По крайней мере, в нынешнем состоянии. Поживешь у дяди Сени.
– Чтобы турки меня пристрелили? Сейчас не время для поездки к морю, Максим. – Мать почти обвиняла меня; как будто я предложил, чтобы она подвергла себя опасности. – Мы подождем, а? До конца войны.
– Все закончится к весне. Посмотрим, что русская зима сделает с нашими врагами. Мы одержим победу, и они миллионами полягут в Галиции. Земля пропитается вражеской кровью.
Далее последовали: испуганное восклицание Эсме «О Максим!», слабый стон матери и усмешка капитана Брауна, который как раз вышел из другой комнаты, где он умывался.
– Ты стал русским воином, Максим.
– Мы все должны стать немного воинами. – Я прочел это в одной из газет. – Каждый русский – солдат, помогающий приблизить победу.
– Каждый русский? – Капитан Браун подмигнул мне. Он признал, что я повзрослел, а мать все еще считала меня тем же мальчиком, который уехал из Киева в сентябре. – Как насчет Распутина, а? Ты думаешь, он тоже вносит свою лепту? Если так, я хотел бы ему помочь.
Он был пьян. Мать воскликнула: «Капитан Браун!» – и предложила ему прогуляться, пока он не почувствует себя лучше. Эсме покраснела. Старый шотландец меня удивил. Обычно, пьяный или трезвый, он оставался джентльменом. Возможно, он стал пить больше водки в последнее время. Пробормотав извинения, капитан отвесил поклон матери и Эсме, удалился и не возвращался несколько часов. Все это время я провел за столом, стараясь, как делал с самого возвращения, освежить свои познания в основах инженерии. Я получил место в политехническом, но мне придется пройти предварительное собеседование. Я хотел убедиться, что справлюсь с этим испытанием, и продолжал заниматься по ночам, когда Эсме и мать спали. Мой небольшой запас кокаина уменьшался, зато запас знаний быстро увеличивался.
По мере того как я продолжал занятия, ко мне возвращались идеи и замыслы, проекты, которые я отложил, уезжая в Одессу. Я разрабатывал метод строительства подводных туннелей, чтобы связать разные части Петербурга, разделенные каналами и реками; обдумывал уничтожение Берингова пролива, чтобы напрямую соединить Россию и Америку; естественно, необходимы были новые виды стали, и я исследовал различные сплавы. Я начал, короче говоря, возвращаться к прежнему настрою, к усердию и творчеству.
Иногда я в одиночестве отправлялся на прогулки: к лощине, теперь покрытой толщей снега, где находился цыганский табор; к Бабьему Яру, над которым я летал. Посетив жалкое обиталище Саркиса Михайловича Куюмджана, я узнал, что армянин оставил свое дело. Очевидно, случай с двигателем из пекарни вынудил его в конце концов покинуть Киев. Стало гораздо труднее вести дела – возможно, потому, что во время войны люди возвращались к доиндустриальным методам; механик отправился в Одессу через некоторое время после моего отъезда. Оттуда, как я узнал, он перебрался в Англию. У него, по словам старой соседки, были родственники в Манчестере. Я ощутил нечто вроде раскаяния и спросил, не думает ли она, что в этом есть и моя вина. Она пожала плечами.
– Он боялся турок, всегда волновался, когда о них вспоминали, ты же сам знаешь. Воображал, что хан-мусульманин сядет на киевский престол. И отправился в страну, в которой, по его убеждению, никогда не столкнется с мусульманами.
Какая ирония! В Манчестере теперь полно сыновей Аллаха. Они заседают в органах местного самоуправления, ссужают деньги под огромные проценты и сдают жилье внаем.
Здоровье матери улучшилось, и она начала беспокоиться о моей предстоящей поездке.
– Одесса – это одно, – говорила она, – но Петербург – совсем другое. В Одессе у тебя были родные, а там нет никого.
– Это не так, мама. Дядя Сеня дал мне адрес своих агентов. Это солидная английская фирма. От господ Грина и Гранмэна я буду получать пособие и смогу обратиться к ним в любое время, если возникнут неприятности.
– Петербург – центр революционных заговоров. Все об этом знают. Твой отец никогда не интересовался политикой, пока не поехал туда. Там начались все беды – аресты, погромы. Для них все просто, они дети богачей. Если их поймают, то сошлют в Швейцарию. А нас расстреляют.
– Меня никто не расстреляет, мама.
– Ты должен обещать не делать ничего такого, что может вызвать подозрения, – попросила меня Эсме.
– У меня нет времени на красных, – посмеялся я над их опасениями. – Кадеты, эсеры и анархисты – я ненавижу их всех.
В те дни не ленинские социал-демократы, а эсеры считались самыми фанатичными радикалами. О Ленине, само собой разумеется, скрывавшемся в каком-то роскошном замке, еще никто не слышал. Гораздо позже, уверенный, что всю грязную работу за него уже сделали, он получил деньги, вернулся в Россию с помощью немцев и провозгласил свою революцию. Люди вроде него есть во всех слоях общества. Они позволяют настоящим работягам трудиться, а потом приписывают себе их заслуги.
Нечто подобное случилось и со мной, со всеми моими изобретениями. Репутация Томаса Алвы Эдисона основывалась на достижениях его помощников. Так обычно происходит в научной среде, и нет ничего удивительного, что это случается и в бизнесе, и в политике. Немцы рассказывали мне, что Эйнштейн украл все свои идеи у собственных учеников. В пабе я встретил молодого человека, который поведал мне, что написал все песни «Битлз» и не получил ни пенни взамен. Даже прославленным испытаниям вертолета Сикорского предшествовала успешная попытка французов, братьев Корню[52], в 1907 году: но о них в киевских газетах два года спустя никто не упоминал. В мире науки и политики есть люди, которым сопутствует удача, они приобретают известность, встречают нужных людей. В их честь называют города и крупные компании. Я примирился с безвестностью, но по крайней мере эти вспоминания помогут восстановить справедливость.
Вероятность остаться неизвестным казалась невозможной мальчику, рассказывавшему Эсме о своих планах на будущее; об огромных изящных небоскребах, возносящихся над руинами трущоб; о городах с движущимися тротуарами и крытыми улицами, с воздушным транспортом, автоматами для продажи еды, генетическими селекторами, которые гарантируют всем детям совершенное здоровье. Мы развивали технику, которую следовало использовать именно так.
Эсме, со своей стороны, говорила о том времени, когда станет достаточно взрослой, чтобы работать сестрой милосердия.
– Скоро станет слишком поздно, – сказала она. – Война закончится.
– Молись об этом.
Что она станет делать в мирное время? Она по-прежнему мечтала ухаживать за больными:
– Я хочу сделать в жизни хоть что-то полезное.
Я с благодарностью пожал ее руку, когда мы сидели на скамье в лучах зимнего солнца, смотря на Бабий Яр.
– А пока ты спасаешь жизнь чудесной женщины. Я обязан матери всем, Эсме.
– Когда человек знает лишь одного из своих родителей, он ценит его гораздо сильнее, – ответила она.
Я согласился. Она загрустила, вспомнив об умершем отце.
– Он был храбрым человеком, – произнес я.
Эсме побледнела.
– Достаточно храбрым. Этот твой чистый, научный мир будет справедлив, Максим?
– Справедливость – редкий товар, – ответил я.
Она улыбнулась:
– Ты мог бы стать великим учителем.
Я задумался.
– Может быть, я стану управлять своей лабораторией, у меня появятся помощники, которым я смогу передать свои знания.
– А я стану вашей штатной санитаркой.
– Мы оба постараемся, каждый по-своему, сделать мир лучше.
Это была несвойственная мне ошибка – поверить, что знание можно поставить на службу чувствам. Как монахиня не может находиться в миру, так и настоящий ученый не может создавать эффективные бесплатные столовые. Вера в то, что наука может одолеть человеческие беды, – просто амбиция интеллигента. Но в компании Эсме я зачастую ненадолго заражался женской сентиментальностью. И первым готов признать, что без таких созданий мир стал бы хуже.
В свой день рождения я получил полезные подарки от всего небольшого семейства. Книги, карандаши, бумага, роскошная немецкая точилка и приличный портфель – все это должно было пригодиться мне в Петрограде. Мать плакала и кашляла, лежа на кушетке, глядя на меня сонными глазами и умоляя Эсме и капитана Брауна повторять, чтобы я не связывался с красными и с распутными женщинами.
Я сказал ей, что в Политехническом институте очень строгие нравы. Я отыскал его на карте. Институт располагался даже не совсем в Петербурге.
На следующий день я получил письмо и несколько рублей серебром из Одессы. Дядя просил меня с пользой проводить время в Питере, встречаться с нужными людьми и производить хорошее впечатление на профессоров. Он предупредил, что теперь мне следовало представляться Дмитрием Митрофановичем Хрущевым, и прислал паспорт на это имя. Туда была вклеена моя фотография. Это потрясло меня. Из-за войны дядя Сеня, очевидно, воспользовался какими-то особыми связями, но я не ожидал, что придется поступать в институт под вымышленным именем, которое, возможно, мне придется носить всю оставшуюся жизнь. Оно появится на всех моих дипломах. Я не мог тогда привыкнуть к мысли, что человек может менять имя так же, как меняет одежду. Революция скоро познакомила меня с этой процедурой. Я уже знал от Шуры, что у многих людей были документы на разные фамилии. Некоторые меняли свои имена десятки раз. Но тогда речь шла о преступниках, радикалах, которым приходилось совершать подобные вещи. Паспорт казался подлинным. Дядя Сеня упомянул, что следует сообщить матери мое новое имя.
Я не смог сразу сказать об этом ни матери, ни Эсме. Надел свое английское пальто и вышел прогуляться в парк. Здесь, на холме, я все обдумал. Понятно, как это вышло. Во время войны место в политехническом получить было нелегко. Многие украинцы хотели учиться в Петербурге. Очевидно, имелось слишком много претендентов. Возможно, этот Дмитрий Митрофанович Хрущев отказался от своего места, чтобы его мог занять я. Может, он умер или ушел в армию. Было великое множество разных вариантов. Но, если я хочу учиться, придется поступать в институт под псевдонимом. Это никак не повлияет на качество обучения. Возможно, позже я смогу назвать настоящее имя и подписывать свои патенты должным образом.
Я всегда ненавидел лицемерие и обман и при этом всегда становился жертвой и того, и другого. Какая ужасная ирония… Теперь мне приходилось жить во лжи не потому, что совершил что-то дурное, а потому, что мой дядя Сеня готов был пойти на все, чтобы обеспечить мне хорошее образование. Я узнал, что мир полон лжи.
Я рассказал обо всем матери. Она не удивилась. По ее словам, в недавних письмах дядя Сеня уже намекал на это. Хрущев – хорошая, достойная фамилия, с которой можно появиться в обществе.
Однако я заметил, что мать волновалась. Возможно, это казалось ей частью одного общего бедствия. Ей почему-то становилось хуже от того, что я так долго оставался дома. Даже Эсме обратила внимание, что, хотя настроение и состояние здоровья матери улучшались, ее нервы все больше расстраивались.
Вечером накануне отъезда мы с Эсме пошли прогуляться. Я сказал, что должен играть роль Дмитрия Митрофановича и ей придется хранить тайну моего настоящего имени. Этот секрет стал моим прощальным подарком девушке. Эсме улыбнулась и ответила, что очень ценит мое доверие. Впрочем, ее не особенно озадачила эта внезапная смена имени.
Мы держались за руки, как брат и сестра, и Эсме уверяла, что позаботится о матери, что мне нужно изо всех сил трудиться, чтобы стать великим инженером. Если я прославлюсь как Хрущев – какое это имеет значение? Мать все равно будет мной гордиться, и я в любом случае смогу заботиться о ней.
На следующее утро я сумел вжиться в роль и стал Дмитрием Митрофановичем Хрущевым, который садился в спальный вагон, чтобы с привычными ему удобствами добраться до столицы.
Дядя Сеня вместе с билетом прислал инструкции: куда следует направиться и как вести себя в Петербурге. Он настаивал, чтобы я вел себя как джентльмен, и ради этого готов был пойти на любые расходы. Меня глубоко тронула его доброта. Матушка искренне радовалась. Она была слишком больна, чтобы сопровождать меня на станцию, и, надо признать, я не огорчился. Было бы слишком унизительно, если бы меня увидели вместе с болезненной, плачущей матерью, которая сквозь приступы кашля пытается прошептать последнее «прощай». Вместо этого со мной отправились Эсме и капитан Браун. Они помогли мне с багажом и проследили, чтобы носильщик отнес его в правильное купе.
Я был перевозбужден. Мне не доводилось путешествовать в спальном вагоне. Войдя в купе, я увидел, что верхняя койка уже занята. Мне следовало разделить помещение с другим джентльменом. Это было обычным делом, особенно для не слишком богатых людей, и я знал, что в поезде очень мало свободных мест. Почти весь вагон оказался заполнен высокопоставленными военными и членами их семей. Я никогда не слышал такой плавной, грамотной русской речи, да и французской, кстати говоря, тоже. Девочки предпочитали беседовать по-французски. Я думаю, им даже нравилось притворяться француженками. Но их выдавал акцент. Я мог это определить, хотя по-французски говорил не слишком свободно. Это язык любви; язык, на котором те же девочки говорили через несколько лет, пытаясь привлечь возможных покровителей из числа большевиков на улицах Петрограда и Москвы.
Купе поразило Эсме, она о таком никогда не слышала. По ее словам, девушка ожидала увидеть в вагоне ряд кроватей, что-то вроде спальни на колесах. Здесь находился небольшой умывальник с полированной деревянной верхней частью, которая могла использоваться как стол. Даже унитаз оказался замаскирован под стул, по цвету сочетавшийся с остальной частью купе. Стены были окрашены в темно-розовый и белый, в снежном сиянии из окон все вокруг искрилось. Обивка по цвету напоминала десерт, который позднее продавался в Париже под названием «Клубника а-ля Романов»[53], возможно, потому, что нравился царю. Простыни казались идеально белыми, и одеяла превосходно сочетались по цвету с обивкой. В купе обнаружились маленькие выдвижные ящички и крошечные платяные шкафы.
Мой спутник уже распаковал свои вещи. Запах одеколона заполнил помещение, на вешалке висел изысканный арабский халат. Я прочитал объявления на двери, написанные по-русски, по-французски и по-немецки. В них шла речь о звонке, до которого можно дотянуться, лежа в кровати, и о предоставляемых услугах разного рода. Требовалось не курить в кровати и вызывать дежурного при малейших признаках пожара. Также перечислялись все обычные правила путешествия по железной дороге.
Капитан Браун сказал, что это купе можно сравнить с лучшими из тех, в которых он путешествовал по Индии и другим местам, и что ему хотелось бы отправиться со мной. Эсме согласилась и призналась, что завидует мне. Я уже привык к некоторым удобствам, но моей подруге этот вагон казался по-настоящему волшебным. Она то и дело касалась одеял, простыней, креплений, как зачарованная. Наконец Эсме спросила меня:
– А у твоего дяди было так же?
Я рассмеялся:
– Нет, по-другому.
Она смотрела на меня как на божество.
– Ты должен хорошо учиться, – сказала она серьезно. – Это большая честь, Максим.
Я сжал ее руку.
– Дмитрий, – шепотом напомнил я. – Я здесь оказался потому, что меня зовут Дмитрий Митрофанович и я сын священника из Херсона. – Об этом свидетельствовали мои документы.
– Я надеюсь, что ты не встретишь семинарских дружков из Херсона. – Капитан Браун коснулся моей руки. – Пусть твоя мать будет счастлива, мальчик. Это стало возможным благодаря ей. Если б она не бросилась в ноги твоему дяде… Что ж, он – единственный приличный член этого семейства. Я думал, моя собственная семья недостаточно хороша, но, по крайней мере, они не притворяются, что я мертв.
Об этом я прежде не слышал.
– Не понимаю вас, капитан Браун.
Он сочувственно улыбнулся:
– Все в порядке, мой мальчик. Вы с матерью не виноваты. Твои родственники не одобряли того, что сделал твой отец. Они и судили, и вынесли приговор. Все дело в религии, я полагаю.
Больше я ничего не услышал. Проводник прокричал, что провожающие должны выйти из поезда. Раздался громкий свист. Капитан Браун пожал мне руку, Эсме поцеловала в щеку. Я ответил на поцелуй; она покраснела. Они стояли у окна купе, улыбаясь, кивая и жестикулируя, а потом раздался еще один свисток, вагон дернулся, и я вновь умчался в белую степь.
На сей раз мой родной город был скрыт падающим снегом. Поезд помчался в тишину замерзших озер, голых, сверкающих серебром берез, сосен, маленьких станций, увешанных сосульками телеграфных проводов, старых, серых, тесных деревень, где крестьяне тянули сани с дровами, рядом с которыми лежали младенцы. Белый густой дым поезда был единственным источником тепла во всем этом холодном пейзаже.
В купе вошел крупный молодой человек, одетый в рубашку с высоким воротником, сиреневый шейный платок, черный шелковый жилет, узкие брюки и пиджак. У него были широкие синие глаза и толстые губы, которые обыкновенно вызывали у меня недоверие, напомаженные светлые волосы, уложенные волнами на большой, красивой голове. Но сосед выглядел очень дружелюбным. Он протянул мне свою большую руку и наклонился; эта поза показалась мне знакомой. Когда он заговорил, я понял, что юноша как-то связан со сценой.
– Bonjour, mon petit ami.
Его акцент звучал как-то нарочито. Я ответил подобающе:
– Bonjour, m’sieu. Commentallez-vous?
– Ah, bon! Très bon! Et vous?
– Très bien, merci, m’sieu[54].
Этот смешной обмен фразами из учебника продолжался, пока не прозвучали наши имена.
– Je m’appelle[55] Дмитрий Митрофанович Хрущев, – сообщил я.
Соседа звали Сергей Андреевич Цыпляков, и он, по его словам, на день отстал от своей «банды». К нашему общему облегчению, мы перешли на русский.
– Банды? – переспросил я, удивившись. – Вы что, бандит?
Он долго смеялся. Смех показался искусственным, наигранным, театральным.
– Можно и так сказать. Я могу звать тебя Димой? – Сосед отбросил формальности гораздо быстрее, чем следовало, но помешать этому я никак не мог. Он, в конце концов, был гораздо более опытным путешественником. Я согласился.
– Можешь звать меня Сережей, – сказал он. – Мы с тобой подружимся. В конце концов, дорога долгая. Подмораживает, не правда ли?
Мне казалось, что в купе довольно тепло, но я решил промолчать, пока не услышу мнения своего спутника.
– Моя банда – это балет «Фолин».
Вот что объясняло его нарядную одежду, легкое панибратство, мягкость рук и изысканность жестов. Я слышал об этой труппе, видел ее афиши в Киеве и чувствовал себя польщенным, оказавшись в одном купе с таким выдающимся человеком. Я сказал, что пробыл в Одессе несколько месяцев и не смог попасть на их выступления. Он ответил, что гастроли были ужасными, сцена – отвратительной, но труппа выступила очень хорошо. А сам я из Одессы? Или путешествую?
Я признался, что путешествовал очень мало.
– Мы объездили весь мир, – сообщил он. – Ты был в Париже? Тебе нужно там побывать. А в Лондоне? – Он поморщился, видно, не слишком высоко ценил Лондон. – Мещане, – пояснил он. – В Нью-Йорке с культурой дело обстоит куда лучше. Не верится, да? Ох уж эти ковбои! А ты бывал в Нью-Йорке?
Я не стал обманывать его и покачал головой.
– Тебе стоит поехать туда как можно скорее. Подальше от этой войны. В Нью-Йорке ценят искусство. Они, знаешь ли, не могут жить без него, бедняжки.
Я был очарован Цыпляковым почти так же, как когда-то Шурой. Мне льстило внимание, дружеское и прямое обращение моего спутника. Мы пошли в ресторан. Он угостил меня завтраком и настоял, чтобы я выпил бокал шампанского.
Мы вернулись в купе и уселись на моей койке. Сергей рассказывал мне о своих приключениях за границей, о провалах и триумфах их труппы, маленькой, но хорошо известной в столице. Он жаловался, что война сильно мешает гастролям. Именно поэтому труппа и оказалась в Киеве. Они собирались отправиться в Берлин на Рождество.
– Мы с таким нетерпением ждали этого, Дима, mon ami! Рождество в Берлине! Чудесные украшения на деревьях, рождественские песни, имбирные пряники! Немцы изобрели этот праздник, сдается мне. Это все так прекрасно! Мишура, бархат… и все так счастливы.
Цыпляков возлагал ответственность за всю войну на нескольких прусаков и жадных австрийцев. Он думал, что венгры ни в чем не виноваты.
– Они любят музыку, танцы и прочие виды искусства. Австрийцы же думают, что вальс – высочайшее достижение культуры из всех возможных.
Он жаловался, что не может теперь поехать даже во Францию, разве что в военной форме. Он вызвал проводника и заказал бутылку «Круга». Я с крайним удивлением обнаружил, что заказ приняли. Через четверть часа нам принесли ведерко со льдом, в котором виднелся не «Круг», а темно-зеленое горлышко прекраснейшего и сладчайшего «Моэ Шандон»[56].
– Теперь в России практически невозможно раздобыть «Круг», – сказал Цыпляков. – К счастью, на железных дорогах еще осталось шампанское. Если хочешь выпить, нужно путешествовать в спальном вагоне!
Он рассмеялся, катая бутылку по льду.
– Все столицы для нас закрыты, по той или иной причине. Конечно, люди в провинции очень рады нам. Мы собираем полные залы везде, где бываем. Здесь можно заработать больше, чем в Европе. Но это так скучно. Я люблю развлекаться, Дима. Я упорно тружусь на сцене, так что мне нужно расслабляться при любой возможности. Как ты думаешь? – Он вытащил бутылку из ведерка. Я подставил бокал, и мой новый друг изящным движением наполнил его. – Мы чудесно проведем время. С Новым годом! – Он осушил свой бокал.
Потом перевел дыхание и как раз собирался что-то сказать, когда проводник постучал в дверь и отворил ее. У него было грубое красное лицо, седеющие усы, темный мундир, перетянутый золотыми галунами. Он поприветствовал нас.
– Мне очень жаль, ваши превосходительства. Родители просили меня проследить за молодым джентльменом. Если будут проблемы, сразу обращайтесь ко мне. – Он закрыл дверь.
Сережа нахмурился и назвал проводника назойливым старым дураком. Мне польстило такое внимание. Под словом «родители» он, должно быть, подразумевал капитана Брауна. Несомненно, тот дал чаевые проводнику, чтобы он следил за мной до самого Петербурга.
Снег продолжал идти, а мы с Сережей пили. Он рассказывал мне о Марселе, Флоренции, Риме и обо всех замечательных теплых местах, которые мы не сможем посетить в течение многих месяцев. Чем больше мой попутчик выпивал, тем свободнее становилась его речь. К счастью, я уже привык к этому. Действительно, я обнаружил, что мое стремление быть джентльменом в компании Сережи несколько уменьшилось. Я смеялся над его шутками и даже рассказал несколько своих, над которыми он смеялся так же, как и над собственными.
– Нам нужна музыка, – заявил он. – Как жаль, что остальные члены труппы уехали более ранним поездом! У нас так много замечательных ребят, которые играют на гитарах, мандолинах, балалайках и аккордеонах. Мы могли бы устроить небольшую вечеринку. С девочками. Ты любишь девочек, Дима? – Он улыбнулся и положил свою большую руку мне на плечо. – Полагаю, ты еще слишком молод и потому не знаешь, что тебе нравится, а? Но у тебя же есть чувства? – подмигнул он.
Я уверил его, что чувства у меня есть. Цыпляков сжал мое плечо, а потом – колено. Он предложил заказать еще бутылку шампанского, чтобы согреться, и позвонил в звонок. Явился проводник. Сережа раздраженно заявил:
– Я требую официанта.
– Он скоро придет, ваше превосходительство.
Но прошел час, и шампанское закончилось прежде, чем появился официант.
– Еще бутылку, – сказал мой друг. – А лучше две.
Официант покачал головой:
– Все шампанское вышло.
– Мы же едем только час!
– Мы едем уже три часа, ваше превосходительство.
– И у вас кончилось шампанское?
– Очень жаль. Война.
– О, это восхитительная война, не так ли? Артисты лишились тех немногих удовольствий, которые у них оставались. Вы отдаете публике все, а что получаете взамен? Лишь одну-единственную бутылку шампанского.
– Это не наша вина, ваше превосходительство.
– Тогда принесите мне бутылку бренди!
– У нас нет бренди в бутылках. Весь запас хранится в вагонах-ресторанах.
– Вы имеете в виду, что если мы желаем выпить, нам следует и поесть?
Официант вытащил свой блокнот.
– Заказать вам столик?
– Давайте сделаем по-другому. – Сережа встал, его тень нависла над нами. Он размял ноги, потом руки. – К утру я буду в агонии. – Он дотянулся до кармана сюртука, который бросил на свою кровать. – Разве вы не можете раздобыть нам всего одну бутылку, а, официант? – Он достал серебряный рубль.
Мужчина смотрел на него так, будто видел, как умирает его ребенок, и не мог спасти его.
– Никак нельзя, ваше превосходительство.
Со своего места я мог заметить тень проводника за спиной официанта. Он следил, чтобы того не подкупили.
– Все в порядке, Сережа, – сказал я. – Мы уже выпили много шампанского. Гораздо больше, чем могут себе позволить другие.
Танцор резко опустился вниз, отодвинув официанта.
– Когда будет обед?
– С пяти часов, ваше превосходительство.
– Тогда закажите на пять.
– Очень хорошо.
– И проверьте, чтобы у нас был аперитив.
– Постараюсь, ваше превосходительство.
Сережа вскочил, охваченный гневом, но официант уже скрылся в коридоре.
– Дима, мой дорогой, из-за войны мы все обречены на страдания. – Он посмотрел на меня как-то странно, сквозь прикрытые глаза. – Ты же не станешь меня винить?
– Конечно, нет.
– Я старался.
– Я видел.
– Думаю, я немного отдохну перед обедом. Почему бы тебе не поступить так же?
Я почувствовал сонливость и согласился, что это неплохая идея. Сережа вскарабкался на свою койку. Матрас прогнулся под тяжестью его тела. Я лег, не снимая рубашку и брюки, аккуратно повесив пиджак и жилет, и попытался уснуть. Но сильное волнение, которое я испытал чуть раньше, теперь сменилось чем-то вроде депрессии. Я с нетерпением ждал второй бутылки.
Пару минут спустя я услышал шорох, доносившийся с постели Сережи. Он сел по-турецки, судя по тому, как провис матрас, и через некоторое время сильно втянул носом воздух – один раз, потом еще. Звук был мне знаком. Я резко встал, чтобы застать соседа врасплох, и тотчас убедился, что он прижимал к носу короткую серебряную трубочку. Она вела к небольшой шкатулке, похожей на табакерку. Лишенный вина, Сережа перешел на кокаин. Он посмотрел на меня и убрал приспособление.
– Я как раз принимал свое лекарство.
– Болит голова? – спросил я, изображая полную невинность.
– Совсем чуть-чуть. Шампанское, сам понимаешь. И затем этот ужасный разговор с официантом.
– Тебе стоит поспать.
– Что-то мне не спится. А тебе?
– Меня клонит ко сну. – Это было не совсем верно, но я решил, что так правильней.
Я надеялся заполучить немного кокаина. В моем багаже все еще оставалось чуть более грамма, но я решил приберечь этот запас на крайний случай, когда потребуются силы для занятий. Теперь нашелся новый источник. Я решил заполучить адрес танцора, чтобы не потерять его из виду. Через него можно будет связаться с поставщиком, и одна из моих тайных проблем разрешится.
Сережа приподнял свою мягкую руку и взъерошил мне волосы:
– Не волнуйся обо мне, мой темноглазый красавец. Я уже чувствую себя лучше.
Я отшатнулся. В то время я очень мало знал о нравах, царящих в мире балета, но какой-то инстинкт предостерег меня. Я уверен, что официант и проводник, должно быть, догадались о намерениях танцора и сделали все, что могли, чтобы помешать ему. В наши дни такие наклонности, как у Сережи, считаются современной проблемой. Но они существовали всегда. Практически все, что характерно для нашего времени: пороки, политические теории, тирания, споры, явления искусства, – зародилось в России в ту эпоху. Петербургские дегенераты задали тон целому столетию.
Я отобедал с Сережей, потому что решил, что должен, но пил очень мало, считая каждый глоток. Когда мы вернулись в купе, он позволил мне переодеться в маленькой уборной. Я надел ночную рубашку и улегся в кровать. Мой сосед скрылся в туалете. Я услышал вполне естественные звуки. Потом он вышел.
Сережа был совершенно голым. Это не выглядело чем-то необычным – в те времена среди мужчин было принято вместе посещать баню и купаться обнаженными. Меня встревожило другое – его член раскачивался перед моим лицом, поскольку Сережа как будто никак не мог залезть на свою постель. Поезд начал двигаться немного быстрее, но мой спутник раскачивался надо мной совсем не из-за этого, его горячий, напряженный член касался моей шеи и плеча. Он начал извиняться. Я, конечно, будучи в замешательстве, ответил, что ничего страшного не произошло. Он сел на край моей кровати, как будто приходя в себя, и сжал мое плечо.
– О Дима. Какой ужас! Все хорошо?
Я сказал, что у меня все в порядке.
Он коснулся пальцами моей руки.
– Мне очень жаль. Я совсем не хотел испугать тебя.
– Я не испугался, – ответил я.
– Но я вижу, что ты расстроен.
– Нисколько.
– Ты стал таким строгим. – В глазах Сережи блеснули слезы.
– Тебе совершенно не нужно извиняться.
– Ах, но я хочу извиниться. Я чудовище. Ты понимаешь?
– У тебя исключительно благородная профессия. Русские всегда были великими танцорами.
Это, казалось, огорчило его. Что-то проворчав, Сережа выпрямился и медленно забрался на свою койку. Вскоре я услышал какой-то шум и понял, что он начал мастурбировать. Чувствуя какое-то оживление ниже пояса, я и сам слегка поразвлекся.
Я заснул, а когда проснулся, почувствовал какое-то неудобство. Было темно. В поезде царила полная тишина. Похолодало. Я оказался прижат к стенке вагона – Сергей улегся на мою койку. Когда я попытался шевельнуть затекшей рукой, в темноте зазвучал его низкий, медленный голос. Я почувствовал, как моего лица коснулось несвежее дыхание.
– Мне показалось, что тебе холодно, и я решил согреть тебя.
– Здесь недостаточно места для двоих.
– Ты замерзнешь. – Сережа положил руку мне на плечо. Он вспотел.
Я подумал о том, могли ли выпивка и кокаин вызвать такую форму безумия.
– Мне очень неудобно, – сказал я.
– Я могу обнять тебя.
– Спасибо, Сергей Андреевич. Не стоит меня обнимать.
– Я должен.
– Вовсе нет. Разве в купе так холодно?
– Поезд стоит. С отоплением что-то не так. Мы застряли среди снегов.
Я сопротивлялся. Он попытался одолеть меня.
– Ценю такую заботу, Сергей Андреевич, но мне в самом деле больно.
– Я люблю тебя, – произнес он.
– Что?
– Ты знаешь, что любишь меня.
– Все люди – братья, Сергей Андреевич. Но мы почти не знаем друг друга.
Я попытался переползти через него. Мои руки коснулись ковра. Я почувствовал, как его рука скользнула по моей спине вниз и начала поглаживать задницу.
– Ты прекрасен, – заявил он.
– Я позову проводника! – воскликнул я, затем встал и зажег светильник. – Немного черного кофе – и все снова будет в порядке.
– Что ты знаешь о мужчинах? – Свет озарил крупную фигуру Сережи. Он впился в меня взглядом, прищурив глаза. – Зачем ты играешь в такие игры? Давай, вызови проводника. Сделай так, чтобы я отправился в тюрьму.
– В тюрьму? – Я был озадачен. – Почему?
Он не мог отправиться в тюрьму за то, что пытался согреть меня в постели. Я, конечно, подозревал, что он хотел заняться со мной любовью, но мне не хватало опыта, чтобы быть в этом уверенным.
Он посмотрел на меня – грустно и в то же время с признательностью.
– И на том спасибо.
Я еще в Одессе усвоил правила деликатного поведения, так что не стал развивать тему. Однако мне хотелось избавиться от гнетущей атмосферы, царящей в купе, поэтому я надел халат и тапки и отворил дверь.
Он замер:
– Что ты собираешься делать?
– Размять ноги, – сообщил я. – Подышать свежим воздухом. Полагаю, тебе стоит вернуться в кровать, Сережа.
– Спасибо.
Когда я уходил, он начал карабкаться на свою койку.
Прохаживаясь по коридору и рассматривая серые снежные заносы сквозь заледеневшие окна, я чувствовал одновременно и смущение, и ликование. Похоже, Сергей Андреевич теперь мой должник. Я был готов воспользоваться этим при первой же возможности, хотя пока еще не знал, как именно. Меня некому защитить, и в Санкт-Петербурге мне следовало полагаться только на себя, и чем больше друзей с хорошими связями я смогу отыскать, тем лучше пойдут мои дела.
Стоя у окна, я увидел, что в дальнем конце коридора появилась тень; по направлению ко мне медленно шла молодая женщина в красно-зеленом платье, с аккуратно уложенными темными волосами. Она была немного старше меня, круглолицая и приятная, с овальными карими глазами и крупными ровными зубами. Незнакомка улыбнулась мне:
– Не можете заснуть?
– Мне показалось, что я задыхаюсь. – Я кивнул в сторону своего купе.
– Я путешествую с моей ужасной старой няней, – прошептала девушка, – настоящей крестьянкой, хоть и из Шотландии. Она сохранила тамошние привычки. Тьфу!
– Привычки?
– Она все время говорит по-английски. Во сне.
– Вряд ли это можно назвать крестьянской привычкой, – удивился я.
– В Англии – конечно, не правда ли?
Эта встреча показалась мне столь же нелогичной, как и предшествующая.
– В Англии тоже есть крестьяне, – сказал я. – Хоть и поблагороднее наших.
– Вы бывали в Англии?
– Мне знакома эта страна.
Это было правдой. Знакомство произошло прежде всего благодаря капитану Брауну и «Пирсону».
Я произвел впечатление.
– Я путешествую впервые. Мы из Молдавии, у нас там имение. Очень красивый край. Слышали о ней?
Я сказал, что, к сожалению, нет.
– Вам бы понравились эти места, но там скучно. Отец уединился в имении, отойдя от дел. До этого он путешествовал по Англии. Там и подыскал мне няню, но она на самом деле не настоящая шотландская гувернантка. Она заботилась обо мне, потому что мама часто хворала.
– Ваша мать умерла?
– Конечно, нет, причем совершенно здорова. Она страдала от анемии. Теперь вылечилась, много ездит верхом – увлеклась английской охотой. С собаками, лошадьми, красными куртками и тому подобным. Но я думаю, что вас интересуют другие виды лис.
– Английская лиса – осторожный маленький зверек, – заметил я. – И очень красивый.
Девушка приоткрыла часы-кулон, висевшие у нее на груди; уже минула полночь.
Я не хотел расставаться с ней.
– Вы путешествуете? – спросил я.
– Нет, я собираюсь поступить в университет в Питере.
– На koyorsy? – Я ознакомился с большинством учебных заведений столицы. Кoyorsy[57] предназначались для женщин.
– Да! – восторженно ответила девушка.
– Я тоже студент, – продолжал я. – Буду учиться в политехническом. Я моложе большинства студентов, но у меня есть медаль.
Ее это не слишком впечатлило. В те времена у политехнического была репутация второсортного учебного заведения. Точные науки и инженерное дело во многих слоях общества все еще считались неподходящими занятиями для людей благородного происхождения.
– Война, – пояснил я, – требует новых типов оружия. И новых людей, способных его создать, потому меня и пригласили в Питер.
Она захихикала:
– Вы всего лишь мальчик.
– Я уже летал на собственном аэроплане, – сообщил я. – Может быть, вы читали об этом в прошлом году? В Киеве. Я летал в течение нескольких минут на машине совершенно нового типа, которую сам построил. Об этом писали во всех газетах.
– Я что-то припоминаю о новом виде летательной машины. Это было, действительно, в Киеве.
– Вы разговариваете с ее изобретателем.
Я одержал победу. Она немного смущенно произнесла:
– Я не могу вспомнить вашего имени…
Это, конечно, было сложно. Я колебался.
Она поднесла руку к губам:
– Извините. Вам не дозволено, потому что война?
Я кивнул:
– Я себе не хозяин. Могу сообщить вам только то имя, которым пользуюсь сейчас.
– Опасаетесь шпионов?
– Вполне возможно, мадемуазель.
– Меня зовут Марья Варворовна Воротынская.
Я поклонился:
– Можете называть меня Дмитрием Митрофановичем Хрущевым. Под этим именем я буду жить в Петербурге.
Девушка пришла в восторг от таких романтических обстоятельств. Избегая преднамеренного обмана, я узнал, как использовать женскую тягу ко всему таинственному. По крайней мере, в данном случае я вышел из затруднительного положения вполне успешно.
– Вы сможете навестить меня в Питере? – спросила она.
– Попытаюсь, если вы напишете адрес.
– Подождите здесь.
Я ждал, мое воображение рисовало узоры на замерзших окнах, а дыхание добавляло новые слои к ватной белизне, окружавшей нас. Скоро Марья вернулась с клочком бумаги, оторванным от книжного листа. Я взял его, поклонился и убрал в карман халата.
– Вы не обязаны приходить, – прошептала она, – но, знаете, у меня совсем нет знакомых в Питере. Надеюсь, что на курсах я смогу с кем-нибудь подружиться.
– Я сделаю все возможное, – церемонно ответил я, – чтобы удостовериться в том, что вы не чувствуете себя одинокой.
– Вы будете очень заняты.
– Естественно. Однако красивой и умной женщине трудно отказать.
Я льстил ей отчасти из-за врожденной учтивости, к которой всегда был склонен в обращении со слабым полом, отчасти потому, что помнил совет Шуры насчет знакомств с девушками, отцы которых могли бы финансировать мои изобретения. Этот мотив мог показаться постыдным, но в нем присутствовало определенное благородство – я был готов пожертвовать собой ради продолжения научной работы.
Марья улыбнулась, когда я поцеловал ее руку.
– Няня Бьюкенен проснулась, – сказала она. – Услышала, как я рву бумагу. Мне нужно идти.
– Мы еще встретимся.
– Надеюсь на это… – она понизила голос, – …m`sieu Хрущев.
Девушка умчалась по коридору. Возвращаясь в купе, я был очень доволен собой, тем, что уже успел завести два исключительных полезных знакомства.
Мое настроение испортилось, когда я увидел жирного майора в шинели. Усы его топорщились, как руль велосипеда, один глаз сверкал, подобно прожектору, второй был закрыт кепкой; он выскочил откуда-то сзади и зарычал:
– Вы должны быть в постели, молодой человек. В чем дело? Думаете, боши захватили поезд?
– Я захотел узнать, почему мы остановились.
– Из-за снега. Я все разведал. Мы опоздаем на несколько часов. Рельс сломался, очевидно, из-за мороза. Слишком много поездов. Говорят, что делают все возможное, там сейчас много рабочих. Мне следовало присоединиться к своему полку, но он уже будет на фронте к тому времени, когда я появлюсь в Питере.
Путешествуя на экспрессе Одесса-Киев, я с удовольствием проводил время в поезде, но сейчас своеобразное поведение Сергея Андреевича действовало мне на нервы. После некоторых колебаний я вернулся к себе в купе. Танцовщик лежал, свесив с кровати руки, словно изображая мертвого лебедя. Мне пришлось преодолеть это препятствие, чтобы добраться до своей постели. Я ненадолго оставил свет включенным и начал читать старый номер журнала «Флайт»[58], который раздобыл для меня капитан Браун. Самая большая статья была посвящена экспериментам Кертисса[59] с гидропланами в Америке. Мысль о судне, способном путешествовать по воздуху, земле и морю, уже приходила мне в голову. В тени медленно раскачивавшегося в такт движению поезда тела Сергея Андреевича я уснул, воображая гигантское транспортное средство, отчасти – воздушный корабль, отчасти – самолет, локомотив, океанский лайнер. Размером с «Титаник», оно пролетало бы над препятствиями, такими, как айсберги, и благодаря этому стало бы самым безопасным транспортным средством на свете. Я представил свое имя, написанное на борту корабля. Все, что мне требовалось, – несколько промышленников, наделенных воображением и верой; тогда я смогу изменить все представления о путешествиях. Поезда больше не будут останавливаться из-за снежных заносов, а движение – зависеть от состояния путей, погоды и рабочих с лопатами. По одному щелчку переключателя корабль сможет подняться в небо. А может, создать пушку, стреляющую горячим воздухом, чтобы растапливать снег перед поездом? Старомодные снегоочистители не очень эффективны.
Движение поездов в России в те дни не слишком зависело от погоды, но война повлияла на многое. Или, точнее, на мой взгляд, ею оправдывали беспорядки; позднее таким же оправданием стала революция. Теперь эти отговорки просто стали частью системы. Задержки поездов – преднамеренны. Пятилетний план предполагает, что рельсы должны ржаветь по причине редкого использования. И если читатели станут удивляться, почему все идеи, о которых я мечтал полвека назад, до сих пор не воплощены в жизнь, – пусть обвиняют в этом не изобретателей, а дураков, слишком ленивых, лишенных воображения бюрократов, которые смешивали политику и науку и вместо разработки, например, воздушных кораблей типа «Цеппелин», или удобных летательных аппаратов, или скоростных монорельсов, тратили силы на бесполезную экономию. Я иногда думаю, что Икар упал просто потому, что кто-то подсунул ему некачественный воск.
Поезд к утру немного продвинулся вперед. На завтрак Сергей Андреевич выпил лишь чашку кофе, а затем вернулся в купе, когда в ресторане отказались подавать водку. Я решил, что он собрался принять кокаин. Марья Варворовна бросила в мою сторону долгий заговорщицкий взгляд, который меня очень порадовал. Она сидела через несколько столов от меня, рядом со своей чопорной нянькой: эта женщина носила шотландку так, как будто отправлялась на битву в Каллоден[60]. Ее наряд был настолько ярким, что сам по себе мог стать оружием. Я подумал, что люди очень радовались, когда она надевала обычную уличную одежду, цветом напоминавшую линкор. У няни был длинный красный нос, редкие рыжие волосы, и даже глаза ее казались красными. Хорошо, что Марья Варворовна решила скрыть нашу предшествующую ночную встречу. Если б нянька приблизилась ко мне, я нырнул бы в сугроб, лишь бы не вступать в борьбу с таким отвратительным существом. Даже Марья оказалась одета в клетчатое платье, хотя и менее вульгарной расцветки. Эта ткань, как я позже узнал, именовалась «Роял Стюарт». Только специальным указом человеку нешотландского происхождения дозволялось носить подобный наряд. Нянька, как мне теперь известно, носила цвета своего клана – Бьюкененов. Правда, эта расцветка подчеркивала желтоватый, болезненный оттенок ее кожи.
Я никогда не разделял романтической привязанности славян к шотландцам. Эта болезненная склонность проявлялась у многих европейцев. Помню, как гораздо позже повстречал итальянца, владевшего рыбной лавкой в Холборне, – он был настолько увлечен шотландцами, что держал у себя под кроватью полное снаряжение горца на протяжении всей Второй мировой. Когда британцы окружили его гарнизон, он просто переоделся и, прихватив волынку, присоединился к английскому отряду, в котором его приняли, учитывая необычный акцент, за отставшего от Хайлендского полка. Его в конечном счете репатриировали в Англию, где он открыл свое дело, назвав магазин «Катти Сарк»[61], что в переводе с гэльского означает «рубашонка».
Но в тот момент я находился очень далеко от рыбных магазинов – сидел в роскошном, земляничного цвета вагоне-ресторане экспресса Киев-Санкт-Петербург и объедался восхитительными круассанами, мармеладом, абрикосовым джемом, сырами, холодным мясом, вареными яйцами, чувствуя на себе пристальный восхищенный взгляд очаровательной девушки, в котором читалось обещание сексуальных отношений, мне уже необходимых.
Я вспомнил, что нужно раздобыть адрес Сергея. Познакомившись с его друзьями, я бы мог узнать, где продают кокаин, а также приобщиться к богемной жизни. Кокаин, как сказал мне однажды Шура, в столице был намного дороже. Большую часть наркотиков привозили из Одессы.
Поезд прополз вперед еще немного и снова остановился. На сей раз мы ждали на запасном пути, пока мимо проходил длинный военный состав. Этот поезд, покрытый защитного цвета краской, состоял из бронированных вагонов; огромные стальные листы защищали локомотив. Над поездом развевались разноцветные флаги; на крыше находились места для пулеметчиков. На плоских вагонетках стояли орудия, защищенные мешками с песком; артиллерию охраняли озябшие солдаты в шинелях и теплых шапках, им было трудно держать длинные винтовки из-за огромных теплых рукавиц. Пассажиры жестами и криками приветствовали невозмутимых солдат, не обращавших на шум никакого внимания.
– Едут в сторону Западного фронта, – сказал молодой капитан своей очаровательной жене. – Вот что мы посылаем бошам. Все будет кончено через несколько недель.
Эти новости меня обрадовали. Я сообщил их Сереже, который лежал в купе, полностью одетый и все равно дрожавший. Он жаловался на холод.
– Я все равно не смогу приехать вовремя. Мне многие завидуют. И кому-то другому отдадут мои лучшие роли. Это станет концом моей карьеры. Ты не знаешь, как трудно сделать себе имя в балете, Дима, особенно в России. За границей гораздо легче, там конкурентов почти нет.
– Отправляйся в Париж, – посоветовал я, – и удиви их всех.
Он как-то неестественно мне улыбнулся.
– Я лучше останусь в Питере.
– Наверное, все поезда опоздают, – сказал я. – Судя по всему, большая часть труппы застряла где-нибудь неподалеку от Киева, и мы их обгоним. Такое не раз случалось.
Сергей назвал меня милым, сказал, что у меня доброе сердце и он благодарен мне за все. Я счел, что настало время воспользоваться возможностью и попросить у него адрес. Однако танцор дал мне адрес своего друга, Николая Федоровича Петрова, так как еще не нашел постоянного жилья в городе. Если же что-то случится и мне срочно понадобится с ним связаться – он всегда будет рад видеть меня в «Фолине». Он надеялся, что труппа весной отправится в Америку. Сергей Андреевич молился, чтобы Америка не ввязалась в войну, – иначе будет абсолютно некуда поехать.
– По крайней мере, в военное время люди рады развлечениям. Говорят, в Питере за последние два месяца открылось невероятное количество театров и кабаре. Раньше этот город был очень неприветлив, в отличие от Москвы. Я люблю Питер. Это единственное цивилизованное место во всей стране. Но даже теперь он не очень дружелюбен.
Услышанное меня встревожило. Я всегда подозревал, что жителям Санкт-Петербурга свойственно тевтонское высокомерие.
Когда мы наконец прибыли на станцию, она показалась мне серой, задымленной и какой-то безликой. Вокзал был слишком большим.
Сергей спешил покинуть поезд и отправиться на поиски труппы, чтобы сохранить свое положение в театре. Он расцеловал меня в обе щеки и потащил свой багаж по проходу, а старые дамы и генералы ворчали на него. Я обрадовался, что он ушел в такой спешке, поскольку мне досталась его табакерка, брошенная на кровати. Он легко сумел бы наполнить ее. Но мне следовало подождать… Я верну табакерку лишь после того, как использую ее содержимое.
Мое первое впечатление от благородного города, созданного основателем современной России, Петром Великим, оказалось неблагоприятным. Петербург напоминал мавзолей. Вокзал был переполнен, здесь бродило множество людей в форме, но явно не хватало веселой суматохи, царившей на украинских вокзалах. Попадалось сравнительно мало лоточников, носильщики казались резвее и раболепнее тех, которых я видел раньше. Мне с легкостью удалось воспользоваться услугами одного из них. Выяснилось, что снаружи ожидает множество извозчиков, а также моторных экипажей, так и притягивавших к себе, – мне ни разу не доводилось кататься на таких. Но я не сомневался, что стоили они гораздо дороже извозчиков.
Улицы столицы выглядели необыкновенно широкими, но при этом практически безжизненными. Люди как будто уменьшались здесь. Возможно, вся жизнь была сосредоточена в рабочих окраинах. В некотором смысле это место напоминало Вашингтон или Канберру, искусственные города, переполненные чувством самодовольства. Двуглавых орлов я видел повсюду. Портреты царя Николая и других членов царской семьи также висели в самых разных местах. Весь город как будто состоял из сплошных рядов вытянутых в длину царских дворцов. Казалось, здесь нельзя было даже повысить голос – разве что для того, чтобы обругать слугу.
Меня удивило то, как относились к носильщикам, извозчикам и прочим. Резкие приказы разносились в холодном воздухе, вещи загружались в экипажи, лошади резко срывались с места. Все транспортные средства в Петербурге мчались с невероятной скоростью, как будто участвовали в гонке. Трамваи и автомобили были, похоже, самыми лучшими из всех. Они двигались почти беззвучно, но мне пришлось повторить извозчику адрес Грина и Гранмэна, агентов моего дяди, несколько раз, прежде чем он расслышал меня, – частично из-за огромной меховой шапки, к тому же прикрытой поднятым алым воротником пальто, частично – из-за моего мягкого южного акцента, который был ему незнаком. Щелкнул кнут, лошадь рванула вперед, и мы понеслись мимо высоких зданий, в которых, казалось, не было людей – только лучи яркого электрического света.
Меня сильно впечатлила и ширина улиц, и классическая красота зданий. Нашу столицу называли Северной Венецией из-за рек и каналов, разделяющих улицы; дворцы и общественные здания, гостиницы и казармы располагались таким образом, чтобы подчеркнуть великолепие. Одессу нельзя было сравнить с этим городом – ни по размеру, ни по размаху; она казалась маленькой, удобной и уютно провинциальной. Я сожалел о ссоре с Шурой и о том, что не смог остаться в Одессе. Я чувствовал себя каким-то мужланом. Если Санкт-Петербург так действовал на всех, за исключением, возможно, местных аристократов, то не было ничего удивительного в том, что город стал рассадником революции. Такие места рождают не просто зависть, но и чувство неловкости. И люди, чувствующие себя униженными, начинают действовать агрессивно. Здесь присутствовало нечто сумрачное и надменное, высокомерное. Небо казалось слишком высоким. Я смог понять наконец, как создавалась традиционная русская литература, почему авторы веселых историй становились меланхоликами, едва оказавшись в центре здешней культурной жизни.
Экипаж остановился перед высоким серым зданием. Надменный швейцар шагнул вперед, чтобы взять мои вещи и помочь мне спуститься. Я заплатил извозчику и добавил немного на чай. Швейцар был облачен в синюю с золотом ливрею. Я привык к обилию форменных мундиров, которые в России носили почти все; но никогда раньше не видел их в таком количестве. Я попросил швейцара присмотреть за моим багажом и вызвал электрический подъемник, чтобы добраться до третьего этажа, где размещалась контора Грина и Гранмэна.
Я постучал в стеклянную дверь. За ней зашевелились чьи-то тени. Последовала пауза. Одна тень приблизилась. Дверь отворили. Высокий светловолосый мужчина стоял, склонившись надо мной. Это был один из самых худых людей, которых я встречал. Его волосы закрывали лицо и почти достигали длинных белых усов, которые переходили в свою очередь в бородку, в те дни называвшуюся голландской; а борода естественным образом сливалась с воротником и рубашкой. Мужчина говорил на хорошем русском языке, но сильно шепелявил – я принял это за английский акцент. Он спросил, чем может быть полезен.
Я назвал имя дяди и понял, что меня ждали. Мужчина вздохнул с облегчением и проводил меня внутрь. Мы миновали две конторы, где машинистки и служащие напряженно работали за маленькими деревянными столами, и оказались у полированной дубовой двери. Он постучал, затем произнес:
– Мистер Грин?
– Войдите, – откликнулся мистер Грин по-английски.
Когда мы вошли, мистер Грин направлялся от книжного шкафа к внушительных размеров столу, украшенному вставками зеленой кожи. Он опустился в большое кресло, приоткрыл пухлый рот и произнес по-русски:
– Dobrii dehn!
Я ответил:
– Zdravstvyiteh!
Он приподнял темные брови и, обратившись к шепелявому светловолосому джентльмену, спросил:
– Мальчик говорит по-английски?
– Немного, – ответил я.
Мистер Грин улыбнулся и погладил рукой подбородок.
– Хорошо. А по-французски? По-немецки?
– Немного.
– А на идиш?
– Конечно, нет!
Кто-то еще мог бы пожелать изучить иврит, но никак не эту уродливую смесь худшего, что есть во всех языках. Кроме того, кому это могло понадобиться в Петербурге, откуда евреи были практически полностью изгнаны?
Он засмеялся:
– Хоть немного?
– Несколько слов, конечно, знаю. Куда же в Киеве без этого?
– И в Одессе.
– И в Одессе.
– Превосходно! – Мистер Грин казался удивленным и смущенным одновременно. Он взял серую папку. – И мы даем вам имя – Дмитрий Митрофанович Хрущев. Хорошее русское имя.
– Согласен, – отозвался я. – А этот человек на самом деле существует?
– А разве вы не существуете? – Мистер Грин глядел доброжелательно, но в то же время недоверчиво, как будто я был симпатичным зверьком, который в любой момент мог его укусить.
– Его место в политехническом…
– Он без труда получил его. С золотой-то медалью.
– Надеюсь, сэр, вы не думаете, что я слишком любопытен, просто интересно узнать что-нибудь еще. В конце концов, я, как предполагается, явился из Херсона, где мой отец служит священником. Я никогда не был в Херсоне. Мне очень мало известно о формальной стороне религии, моя мать – богобоязненная женщина, но она редко ходит в церковь.
– Православный священник. Вам повезло, трудно найти что-то более благопристойное, а?
– Я ценю благопристойность, сэр. Таинственность, однако, трудно объяснить. Мне же будут задавать вопросы.
– Конечно. Дмитрий Митрофанович получил домашнее образование под руководством отца. Он был болезненным ребенком. Непосредственно перед тем, как получить место в политехническом, юноша заболел. Грипп. В итоге несчастный парень слег с туберкулезом, понимаете? Священник, бедный человек, зашел в тупик. Друзья вашего дяди в Херсоне предложили ссуду, чтобы отправить мальчика в Швейцарию, но сделали гораздо больше. Они оплатили поездку в Швейцарию, в превосходный санаторий, где его вылечили. Хрущев продолжит обучение в Люцерне под вашим именем. Вы приехали под его именем в Санкт-Петербург. Все довольны, и каждый получает хороший шанс в жизни.
– Это кажется очень сложным, – заметил я, – и дорогим способом. В конце концов, не думаю, что стою…
– Кажется, ваш дядя в этом не сомневается. Вы потом сможете ему помочь. Вы говорите на разных языках, быстро усваиваете науки, красивы, обаятельны, представительны, умеете держать себя в обществе – прямо настоящий царевич!
Мне было приятно.
– Но гораздо здоровее, – добавил мистер Грин, приподняв руки, – слава богу!
– Где будет жить Дмитрий Митрофанович? – спросил я.
– Мы думали, что поближе к политехническому. Но оттуда очень далеко до центра, а было бы удобно, если бы мы могли время от времени встречаться. Так что мы подыскали вам жилье недалеко от Нюстадтской. Это очень удобно, недалеко до парового трамвая, Финляндского вокзала и так далее. Трамвай идет прямо до политехнического. Какой адрес, Паррот?
– Ломанский переулок, дом одиннадцать, – сказал светловолосый Паррот. Это звучало превосходно. – Мы немедленно отвезем вас туда.
Я представил, как толстый мистер Грин и тонкий мистер Паррот ведут меня по улице, каждый из них несет один из моих чемоданов. Но в данном случае «мы» означало одного из сотрудников фирмы.
– Проследите за этим, Паррот?
– Да, сэр.
– Занятия начинаются через четыре дня? – спросил я.
– Да, так что постарайтесь за это время успеть как можно больше.
– Спасибо, сэр.
– Мистер Паррот покажет, где останавливается трамвай, и сообщит, с кем из профессоров нужно встретиться. Насколько я знаю, предполагается какой-то устный вступительный экзамен. Это формальность, мы говорили с профессором. Не будет никаких трудностей. Как его зовут, Паррот?
– Доктор Мазнев, сэр.
– Мы ему угодили?
– Да, сэр. Его сын уехал сегодня днем.
– Значит, все улажено. Доктор Мазнев будет вам полезен, мой мальчик, вот увидите. – Мистер Грин расплылся в улыбке и погладил меня по голове. Эти загадочные слова привели меня в замешательство. Влияние моего дяди оказалось очень значительным. У него повсюду имелись связи.
Я по праву мог рассчитывать на золотую медаль и лишился ее только из-за войны и отъезда герра Лустгартена. Я обрадовался, узнав, что получил заслуженную награду. Дядя Сеня оказался большим специалистом по восстановлению прав. Для меня стало большим облегчением то, что профессор будет расположен ко мне. Санкт-Петербург больше не казался таким угрожающим, как прежде.
Мистер Грин протянул мне конверт, в котором лежало десять рублей. Я буду получать пособие ежемесячно, но мне следует стать бережливым. Плата за проезд в политехнический составляла двадцать копеек в день, туда и обратно. Возможно, появится шанс увеличить пособие в будущем. Я поблагодарил мистера Грина, положил деньги в карман рядом с Сережиной табакеркой и обменялся рукопожатием с хозяином конторы, потом спустился на первый этаж вслед за мистером Парротом, уже одетым в темнобордовое, отделанное мехом пальто и цилиндр. Здесь мне вернули вещи, и швейцар вызвал для нас экипаж. Шел снег. Верх экипажа был поднят. Уже стемнело, но эта часть города ярко освещалась. Я снова заметил, что почти все на улице, гражданские или военные, носили мундиры. Мы преодолели длинный мост через внушающую ужас Большую Неву, покрытую льдом. К моему удивлению, вдалеке я увидел трамвай, очевидно мчавшийся по поверхности реки. Мистер Паррот сообщил, что Нева промерзла настолько, что стало возможным проложить рельсы прямо по льду.
Район, в который мы попали, показался мне гораздо более людным и привычным. Думаю, его можно было бы назвать бедным. Меня окружили простые люди, газовые фонари, лавки с открытыми витринами, переполненные жилые дома, лотки с едой, одеждой, посудой, журналами, запахи еды, звуки музыки, крики детей, ссоры и смех. Здесь попадались темные лестницы, переулки, полуголодные собаки. Я разволновался – мне еще не доводилось бывать в подобном месте: однако улица, на которую мы выехали, казалась довольно тихой; попав сюда, я почувствовал себя лучше.
Санкт-Петербург был не самым уютным городом, и мне не хотелось оставаться здесь навсегда. Пропасть между классами в столице стала просто огромной. Даже в Киеве, где встречалось много снобов, где беднякам не находилось места в парках или на некоторых улицах, все выглядело не так плохо. Мне требовалась уверенность в собственных силах и даже немного храбрости, которую следовало искать в украденной табакерке.
В Петербурге я понял природу богатства и бедности. Мало того, что это был город крайностей; здесь царили восточный упадок, жестокость, бестолковая власть. Я понял, почему представители среднего класса так не любили царя Николая. Двор подчинялся грубому, безумному сибирскому монаху, впоследствии по-средневековому хладнокровно убитому группой аристократов. Они отравили его, застрелили и в конце концов столкнули тело под лед Невы, чтобы не сомневаться в его смерти. От царского двора до самого захудалого переулка – вся столица была испорчена суевериями. Продавцы амулетов, оккультисты, медиумы всех сортов процветали. Их предсказания занимали целые полосы в самых уважаемых газетах. И все это в двадцатом столетии, когда телефоны, автомобили, беспроводная связь и самолеты уже использовались повсеместно.
Жестокость большевиков была жестокостью рабов. Они не имели ничего общего с цивилизованными европейцами. Они были дикарями, в руки которых попало самое страшное оружие и самые сложные средства сообщения. Сам же царь и весь его двор, вероятно, оказались более цивилизованными; по крайней мере, они могли предчувствовать свою судьбу. Конечно, я обвиняю во всем советников царя. Не забывайте: в большинстве своем эти люди были иностранцами.
Глава шестая
Форма, которую мне полагалось носить в институте, была не слишком красивой: всего лишь простой студенческий сюртук из темно-серой саржи с серебряными пуговицами и фуражка с кокардой политехнического. Эта одежда показалась мне очень практичной, ведь мой ограниченный гардероб останется в целости и сохранности, и никто не догадается, что я беден. Большинство мальчиков, учившихся в институте, располагали ограниченными средствами; сыновья богатых людей получали образование в различных военных академиях, где преподавались точные науки и инженерное дело, или в самой Академии наук. Их мундиры были роскошными, с золотыми пуговицами и галунами. Но все равно у нас имелась и летняя, и зимняя форма: пальто, предписанные по уставу перчатки, ботинки, шапки и так далее. Всем этим меня на следующий день после приезда обеспечил портной, которого мне порекомендовали господа Грин и Гранмэн. Мистер Паррот в тот сумрачный снежный день проводил меня на задворки Латинского квартала, где располагалось огромное ателье.
Мне предстояло проживать в одной из комнат дома, принадлежавшего обычной русской женщине средних лет, доброй, немного глупой, любившей посплетничать, горячо осуждавшей радикалов (она даже не одобряла признания царем демократической Думы и радовалась недавнему сокращению полномочий этого органа). Эта дама не могла понять, в чем смысл изучения инженерного дела, ненавидела автомобили, трамваи, поезда, телефоны и была не вполне уверена, следует ли доверять пароходам: как и многие люди, проживавшие поблизости от Невы, она думала, что их дым вредит легким, несмотря на то что кашляла только зимой, когда корабли не могли плавать. Находившийся поблизости Финляндский вокзал, конечная остановка парового трамвая и различные фабрики также давали ей основания для тревоги. Через пару часов после моего прибытия хозяйка дома спросила, как я со всем этим разберусь. Она была готова обвинить меня в даже том, что идет война. У меня сложилось впечатление, что если бы только что изобрели колесо или открыли огонь, эта женщина им тоже воспротивилась бы. При всем при том я почти сразу же проникся к ней самыми теплыми чувствами.
Ее дом был одним из тех невыразительных петербургских зданий с плоскими крышами, которые стояли чуть в стороне от тротуара, зданий с узкими внутренними двориками и комнатами одинакового размера. Моя комната располагалась на третьем этаже и оказалась намного больше моей одесской спальни. В ней находились небольшая печь, умывальник, большая удобная кровать, которую можно было придвинуть к стене и использовать днем как диван, стол, отделенный шторами альков для переодевания и все прочее. Уборная находилась этажом ниже. Я жил под одной крышей с хозяйкой, двумя ее дочками, горничной и четырьмя другими жильцами, мелкими чиновниками. Мы ели за общим столом на первом этаже. Пища, как мне показалось, была грубой и, по сравнению с украинской, неудобоваримой, но при этом достаточно здоровой. Хозяйка дома гордилась тем, что предоставляет жильцам все самое лучшее. Поскольку продолжалась война и дефицит становился все более заметным, нам предоставили выбор: платить чуть более высокую арендную плату и получать прежнюю качественную еду или оставить аренду на том же уровне и получать меньшие порции. Попробовав тушеную конину в тех заведениях, в которых питались студенты, я при любой возможности старался поесть у мадам Зиновьевой (она не была родственницей печально известного большевика).
Кроме того, что хозяйка дома носила парик и густо красилась, чтобы скрыть шрамы, оставшиеся после какой-то болезни, в ней не было ничего примечательного. Совершенно обычными оказались и ее дочери, Ольга и Вера. Они посещали близлежащую школу и интересовались русской литературой – этот предмет никогда не имел для меня особенного значения. Они вели бесконечные романтические беседы о Толстом, Достоевском, Башкатцевой[62] и о поэтах, из которых я могу вспомнить только Ахматову. Они читали роман за романом, поэму за поэмой и говорили о героях Лермонтова и Пушкина так, будто те на самом деле существовали. Меня эти девицы раздражали – они казались слишком наивными, к тому же в общении отличались исключительной откровенностью. Позже я узнал, что они считали меня надменным и гордым, похожим на одного героя популярного в те годы романа, и были немного влюблены в меня. Русские девушки всегда немного влюблены в кого-то. Но главный объект их привязанности – они сами. Я признаю, что если происходит падение русской девушки, то оно полное и окончательное. Подобное, однако, в реальной жизни случается гораздо реже, чем в беллетристике, где страстные существа навеки губят себя духовно и физически ради удовольствия какого-нибудь пьяного офицера или преступника с поэтическими наклонностями. Я никогда не слышал, чтобы русская девушка погубила себя, скажем, ради чиновника или контролера машиностроительного завода. Вряд ли имеет смысл завоевывать сердца таких особ – и уж точно не стоит тратить на это денег. Хотя получается довольно странно: выйдя замуж, они уделяют большое внимание доходам своих драгоценных мужей.
Я обрадовался, когда на следующее утро, в субботу, Ольга предложила показать мне город. К тому времени мои впечатления оставались неопределенными. Я видел несколько широких улиц, переулки, каналы и причалы, какие-то казенные здания, пару мостов, фабричные трубы. Я с огромным удовольствием проехал с Ольгой на трамвае по Александровскому мосту. Снега не было. Небо очистилось, стало бледно-голубым и отражалось на поверхности покрытой льдом реки.
Очень скоро мы оказались в месте, которое Ольга назвала лучшим в городе, – на Невском проспекте, главной улице Петербурга. Движение было таким же быстрым, как в наше время, но более пугающим. Мы вышли из трамвая на остановке посреди Невского. Ольга, спрятав руки в муфту, сказала, что нужно перейти улицу, чтобы осмотреть огромный пассаж на другой стороне. Под сенью колонн этого здания виднелись окна, полные блестящих товаров. Меня привлекло нечто иное – демонстрация новой механической игрушки; именно из-за этого я бросился на проспект и едва не был раздавлен мчащимися экипажами и автомобилями. Позади раздался свист, но я уже не мог остановиться, в панике промчался через дорогу и встал на противоположной стороне проспекта, переводя дух. Перчатка «синего архангела» (петербургского жандарма) коснулась моего плеча. Белая полицейская дубинка стукнула меня по руке. Огромный бородатый старик покачал головой, выражая неодобрение:
– Есть и менее заметные способы покончить жизнь самоубийством.
Подошла Ольга. Она объяснила полицейскому, что я только приехал в город. Он кивнул и пошел своей дорогой, а я приблизился к пассажу и остановился под навесом, глядя на медные паровые локомотивы, выставленные за стеклом. Ольга покачала головой, сказав, что мне повезло – жандарм был в хорошем настроении.
День выдался солнечным. Невский оказался не таким многолюдным, как я воображал. Здесь были только офицеры и дамы, проезжавшие мимо в экипажах. И в этом месте встречалось гораздо больше полицейских, чем в Киеве или Одессе. Ольга показала мне главные улицы и достопримечательности: большой Зимний дворец, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и прочие здания, которые по-прежнему упоминаются в путеводителях. Однако меня раздражали размеры всего вокруг – я чувствовал себя еще более незначительным. Казалось, что Петр намеренно строил свой город для богов, а не для людей. Мы видели знаменитые магазины «Фаберже» и «Братья Грачевы»[63], Марсово поле, где проводились парады и праздники, памятники и музеи в районе Спасской. Немногое из увиденного меня заинтересовало: я уделял больше внимания будущему, а не прошлому. В самом деле, город угнетал меня. Не потому, что представлял собой собрание грандиозных зданий, окруженных трущобами (это свойственно большинству столиц), в котором богатство и бедность противостояли друг другу столь же резко и грубо, как в романах Золя; дело в другом: это было искусственное место, у которого не имелось иного назначения, кроме управления остальной частью страны и прославления ее правителей. Как и Вашингтон, Питер оказался творением наивных идеалистов восемнадцатого столетия, подражавших модам, распространенным тогда во Франции и Англии. Оба города были названы в честь современных основателей наций, но не имели никаких природных географических преимуществ или выгод от расположения на главных торговых путях – такими преимуществами обладали Нью-Йорк и Москва. Что их отличало, так это всеобщая бездуховность. Единственное исключение – районы, которых вполне заслуженно стыдились жители городов: трущобы.
Все общественные здания были помпезными и неприветливыми. Они создавались наивными зодчими, от которых требовали соперничества с архитекторами Древней Греции, а те смогли возвести лишь здания вдвое большего размера. Оба города – и Питер, и Вашингтон – отличались скудостью деталей: они напоминали декорации для сказочного голливудского фильма; Вашингтон с его вишневыми рассветами, Петербург с его сиренью. Воплощение дурного вкуса нуворишей, эти города были построены, когда их создатели осознали ущербность, незрелость, даже варварство своих наций. В Вашингтоне внутренняя часть Капитолия украшена наивными картинами, насколько я понимаю, итальянских иммигрантов. В Петербурге подобная наивная живопись, в форме икон и сусальных портретов Романовых и их предшественников, заполняла все дворцы и соборы, возведенные на французский манер. Эти здания были слишком велики, а украшения – скверны. В обоих городах, кроме того, существовали стандартные проекты жилых домов; большей частью эти здания отличались изяществом – однако изысканные здания часто становились жуткими обиталищами для самых нищих! Неудивительно, что зависть привела к преступности, и угроза революции стала наиболее очевидной в том месте, которое находилось ближе всего к обиталищу верховной власти. Естественно, что богачи создают себе убежища вроде того, которое Говард Хьюз[64] построил высоко над улицами Лас-Вегаса. Существует мнение, что Лас-Вегас был не зловещим, циничным изобретением, созданным для того, чтобы вытянуть у американской публики побольше денег, а воплощением того, что мог построить разбогатевший итальянский крестьянин, дабы порадовать свою матушку. Таким образом, всеобщее веселье, азартные игры в окружении розово-золотых интерьеров отражали вкусы некоей процветающей мамаши какого-то гордого сына Сицилии.
Естественно, вкус петербургских дворян не был грубым, как мне поначалу казалось. Наши российские аристократы были одними из самых космополитичных в мире, они постоянно путешествовали в Париж и Берлин, в Швейцарию и не только. Многие из них были не славянского происхождения, носили немецкие, французские, скандинавские и даже британские фамилии. Из-за решительной антипатии царя евреи не могли пробиться ко двору, но там имелись армяне, поляки, грузины и представители многих других наций, все с русскими титулами. Они становились российскими подданными еще со времен Петра Великого. Это одновременно и усиливало, и ослабляло нашу империю. Перекупщики процветали. Крупнейшие торговые династии, промышленники, даже аристократы продолжали увеличивать свои состояния, поставляя военное снаряжение и зарабатывая на этом огромные деньги. Они в самом деле не верили, что немцы, австрийцы, а возможно, даже турки обманывают русских. Война была игрой, шансом продемонстрировать прекрасную форму, произвести впечатление на дам, совершить театральное самопожертвование (если говорить о женщинах) и восславить славянскую душу.
В первые несколько месяцев именно это настроение, как мне показалось, преобладало в Санкт-Петербурге. Поскольку наша армия оказалась плохо подготовлена к войне, частично из-за спекуляций, частично из-за недостатка внимания к деталям, типичного для романтичных русских, и терпела поражения снова и снова (точно так же десятью годами ранее нас разбивали на море японцы), эйфория сменилась меланхолией. Только профессиональные военные пытались спасти то, что осталось от русской славы. Но было слишком поздно.
Эмигрировав в Германию после Гражданской войны, Краснов, гетман донских казаков, рассказал в своих книгах, как упадок, уже воцарившийся в столице, распространился по всей России. Когда начались мятежи, больше всего пострадали, как всегда, мелкие землевладельцы. Люди, которые несли ответственность за происходящее, сбежали. Только бедный, ничего не подозревающий царь, его глупая, суеверная жена и невинные дети заплатили в полной мере за свое недомыслие. Будь царь сильным, а двор более достойным, – и вообще никакой революции не случилось бы, объяснял Краснов. Мы могли двигаться к великой славе и вместе с Америкой стать предметом зависти для всего мира. Я говорю это, чтобы дать общую картину Санкт-Петербурга того времени и показать, что не только Ленин, Троцкий и им подобные протестовали против тогдашних методов управления страной. Едва ли нашелся бы в столице человек, который сомневался в том, что многое нужно менять. Царь был не самым популярным из наших правителей. Его иностранка-жена продолжала флиртовать с сибирским starets, даже не настоящим священником (их переписку обнародовали), и все знали, что она – конченая наркоманка, не способная прожить без дозы морфия. Во влиятельных семействах начались разговоры о сложении полномочий, избрании более сильного, более популярного царя, способного поддержать трон, который Николай, по правде говоря, никогда не хотел занимать.
Здесь следует добавить, что привычка к употреблению кокаина в те времена широко распространилась в России, Вене, Берлине и в других городах. Когда большевики взяли бразды правления (как будто схватились за вожжи безумной лошади, на полном скаку мчащейся к утесу), они все принимали кокаин – и мужчины, и женщины. Ни один комиссар не обходился без дозы. Вот из-за чего сложилось отрицательное представление об этой привычке. Все высокопоставленные представители Третьего Рейха, например, прекрасно знали о возможностях, которые дают самые обычные растения – какао, например. Иногда мне кажется, что вся история двадцатого столетия – это история привыкания к наркотикам и злоупотребления ими. Наркотики рождали энергию, в свою очередь питавшую большинство переворотов (не все из них оказались вредными), с которыми я сталкивался в своей жизни. Я сам на какое-то время стал реже употреблять кокаин, прежде всего из-за рутины, в которую погрузился на несколько месяцев.
В понедельник я отправился на встречу со своим профессором в Политехническом институте. Я решил проехать на паровом трамвае от конечной остановки – клиники Виллие[65].
Моя первая поездка на паровом трамвае оказалась волнующим опытом. Я пришел на конечную остановку рано утром. Трамваи напоминали маленькие поезда с единственным вагоном, бежавшим по рельсам вслед за локомотивом, по форме напоминавшим ящик (возможно, то был «Хеншель» или английский «Грин»[66]). Эти локомотивы и теперь еще можно увидеть на узкоколейках. Летом использовались открытые вагоны, но зимой пускали только закрытые. В самом локомотиве могли разместиться примерно десять пассажиров. Зимой эти места были самыми желанными. В вагонах отопление отсутствовало. Разумеется, во время первого путешествия в институт на трамвае номер 2 я ехал в конце вагона, близко к двери. В новой форме и пальто мне было сравнительно тепло. Мы долго двигались по заводским пригородам. На туманных улицах виднелось множество закутанных фигур, которые направлялись к фабрикам, похожим на известную Путиловскую. Потом мы очутились в какой-то сельской местности, где голые деревья и деревянные заборы казались вкопанными как попало в грязный снег и пахло мочой и нефтью; затем мы миновали пригороды, где жили люди среднего достатка, и в конце концов, примерно через три четверти часа, достигли зданий политехнического. Это были ничем не примечательные, типовые постройки; мне они показались неприветливыми. Поблизости я заметил нескольких студентов. Я спросил, как пройти в кабинет доктора Мазнева; мне указали путь через множество холодных коридоров, мимо череды запертых дверей… Наконец я обнаружил ту, на которой висела табличка со знакомой фамилией. Я постучал. Меня пригласили войти, и я оказался в скудно обставленной комнате темно-зеленого цвета. Я снял шапку, подумав, не стоит ли мне отдать честь, потому что профессор был одет в великолепную военно-морскую форму – такие носили отставные военные, занимавшие должности в гражданских школах. Мы с профессором обменялись рукопожатием. Он казался грустным и усталым и нисколько не походил на людоеда, которого я ожидал увидеть. Его волосы были редкими и седыми; усы, насквозь пропитанные табаком, свисали книзу. Профессор стоял у маленького окна, выходившего во внутренний двор. Он разглядывал что-то за латунной решеткой, закрывавшей нижнюю часть окна, но я был слишком мал ростом, чтобы понять, на что он уставился.
– Вы Дмитрий Митрофанович Хрущев?
– Да, ваша честь.
– Вы собираетесь учиться здесь, под моим руководством? – Его голос был уставшим.
Без всяких оснований я проникся сочувствием к этому человеку.
– Надеюсь на это, ваша честь.
– Вы кажетесь воспитанным юношей.
– Я хочу стать выдающимся инженером, ваша честь. Я счастлив, что получил возможность…
Он медленно обернулся, его грустные глаза теперь смотрели прямо на меня.
– Вы в самом деле хотите учиться здесь?
– Да, я стремился к этому всю жизнь.
Возможно, он привык беседовать со студентами, которые не могли поступить в более престижные учебные заведения и потому считали политехнический последним прибежищем. Он немного повеселел, хотя казалось очевидным, что не был жизнерадостным человеком.
– Хорошо, хорошо. – Профессор сел за стол. Я остался стоять, сжимая шапку в руке. – Это, по крайней мере, очень утешает. Я удивлен не меньше вашего.
– Удивлены, ваша честь?
– Вы попали сюда при не совсем обычных обстоятельствах, прибыли по моей рекомендации. При других обстоятельствах вы бы никогда не получили этого места.
– Полагаю, что я хорошо подготовлен, ваша честь.
– Это похвально. И даже больше, чем я ожидал. Желаете, чтобы я проэкзаменовал вас?
– Я готов, профессор.
Он достал из ящика стола лист бумаги и, глядя на него, начал задавать вопросы о различных научных и технических принципах. Я с легкостью отвечал. В конце экзамена у него на лице появилась слабая улыбка.
– Вы правы, Хрущев. Вы идеально подходите для этого места.
Я не понимал, что его удивляло. Профессор пожал плечами.
– Поскольку вы оказались здесь, у вас есть возможность очень многого добиться. Но ради чего?
– Я хочу стать великим инженером, профессор. Работать во имя славы и процветания России.
– Вы идеалист?
– Не радикальный, ваша честь.
– Это тоже очень радует. Мой сын… Ну, вам сказали об этом, да?
– Нет, ваша честь.
– Ну что ж, это конфиденциально. Между мистером Грином и мной. Мой сын не отдавал себе отчета в том, что делает. Я благодарен мистеру Грину за помощь… Он был очень любезен. Я рад оказать ему ответную услугу.
– У вашего сына неприятности, профессор?
– Он путешествует за границей, – вздохнул доктор Мазнев и потер свои усы. – В этом институте есть горячие головы, Хрущев, старайтесь держаться от них подальше.
– Постараюсь, ваша честь.
– Мы все находимся под подозрением. Особенно во время войны. Все не так плохо, как в девятьсот пятом или девятьсот шестом, но все равно плохо. Людей убивают, Хрущев.
– Я знаю, ваша честь.
– И ссылают.
– Я, ваша честь, испытываю отвращение к политике. Единственная газета, которую я читал, – «Русское слово»[67].
Последовал еще более глубокий вздох.
– Читайте ее и впредь и верьте написанному, Хрущев. Все, что вам нужно, – это учебники, не так ли?
– Согласен, ваша честь.
Мы пожали друг другу руки. Профессор сказал, что мы встретимся на занятиях завтра. Я сел на паровой трамвай и отправился домой, за Финляндский вокзал. От однокашников я услышал, что доктор Мазнев в юности был радикалом. Сын пошел по его стопам. Агенты моего дяди, вероятно, подкупили чиновников, чтобы заменить тюремный срок высылкой за границу. Таким образом мне нашли научного руководителя в институте.
Дядя Сеня и его партнеры занимались филантропией гораздо серьезнее, чем многие благотворительные общества. Весьма отрадно, что не все тайные братства – революционеры, «вольные каменщики» или сионисты. Из духовных учений армянина Гурджиева, русской Блаватской или даже австрийца, еврея-христианина Штайнера мы узнаем о Белом братстве: группах великих, разумных мужчин и женщин, хранящих мудрость веков, пытающихся помочь человечеству, не вмешиваясь в ход истории. Некоторое время я был членом Теософского общества, потом антропософом и, наконец, участником группы Гурджиева, к которой ненадолго присоединился в Лондоне. Естественно, я не могу здесь поведать о том, что узнал. Это стало бы нарушением всех законов. Я совсем недавно видел человека, который попрал законы гурджиевского учения. Он подвергся гипнозу в телефонной будке и не проснулся (мы провели в одной больничной палате несколько недель – должно быть, произошла типичная административная ошибка, и меня поместили со слабоумными пациентами). Я не стану заходить слишком далеко и предполагать, что дядя Сеня принадлежал к этому Белому братству, но он создал часть международного сообщества бизнесменов, которых я называю «людьми доброй воли». Это сообщество существовало во всех цивилизованных странах, и именно благодаря им я и получил высшее образование, пускай и под чужим именем – возможно, это связано с секретностью их деятельности.
Я уже привык играть роль Хрущева; в те времена я так легко приспосабливался, что иногда почти забывал свое настоящее имя. Вскоре мадам Зиновьева и ее дочери стали звать меня Димой, выражая таким образом свое хорошее отношение. Я не возражал, когда мы оставались одни, но меня немного смущало, когда при этом присутствовали другие жильцы. Я привык держать дистанцию – и дома, и в институте. Адрес Марьи Варворовны я сохранил, но не мог найти времени для визита.
Регулярные поездки на трамвае оставались моим единственным развлечением. В это время я читал романы, как правило, Герберта Уэллса или Джека Лондона, дешевые красные книжки, изданные в Лондоне и продававшиеся в английском книжном магазине на Морской. Иногда, если очень везло, можно было купить подержанную книгу на одном из уличных лотков. Немало денег ушло на приобретение этой роскоши, но оно того стоило.
Иногда я также покупал книги на немецком и французском. Большинство лучших технических трудов были изданы в Германии, а самые хорошие книги по авиации выходили во Франции. Поэтому мои познания в языках незаметно улучшались – увы, я не мог ни с кем практиковаться в устной речи.
Целый год я вел безупречно унылую жизнь прилежного студента. Главными событиями становились редкие прогулки по Невскому проспекту, самой длинной и широкой улице из когда-либо виденных мной. Я заглядывал в окна больших магазинов, изучая великолепные образцы товаров, посещал крытые рынки, которые были исключительной особенностью российской жизни (эту идею использовали на Портобелло-роуд); в одном большом здании располагалось великое множество маленьких киосков и прилавков. Обычно я сопровождал Зиновьевых во время походов по магазинам; случалось, мы ходили в кино или театр, иногда – в маленькое кафе, где пили кофе или чай и ели пирожные по-венски[68].
Я почти не использовал кокаин из моих собственных запасов, не говоря уже о том, что оставался в табакерке, – она хранилась во льду на подоконнике, чтобы порошок сохранил эффективность. Учеба давалась мне сравнительно легко. Устные экзамены с доктором Мазневым превратились во что-то вроде дружеских бесед. Экзамены в России – почти всегда устные; вот почему мы так хорошо запоминаем разговоры и события. Профессор относился ко мне все доброжелательнее. Он понял, что я не только внимательный ученик, но и умный человек. Я очень мало общался с другими студентами. Большинству из них, казалось, я не нравился. Меня пару раз спросили, нет ли во мне чужой крови. Когда я сказал, что приехал с Украины, поинтересовались, не еврей ли я. Это меня сильно обидело и испугало. Евреям позволялось находиться за чертой оседлости лишь по специальному разрешению. У меня такого не имелось, потому что я в нем не нуждался. Я был настоящим славянином, до кончиков ногтей. И это злило немногочисленных студентов-евреев. К счастью, мне удалось избежать серьезных проблем: кое-кто из однокашников поддержал меня и помог поставить жидов на место.
Лицо мое было ничуть не темнее, чем у большинства окружающих. Старые дамы часто сравнивали меня с цесаревичем, бедным маленьким мальчиком, которого Распутин, по его утверждению, вылечил. Конечно, во мне не было ничего еврейского, за исключением последствия отцовского поступка – глупой операции ради здоровья. Но самые дурные слухи обычно распространяются с удивительной скоростью, и не всегда возможно их предотвратить, как бы уединенно ты не жил. В Германии, как и в Англии и Канаде, эта операция стала обычным делом, доктора зачастую даже рекомендовали ее. То же самое относилось и к Америке. Но, конечно, не к царской России!
Проклятие мертвого отца все еще преследует меня и будет сопровождать, полагаю, до самой могилы. Может, я обрету покой на еврейском кладбище в Голдерс-Грин. Это будет забавно. Раввины подпрыгнут, узнав, что язычник лежит рядом с ними. Но надеюсь получить настоящее православное отпевание. Я постараюсь как можно скорее побеседовать на эту тему с архиепископом Бэйсуотерской православной церкви, которую я посещаю всякий раз, когда позволяет здоровье. Они всегда так возвышенны, русские церковные службы – все в белом и золотом, запах ладана, люди стоят вокруг священника, когда он благословляет их; потом выносят иконы. Я отмечал важнейшие церковные праздники в Санкт-Петербурге вместе с Зиновьевыми. Впервые в жизни мне довелось испытать удивительное чувство единения и радости, знакомое истинно верующим. Как странно: люди, которые лучше всего постигли смысл поклонения Богу, сегодня изгнали Его из своей страны!
Мои отношения со сверстниками оставляли желать лучшего, но жизнь у Зиновьевых была спокойной. Я регулярно получал письма от Эсме, реже – от матери и капитана Брауна. Доктор Мазнев с восторженным интересом следил за моими успехами, и вскоре я стал его любимчиком. Поскольку я не мог ездить в Киев на каникулы, я проводил их в Петербурге, и доктор Мазнев позволял мне навещать его дома. Его квартира, хотя и выглядела темной и пустой, производила впечатление когда-то счастливого и богатого жилища. Здесь были книги по всем предметам, которые я изучал: физика, прикладная механика, электрическая и строительная техника, черчение, математика и так далее, и я мог брать их, как и книги по предметам, не связанным с моими занятиями, но также интересовавшим меня, – по архитектуре, географии и астрономии.
Лишь однажды доктор Мазнев задал мне вопрос о моем прошлом. Он предположил, что я стал Хрущевым из-за своего низкого происхождения. Я подтвердил, что моя семья небогата, что мать не могла оплатить обучение в известном институте или училище.
– А как ваш дядя связан с мистером Грином?
– Мистер Грин – его агент в столице. Мой дядя занимается торговлей.
Этого объяснения оказалось достаточно.
– Вы не могли получить необходимое разрешение на передвижение, так что пришлось воспользоваться… именем другого человека?
Я уверил профессора, что мой дядя не сомневается в том, что Дмитрий Хрущев не сможет занять положенное ему место в политехническом. Доктор Мазнев тактично приподнял руку и сказал, что мне больше ничего не следует говорить. Это было совершенно справедливо. Кроме того, я мало что смог бы добавить. После нашего разговора профессор начал уделять мне еще больше внимания, и, само собой разумеется, я почти тотчас же столкнулся с жестокостью и оскорблениями, которые терпел несколькими годами ранее, когда учился у герра Лустгартена.
Из-за этого я мало общался с другими студентами. В некотором отношении это было даже хорошо: многие из них увлекались самыми циничными и кровожадными радикальными идеями. Охранка часто появлялась в институте. Обычные фараоны тоже не сводили глаз с политехнического. Мне порой не хватало духа товарищества, которым я наслаждался в Одессе. В Петербурге, как мне показалось, было невозможно установить естественные товарищеские отношения. Я даже не хотел встречаться с Марьей Варворовной. Все мальчики моего возраста из модных военных училищ уже заводили любовниц – продавщиц и актрисок, которые только и мечтали отдаться джентльменам. Даже катки и танцевальные залы предназначались для узкого круга богачей. Санкт-Петербург казался городом, застроенным чередой замков, за стенами которого свободные люди предавались всевозможным порокам и удовольствиям. А тем временем далеко, в городских предместьях, как будто разбила лагерь огромная армия проклятых отщепенцев, которые угрожали России гораздо сильнее, чем какие-то пруссаки. В центре города были крепости, полные света, стекла, алмазов, здесь обитали прекрасные люди. На окраинах, среди огромных мрачных фабрик, из высоких труб которых вырывались кроваво-красные искры и клубы серного желтого дыма, среди грязных каналов, сирен, вопящих подобно погибшим душам, стояли крепости тьмы. Из них вытекали бесчисленные грязные толпы. А кого в этом винить? Прежде всего Думу. Этот нелепый орган власти подражал западным парламентам, но не смог укорениться на русской почве и пробудить доверие в русских сердцах. Дума стала подачкой революционерам. Этого нельзя было допускать. Она никогда не имела никакой власти, за исключением власти слов, – и злоупотребляла ею ежедневно. Дума задушила Россию словами. Она убедила нас начать войну. Она убедила нас сдаться. Она убедила нас устроить революцию. И все ее глашатаи попали в большевистские тюрьмы и были расстреляны – именно такого конца они все и заслуживали. Россия никогда не хотела демократии, она нуждалась в сильном лидере. В конечном счете, лишившись всего святого, Россия снова получила желаемое.
Во время пасхальных каникул, когда мы ходили в церковь, чтобы кричать «Христос воскресе!», обменивались крашеными яйцами, ели рыбу и клюкву, я решил отдохнуть от занятий и отправиться вместе с девицами Зиновьевыми и их приятелями на военный парад на Марсовом поле. Пока мы смотрели на кавалерию, гвардию, стрельцов и прочие старинные полки, шедшие строем с оружием в руках, под флагами и вымпелами, развевавшимися на первом теплом весеннем ветру, возможность того, что какой-то враг может нанести нам поражение, казалась нелепостью. Царь не присутствовал на этом параде, но его портрет возносился над полем, и все мы искренне приветствовали его и пели государственный гимн:
Боже, Царя храни! Сильный, державный, Царствуй на славу, на славу нам! Царствуй на страх врагам, Царь православный![69]Я стал довольно мрачным – думаю, оттого, что слишком много читал. Парад поднял мне настроение, и я повеселел – настолько, что согласился на той же неделе отправиться с Зиновьевыми и их ухажерами в театр, на знаменитый спектакль «Три сестры» по пьесе Чехова. Какая ошибка! Мне никогда в жизни не было так скучно.
Несмотря на войну, революционеры еще не собрались с силами. Евреи и масоны, саботажники и злоумышленники продолжали подстрекать честных людей к бунту. Казаки время от времени вынуждены были вмешиваться, впрочем, людей при этом пострадало не много. Отвращение к красным росло, поскольку новости с фронта становились все мрачнее. В институте стало появляться все больше «гороховых пальто» – представителей политической полиции. Я оставался вне подозрений. То, что я не пользовался популярностью у молодых радикалов, свидетельствовало в мою пользу. Доктора Мазнева, однако, часто допрашивали. Иногда после таких бесед он появлялся на занятиях бледным и чрезвычайно встревоженным.
В город прибывало все больше солдат: пехотные полки, военные поезда, артиллерийские дивизионы. Туда-сюда по вокзалу сновали повозки с огромными пушками. Газеты много писали о Киеве, которому угрожала опасность; все клялись, что немцы никогда не возьмут «мать городов наших». Война больше не была противостоянием одних союзников другим. Она стала патриотической, подобно войне с Наполеоном. Газетчики все чаще возвращались к этой теме. Поскольку немцы не взяли Киев, я не волновался и спокойно относился к военным новостям. Киеву никогда никто не навредит, и даже если немцы захватят его, моя мать и Эсме не пострадают. Много говорилось о насилии, распятиях на крестах, массовых убийствах и грабежах, учиняемых немецкими отрядами, но я не ожидал, что такое может произойти в Киеве. Немцы, насколько я знал, были порядочными, серьезными людьми. Не то чтобы меня совсем не тревожила мысль о захвате «матери городов русских» тевтонцами, но я помнил о том, что основатели города прибыли из Северной Европы. Лучше уж тевтонцы, чем турки или татары.
Настала петербургская весна. Ее приветствовало все население города, как будто Иисус сотворил чудо! Сверкающие зимние дни были единственным источником радости с октября по апрель. Но я, приехавший с юга, с трудом мог поверить, что унылая балтийская весна наполнила сердца горожан такой великой радостью. Пробираться по грязи и слякоти в поношенных ботинках, смотреть на маленькие зеленые бутоны, которые уже увядали, как бы намекая, что приближается лето, наблюдать за шествием футуристов в оранжевых цилиндрах и желтых сюртуках по центру Невского с плакатами, провозглашавшими смерть искусства, конец «великого невежества» и тому подобное, – это стало одним из самых больших разочарований в моей жизни. Я ожидал чего-то совершенно иного. На мой взгляд, Санкт-Петербург был прекраснее всего в тумане. Тогда все, кроме огромных зданий, скрывалось в тени, и деревья напоминали окаменевших многоруких марсиан, охранявших редких прохожих. Квартиры и конторы, окна которых выходили на проспекты, казались утесами, ровными, тихими и безжизненными, особенно по утрам. Вечерами желтое газовое освещение и электричество, включая разноцветные рекламные надписи, превращали каждое здание в пещеру, жители которой толпились вокруг своих очагов и замышляли вылазки во внешний мир. В этом самом искусственном из городов, предшественнике огромных жилых массивов и высотных псевдогородов современного мира, скука казалась повсеместной.
Во время войны процветали маленькие театры и кабаре; вандализм, жестокий террор и отвратительное современное искусство достигли пика. Революционная литература печаталась в подпольных типографиях, несмотря на то что полицейских и солдат становилось все больше. Они оказались такими же продажными, как и их начальники, их заставляли держаться в стороне спекулянты, красные жирные пальцы взяточников и страх смерти. Еврейские агитаторы знали, как примазаться к солдатам; а еврейские спекулянты были в курсе слабостей друзей, полицейских и политиков. Русских снова продали в рабство люди, которые по долгу службы должны были их защищать.
Что касается меня, я очень мало знал обо всем этом во время учебы. Мои занятия не прекращались даже во время летних каникул. Я с удовольствием учился у доктора Мазнева, который с радостью стал моим наставником и поклялся восстановить справедливость. Он, казалось, сосредоточил на мне весь свой идеализм. Я полагаю, что в итоге он нажил себе врагов среди учеников и коллег. Профессор поощрял меня во всех сферах обучения, научил думать самостоятельно, размышлять. Когда настало время ежегодных экзаменов, он сказал, что мне не следует их бояться, поскольку я со всем справлюсь. И я преодолел эти испытания (они в основном были устными). По словам доктора Мазнева, я закончил первый год обучения великолепно. Если я буду и дальше заниматься на том же уровне, то диплом мне обеспечен. Я стану квалифицированным инженером и смогу начать работать.
Студенты иногда посещали фабрики. Это было нечто вроде ознакомительных визитов. Мы видели литейные заводы: раскаленные докрасна тигели, реки жидкого металла, потных, темнокожих рабочих. Мы посещали локомотивные мастерские. Наблюдали, как изготавливаются переплетные машины и печатные станки, как ремонтируют автомобили. Большая часть подобных экскурсий не представляла для меня интереса. Я узнал гораздо больше от моего армянского наставника двумя годами ранее. В Киеве я просто работал, а не смотрел со стороны, как хмурые мужчины обменивались мнениями о господах рабочих. Студенты военных академий, считавшие себя элитой петербургской молодежи, называли нас «синим мясом». Мы, по их мнению, вообще не были джентльменами. Мы прекрасно понимали, что лучше не сталкиваться с ними. Мало того, что кадеты собирались большими группами; к ним гораздо лучше относились полицейские и солдаты, всегда принимавшие их сторону. У всех кадетов имелись превосходные связи, среди них встречалось немало князей и графов.
Я вернулся в Киев на рождественские каникулы и увидел, что Эсме повзрослела, а мать вполне поправилась. Она все еще не очень хорошо себя чувствовала; поэтому прачечная по-прежнему была сдана в аренду одной знакомой. Эсме теперь работала в ближайшей бакалейной лавке. Она надеялась, что я расскажу ей о Петрограде, как раньше рассказывал об Одессе, но мне пришлось признаться, что я вел скучную жизнь, наедине с книгами, и с помощью доктора Мазнева добился успеха. Моя подруга призналась, что очень рада.
Эсме стала очень женственной. Я спросил ее в шутку, есть ли у нее приятель. Она покраснела, ответив, что кое-кого ждет. Я пожелал ей удачи.
Каникулы быстро пролетели. Я отправился в Петроград в вагоне второго класса, вместе с еще одним студентом и несколькими младшими офицерами, бывшими кадетами, которые получили первые назначения и собирались выиграть войну. Они ликовали, потому что мы недавно одержали победу в Польше. Казалось, что немецкие захватчики отступают. Новости из Франции были печальными. Сотни тысяч людей погибли. Моему собрату, студенту, который учился в университете и потому чувствовал себя очень значительной персоной, казалось, что война будет продолжаться вечно, пока все вокруг не превратится в одно обширное поле битвы; жители Земли в конце концов погибнут от газовых атак или от шрапнели. Я не заинтересовался этим пораженческим разговором и присоединился к младшим офицерам, которые осуждали моего соседа за цинизм. Дело едва не дошло до драки. На некоторое время я покинул купе и попытался перекусить в ресторане, но еда там уже закончилась. Мне пришлось укрыться в уборной и съесть колбасу с картошкой, которыми мать снабдила меня в дорогу.
Из-за трудностей путешествия мне пришлось покинуть Киев в свой день рождения. Так что я отметил этот праздник, сидя на деревянном сиденье в уборной в холодном, медленном поезде, который подпрыгивал на каждой шпале, и поедая дешевую колбасу с полузамерзшей картошкой. Само собой разумеется, я был не единственным русским, который вспоминал о зиме 1916 года как о настоящем золотом веке!
Когда я вернулся в дом Зиновьевых, меня встретили хозяйка, вся в слезах, и ее радостно улыбающиеся дочери. Они покорили сердца молодых людей и теперь были официально обручены: старшая, Ольга, – с хлеботорговцем по фамилии Павлов, младшая, Вера, – с коммивояжером, представляющим «Компанию безалкогольных напитков и минеральных вод Грицкого». Таким образом, за один год они отказались от грез о Евгении Онегине и нашли себе спутников жизни, имеющих неплохой доход и виды на будущее. Чем занимались их мужья после 1917‑го, я не знаю. Возможно, первый, если ему повезло, мог остаться управляющим в государственном зерноуправлении с каким-нибудь уродливым названием вроде «Госзернупр» и продолжать обвешивать клиентов при первом удобном случае. Другой мог представлять управление Госминвод в Ленинграде и Новгородской области, подкрашивая все напитки красным. В том случае, если продавать стало бы нечего, он мог устроиться в информбюро Госминвод, прославляя достоинства коммунистических шипучек по сравнению с упадочными напитками капиталистов. У него не было бы настоящей работы, зато имелись увеличенная суточная норма хлеба и риск попасть под пули чекистов, если «партийная линия» по части безалкогольных напитков изменится и он скажет, что вишневый напиток лучше земляничного, когда следовало говорить обратное.
Но это еще было впереди. У нас оставался целый год свободы. Год, в течение которого продовольственные нормы продолжали урезать, а жизнь столицы постепенно начинала принимать черты той жизни, которую мы вели под властью красных. Выделяя немного денег из своего пособия, я, по крайней мере, оказался избавлен от ужасного вкуса конины. Мадам Зиновьева продолжала подавать на стол то, что могла достать. Ей помогали, так же как многим, Грин и Гранмэн. У них когда-то служил ее муж. Его убили, когда он исполнял какое-то поручение фирмы в Дании. Мое пособие увеличили, поскольку инфляция усиливалась. Доктор Мазнев продолжал давать мне дополнительные уроки. Поскольку девицы Зиновьевы работали, а свободное время проводили со своими женихами, мне редко удавалось общаться со сверстниками. Из-за учебы я утратил уверенность в себе, которая была необходима, чтобы написать Марье Варворовне, заполнявшей мои фантазии. Ее адрес надежно хранился у меня, как и адрес Сережи. Иногда, когда мои глаза уставали от чтения при свете керосиновых ламп (и газ, и электричество часто отключали, а свечи было очень трудно найти), я обдумывал, как бы мне связаться с ними, – а может, даже попросить Ольгу познакомить меня с приятной девушкой. Но я слишком уставал. Если переставал читать, то немедленно засыпал. Я чаще всего ложился в кровать сразу после ужина, чтобы, заснув над раскрытой книгой, по крайней мере не проснуться утром в верхней одежде.
Тоскливая петроградская зима сменилась тоскливой весной, во время которой продолжались мелкие демонстрации, придворные скандалы, связанные с Распутиным; все больше казаков и полицейских появлялось на улицах. Последовали новые визиты «гороховых пальто» в наш институт, очередные известия о поражениях наших войск. Меня злило смехотворное публичное позерство так называемых художников-футуристов, которые праздновали наступление «машинного века». Они не могли отличить один конец велосипеда от другого и до полусмерти перепугались бы, если б им пришлось провести полчаса в грязи, дыму и саже на обычной фабрике.
Снег сменился грязью и слякотью; несчастные бутоны осторожно распускались, трамвайные рельсы исчезли с невского льда, на смену белым ночам пришли ночи странного зеленоватого оттенка, и проспекты, так часто погружавшиеся во тьму из-за перебоев с электроснабжением, едва ли стали веселее, когда на них появились десятилетние изможденные девчонки, торговавшие иссохшими пучками фиалок за огромные деньги; если поблизости не было полицейских, они не намного дороже продавали свои грязные тела.
Пребывая в утомленном и несколько подавленном состоянии, я начал тосковать по Одессе, по Кате и даже по Ванде, сообщившей мне в письме, без малейших на то доказательств, что я был отцом ее прекрасного, здорового мальчика, по веселой компании Шуры, который теперь мог оказаться безработным по моей вине. Нет ничего удивительного в том, что украинские писатели перестают сочинять беззаботные, счастливые, оптимистические произведения в тот момент, когда они прибывают в столицу. Они тотчас начинают писать мрачные рассказы о бедности, смерти и несправедливой судьбе, подражая невротику Достоевскому и его товарищам. Я начал чувствовать, что тоскую по дому, но решил вернуться в Киев со всеми надлежащими документами. Став квалифицированным инженером, я устроился бы в хорошую фирму, там меня бы постепенно оценили и предоставили собственную лабораторию. Я думал о работе в государственной авиакомпании, куда мог бы с легкостью устроиться, если бы не отсутствие официальных бумаг, доказывающих мои способности.
Еще одна Пасха. Обмен яйцами. «Христос воскресе!» Звучное пение в церкви, процессии, молитвы за нашего царя, за Россию, сражающуюся с хаосом и варварством. Нас со всех сторон по-прежнему атаковали турки и гунны. Когда я преклонил колени рядом с сестрами Зиновьевыми, мне показалось, что огромное зеленое пространство, которое было Российской империей, одной шестой частью земного шара, могло внезапно исчезнуть, подобно Карфагену. Я поднялся на ноги, задумавшись, не должен ли присоединиться к армии, бороться против наших врагов, отстаивать будущее славян. Но это желание быстро исчезло. Я был все еще слишком молод, чтобы стать солдатом. В то мгновение я пережил один из немногочисленных всплесков истерического патриотизма. Мое понимание терпеливой славянской души сложилось много лет спустя. В изгнании, в Англии, я имел возможность сравнить наши достоинства с недостатками англо-саксонских, скандинавских и германских народов. Эти люди – материалисты до мозга костей, развращенные наукой, они ограниченны и не допускают никаких альтернативных точек зрения.
Все фантазии, связанные с тем, чтобы служить своей стране пушечным мясом, а не пушечным мастером, исчезли, когда я вернулся в институт после Пасхи и выяснил, что треть студентов исчезла и три профессора недавно уволены. Охранка побывала у директора. У них имелся список «нежелательных» – вероятно, опасных в военное время – людей, которые могли оказаться вражескими шпионами. Все явные красные исчезли, и за это, конечно, я был признателен, но, войдя в класс доктора Мазнева, осознал, насколько мне не повезло. Профессор отсутствовал. На его месте стоял его конкурент, чернобородый, огромный профессор Меркулов, одетый в темный мундир. Он посоветовал мне занять место в задних рядах аудитории и быть повнимательнее, потому что никаких любимчиков больше нет. Сказал, что мой друг Мазнев лишился работы; ему еще повезло, что он не попал в тюрьму. Я был потрясен, столкнувшись с нескрываемым злорадством Меркулова.
– Вам придется очень усердно заниматься, если желаете сдать выпускные экзамены в конце этого года, Хрущев, – добавил он.
Меркулов прекрасно знал, что я был лучшим студентом в институте, что я разбирался практически во всех предметах, которые там преподавались, и во многих других. Но теперь я столкнулся с явным противодействием. Профессор Меркулов ненавидел доктора Мазнева и всех его любимчиков.
Покидая институт в тот вечер, я чувствовал себя совершенно разбитым; я начал думать, что заблуждался во всех своих фантазиях, – и захотел навестить своего наставника в его мрачной квартире. Я знал, что это глупо. «Гороховые пальто» следили за всеми студентами, которые могли якшаться с предполагаемым предателем. Это означало бы конец моего обучения.
Я вернулся домой, и мадам Зиновьева вручила мне письмо. Его принесли вскоре после моего ухода. Почта, как и все прочие службы, находилась не в лучшем состоянии из-за войны.
Письмо было от доктора Мазнева. Он сообщал, что его уволили, так как в юности он симпатизировал идеям Бакунина и Кропоткина, анархистов-интеллигентов. Его сын, как я уже знал, находился в изгнании в Швейцарии, по-прежнему оставаясь убежденным эсером. Ему только чудом удалось избежать тюремного заключения или ссылки в Сибирь.
Доктор Мазнев советовал мне не вступать с ним в контакт, разве что ситуация станет совсем отчаянной. Если мне понадобятся какие-то книги, следует попытаться раздобыть их через посредника. Тогда подозрение не падет на меня. Он знал, что я не интересовался политикой, и мысленно был со мной. Мне не следовало унывать. Если я буду упорно трудиться, смогу стать лучшим студентом политехического, несмотря на все трудности.
Письмо было трогательным и ободряющим. Я решил доказать профессору Меркулову, что «покровительство» являлось всего лишь признанием выдающегося таланта. Я стану заниматься еще больше, если понадобится – и днем и ночью, – и получу дипломы с отличием по всем предметам. Я заставлю своих противников умолкнуть.
Дни становились все длиннее. Богатые люди начали уезжать из Петрограда: не к морю, в Крым, как когда-то, а на свои дачи, поближе к Москве. Я готовился к экзаменам, предстоявшим в конце года. Мне нужно было обратить внимание начальства на свои успехи. Я позабыл обо всем ради занятий. Конечно, учиться становилось тем труднее, чем глубже я погружался в знания. Я без особенных затруднений справлялся с обычными экзаменационными задачами, но хотел добиться большего. Я хотел сдать экзамены так, чтобы меня перевели по крайней мере на год вперед или даже выдали мне диплом немедленно. Это освободило бы меня от Меркулова. Я мог бы научиться большему у преподавателей, не разделяющих его предубеждения против меня.
Я забросил чтение романов и пикники с Зиновьевыми, стал меньше спать, чтобы больше учиться, прекратил думать о Марье Варворовне, прочитал все имевшиеся учебники, а также те, которые предназначались для высшего уровня, внесенные в библиографические списки. Я начал постигать общие идеи науки, принципы инженерного дела; мой разум совершал один интеллектуальный прорыв за другим. Конечно, мне снова приходилось пользоваться кокаином, но это помогало мне создавать уникальные связи. Я начал постигать самую структуру Вселенной. Всякий раз, засыпая, а это случалось нечасто, я видел все планеты Солнечной системы; я видел другие планетарные системы, галактики. Вся Вселенная представала передо мной. И мир атомов отражался, как на картине. К этой величественной концепции я мог приспособить онтологическое понимание мира, заключающее в себе всю сумму человеческих знаний, и даже больше. То были видения, в волнении постиг я, которые привели Леонардо, Галилео и Ньютона к их открытиям. Я прикоснулся к тайнам Гения. Я знал, что не должен открывать слишком многое своим преподавателям, особенно Меркулову, обычному человеку с обычным разумом. Другие преподаватели были гораздо умнее, но даже они не смогли бы распознать ценность моих новаторских теорий. Я стал причастен к божественному знанию, был способен записать его, но пока не мог поведать миру.
Мадам Зиновьева забеспокоилась, что я переусердствовал. Она заметила, что я стал бледен, что мои глаза налились кровью, что я слишком мало ем. Я нетерпеливо отмахнулся от нее. Это огорчило добрую женщину. Я извинился, объяснил, что усердно готовлюсь к экзаменам, от которых многое зависит. Она успокоилась. Ольга и Вера больше не замечали меня. Они погрузились в мечты о семейной жизни с хлеботорговцем и продавцом минеральных вод, готовились стать хорошими домашними хозяйками; весь наивный романтизм остался в прошлом. Теперь их занимали качество зимних пальто и цены на мебель. Я с трудом узнавал тех двух девочек, с которыми познакомился всего пятнадцать месяцев назад.
Я шел на трамвайную остановку и чувствовал себя гигантом, шагающим среди зданий, крыши которых – не выше колена. Было все еще очень холодно. Я не обращал внимания на погоду. Перед собой я видел звезды и силовые линии, объединяющиеся, чтобы создать то, что мы называем Вселенной. Природа самой материи вот-вот должна была открыться мне. В институте я посещал лекции, но уже постиг их смысл. Я с вежливым нетерпением слушал профессора Меркулова. Он был дураком. Я не обращал внимания на замечания моих товарищей. Я возвращался домой и продолжал заниматься. Но запасы кокаина уменьшались. Я знал, что мне понадобится больше, если я хочу продолжить исследования, которые теперь занимали множество больших записных книжек. Я находился в расцвете сил и не мог позволить себе терять время. Я отыскал клочок бумаги с адресом друга, у которого собирался остановиться Сергей Андреевич Цыпляков. Я решил употребить остатки кокаина и вернуть табакерку. Это стало бы идеальным оправданием. Я бы сказал, что коробочка открылась и все лекарство рассыпалось. Он был бы благодарен за табакерку, которая казалась довольно ценной, а я узнал бы, где можно купить кокаин, и потратил бы на порошок деньги, предназначенные для покупки дорогих иностранных книг.
Я доехал на трамвае до Михайловского сада, отыскал указанный дом. Он был не так велик, как я воображал, но значительно больше тех домов, в которых мне приходилось бывать в Санкт-Петербурге. Швейцар остановил меня у входа, я вынужден был назвать ему имя Сережиного друга, Николая Федоровича Петрова. Швейцар что-то проворчал о крутящихся под ногами хулиганах и объяснил, куда идти. Следовало пересечь внутренний двор, потом подняться на самый верх здания; квартира занимала целый этаж, выглядевший весьма роскошно. Вокруг было очень тихо. Я позвонил в звонок. Дверь мне отворила молодая девушка, одетая только в японское кимоно. Нечто неопределенно восточное было в ее сильно накрашенном лице; она двигалась с особенной скользящей грацией, одновременно и застывшей, и естественной. Возможно, тоже балерина. Девушка ничего не сказала, впустила меня и тут же ускользнула во внутренние комнаты. Я снял кепку, закрыл дверь и последовал за ней. Я вошел в большое помещение, обставленное в стиле «Искусств и ремесел»[70], своего рода русском варианте ар-нуво, очень модном в то время. В комнате я увидел множество павлиньих перьев и слегка вздрогнул: вспомнилось старое суеверие, согласно которому павлиньи перья приносят в дом несчастье.
– Вы что, друг Коли? – спросила девушка.
– Я хотел бы увидеть Сергея Андреевича Цыплякова.
Она тотчас бросилась в одно из глубоких кресел; кимоно распахнулось. Ее соски были подкрашены, а груди выглядели совсем крошечными. И открылись мужские гениталии. Оказалось, это юноша, накрашенный, как девушка. Я смутился, но недавно принятый кокаин помог мне прийти в себя и сохранить внешнее спокойствие.
Существо поправило свое кимоно и бесцеремонно произнесло:
– Не думаю, что Сережа и Коля разговаривают друг с другом. А вы что, действительно Сережин друг?
– Мы познакомились в поезде из Киева.
– Вы – тот жиденок, которого он пытался совратить?
Я улыбнулся и покачал головой:
– Вряд ли. Он здесь живет?
– Жил, пока они не поссорились.
– Он переехал?
– Ну, его здесь нет. Чего вы от него хотели?
– У меня его табакерка.
– Там остался порошок?
– Там никогда не было никакого порошка.
Юноша понимающе улыбнулся. Очевидно, он был опытным нюхачом. В мои планы не входило ссориться с человеком, который наверняка поможет мне отыскать то, что кокаинисты на всех языках называют «снежком».
Я сказал:
– Меня зовут Дмитрий Митрофанович Хрущев.
– Вы с юга.
Я изменил свой акцент, чтобы придать ему резкое, петербургское звучание.
– Могу ли я узнать ваше имя? – Я поклонился с насмешливой любезностью, с которой можно было обратиться к даме не слишком строгих правил.
Это ему понравилось. Он встал, сделав жест, который можно было принять за реверанс.
– Enchanté[71]. Можете звать меня Ипполитом.
– Вы тоже связаны с балетом?
– Связан, да. – Ипполит захихикал. – Выпьете? У нас все есть. Шампанское? Коньяк? Абсент?
Абсент только что запретили во Франции.
– Я бы выпил абсента.
Я никогда его не пробовал и хотел воспользоваться возможностью, пока не вернулся владелец квартиры. Он мог оказаться не столь гостеприимным.
Еще раз ловко вильнув бедрами, Ипполит направился к буфету и плеснул мне немного абсента.
– Воды? Сахара?
– Как обычно.
Ипполит пожал плечами. Он подал мне узкий бокал на длинной ножке, в котором сияла желтая жидкость. Надеюсь, на моем лице не отразилось удовольствие, с которым я потягивал горький напиток; однако именно в тот момент я пристрастился к новому пороку. Тому самому, которому, как ни печально, все труднее и труднее сопротивляться.
Ипполит легко распоряжался абсентом. Он принес мне бутылку. На этикетке стояло название «Терминус». Современные читатели не вспомнят старых рекламных объявлений, висевших лишь в лучших российских магазинах. Я, кажется, ни разу не видел таких в Париже. «Je bois a tes succès, ma chère, – говорит Арлекин своей даме fin-de-siècle на рисунке Мухи, – et a ceux de lAbsinthe Terminus la seule bienfaisante»[72].
Я приготовился терпеливо ждать развития событий. В самом худшем случае явится рассерженный хозяин, который подскажет, где найти Сережу, прежде чем выставить меня. Можно было бы также отправиться в Малый театр на Фонтанке, где балет «Фолин» еще исполнял какой-то бессмысленный спектакль, поставленный великим обманщиком Стравинским. Мы вступили в эпоху блестящих фокусников, корчивших из себя творцов. Они использовали приемы странствующего цирка и превращали их в искусство. Это позволяло каждому чувствительному молодому человеку стать художником: требовались только способность к саморекламе и убедительный голос еврейского рыночного зазывалы.
Ипполит посмотрелся в зеркало, на серебряной раме которого, как на всей отделке комнаты, были изображены голые нимфы и сатиры.
Дверь отворилась, и появился хозяин дома. Очень высокий, в огромной желтовато-коричневой волчьей шубе. Я тотчас почувствовал восхищение и зависть. Никто не пожелал бы расстаться с такой шубой, даже в разгар лета.
Волчья шкура упала на пол. Коля был одет во все черное: черную широкополую шляпу, черную рубашку, черный галстук-бабочку, черные перчатки, черные ботинки и, конечно, черные брюки, жилет и сюртук. Его абсолютно белые волосы могли быть как натуральными, так и окрашенными. Красноватый оттенок его глаз наводил на мысль, что передо мной альбинос, но я предположил, что это следствие нездорового образа жизни и природной меланхолии. Кожа мужчины казалась бледной, как подснежники в руках цветочниц на Невском. Увидев меня, Коля отшатнулся в притворном изумлении. Сжав в длинных пальцах черную трость с серебряным набалдашником, он улыбнулся с такой сочувственной усмешкой, что будь я девушкой – тут же упал бы к его ногам.
– Мой дорогой! – сказал он по-французски Ипполиту. – И что этот маленький серый солдатик делает у нас дома?
– Он пришел к Сереже, – ответил Ипполит по-русски. – Его зовут Дмитрий Алексеевич как-то там…
– Дмитрий Митрофанович Хрущев. – Я поклонился. – Я хотел вернуть это господину Цыплякову. – Я вытащил табакерку.
Изящным движением руки (я сразу понял, кому подражал Ипполит), Коля вырвал коробочку из моих пальцев и тотчас открыл ее.
– Пусто!
– Да, ваше превосходительство.
Я льстил и в то же время развлекал этого вельможу.
– Вы друг Сережи?
– Знакомый. Я хотел вернуть ему табакерку, но из-за учебы не смог.
– И чему вы учитесь? Вижу, вы наслаждаетесь абсентом. Смакуйте его и осушите стакан до дна, мой дорогой. Это последняя бутылка. – Коля говорил очень спокойно. Он даже не выказал недовольства по отношению к Ипполиту, как я ожидал. Я оказался рядом с настоящим джентльменом, денди старинного английского образца, а не debauchee[73] российского типа.
– Ваш французский хорош, – заметил он. – Произношение почти идеально.
Ипполит хмурился, очевидно с трудом следя за беседой.
– У меня талант к языкам.
– Так вы изучаете языки? Где? В университете?
– Нет, нет, m’sieur. Я изучаю естественные науки. Я уже разработал множество изобретений и проектов новых транспортных средств. Придумал способ преодолеть океаны. Ну, и тому подобное…
– Вы как раз тот, кто мне нужен! – Коля, казалось, искренне обрадовался. – Я одержим наукой. Вы читали Лафорга?[74]
Я никогда не слышал о нем.
– Изящный поэт. Лучший из всех нас. Умер очень молодым. От обычной болезни.
– От сифилиса?
Он рассмеялся.
– От туберкулеза. Мой дорогой сэр, я невежда. Вы раскроете мне тайны двигателей внутреннего сгорания, электромобилей, состава материи?
– Был бы счастлив…
– Вы станете моим наставником? В самом деле? Вы подадите мне идеи?
– Идеи, m’sieu… Я не уверен…
– Символы двадцатого столетия, мой дорогой Дмитрий Митрофанович. Это в науке мы должны обрести нашу поэзию. И обязаны отдать поэзию науке. – Он говорил так, будто репетировал эту речь уже не раз.
Я встретился с футуристом, но не с одним из тех вульгарных парней, которых видел во время шествия на Невском. В Коле я разглядел нечто такое, что произвело на меня сильное впечатление; футуристы и прочие современные мошенники ничего подобного не добились. Он был наделен особым магнетизмом и, по крайней мере, немного разбирался в науке. Если он действительно богат – а, похоже, так оно и было, – он мог платить за частные уроки. В свою очередь, эти деньги пошли бы на кокаин, который он сможет раздобыть.
Ипполит теперь впился в меня взглядом. Думаю, что он заподозрил во мне конкурента, претендующего на внимание Коли. Это было смешно. Мне иногда случалось развлекаться мелкими интрижками с представителями моего пола. С кем не бывает? Я знаю, что это не шокирует английскую аудиторию, потому что подобное здесь в порядке вещей. Но мои отношения с Колей должны были ограничиться горячей дружбой и уважением. Я и впрямь нашел покровителя!
– Вам нравится Бодлер, Дмитрий Митрофанович?
– Поэт?
– Поэт, безусловно! – Коля шагнул к окну и раздвинул жалюзи; в комнату проник слабый петербургский свет. – Les tuyaux, les clochers ces mats de la cite![75] – улыбнулся он. – Торжество городской жизни. Величайшие поэты никогда не были обитателями Аркадии, славившими пастухов и их спутниц. Величайшие поэты мира всегда воспевали достоинства улиц, трущоб, переулков и домов – того, что сотворил не Бог, а их собратья, люди. Быть истинным поэтом значит воспевать город. Воспевать город значит быть истинным революционером!
Этот метод революционных действий казался вполне безопасным. Я был не особенно встревожен, хотя начал сомневаться, что Коля окажется подходящим работодателем. В полиции мое имя уже связали с одним радикалом, и здесь я, кажется, случайно столкнулся с другим. Но мне требовался кокаин, если я хотел продолжить работу, получить диплом, начать карьеру и даровать миру плоды моих исследований.
– Вийон, Бодлер, Лафорг, даже Пушкин, мой юный Дима. Все прославляли город. Невинность таится в сточных канавах мира, да? Это наша естественная окружающая среда, и для нас естественно воспевать ее. Природа – фабрика, жилой дом, газовый вентиль, локомотив. Разве они не прекраснее полей и цветов? Не сложнее коров и овец? Если Россия вознесется, если скифы явят миру свое величие, мы будем вынуждены прекратить гадать на ромашках, любоваться маками, восхищаться нежными закатами над Ладожским озером. Мы начнем описывать желтый дым фабрик, который искажает кровавые лучи солнца; создавать человеческое искусство из того, что, по нашим убеждениям, было делом одних только богов. Ты видел закаты над доками, Дима? Ты видел, насколько прекрасней они становятся от дыма и пара кораблей? Как он озарял кирпичи зданий, ржавые борта судов, деревянные шхуны и паруса? Как он касался пятен нефти на черной воде, создавая тысячу образов в одном? Ты заметил, как паровой локомотив вносит шум жизни в мертвый пейзаж? Так же огромные первобытные животные некогда несли жизнь. Ты наблюдал, как золотые лучи солнца скользят по прекрасной угольной пыли? Разве все эти вещи не возбуждают тебя, не заставляют твою кровь кипеть, а сердце – биться от радости? Ты, ученый, должен понять то, чего не понимают многие из моих товарищей-поэтов! Ибо все они напыщенно рассуждают о рычагах и двигателях, но лишены истинного воображения и поэтому не могут разглядеть, что подобные вещи – не объекты их насмешек, а вдохновители человечества!
Не знаю, с чем это было связано – с восхищением собственной деятельностью или влиянием кокаина, – но меня, признаюсь, вдохновили Колины речи. Он выражал в поэзии все, о чем я думал, и вдохновлял меня на новые мечтания. Я видел, как мы, поэт и ученый, меняем весь мир. Те марширующие футуристы казались лишь хвастливыми подмастерьями. У них было мало общего с этим замечательным человеком.
– Я хотел бы прочитать ваши стихи, – сказал я.
Коля рассмеялся:
– Это невозможно. Садись, выпей еще абсента. Я зимой сжег все свои стихи. Они не дотягивали до нужного уровня – всего лишь подражания Бодлеру и Лафоргу. Нет никакого смысла добавлять второсортные стихи к той куче, которая уже завалила наш город. Я подожду, когда кончится война, или наступит революция, или случится армагеддон или апокалипсис, и тогда снова начну писать.
Он опустился на большой диван посреди комнаты и взял бутылку.
– Ты уже допил?
– Если больше не осталось… – Я коснулся рукой своего бокала.
– Наслаждайся. Почему бы и нет? Если эта война продолжится, если апокалипсис действительно настанет, у нас больше не будет абсента – только полынь, и то если повезет. – Черный рукав простерся в мою сторону, черная перчатка сжала горлышко фляги. Желтая жидкость полилась в высокий бокал. – Пей, мой ученый друг. За поэзию, которую ты вдохновляешь.
– И за науку, которую ты вдохновишь. – Он заразил меня своим энтузиазмом.
Я выпил.
Ипполит исчез и, недовольный, вскоре появился снова, в достаточно обычном, хотя щеголеватом костюме; он сказал, что пройдется до «Танго», чтобы подыскать себе компанию, так как ему стало скучно. Коля любезно простился с ним. Затем, задержавшись у двери, Ипполит произнес:
– Лучше сразу скажи, когда мне вернуться домой?
– Когда будет угодно, дорогуша! – Коля оставался спокойным. – Мы с Дмитрием Митрофановичем будем обсуждать ученые дела.
Ипполит нахмурился, застыл в нерешительности, потом все-таки ушел, но через минуту вернулся.
– Я мог бы еще куда-нибудь пойти, – заметил он.
– Как пожелаешь, Ипполит. – Коля обратился ко мне с вопросом: – Хочешь пойти в «Алое танго»? Или тебе скучно в подобных местах?
Я сообразил, что «Алое танго» – это заведение вроде тех богемных кафе, что я посещал в Одессе, в которых всегда можно добыть кокаин, и, должно быть, проявил излишнее нетерпение, ответив:
– Не думаю, что мне будет там скучно.
Коля сказал Ипполиту:
– Увидимся там через пару часов.
Дверь хлопнула. Коля вздохнул.
– Красота нынче дешева, Дима. И, как правило, неотделима от дурных манер. Какая радость – встретить ученого человека!
Я был очарован этим облаченным в черное призраком, этаким русским Гамлетом. Я окончательно расслабился. Несомненно, абсент заставил меня раскрыть, почти тотчас же, истинную цель моих поисков.
– Ты наркоман? – удивился Коля. – Ну и ну! Людям начинают открываться лучшие стороны жизни. В конце концов, происходит революция!
– Хочу отметить, – гордо произнес я, – что я не совсем обычный студент политехнического и не очень известен. Мой жизненный опыт – не только опыт аудиторий.
Коля извинился, продемонстрировав хорошие манеры.
– А что ты делал до политехнического?
– Жил в Киеве, – ответил я, – летал на машине собственного изобретения.
– В столь юном возрасте? Где же теперь аэроплан?
– Не аэроплан – это было нечто совершенно новое. О нем писали в газетах.
– Ты прилетел на этом в Питер?
Я рассмеялся:
– Нет, я потерпел крушение. Мне нужно время, чтобы усовершенствовать проект. Но когда это случится – полечу.
– А куда ты отправился после?
– На некоторое время – в Одессу. Я уже получил небольшой практический инженерный опыт, а в Одессе приобщился кокаину и плотским утехам.
Я, должно быть, казался ему немного наивным, но он не подал виду.
Я рассказал Коле, что с тех пор о развлечениях мне пришлось забыть, так как я сосредоточился на занятиях и рассчитывал преуспеть, несмотря ни на что. Сообщил, что ради этого я начал снова использовать стимуляторы и успешно продолжал работать – развил теории, которые удивят настоящих ученых, но не рассчитывал, что они произведут впечатление на скучных, унылых поденщиков, которые сейчас преподают в институте. И надеялся, что Цыпляков поможет мне раздобыть еще немного кокаина.
– Ты Сережин друг?
– Просто знакомый.
– Так что тебя интересует скорее сам «la neige»[76], а не место, откуда он падает? – Коля добродушно улыбнулся.
– Точно.
– Что ж, нет ничего сложного в том, чтобы раздобыть немного. Особенно во время войны. Бог знает, как они могут обеспечивать всех воинов, поэтов и ученых тем, что им необходимо в эти трудные голодные времена. Тебя не интересует морфий?
– Я никогда не увлекался опиатами. Мир грез – не спасение для меня. Я намерен принести в мир свои грезы.
Его обрадовал такой поворот беседы. Он плеснул мне остатки абсента.
– Надеюсь, что ты не осудишь меня, если я скажу, что иногда принимаю морфий. Когда нужно удалиться от мира, наркотики могут помочь.
Я тогда не вполне понимал то, что хорошо знаю сегодня: кокаин – стимулятор, но морфий – убийца. Я никогда не пользовался успокоительными средствами. Слишком коротка дорога от сонных галлюцинаций до холодных объятий смерти; от рая на земле до подлинного ужаса. Не зря поляки говорят: как от ада ни беги, все равно в него попадешь.
Я допил остатки абсента.
– Должен заметить, что не пользуюсь наркотиками ради удовольствия. Они мне нужны, чтобы поддерживать работу тела и разума.
– И ты не боишься, что сойдешь с ума, работая так много?
– Это возможно, но я способен владеть собой.
– Вдохновение и безумие, мне кажется, весьма схожи. – Коля направился к буфету и вытащил фарфоровое блюдо с белой крышкой, отлитой в виде Пьеро, глядящего на полумесяц. – У меня здесь есть немного. Кажется, недурного качества. Сейчас приходится быть осторожным: морфий очень популярен, так что полно жуликов, которые смешивают кристаллы со всем, что попадает им под руку. Следует проявлять осторожность. Ты не сталкивался с подобным в Одессе, перед войной?
– В Одессе есть пара жуликов, – пошутил я.
– Я слышал.
Он взбодрил меня так же, как когда-то Шура. И даже лучше. Ведь Коля был искушенным литератором, театральным критиком, автором статей в толстых журналах, человеком, наделенным вкусом, чувством собственного достоинства и глубоким пониманием жизни, умеющим разглядеть интеллект и творческий потенциал. Мне пришло в голову, что он считал себя скорее агентом талантов, чем, собственно, талантом. Николай казался одним из тех выдающихся незаменимых людей, которые вдохновляют других добиваться лучших результатов, причем не важно, в какой области.
Его полное имя было князь Николай Федорович Петров, и он находился в родстве с Михишевскими – одной из самых влиятельных аристократических петербургских семей, родовые имения которой находились на Украине. Николай Федорович посещал украинские деревни, но ни разу не бывал в городах и на побережье, однако ему довелось повидать более теплый Крым.
– Нам следует отправиться туда, – заявил он, – нынче летом. Если война закончится.
Эта фантазия привела меня в восторг. Я спросил, неужели он вообще не останавливался ни в Киеве, ни в Одессе. Коля рассмеялся:
– Эти места всегда казались мне занятными, Дима, но только в воображении. Смуглые, романтические евреи всегда вызывали у меня интерес. Я очень сочувствовал Шейлоку, бедному Фейгину, самому яркому из персонажей Диккенса, благородному Исааку в «Айвенго»[77]. А ты?
Я не читал ни одной из названных книг. Конечно, я видел упоминания о них в «Пирсоне». Англичане были терпимы по отношению к евреям. Одним из наиболее почитаемых английских писателей в те времена был Израэл Зангвилл, и, как нам всем известно, премьер-министром Англии стал еврей[78].
Коля продолжал хвалить английского поэта Шелли, герой которого, Агасфер из «Эллады», вдохновил его; по его словам, особенно сильное впечатление произвел один монолог, который он часто цитировал:
Какое дело мысли до того, Что – время, обстоятельства или место? Грядущее ты хочешь увидать? Спроси, и получи! Стучи, откроют – Взгляни, и вот! грядущий век на прошлом, Как в зеркале, свою являет тень[79].Вежливость заставила меня удержаться и не сообщать Коле, что я думаю о подобной громогласной ерунде. У англичан немало достоинств. Они превосходные инженеры, ученые-практики, да и неплохие рассказчики – сюжеты их романов всегда интересны, ярки, возбуждающи. Но как поэты они навредили миру сильнее прочих. Идеи Байрона и Шелли, вероятно, погубили больше молодых людей, чем идеи Карла Маркса. Романтизм – болезнь нашей эпохи, прямой результат увеличения количества свободного времени у представителей некоторых классов. Если не верите мне, просто посмотрите вокруг, на так называемых хиппи и люмпенов, которые вечно жалуются на бедность, но все же торгуются со мной за пальто, стоящие вдвое дороже, чем я прошу, и в итоге расплачиваются деньгами, которые им пожертвовало государство!
Возможно, как поговаривают, сейчас упадка не меньше, чем всегда. Но чем отличались так называемые декаденты начала века в Санкт-Петербурге – это чувством стиля; у них был вкус, общественное положение и по-настоящему хорошее образование.
Образование, конечно, может также сбить с толку. Николай Федорович являлся чистокровным славянином, истинным славянином, сторонником славянского Возрождения, но любовь к романтическим стихам казалась его слабым местом, поскольку он был болезненным филосемитом, как и многие из его героев. Когда мы вышли из квартиры и направились к «Алому танго», он положил руку мне на плечо и начал читать какую-то ерунду из Байрона про «племя скитальцев, народ с удрученной душою». Эти строки (иначе я бы их точно позабыл) подсказала мне госпожа Корнелиус, которая получила образование в школе Годольфина и Латимера в Хаммерсмите, где обучались только самые способные дети.
Когда ты уйдешь от позорной неволи к покою? У горлиц есть гнезда, лисицу нора приютила, У всех есть отчизна, тебе же приют – лишь могила![80]Сентиментальность такого рода зачастую свойственна денди. Они как будто позволяют себе единственную слабость. У кого-то это симпатия к собакам или лошадям, с которыми они обращаются исключительно сердечно. Николай Федорович же чувствовал слабость к евреям, к тем самым людям, которые как раз замышляли уничтожение его самого и всего его класса. Такова трагическая ирония жизни, которую я замечал повсюду, где бы ни был. Даже сам Вечный Жид, вероятно, не видел столько, сколько я.
«Алое танго» находилось неподалеку от католической церкви Святой Екатерины, в переулке, где главным образом располагались ювелирные лавчонки и кондитерские. Это заведение было отчасти пивной, отчасти богемным кафе вроде тех, каких очень много на Монмартре, увешанным великолепными зеркалами и яркими лампами, со множеством круглых столов и золоченых металлических стульев, на которых сидели молодые люди и женщины в сверкающих нарядах, с бледными лицами и блестящими глазами; косметикой пользовались и мужчины, и женщины. Все курили сигареты, в основном европейских марок, через длинные мундштуки. На сцене в углу негритянский квартет наигрывал новейшую ритмичную музыку джунглей: рэг, кекуок, кун-дэнс и слоу-дрэг[81]. Неужели шла война? Неужели не хватало хлеба? И света было так же мало, как свежего мяса или надежды? Путешественник во времени из книги Герберта Уэллса, посетив «Алое танго», подумал бы, что мир находится в идеальном состоянии и процветает. Многие открыто читали свежие номера возмутительных революционных и художественных журналов: «Правду», «Свободу», «Новые миры», «Аполлон» и «Космический манифест»[82]. Это заведение по духу несколько напоминало кабак Эзо, хотя и казалось более внушительным и изящным. Атмосфера дружелюбия, смеха и споров привлекла меня, как привлекала и прежде. Здесь встречались известные личности. Имена посетителей были связаны с тем, что называли «русским прорывом» в изящных искусствах. Этот прорыв радовал меня так же, как бомбы, упавшие на Ноттинг-Хилл в годы Второй мировой войны.
Тогда благодаря абсенту и Колиному энтузиазму я сумел по крайней мере запомнить священные имена этого круга: Станиславский, Дягилев, Кандинский, Малевич, Шагал, Блок, Мандельштам, Ахматова, Рабинович и другие. Коля, конечно, мог назвать их всех, перечислить картины, даже напеть мелодии, если, конечно, это можно так назвать. Он наслаждался обществом Сергея в значительной степени из-за способности последнего интерпретировать современную музыку. Но, как и большинство артистов балета, Цыпляков был наделен очень ограниченным воображением. Танцор умеет не более шести вещей, в которых может добиться совершенства: хороший прыжок, возможно, па-де-де или, может, одно из тех неестественных движений, что так высоко ценятся. И они повторяют их много раз, в каждом балете, свободном или, наоборот, очень тщательно поставленном. Клянусь, все обстоит именно так. Балет – еще один вид искусства, никогда не привлекавший меня. Мои встречи с танцорами не были очень приятными. Так уж они устроены – жаждут только похвал. Их талант быстро исчезает – как и их мускулы, если они не тренируются. В «Алом танго» можно было увидеть много «балетных».
Позже мы, перебрав абсента, отправились в другое, менее внушительное место под названием «Бродячая собака», где у Коли были друзья, с которыми он чувствовал себя более непринужденно и расслабленно. Мои собственные воспоминания об этом эпизоде очень отрывочны. Я напился до бесчувствия и творил какие-то ужасные глупости. Я вспоминаю, как маленький, не слишком симпатичный еврейчик лепетал какие-то стихи об Оссиане и Шотландии, о луне и крови. Хотя он говорил по-русски, стихи, вполне возможно, могли оказаться английскими; во всяком случае, логично было бы это предположить. Несколько строк мне запомнилось, поскольку они всегда приходят на ум, когда я напиваюсь (теперь это случается редко):
Ты знаешь, мне земля повсюду Напоминает те холмы, Где обрывается Россия Над морем черным и глухим…[83]Если бы я и пристрастился когда-нибудь к современной поэзии, то это произошло бы в компании Коли. В ту ночь я пришел в себя на пороге дома, глядя вслед экипажу, возвращавшемуся к мерцающим городским огням, и одновременно возясь со звонком. Мне отворила несчастная мадам Зиновьева, которая ужаснулась состоянию моего мундира, а затем, поняв, что я пьян, начала кричать, что она не оправдала оказанного доверия и позволила мне попасть в дурную компанию. Я объяснил ей, что обедал с известным графом, и это слегка успокоило женщину. Когда я не смог вспомнить его имя, она начала причитать и ворчать. Мадам Зиновьева не сердилась на меня, но она обещала мистеру Парроту, что со мной не случится ничего дурного. Она отвечала за мое моральное состояние. Я уверил ее, что сегодня – особый случай. Мне пришлось принять приглашение графа. Было бы ужасно невежливо отказаться.
Хозяйка помогла мне раздеться и лечь в постель. Я спал так долго, что, если бы не воскресенье, мне пришлось бы пропустить занятия. Наутро у меня началось похмелье. Ощущение депрессии несколько ослабло, когда я обнаружил в одном из верхних карманов шинели бумажный пакет с двумя граммами прекрасного кокаина. Два вдоха – и я стал новым человеком. Я слишком поздно спустился к завтраку, как сообщила мне улыбающаяся мадам Зиновьева, качая головой; в итоге я взял одну из своих книг по машиностроению и насладился парой стаканов некрепкого чая в близлежащем кафе. Я читал главу о защищенном шестицилиндровом двигателе Лунделя[84], который тогда уже вышел из моды. Проблема с учебниками состоит в том, что они обычно отражают сведения двадцатилетней давности. Однако это чтение показалось мне очень легким по сравнению с абстракциями, которыми я занимался большую часть недели.
Эта глава дала мне несколько идей по усовершенствованию обычных подъемных двигателей, которые тогда начинали использовать на некоторых линейных кораблях; подобные идеи, в свою очередь, привели меня к размышлениям о самолетах, которые могли быть запущены с кораблей без обычной взлетно-посадочной полосы. В том небольшом кафе на Выборгской за Финляндским вокзалом весенним утром 1916 года я изобрел современный авианосец. Это было не что иное, как тренировка ума. Сделав первые эскизы и продумав все необходимые механизмы, я смял бумагу и выбросил ее. Позже я вернулся к этой идее и сделал более точные наброски, но этот рассказ поможет моим читателям понять, насколько плодотворны были мои занятия и как небрежно я относился к передовым концепциям.
Я вернулся домой к обеду и провел день, изучая спецификации электрических лифтов «Вейгуд» и «Отис» с регуляторами «Розенбуш»[85] с целью построить взлетную полосу с гидравлическим управлением; ее можно было опускать, когда она не требовалась, и поднимать, когда самолеты шли на посадку. Я разработал метод швартовки воздушных кораблей в море, также с помощью электрических лебедок; дирижабли могли оставаться на буксире на время простоя, а затем наносили бы воздушные удары там, где их не ждали.
Если бы я представил тогда свои идеи в военное министерство или в Адмиралтейство, ход войны мог измениться. Россия бы торжествовала, стала более сильной, лидировала в современных вооруженных силах и технических науках, превратившись в величайшую военную державу. Британские модернизированные тракторы и танки показались бы пустяками по сравнению с нашими воздушными бомбардировщиками и авианосцами. Кажется, я уже высказывал предположение, что люди, которые управляли министерствами, были не просто коррумпированы или консервативны – их интересовало заключение сепаратного мира с Германией. Если бы они смогли, то сдались бы за восемнадцать месяцев до того, как большевики отдали врагам обширные области нашей страны. Эти земли не удавалось вернуть в течение многих лет, только после Второй мировой войны старые российские границы были восстановлены. В 1916‑м зеленые и розовые области на карте представляли две крупнейших известных в мире империи. Русские почти лишились своей империи из-за действий Думы и евреев. Британцы лишились своей из-за лени, презрения к себе и преувеличенных представлений о способности дикарей постичь принципы христианской благопристойности. Две империи погибли навсегда. Только слабые остатки их культуры сохраняются в уголках мира, пока еще не тронутых сентиментальным либерализмом и желанием любой ценой умиротворить коварный, беспринципный Восток.
Глава седьмая
Именно тогда начался самый насыщенный этап моей творческой жизни. В будние дни я посещал лекции, читал книги, на много лет опережавшие те знания, которые входили в официальную программу, вечером отправлялся домой на паровом трамвае и занимался собственными исследованиями. Затем, около восьми-девяти вечера, несмотря на то что мадам Зиновьева качала головой и поджимала губы, я присоединялся к Коле у него на квартире или в одном из наших любимых кабаре. Он читал бесконечные стихи на французском, английском, русском и отвратительном немецком. Я рассказывал ему, как строятся цеппелины, работают танки и создается электричество. Полагаю, что он уделял моим лекциям столько же внимания, сколько я уделял его стихам. Я стал для него своеобразным талисманом нового века. Мой друг был всегда вежлив, никогда не допускал грубостей и никому не позволял оскорблять меня. В «Алом танго» и «Бродячей собаке» собирались богемные художники, иностранцы, преступники и революционные crème de la crème[86], позднее ставшие служить Керенскому или Ленину; они встречались, беседовали, слушали музыку, искали сексуальных партнеров и иногда дрались. Этот опыт стал для меня бесценным. Я наконец смог встречаться с женщинами и позабыть о Марье Варворовне. Эти дамы относились к любви так же легко и радостно, как моя Катя. У меня были и поклонники-мужчины, я флиртовал с ними, но не уступал их домогательствам. Многие девушки, да и зрелые дамы, возбуждались от чтения вслух порнографического бреда Мандельштама и Бодлера и увлекали меня в свои восхитительные постели. Иногда я спал на дорогих шелках, умывался по утрам теплой, ароматной водой. Я вновь обретал уверенность в себе. Решил, что могу меньше читать. Теперь я мог поддержать беседу практически на любую тему.
Тем временем начались летние каникулы, и я решил позволить себе отдохнуть. С Колей, Ипполитом, девушкой, которая называла себя на английский манер Глорией (хотя была полячкой), и несколькими так называемыми поэтами мы гуляли по Летнему саду и широким набережным Невы, арендовали речные пароходики, наслаждались пикниками на берегу реки и обедали в тех великолепных деревянных многоэтажных заведениях, которые мало чем отличались от швейцарских лыжных домиков; раньше там обслуживали клиентов с пароходов, а теперь радовались любым посетителям.
Когда из города исчезли представители высшего света, Санкт-Петербург заполонили раненые солдаты и матросы, медсестры с фронта, искавшие утешения в объятиях здоровых гражданских мужчин, которых осталось немного. Это обилие женщин отвлекало даже агитаторов вроде Луначарского, который стал наркомом просвещения при Ленине, или Онипко[87], печально известного анархиста, участника короткой революции 1905 года. По очевидным причинам люди вроде них для воинской службы не подходили. К счастью, у Коли было мало подобных дружков, хотя владелец «Бродячей собаки», некий Борис Пронин, считавший себя местным Родольфом Салисом из прославленного «Черного кота»[88], с удивительным радушием приветствовал всяческих подстрекателей, бомбистов и прочих.
Хотел бы заметить: я никогда не был лицемером. Я очень часто высказывал свои взгляды и столь же часто встречал единомышленников, особенно в панславянском кругу. Даже люди, которые со мной не соглашались, казалось, слушали меня вполне доброжелательно. Если бы не печальный урок отца, то, возможно, меня привлекло бы детское стремление к разрушению и переменам. Я пил абсент в компании красивых шлюх. Мои соратники были революционерами, бродягами, поэтами. Они называли меня «профессором» или «безумным ученым», угощали вином и слушали так внимательно, как мало кто слушал с тех пор. Такие люди могли пережить революцию только благодаря чувству юмора, иронии и складу характера. Они стали мрачными спутниками Ленина и его преемников. Некоторые умерли рано, например Блок и Грин, и не узнали, к каким разрушительным последствиям привели их глупые надежды. Большей частью они, подобно Мандельштаму, увидели, как их мечты разрушаются, все надежды гибнут, храбрость и великодушие оборачиваются против них, принося лишь оскорбления и унижения. В последний предреволюционный год, год 1916‑й, воодушевление этих людей было вызвано мечтой об Утопии, а не реальностью, которой следовало заманить меня в ловушку так же, как заманила в ловушку их. К счастью, мне удалось сбежать. Для некоторых, к примеру для Маяковского, единственным способом бегства стало самоубийство.
«Бродячую собаку» закрыла полиция, но богемная жизнь продолжалась. Война, казалось, шла своим чередом; нам все чаще сообщали о победах. Британские бронированные автомобили и русские казаки бросились в грязь болот Галиции и вынудили уланов и австрийскую пехоту отступить. Но доставать хлеб становилось все труднее. Ряды несчастных рабочих, закрывавших лица шапками и платками, как будто в трауре, стали привычным явлением: поэты скорбели, революционеры предрекали восстания, обычные представители среднего класса, по-русски прозванные «буржуями», все чаще становились жертвами воров, которые отнимали у них еду и деньги. Война истощала наши силы. Нужно было тратить все деньги на продовольствие и свободно раздавать его. Тогда мы, возможно, избежали бы хаоса. Но царские министры были слишком заняты войной, а революционеры фактически хотели, чтобы люди голодали, – так они скорее восстанут. Буржуи могли думать только о своих семействах; их призывали забыть обо всем, чтобы помочь выиграть войну и обеспечить всем необходимым солдат на фронте. Мне не следует в этих мемуарах рассуждать о причинах и предпосылках революции. Слишком много эмигрантов, слишком много историков, слишком много большевистских «корректоров прошлого» уже занималось этим. У нас есть тысячи версий «Десяти дней, которые потрясли мир». Возможно, пора составить десяток версий «Тысячи книг, которые утомили мир». Мне ко всему этому нечего добавить. Что было, то было. Мы в самом деле не могли подумать, что такое случится, хотя нас предостерегали. Поэзия редко кому-то нравится, становясь реальностью, и меньше всего – поэтам.
Пронин открыл новое заведение под названием «Prival Котепdiantoff»[89]. Мы сочли это очень уместным и поздравили Пронина, когда он появился, ведя за собой на веревке паршивую дворнягу – единственное, что осталось от «Собаки», и пообещал, что это заведение станет еще лучше прежнего. Здесь, конечно, было больше выдумки. Негритянских мальчиков, работавших официантами, одели так, будто они только что явились из дворца Гаруна аль-Рашида. Картины явно радикального содержания покрывали стены и потолок. Со стен на нас смотрели негритянские маски, лучи света лились из их глазниц. Тот же негритянский оркестр играл ту же надрывную музыку всякий раз, когда нам не приходилось слушать очередного нового поэта или миленькую певичку или следить за какой-нибудь пантомимой Пьеро, во время которой женщина с лошадиным лицом в длинном фиолетовом платье что-то бубнила о луне. Черные травести пели джазовые песни. Травести вошли в моду в клубном обществе. Несколько противоречили всему этому авангардизму девочки в крестьянских костюмах; яркие скатерти в народном стиле; народная керамика, напоминавшая нам, что мы, в конце концов, в России; что мы не французы и даже не немцы. Виолончели стонали, и мимы крутили свои бездушные тела, пародируя обычные человеческие движения. Ревел джазовый оркестр. Маленькие певички пели слабыми, невыразительными голосами о мертвых птицах и насекомых. Мы говорили, пили и предавались разврату. Иногда уже светало, когда я в бархатном жакете, красных украинских ботинках, брюках для верховой езды и казачьей рубахе появлялся, пошатываясь, на Марсовом поле. Здесь солдаты в ярких мундирах все еще маршировали над нашим зверинцем, который, как обычно, располагался в подвале. Гусары скакали, стрельцы шагали строем, их сапоги блистали полированной кожей, мундиры были тщательно вычищены, медные и золотые галуны сверкали на солнце. Мы брели мимо, некоторые из нас едва стояли на ногах; и мы в удивлении взирали на эти остатки старого мира. Мимо нас проходили полицейские, которые, казалось, все чаще разделяли наше отношение к происходящему. Футуристы прерывали свои бесконечные споры с акмеистами (художественных объединений было не меньше, чем политических). Эсеры на полуслове прекращали свои дискуссии с толстовцами и, раскрыв рты, замирали, глядя, как играющий оркестр или колонна солдат в синих мундирах и красных шапках проходит мимо, салютуя под звуки патриотических маршей. Я заразился всеобщим цинизмом. Думаю, что едва ли кто-то в Петрограде мог к тому времени противостоять этому настроению. Мне кажется, что если бы однажды утром мы вышли из «Привала» и увидели марширующие немецкие отряды, то едва ли обратили бы на них внимание. А если бы и обратили, то не стали бы особенно переживать. Художники объявили бы появление немцев первым признаком новой эры в искусстве. Революционеры сказали бы: это явный признак того, что люди восстанут в любой момент. Циники отметили бы, что немецкая эффективность лучше русской некомпетентности. На том бы все и кончилось. Мы почти поверили, что эта странная греза будет продолжаться, пока все мы не умрем юными романтиками; правда, мы предполагали, что это случится в достаточно отдаленном будущем. Никто ни к чему не относился серьезно, я думаю, кроме Коли, который вместе с Толстым верил в природную божественность человеческого духа. Я же склонялся к вере в торжество человеческого разума над всеми превратностями природы, включая и природу самого человека. Мы оба, я уверен, были виноваты не меньше и не больше прочих – мы склонялись к риторике отчаяния. Как легко было шиковать, пить шампанское и провозглашать тосты за торжество рабочего класса! Все забывали о медленных переменах, происходивших повсюду. Санкт-Петербург, неестественный город, который было легко блокировать, отрезать все коммуникации, воспользовавшись его географическим положением, – этот город не вспоминал о приближающихся врагах и убеждал себя в том, что до победы осталось не более двух месяцев. К осени, когда казалось, что мы окончательно разбиты, как были разбиты японцами у Порт-Артура, изысканных экипажей на Невском стало совсем мало. Торговцы и землевладельцы считали Москву более безопасным местом, чем Питер. И Коля с немалым удовольствием цитировал Киплинга, которого очень любил: «Вожди уходят и князья!»[90]
Рим, по его словам, эвакуируется, потому что гунны снова угрожают ему.
– Византия! Византия! – напевал он, провожая меня домой в своем экипаже однажды утром в конце августа. – Все бегут на Восток. Подожди, пока царь не уедет в Москву, Дима. Тогда ты поймешь, что нам настал конец.
– Царь никогда не покинет столицу.
– Он редко здесь бывает. Как часто ты видишь царский штандарт над Зимним дворцом?
– Царское Село не слишком далеко от города, – напомнил я.
– Нет никаких доказательств, что он там. Ходят слухи, что он, его семейство и Распутин уже собирают вещи, чтобы уехать к кайзеру. Они же родственники.
Наш экипаж остановился на перекрестке, когда мимо промаршировала колонна кадетов. Гремели барабаны, ревели трубы, свистели флейты; кадеты двигались единым строем. Коля печально улыбнулся. Он, как обычно, был одет во все черное. Единственным белым пятном выбивалась прядь волос, свисавшая из-под шляпы. На бледном лице выделялись красноватые глаза. Он коснулся рукой подбородка и пожал плечами.
– Ты знаешь, что я когда-то был кадетом, Дима?
– Предполагал. – Для аристократа было вполне естественно поступить в военную школу.
– Я сбежал, когда мне было пятнадцать. Сбежал в Париж, потому что хотел увидеть поэтов. Мне встретилось множество шарлатанов, некоторые из них совращали меня – как мужчины, так и женщины. Но я не думаю, что видел хотя бы одного поэта, пока не возвратился в Питер! Теперь все русские поэты, художники, импресарио едут в Париж! Какая ирония! И нам нужно последовать за ними, Дима?
– Немцы скоро будут разбиты, – произнес я. – Газеты единодушны. Такой уверенности не было никогда.
– Явный признак близкого поражения! – рассмеялся он.
– Наши союзники не допустят этого. Англия, Франция, Италия – даже Япония – придут на помощь.
– Они в таком же положении, что и мы. Немцы разве что Париж еще не взяли.
– Тогда нам следует остаться здесь, – сказал я.
– Пока война не закончится, по крайней мере. Тебе нужно заниматься только немецкой наукой и философией, а я буду изучать Гёте. Я поеду… куда же?., в Мюнхен? Или к моравским братьям, как Джордж Мередит[91]. Там я стану настоящим мистиком, немецким интеллектуалом. В новой немецкой империи – Священной Римской империи – мы станем добрыми готами, позабудем о Париже. Париж и Петербург станут провинциальными городами, а Берлин – столицей мира. Искусство будет процветать там, питаемое нашим русским гением, как оно процветало в Берлине перед войной. Мы станем действовать как китайцы, Дима, – позволим завоевать нас, но тайно одержим победу, благодаря великой культуре, нашему славянскому наследию. Мы больше не станем подражать французам, англичанам и итальянцам. Мы будем архитекторами новой империи – представим новые кремлевские планы в Берлине, и наша энергия и оригинальность произведут такое впечатление на немецкого Цезаря, что все вокруг примет русский оттенок. К чему нам переживать о военных победах, когда наше величайшее оружие – славянский гений! И ты, Дима, покажешь миру, чего может достичь русская наука, потому что ты – русский в душе. Такой же русский, как я!
Я подумал, что таким образом он намекал на мое украинское происхождение. Иногда он высказывал загадочные соображения, которые сбивали меня с толку. Но я никогда не прерывал монологи графа Николая Петрова, даже пытаться остановить его было бессмысленно. Они звучали, словно вдохновляющая мелодия, и прервать ее – как будто заглушить пение русского гимна, как будто закричать в соборе Александра Невского посреди «Господи, помилуй» или «Помышляю день страшный». Ибо при всем его увлечении иностранными поэтами и восхищении иностранными художниками, которых выставляли чудаки-коллекционеры Щукин и Морозов, мой друг был настоящим русским. Он воплощал невероятное возрождение славянской души, которое началось в девятнадцатом столетии. Этот процесс продолжался бы и в двадцатом, если бы его не прервали людишки с мелкими западными идеями, принесенными из Германии, Америки и Англии; переносчиками этих политических болезней стали вездесущие евреи. Не удивительно, что прежняя черта оседлости стала самой опасной областью империи в годы Гражданской войны.
К сентябрю мы с Колей сблизились сильнее, чем когда-либо. Я возвратился к занятиям, чтобы по-прежнему казаться прилежным студентом. Санкт-Петербург теперь источал не апатию, а страх, который чувствовался даже тогда, когда я отправлялся в предместья на трамвае. Соседи перестали доверять друг другу. Группы изможденных мужчин в черных пальто и шляпах перемещались между фабриками и рабочими пригородами молча, выражая скорее угрозу, чем недовольство. Мадам Зиновьева все резче осуждала меня, дочерей и их женихов, да и весь город целиком. Во время ежемесячного визита к мистеру Грину меня предупредили, что следует ходить осторожно, и посоветовали купить пояс для денег, чтобы прятать там мое пособие. Дядя Сеня написал мистеру Грину и попросил узнать, как идут мои занятия. Я ответил, что все очень хорошо. Я должен был перейти на другой курс, сэкономив целый год обучения. Мистер Грин сказал, что мне скоро понадобятся способности к языкам и знание механизмов – придется отправиться за границу по делам дяди Сени, который собирался импортировать машины для фермерских хозяйств. Я захотел узнать подробности, но мистер Грин больше мне ничего не сказал, за исключением того, что мое образование наконец принесет пользу. Значит, дядя Сеня уже придумал, чем я займусь после окончания политехнического? Я обрадовался тому, что смогу отправиться за границу.
Как будто в надежде преодолеть охвативший город страх, военные парады стали еще более роскошными. Золотые флаги, портреты царя, грохочущие барабаны, пронзительные трубы ежедневно заполняли столицу. Государственный гимн исполняли по каждому поводу. Именно тогда, чтобы скрыться от нелепой показухи, я начал бродить по докам, держа под мышкой книгу, осматривая корабли и механизмы, которые начали исчезать подо льдом Невы. Я размышлял о том, куда меня направит дядя Сеня, смотрел, как лебедки вытаскивают рыбу с небольших парусных лодок, восхищался паровыми баркасами с короткими трубами, их странными, суетливыми перемещениями. За баркасами стояли на якорях огромные броненосцы и маленькие пассажирские суда «Балтийского пароходства», являя собой картину безмятежности или застоя. Иногда дикий вопль, похожий на крик банши, доносился то с одного, то с другого корабля. Изредка можно было увидеть старомодный бриг или парусную шхуну – возможно, они отплывали в Финляндию или Норвегию или даже брали курс на Англию, которая, я был уверен, станет моим новым местом назначения, ведь она находилась не более чем в двух-трех днях пути отсюда.
Окруженный суматохой, среди скрипа буксировочных тросов, гудения двигателей, криков докеров, я обрел покой. Доки простирались на многие мили вдоль берегов Невы. Это был один из немногих районов, не источающих той особой атмосферы ужаса, которая проникала всюду, даже в богемные кафе.
Женщины, к которым я наведывался, больше не давали мне ни отдыха, ни облегчения, как прежде. Они уже не казались теплыми, беззаботными, нежными. Их квартиры производили впечатление очень удобных, отрезанных от внешнего мира; они все так же были пропитаны ароматом «Quelques Fleurs»[92] и задрапированы японскими шелками и белыми тканями. Дамы нарушали наш молчаливый договор и становились все более нервозными. Женщины лучше чувствуют дух времени. Они первыми начинают задумываться об эмиграции в трудные времена, и почти всегда правы. Они первыми замечают предательство и трусость. Женщины наделены такой чувствительностью, уверен, потому, что могут потерять гораздо больше, чем мужчины. Увы, я был слишком молод, чтобы обратить внимание на пророчества наших Кассандр. Вместо этого я стал нетерпеливым. Я перестал спать с интеллигентными девушками хорошего происхождения и искал общества обычных шлюх, работа которых – успокаивать, утешать, прогонять страхи. Думаю, многие из нас бросали красавиц, за которыми когда-то ухаживали, и удовлетворялись глупыми, добродушными существами, крашеные волосы, дешевые меха и еще более дешевые платья которых становились все более привлекательными по мере того, как мы уставали от размышлений. Мыслить означало размышлять об окружающем мире и его ужасах. Мир был переполнен страхом и уже не казался приятным местом. Из-за подобных настроений, подозреваю, моя вторая встреча с госпожой Корнелиус не увенчалась любовной интрижкой.
До меня доходили слухи о великолепной английской красотке, фаворитке Луначарского, Савинкова и других радикалов, но я никак не мог связать их с девушкой, которой помог в Одессе. У революционеров были собственные излюбленные места. Те, кто претендовал на литературный или артистический вкус, изредка появлялись в «Привале».
5 сентября 1916 года я увидел ее снова. Она была единственной женщиной за столом, за которым очкастые мужчины с безумными глазами в плохо сидевших европейских костюмах обсуждали реорганизацию поэтической отрасли. Девушка, казалось, находилась в изрядном подпитии. Она носила красивое и в то же время простое синее платье. Ее светлые волосы скрывала маленькая шляпка нового фасона, который только входил в моду. Шляпка превосходно сочеталась с платьем. Длинное страусиное перо нежного кремового оттенка изгибалось книзу, его кончик раскачивался под подбородком девушки. Она пила грузинское шампанское, которое заменяло нам настоящий французский напиток, но делала вид, что наслаждается им. Турецкая сигарета дымилась в мундштуке, объединявшем цвета шляпы и пера. Ее юбки слегка задрались, так, что виднелись шелковые чулки над синими замшевыми ботинками. Она была единственной женщиной в кафе, которая явно наслаждалась происходящим. Все остальные скрывали свои чувства яркими улыбками проституток или возбужденными усмешками интеллектуалок. Я не сомневался, что она не узнала меня, когда я взмахнул рукой. Моя знакомая нахмурилась, обернулась, спросила о чем-то своего отчаянно спорившего спутника, возможно, Луначарского, – у него была козлиная бородка, модная среди этих товарищей. Он отвел взгляд, посмотрел в мою сторону, покачал головой и вернулся к спору. Я приподнял бровь и улыбнулся. Она усмехнулась, салютуя мне стаканом шампанского. Я услышал знакомый голос, донесшийся сквозь общий шум:
– Д’вай сюда, Иван!
Это, разумеется, была мадемуазель Корнелиус. Я собрался присоединиться к ней, но она кивнула, указав на пустой столик. Он находился у самой сцены, на которой негритянский скрипач извлекал из инструмента звуки, способные напугать создателя скрипки. Моя знакомая присоединилась ко мне. От нее по-прежнему пахло розами. Она опустила свою нежную ладонь на мою руку без малейшей двусмысленности, которую я привык ожидать от русских женщин.
– Ты тот парень с Одессы, так? – Она говорила на своем обычном английском языке.
Я поклонился и сказал:
– Именно.
Она заметила, что это была удача, а не ошибка. Мир оказался гораздо меньше, чем все говорили. Она чудесно проводила время в Питере и неплохо изучила «русски». Девушка продемонстрировала мне, вероятно, худший образец грамматики и самый романтичный акцент, который я когда-либо слышал. Мне стало понятно, почему у нее так много поклонников. Я спросил, как она оказалась в столице и что у нее общего с Луначарским. Разве она не знает, что всех этих людей разыскивает полиция?
Госпожа Корнелиус сказала, что эти жулики гораздо приличней тех, которых ей приходилось встречать раньше. Она чувствовала, что им известно, что происходит. Девушка неодобрительно добавила: об остальных идиотах в этой проклятой стране такого сказать нельзя. Она покинула Одессу с одним из пациентов доктора Корнелиуса, аристократом-либералом, который проводил там отпуск. Когда их роман подошел к концу, она присоединилась к радикалам, которых считала забавными «чудесный бездельники». Она также, уверен, задумывалась о будущем, но ее интерес к мужчинам, вместе с ее чувством юмора, часто сбивал меня с толку. Я первый признаю, однако, что часто не понимал ее шуток и что ее вкус не раз выручал нас обоих в последующие годы.
Моя знакомая сказала, что я выгляжу «тощеньким», и если мне что-нибудь нужно по части продовольствия, она попробует помочь. У нее есть кое-какие связи. Я ответил, что питаюсь гораздо лучше большинства, просто очень много занимаюсь перед экзаменами. Она пожелала мне удачи; по ее словам, она очень жалела, что не закончила школу, но в Дейле было слишком мало мест. Как я выяснил, госпожа Корнелиус говорила о Ноттинг-Дейле[93], своей родине. Она позже переехала в Уайтчэпел, где встретила много русских, которые на самом деле были евреями-эмигрантами, спасавшимися от погромов. Когда госпожа Корнелиус предложила отправиться «куда-нибудь в тихий местечко», чтобы поговорить о моих успехах, я отказался. У меня тогда было полно женщин. Я пресытился и стал осторожным, даже если речь шла о ней. Шлюхи просто спрашивали, какая часть тела требуется клиенту; желает ли он остаться на всю ночь за пару рублей сверху. Кроме того, мне не всегда приходилось платить шлюхам. Несколько дней я совершенно бесплатно жил в публичном доме возле одного из каналов. Я, возможно, остался бы там подольше, если б мне не нужно было возвращаться в институт.
Я ответил, что поздно вечером буду занят. Она рассмеялась.
– Как и все мы, да? Еще свидимся, Иван. – Она погладила меня по руке и встала, чтобы вернуться к своей компании.
Я тотчас пожалел, что отказался от ее предложения. Не думаю, что речь шла о сексе. Она хотела именно того, о чем говорила, – спокойно побеседовать.
Мои друзья поздравили меня с победой, а одна из благовоспитанных красоток наклонилась ко мне и громко поинтересовалась, на что похожа английская шлюха в постели. Оскорбленный, я покинул «Привал комедиантов».
Осенний семестр был примечателен только тем, что нам разрешили сидеть на занятиях в шапках, шарфах и пальто. Топлива для политехнического никто не выделил. Лекции стали еще скучнее. Чем холоднее становилось, тем сильнее было ощущение энтропии. Общественная жизнь как бы сжималась. В первую неделю после моего возвращения в институт вместо паровых трамваев появились конки. Ими управляли измученные, бледные существа, обмотанные темным войлоком; над головами возниц поднимались тонкие клубы белого пара. Этим мужчинам уже давно следовало уйти на покой, они походили на кучеров, везущих повозки с мертвецами. Их лошади, тощие, болезненные животные, в конечном счете, возможно, попали в желудки сирот – на улицах появились первые bezhprizhorni, они вертелись вокруг железнодорожных станций и в парках. Продолжали проводить великолепные и помпезные парады. Нас призывали стойко выносить все неудобства – война почти выиграна. На улицах появлялось все больше раненых. Театры процветали, но для ресторанов не хватало продовольствия, поэтому никакого резона работать у них не было. Даже «Донон» на набережной Мойки, излюбленное место золотой молодежи и редакции «Аполлона», располагавшейся в том же здании, вынужден был закрываться на время обеда; он стал скорее баром, чем рестораном. Осетр в грибном соусе, белые куропатки с клюквенным джемом и черникой, другие восхитительные лакомства от «Донон» уступили место конине под соусами, которые не могли скрыть горький привкус того, что Коля называл «длинной коровой». Мы продолжали шутить: заказывали «фаршированного воробья» или «Chat Meunier»[94], не всегда догадываясь, что нам принесут. Вместе с сиротами и ранеными на улицах появились чумные крысы. Газетчики сообщили о «скандальном происшествии», предположив, что грызунов завезли иностранные корабли; однако бездомные собаки и кошки, выброшенные на улицу хозяевами, которые больше не могли их кормить, бесспорно, были нашими, местными. Меньше чем через год люди, прогнавшие своих животных, начали на них охотиться ради пропитания. Это напоминало времена Парижской коммуны.
Запасы продовольствия неуклонно уменьшались, а контрабандного алкоголя становилось все больше. Нам было некогда спать. В воздухе витало ужасное напряжение, болезненное предчувствие гибели. Все длиннее становились очереди за хлебом, все больше – ряды раненых, ожидающих транспорта или койки в больнице, все плотнее – толпы нищих, торгашей и проституток на причалах и бульварах. Множество аристократов отправилось в Москву, давнюю соперницу Петрограда. Газеты все чаще упоминали об Отечественной войне с Наполеоном, словно подготавливая нас к участию в партизанском движении. Многим казалось, что мы уже потерпели поражение. Даже в «Алом танго» царила меланхолия. Негритянский оркестр играл «Остановись, дивная колесница» и «Никто не знает моих бед»[95], в то время как тощие молодые особы с накрашенными щеками читали мрачные стишки о смерти и погибели любви.
Я сочинял все более длинные и оптимистичные письма матери, Эсме, капитану Брауну: жизнь в столице легка и весела; царь с семейством появляются на публике ежедневно; немцы должны вскоре отступить; этой зимой им настанет конец. Из-за трудностей с транспортом маловероятно, что я приеду к Рождеству. Их нисколько не удивляли мои успехи в политехническом. Я писал в кафе и ресторанах, писал в аудиториях. Иногда отправлял письма дважды в день. Я тосковал по дому, по привычным неудобствам киевской жизни. Грязные, неровные тротуары Петрограда, толпы озлобленных, пугающих нищих казались гораздо страшнее, так как я к такому не привык.
Письма, которые я получал, были не менее оптимистичными. Матушка сообщала, что ее здоровье улучшилось. Благодаря Божьей помощи и теплой зиме она с нетерпением ждала, когда сможет вернуться к работе в прачечной. Эсме собиралась вскоре уволиться из бакалейной лавки и устроиться на военный поезд сестрой милосердия. Капитан Браун писал странные, длинные письма на английский манер, в которых русские буквы казались слегка измененными латинскими. Он настаивал, что младотурки вот-вот отступят, – им удается только защитная тактика. Фрицы были совершенно безопасны без своих офицеров, которых осталось совсем мало. Британская броня скоро выманит гуннов из их крысиных нор. Это поднимет боевой дух лягушатников, которые не умеют воевать, что уже неоднократно демонстрировали. Он присылал карты, на которых обозначал военные позиции. Он показывал, как мы пробьемся сквозь немецкие отряды, как румыны зажмут фрицев в клещи. Ни одного из этих сражений так и не случилось. В самом деле, окопная война оказалась бесконечно скучной. Множество людей было убито и ранено. Казалось, лето никогда больше не наступит. Фимбулвинтер и Рагнарёк[96] были совсем рядом.
Немногочисленные рысаки все еще тянули по Невскому прекрасные экипажи. Когда выпал снег, реки замерзли и мостовые покрылись ледяной коркой, на улицах появились тройки. По городу слонялось великое множество калек. Некоторые из них, одетые в военную форму, были без рук или ног, с перевязанными лицами, странно хромали. Калеки часто замирали на месте, как будто ожидая друга, который должен подойти и помочь. Они выстраивались рядами около газетных киосков. Стояли, тихо бормоча, у оград парков и частных садов. «Петербургские ведомости», специальный номер которых ежедневно печатался на особом пергаменте для царя, называли этих негодяев героями и размещали картинки, на которых они улыбались, салютовали, принимали торжественные позы, выражающие отвагу и надежду. Благотворительные учреждения не могли вместить такого количества калек. Тысячи дезертиров возвращались с фронта вместе с ранеными. Некоторых ловили и расстреливали.
Слухи о Распутине становились все более пугающими. Однажды Коля пригласил меня в большой особняк, располагавшийся на живописном берегу реки. Члены семейства Михишевских собрались здесь к чаю. Ясно, что и мне, и самому графу они не слишком обрадовались. В роскошно обставленном доме старинные, тяжеловесные диваны и столы соседствовали с самой модной современной мебелью из Франции и Англии. Здесь я впервые встретился с аристократами в домашней обстановке. Они оказались вполне обычными людьми. Все были роскошно одеты, отличались идеальными манерами, пили чай из тончайшего фарфора, но разговор оказался совсем не таким выдающимся, как я надеялся.
Когда старшие удалились, две девушки и молодой человек, двоюродные сестры и брат Коли, который, казалось, был их героем, окружили моего друга и начали обсуждать придворные сплетни. Влияние Распутина на царицу усилилось. В результате царь, который любил жену до безумия, утратил интерес к войне. Только его честь и Румынская кампания мешали начать переговоры с Германией о мире.
Я уделял беседе очень мало внимания, так что не смогу воспроизвести ее во всех подробностях. Меня интересовали изделия Фаберже: лягушка, вырезанная из сибирского жадеита, несколько пасхальных яиц, маленькая статуэтка полицейского, также вырезанная из камня и раскрашенная в яркие цвета. Тонкая работа привлекла меня. В огромной комнате стояли голые нимфы, поддерживающие светильники, зеркала, подносы с конфетами и цветочные вазы – вся эта обстановка, возможно, гораздо больше подошла бы публичному дому. Думаю, это было показателем упадка русской аристократии. Поменьше либерализма – и у нас до сих пор на троне сидел бы царь.
Меня отвлек звук голоса симпатичной молодой девушки, очень деятельной, настоящей Наташи. Каштановые волосы тяжелыми локонами спадали на плечи, на ней было желтое шелковое платье, отделанное собольим мехом.
– Анна Вырубова говорит, что мы должны последовать примеру Распутина и найти спасение в разврате.
Коля был удивлен:
– Знаешь, Лолли, я что-то пока не чувствую себя спасенным!
– О Коля! – Она взмахнула сигаретой, которую зажег ее брат, носивший форму лейтенанта инженерного полка. – Она говорит, что это был восхитительный опыт. Он освободил ее дух.
– Я слышал. Я знал одного политического, убийцу, который утверждал, что убийство также освободило его дух. Вы бывали на сеансах Распутина?
– Да, однажды. Мать не позволила мне пойти снова.
– И вы почувствовали, что спасены?
Лолли вздохнула:
– Конечно, нет. Это салон, наполненный замечательными ароматами и тканями. Вы сидите за обычным чайным столиком и пьете обычный чай. Но старец все время говорит с вами. Какие у него глаза!
– А как он пахнет? – спросил Коля. – Я слышал, он никогда не моется.
– Он пахнет как… – Лолли покраснела.
– Как грязный крестьянин, – сказал молодой человек.
Девушки рассмеялись:
– Это правда! Пахнет от него ужасно. Пахнет потом!
– Это пот мошенника, его цена слишком высока.
Коля посмотрел на меня, требуя одобрения, но я не понял шутки. Молодой инженер, однако, засмеялся.
Лолли продолжала:
– Он говорит о Боге и мире. О наших душах, наших телах, нашей потребности в опыте, который не всегда связан с той жизнью, которую мы ведем, даже… даже с нашими мужьями… – Она вздохнула. – Распутин умеет убеждать! Он близок простым людям.
– Распутин вылечил царевича, – сказала другая девушка, одетая в красное платье.
– Бедный мальчик по-прежнему умирает, – заметил Коля.
– Находясь рядом с Распутиным, – продолжала Лолли, – вы чувствуете, что освобождаетесь от всех забот. Нам разрешили задавать ему вопросы. Он напоминал чудесного, искреннего родителя. Затем вызвал одну из дам – я не буду называть ее имя, – и они удалились в другую комнату. Вскоре он вернулся один. Дама вышла через другую дверь. Или осталась на некоторое время. Сделала так, как он велел.
Коля нахмурился:
– Вас это не смутило?
– Это духовное единение, Коля. Он показывает нам свет во тьме. Божественный свет.
– И вы на все готовы ради него?
– На все. Он святой, Коля, но притворяется шарлатаном. Он иногда так и говорит. У Распутина превосходное чувство юмора. В нем что-то сокрыто. Я, конечно, изучала труды мадам Блаватской и теософов, но его учение гораздо более реально и значительно.
– Он загипнотизировал их, – сказал лейтенант. Его звали Алексей Леонович Петров, и он, казалось, хотел произвести впечатление на старшего кузена. Петров игнорировал меня; из-за этого мне было немного неловко. – Как ты думаешь, Коля? Анна Вырубова говорит, что они полностью повинуются ему. Наверное, он дает им наркотики. Чем дольше женщины находятся рядом с ним, тем больше соперничают, демонстрируя свое повиновение. Вспомните о самоубийствах… – Он потер усы, а затем подхватил некстати упавший монокль.
Лолли опустила голову.
– Так говорит Анна Вырубова.
– Они убивают себя, чтобы доказать преданность? – Алексей засмеялся в надежде получить Колино одобрение, посмотрел на меня – и тут же отвел взгляд в сторону.
– Я не думаю, что причина в этом. Это спиритуализм, – сказала девушка в красном.
– На дне каналов полно молодых женщин, которые прямо сейчас постигают все спиритические истины Распутина. Разве это не грех? Разве они не отправились в ад? – донимал девушку Алексей Леонович. Мне его глумливый тон показался неприятным. Он был всего лишь на пару лет старше, но, похоже, одновременно считал меня и ребенком, и вмешавшимся в чужие дела взрослым.
Коля прервал его:
– Григорий Ефимович отменил ад в загробной жизни, Алексей. Он теперь на земле. Разве вы не слышали?
– Ты ужасный циник, Коля. – Монокль наконец вернулся на место.
– Я реалист. Почему люди должны верить в обычного Бога? Нет никаких доказательств, что Он еще существует. Идеи Распутина могут быть верны.
– Вы чудовище, Коля, – произнесла Лолли.
– Я замолчу, если пожелаете. Но только вчера я разговаривал с одним солдатом. Не с бедным mouzhik, который не знал, почему его забрали в армию, а с обычным молодым человеком. Он был кадетом и стал лейтенантом. Как и вы, Алексей. У него лишь одна рука, один глаз, одна нога; часть его правого уха…
– Коля!
– Я учусь летать, – сказал лейтенант, – так что это ко мне не относится.
– Я умолкаю, – снова предложил Коля.
– Продолжайте, – попросила Лолли голосом, полным сочувствия и сострадания, до сих пор свойственных русским женщинам.
– Он был счастлив, что оказался в тылу, потому что уже собирался сбежать с фронта.
– Это недостойно джентльмена, – сказал Алексей Леонович.
– Возможно, теперь он не джентльмен, – Коля спокойно посмотрел на своего кузена, – а всего лишь раненый солдат. Он сказал, что эта война похожа на самый страшный сон. Случаются ужасные вещи, но вы не можете даже пошевелиться, не можете сделать ничего, чтобы помочь себе или кому-либо еще.
Алексей снова прервал его:
– Воздушная война не такова. Рыцарство все еще существует – и его законы действуют.
Коля терпеливо продолжал:
– Это нисколько не похоже на старые кавалерийские атаки и маневры, на сражения вроде Бородинского, где подобное еще было возможно. Это странная война. Сначала вы боитесь ее; потом подчиняетесь ее гипнозу; потом устаете настолько, что можете наблюдать, как у вас на глазах умирает ваш товарищ, и при этом не осознаете, что это происходит на самом деле.
– Говорят, что люди, которых разрывают на части львы, чувствуют лишь восхитительную эйфорию, – сказала Лолли.
– Но какое отношение этот разговор о фронте имеет к Григорию Ефимовичу Распутину? – спросил Алексей. Он казался обеспокоенным.
– О, самое прямое, разве вам так не кажется? – Коля отдал свою чашку слуге, который подошел, чтобы убрать со стола, и встал. – Смотрите, как бы паршивый старый лев не разорвал вас, – предупредил он Лолли. – Как вам известно, я никогда и ни в чем не соглашаюсь с вашей матерью. Но сейчас я с ней согласен. Starets наживается на горе, на скорби, которую мы не можем осознать и не осознаем, пока не закончится война.
Никто из нас не понял моего друга. Когда мы покинули большой дом, взяли экипаж и поехали к нему на квартиру, он пребывал в странном настроении, словно ушел в себя. Я не мешал ему. Первый выход в высшее общество разочаровал меня. Возможно, за столом отсутствовали лучшие представители семейства. Однако я ощутил эротическое волнение, увидев Наташу и услышав ее голос; я понял, как мне не хватает общества неиспорченных, нециничных девиц и решил, что настало время навестить Марью Варворовну. Я направился к зданию неподалеку от Крюкова канала. На канале вместо барж появились сани, которые тянули изнуренные кобылы. На берегу было так много полицейских, что мне показалось, будто вот-вот должны схватить важного преступника. Консьержка, старая благородная дама польского происхождения, очень злобная, как и большинство поляков (они так и не оправились от потрясения, когда их завоевали сначала мы, а потом немцы) оскорбила меня, сделав такой знак, словно оберегалась от дурного глаза.
– Никаких евреев! – завопила она.
Когда я громко заявил, что я украинец, по происхождению казак, она начала сетовать, какие украинцы ужасные люди и что натворили казаки в ее бедной стране. Все состояние польки было конфисковано. А ведь она родственница самого Шопена. Давно знакомое унылое нытье! Я слушал очень терпеливо, сдерживаясь, чтобы не выйти из себя.
– Все, что я хочу знать, пани, – дома ли Марья Варворовна Воротынская. – Я уже заметил имя девушки рядом с именем какой-то другой дамы на двери здания.
– Конечно, нет. Она учится. Ее не будет дома до шести. Кто вы такой?
Я поклонился:
– Дмитрий Митрофанович Хрущев. Я остановился у моего друга, графа Николая Федоровича Петрова. – Я оставил адрес Коли и сказал, что меня можно найти у него.
Она успокоилась и извинилась. Точнее, дала некоторые сомнительные объяснения касательно своих дурных манер. Сказала, что передаст Марье Воротынской мое послание; если я смогу зайти снова, то почти наверняка застану ее дома. В тот день я был занят, потому что договорился поужинать с госпожой Корнелиус и ее друзьями, и ответил, что надеюсь вернуться завтра вечером.
Я обедал в заведении, которое называлось «У Агнии»; им управляла суровая вдова, кажется вообще не умевшая улыбаться. Это было одно из тех кафе, в которых на столах лежали американские клеенки; буржуа считали, что в подобных заведениях царит атмосфера рабочего класса. Конечно, весь зал занимали буржуа-революционеры, совершенно серьезно планировавшие уничтожение своего класса. Мне очень не хотелось оставаться в этом месте. Существовала вероятность, что полиция вот-вот устроит здесь облаву. Еда мне показалась несъедобной. Общество Луначарского и его друзей было скучным и грубым, и госпоже Корнелиус отчаянно хотелось поговорить, но я, как ни старался, не мог сыграть роль идеального собеседника. Все мои интересы ограничивались наукой. Я не часто вступал в разговоры со случайными людьми. Колины друзья иногда просили у меня разъяснений каких-то научных вопросов; я всегда охотно отвечал, но сохранял молчание в тех случаях, когда сказать было нечего. Госпожа Корнелиус была, конечно, прелестна, и я наслаждался ее обществом, но та ерунда, которую несли ее спутники, вызывала у меня ярость; только природная вежливость не позволяла мне вмешиваться. Я рано ушел, но надеялся увидеть ее снова. Она понимала мое состояние, думаю, и чувствовала себя слегка виноватой. Когда я уходил, девушка поцеловала меня в щеку, благоухая розами, и мягко проговорила:
– Да-да, Иван. Не делай то’о, чо не сделала б я.
Охваченный беспокойством, я шел назад по унылым улицам нашей осажденной столицы. Я остановился на Сампсониевском мосту, чтобы посмотреть на мужчин, которые пробивали отверстия во льду, еще слишком тонком, чтобы по нему ездить. Они походили на бродяг. Единственное, что отличало их от всех прочих, – мундиры. Зачем они пробивали лед железными и деревянными палками, я до сих пор не знаю. Возможно, собирались ловить рыбу.
На следующий день в институте на меня набросился профессор Меркулов. Он ужасно замерз, и его нос был ярко-красным, глаза сверкали из-под смешной шерстяной шляпы, поля которой касались очков. Лекция была совсем простой, об устройстве динамо. Он с сарказмом поинтересовался, известно ли мне, что такое динамо. Я спокойно ответил:
– Прекрасно известно.
Меркулов попросил меня дать определение обычной динамо-машины и принципов, которыми регулируется ее действие. Я дал обычное определение. Он, кажется, был разочарован, спросил, что мне еще известно. Я описал различные виды динамо, которые тогда использовались, и назвал производителей. Потом заговорил об экспериментах с новыми типами машин, об энергии, которую можно производить, о ее источниках и возможностях усовершенствования машин и так далее. Он явно разозлился и закричал на меня:
– Это все, Хрущев!
– Нет, есть еще много чего, ваша честь.
– Я задал простой вопрос. Мне был нужен простой ответ.
– Вы попросили меня уточнить.
– Садитесь, Хрущев!
– Возможно, вы желаете, чтобы я подготовил письменную работу о разработке динамо? – спросил я.
– Я желаю, чтобы вы сели. Вы или высокомерны, или просто скучаете, Хрущев. Может быть, вы просто педантичный идиот. И, несомненно, вы дурак!
Как раз это и хотели услышать мои завистливые однокурсники. Сарказм профессора вызвал смешки. Я хотел осадить Меркулова; показать недостаток знаний и воображения профессора. Он был приспособленцем и получил эту работу только благодаря войне. Но конфликт неминуемо привел бы к отчислению из института, а я не мог позволить себе этого. Тем самым я бы плюнул в глаза дяде Сене и разбил сердце матери. Так что я сел.
Именно тогда я и решил наконец продемонстрировать глубину и многогранность своих познаний и показать всему институту, что знаю больше всех преподавателей и учеников вместе взятых. Я дождусь наилучшей возможности, и когда она представится, я разоблачу Меркулова, покажу всем, какой он самоуверенный идиот. Наши экзамены, как я рассказывал, были в основном устными. Итоговый выпускной экзамен проводился в присутствии всех преподавателей. Во время него я и собирался отомстить.
Я забыл о презрении и насмешках моих однокашников в тот момент, когда сел в конку и отправился домой. Я читал статью о работах Фрейкине с железобетоном (он строил знаменитые ангары для воздушных кораблей в Орли), а также нашел упоминание об Эйнштейне – тогда я не сумел до конца понять его идеи. Но теперь я знаю, что мы оба работали в одном направлении. Он создавал общую теорию относительности, в то время как я собирался поразить профессоров своими онтологическими идеями. Такие совпадения в науке вполне обычны.
Позднее тем же вечером, надев костюм, я снова подошел к дому неподалеку от Крюкова канала. На сей раз консьержка, жеманно улыбаясь, поприветствовала меня и сообщила, что мадемуазель Воротынская с нетерпением ждет встречи со мной. Если я пройду через внутренний двор, молодая леди сама встретит меня на первом этаже. Старуха ядовито-ласковым голосом добавила, что, к сожалению, обязанности вынуждают ее остаться здесь, в противном случае она почла бы за честь указать мне дорогу. Я пересек внутренний двор, заваленный грязным снегом. Тощий далматинец, сидевший на цепи, залаял на меня. Здание было старинным, довольно уютным. Я немедленно почувствовал себя здесь в полной безопасности и пожалел, что подобной атмосферы нет в доме мадам Зиновьевой.
Я нашел нужную лестничную площадку и дверь, на которой Марья Воротынская и ее подруга Елена Андреевна Власенкова повесили аккуратно надписанные от руки таблички с фамилиями. Я нажал на кнопку, и по другую сторону двери зазвенел звонок. Я подождал. Потом юная девушка, очень милая, с огромными синими глазами и каштановыми волнистыми волосами, одетая в простое бархатное платье, которое называли «женским монастырем», одарила меня одной из самых светлых, самых открытых улыбок, которые мне случалось видеть; она с поклоном пригласила меня войти.
– Вы, должно быть, мсье Хрущев? Меня зовут Елена Власенкова, и я очень рада с вами познакомиться.
Я поцеловал ей руку.
– Очарован, мадемуазель! – сказал я по-французски.
Она сказала с восхищением:
– Вы не русский!
– Я чистокровный русский.
– Ваш французский совершенен.
– У меня талант к языкам.
Я снял шляпу и пальто и передал ей. Мы вошли в светлую просторную комнату, очень теплую благодаря большой голландской печи, на каждом изразце которой были изображены разнообразные сцены из сельской жизни Нидерландов. Повсюду виднелись крестьянские ткани. На стенах висели прекрасные картины – обычные репродукции русских пейзажей. Я попал в замечательное, уютное место и немедленно подумал о том, чтобы остаться там навсегда. Затем из другой комнаты появилась, в темно-зеленом платье, отделанном французским кружевом, моя давняя знакомая из экспресса Киев-Петроград.
– Мой дорогой друг! Почему вы так долго не появлялись у нас?
Девушка шагнула вперед и крепко сжала мою руку. Мне показалось, она сделала это, чтобы произвести впечатление на Елену Андреевну, на лице которой по-прежнему сверкала все та же яркая, веселая улыбка.
– У меня есть причины не привлекать особого внимания. Было невозможно…
– Конечно. Мы все понимаем.
И она, и Елена Андреевна, казалось, знали о моей «тайной жизни» больше меня самого. Я старался вспомнить, что наговорил в поезде. Я стал очень осторожен.
– Но ничего, уже скоро… – прошептала Елена Андреевна, опускаясь на кушетку и расправляя юбку.
– Да, конечно, – ответил я.
– Хотите чая, мсье Хрущев? – спросила Марья Воротынская. – Очень жаль, но ничего другого у нас нет.
– С удовольствием выпью чая.
– Я принесу стаканы.
Елена Андреевна вскочила и вскоре вернулась с подносом, на котором стояли три стакана в плетеных подстаканниках. Большой медный самовар дымился у печи.
– Вы, кажется, устали, tovaritch, – сказала Марья. – Много работали? – Она использовала слово, которое было в то время популярно, особенно среди революционеров, социал-демократов и эсеров, но не имело никакого особого значения.
Сидя на кушетке и потягивая превосходный чай, я соглашался с хозяйками дома:
– Я был очень занят.
– Знайте, что можете во всем положиться на нас, – решительно заявила Марья. – Мы всегда к вашим услугам.
На меня произвело впечатление и ее великодушное предложение, и страсть, с которой оно было высказано.
– Я вам очень признателен.
Меня интересовало, общая ли у них спальня. Это было вполне возможно. Мне они обе показались привлекательными не столько из-за приятной внешности, сколько из-за детского энтузиазма и невинности, которых мне не хватало. Они сразу предложили помощь, хотя даже не представляли, в чем состоит моя работа.
– Не бойтесь прервать нас, если мы скажем что-то не то. – Елена была очень серьезна. – Мы уважаем то, чем вы занимаетесь.
– Я признателен вам за такую осмотрительность.
– Вы путешествовали за границей? – спросила Марья. Она сидела на коврике у моих ног, поставив стакан чая на пол. – Или оставались в России все это время?
– В России, – ответил я, – в основном.
– Вы можете остаться здесь, если понадобится, – сказала Елена. – Мы это обсудили. Думаем, стоит об этом сказать. Это может быть полезно.
– И еще раз – очень признателен.
Для меня действительно не имело значения, что девушки думали о моей работе. Они обещали дать мне все, о чем я мечтал. Я не мог поверить в свою удачу – думал, что они принимают меня или за военного курьера, или за инженера, работающего над созданием таинственного секретного оружия, или за доверенное лицо самого царя. Неважно. Если бы я пожелал, мог бы поселиться здесь и проводить в этом доме целые дни, а со временем, возможно, и ночи. Я задумался, какой из девушек следует уделять больше времени. Всегда необходимо позаботиться о том, чтобы не оставить без внимания девушку, которую на самом деле не хочешь. А здесь свои преимущества имелись у каждой. Я решил, что простая вежливость требует уделять больше внимания моей первой знакомой. Для меня будет гораздо безопаснее, если Елена уступит. Она знала обо мне даже меньше, чем ее подруга.
Я наслаждался их вниманием в течение нескольких часов. Затем вспомнил, что договорился встретиться с Колей в «Привале комедиантов», и мне пришлось откланяться, выслушав невинные и восторженные уверения. Я был на седьмом небе, когда появился в кабаре. Этой ночью, решил я, следует взять лучшую девочку в публичном доме и насладиться ею так, чтобы она к утру не могла шевельнуть ни единым мускулом. Я чувствовал себя настоящим царем, когда спускался по лестнице, обмениваясь приветствиями со старыми знакомыми.
В «Привале» я раздобыл дрянной абсент, но вполне пристойную шлюху. С новым запасом кокаина в кармане я вернулся к себе на квартиру, отперев дверь ключом, который выдала мне мадам Зиновьева после долгих убеждений. Я обнаружил четыре письма с разными датами; они лежали в небольшом черном оловянном ящике, украшенном разноцветными розами, – моя домовладелица повесила его на стене для корреспонденции гостей. Я был пресыщен – так хорошо я себя не чувствовал уже очень давно. В своей комнате проверил, остался ли еще керосин в лампе. Я решил подождать до утра, а потом прочесть письма. Спал гораздо лучше, чем обычно, рано проснулся, вскрыл письма и разложил их на стеганом одеяле. Первые два были от Эсме, третье – от матери. Четвертое, как ни странно, от дяди Сени.
Эсме работала в госпитале, ухаживала за ранеными – как за нашими, так и за пленными немцами в Дарнице, на другом берегу Днепра. Она писала, что все они выглядели жалкими и потерянными. Было трудно принять, что немцы – совсем не несчастные рабы, которых заставили сражаться жадные господа. Наши солдаты, по ее словам, были отважными и всегда веселыми, истинными русскими до кончиков пальцев.
Мать писала, что ее здоровье окончательно восстановилось. Мне не следовало волноваться; ее слегка знобило, но холодной зимой это вполне естественно. Река замерзла. Матушка надеялась, что с запасами продовольствия в Петрограде гораздо лучше, чем в Киеве. После Брусиловского прорыва она ожидала улучшения ситуации. Кроме того, в письме она просила меня питаться как можно лучше, ради нее.
Письмо от дяди Сени было загадочным. В Одессе дела обстояли прекрасно. Война осложнила жизнь, но решение Румынии перейти на другую сторону наилучшим образом повлияло на состояние людей. Случались мелкие погромы, но не настолько ужасные, как десять лет назад. К счастью, весь гнев был направлен на лиц немецкого происхождения. Это удивительно, добавил дядя Сеня с обычным суховатым юмором, насколько в Одессе теперь стало больше русских по сравнению с довоенными временами. Доктору Корнелиусу пришлось покинуть страну. Все, казалось, шло неплохо, но на случай непредвиденных обстоятельств имелись планы. Возможно, я понадоблюсь дяде, чтобы отправиться за границу по его поручениям. Он подготовит все необходимые бумаги. Он имел в виду, что может обратиться ко мне, если потребуется.
Я немедленно сочинил ответ. Я был всем обязан дяде. Я добился блестящих успехов в институте и, когда настанет время выпускных экзаменов, произведу впечатление на всех преподавателей, как Пушкин в Царскосельском лицее. Дядя Сеня мог надеяться, что и мой портрет вскоре появится на стенах учебных заведений! Естественно, я оставался в его распоряжении и ждал новостей о работе, которой следовало заняться. Мистер Грин уже намекал, что следует ожидать чего-то подобного. Мне не терпелось отправиться за границу. Мог ли дядя через мистера Грина хоть как-то намекнуть, куда мне предстоит поехать? А пока я просил его передать мои наилучшие пожелания тете Жене, Ванде, Шуре и всем остальным моим друзьям и родственникам в Одессе. Я с нетерпением ждал новой встречи с ними. Попросил непременно передать Шуре мои извинения. Было глупо не доверять ему. Мне хотелось, чтобы кузен понял, что я протягиваю ему руку дружбы.
Я написал короткое письмо Эсме. Дела в Петрограде шли очень хорошо. Мы, подобно жителям других регионов, кое-чем пожертвовали, но очень скоро отбросим варваров обратно в их логово – и уже навсегда. Тем временем она могла помочь пленным, обучая их русскому. Ведь именно на этом языке им придется разговаривать после войны! Я ответил матери. Стыдно сказать, но я ничего не спросил о приступах озноба. Вместо этого я написал: очень рад, что ее здоровье более-менее улучшилось. Я был уверен, что она скоро оправится от хрипов; кроме того, рядом с ней теперь находилась опытная санитарка. Матушка всегда отличалась отменным здоровьем. Она жаловалась на разные болячки, подобно многим из нас, когда ей требовалось немного сочувствия. Я предпочитал делиться с ней иным: любовью, уважением и пониманием. Это казалось мне более благородным. И мать это понимала. Она говорила, что, будучи интеллектуалом, я не всегда мог выражать примитивные эмоции, свойственные обычным людям. Этим она еще раз демонстрировала свою неизменную проницательность.
Если мне предстояло путешествовать за границей, то следовало учиться как можно лучше. Я стал реже посещать кабаре, перестал бывать с Колей в театрах и в кино, проводил меньше времени со шлюхами. Вместо этого я все чаще бывал в квартире, которую про себя называл «гнездом девственниц». Здесь мне разрешали читать, писать. Я мог, если хотел, находиться там сутки напролет, прилично питаться и получать столько чая и кофе, сколько мог выпить. Отец Марьи был зажиточным торговцем напитками, изначально работавшим в Ялте, а затем переехавшим в Молдавию. Отец Елены, как она сообщила с некоторым презрением, – фабрикант в Минске. Мой интерес к Елене возрос настолько, что я едва не сделал Марье предложения руки и сердца. Однако ни к одной из этих девственниц я не приближался. Хотя они часто мурлыкали вокруг меня, как кошки, просящие сливок, я не выказывал своего любовного интереса. Мне они были нужны ради безопасности и спокойствия. Их сексуальные потребности могли и подождать – я пока не был готов. Оставаясь у них ночевать, я спал на кушетке. Я редко позволял им посмотреть, что я читаю и что пишу. Они не только не смеялись надо мной, но и сильно смущались, если случайно трогали книгу или даже заглядывали на одну из страниц.
Лишь постепенно я начал понимать, что девушки считали меня безрассудным молодым Бакуниным, готовящим покушение на царя, – за это они иногда шепотом провозглашали тосты за чашкой чая. В каком-то смысле их заблуждение меня порадовало. Я стал еще меньше уважать их. Я не чувствовал никакой вины из-за того, что использую девушек. Зная столько, сколько я знал, я мог иногда назвать случайное имя какого-нибудь революционера. Это значило для них гораздо больше, чем для меня. Некоторых людей, так надоевших мне в кафе, девушки считали героями. Елена и Марья были типичными русскими барышнями из среднего класса, готовыми, подобно многим другим, пожертвовать работой, свободой, возможно, даже жизнью ради никчемного нарушителя спокойствия или ради того, кто хладнокровно обдумывал их уничтожение. Пусть лучше они посвятят свои жизни мне – человеку, у которого есть настоящее дело. Квартира была набита номерами «Искры» и «Голоса труда»[97] и возмутительными брошюрами. Уверен, что девушки хранили их, чтобы произвести на меня впечатление. В конце концов мне пришлось объяснить, что не стоит привлекать внимание к некоторым фактам и будет лучше, если они спрячут анархистскую литературу в другом месте. Они начали извиняться. Плохо напечатанные и бездарно написанные манифесты и декларации скоро исчезли.
Моя работа продолжалась. Я встречался с Колей, но чаще всего у него дома, где по-прежнему жил Ипполит, а не в старых привычных местах. Его все сильнее беспокоили военные события. Он утверждал, что мы близки к гибели. Я думаю, что петроградская зима, которая в этом году началась раньше обычного, вызывала меланхолию. Коля говорил, что царь обречен. Ненависть к Распутину усиливалась. Царь руководил армией (он стал главнокомандующим) так же бестолково, как и страной. Многие офицеры, включая значительную часть старой гвардии, чувствовали, что Николая следует заменить.
– Революция, – заметил Коля, – в этот раз начнется не с уличного восстания. Она начнется изнутри.
Я сказал, что газеты писали о наших победах над немцами и турками. Брусилов стал главным героем. Журналисты утверждали, что мы вскоре займем обе столицы Римской империи. Брусилов стал новым Кутузовым.
Услышав это, Коля улыбнулся. Как обычно, он был одет во все черное. Его лицо казалось бледнее, чем прежде, волосы стали почти незаметными при белом свете, лившемся из окна.
– Кто нам действительно нужен, – произнес он, – так это новый Наполеон. Французский или русский. У нас нет ни одного великого генерала. Они не могут понять условий игры. У них нет образцов для подражания, и это, мой дорогой друг Дима, уничтожает их. Они так привыкли действовать по образцу.
– Ты говоришь о традициях?
– Я говорю об образцах. Образец – примитивный способ навести в мире порядок. И все-таки он лишает всех, кто им пользуется, способности делать собственный нравственный выбор. Принимать решения, соответствующие ситуации.
– Коля, ты начитался Кропоткина.
– Даже Кропоткин обращается к истории как модели. История уничтожит нас всех, Дима. Скоро ее вообще не будет! Анализ – вот что могло нас спасти. Основание всей современной науки, а? Анализ, Дима, не план. Ты склонен планировать, когда волнуешься…
– Неужели! Ведь я – настоящий ученый. – Я решил, что он, вероятно, шутит.
– Маркс, Кропоткин, Энгельс, Прудон, Толстой – все пользовались готовыми образцами, и поэтому они совершенно ненаучны. Кропоткин мог бы подойти к науке ближе прочих. У него была надлежащая подготовка. Но молодой радикал уже считает его каким-то ветхозаветным пророком, цитирует его слова, не пользуясь его методами. Неужели это все, что у нас есть? Замена прежней веры? Язык науки заменит язык религии и станет бессмысленной литанией во славу авторитета?
– Встречаются такие ограниченные ученые, – согласился я. – Но есть – и всегда будут – другие, выступающие против них, которые постоянно, как я, создают новые теории и новые аналитические приемы.
– И их принимают?
– В конце концов – да. Готов поставить на это свою жизнь.
– В конце концов? Когда их слова включают в литанию.
– Наука в меньшей степени поддается общему упадку. Она процветает в эпоху перемен. Но стоит ли считать лучшим мир, в котором вещь кажется не заслуживающей внимания, если она хотя бы на пару дней устарела?
– Не может быть ничего скучнее этого мира.
Но я выжил и в итоге увидел именно такой мир – в эпоху свингующих шестидесятых на Портобелло-роуд, когда научные идеи стали простыми причудами, обсуждавшимися в течение нескольких дней в дрянных газетенках и затем исчезавшими. По крайней мере, в России люди все еще уважают прошлое. Сама наука не в состоянии излечить мировые недуги. Разве Аристотель смог остановить Александра Великого, опустошившего Персию? Разве Вольтер удержал Екатерину Великую от террора? Я сделал немало хорошего в жизни, но многие мои действия извратили, неправильно использовали или в лучшем случае не совсем верно истолковали. На то же мог бы пожаловаться и другой великий русский мыслитель, Георгий Иванович Гурджиев. Он был знаменитостью, когда я встретил его в Петрограде в сопровождении его группы. Он всю жизнь оставался ярым противником большевизма и потратил многие годы и все состояние, пытаясь остановить поток демократии, республиканства и социализма, затопивший весь мир. Он утверждал, что Распутин, при всех его ошибках, давал лучшие советы, чем царские министры. Распутин по крайней мере понимал, что существовали и высшие миры, превосходящие разрушающийся мир, который лишался своих главных ценностей. Я посетил дом на Троицкой улице, поблизости от Невского, однажды вечером. Коля хотел, чтобы я встретился с самым преданным последователем Гурджиева, журналистом Успенским, служившим тогда в армии. Гурджиев, конечно, гораздо больше интересовался миром духовным, нежели материальным, но некоторое время я был увлечен его идеями, как и многие другие интеллигенты. В итоге я вернулся к православию, которое предлагало почти то же, что и Гурджиев, и, если так можно сказать, требовало гораздо более скромной платы. Цена за лекции Гурджиева даже тогда составляла примерно тысячу рублей.
В годы между войнами философия Гурджиева привлекала многих замечательных людей, которые справедливо считали ее заменой текущих политических движений и фантазий. На какое-то время этим учением увлеклись и некоторые важные политические деятели. Мир, возможно, был бы сегодня совершенно иным, если б учение Гурджиева укоренилось в умах, скажем, Гитлера и Геринга. Гурджиеву следовало бы в 1917 году остаться в Петрограде, а не возвращаться в Тифлис. Он, возможно, изменил бы весь ход российской истории. Он был благородным противником анархизма и социализма, считал их ничтожной имитацией истинного мистического опыта. При этом я неоднократно видел, как он спокойно беседовал с решительными большевиками и, кажется, соглашался с ними. Но таков уж был его метод – обратить их собственную логику против них, чтобы одержать победу.
В последние месяцы перед отречением царя на улицах становилось все хуже. Широкие тротуары стали еще более грязными и мрачными. Питер превратился в город смерти и опустошения. Военные репортажи обещали решительные успехи до начала декабря, но непосредственно перед тем, как я приступил к сдаче экзаменов, пришли новости о взятии Бухареста. Румыния капитулировала[98]. Мы внезапно лишились союзника. Раненые солдаты заполонили город. Франция и Англия, по слухам, готовились объединиться с Германией против России. Даже я, поглощенный своей диссертацией, не мог пренебречь тем фактом, что мы оказались в большой опасности.
И тогда мне пришло в голову, что все мои экзаменаторы чувствовали то же самое. Я решил поведать им о некоторых изобретениях, которые могли бы помочь выиграть войну. Я решил не сообщать подробности, которые могут напугать этих бедных, лишенных воображения людей, а просто упомянуть о новых идеях. В психологическом отношении это был бы самый подходящий момент, чтобы продемонстрировать свои знания и получить высокие отметки.
Это не был цинично продуманный план, хотя, конечно, я собирался поразить и профессора Меркулова, и прочих ученых, и других студентов, но я знал, что это может оказаться полезным, если я хочу добиться места в правительстве.
Я репетировал свой доклад перед девушками. Они находились под впечатлением, хотя большая часть того, что я говорил, не задерживалась в их головах. Отдельные фрагменты выступления я проверял на Коле, который заметил, что я рассуждаю «блестяще», и радостно смеялся, слушая, как я разъясняю научные теории. Я писал письма домой, обещая, что вскоре будут хорошие новости. Написал дяде Сене о том, что у него есть племянник, которым он вскоре сможет с полным основанием гордиться. Домовладелице и ее дочерям я казался, по их словам, невыносимым, потому что моя самоуверенность стала просто чрезмерной. Я думаю, что они предпочитали более застенчивого Дмитрия Митрофановича, только приехавшего в Санкт-Петербург. По мере того как приближался день итогового экзамена, я становился все более возбужденным. Окна в конках к тому времени покрылись изнутри льдом толщиной в полдюйма. Стало настолько холодно, что длинные сосульки свисали с крыши у меня над головой, но я едва замечал их. Я представлял, как обращусь к профессорам и экзаменационной комиссии, как однокашники будут удивленно слушать меня и вскакивать с мест, внезапно понимая смысл моих речей.
В первые дни экзаменующиеся просто встречались с профессорами и отвечали на простые вопросы. Я тщательно продумывал свои ответы, намекая на то, что мои знания выходят далеко за пределы программных требований. К середине испытаний я включал в свои ответы все больше информации, как бы случайно намекая на некоторые современные изобретения, на определенные материалы и фабрики, на результаты новейших исследований и продвинутые теории. В последний день, когда настала моя очередь защищать диссертацию перед всем институтом в большом зале, я решил отбросить все ограничения. Я научился, подобно многим в то время, вводить кокаин внутривенно. Я ввел себе большую дозу незадолго до того, как сел в трамвай. К тому времени, как я достиг политехнического, ни холод, ни беспокойные взгляды товарищей меня ничуть не волновали. Я был готов ко всему. Помню, что расстегнул пальто, пересекая скрытый туманом внутренний двор по пути к главному залу, демонстрируя презрение к погоде, да и ко всему остальному тоже.
Я проявлял нетерпение (это заметили даже некоторые экзаменаторы), пока четверо других студентов делали нелепые, неуверенные доклады по незначительным техническим вопросам. Потом наконец произнесли мое имя, и я шагнул на возвышение, на котором за овальным столом сидели все сотрудники и руководители политехнического. Над их головами висел большой портрет милосердного царя Николая; передо мной собрались студенты. Было заметно, что некоторые из них посмеиваются и перешептываются, глядя на меня. Я мог одним суровым взглядом легко успокоить их.
Насмешливый голос профессора Меркулова донесся со стороны стола:
– Что ж, Хрущев, о чем собираетесь поведать? Полагаю, вы что-то вынесли из долгих занятий?
Я обернулся и рассмеялся ему в лицо. То был вовсе не наглый смех, а смех человека, который наслаждался шуткой вместе с равным (или – на самом деле – с низшим):
– Я собираюсь говорить об онтологическом подходе к проблемам науки и техники, – сообщил я экзаменаторам, – уделив особое внимание тому, как техника может помочь нам одержать верх в военных действиях.
– Довольно обширная тема, – сказал Ворсин, один из старших профессоров, маленький старичок с желтой морщинистой кожей, – особенно для человека ваших лет.
– Это тема, ваше превосходительство, в которой я весьма легко ориентируюсь. Я посвящал свободное время дополнительным занятиям. Причина, по которой меня направили в ваш институт, в некотором смысле просто завершение некоей формальности. Мне требовался допуск к научным данным, которые не везде можно получить. Я также хотел изучить некоторые академические дисциплины. Полагаю, это произвело впечатление на профессора Мазнева и вызвало враждебность некоторых других профессоров. Я в любом случае очень благодарен вашему превосходительству и преподавателям за оказанную мне помощь.
Казалось, Ворсина это впечатлило. Он улыбнулся своим коллегам.
– Теперь, ваше превосходительство, могу ли я начать?.. – Я поклонился с чувством собственного достоинства.
– Начинайте, – сказал старик, взмахнув рукой. Этот жест выражал великодушие и доброту.
Ворсин наклонился, чтобы прошептать что-то на ухо Меркулову. Я знал, что он спрашивал обо мне и получил в ответ пристрастное суждение Меркулова. Но меня удивила глупость и самонадеянность недавнего лектора.
Я начал доклад почти мгновенно. Я отбросил свои записи и обратился к аудитории, иногда заговаривая с профессорами, которые почти тотчас же стали выказывать удивление. Все выглядело так, будто Иисус сел рядом со старейшинами в синагоге. Действительно, я чувствовал себя в чем-то подобным Богу. Отчасти это происходило, полагаю, из-за воздействия кокаина. Если я и не был мессией века науки, то чувствовал, по крайней мере, что мог бы стать его предтечей!
Бесспорно, мои слова немедленно оказали сильнейшее воздействие на слушателей. Я затронул проблемы ньютоновской науки в связи с современными познаниями, последние открытия в области сверхпрочных материалов, которые позволят нам построить совершенно новые типы машин – гигантские самолеты и воздушные корабли; привлек внимание к возможностям ракетных установок, позволяющих преодолеть ограничения, обычные для двигателей внутреннего сгорания; говорил об аэропланах на газовом топливе – в них следовало использовать нагревательную систему, которая позволила бы довести некоторые газы до необходимой температуры; рассказал о разновидности многоцилиндровой машины, которая могла использовать энергию сжатого воздуха, – она расстреливала бы врагов тысячами игл с полыми наконечниками, в которые несложно поместить смертоносный яд, убивающий мгновенно, независимо от того, куда попадет. Яд можно заменить наркотическими препаратами, и тогда у нас начнутся войны без смертей. Это будет гораздо эффективнее газовых атак, которым, так или иначе, можно противостоять. Я также описал чудовищные машины, в тысячу раз превосходившие размерами самые большие танки, способные пробиться сквозь вражеские позиции, хороня всех, кто оказывался у них на пути. Я коснулся нашего понимания всех современных технологических процессов и собирался перейти к более абстрактным вопросам, к электрическим атомам, когда Меркулов – этот завистливый недоумок! – вскочил и закричал:
– Я думаю, мы услышали все, что нам было нужно, Хрущев!
– Я только начал, – спокойно заметил я. – Можно еще многое сказать.
– Садитесь.
Я объяснил: они просто не поняли, что это мои вводные замечания.
– Мы поняли все, что хотели понять. – Очевидно, он страдал от угрызений совести, осознав, до какой степени недооценивал меня. Профессор говорил очень вежливо. Возможно, он хотел, чтобы я берег силы. Но в тот момент, однако, я решил, что Меркулов пытался помешать мне.
– Если вы хотите правильно оценить мой доклад, – ответил я, – то будет справедливо, если я представлю максимально полную картину. В наше время сама информация является оружием.
Старый профессор Ворсин прервал меня:
– Возможно, ваши идеи представляют интерес для врагов? Любой шпион… – Он указал в зал.
Я понимал скрытый смысл его слов, но уже давно ожидал чего-то подобного.
– Именно поэтому, ваше превосходительство, я не приводил в своей диссертации никаких точных расчетов. Если правительство пожелает ознакомиться с моими планами, я буду счастлив встретиться с соответствующим человеком в надлежащее время. Здесь я всего лишь скользил по поверхности.
– На нас это произвело впечатление, – сказал Ворсин.
Потом Меркулов сказал:
– Вы можете покинуть зал, Хрущев.
Неужели этого человека все еще могла мучить зависть? Неужто он решил уничтожить меня? Это было невероятно. Но думаю, что недооценивал его. Я не вполне понимал причины его замешательства. Председатель комиссии вынудил профессора вернуться на место. Ворсина явно расстроило отношение, проявленное Меркуловым. Он обратился ко мне весьма уважительно:
– Мой дорогой Дмитрий Митрофанович, я уверен, что вы проделали огромную работу, но затронули столько новых идей, что нам трудно осмыслить все сразу.
Я кивнул, внимательно вслушиваясь в его слова, тонувшие в шуме огромного зала. Студенты признали мой гений. Это был великий момент. Я мог видеть, что других профессоров также ошеломила моя диссертация, и решил немедля обеспечить свое будущее.
– Значит, я могу рассчитывать на получение диплома в этом году?
– Несомненно, – сказал Ворсин. – Мы подготовим для вас специальный диплом.
Это превосходило все мои ожидания.
– Специальный диплом не так уж необходим, ваше превосходительство. – Думаю, я продемонстрировал подобающую скромность и самодисциплину.
– Нет, он должен быть именно специальным, – сказал Меркулов, который начал сдаваться.
Никогда мне не доводилось испытывать такого дивного восторга. Я и впрямь не ожидал быстрого успеха. Все складывалось просто превосходно.
– Очень хорошо, ваши превосходительства. Я согласен. – Я поклонился экзаменаторам и кричащей, топающей ногами толпе в зале и поднял руку, призывая их к тишине. – Но я продолжу работу в политехническом, по крайней мере до тех пор, пока мне не предложат правительственный пост. – Ликовать было бессмысленно – мои противники достойно приняли поражение. Мне следовало так же достойно принять победу.
– Конечно, – сказал Меркулов неестественным тоном. – В следующем семестре мы все решим.
– А диплом? Я смогу получить его до Рождества?
Я предполагал, что последуют обычные бюрократические проволочки, поэтому не удивился, когда профессор Ворсин покачал головой:
– Требуется время, чтобы его подготовить. Мы все сделаем, когда вы вернетесь.
Меня это удовлетворило. И Меркулов, судя по тому, как он сидел, закрыв голову руками, был наконец окончательно повержен. Я отомстил за профессора Мазнева. Как счастлив будет мой наставник, когда, томясь в изгнании, узнает эту новость.
Триумф продолжался. Ворсин лично проводил меня со сцены. Студенты окружили меня, хлопали, свистели, выкрикивали приветствия, даже хохотали от восторга. Старший профессор приподнял руку, призывая их к тишине, но шум продолжался. Позади меня, подобно побежденному тирану, крался Меркулов. Профессор Ворсин собственноручно надел мне на голову шапку и приказал, чтобы Меркулов подозвал тройку. Я спросил, не следует ли пояснить какой-нибудь из моих тезисов.
– Позже, – сказал добрый старик, – когда у нас будет больше времени и когда вы отдохнете.
Я уверил его, что не нуждаюсь в отдыхе. Так хорошо я не чувствовал себя в течение многих месяцев. Полагаю, профессор просто не мог подумать, что подобный расход умственных сил не сопровождался физическим истощением. Само собой разумеется, меня поддерживала инъекция кокаина; мне в конечном счете понадобилось выспаться, но гораздо позднее.
Меня вывели во внутренний двор. Личная лошадь Ворсина и тройка стояли наготове. Студенты все еще приветствовали меня. Я слышал обрывки их фраз:
– Это великий Хрущев!
– Он как Галилео и Леонардо вместе взятые!
Я поклонился, махнул им рукой. Они вновь приветствовали меня. И снова доброжелательный Ворсин призвал их к тишине. Мне льстила его забота. Он извинился, что не может сопровождать меня лично, но мой профессор проследит, чтобы я благополучно добрался домой. Было очевидно, что Меркулов собрался возразить: он нахмурился, начал протестовать. Он не настолько «квалифицирован», чтобы поехать со мной. Как изменился его тон! Теперь настала моя очередь выразить великодушие. Я сказал, что для меня было бы удовольствием проехаться в его обществе. Трепеща, он сел рядом со мной. Дружески простившись со старшим профессором и шумными студентами, я сделал знак извозчику. И мы помчались по старому Санкт-Петербургу; щелкнул кнут, зазвенел колокольчик – тройка понеслась почти так же стремительно, как мои мысли, а я продолжал развивать свои идеи, обращаясь к разинувшему рот Меркулову. Он по-прежнему не мог подыскать слова, чтобы выразить, насколько он меня недооценивал.
– Специальный диплом, конечно, для меня очень важен, – уверял я Меркулова. – Но прежде всего меня интересует работа на правительство.
Он сказал, что абсолютно уверен: правительство предоставит мне все необходимое. Меня обрадовала его проницательность.
– Нужны, прежде всего, материалы и средства. Тогда я смогу начать работу.
Меркулов посоветовал мне следить за собой. Я был перевозбужден.
– Это едва ли возможно в настоящее время, – заверил я. – Мне нужно решить, следует ли остаться в политехническом, помочь в преподавании, или посвятить все мои таланты военному делу?
Профессор сказал, этот вопрос следовало тщательно рассмотреть. Вероятно, его придется обсудить уже в следующем семестре, после того, как я отдохну. Я вновь повторил, что нахожусь на пике возможностей, однако было бы неплохо, если бы у меня оставалось больше времени для личных дел. Он согласился и предложил взять творческий отпуск, пока будут проводиться необходимые встречи на высоком уровне. В этом семестре просто не оставалось времени обсудить все детали. Преподавателям нужно встретиться с представителями правительства в следующем семестре. Меркулов предложил мне подождать, пока не поступят известия из политехнического. Это совпадало с моими планами. Я согласился, что это также позволит подготовить мой специальный диплом.
Наши мнения совпадали. Мы мчались сквозь сверкающий туман белой ночи. Когда мы приблизились к центру Петербурга, Меркулов спросил, где я живу. Я решил не давать ему адрес своей бедной квартиры и приказал извозчику ехать к дому на Крюковом канале, где обитали мои девственницы.
У входа меня приветствовала старуха-полячка; теперь она явно заискивала, даже стала обращаться ко мне «ваша честь». Очевидно, она удивила Меркулова, который по-прежнему держался неприветливо и тяжело дышал. Он объяснил, что я переутомился, и попросил удостовериться, что я отдохну. Профессор сказал, кто-то, возможно, и он сам, приедет удостовериться, что со мной все в порядке. Я ответил ему, что в этом нет необходимости. Полячка несколько удивилась, пообещала заботиться обо мне как о родном сыне. Отношение профессора Меркулова ко мне наконец переменилось. Он сказал привратнице, что она хорошая, добрая женщина, что я очень чувствителен и нуждаюсь в покое, что мой мозг и тело нуждаются в отдыхе. Если потребуется доктор, его пришлют из института. Я положил ему руку на плечо, показывая, что ценю деликатность потерпевшего поражение противника.
– Девочки ему как сестры, – сказала старая карга. – Они сделают все что нужно.
Полячка проводила меня до квартиры. Елена открыла дверь, ее лицо засияло, когда она увидела меня; пани объяснила, что я приехал на тройке, профессор попросил позаботиться обо мне. Девушка отвела меня в свое уютное гнездышко, уверив консьержку, что сделает все, что нужно. Я по-прежнему пребывал на вершине мира. Мы вошли в гостиную.
– Вы скрываетесь?
Она была возбуждена. Я обнял ее и крепко прижал к себе.
– Это был лучший день в моей жизни.
Я понял, что теперь она моя. Можно было праздновать победу. Я нежно поцеловал ее в губы. Елена прошептала, что Марья еще не вернулась домой, попыталась вырваться, но я крепко сжал ее маленькое запястье и сказал, что люблю ее. И я не обманывал. Я всех любил в то мгновение. Я поразил весь институт своими блестящими познаниями, вернулся домой в личном экипаже профессора. Весь политехнический был охвачен волнением. Девушка спросила, сделал ли я что-то «политически опасное». Я рассмеялся.
– Зависит от того, что вы имеете в виду, Леночка. Я показал им будущее! Я показал им век науки! Я показал им всем, как можно изменить наш старый мир!
– И вы убедили их?
– Они аплодировали мне.
– Все?
– Все.
Она не совсем поняла меня. Я снова ее обнял и поцеловал еще более страстно. Мне нужна была эта кульминация. Эта награда. Маленькая Лена была идеалом. Девственницей. Ее груди начали вздыматься, руки сомкнулись у меня за спиной в объятии. Потом она отступила, покраснев, сказала, что приготовит чай. Я бросился на кушетку, покрытую стеганым одеялом крестьянской отделки с замысловатым узором, от которого исходил слабый, волнующий аромат. Я следил за девушкой, когда она, шелестя шелковым платьем, шла по комнате. Через некоторое время Елена принесла мне стакан чая. Я взял его, жестом указав, чтобы она присела рядом. Двигаясь томно, неуверенно, она оказалась на кушетке, свернувшись клубком в моих объятиях. Мы вместе пили чай. А потом я – очень медленно – начал заниматься с ней любовью: гладил руки, лицо, бедра, затем подхватил ее, плачущую, и отнес в спальню. Она пыталась сопротивляться, но ни одна женщина не могла бы противостоять мне в тот день. Мои руки скользнули ей под одежду и коснулись плоти, потом опустились ниже – и она застонала. Но, несмотря на ее трепет, подобный трепету птичьих крылышек, она была моей. Я раздел ее, потом разделся сам. Лицо Елены выражало умиротворение и покой, но глаза напоминали глаза газели, влюбленной в леопарда. Она охотно умерла бы за одно прикосновение моих лап, за одно прикосновение моего рта к ее плоти. Мое тело переполнялось сдерживаемой агонией восхитительных страстей и обостренных чувств.
И тогда я оказался сверху и резко овладел ею. Девушка плакала, стонала, кричала. Я впился в нее так, что на коже выступила кровь. Я укусил ее. Я вошел в нее, и вновь пролилась кровь. И тем не менее мне еще не хотелось останавливаться. Я откатился в сторону. Ее глаза цветом стали подобны раскаленной меди, волосы обратились в пламенный ореол, тело покрылось сетью царапин, мелких укусов и небольших ран. Потом она зарыдала – от удовольствия, от желания выплакаться; и тогда я снова овладел ею.
Когда я закончил, в комнату вошла Марья.
– Лена! Дмитрий?
Она была напугана, дрожала, стоя посреди комнаты в меховой шапочке, все еще не сняв с руки муфту. Девушка онемела от изумления. Я улыбнулся и жестом пригласил присоединиться к нам. Думаю, я без труда удовлетворил бы их обеих. Марья закрыла дверь и ушла прежде, чем я успел предложить. Я засмеялся. Лена лежала неподвижно, рассеянно глядя на закрытую дверь. Я овладел ею в третий раз. Моя сперма заполнила ее зад, как расплавленная сталь. Она вновь отдалась страсти. Марья больше ее не интересовала. Пусть осуждает! Лена согласилась со мной. Она стала по-настоящему дикой, как восхитительное животное. Мы целовались, кусались, наслаждались теплом и молодостью друг друга. Мы собирались заняться любовью в четвертый раз, когда Марья вновь отворила дверь. Позади нее светилась газовая лампа – начинало темнеть. Она сняла верхнюю одежду. Она была в отчаянии.
– Я думала, ты любишь меня, – сказала она.
– Я люблю вас обеих. Иди к нам, – предложил я.
– Это неправильно. Разве ты не видишь?
– Нет ничего неправильного – мы живые люди.
– Мы скоро выйдем, – сказала ей Лена, – и все объясним.
– Твое тело! Что он с тобой сделал?
Лена не замечала следов любви, но теперь посмотрела на свои груди и бедра, улыбнулась, трогая их, но потом сникла. Глупая Марья вошла в Рай. Она сделала то, что Люцифер сделал с Адамом и Евой: внезапно пробудила в нас стыдливость. Маленькая дурочка оказалась змеей, принесшей грех в Сад. Я был в ярости. Я вскочил, бросился к ней, ухватил ее за волосы.
– Избавься от этих предрассудков!
– Это – не свобода… это… – Она разрыдалась, попыталась вырваться.
Но я крепко держал ее.
– Присоединяйся к нам, ты, сучка! Будь женщиной!
А потом как будто завертелось колесо. Гигантское маховое колесо, на котором мы все раскачивались. Лена кричала, танцевала нагишом между нами. Я впился в Марью, в ее одежду, волосы, тело. Мы кружились и кружились, неспособные управлять движением. Мы были уничтожены в механизме, казавшемся белым, горячим и податливым, но давившем нас, как будто мы – высокопрочный сплав. Его зубцы разрывали нас на куски. Сверкали капли крови. Постепенно визг и вопли становились все громче. Это было невыносимо. Я посмотрел на девушек. Елена была совершенно голой, одежда Марьи изодрана в клочья, одна грудь торчала наружу. Обе плакали и истекали кровью. Они умоляли меня о том, что отказывались принять. Они умоляли меня о прощении и смерти. Они умоляли о любви и неведении, которого лишились. Они просили у меня веры, которую я даровал и которую теперь они считали утраченной. Они просили Бога, кроткого, карающего Христа, который явился к ним в час откровения. Внезапно я почувствовал усталость. Я испытывал к ним только презрение. Они сопротивлялись тому, чего сильнее всего желали. Они сопротивлялись просвещению, отказались довериться мне. И, отказавшись, раскрыли свою истинную сущность – глупые, ничтожные, мастурбирующие существа. Они были готовы развлекаться невнятными романтическими фантазиями о свободной любви и революции, даже об убийстве, но не смогли отказаться от своих убогих, нелепых представлений. Они не хотели рисковать. Я взял свою одежду и посмеялся над ними. Они плакали и истекали кровью в объятиях друг друга. Умоляли меня вновь стать иллюзией, которую я позволил им создать. Я застегнул пиджак. Я не был ничем им обязан. А они были обязаны мне всем. Моя одежда стала моей броней. Рыцарь предложил спасти их разум: восславить их женственность, их первобытную сексуальность, но они отвергли мой дар. Я покинул их квартиру. Я уверен, что в годы революции они стали большевистскими шлюхами, наркоманками-морфинистками. Сталин, несомненно, уничтожил все, что от них осталось. Лишь глупцы и жертвы гипноза погибали в этих лагерях. Никого не заставляли умирать.
Я шагал в темноте вдоль замерзшего канала, отталкивая голодных и убогих, попадавшихся мне по пути. Я надеялся встретиться с Колей у «Комедиантов», но там мне сказали, что он ушел домой. Я отправился к нему и отворил дверь своим ключом. Ипполит лежал с ним в постели, среди меховых покрывал. Сам Коля спал. Ипполит разозлился:
– Убирайся!
Я направился в кабинет, чтобы выпить и отыскать еще кокаина. Я нашел какую-то польскую темную водку и залпом выпил, открыл банку с Пьеро, взял щепотку белого порошка, попробовал его и втянул в нос, наслаждаясь восхитительным оцепенением. Ипполит встал и прошептал:
– Что ты делаешь?
– Я пришел повидать Колю.
– Что с тобой такое?
– Ничего.
– Ты с ума сошел!
– Возможно, я воодушевлен. Мне не хотелось вам мешать. – Я протянул руку, попытавшись погладить его. – Тебя я тоже люблю. – Я любил весь мир.
Тогда Ипполит усмехнулся тонкой, бессмысленной усмешкой проститутки:
– О, я понимаю.
Обнаженное тело Коли сверкало золотом и серебром, когда он вошел в комнату.
– Добрый вечер, Дима. Уже поздно? – Он взял бутылку водки у меня из рук и плеснул немного себе в стакан. – Как твоя диссертация?
Я успокоился и не имел ни малейшего желания хвастаться своими достижениями.
– Думаю, защита прошла весьма успешно.
– Хорошо. Я ожидал увидеть тебя в кабаре.
– Мне надо было повидаться с женщинами.
– Отпраздновать? – спросил Ипполит. Он явно смутился.
– Попытаться.
– Женщины пришлись не по вкусу?
– Слишком молоды. Я предложил им изведать благодать моего тела, утолить мою жажду, разделить мой триумф. А они отказались.
– О, я знаю, о чем ты говоришь! – Коля рассмеялся вместе с Ипполитом. – Они – робкие маленькие создания, совсем еще девочки. – Он наклонился ко мне, как будто пьяный, и начал расстегивать мое пальто. – Они ранили твои чувства, Дима?
– Нисколько. Я просто раздражен.
– Им не хватает выносливости.
Ипполит развязал мой шарф и расстегнул мундир. Я ощутил некое томление, зевнул, почувствовав заботу, наслаждаясь пассивностью. Коля и Ипполит отвели меня в спальню, заваленную шкурами волков и пантер, лис и тигров. Я был готов позволить им поклоняться мне. Именно этого я пытался добиться от девушек, но Марья и Елена меня не поняли. Коля и Ипполит инстинктивно знали, что следует делать. И снова возникла водка. Появился кокаин. Я был великолепен – об этом свидетельствовало каждое их прикосновение. Я был языческим богом. Я не могу объяснить случившегося. Нет, это не было извращением. Я был Паном. Я был Прометеем. Прометеем в мире, который не боялся меня так, как боялись те маленькие дурочки. Глупые мыши! Я был бронзовым Титаном, владыкой Фив, этрусским правителем, египетским божеством. Я был императором Карфагена!
Больше я ничего не помню. Я очень долго спал. Коля принес вещи из моей квартиры. Он обращался со мной очень нежно. Кажется, Ипполита поблизости не было. Я устал. Доброта Коли казалась безграничной, поистине христианской. Некоторое время я пытался подражать ему, но подобное совершенство возможно лишь в среде благородных и избранных, для меня это было недостижимо.
И еще было письмо. Я распечатал его лишь утром, когда вновь проснулся среди волков и лис; Коля сидел рядом, подобно ангелу-хранителю. Он не сделал ничего неестественного, просто помог мне. Прекрасно отдохнув, я вновь пережил мгновения своего триумфа. Я почувствовал, что, раскрывшись перед девушками, совершил глупость. Я не смогу вернуться к ним еще некоторое время; надо подождать, когда они успокоятся. Я знал, что Марья и Елена не предадут меня, потому что этим они предали бы свои идеалы. Конверт был запечатан красным воском. Я сломал печать и обнаружил еще одно доказательство победы над собственным прошлым. Оправдание всего, через что мне пришлось пройти. Паспорт. И письмо от мистера Грина. После Рождества мне предстояло отправиться в Англию, в Ливерпуль, и заняться там важным делом. Мне следовало как можно скорее встретиться с мистером Грином, чтобы узнать основные детали поездки.
У меня был паспорт. У меня был специальный диплом. У меня было признание. И все почти одновременно. Конечно, подобные вещи часто происходят. Также случается, что все плохие новости обрушиваются разом. Но я не стану портить это воспоминание какими-то печальными рассуждениями. Я не из тех людей, которые зацикливаются на том, что не свершилось. Моя судьба – в руках Божьих. Небеса – моя награда. Я грешил, признаю это. Но я даровал свое знание и свою невинность миру, и если мир не вознаградил меня так, как я надеялся, – всему виной то, что временно он был завоеван моими врагами. Почти все согласятся, что мои враги были и врагами Божьими. Мир находится во власти Антихриста. Именно поэтому я знаю, что припаду к благословляющей длани Христа, буду прощен и признан; буду стоять рядом со святыми, беседовать с Богом, преклонять колени пред алтарем Его великой любви, пред Его сиянием и милостью.
Коля сказал, что до отъезда в Англию я могу оставаться в его квартире. Это меня вполне устраивало. После той ночи Коля не оказывал мне знаков внимания, а Ипполит делал это очень редко.
Распутина убили. Застреленный, избитый, отравленный и сброшенный под лед, он все-таки по-прежнему жил и кричал. Он был Россией. О запятнанная Русь, мистическая, трепещущая и отвергающая смерть! Но за отказ от очищения наукой и современным знанием Россия заплатила ужасную цену. Она не должна была отдавать свою душу. Следовало сохранять равновесие. Ни спасение через грех, ни огромная российская всесокрушающая сила не могли помочь нам. К тому времени надежды не осталось. Нас не могла спасти предсказуемая безответственность самодержавия, поразительная славянская цельность наших чувств, безудержная храбрость казаков, вера в побежденного Христа, у которого украли Россию, пока Он спал.
Не было никакого смысла возвращаться в Киев на Рождество. Поезда ходили не по расписанию. Вражеские войска могли в любой день захватить Белоруссию и часть Украины. Мои письма и телеграммы вовремя попали к адресатам. Матери я написал: «ДИССЕРТАЦИЯ БОЛЬШОЙ УСПЕХ. ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ. ВЕСЬ ИНСТИТУТ ЛИКУЕТ. ВАШ ЛЮБЯЩИЙ СЫН». Благодаря связям капитана Брауна вскоре пришел ответ: «ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ЛЮБИМ. ГОРДИМСЯ. НАИЛУЧШИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ». Дяде Сене я послал почти такое же сообщение, но добавил еще несколько слов: «БЛАГОДАРЮ ЗА ДОВЕРИЕ. РАД СЛУЖИТЬ ЧЕМ СМОГУ. БОЖЕ БЛАГОСЛОВИ ЦАРЯ И БОЖЕ СПАСИ РОССИЮ».
Это означало, что все члены моей семьи могли встретить Рождество в самом лучшем настроении. Я спокойно провел праздники вместе с Колей. К счастью, мы сумели отыскать кое-какую приличную еду в нашем городе бедствий. Призрак Распутина, угроза гражданской войны и революции висели, как туман, над улицами и каналами. Еда стала ужасно дорогой. Ипполит не присоединился к нам, он давно съехал с квартиры. Коля уверял, что это событие не имело ко мне никакого отношения.
Мы по-прежнему оставались близки, но не в сексуальном смысле. Ночное происшествие, случившееся после защиты диплома, было не плотским соитием, а, скорее, актом любви и торжества. Я искал религиозного совета. Уверен, что не совершил никакого греха пред Богом. Нигде Господа не постигли так глубоко и не возлюбили так страстно, как в России. Нигде Ему так не повиновались и не почитали Его. Россия была самым благородным созданием Божьим. Но Он уснул, устав от войны. Христа предал Люцифер. Россию похитили. И нигде в мире, за исключением греческих церквей, я не мог отыскать Его. Великодушный Сын Божий остался в Константиновой Византии, в городе, который мы называем Царьградом, городом императора. Он спас Римскую империю. Кроткий Сын, замученный восставшими евреями, явился в России и обрел здесь пристанище. Христос – грек. Христос – Бог. Они едины. Еврейский Бог – ложный бог. Евреи предали Бога и предали Россию.
Они принесли нам безумие, отчаяние и погибель. Царь провел на карте линию. Он сказал: «Евреи, вы не должны заходить за эту черту». Но они пробрались вперед, и они столкнули царя с трона. Они убили его. Они продали Россию Дьяволу. Христа отвлекло великое множество душ умерших. Христос спал, Он уснул вместе с миллионами убитых на войне. А когда пробудился, Россию у Него похитили. Разве евреи могут утверждать нечто подобное? Я отвергаю еврейского бога. Я принимаю Христа. Ни один еврей не может так поступить. Карфаген восстал на Востоке и угрожал Риму. Карфаген вышел за границы Африки. Древняя, доисторическая, дикая кровь. Карфаген был призраком, который скакал вместе с татарскими ханами, разрушившими Киев и унизившими Москву. Ханы явятся снова, иначе с какой стати честные русские все еще опасаются своих «китайских товарищей»? Им свойственны одни и те же заблуждения? Возможно. Но их разделяют происхождение и культура. Пусть китайцы зовут нас «чужеземными дьяволами», если им это нравится. Мыто знаем, кто дьявол и кто его слуги. Россия не дремлет. Она отвернулась от Христа, но Он не забыл своих славян. Пусть евреи пускают в ход свои мерзостные идеи, как в течение многих лет пускали в ход свои мерзостные деньги. Все это сгинет. Мы уже видим знаки грядущего. Уже при Сталине евреи начали осознавать, что к их идеям проявляют все больший интерес. Сталин узнал. Он начал бы чистку России, если бы его не отравили. Не думайте, что я прощаю Сталина, этого священника-ренегата. Но к старости он осознал свои ошибки, собрал силы для войны против призрачных семитских империй, против Вавилона и Тира, Финикии и Карфагена, против Израиля, против восточных орд, которые мечтают о славе Чингисхана…
Распутин заслужил смерть. Он проповедовал невежество, а не знание. Истинную веру можно обрести лишь посредством мудрости. Он развратил царя. Бог наказал их всех – возможно, они это заслужили. Царя обманули. Когда он возвратился к Христу, Сын Божий спал. Уже было слишком поздно. В отчаянии царь отрекся. Его молитвы исказились и стали слишком земными из-за советов распутного шарлатана, который, возможно, был на содержании у международного сионизма. Царь отвечал за свои поступки лишь перед Христом, но Он не мог наставить его на путь истинный. В итоге Николай отрекся – он приблизил ужас, он уничтожил будущее, он отнял у меня все.
Но тогда я ничего подобного предположить не мог – меня очень возбуждало предстоящее путешествие. Я уже полюбил Англию. Мне казалось, что она населена очаровательными дамами и благородными, надменными господами. Все мои впечатления основывались на популярных рассказах русских писателей и статьях из «Пирсона». Прочитав Уэллса, я узнал, что там существовала бедность, но она не походила на нашу русскую нищету, была уютной. Никто в Великобритании или в Америке никогда не знал подлинной бедности, так хорошо знакомой нам. Я не вижу в бедности ничего дурного. Дайте ребенку слишком много молока, и ему не к чему будет стремиться, как говорят в Сибири.
Я начал читать на английском все, что только мог отыскать; беседовал на английском с Колей, который не слишком хорошо освоил устную речь, зато разбирался в литературе; пополнял словарный запас и оттачивал грамматику. Я каждый день доставал свой новый паспорт, рассматривал фотографию, которую туда вклеил дядя Сеня, одну из тех, что он сделал в Одессе, и наслаждался.
Паспорт был на имя Максима Артуровича Пятницкого. Жизнь становилась все сложнее, но я пребывал в таком хорошем настроении, что меня совсем ничего не беспокоило. Я поспешил к мистеру Грину. Он сказал, что мне следует отправиться в Ливерпуль через Хельсинки – взять билет на поезд в Финляндию, там сесть на корабль и, вероятно, вернуться тем же маршрутом. Мне, возможно, придется проехать через Гетеборг или даже через Данию. Торговые корабли все чаще подвергались атакам немецких подлодок.
Риск меня не тревожил. Перспектива увидеть мою дивную Англию была важнее всего остального. Но вышло так, что я попал в эту страну лишь тогда, когда большевизм и сионизм (какая ирония!) пустили корни на духовной почве, привнесенной туда из моей собственной страны.
Я отдыхал до конца января, но потом забеспокоился, поскольку из политехнического не поступало никаких новостей о моем дипломе. Затем мистер Грин сказал, что международная ситуация значительно ухудшилась. Тот груз, который он первоначально планировал передать с моей помощью, был безвозвратно потерян. Пройдет некоторое время прежде, чем появится другой. Бездействие мучило меня. Мои попытки увидеть Елену и Марью завершились неудачей. Глупые распутницы стали меня бояться. Елена расшибла лицо. Она обвиняла меня, но я, разумеется, не помнил, что бил ее.
Мистер Грин наконец сообщил мне, что готов новый пакет. Уехать сразу не получалось – начались морские сражения между английским и немецким флотами; это могло ослабить блокаду. Мистер Грин сказал, что лучше подождать несколько недель. В пакете находились секретные письма из фирмы дяди Сени, конторы мистера Грина и фирмы Роулинсона и Голда, у которой было отделение в Ливерпуле. Их главные конторы, как я узнал, располагались в Уайтчэпеле, в Лондоне. Я очень сожалел, что не смогу поехать в Уайтчэпел. Мистер Грин сказал, что очень важно добраться до Ливерпуля и вернуться обратно как можно скорее. Я должен был стать его тайным курьером, путешествующим под видом студента, разыскивающего родственников-эмигрантов. Я надеялся, конечно, что вскоре секретные курьеры начнут развозить мои собственные проекты по правительствам наших союзников. Я написал профессору Ворсину о своем дипломе и получил учтивый ответ, из которого становилось ясно, что диплом готовится. Они даже написали моему отцу, сообщив об успехе. Моим отцом, конечно, считали священника, сын которого в настоявшее время лечился от туберкулеза в Швейцарии. Оставалось надеяться, что он сможет им ответить. Теперь у меня было письмо, которое, по крайней мере, подтверждало мое право на диплом. Я начал снова выходить на прогулки с Колей. Но революционеров становилось все больше, и они занимали наши любимые кабаре. Я пару раз виделся с госпожой Корнелиус, которая сообщила, что ей все надоело и она собирается уехать из Питера. Я ответил, что скоро побываю в Ливерпуле. Она предложила отправиться в путешествие вместе. По ее словам, Ливерпуль ей был знаком превосходно. Это и впрямь показалось хорошей идеей. Я описал маршрут моей поездки и пообещал уточнить расписание поездов и кораблей.
Забастовки повторялись все чаще, особенно на рабочих окраинах. Теперь их поддерживали очень многие. Я слышал, что у моей домовладелицы начались неприятности – ее дом находился на Выборгской стороне, где вооруженные дезертиры не брезговали задерживать и грабить «буржуек». Раненые солдаты с мрачными лицами совершенно открыто рассуждали о ходе войны, роптали на Бога и царя, и никто не арестовывал их.
14 февраля 1917 года я получил еще одно письмо от профессора Ворсина. Диплом был готов и отправлен мне. Профессор сомневался, что в политехническом меня могли еще чему-то научить. Он с радостью встретился бы со мной в институте или у меня на квартире, чтобы обсудить дела. Я ответил, что хочу побеседовать. Было бы лучше всего, если бы он сразу рекомендовал меня на правительственный пост. Я получил довольно краткий ответ, подписанный его секретарем. Мое письмо получено. Профессор с самым пристальным вниманием отнесся к нему. Это меня очень ободрило. К тому времени, как царь выехал в Могилев, чтобы следить за ходом войны, я был готов занять место командующего Петроградским фортом.
Нет нужды описывать все случившееся в феврале 1917‑го. Несмотря ни на что, нас все-таки застали врасплох. Забастовки, мятежи, отречение царя, создание Временного правительства князя Львова, дикие слухи, хаос на улицах. Наши враги, красные и евреи, праздновали свою замечательную победу, в то время как люди голодали, солдаты бунтовали, преступления совершались и оставались безнаказанными. Профессор Ворсин сбежал из Петрограда вместе с половиной сотрудников политехнического. Мистер Грин закрывал свою контору. Он сообщил мне, что теперь собирается сам отвезти пакет в Англию:
– Это уже не так важно.
Коля вступил в партию эсеров. Я остался один и пребывал в растерянности.
Петроград стал чужим, безумным городом. Каждый день проходили демонстрации и митинги. Люди открыто оскорбляли своих начальников. Приличные мужчины и женщины не могли беспрепятственно выехать за границу. Вот каковы оказались демократия и социализм в действии. Все было уничтожено. Царь жил в изгнании со своим семейством. Люди, у которых оставалось хоть немного здравого смысла, уже вывозили свои деньги за границу. И тем не менее Временное правительство утверждало, что в состоянии продолжать войну. Они, разумеется, беспокоились о том, как бы не лишиться дружбы и финансовой поддержки таких стран, как Англия и Франция: знали, что без этого Россия развалится.
Я посетил политехнический и обнаружил, что профессор Мазнев вновь приступил к работе. Это, по крайней мере, было уже кое-что. Я рассказал ему о своих делах. Он уверил, что в курсе моего дела и проследит, чтобы обо мне должным образом позаботились. Множество документов пропало. Он подозревал, что кто-то из преподавателей их просто уничтожил. Вероятно, мне лучше отправиться домой на некоторое время, пока все не успокоится. В конце концов институт вернется к обычной работе. Я смогу приехать, и профессор поможет мне все уладить.
– Мне обещали специальный диплом, – объяснил я. – Следует ли по-прежнему ожидать его?
– Конечно. Но сейчас непростые времена. Не хватает бумаги – у нас трудности с печатью.
– Это важно для меня. Я получил письмо от профессора Ворсина. Он уверял, что диплом готов. Я надеялся показать его матери.
– Ну, письмо подойдет… э-э-э… по крайней мере, пока?
Я согласился, что письмо было вполне удовлетворительным подтверждением, оставил свой адрес (профессору я сообщил свое настоящее имя) и решил ждать известий. Я собирался специально приехать Петроград, чтобы забрать диплом. Было опасно доверять почте во время беспорядков. Я, к примеру, слышал о почтальонах, которые выбрасывали свои мешки в снег или в мусорные кучи, услышав об отречении царя. Полагаю, что мой старый друг Мазнев также задумывался о трудностях, ожидающих нас впереди, и пытался уберечь меня от худшего. Через несколько месяцев к власти пришли большевики. Гражданская война опустошила нашу огромную страну; она причинила гораздо больше ущерба, чем все действия немцев.
Я пожал Мазневу руку, пожелал удачи, надеясь, что он сумеет сохранить политехнический во время так называемых беспорядков. Я повторил свое прежнее предложение, поскольку чувствовал, что должен помочь в преподавании, если необходимо. Он сказал, что очень это ценит, но сейчас гораздо нужнее самые обычные преподаватели. Он пытался вернуть обратно Ворсина и некоторых других. Они отчасти побороли свои страхи и теперь могли вернуться.
Я очень рад, что последовал тогда совету профессора. Не сделай я этого – почти наверняка, подобно Ворсину, стал бы жертвой ЧК. Я дружески простился с профессором Мазневым и вернулся на квартиру, чтобы попрощаться с Колей. Он обещал послать за мной, как только все успокоится. Мой друг внезапно приобрел политическое влияние. Он обещал, что как только станет премьер-министром, тут же назначит меня министром науки. Это утешало. Даже если революционеры победят, будет неплохо, если у власти окажутся расположенные ко мне люди. В перспективе все казалось не таким уж страшным.
Я отправился в «Привал» и спросил о госпоже Корнелиус. Зал был переполнен. Здесь происходило нечто вроде поэтического вечера и политической сходки разом. Всюду виднелись красные банты. Это был сумасшедший дом. Я пробился сквозь толпу (я уже научился называть всех подряд «товарищами»), искал свою знакомую, но ее там не оказалось. Я попросил одного приятеля передать ей сообщение о том, что моя поездка в Англию откладывалась. Я надеялся вскоре связаться с госпожой Корнелиус. На улицах повсюду были группы студентов, размахивавших огромными красными флагами. «Марсельеза» исполнялась на всех инструментах, звучала из граммофонов, ее играли военные оркестры. Трамваи и омнибусы заполнили громко кричавшие студенты и пьяные солдаты. Это напоминало Парижскую коммуну. Я помнил, чем закончился давний социальный эксперимент, и надеялся, что Николай достаточно умен и будет проводить более умеренную политику.
Я остался на ночь у Коли. Его квартиру заполонили политические газеты и плакаты – барахло, которое принесла с собой революция. Мой друг отправился на встречу в Думе и не возвращался. Утром я собрал свои сумки, позаимствовал у Коли кокаин, две бутылки польской водки и несколько серебряных рублей, а потом пошел к мистеру Грину. В офисе царил беспорядок. Все уезжали. Только мистеру Парроту пришлось остаться. Он казался очень несчастным. Я сказал мистеру Грину, что мне нужно немного денег. Он, очевидно, не хотел делиться оставшимся имуществом, но выдал сколько-то бумажных рублей. Сказал, что этого должно хватить на дорогу до Киева. Если понадобятся еще деньги, мне следует писать напрямую дяде Сене. Я поблагодарил его за помощь. Паспорт у меня оставался, я был бы рад стать его курьером, если это понадобится в будущем. Он кивнул и сказал, что запомнит мое предложение.
Пробиваясь сквозь снег и туман, я направился на станцию. Там царил настоящий хаос. Дезертиры, освобожденные заключенные, калеки, жучки, сутенеры, честные ремесленники, аристократы, деловые люди, студенты – все пытались сбежать из города. Рассчитывать на путешествие с удобствами не приходилось. Заплатив втридорога, я сумел раздобыть билет третьего класса и оказался в переполненном вагоне, одно окно в котором уже разбили: «Будет легче дышать», – сказал мне небритый солдат. От спальных мест исходила страшная вонь. В вагоне находилось множество цыган, евреев, татар, армян, поляков и просто пьяниц – все пропахло мерзким табаком, дешевой водкой и рвотой. Я вцепился в свои сумки, вынужденный прижаться к старому еврею в черном пальто и молодому однорукому солдату, который также пытался добраться до Киева.
И вот наконец поезд медленно отошел от станции. Санкт-Петербург стал скорбной тенью, захваченной все-таки силами хаоса. Мы оставили его позади. Затем вихри снега полетели через разбитое стекло, лишая меня возможности что-то разглядеть. Я утешался тем, что, в конце концов, за короткое время достиг в столице гораздо большего – того, на что даже не рассчитывал. Я возвращался домой с победой!
Глава восьмая
Четыре дня спустя поезд прибыл в Киев. Пока я выбирался из холодного купе, у меня в темноте вытащили несколько книг, недорогие статуэтки, купленные для матери, и пару перчаток. К счастью, у меня остались Колины меховые рукавицы. Я надел их, прежде чем подхватить сумки и направиться пешком в сторону Кирилловской.
Мой город захватили подонки всех мастей: дезертиры, убившие своих офицеров, крестьяне, прикончившие своих господ, рабочие, ограбившие своих хозяев; все явились в Киев, чтобы потратить золото на выпивку и женщин. В поезде я встретил множество деловых людей, дворян и интеллигентов из Петрограда и еще некоторое количество спасавшихся бегством жителей Москвы. Они надеялись добраться до Ялты, Одессы или какого-то другого города на побережье. Я не знаю, куда они собирались отправиться дальше. Турки и немцы перекрыли все морские пути. Возможно, те места в меньшей степени были охвачены революционным безумием. В Киеве красные знамена висели на всех домах; на стенах виднелись прокламации, некоторые из них были на украинском языке – это меня весьма огорчило; митинги проводились на каждом углу; оркестры играли песню на стихи Шевченко «Еще не умерла Украина»[99] и «Марсельезу». Пол в вагонах был загажен шелухой от семечек и прочим мусором (это слово подходило также многим моим попутчикам). В городе творилось то же самое – и на тротуарах, и в парках. К власти пришли бездари. Прежний цивилизованный Киев исчез. Трамваи больше не ходили по расписанию; экипажей не стало; толпы пьяных бандитов в матросской и солдатской форме бродили повсюду, требуя денег, выпивки, еды, сигарет у прохожих. Поскольку не поступило соответствующих распоряжений от демократической Рады, полиция и казачья милиция сомневались в том, каковы их полномочия. Следует ли задерживать бандитов или просто просить оставить других товарищей в покое? Нужно ли стрелять на поражение или просто игнорировать действия новых аристократов? Вооруженные до зубов дезертиры и преступники могли убить всякого, кто им не нравился, – эта ситуация была типична для всех российских городов во времена Керенского, и она ухудшалась. Большевики просто узаконили террор и обеспечили ему моральное оправдание. Все жертвы именовались ликвидированными буржуями; теперь их просто вносили в списки пострадавших от несчастных случаев. Город выглядел так, будто одна половина населения была пьяна, а другая пребывала в безнадежном унынии. Я прошел по Подолу. Все гетто стало красным: евреи праздновали победу. Я купил «Голос Киева»[100]. В газете уже проявились националистические настроения.
К тому времени, как я добрался до нашей тихой, темной улочки, я понял, что готов поддержать любую власть, даже социалистическую. Мои руки и спина ужасно ныли. Я затащил свои сумки по мрачной, вонючей лестнице на наш этаж и постучал в дверь квартиры. В ответ не раздалось ни звука. Я поднялся выше и позвонил в дверь капитана Брауна. Вскоре старый шотландец появился в дверях. Он трясся, от него разило самогоном. Его взгляд с трудом сфокусировался на мне.
– Это я.
От неожиданности он поперхнулся, вытер свои длинные усы, как будто смахивая с губ остатки пищи.
– Твоя мать будет очень рада.
– Ее нет дома.
– Заноси свои вещи. – Он жестом пригласил меня в комнату. – Повсюду воры. Тебя могли убить. Завистливые негодяи прикончат любого, если почуют хоть малейшую наживу.
Капитан Браун, спотыкаясь, пошел за мной и попытался поднять чемодан, но потерпел неудачу. Я никогда не видел его таким беспомощным. Он стал старым и жалким.
Мы вошли в его пустую квартиру. В годы моего детства это был маленький кусочек Великобритании, которую я любил: трофеи на стенах, английские картины и книги. Даже ковры казались английскими. Теперь капитан продал все ценности. Я был потрясен. Пожалел, что никто не сообщил мне о его затруднениях. Он сел за пустой стол и извинился:
– Тяжелые времена. Война. Твоя мать допоздна работает в прачечной. Им пришлось уволить половину людей. Другие ушли бог весть куда. В деревню, вероятно, – там они присоединятся к грабителям. Правительство пытается остановить это. Могло быть и хуже. Первые дни – это настоящий ужас. – Он налил мутную водку в стакан. – Выпьешь глоток?
Я согласился. Водка оказалась отвратительной. Капитан сказал:
– Если нам повезет – все скоро будет нормально. Князь Львов[101] не интересуется украинской независимостью, а Керенский хочет, чтобы мы шли сражаться с немцами.
Я улыбнулся и глотнул мерзкого напитка.
– Вы заразились политикой, капитан Браун.
– Это мир политики. – Он резко сменил тему. – Эсме отправилась в Галицию. Она тебе писала?
Я огорчился.
– Когда она уехала?
– Две недели назад. Смешанные силы – британский моторный дивизион и казачья конница. Много дезертиров. Надеюсь, у малышки все хорошо. – Капитан помрачнел. Он снова вытер усы, как будто в смущении. – Они ведь дурно обращаются с женщинами, так? Они мобилизовали крестьян. И монголов?
Я начал волноваться:
– Сестер милосердия следует отозвать с фронта.
– Она не вернется. Слишком благородная…
Я признался капитану Брауну, что мне нужно отдохнуть. Может ли он впустить меня в квартиру матери? Он, раскаиваясь, признался, что произошло нечто, причем он не мог вспомнить, что именно, но впоследствии настоял, чтобы мать забрала у него ключи от своей квартиры. Запасные ключи теперь хранились в прачечной. У меня не было сил идти туда, поэтому я разместился на одном из последних ветхих кресел капитана. От водки я повеселел. Мне не хотелось встретить мать, благоухая дешевым алкоголем, но этот напиток бодрил меня всякий раз, когда я начинал дремать. Капитан Браун перешел на английский язык. Он поведал историю о патанах[102] на Северо-Западной границе, смешивая ее с похожими рассказами о Малайском архипелаге и о шахтах в уэльсских долинах, где динамит вызывал обвалы, уничтожавшие целые деревни. Динамит был общей деталью всех трех рассказов: его неправильно использовали люди, которые не понимали сути вещества, необходимости правильного размещения и подбора подходящих детонаторов. Капитан Браун и дальше продолжал путать различные места и события. Патаны появились в Мертир-Тидвиле, а кельтские шахтеры оказались в Сурабае[103].
Через некоторое время с нижнего этажа донесся шум. Я подошел к перилам и посмотрел вниз. Моя мать, стройная, как всегда, с изумительными волосами, аккуратно уложенными, в элегантном черном пальто, черном платье и черных сапогах отпирала нашу дверь.
– Мама! – Я спустился по лестнице.
Она обернулась ко мне и заплакала. Мать не попыталась приблизиться ко мне, а я не мог пошевелиться. Возможно, она примирилась с мыслью о моем исчезновении или даже о моей смерти и теперь не могла поверить, что ее сын, изящный и спокойный, хотя немного уставший, стоял перед нею. В конце концов я подошел к матери и обнял ее, потом поймал и поцеловал ей руку, а она поцеловала меня в лоб. Спросила, останусь ли я на ужин. Я уверил ее, что задержусь на некоторое время. Дрожа от прилива чувств, матушка взяла меня за руку и отвела в квартиру. Я убедился, что дома так же уютно, просто и спокойно, как прежде. Вздохнув, я остановился, осмотрелся по сторонам и улыбнулся:
– Как же здесь хорошо!
– О мой дорогой сынок…
Мы снова обнялись.
Мать взялась за дело: растопила печь, поставила самовар и разогрела суп. Капитан Браун негромко постучал в дверь, прежде чем внести в комнату мои вещи. Я объяснил, что купил подарки, но их украли. Мне посочувствовали. Капитан уселся на мамину кушетку и сказал, что мне еще повезло – удалось сохранить довольно много вещей. Как идут дела в столице? Я ответил, что не очень хорошо. Капитан Браун слышал, что американцы прислали огромные воздушные корабли с какими-то лучами, которые могут мгновенно уничтожить тысячи людей.
– Это положит конец войне и позволит царю восстановить порядок. Конец окопной войне! Но педики, кажется, забились в щели и застряли там. Можно подумать, все они – проклятые валлийцы!
Он от души смеялся над своей невнятной, грубой шуткой. Моя мать не поняла, что он выругался. В ее присутствии капитан никогда не сквернословил по-русски – одно русское ругательство стоит двадцати греческих. В мужской компании он, возможно, одержал бы верх в любом споре в любой киевской таверне лишь с помощью убедительных и экспрессивных фигур речи.
Голова капитана опустилась на грудь, и он захрапел. Он оставил бутылку у себя в комнате, но действие ее содержимого продолжалось в течение часа.
Моя мать поспешно накрыла на стол, принесла суп, нарезала хлеб, жалуясь, что он напоминает опилки. Она обнаружила двух тараканов в последней буханке. Мама простояла в очереди за этими тараканами почти весь вечер после работы, на сильном морозе. Она знала нескольких женщин, которые заболели бронхитом или пневмонией и умерли, стоя в хлебных очередях. Это было нелепо – все знали, что Украина была житницей России.
Это звучало как националистический лозунг. Я сказал, что нам повезло больше, чем жителям Петрограда, но некоторые обитатели Сибири и Кавказа жили по-царски. Поезда с провиантом ходили редко, и приходилось либо съедать все продукты, либо просто оставлять их гнить. Всё, к чему стремились националисты, – толстые животы и глупое довольство. Я так и вижу их с идиотскими плакатами, голодающих около российского посольства. Я могу лишь смеяться над ними. Если бы я оказался тогда в здании посольства и выглянул наружу – подумал бы: что там за идиоты? Их «нация» теперь независима как никогда. Интересно, почему они не возвращаются? Может быть, предпочитают жизнь в стране, где можно свободно жаловаться, набивая каждый день животы супом и мясом? Дома они неделями не видели ничего, кроме капусты или – совсем редко – кусочка гусятины. Я долго мечтал, что буду похоронен в родной русской земле. Но у большевиков хорошая память. Они повесили Краснова, которому уже перевалило за семьдесят, потому что он был гетманом Войска Донского, – разыскали его в Германии в 1945‑м. Его имя значилось в их списке врагов. Он не сделал ничего дурного – водил своих казаков в бой и сочинял хорошие книги о бедах России. Но красные схватили этого дрожащего, безвредного старика и повесили его. А ведь я тоже сражался с большевизмом.
Капитан Браун проснулся и уселся за стол, поближе к краю. Он некоторое время разглядывал тарелку с супом, а потом взял ложку и начал есть, как будто не привык к подобному. Мать нежно наблюдала за ним:
– Я не могла кормить его как следует.
Мне показалось, что, несмотря на долгие часы работы и трудности жизни, матушка хорошо выглядела. Она согласилась – ей отчего-то стало гораздо лучше, силы восстановились. Работать самой оказалось намного легче, чем следить за нанятыми девочками. Она подчас больше походила на мать-настоятельницу, чем на прачку. Капитан Браун рассмеялся над этими словами и расплескал часть супа. Извинился и, аккуратно положив ложку в тарелку, снова погрузился в сон.
– Ему нехорошо, – сказала мать. – Все из-за выпивки. Я слишком уставала, чтобы готовить для него каждый день, понимаешь?
Мы обедаем в прачечной, чтобы экономить время. Я прихожу домой, – она пожала плечами, оглядевшись по сторонам, – как видишь, только на ночь.
И впрямь дом казался каким-то заброшенным, но мне все равно было здесь хорошо. И квартира, и мать стали какими-то спокойными.
– Мне не хватает Эсме. Такая милая девушка! – вздохнула мать и спросила, когда я намерен возвратиться в Петроград.
– Мне посоветовали подождать, пока все немного поутихнет, – ответил я. – Через пару месяцев я смогу забрать свой специальный диплом. Он мне очень нужен. Я надеялся работать на правительство, но теперь постараюсь найти хорошее место в Харькове. У меня множество идей, на которые я получу патенты. Если повезет, смогу работать независимо.
– Чем ты займешься до получения диплома?
– Буду спать. – Я погладил ее по плечу и, нагнувшись, поцеловал в щеку.
– Можешь занять кровать Эсме, – сказала мать.
Глава девятая
Вскоре в суматошном Киеве я почувствовал себя более непринужденно, чем в Петрограде. Я знал все улицы родного города, все переулки, все узкие проходы между зданиями. Я знал районы, где бродили хулиганы, и знал, где избежать встреч с самыми злобными. Я знал дома, где мог укрыться. Наш район, который, по существу, являлся пригородом, оставался относительно спокойным. Он был слишком беден и потому не очень интересовал бродяг и бандитов. Нам повезло: грабителей в основном привлекал Подол. Когда лед на Днепре начал ломаться и громкий скрип, стон, треск отозвался эхом по всему Киеву, я обнаружил, что перенял от матери способность к восстановлению сил. Призрак отца остался в прошлом. Мать, будучи вдовой замученного революционера, теперь заняла в обществе определенное положение. Пусть хуже, только б по-другому – так мы говорили. Вообще-то и дела мои пошли лучше. Я решил, что стоит наладить отношения с некоторыми из старых клиентов Саркиса Михайловича Куюмджана. Инженеров не хватало. Я встретил пару человек, которые отчаянно разыскивали моего бывшего мастера. С тех пор как он уехал из Киева, половина местных механических цехов закрылась. Я обладал лишь десятой долей практического опыта и интуиции армянина, но все равно был уверен, что могу рассчитывать на хорошую работу.
Я выполнил несколько мелких заказов для евреев с Подола, которые были главными клиентами Куюмджана. Они преисполнились благодарности и заплатили, почти не торгуясь. Подобно моему прежнему начальнику, я стал мастером на все руки, чинил электрическое оборудование, паровые двигатели, двигатели внутреннего сгорания. В самом деле, я мог совершить что угодно с устройствами, в которых были винтики или рычаги. Таким образом, у меня скоро оказалось достаточно денег, чтобы приобрести более сложные инструменты; я даже отложил некоторую сумму. Деньги я хранил дома – банки не заслуживали доверия. Я пользовался услугами капитана Брауна – иногда мне был необходим помощник. Когда появилась работа, он стал меньше пить. Мать, возможно, могла бы бросить работу в прачечной, но она любила ее. Иногда мне очень хотелось повидаться с Эсме – ведь мы были такими хорошими друзьями. Она порадовалась бы моим успехам.
В Киеве обнаружилось более чем достаточно женщин, готовых удовлетворять мои сексуальные аппетиты. С деньгами в карманах я стал очень популярным гостем в кабаре, где проводил пару вечеров в неделю. Единственное, что меня смущало, – я до сих пор не получил вестей от профессора Мазнева о своем дипломе. Пока у меня не было этого документа, я не мог обратиться в крупные промышленные концерны и предложить свои услуги. Работа также помогла бы мне избежать армии. Я почти перестал употреблять кокаин, хотя наша «мать городов русских» стала одним из основных центров наркоторговли. Среди женщин, с которыми я встречался, были мои старые знакомые из Петрограда. В Киев приехали поэты, художники и актеры, с которыми я был хорошо знаком. Мои связи в обществе расширялись и становились все более полезными. Я начал одеваться в дорогие и модные костюмы. Весна была в самом разгаре. Я купил себе соломенную шляпу с лентой в английском стиле и трость с серебряным набалдашником. Я имел возможность войти в любой магазин на Крещатике и купить все, что пожелаю. Я мог нанимать экипажи. И все это на честно заработанные деньги. Днем, и иногда ночью, я был механиком в грязном синем халате, покрытом масляными пятнами. Появляясь в центре Киева, я становился самым изящным из молодых людей. Я всегда принимал меры предосторожности: носил с собой очень мало денег и предпочитал передвигаться в компании.
В городе открылось много новых маленьких театров и синематографов – как ранее в Петрограде. Балетная труппа «Фолин» прибыла в Киев, а с ней – мой старый друг Сергей Андреевич Цыпляков. Он вежливо приветствовал меня, явившись по моему приглашению в частный номер отеля «Арсон». Помещение было выкуплено и отремонтировало Ульянским. Его украшали причудливые фрески явно сексуального свойства, которые сочли бы непристойными всего за несколько месяцев до этого. Мне заведение показалось удобным по ряду причин, на его вульгарность я закрывал глаза. Отель стал одним из основных мест встреч артистов и прочих эмигрантов в Киеве. Сережу впечатлила и моя элегантность, и окружающая обстановка. Он обнял меня. Я тоже ему обрадовался. Если бы не он, я никогда бы не встретился с Колей. Мы сели обедать. Я спросил Сережу, давно ли он видел нашего общего друга.
Оказалось, что Коля возгордился и всех позабыл, стал большим человеком, участвовал в работе Наркомпроса и не желал заботиться о старых друзьях. Сережа сообщил, что собирается покинуть труппу и при первой же возможности уехать в Америку. Он спросил, где можно найти симпатичных мальчиков и немного кокаина. Я подсказал места, и мы расстались. Странно, но я начал тосковать по Коле и по Петрограду. Я даже подумал, не вернуться ли туда. Но фанатики в правительстве постоянно одерживали верх. Большевистский переворот в октябре стал естественным следствием, все ожидали его. Керенский выпустил на волю ураган и сгинул в нем. Как жаль, что Сталин не пришел к власти сразу. Увы, история, та мистическая сила, которую большевики поставили на место Бога, была против него. Он так и не смог избавиться от татарина Ленина и еврея Троцкого – они сидели у него на плечах и нашептывали ему в уши, даже несмотря на то что он убил их обоих.
Ивана Грозного иногда называют русским Макбетом. Сталин был нашим Ричардом III. Он убил миллионы людей. Сидел в огромном кремлевском кинозале и смотрел мультфильмы про Микки-Мауса, в то время как Россия умирала по его приказу. Он приблизился к Богу. Да, он сопротивлялся изо всех сил, но Бог пребывал в нем и изрекал Свою волю. Сталин убивал во имя будущего, как казаки убивали во имя Христа. Но он не мог избавиться от призраков большевистских князьков, погибших подобно боярам во времена Ивана Грозного, которых, по словам Сталина, царю следовало уничтожить полностью. Если бы Сталину даровали мафусаилов век, он бы никого, кроме себя, не оставил в живых – устроил бы на земле мир и покой. Он убивал, надеясь избавиться от осуждающих взглядов. Говорят, убийцы не могут спать. Но есть и другой вариант: тот, кто не может уснуть, становится убийцей. Лишившись своих грез, он превращает безопасный кошмар в ужасную реальность.
Я собирался воплотить в жизнь собственные грезы. Продолжая трудиться в мастерских, я одновременно создавал множество изобретений, составлял детальные чертежи на хорошей миллиметровой бумаге, уточняя все элементы новых конструкций. Я смогу произвести наилучшее впечатление, когда буду искать место в Харькове или Херсоне. Лето было хорошим. Стоя возле собора Святого Александра, я мог разглядеть Дарницу, где располагался большой лагерь немецких военнопленных, видел, как купаются заключенные. Выглядели они жутко. Этим людям сильно досталось во время войны, а мы не могли позволить себе накормить их – они ели вшей. У меня были планы насчет пленных. Я надеялся заинтересовать местных промышленников некоторыми уже готовыми изобретениями. Немцев можно использовать в качестве рабочих при воплощении в жизнь моих идей. Они будут счастливы работать за еду. Но материалов не хватало – как и людей.
Помимо этого, я работал еще над одним очень интересным механизмом – машиной для концентрации света, этакой примитивной предшественницей современных лазеров и мазеров, использующихся в медицине и астрономии. Я собирался использовать невидимый свет (теперь его называют «ультрафиолетовым»). Если бы у меня было надлежащее оборудование, а трусливые украинские дельцы, которые тянули деньги из России и не интересовались вложением средств в наши военные кампании, поверили бы мне, – тогда я, возможно, изменил бы ход войны. Механизм был несовершенен, его трудно было бы транспортировать, но он вызвал бы во вражеской армии гораздо большее смятение, чем самые массовые и решительные кавалерийские или танковые атаки.
Мать начала демонстрировать знания, удивившие меня. Мои самые простые идеи вызывали весьма интересные вопросы. Я рассказал ей о своем пулемете со сжатым воздухом и о беспилотном «огненном» дирижабле, который мог перемещать огромные бомбы; его буксировал в нужную точку аэроплан, потом дирижабль сбрасывал свой груз, и его нарочно сбивали. Я с удовольствием объяснил матери, как это можно осуществить. У меня теперь было гораздо больше проектов, чем в Петрограде, – появились и время, и уверенность, чтобы внести ясность в свой замысел. Я предвосхитил в числе прочего спутники связи (и не получил за это ни копейки), телевидение, газеты, печатающиеся через радио, военные и транспортные ракеты. Домашние автоматические устройства – еще одна моя идея; чешское слово для обозначения раба, «робот», еще не было выдумано левацким писакой по фамилии Чапек[104].
Я также работал над схемой беспилотного самолета, который управлялся с земли радиосигналами. Теперь понимаю, что был болтлив и неосмотрителен. Не только в России, но и в Германии, Америке и Англии, где многие из моих проектов были украдены недобросовестными людьми, присвоившими себе мои изобретения и продавшими их, само собой разумеется, еврейским фирмам, по-прежнему делающим на этих машинах состояния. Я не стану называть имена. Достаточно заметить, что кальсоны изобрели не Маркс и Спенсер[105].
Вспоминая те странные киевские дни, мне кажется, что я представлялся окружающим необычной личностью. Мать, однако, нисколько не тревожило, что я приходил домой измазанным маслом механиком, а уходил светским человеком. Я набирался опыта. Изначально я не выходил за пределы Подола – работы в гетто оказалось более чем достаточно. Евреи готовы были на все, лишь бы не прекращали работать их потогонные заводишки. Мне редко приходилось путешествовать на большие расстояния. Трамваи начали ходить почти по расписанию. Казалось, что все идет на лад.
В белом костюме, соломенной шляпе, с тростью с серебряным набалдашником я отправлялся по воскресеньям на прогулку вдоль берега реки. Я нанимал экипаж, если хотел поехать за город на пикник с капитаном Брауном и матерью. На время отпуска приехала Эсме, она казалась усталой и похудевшей. На этот раз я мог ей хоть чем-то помочь. Так как жить у нас было неудобно, я решил, что ей следует остановиться в «Европейской», хорошей гостинице на Крещатике. Эсме приняли за графиню и оказывали всяческое почтение. Она пришла в восторг, обняла меня, поцеловала и сказала, что это замечательный подарок. Моя подруга очень обрадовалась, когда я рассказал ей о моем дипломе, и расспросила обо всем. Я заметил, что ей следует отдохнуть, и ушел, оставив ее в изящной летней комнате, сияющей серебром, золотом и шелком. Я рассчитывал вернуться к ней вечером, а тем временем отправил в гостиницу целый гардероб и приказал, чтобы извозчик ждал нас у входа в шесть часов.
К вечеру Эсме надела красивое синее платье с перьями, туфли «танго», на голову повязала модную ленту. Она использовала немного косметики, и ее большие голубые глаза, оттененные розовым и золотым, казались еще прекраснее. Когда экипаж доставил нас на Царскую площадь, к одному из лучших ресторанов в Киеве, я гордился тем, что нахожусь с нею рядом. Эсме пробовала одно блюдо за другим, но от волнения не могла много есть.
– Мне рассказывали, что дома голодают!
– Не все, – ответил я. – Продовольствие просто не доходит до солдат, так что его кто-то должен есть. – Я рассказал, что знаю людей, которые специально отправлялись в Москву и Петроград лишь с несколькими корзинами провизии и возвращались домой почти миллионерами.
– И ты так живешь? – спросила она.
– Боже правый, нет! Я занят настоящим делом. – Меня очень обидели подозрения Эсме. Она начала извиняться. Я плеснул ей в бокал французского вина и успокоил. – Я открыл мастерскую Саркиса Михайловича. Спекулянты, можно сказать, обеспечивают мой доход. Но в основном они достаточно честны. Все что-то покупают и продают. Ты видела рынки? Бессарабку? Ярмарка, которая длится круглый год! Крестьяне приносят свои продукты в город, потому что до деревень невозможно добраться. Они гонят в Киев целые стада. На Бессарабке можно раздобыть все что угодно. – Я был слишком деликатен, чтобы говорить прямо, но Эсме меня поняла. Работая среди солдат, она, похоже, многое узнала.
Оркестр заиграл очень грустную цыганскую музыку. Эсме начала расслабляться. Она стала очень красивой, но я все еще видел в ней только сестру и не представлял в качестве любовницы. Мне хотелось, чтобы она сохранила девственность. Я мог подыскать ей хорошую партию. Я был для нее братом и отцом и хотел сделать все, чего желал бы ее отец. Множество моих друзей и деловых знакомых видели нас вместе, подмигивали, а когда Эсме не могла ничего услышать, даже поздравляли. Я ничего не объяснял. Когда война закончится, мне придется давать обеды крупным промышленникам. Эсме стала бы идеальной хозяйкой. Я бы пригласил ее в свою фирму. Я начал разрабатывать то, что немцы называют жизненным планом, старался построить свою жизнь по образцу Томаса Эдисона, американского изобретателя и предпринимателя. Мое имя стало бы таким же известным по всей Европе, как его имя – на его родине. Оно превратилось бы в синоним прогресса и просвещения, возможно, упоминалось бы в одном ряду с именами Галилея и Ньютона. Но я бы стал практиком, сохранил контроль над своими патентами. Я рассказал Эсме об этом, а также о некоторых деталях, которые уже успел продумать.
– Ты будешь полноправным партнером, – сообщил я. – Это совершенно справедливо. Ваша с матерью поддержка сделала меня тем, кто я есть.
Она смотрела в тарелку и слабо улыбалась.
– Я хотела бы стать врачом, – сообщила она. – Думаю, у меня к этому призвание.
– Возможно, и капитан Браун мог бы стать прачкой! – Шутка показалась мне безобидной. Когда я представил женственную Эсме в мужском костюме, с докторской сумкой в руке, то едва не расхохотался. – Почему бы и нет? Все возможно в новой России! – Я перефразировал известный лозунг Временного правительства, а потом сменил тему: – Все говорят о мятеже. Ты будешь в безопасности на фронте?
Она посмотрела на меня и внезапно рассмеялась:
– Это безопаснее, чем гулять по Крещатику. Дорогой Максим, солдаты – как дети. Конечно, встречаются подстрекатели. Но преданность солдат основана на уважении. Если им нравится офицер или сестра милосердия, они сделают для них все что угодно. Условия жизни на фронте отвратительны, поэтому солдат будет признателен, даже если ты просто вытрешь ему пот со лба. Наши воины – честные, порядочные русские парни.
– Достоинства, о которых ты говоришь, могут за одну ночь превратиться в недостатки.
Эсме не хотела ничего слышать, нахмурилась и покачала головой.
– Дети могут восстать против тебя, – сказал я.
– Мы – их няньки. Они доверяют нам. Солдаты знают, что мы тоже страдаем, знают, что мы добровольно помогаем им.
Я попросил счет. Эсме немного успокоила меня – она по-прежнему была невинна.
Мы ехали в экипаже по крутым киевским улицам. Кое-где горели огоньки свечей и керосиновых ламп. Я сожалел, что мы не могли осветить город как следует, как в старые времена, когда Крещатик был залит электрическим и газовым светом, а в увеселительных садах вдоль реки висели разноцветные фонари, озарявшие деревья, и немецкие оркестры играли вальсы. Я подумал, что тогда на самом деле смог бы насладиться своим триумфом и радостью Эсме.
Моя подруга сказала, что чувствует себя виноватой. Стало так много бездомных, больных и изувеченных. Я ответил ей, что не обращал внимания на страдание. Я легко тратил деньги, раздавая нищим и различным церковным организациям, созданным для помощи нуждающимся. Даже евреи с Подола знали, что на меня можно рассчитывать, подсовывая ящик для сбора пожертвований. Жадность никогда не относилась к числу моих недостатков. Когда у меня были деньги, я их отдавал. И, конечно, многих спас. У меня имелись обязательства по отношению к матери, к самому себе, ко всем тем, кого любил, – я должен был убедиться, что политические события их не коснутся. Наступит день, когда мать станет слишком слабой, чтобы работать в прачечной. Человек может жить так, как он хочет, говорил я, – но лишь пока он обеспечен. Свобода основана на чувстве ответственности. Именно этого большевики никогда не понимали. Единственный лозунг, который мне хотелось увидеть на уличном плакате, – «Живи и давай жить другим».
Эсме спросила, куда я намерен отвести ее потом. Я назвал какое-то популярное кабаре, с обычным названием вроде «Фиолетовой обезьяны» и «The Chartreuse Sioux»[106]. Она спросила, можно ли вместо этого пойти к нам домой, выпить в тишине стакан чая с матерью и капитаном Брауном. Впрочем, капитан к тому времени выпил в тишине уже не один стакан водки и если не спал, то наверняка пел какие-нибудь мрачные шотландские песни. Но я понимал, что светская жизнь может быть очень утомительной, и без всяких колебаний попросил извозчика отвезти нас с Кирилловской на нашу улочку. Эсме оказалась права. Внезапно я вновь почувствовал легкость и непринужденность. Здесь почти ничего не изменилось: лес и ущелья, маленькие домишки, далекий лай собак, ссоры и ругань. Мы могли бы быть теми двумя счастливыми детьми, посещавшими школу герра Лустгартена. Так мало времени прошло с тех пор, как мы испытали мою первую летающую машину. Теперь отец Эсме обрел покой и, как ни странно, внутреннее успокоение нашла и моя мать.
Хотя у меня был ключ, я постучал в дверь. Нам тотчас отворили. Матушка успела увидеться с Эсме до того, как я устроил ее в гостинице, но обняла гостью так, будто приветствовала впервые.
– Какая очаровательная девушка! Все такой же ангел! Ты только посмотри, Максим!
Я осмотрелся:
– Ты ждала нас, мама?
Она заволновалась:
– Вы были в хорошем ресторане?
– В самом лучшем. Тебе стоит сходить туда.
– О, я всегда так нервничаю. У меня начнется расстройство желудка, прежде чем я съем кусок хлеба! – Вот почему я отказался от попыток отвести ее туда.
Эсме уселась на свое обычное место и сняла ботинки. Она приподняла юбку и погладила совершенной формы лодыжку, скрытую бледно-голубым шелковым чулком. Я уже привык к женщинам, конечно, и у большинства из них не осталось вообще никакой скромности, но от Эсме я ожидал другого поведения. Это было глупо с моей стороны. Она, в конце концов, находилась в кругу семьи, и она сражалась на фронте. Мать положила в чай Эсме кусок сахара и дольку свежего лимона, который я купил утром.
– Я заварила покрепче. Ты привыкла к крепкому чаю, да?
– Не так чтобы очень, – коротко ответила Эсме. – Все хорошо, Елизавета Филипповна.
Моя подруга посмотрела на меня с улыбкой:
– Лучшее, что мне довелось сегодня попробовать.
– Я потратил целое состояние! – воскликнул я в притворном отчаянии, уселся в кресло и взял стакан чая.
– Ты не питаешься как следует, – сказала моя мать Эсме. – Кормят плохо?
– Не хуже, чем солдат.
– Долгоносики в хлебе попадаются?
– Иногда.
– Мама, – сказал я, – ты стала таким критиканом!
Она пожала плечами:
– Теперь нам разрешают критиковать – вместо еды.
Эсме улыбнулась:
– Мы все становимся революционерами.
– Мы гнемся на ветру, – сказала мать. – Разве у нас есть выбор?
Я знал, о чем она думала. Мой отец никогда не сгибался. Он изо всех сил держался за свою веру – веру в анархию и насилие. Странно, но теперь, когда хаос угрожал нам со всех сторон, мать избавилась от своих тревог.
Эсме объяснила, что не хочет говорить о войне, по крайней мере, не сегодня вечером. Мы обсудили письмо, которое моя мать получила в тот день от дяди Сени. Он послал сразу несколько – все остальные пропали.
– У него все хорошо. Пишет, что они в полной мере воспользовались передышкой, сняли виллу в Аркадии. Это хорошее место, Максим? Кажется, да.
– Было хорошим, – сказал я. – Возможно, что и теперь… – Я так хотел, чтобы в это мгновение мы все втроем оказались там, насладились теплым, соленым воздухом одесского вечера. Я скучал по тому южному волшебству, по запаху гниющих водорослей и морской воды, по простому обществу Шуры и его друзей, которые тогда казались очень искушенными, а теперь – милыми и провинциальными.
– Давайте все вместе отправимся туда завтра? Сядем на поезд?
– А они еще ходят? – Мать оживилась.
– Должны, ведь это главная железнодорожная линия.
– Превосходная идея! – воскликнула мать, но она явно сомневалась.
Эсме допила чай.
– Мне нужно вернуться через два дня. А вы можете ехать.
Фантазия увлекла меня.
– А как насчет отпуска по семейным обстоятельствам?
Эсме загрустила:
– Это неправильно. Нас слишком мало.
– У нее есть обязанности, Максим.
– Да, мама.
– Да и у нас они тоже… – Мать собрала стаканы. – Без меня прачечная развалится. Дамы будут получать мужские воротнички, а мужчины – ложиться спать в дамских ночных сорочках.
Она засмеялась, налила себе еще чая и сделала глоток, не переставая хохотать. Мы смеялись вместе с ней.
– Все как в старые времена, – сказала мама, и ее лицо стало грустным и суровым.
– Все наладится, – сказал я. – Мы купим собственный дом на Трухановом острове, яхту и будем плавать вверх и вниз по Днепру. Обзаведемся автомобилем и станем ездить в Одессу, когда пожелаем. И в Севастополь. И в Ялту. В Италию и Испанию. И в Грецию. Мы отправимся на воды в Баден-Баден, который к тому времени станет частью России, а на время высокого сезона – в Англию. Париж станет нашим вторым домом. Мы будем накоротке со знаменитостями. За тобой, Эсме, будут ухаживать герцоги и сам принц Уэльский. Вокруг меня соберутся титулованные леди, которые станут бороться за мою благосклонность. А ты, мама, станешь хозяйкой салона!
– Я очень скоро заскучаю.
– Я изобрету новый метод стирки – универсальную прачечную. Одно нажатие – и весь мир засияет!
– Я буду одновременно хозяйкой салона и этой вселенской прачечной?
– Почему бы и нет!
Мы снова рассмеялись. Эти минуты были одними из самых счастливых в моей жизни.
Мать рассказала, что дядя Сеня очень обрадовался новости о моем дипломе. Если мне понадобится помощь в поисках подходящей работы в Одессе, он с радостью предложит ее, однако намекнул, что были и другие возможности. По мнению матери, дядя имел в виду, что мне будет гораздо лучше за границей. Я задумался: может, он по-прежнему хочет, чтобы я направился в Англию? Эта мысль взволновала меня. С тех пор как я стал таким светским человеком, я мог поехать куда угодно. Паспорт оставался одним из моих самых ценных сокровищ. Он был открытым, такой труднее всего получить, особенно во время войны. Я мог покинуть Россию в любое время и посетить все дружественные страны. Я имел возможность побывать в Англии, Америке, Франции. Если заключат мир, я смогу отправиться даже в Берлин, стоит только захотеть. В семнадцать лет я стал весьма значительной персоной. У меня было уже почти все, о чем я когда-то мечтал, за исключением средств на разработку моих изобретений. Я отвез Эсме в отель и, возвращаясь, продолжал размышлять.
За последний месяц я пару раз писал профессору Мазневу. Вероятно, письма не дошли до Петрограда или мой наставник покинул институт. Еще несколько писем я передал через друзей, которые считали, что могут спокойно вернуться в столицу. Все равно требовалось некоторое время, прежде чем придет какой-то ответ. На телеграммы больше не следовало надеяться. Я несколько раз пытался связаться с представителями киевского технического училища, но они были слишком заняты политикой и не проявили интереса к моему делу. Один седобородый мужчина в пенсне, всем своим обликом напоминавший типичного сторонника старого режима, сказал, что у меня российская профессиональная квалификация. Если я хочу получить диплом в Киеве, то мне следует сдать экзамены еще раз, на украинском. Я с отвращением отказался. Тем временем мне сопутствовал успех. Крестьяне, рабочие, дезертиры, беженцы, деловые люди прибывали в Киев, и им требовались услуги механиков. Так что приток людей приносил мне одновременно и выгоду, и неудобства. Я понимал, что наука и техника должны были стать спасением России. Путилов, мечтательный промышленник, разделял мое мнение.
Так же думал и Сталин. Нам нужны были вовсе не революции, а знамение Божье, являвшее Его одобрение науки. Столыпин считал невежество самым опасным из врагов России. И ведь мой город опозорился навеки – он стал местом убийства этого великого политического деятеля. Возможно, Столыпин был истинным посланником Божьим? Силы Антихриста, скрытые под видом полицейских, уничтожили его. Царь, как я слышал, не жалел о потере. Он думал, что Столыпин – любитель евреев. Возможно, это правда, возможно, в этом была его слабость. Он говорил, что немцы «разумно» использовали евреев в своей стране, но те внедрялись в немецкую культуру, пока не захватили ее. Они всегда будут так действовать, если дать им хотя бы малейший шанс.
Немцы заняли Ригу; в Киев приезжало все больше людей. Ливония начала требовать государственного статуса; в некотором смысле победа была одержана не на русской земле, но все истинные русские считали рижское поражение ужасной трагедией. Конечно, евреев не интересовало, кто победил. Они, возможно, рассчитывали, что при немцах жизнь их улучшится.
Вскоре меня должны были призвать в армию. Но я не был готов стать пушечным мясом. Я сделал множество копий письма, в котором профессор Ворсин упоминал о моем специальном дипломе. Каждая копия была четко помечена: «Дубликат». Так никто не смог бы обвинить меня в грубом подлоге. Я разослал копии, вместе с пояснительной запиской, в различные украинские учреждения, предлагая свои услуги. Моя единственная проблема состояла в том, что в письме меня называли Д. М. Хрущевым, тогда как мое новое имя было совсем другим – М. А. Пятницкий. Из-за этого мне пришлось внести одно-единственное изменение. Почерк профессора Ворсина был очень аккуратным – его легко было имитировать. После нескольких попыток я создал факсимиле, в котором повторялось все, что написал профессор, но стояла та же фамилия, что и в моем паспорте. Это может показаться мелким жульничеством. Но поймите: я просто добивался справедливости. Нет ничего дурного в том, чтоб слегка подправить баланс, когда возникает опасность потерять все, чего достиг.
С помощью местного печатника я воспроизвел почтовые бланки Петроградского политехнического института, на которых разместил письмо профессора о специальном дипломе. Проделав это, я почувствовал, как развеиваются все мои сомнения. Я был уверен, что ветер скоро переменится и я получу все, что заслужил. С помощью знакомых бандитов с Подола я сделал две копии своего паспорта с фотографиями. Одна была на имя Дмитрия Митрофановича Хрущева – я мог бы использовать ее вместе с дипломом, если б в нем указали неверные сведения. Другая копия была абсолютно точной. Капитан Браун познакомил меня в киевском госпитале с британским солдатом, который собирался возвратиться домой через Архангельск. Он лишился правой ноги. Я предложил солдату неплохое вознаграждение, чтобы он захватил с собой паспорт, поместил документ в надежный сейф и оставил ключ в Лондоне, чтобы я мог его забрать. Он загадочно подмигнул, забирая у меня золотые рубли.
– Не волнуйся, дружище. Я все сделаю.
Солдат сказал, что, приехав в Лондон, мне следует зайти на почту на улице Св. Мартина; там я смогу забрать ключ. Я не очень доверял англичанину, но капитан Браун заверил меня, что тот был абсолютно надежным парнем. Он также согласился взять письмо, которое обещал, вернувшись домой, отправить родственникам капитана в Шотландии. Фамилия молодого солдата была Фрейзер. Он преуспел, управляя обувным магазином в Портсмуте. Я все еще задумываюсь, не начал ли он с того, что продавал свою собственную непарную обувь. В конце концов, в послевоенном Лондоне могло обнаружиться немало мужчин, которым нужны были только левые ботинки.
Я вовремя принял меры. В сентябре 1917‑го, когда в Киеве стояла золотая осень, Керенский провозгласил себя главой правительства и объявил Россию республикой. Какая гордыня! Он перешел все границы, слишком увлекся собственной миссией спасения России. Он недооценил Ленина. Почти в тот самый момент, когда мы могли выиграть войну, когда нам на подмогу прибыли первые американские подразделения, Ленин и его банда стали правителями России; они готовы были заключить сепаратный мир с Германией. Это лишь подтверждало мои сомнения в стратегических способностях товарища Бронштейна. Мир был совершенно не нужен. Мы почти победили. Это было типичное большевистское решение. Они, похоже, предвосхищали и планировали хаос, который сами же и создавали. История? Люди дезертировали из армии еще до того, как их успевали отправить на фронт. Большевики заявляли, что это было частью их замысла. Позднее, очень скоро, они запели по-другому. Большая часть населения восстала против них. Им пришлось создать ЧК и Красную армию, чтобы запугивать людей, которых они, по их словам, спасли. В день первого важного танкового сражения в Камбре наша Украинская Рада объявила весь регион республикой[107]. В одно мгновение мы перестали быть российскими гражданами. По крайней мере, мы больше не подчинялись большевистскому безумию. Хотя мои связи с Петроградом были почти полностью прерваны, я почувствовал, что мы получили передышку. У нас все еще сохранялась свободная экономическая система, которая позволяла мне работать и копить средства.
Снег засыпал Киев. Река начала замерзать. Перемирие практически было заключено. Большевики официально подписали его. Это не означало немедленного окончания войны. И состояние простых людей нисколько не улучшилось. Такие бумажные соглашения редко дают результат; но солдаты вернулись домой, а вместе с ними – Эсме. Думаю, город согревался в ту зиму волнением огромных толп, телами, прижимавшимися друг к другу на площадях, горячим воздухом, вырывавшимся из каждого рта. Эсме отказалась оставаться в гостинице. Я позволил ей жить с моей матерью, а сам отправился в «Европейскую», где было полно делегатов всех мастей; рассчитывать на спокойный отдых не приходилось. В конце концов я переехал в более дорогой «Савой». Но и здесь меня настигли политиканы. Через пару недель я вернулся к Ульянскому. Теперь это место именовалось не «Арсоном», а «Кубом»; это слово меньше всего подходило для характеристики ветхого здания, казалось целиком состоявшего из имитаций готических башенок и кремлевских куполов. Однако смесь архитектурных стилей снаружи была не такой гремучей, как смесь художественных стилей внутри. Акмеисты, футуристы, конструктивисты, кубисты; поэты, музыканты, художники и журналисты пили не меньше политических деятелей и так же много болтали. Они, конечно, и развратничали ничуть не меньше, а то и больше; но по крайней мере не трогали окружающих. Я на всю жизнь насмотрелся на кокарды и мундиры, проведя несколько недель в гостиницах на Крещатике. «Куб» стоял неподалеку от Château des Fleurs, поблизости от городских садов. Château (сад удовольствия и театр) сгорел перед войной во время большого пожара; так исчез один из конкурентов лондонского «Хрустального дворца». Попав в «Куб», я как будто вернулся в Петроград, в добрые старые времена. У меня был маленький отдельный номер на верхнем этаже; из окон открывался вид на заснеженные парки, голые деревья и на Днепр.
Я по-прежнему работал механиком. Инструменты и комбинезон хранились у матери. Эсме успокоилась, увидев, что я занят честным трудом. Она продолжала ухаживать за больными, работала в Александровской больнице, недалеко от моей гостиницы. Иногда мне удавалось подвезти ее в экипаже. Когда извозчиков стало совсем мало, мы вместе ездили на трамвае. Когда пропали горючие и смазочные материалы, мои клиенты на Подоле начали закрывать свои фабрики или осваивать более примитивные методы производства. Я вскоре очутился в положении врача, все пациенты которого умерли, так что решил ввязаться в большую игру. Возможность представилась почти тотчас же. Крупные инженерные фирмы, склады с частными генераторами, больницы и общественные учреждения – все нуждались в моих услугах. Это мне нравилось гораздо больше, чем прежняя работа. Постепенно я стал специалистом по диагностике и сам практически не занимался физической работой. В те дни в Киеве были и другие внештатные инженеры: люди, уволенные из армии по инвалидности или получившие досрочное освобождение. Мои знания о сложных машинах поначалу были почти исключительно теоретическими. Потребовалось немного времени, чтобы набраться опыта, хотя иногда это происходило за счет клиента. Скоро я обменял свой комбинезон и инструменты на солидный темно-серый костюм, серую фетровую шляпу и серое пальто с лисьим воротником. Я, вероятно, казался забавным и слишком юным в этом прекрасном наряде, но знал свое дело и мог внушить доверие тем, кто нуждался в помощи. Иногда выяснялось, что механизм был в полном порядке. Люди, которые им управляли, просто пали духом. Я мог все исправить несколькими таинственными движениями и знаками. Я рассказал матери, что преуспел. Она спросила, не зашел ли я слишком далеко и слишком быстро. Но я брал все, что мог, и тогда, когда мог. Никто не знал, сколько продержится наша Республика. И большевики, и немцы стремились захватить украинское зерно и полезные ископаемые.
Я устроил для матери лучший праздник в ее жизни. Мы обедали в сочельник в кабинете прекрасного ресторана, я сумел уговорить ее выпить пару бокалов шампанского. Она пришла в восторг. Официанты относились к ней как к королеве. Эсме и капитан Браун пели рождественские песни, и мы обменивались подарками. Все было изумительно. Я никогда не думал, что в чем-то виноват перед матерью. Как только появилась возможность, я сумел возместить ей все перенесенные страдания. В тот вечер она испытала райское блаженство. Когда мы выпили, я изложил всем свой самый важный план. Я собирался начать настоящее дело. Я буду не просто консультантом, а руководителем целой инженерной фирмы.
– Неважно, что случится в Киеве в будущем, – говорил я, – несомненно, спрос на наши услуги сохранится. Мы будем проектировать новые фабрики, строить машины, давать полезные советы. Если Украина преуспеет, то и мы преуспеем очень скоро. Если она окажется в беде – мы поможем ей выпутаться.
Моя мать, казалось, была очень удивлена. Ее лицо омрачилось:
– И как ты это назовешь?
– «Всеукраинские инженеры-консультанты», – ответил я, – это звучит неплохо.
Она примирилась с моим замыслом. Эсме улыбнулась, как будто я сумел сделать удачный ход, требующий и хладнокровия, и ума.
– И под какой фамилией ты будешь работать? – спросила она.
– Пока, временно, – Пятницкий.
– Твой отец… – начала было мать. Но потом просто кивнула: – Так лучше. Ты же будешь осторожен?
– Времена изменились, – сказал я. – И я изменился вместе с ними. Я был рожден для этих времен.
– У тебя неплохие перспективы на будущее, – пробормотал капитан Браун, поднимая бокал шампанского, и провозгласил тост: – С Новым годом тебя!
Мать заплакала. В то же время Эсме засмеялась. Это выглядело странно. Я не знал, как реагировать. Наконец попытался успокоить мать:
– Почему ты плачешь?
– От счастья, – сказала она.
Глава десятая
Большевики распродали Россию по частям, и Украина снова стала республикой. Я оказался в тюрьме, куда красные, по причинам, известным только им, заключили меня. Рада не сочла возможным меня освободить. А ведь я ничего не сделал. В конце концов мне удалось обратиться в тайную полицию гетмана Павла Скоропадского и помочь установить подлинных нарушителей спокойствия. После этого я оказался на свободе. Переходя мост, я увидел своего спасителя, возглавлявшего военный парад. Скоропадский выглядел настоящим казаком на английском жеребце, в белом пальто, белой шапке, шароварах, роскошных красных сапогах, с саблей с серебряной рукояткой. Немцы верили, что он знал, какие настроения царят на Украине. Он бесконечно превосходил социалистов и анархистов. Скоропадскому было под силу поддерживать порядок в Киеве с помощью немецких союзников и удерживать в сельских районах бандитов, убивавших уланов так же легко, как вартовцев[108]. Его Светлость Ясновельможный Пан Гетман Всея Украины, как его называли в официальных обращениях, был вдвое глупее и хвастливее Муссолини, но носил густые казачьи усы и брил голову на старый запорожский манер. Он заставил нас вспомнить о том, за что сражались казаки; был самоуверен и храбр. Единственное, что мне в нем не нравилось, – это очевидное желание уничтожить все признаки современного мира. Три ужасных недели большевистской оккупации лишили меня большинства деловых связей. Множество людей погибло. Но немцы хотели, чтобы наши фабрики продолжали работать. Скоропадский не мог этого игнорировать.
Было очевидно, что гетман испытывал сентиментальную склонность к театральным действам; он постоянно устраивал военные парады, во время которых его «свободные казаки», в основном завербованные из городского отребья и не имеющие отношения к славянскому племени, не то что к казачеству, маршировали вместе с австро-венгерскими, немецкими и галицийскими солдатами в серо-синих мундирах. Эти парады заменили уличные митинги, запрещенные новой властью.
Я легко сблизился с немцами, которые были в основном практичными и доброжелательными людьми. Крестьяне – вот главная причина всех наших тогдашних бедствий. Немцам обещали зерно. Но осторожные украинцы сопротивлялись нашим попыткам отобрать урожай. Они научились прятать целые поля, целые стада так же легко, как раньше прятали золото и иконы. Немецкие отряды по официальным приказам гетмана Скоропадского обыскивали сараи и дома и не находили ровным счетом ничего. Когда солдаты прибегали к угрозам, крестьяне сбивали их с толку, демонстрировали свою бедность, утверждали, что махновцы, григорьевцы и прочие бандиты уже все отобрали. Поверить в это было легко. Махно, в частности, при нападениях демонстрировал изобретательность – носился под черным знаменем анархии и, казалось, появлялся и исчезал быстрее, чем скорый поезд. Его любимой уловкой было переодеться вартовцем, заявить, что преследует самого себя, войти в гарнизон варты и перестрелять там всех. Многим он уже казался Робин Гудом или Джесси Джеймсом[109], и о его смелых деяниях ходили легенды. Газетам запрещалось восхвалять Махно, народные герои были тогда Украине не нужны. Нужны были порядок, транспорт и связь.
В Киеве, по крайней мере, теперь установилось подобие законной власти. Немецкие коммерсанты начали приезжать в город по делам. Я мог обсуждать мою новую компанию и ее будущую деятельность. Было важно увеличить производство для экспорта и домашнего потребления. Я упоминал новые британские и американские машины, которые, вероятно, превзойдут все те, что были у нас раньше. Я обсуждал проекты новых заводов, генераторов, технологического оборудования. Это впечатляло дальновидных немцев. Они и сами тогда подвергались сильному давлению. Многие из них доверительно сообщали, что Германия не могла выиграть войну. Было совершенно необходимо восстановить страну как можно быстрее, чтобы она не попала в руки социалистов. Они предложили мне подумать над тем, чтобы создать отделение моей фирмы в Берлине. Чем раньше наши страны вернутся в нормальное состояние, тем скорее будут уничтожены красные. С помощью деловых партнеров я завел знакомства в среде высокопоставленных чиновников; благодаря этому я смог познакомиться с элитой киевского общества. Теперь на вопрос, как меня зовут, я автоматически отвечал: Пятницкий; я родился в Царицыне, моя семья была убита крестьянами в 1905 году, меня растили родственники в Киеве, Одессе и Петербурге. Это, конечно, в основных чертах было истинной правдой. Если бы я упомянул наш убогий пригород в беседе со сливками общества, передо мной закрылись бы многие двери. Семейство моей матери, конечно, было достаточно почтенным, так что я от природы приобрел способность на равных общаться с самыми уважаемыми людьми. Многие благородные киевляне завидовали моим петербургским манерам. Они даже пытались подражать мне. Очень часто люди копировали мои жесты или повторяли мои высказывания. Я подумывал добавить к своему имени титул «князь», но счел это неуместным; следовало принимать в расчет нестабильную политическую ситуацию.
Я продолжал встречаться со своими подругами в «Кубе», но жить вернулся в «Европейскую», где останавливались многие из моих немецких знакомых. Я предпочитал классическую элегантность серебра и золота, большие яркие зеркала, бархат и хрусталь, элегантно одетых официантов и чистые белые простыни. Все это вернулось, как только исчезли большевистские мясники. Немцы ценили эти удобства, как и вновь прибывшие русские эмигранты.
Киев вновь стал многолюдным городом, но теперь, по крайней мере, его населяли люди высшего уровня: люди с деньгами, здравым смыслом и конкретными представлениями о том, как противостоять большевизму. Фабриканты из Петрограда и Москвы всегда выступали за ускорение индустриализации. Они предвидели революцию и обвиняли царя в близорукости. Они говорили, что социалистический эксперимент продлится столько же, сколько Содружество наций Кромвеля[110]. Это будет дурное время, время разрушения и нетерпимости. Кромвель убил короля, разорил церковь, разрушил храмы, но короли, церковь и храмы сохранились в Англии до сих пор. Это был сильный, обнадеживающий довод, но он оказался ошибочным. Теперь я знаю, что единственное спасение мира, перефразируя Ленина, – Бог плюс электричество.
Моя мать считала перемены тревожными. Когда большевики захватили город, над домами взвились красные флаги, а я очутился в тюрьме, она казалась веселой и довольной. Каждую превратность судьбы она встречала шутками. Мы с Эсме поражались ее храбрости. Матушка не пустила красных к себе в дом. Она добилась того, что ей выделили дополнительный паек, стала личной прачкой комиссара ЧК, знала многих мелких большевиков по именам, превозносила товарища Ленина до небес, небрежно упоминала Зиновьева и Радека[111], как будто они были ее старыми друзьями. Она почти наверняка отсрочила мою казнь и таким образом спасла мне жизнь. Но напряжение в итоге не могло не сказаться. Когда большевики отступили, мать вновь начала страдать от прежней болезни бронхов и слегла. К тому времени, когда к власти пришел гетман, она все еще кашляла, но настояла на том, что должна вернуться к работе. От нее вновь запахло нюхательной солью и карболовым мылом. Квартира вернулась в прежнее безупречно чистое состояние. Она продолжала извиняться за свой эгоизм, говорила, будто была мне плохой матерью и виновата в том, что я вырос без отца.
– Мне не следовало бежать с ним из дома, – говорила она. – Он не подходил мне, а я не подходила ему. Мы никогда не могли ужиться вместе. Но ведь целых десять лет… И эти годы не были совсем уж дурными.
Мне трудно было следить за ее мыслями. Она слишком уставала. Мать взволновали новые погромы на Подоле. Я уверил ее, что пожары не распространятся на весь город. Потом она сказала, что боится, как бы меня не призвали в армию гетмана. Я вновь успокоил ее. Мои друзья могли обо мне позаботиться.
– Ты никогда не причинял никаких неприятностей, – сказала она мне однажды вечером за ужином. – Все так говорили. Все завидовали мне: «Он так хорош! Как вы этого добились?» Ты всегда был хорошим. С самого детства. Ты слишком мягкосердечен, Максим. Не позволяй женщинам причинять тебе боль.
– Не позволю, мама. Мне только восемнадцать…
Она улыбнулась:
– Девушки любят тебя, а? Эсме! Он нравится девушкам?
– Должен нравиться, – сказала Эсме. – Он настоящий денди.
– Помнишь, как ты спал здесь рядом с Эсме? Ты – на печи, а Эсме – в своей комнате? – Она заволновалась. – Разве нам не было хорошо вместе?
Я не помнил подробностей, но признаться в этом не мог.
– Нам было очень хорошо, – произнес я. А потом уехал по делам.
Было все еще светло, когда я повернул за угол на Кирилловскую и начал спускаться с холма к городу. В летнем вечернем воздухе было что-то расслабляющее и в то же время неспокойное. Дымилось слишком мало фабричных труб. Множество мелких предприятий окончательно закрылось. Темный густой дым поднимался над Подолом. Уличные звуки были приглушенными, и все-таки я расслышал сирену речного судна так ясно, как будто она загудела всего в нескольких футах от меня. Золотые и зеленые купола далеких церквей сияли тусклым, таинственным светом; желтый кирпич, казалось, излучал жар; и запах травы, деревьев и цветов из лесистых ущелий смешивался с ароматами дыма, нефти и тем едва уловимым запахом кожи, который всегда указывает на присутствие многочисленной армии. Еще я чувствовал, как пахло лошадьми. Казалось, будто город и деревня встретились и обрели почти совершенную гармонию. Я хотел остановиться, надеясь, что придет трамвай, но знал, что могу стать легкой добычей для бандитов, засевших в отдаленных парках. Я машинально осмотрел набережную. Лишь вечерний туман висел над оградами. Спускаясь с холма в город, я испытал ощущение того, что вот-вот Бог исполнит все обещания. До сих пор меня удивляет: почему же мы потерпели неудачу? Ведь церкви, и православная, и католическая, никогда не были так переполнены, с утра до ночи, как в то смутное лето.
Я вернулся к себе в гостиницу, чтобы насладиться обедом с прусским майором, австрийским полковником, украинским банкиром и двумя эмигрантами, недавно прибывшими из Вологды, где, по их словам, любого, кто знал больше двухсот слов, сразу хватали и расстреливали чекисты. Я слышал истории о том, как большевики задерживали чиновников из правительства, раздевали донага и вырезали у них на теле все знаки отличия, прежде чем убить несчастных. Дни французской революции, дни Коммуны оказались ерундой по сравнению с долгими годами большевистского террора. И что нам следовало противопоставить ему? Гуманизм? Религию? Все, что у нас было, – это жухлость, то унылое, полумертвое состояние духа, в котором все пребывали в течение зимы, когда ничто не имело смысла и оставалось только надеяться, что удастся дожить до весны.
В те дни привычных военных действий не совершалось; сама военная система разладилась. Вот так, постепенно, и началась наша Гражданская война. На северо-востоке были чехи, японцы, русские белогвардейцы, немногочисленные американцы и англичане. Финны, латыши, литовцы, балтийские немцы, поляки, французы, греки, итальянцы, румыны и сербы – все где-то сражались. Лишь немногие из этих отрядов, несмотря на то что все они объединились против немцев, могли согласовать стратегию и выработать общие цели. Из-за китайской границы даже совершались набеги смешанных отрядов, состоявших из китайцев и изменников-казаков; они занимались грабежом и мародерством всюду, где было возможно. Все это напоминало Средневековье, только куда более страшное. Танки, пулеметы, самолеты и бронепоезда попали в распоряжение порочных, необразованных варваров. В Америке считалось преступлением продавать оружие индейцам, но это было лишь мелким проступком по сравнению с тем, что сделали британцы, вручившие оружие татарским племенам. Это напоминает сегодняшнюю Африку, где гранаты и ракетные установки приходят на смену дубинкам и копьям. Малая война с немногочисленными жертвами перерастает во всеобщую войну, во время которой погибают тысячи граждан.
Мы вступаем в Средние века, насвистывая «Красный флаг»[112], как будто это песенка из мюзикла. Лишь немногие останавливаются, выкрикивая предостережения. Но скоро и они сгинут в черном водовороте. На сей раз не останется никакого спасения, никаких маленьких островных монастырей, где могло бы процветать просвещение. Весь мир будет завоеван во имя Сиона и Мао. И все же мы должны сопротивляться. Если это – испытание, мы либо преодолеем его, либо Бог навеки покинет нас. Иногда я боюсь, что Он уже оставил эту планету на произвол судьбы; и есть другая планета, в далекой галактике, которая оказалась более достойным местом; там по-прежнему существует Рай.
В течение нескольких недель мать посылала мне записки, в которых извинялась за беспокойство, просила не навещать ее и требовала, чтобы я заботился о себе и был осторожен. Ее письма доставлялись разными способами, часто их оставляла в гостинице Эсме по дороге на работу. Иногда она тоже передавала сообщения, настаивая, чтобы я оставался в стороне «ради собственной пользы и пользы матери». Моя бедная матушка страдала от истерического истощения. Она скоро поправилась. Но я все-таки чувствовал себя чрезвычайно неловко.
Мои дни и вечера были заняты тем, что я давал людям советы по поводу установки, обслуживания или ремонта машин. За эти услуги мне платили самыми разными способами – иногда наличными, иногда акциями или облигациями. Я мог инвестировать деньги во Франции, Швейцарии, Англии и, конечно, в Германии. Даже не имея конторы, ведя все дела в гостинице, я становился состоятельным человеком. Я знал, что это не могло длиться вечно. Я все еще не получил серьезной поддержки моих основных проектов. Политический климат оставался слишком сомнительным для всех, кто мог бы заняться серьезными инвестициями в Украину. Не следовало забывать о погромах в Киеве и в отдаленных областях. Это тревожило немецких финансистов. У многих из них были серьезные связи в еврейском мире – с еврейскими хозяевами, перед которыми они несли ответственность. Я обдумывал путешествие в Берлин, но здоровье матери помешало мне принять окончательное решение.
Когда вечера стали темнее и холоднее, до нас начали доноситься слухи о тяжелых поражениях немцев, о революционной деятельности, похожей на ту, с которой начинались восстания в Петрограде. Стало очевидно, что мои немецкие знакомые задумывались, смогут ли они благополучно вернуться в страну, которую покинули. Тем временем атаман Петлюра собирал силы. К его казачьей коннице и сечевым стрельцам присоединились различные нерегулярные части. Похоже, его войска были более многочисленными и надежными, чем войска Скоропадского. Немцы решили, что поддерживали не того человека.
Гетману следовало хотя бы притвориться, что он собирается удовлетворить требования крестьян, но он был слишком благороден и бездействовал – лишь повиновался велениям собственной совести и воле Божией. И вот он пал. В Киеве наступила зима, уничтожившая все мои надежды. Почти внезапно уехали мои немецкие партнеры, контакты с правительством гетмана остались в прошлом, и политики снова изгнали меня из «Европейской». Линия Гинденбурга[113] была прорвана. Немецкий канцлер предложил принять план перемирия, составленный американцами. Британцы отказались от этого предложения. Они жаждали крови. К ноябрю советские коммунисты появились в Баварии, революция вспыхнула в самом Берлине. Кайзер отрекся. Макс Баденский[114], канцлер, уступил свой пост социалисту. Германия стала республикой и больше не связывалась с большевиками. Появились новые карты с новыми границами. Мы отдали наши крымские территории татарам. Несмотря на соглашение, подписанное с донскими и кубанскими казаками, мы не получили реальной поддержки в борьбе против социалистов. Как раз накануне Рождества 1918 года Петлюра вернулся, пообещав Украине безопасное будущее. Не только русские находили его позицию крайне опасной; многие украинцы считали, что было бы гораздо мудрее отказаться от борьбы. Половина промышленников исчезла.
Во время праздников я вновь отдыхал в кругу семьи в хорошей гостинице; я снова говорил о планах развития своего инженерного дела. Но оказалось, я достиг совсем немногого – разве что заработал денег; впрочем, большую их часть я, вероятно, никогда не смогу получить. Даже моя работа, скорее всего, будет остановлена социалистами. И у меня так и не было специального диплома. Я не мог сделать приличной карьеры. В тот момент на Украине практически не осталось промышленности. Я не мог читать большинство газет, потому что они внезапно стали печататься на чужом языке. Мне было трудно заполнять самые простые документы. Меня оскорбляли, если в трамвае я обращался к кондуктору не на украинском. Я снова стал человеком второго сорта. Я думал переехать в Одессу, откуда по крайней мере можно было уплыть на корабле. Но следовало обождать хотя бы некоторое время, пока власть зеленых установится. Я вернулся в квартиру матери. Она снова стала веселой и здоровой. Это меня успокоило, но ее причуды и сейчас остаются для меня загадкой.
Эсме продолжала работать в госпитале – уже при третьем режиме. Она стала очень нервной, теперь настала ее очередь страдать от переутомления. Моя мать с невообразимым упорством занималась изучением украинского, обращаясь к скверно отпечатанным книгам. Появились новые школы и университеты. Везде, конечно, преподавали на украинском. У меня больше не было ни единого шанса стать преподавателем. Я ни разу не получил ответа на свои обращения, хотя и мои друзья, и деловые партнеры признавали, что я добился блестящих успехов в Петрограде. Следует сознаться, что это иногда помогало. В те дни меня часто называли доктором и даже – неоднократно – профессором. Это немного успокаивало и казалось вполне безвредным. Когда я получу специальный диплом, смогу наконец получить и докторскую степень в любом достойном заведении. Не подумайте, что я предъявлял такие уж большие претензии. Но жизнь зачастую очень трудна, и глупо тратить энергию на разрушение иллюзий, так необходимых людям. Эсме иногда разговаривала снисходительно, раздражалась и иронизировала, когда я обсуждал планы на будущее, – несомненно, из-за переутомления. С другой стороны, мать иногда называла меня доктором только ради того, чтобы услышать это обращение. К примеру, она останавливалась на лестнице и говорила:
– Ну что ж, доктор, вот пришел наш старый друг капитан Браун.
Капитан слабел с каждым днем. Его лицо покрылось пятнами, а руки тряслись, как у заправского алкоголика. Его тяга к спиртному усилилась. Иногда мне хотелось его остановить. Но Эсме говорила: «Ради чего еще ему жить?» Возразить мне было нечего. Истории капитана становились все более запутанными, несмотря на то, что рассказывались уже не раз. Его сбивало с толку то, что он называл фальшивым языком с его фальшивым правительством, фальшивыми деньгами и фальшивой историей. Мы успокаивали его, когда он выражал подобные чувства по-русски. Но это было неважно, если он рассуждал по-английски, как чаще всего случалось в последние дни. Эсме немного научилась английскому от меня, но недостаточно, чтобы ясно понимать капитана. Однажды она сказала мне, что его нашли на Бессарабском рынке, где он подошел к одному из сечевиков Петлюры и спросил, из какого цирка тот сбежал. Он говорил сначала по-английски, потом по-французски, по-немецки, по-русски и затем, кажется, по-польски. Солдат или не понял его, или решил не придавать значения этим словам. Какие-то знакомые привели капитана домой.
Я и сам побывал на Бессарабке. Кокаина там оказалось много, и он был дешевым, хотя и не слишком хорошего качества. Я сделал запасы на черный день – или на дождливый, как говорят в Англии. Рынок быстро развивался, старые семейные реликвии продавались и покупались за пару chag[115]. Chags и karvovantsis – так именовались новые деньги. Банкноты подделывались без труда, никто не проверял их, разве что в почтовой конторе. Инфляция была просто нелепой. Но, по крайней мере ненадолго, проститутки стали моложе и симпатичнее, мне даже довелось встретить пару девственниц. Я снова готов был наслаждаться всеми удовольствиями, пока есть возможность.
Если бы только все казаки и люди, ратующие за их свободу, сумели действовать вместе, единой армией, мы бы легко загнали красных обратно в Москву, их нынешнюю столицу. Троцкий, Ленин, Сталин и остальные закончили бы свои дни ворчливыми старыми эмигрантами. Настоящие гуманисты поддержали бы российский Ренессанс. Наша страна стала бы величайшим центром искусства и науки, какого мир не знал со времен Италии Медичи. Все так говорят. Подумайте… Кто изгнал Сикорского? Большевики. Кто изгнал Прокофьева? Большевики.
Я помню двадцатые, эти годы поющих сирен. Красные пытались заманить обратно художников, ученых и интеллигентов. Сладкие голоса обманули многих. Они возвратились: Горький, Алексей Толстой, Замятин и прочие; почти все они были мертвы к концу тридцатых. Вот как большевики ценили русские таланты. Когда пришли нацисты, Сталин вынужден был выпустить голодных, несчастных бывших героев Красной армии, чтобы вести войну. Нет, это не имело значения. Войну вел Сталин. Ему повезло с миром, как кто-то сказал о Гитлере. Это была война нескольких психопатов, наделенных особым талантом становиться всем для множества людей. Война погубила впустую миллионы жизней и привела лишь к ничтожному изменению границ. Лучше было бы запереть где-нибудь этих вождей с картами и игрушечными солдатиками – так они не причинили бы никакого вреда. Именно такой совет дал одному моему другу Герберт Уэллс.
Моя мать процветала при Петлюре – ее дела шли даже лучше, чем при большевиках. Я никак не могу это объяснить. По общему мнению, жизнь в отдаленных предместьях стала спокойнее. На Подоле больше не было пожаров. Матушку беспокоила любая жестокость. Когда люди выражали свою неприязнь к евреям, она огорчалась и отказывалась участвовать в этом. Обычные беседы были достаточно безопасны. Но мать говорила, что Бог создал роли для каждого из нас. Дело не в расе и не в религии, гораздо важнее простые роли – мужчины или женщины. Так что я вырос в более терпимой атмосфере, чем большинство киевских детей. Это помогало мне понимать людей, любить их, позволяло без малейших неудобств общаться с самыми разными личностями, черными или белыми, богатыми или бедными. Когда мы услышали, что французские зуавы заняли Одессу вместе с отрядами Деникина, что город колонизирован черными, как выражались газетчики, всех нас это испугало. Но мать обратила все в шутку.
– Как это прекрасно, – сказала она, – увидеть на Украине необычный цвет!
Я начал понимать, что объединяло ее с отцом. Она была наделена широтой души, человечностью и верой в красоту мира, в природное стремление людей помогать друг другу. Отец разделял ее идеалы, но чувствовал, что его предали те, кого он пытался спасти. Люди были гораздо сложнее и в то же время гораздо проще, чем ему хотелось. Социалистическая Утопия не могла появиться посреди чистого поля за одну ночь. Отец начал сражаться с теми, кого винил в разрушении его надежд. Все очень просто – моя мать была зрелой, как все женщины, она видела, что самый верный способ сделать мир лучше – вести хорошую, чистую, простую жизнь.
Революционеры неизменно пытаются упростить деятельность человеческого сердца. Наша планета полна щедрых, душевных, добрых и разумных женщин, которые поддерживают одержимых, нелепых дураков – таких, как мой отец. Все, что было предано, – это его собственная человеческая природа. Как долго женщина может прожить с ревнивым мужчиной? Вот простой вопрос, ответ на который, думаю, теснейшим образом связан с моей историей.
Во время правления Директории[116] жить стало относительно легче. Я снова начал заводить связи. Многие из новых политических деятелей сочувствовали моим проектам механизации и индустриализации.
– Мы должны использовать богатства Украины! – говорили они. – Должны стать сильными и независимыми!
Так что я на некоторое время стал националистом и излагал свои теории, представляя интересы региона, а не страны. К счастью, у меня уже были фирменные бланки и визитки с надписью:
ВСЕУКРАИНСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ-КОНСУЛЬ ТАНТЫ Управляющий директор, доктор М. А. Пятницкий
У меня был обширный круг знакомств, а гостиница «Европейская», ставшая чем-то вроде штаба для прихвостней Петлюры, оказалась просто идеальным местом. Я въехал в свой прежний номер и начал развлекаться, как и прежде. Инфляция, отступление немцев, недоверие российских и украинских инвесторов к реформам – все это означало, что мне вновь следовало позаботиться об увеличении доходов. Все получалось довольно просто. Я обзавелся связями по всему городу. Но очень раздражало, например, служить курьером для какого-то человека, не желавшего, чтобы о его пристрастии к кокаину узнали окружающие; или доставать девочек для министерских чиновников, скрывающихся от своих жен; или работать посредником хозяина фабрики, которому нужны какие-то срочно отпечатанные бумаги… Однако подобные занятия помогали мне жить на широкую ногу и общаться с друзьями. Я стал своего рода химическим веществом, катализатором. Многие из наилучших инициатив правительства Петлюры были прямо или косвенно связаны с моими действиями и проектами.
Теперь меня не отвлекали постоянные советы матери. Однако Эсме в свободное время мне очень помогала. Привлекательная внешность и превосходный вкус позволили ей стать идеальной хозяйкой на моих особых вечерах. Все гости говорили комплименты в адрес мадам Пятницкой, если полагали, что мы женаты, а в противном случае хвалили мою подругу или кузину. Близким людям я сообщил, что она моя единокровная сестра. Думаю, что в духовном смысле она и впрямь была моей сестрой. Так что я никого не обманывал, говоря о кровном родстве. Да и кровь наша достаточно часто смешивалась во время ребяческих игр. Эсме находила удовольствие в том, что называла моими выходками. Она предоставляла в мое распоряжение свою энергию и фантазию, но всегда настаивала, что ее мир, мир снаружи был реальным. Все дело в том, что, работая сиделкой, она видела болезни, голод и физические страдания. Банды бездомных детей, bezhprizorni, становились серьезной проблемой. Они были бесстрашными и злобными – как голодные псы.
Калек и раненых на улицах было не счесть. Нищим официально раздавали пожертвования, но их было слишком много, система с ними не справлялась. Требовалась сильная полиция. Гайдамаки-милиционеры были склонны или к внезапной ярости, или к абсолютной лени, когда речь шла о защите закона. Были попытки снова принять на службу прежних полицейских, но безуспешно. Со временем Петлюра мог бы изменить и улучшить условия жизни и даже избавиться от бремени национализма. Он не испытывал ненависти к России, по его словам. Он ненавидел орудия порабощения. Он также, насколько мне известно, ненавидел и православную церковь. Петлюра вырос католиком, подобно многим другим украинцам, и здесь крылось важнейшее разногласие, о котором мало кто упоминал. Мы стали свидетелями скрытой религиозной войны. Один из моих друзей-петлюровцев выразил это лучше всего, пошутив над собой:
– Некоторые говорят, что иезуит – всего лишь еврей, который случайно родился христианином.
Вот в чем было дело. Многие старые большевики, да и новые тоже, в сегодняшней партии сохраняют тайную связь с церковью, которую не осмеливаются признать. Насколько было бы лучше для нас всех, если б они сказали правду. Тогда в Россию вернулось бы хоть какое-то здравомыслие.
На наших глазах возрождалось древнее соперничество римской империи Запада и греческой империи Востока. Киев повидал многих императоров, приходящих и уходящих так же быстро, как императоры в Риме или Константинополе накануне падения империй. Как говорила моя мать, когда была в хорошем настроении: «По крайней мере, под властью русских или татар люди успевали привыкнуть к своим правителям. А теперь непонятно, какого вождя приветствуешь». Однако ей нравился Петлюра, его белый конь и разряженные гайдамаки с их мешковатыми брюками, странными мундирами и чубами. Гайдамаки спасли Украину от польского гнета в восемнадцатом столетии. Они стали еще одним напоминанием о прошлом накануне желанного будущего. Середина всегда привлекательнее крайностей. Прошлое всегда ближе и понятнее будущего. Прошлое – полезная метафора, но оно же – ужасный прецедент.
Мать надеялась, что прачечная будет национализирована. Став просто управляющей, она оказалась бы в безопасности и при этом избавилась от ответственности. Представление Петлюры о социализме, по ее словам, было вполне приличным. Он нуждался в советах еще уцелевших деловых людей. Я снова стал значительным лицом. Я всех знал. Меня приглашали на различные встречи высокого уровня, называли доктором Пятницким и считали ученым-вундеркиндом. Мне позволяли рассуждать о перспективах украинских монорельсовых дорог, украинских гражданских авиалиний, украинских общедоступных городских садов. Мои идеи больше не казались людям фантастическими, ведь следовало использовать потенциал всей Украины. Я упоминал об особых кинотеатрах, образовательных центрах, воздушных сторожевых кораблях, которые могли защитить наши границы от большевистской агрессии. Скоро в Киеве снова будут собираться величайшие российские гении, говорил я. Киев мог стать столицей новой Российской империи, которую я дипломатично называл расширенным Украинским государством. Я рассказывал о своих мечтах и помогал мечтать другим. Это был мой дар. Я предложил его правительству, и наконец оно пожелало его принять. Я не занимал никакого официального положения. Я считал, что глупо на это соглашаться. Мне только что исполнилось девятнадцать лет. Наконец я отыскал подходящую аудиторию для самых сложных идей, вроде моей машины невидимых лучей. Я не позволял себе никаких чрезмерных требований. Подобные механизмы могли, однако, создать защитное кольцо («железное кольцо света», как сказал кто-то) вокруг города и сделать его почти неуязвимым. Эта идея предвосхищала недавние военные изобретения американцев.
Нам срочно требовалась помощь. Поляки нападали с запада, белые – с юга, красные – с севера. Румыны вторглись в Бессарабию. Французские и греческие отряды высадились в Одессе. Многие казачьи и псевдоказачьи вожди, atатапу, и бандиты-анархисты вроде Махно переходили на сторону противника почти так же быстро, как и регулярные части; многие до сих пор все еще поддерживали Скоропадского. Атаман Григорьев выступил против Директории и присоединился к большевикам. Он собрал большую толпу так называемой повстанческой конницы; все до одного были грабителями и погромщиками. Мы в Киеве не верили ни единому слуху. Если нам говорили, что большевики захватили левый берег Днепра, мы просто прислушивались. Если не слышали сильной артиллерийской канонады или ружейных залпов, все продолжали заниматься своими делами. Тогда казалось возможным, что Петлюра вообще прогонит большевиков из России. А потом он устроил фарс с украинизацией церкви. Внезапно православные службы перевели на украинский, и многих церковных интеллигентов разогнали или даже убили прихожане только за то, что они высказывали непреложную истину: нет такой вещи, как Украинская церковь, с тех пор как вся церковь была подчинена патриарху Константинопольскому. Националистическое помешательство усиливалось.
Оно и уничтожило мою родину, место рождения русской культуры.
Глава одиннадцатая
Однажды вечером в середине января 1919 года меня пригласили на обед в гостиницу «Савой», где собирались промышленники, ученые и политики. Мне сообщили, что встреча будет иметь большое значение. Мое присутствие считали абсолютно необходимым.
Я приехал в гостиницу, нарядившись в свой лучший костюм, надел лисью шубу, шляпу, перчатки и теплые галоши, в руке держал неизменную трость. Все это я оставил в гардеробе. Управляющий извинился за то, что подъемник временно не работал. В темном костюме-тройке, с классическим воротничком и галстуком, я поднялся по широкой лестнице на второй этаж и остановился у огромной двери, которая, судя по всему, вела в танцевальный зал. Меня сопровождал слуга в униформе. Я оказался в настоящем номере класса люкс. По сравнению с ним мой маленький номер в «Европейской» выглядел просто постыдно. Я прошел по короткому коридору, стены и потолок которого были полностью зеркальными. Слуга отодвинул зеленый занавес, открывая мне проход в общую гостиную, в которой обилие хрусталя и позолоты напоминало о былых временах.
В комнате находились несколько мужчин, куривших сигары. Некоторые были в смокингах, некоторые – в военной форме. Кто-то из гостей оказался одет примерно так же, как и я, – в сшитые на заказ костюмы свободного покроя. Меня приветствовал журналист Еланский, кроткий с виду человек в очках и с козлиной бородкой. Его все считали сторонником большевиков и террористом. Мы познакомились в «Кубе», где меня принимали за социалиста только потому, что я постоянно отмалчивался и сохранял спокойствие. Еланский представил меня множеству мужчин, имена которых я уже не раз слышал. Они пожимали мне руку и благодарили за то, что я нашел время с ними встретиться. Эти люди, очевидно, считали меня важной персоной, но я не очень понимал, в чем заключается моя важность.
Вскоре после моего появления зеленый занавес раздвинулся, и в гостиную вошел наш самопровозглашенный Верховный главнокомандующий, Симон Петлюра. Он был ниже ростом, чем я предполагал; я еще отметил розовую, гладкую кожу, считавшуюся признаком типичного украинца, маленькие усики и привычку на птичий манер шевелить пальцами во время разговора. Он был одет в зеленую с золотом форму. Я, приветствуя, назвал его «паном»; это обращение использовали только на Украине и в Польше. Он, улыбаясь, сказал, что предпочитает именоваться товарищем Петлюрой, так как это позволяет ему вести себя свободнее, чувствовать, что он среди друзей. Он также поблагодарил меня за то, что я нашел время присоединиться к собранию.
Мы сели обедать. К моему удивлению, меня усадили слева от Петлюры, в то время как Еланский сел справа. Рядом со мной сидел генерал, напротив генерала – высокопоставленный министр, отвечающий за ведение Гражданской войны. Меня именовали товарищем Пятницким; я находил это обращение весьма забавным. Во время трапезы я почувствовал настоящую эйфорию – казалось, я вот-вот займу значительный политический пост. Поразмыслив, в будущем я решил держаться от политики подальше. Все собравшиеся рассуждали о победах большевиков. При отсутствии союзников мы очень скоро лишимся и поставок продовольствия, и линий связи. Киев вскоре придется сдать. Повстанцы ненадежны. Большинство не вполне осознавало важность железных дорог и телеграфов. Они сражались лишь за свои мелкие территории; Петлюра думал, что повстанцы рассчитывали создать крошечные государства вдоль старых казачьих границ. Он не доверял даже собственным отрядам запорожцев, которые уже получили все, чего хотели.
– У нас много всадников, пехотинцев, немало пулеметов, поездов, но нет самолетов, не хватает артиллерии, достойной такого названия, нет ни танков, ни бронемашин. На деле мы подготовлены к современной войне немногим лучше Стеньки Разина. – Пока мы смеялись над этой шуткой, маленькое лицо Петлюры приобрело серьезное выражение. Он поджал нижнюю губу, как бы пытаясь подчеркнуть волевую линию челюсти. – И именно поэтому, товарищ доктор, мы просим вас дать некоторые рекомендации.
Я был озадачен:
– Я отнюдь не стратег.
– Но вы ученый. – Еланский склонился ко мне. – И блестящий. О вас все говорят. Я встречал людей из Петрограда, из Москвы, из Одессы. Все говорят, что вы – один из самых дальновидных людей современности. Юный гений, который построил свою первую летающую машину в возрасте восьми лет.
Я улыбнулся, взмахнув рукой. Я стал носить кольца из украинского филигранного серебра, придававшие облику что-то националистическое, но при этом никак не характеризовавшие человека, который их носил.
– Подобные истории всегда преувеличены. У меня множество изобретений, немало теорий, несколько практических идей. Но без надлежащих материалов я не могу проводить необходимые эксперименты. Таким образом, господа-товарищи, мое положение несколько неопределенно, как в лимбе.
– Вы можете обеспечить нас аэропланами? – спросил генерал по фамилии Коновалец[117]. Он был ненамного старше меня, хотя его лицо казалось выточенным из древнего камня.
– Нет, если не будет фабрик и опытных рабочих. Вы и сами уже это знаете. Французские аэропланы – ваша главная надежда.
Потом заговорил Петлюра:
– Мы должны выиграть время в переговорах с Лениным и Троцким.
Я вопросительно посмотрел на Еланского, который пожал плечами:
– Они ничего нам не обещают.
Я сохранял осторожность. Если большевики войдут в Киев на следующей неделе, Еланский может заговорить по-другому. В России многие вели себя подобным образом.
– Мы слышали о каком-то луче. Вроде концентрированного солнечного света, – донесся чей-то голос с другого конца стола. – Вы его создали?
И тут я громко рассмеялся. Несколько месяцев назад никто не относился к этой идее серьезно, а сегодня вечером они забыли о практической механике, в отчаянии ухватившись за идею, обычно отметаемую как дешевая фантазия, так как красные уже стучали в ворота Киева. Впрочем, я заметил, что некоторые из присутствующих все еще немного сомневались, но даже не пытался переубеждать их. Я не мог ничего утверждать, пока не будет построен опытный образец.
– Лучевую установку нелегко собрать. Потребуется много денег и оборудования.
Петлюра был нетерпелив.
– Вы получите все, что нужно. Доктор Брон, – он указал на пожилого джентльмена, – научный сотрудник Киевского университета. Он может предоставить в ваше распоряжение все свои ресурсы.
– Когда я выслушаю предложение молодого человека, – произнес Брон низким голосом, пристально глядя на меня.
– Я провел некоторые исследования, – сказал я. – Полагаю, что вполне возможно сконцентрировать луч света, тогда он станет настолько мощным, что сможет пробить даже сталь.
– Это известная гипотеза, – согласился Брон, – но я не понимаю, как вы собираетесь ее подтвердить.
– Нужна специальная вакуумная труба. Вроде очень большой радиолампы. Я опишу ее как можно проще?
– Бога ради, – ответил он.
Старик обладал чувством юмора, которого недоставало большинству его коллег. Возможно, ему было уже нечего терять. Я описал, как ртуть введут в трубку и нагреют, чтобы вытеснить воздух. Пары ртути начнут скапливаться внутри, трубу запечатают, а провода выведут наружу. Низкое напряжение можно использовать для нагрева трубы. Как только температура достигнет 175 градусов по Цельсию, на электроды подадут высокое напряжение, тогда пары ртути произведут электрический разряд. Возбужденные ионы ртути при этом будут излучать свет, выходящий за пределы спектра, воспринимаемого человеческим глазом.
– Я называю этот свет ультрафиолетовым, – сообщил я. – Зеркала или кварцевые линзы можно использовать для его фокусировки.
– И сколько электрической энергии вам понадобится? – Броня услышанное впечатлило. Он нахмурился, изучая заметки, которые сделал карандашом на скатерти.
– Очевидно, чем мощнее источник энергии, тем сильнее луч.
– Этот луч действительно будет фиолетовым? – спросил кто-то еще.
Я начал объяснять, но Петлюра схватил меня за руку:
– Сколько таких машин вы сможете для нас построить, скажем, за месяц, пока не придет подмога?
– Сначала следует создать экспериментальную модель. После этого мы с легкостью сделаем гораздо больше. Если у нас будут генераторы для обеспечения работы машин.
– Генераторы с электростанций подойдут? – спросил Петлюра.
– Думаю, да. – Я не ожидал такого предложения. Это означало, что он собирается отключить все электроснабжение Киева. Я был польщен. – Придется прокладывать кабели.
– Где лучше поставить машины?
– На возвышении. – Генерал Коновалец был настойчив. – Это обеспечит хороший обзор местности, поймите. Если их потребуется применить в отдаленных предместьях… Машины ведь окажутся слишком тяжелыми для быстрого перемещения, да?
– Сами машины можно перевозить как обычные артиллерийские орудия, проблема в источниках энергии. – Я восхищался тем, как быстро он все схватывал. – Нельзя протянуть кабели по всему Киеву. Люди, а также улицы и здания, нам помешают.
– Они всегда мешают! – произнес Коновалец с притворным огорчением. – Андреевская церковь – самое подходящее место.
– Вы говорите о галерее у самого купола? – Я обдумал предложение. – Единственное, что меня в данном случае останавливает, это… – Я заколебался, не зная, стоит ли обсуждать религиозные вопросы с социалистами, многие из которых могли оказаться воинствующими атеистами.
– Кощунство, – сказал Петлюра. – Так вот что вас тревожит? Вы верующий? И ученый?
– …проблема вывода энергии на такую высокую точку.
– Нет никакого кощунства в том, – спокойно сказал Коновалец, – чтобы противостоять большевизму. Они поклялись уничтожать все религии.
Я сразу понял, что он был прав. Действительно, могло показаться, что сам Бог даровал нам место, где мы сможем встать на защиту Его веры.
– Мы построим экспериментальную модель в Андреевской церкви. – Петлюра закурил сигарету, пока официанты убирали наши тарелки. – Провести туда энергию не сложно? – Он посмотрел на своего министра.
– Сложно, Верховный главнокомандующий.
– Но возможно?
Брон сказал, что лучше было бы отыскать какой-то аварийный источник энергии. Маленький бензиновый генератор или гальванические элементы.
– Гальванические элементы немного старомодны. – Я улыбнулся.
– Я всегда считал их надежными. Они не ломаются.
– Но их трудно регулировать. И проблема соединения…
Брон пожал плечами:
– Я по-прежнему предлагаю отдельный источник энергии. Если в разгар сражения большевики захватят наши электростанции, то у нас вообще не останется оружия.
Мне пришлось согласиться. Теперь я понял его логику. Моя ошибка, как обычно, состояла в том, что я не учитывал практических деталей, увлекшись отвлеченной идеей. Само название «луч смерти» было мне отвратительно. Сегодня есть понятные определения, например «противопехотное оружие». Немало таких формулировок немцы позаимствовали у большевиков, а американцы – у немцев; это случилось, когда лучшие ученые Германии перебрались за океан после Второй мировой. Они не занимаются отвлеченными рассуждениями о войне. Они позволяют техникам делать их работу, не смущаясь ненужными соображениями. Пусть священники и романисты решают, в чем состоит моральная ответственность, если таковая вообще существует. В эпоху индивидуализма человек утратил способность ясно рассуждать. Искусство и наука смешались, поскольку человек верит, что должен принимать независимые решения в каждом конкретном случае. А ведь нужно просто признать авторитет Церкви, чтобы обрести истинную ясность видения.
Мой статус в научном и деловом мире изменился: первоначально он был несколько сомнительным, но теперь я стал участником петлюровского социалистического движения. Это меня тревожило. Я решил узнать у Петлюры, какие полномочия получаю.
– Вы должны выполнить свою задачу, несмотря ни на что. – Он был резок. – Вы можете реквизировать все что угодно – людей и материалы, – если это не помешает нашим нынешним военным действиям. Нам приходится бороться с русскими и польскими шовинистами. И есть вероятность, что Деникин окажется очень ненадежным союзником, если его вообще можно считать таковым. Он тоже шовинист, но сейчас ненавидит Троцкого еще сильнее, чем я. Что с ним станет, если французы решат, что он для них помеха?
– Пусть отправится в Турцию с сотней всадников, – сказал Коновалец. – Там дела настолько плохи, что он сможет за неделю завоевать всю эту проклятую страну и стать царем.
Петлюра поднял бокал:
– Смерть врагам Украины!
Я неохотно выпил за это. Будучи русским шовинистом, я не во всем соглашался с нашим атаманом.
– Современные методы обеспечат нам современную революцию, – сказал Петлюра. – И суеверные крестьяне поймут важность науки. Я слышал, что вы переводчик, товарищ Пятницкий?
– Я знаю английский, немецкий и немного французский, – ответил я, – а еще польский и чешский.
– А украинский?
– Местный диалект? – На мгновение я перепугался.
Петлюра сменил тему. Тогда я считал его джентльменом, неважно, каких взглядов он придерживался. Моя дипломатия не сработала, но нельзя сказать, что я совсем уж промахнулся. Официальный украинский был вариантом галицийского, его с трудом усваивали даже киевляне, говорившие на своем диалекте. Язык был настолько же подлинным, как и стандартные республиканские купюры.
Все мы, сидя в зале при свечах, беседовали, само собой разумеется, на чистейшем петербургском русском. Петлюра сказал:
– Полагаю, французы готовы заплатить за тайну вашего луча?
Это не приходило мне в голову. Я решил, что Петлюра обо всем догадался по выражению моего лица. Он ободряюще улыбнулся, погладив меня по плечу:
– Все в порядке, гражданин. Вы бы здесь не сидели, если б я считал вас предателем. Но я пошлю курьера. Мы скажем Фрейденбергу, что занимаемся созданием секретного оружия. Он должен как можно скорее привести свои войска, иначе оно достанется большевикам.
– Вот это стратегия! – одобрительно произнес Коновалец.
– Это дипломатия, – сказал Петлюра. Его розовые щеки вспыхнули. – Ведь мы думали, что легко сможем спасти Украину.
– Мне необходимы полномочия, – произнес я.
– Дайте ему звание, Коновалец, – небрежно бросил Петлюра.
Коновалец пожал плечами:
– Вы теперь майор.
Так я получил свое первое военное звание. Совершенно законно, но не пролив ни капли крови.
– Вам следует утвердить это решение, – сказал Петлюра своему помощнику. – Что-нибудь еще, товарищ доктор?
– Я ожидал бумаги из Петрограда, мой специальный диплом, – сказал я. – Его задержали. Вероятно, теперь он уничтожен.
– Российский диплом? Он бесполезен здесь. Профессор Брон? – Эти люди внимали каждому слову Петлюры.
Профессор понял все так же быстро, как и генерал:
– Что вам нужно? Какой-то диплом? Мы можем дать почетную университетскую степень.
– Это не одно и то же. – Я объяснил, что случилось в Петрограде. – Моя диссертация давала право на специальный диплом, как вы понимаете. Эквивалент докторантуры. – Я сунул руку в карман и вытащил бумажник, а потом вручил Петлюре копию письма профессора Ворсина.
Брон сначала прочел подпись:
– Я знаю Ворсина. Это его рука. Если товарищ секретарь… Ах, пан… – Он обернулся к Петлюре, как будто внезапно усомнился в своем решении.
– Это для вас так важно? – спросил меня Петлюра. Он взял из рук Брона письмо и прочитал его. – Что ж, письмо подтверждает все услышанное. Такова ваша цена, товарищ?
– Мне не нужна плата, – ответил я, – за то, чтобы сражаться с Троцким и Антоновым[118]. Как раз из-за них у меня и не осталось никаких бумаг.
– В письме все ясно сказано, не так ли, Брон?
– Абсолютно. Мы можем… у нас есть дипломы… – Профессор развел руками. – А если доктора наук?
Петлюра быстро повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза, потом перевел взгляд на свою салфетку:
– Это вас устроит, майор Пятницкий?
Я вздохнул и приподнял свой хрустальный кубок:
– Сейчас ненадежные времена.
Петлюра обратился к сидевшему у дальнего конца стола своему старому товарищу, Винниченко, тоже стороннику большевиков:
– Вы это одобряете, товарищ председатель?
Винниченко, литератор, мало интересовавшийся происходящим, казался утомленным. Он кисло заявил:
– Конечно, товарищ Верховный главнокомандующий. Если преторианцы согласны…
Коновалец почесал затылок.
– Это глупо. Сечевики лояльны. У нас нет власти.
Мне показалось, что я вот-вот стану свидетелем открытого спора различных фракций Директории. Винниченко сказал устало:
– Прошу прощения, Коновалец. Но вы, кажется, единственный, кому французы вообще доверяют.
– Это потому, что они никогда не слышали обо мне, – улыбнулся генерал.
Я вежливо рассмеялся. Коновалец казался человеком, который вскоре сможет взять бразды правления в свои руки. Этого не должно было произойти. Полковник Фрейденберг, французский командир, считал, что невозможно отличить одного социалиста от другого. Он настаивал, как мне удалось выяснить, чтобы всех красных изгнали из Директории. Но ее возглавляли Петлюра, Винниченко и другие. Ультиматум Фрейденберга, по существу, представлял собой требование сместить правительство прежде, чем он придет на помощь Киеву. Фрейденберг считал Петлюру и его команду всего лишь сборищем бандитских главарей. Он сочувствовал только Деникину. Российская Добровольческая армия была и больше, и надежнее; к тому же поддерживала царя.
Галицийские снайперы Коновальца были опорой Директории. Вот почему Винниченко назвал их «преторианцами». Они размещались в отдаленных предместьях, готовые встретить большевиков на пути к городу. Ни одна газета не сообщала об этом. Я также не мог представить, насколько велика опасность, – даже после встречи с Петлюрой. В Киеве стояла тишина. Зима была холодной. Снег покрылся ледяной коркой. Не верилось, что до марта что-то изменится. Тем временем я получил и ученую степень доктора наук, и воинское звание майора. Как я и мечтал, мои заслуги признало правительство. Увы, я терпеть не мог его идиотские политические методы, но признаюсь, что меня на время увлекла возможность наконец-то реализовать одно из моих изобретений.
Я послал матери записку, кратко изложив хорошие новости. С тем же посыльным она ответила, что мне следует быть осторожным и не волноваться о ней. Мой успех всегда страшил мать. Наверное, она слишком долго жила в тяжелых условиях. И трудно было винить ее.
На следующий день мне в номер принесли диплом Киевского университета. Максим Артурович Пятницкий стал доктором наук, получив степень 15 января 1919 года. Вскоре после этого офицер сечевых стрельцов приветствовал меня, назвал майором и вручил обычный бумажный конверт, содержавший все необходимые знаки отличия. Очевидно, предполагалось, что я сам раздобуду себе форму. Следовало обзавестись особой формой белого цвета. Я очень серьезно обдумал эту проблему, убрав конверт в ящик своего секретера. Я стал представителем определенной политической группы. В случае прихода к власти большевиков меня, вероятно, схватят и на сей раз, конечно, расстреляют, если я не буду проявлять осторожность.
Я молился, чтобы мой так называемый «фиолетовый луч» сработал в сражении с красными. Петлюра подсказал мне, как можно доставить изобретение в Одессу. Французские военные передадут устройство в распоряжение Деникина. Вся судьба России была теперь в моих руках. Мне прислали новое сообщение: приказ Петлюры, согласно которому я мог требовать любой помощи и получал полный карт-бланш. Монахи и священники больше не заправляли Андреевской церковью, я стал ее новым хозяином. Я почувствовал себя несколько неуверенно. Но у Бога свои планы. И быть может, мой тонкий луч, исходящий от огромной сине-белой башни, внушит большевикам страх перед могуществом Всевышнего?
Работа началась в тот же день – мы изготавливали подходящую вакуумную трубку. Нам мешали почти во всем. Дезертирство в стекольном цехе; обещания доставить медный провод, которые никак не исполнялись; внезапно исчезающие инженеры; русские механики, услышавшие о какой-то победе большевиков или повстанцев и пытающиеся пробраться в Одессу или в Ялту, пока не все пути перекрыты. На улицах вновь воцарился хаос. Силы Петлюры таяли. Французы были правы, когда не доверяли ему. Тем временем колокольня Андреевской церкви стала базой для альтернативного источника энергии, питавшего мое оборудование: банки гальванических батарей, соединенные тяжелым медным проводом и управляемые громадным выключателем. В нижнем помещении я осматривал и отвергал трубу за трубой, зеркало за зеркалом. Силовые кабели тянулись по священным коридорам и лестницам этого удивительного здания, их нужно было присоединить к моей машине, когда она будет готова к работе. Монахи перепугались, но Петлюра убедил их, что храм необходимо использовать для того, чтобы сражаться с большевиками. Труба была закреплена на мощной треноге из алюминия и дерева и выглядела несерьезно. Зеркала у самой трубы были очень большими, они постепенно уменьшались, сужаясь до почти невидимой точки. Кварцевые линзы подошли бы куда больше. Их удалось реквизировать, но они нам так и не достались. С галереи мы смотрели вниз, на гетто. Я мог разглядеть свою родную улицу, чуть выше на склоне холма. Как заметил один из солдат: «Если мы не сможем уничтожить Антонова, хоть прикончим нескольких евреев, прежде чем уйдем».
С помощью кокаина мне удавалось быстро работать над созданием устройства. Петлюра трижды приезжал посмотреть на мои успехи. На третий раз я смог продемонстрировать потенциал машины, направив луч на лист газеты, который почти немедленно загорелся. Его это впечатлило.
– Этот луч сможет выжечь большевиков?
– Все дело в энергии, – ответил я. – Возможности машины безграничны, пока достаточно электричества.
Петлюра, похоже, вообще не спал. Он казался больным. Его взгляд был направлен куда-то в сторону.
– Я отдам вам весь город, всю Украину, – сказал он мне, – если это сработает. Это привлечет к нам людей, вернет солдат.
Он явно отчаялся. Я начал задумываться, что же мне делать дальше. При первой же возможности я отправился на служебном автомобиле к дому матери. Там я предупредил ее, что большевики могут снова захватить город. Мать посмеялась надо мной.
– Большевики были здесь прежде. И мы все еще в безопасности. Так о чем же волноваться?
– Мама, может быть, придется ехать в Одессу. Французы там все держат под контролем. В Одессе мы будем в безопасности.
– В безопасности в Одессе? – Она почему-то захихикала.
Я подождал возвращения Эсме и сообщил ей свои новости. Было уже поздно. Мне следовало вернуться к оборудованию. Я не мог позволить себе ссориться с Петлюрой, тем более что он, очевидно, слишком устал. Я вкратце пересказал Эсме все происшествия и попросил быть готовой к тому, чтобы уехать с матерью и капитаном Брауном, если он согласится.
Она смутилась:
– В деревнях полно бандитов. А у меня здесь работа.
– В Одессе у тебя будет такая же работа, как и здесь.
Она все поняла:
– Когда нам нужно ехать?
– Было бы разумно уехать раньше меня. Я могу послать за вами, если все пойдет на лад. Я работаю… – Я придержал язык. – Есть кое-какая надежда.
– Я не поеду, – сказала мать. – Я никогда не была в Одессе.
Я достал из кармана часы. Было уже слишком поздно.
– Почему ты думаешь, что тебе там будет плохо? Ты сможешь остановиться у дяди Сени.
– Сеня был очень любезен, но сомневаюсь, что Евгения хотела бы, чтобы я остановилась у них. Она написала занятное письмо о тебе и какой-то девочке. Я сожгла его. Она всегда ревновала.
– Мама, большевики могут захватить Киев в любой момент, если я не добьюсь успеха. Я прошу, готовься к отъезду. Как только они окажутся здесь, сесть на поезд будет невозможно.
– Это правда, – согласилась Эсме. – Вы должны сделать, как говорит Макс, Елизавета Филипповна. Мы вас любим.
– Моя прачечная, – заявила она, – вот моя жизнь. Было бы глупо бежать в Одессу. Я что, должна переехать на дачу у моря?
– Возможно, – сказал я. – Тебе бы там понравилось.
– Нет, не понравилось бы.
У меня больше не оставалось времени на уговоры.
– Ты должна пообещать, что возьмешь с собой капитана Брауна и мать. Как только получите мое сообщение. – Я посмотрел в дивные синие глаза Эсме. Прощаясь, я поцеловал ее в губы.
Киев казался уже не осажденным, а захваченным городом. Гайдамаки грабили Подол так старательно, что для обычных погромов времени уже не оставалось. Обошлось без пожаров, убили лишь несколько евреев, которые сопротивлялись солдатам. Мужчины с мешками и винтовками прятались в темных углах, когда мой автомобиль под флагом Петлюры мчался по булыжной мостовой, которую уже много дней не чистили от снега. К счастью, мне удалось возвратиться на относительно безопасный Крещатик. Его защищали многочисленные дисциплинарные отряды. В полупустой гостинице «Савой» я быстро прошел в номер люкс, чтобы рассказать о своих успехах взволнованному Петлюре, который смеялся, обернувшись к Винниченко. Занавески были задернуты. Винниченко выглядывал сквозь них – как будто старая дева, шпионящая за соседями.
– Мы услышим еще о сотрудничестве и эвакуации?
Винниченко пожал плечами. Он был, вероятно, разочарован, что не сможет лично приветствовать Троцкого, Сталина и Антонова. Петлюра спросил меня:
– Как обстоят дела в городе?
– Отряды грабят его, Верховный главнокомандующий.
– Нам никогда не следовало доверять людям, которые пришли со Скоропадским.
– Нам никогда не следовало думать, что мы сможем удержать Киев. – Винниченко повернулся к нам спиной. – Нужно было оставаться с крестьянами и не связываться с русскими и евреями.
Петлюра хлопнул меня по спине:
– Не позволяйте никому говорить, что я противник вашего племени.
Я улыбнулся, чувствуя свое превосходство. Неужели он пытался умиротворить русских «кацапов», козлов, которых так презирал?
– Вы нас больше не ненавидите?
– Это все крестьяне, – сказал он. – Русским и евреям принадлежат все магазины, все фабрики, все машины. – Он заговорил громче, но почти тотчас овладел собой: – Луч в самом деле готов к последним испытаниям?
Я не мог проверить машину, пока не получу больше энергии. Я считал, что бессмысленно реквизировать гражданское электричество и подрывать боевой дух населения, пока не настанет самый решительный момент.
Петлюра немедленно успокоился, как будто только что принял морфий. Он разгладил усы и ободряюще подмигнул: «В таком случае за дело, профессор».
Шаги в «Савое» отзывались эхом. Некоторые из зеркал уже сняли, как будто все здание собирались вывезти. На Крещатике работало совсем мало магазинов. Многие были заколочены досками. Мне захотелось прогуляться по Бессарабке и разыскать какую-нибудь совсем юную девушку – из тех, которые там работали. Я к ним уже привык и, конечно, был лучшим из клиентов. Но, почувствовав некоторую усталость, я приказал шоферу вернуться к Андреевской церкви, купол которой светился, подобно маяку среди тьмы и хаоса. Поднимаясь по лестнице наверх, я слышал доносящиеся издалека выстрелы, крики и вопли. Все это было уже знакомо. Я подумал, что вряд ли стану тосковать по этим звукам, если они когда-нибудь прекратятся.
Поставили какие-то новые, большие трубки. Я восхитился тонкостью работы. Капрал, который помогал мне, сказал, что это, вероятно, последние детали, которые нам удалось получить. Я спросил, почему.
Он усмехнулся:
– Стекольную мастерскую разграбили примерно два часа назад, вот почему.
– На что им стекло?
– Они думали, что найдут там золото.
Я осмотрел свои трубки. Они были сделаны превосходно. Я начал тщательно отвинчивать винты, которыми меньшая трубка крепилась к вращающемуся основанию. Я заменил ее новой.
– Золото?
– Они решили, что евреи делали золото, – сказал солдат. – Все из-за того, что там были тигели и разные материалы.
– Но ведь стекольное производство принадлежит не евреям. – Я соединил провода.
– Они разозлились еще сильнее, когда об этом узнали. – Капрал рассмеялся.
Я остановился, восторженно осматривая машину. Как только зеркала должным образом совместятся и выработается больше энергии, можно будет испытать луч на одном из деревьев около яхт-клуба. Это пустое здание стояло на Трухановом острове, по другую сторону скованной льдом реки. Я зажег сигарету и затем, будучи демократично настроенным, вручил ее солдату. Его впечатлил этот жест:
– Спасибо, товарищ.
– Что насчет большевиков? Мы побьем их? – Я решил, что очень важно узнать, о чем думает обычный солдат, у которого достаточно опыта. На него можно было положиться – в отличие от Петлюры.
– Это зависит от… Почти все русские смотрят на украинцев сверху вниз. Поэтому они держатся вместе. Но украинцы даже не могут договориться, кто ими будет командовать. – Я кивнул. – Они, кажется, готовы присоединиться к кому угодно: к гетману, Петлюре, Григорьеву, Троцкому, Корнилову… – Солдат достал длинную самокрутку. – Хороший табак. И правда турецкий?
– Думаю, да.
Он махнул рукой в сторону предместий:
– У этих бедных ублюдков ничего нет. Они не верят в правительства – националистическое, царское, большевистское, польское, французское. Они верят в свободу и владение землей.
– Чтобы возделывать свой сад[119], – произнес я.
– Как вам угодно.
– Это Вольтер, – пояснил я.
– Я знаю. – Солдат улыбнулся. – Поэтому они и оставили меня с вами. Я дивизионный умник. – Он рассмеялся. – До призыва я год отучился в техническом училище.
– Вы были на фронте?
– В Галиции.
– Вы будете сражаться с большевиками, когда они нападут?
– Вы сошли с ума, – ответил он, погладив рукой мое изобретение. – Вот что будет сражаться с большевиками, товарищ профессор. А я помчусь как угорелый к ближайшему поезду.
Я рассмеялся вместе с ним. Мы думали об одном и том же.
Оставив его на страже, я выстроил в линию все доступные зеркала и еще раз испытал проектор на бумажном листе. За всю неделю я спал лишь несколько часов, но не испытывал ни малейшего желания вздремнуть. Я приказал водителю ехать на Бессарабку. Он ответил, что сейчас четыре часа утра. Отовсюду слышался истерический смех, звон разбитых стекол, скрип ручных тележек, на которых увозили награбленное. Мы вернулись в гостиницу, где я обнаружил записку от Эсме. Утром отправлялся поезд в Одессу. Она сделает все возможное, чтобы попасть на него, но ей нужны были особые бумаги, разрешающие выезд. Я телефонировал своему хорошему другу в соответствующее министерство. Мне удивительно повезло. Он тоже не спал. В течение часа я получил документы для себя, для матери, капитана Брауна и Эсме. Я вложил разрешения в свой паспорт, вызвал солдата снизу и послал его к моей подруге. Меня очень успокоило то, что на этот раз ни она, ни мать мне не возражали. Я внезапно уснул и проснулся в полдень от кошмара: я, только гораздо более юный, корчился в грязи; я был единственным человеком на обширном, пустынном поле битвы. Пули попали мне в живот.
Я не сразу открыл глаза, потому что на секунду мне показалось, что я снова нахожусь в Одессе и слушаю дивный звук прибоя. Мои глаза были залиты желтым светом, как кровью. Я понял, что взошло солнце. Впервые за долгое время я увидел рассвет. Я перевернулся на бок и осмотрелся. Мое жилище оказалось просто ужасным. Я прежде не замечал, какой в нем царит беспорядок. Желтая кровь солнца. Она струилась по веренице каналов, рассекавших степь. Она лилась стремительно, за ней нельзя было уследить, ею нельзя было управлять. Шум не прекращался. Это был, разумеется, артиллерийский огонь. Возможно, стреляли из наших орудий. Стало невозможно отличить друзей от врагов. Они сражались за Киев. Они приходили и уходили. Они все говорили, что спасают нас. Некоторые города просто обречены стать символами. В те дни мы переживали символические события в символическом городе. Безумная вселенная символистов на некоторое время стала реальностью. Неужели все те люди, которых я презирал в Петрограде, действительно обладали даром предвидения? Или они создали этот мир, потому что только в нем могли чувствовать себя непринужденно, – мир безумцев?
Кто-то стоял в моей комнате. Молодой капрал в казачьем мундире. Он вертел в руках свою папаху. Мне показалось, он сказал, что ситуация требует немедленных действий. Желтая кровь все еще заливала мои глаза. Я встал. Я был полностью одет.
Нумидийская конница Ганнибала пробиралась все глубже и глубже в Испанию, в этот набожный край; она приближалась к алтарю Святой Девы. И в степи стояли черные деревья. Бронзовое пламя пожирало киевские низины. И я был в огне; и черная одежда моей матери была в огне.
– Поезд?
Казак произнес:
– Они думали, что вас убили. Враг поблизости. Вас зовут, пан.
Он говорил с сильным польским акцентом. Я слабо владел польским. Мать когда-то учила меня. И я слушал ее кошмары.
– Поезд ушел? Утренний поезд в Одессу?
– Чрезвычайный поезд. Да.
– Он хорошо защищен?
– Кажется, бронированный…
Я отправился с этим польским казаком. В голове у меня звучал огромный хор нежных девичьих голосов. Чистых, русских голосов. Нет звуков, подобных этому. И тем не менее в глазах моих мерцала кровь солнца. Это был Лист[120]. Мы с дядей Сеней слушали его в оперном театре в Одессе. Данте. Нет… Мой разум был слишком слаб. Что-то поразило его, когда я спал. Нет в мире более чистого звука, чем это пение маленьких русских девочек. Magnificat anima mea Dominum![121] В «Чистилище». Так много «Божественной комедии». Они меня окружали. Неужели я обидел их? Я не мог никого обидеть. Я взял лишь то, что взяли бы другие. Я не святоша. Я никогда не утверждал этого. Это случилось в Альберт-холле. Мне не стоило ходить туда. Все красным-красно, круг за кругом уводят меня в ад на сцене; это хор Большого. Но я одинок. Я потерял все. Кто-то завел бы собаку. А я устал от собак.
У нас было слишком много собак в России. И дети никогда не доверяли мне. Неужели они знали? Я не какой-нибудь неуч. Казак посадил меня в красный экипаж, и меня отвезли к Андреевскому спуску. Тот красный ад Альберт-холла. Я помню огни и маленьких девочек в белых платьях. Они должны были в конце отвести меня домой. Я хотел слушать эти голоса, не думая о том, что они там пели на латыни.
Рим, Рим и снова Рим. Они говорили, что Великобритания была новым Римом. И что ей досталось в наследство? Одни только аристократы. Москве достались священники. Рим и Византия, Киев и Москва. Голоса по-прежнему мелодичны, и я не нанес им вреда. Я остался чист. Я оказался чище других.
Мы добрались до церкви, нас ждал Петлюра собственной персоной. Он был в ярости.
– Спите, товарищ?
– Я работал всю ночь.
– Как и этот товарищ?
Речь шла о солдате, с которым я поделился сигаретой. Он казался мрачным. Петлюра, очевидно, кричал на него. Вокруг стояли разные генералы в мундирах. У некоторых не было никаких знаков отличия. Некоторые сорвали свои эполеты. Я научился распознавать такие признаки. Это выглядело почти так же хорошо, как поднятие белого флага. Внизу в церкви шла служба. Звучал киевский распев Дилецкого[122]. По-моему, «Khvalite iтуа gospodevi, аlilиуа». «Это предзнаменование», – подумал я. Церковь и наука объединились, чтобы уничтожить красного жида.
– Моя машина практически готова, – с достоинством произнес я. – Жду инструкций.
– Войска Антонова приближаются со всех сторон. – Петлюра нахмурился. – У нас нет времени, чтобы подготовить другие позиции. Вот все, чем мы можем воспользоваться. Сегодня вечером мы направим машину туда. – Он небрежно указал в сторону моего дома.
Я обрадовался, что Эсме с матерью уехала. Солнце пропало. Я, прищурившись, смотрел на Петлюру. Он спросил:
– Вы уверены, что свет будет невидим?
Я ответил:
– Да.
– Это ослабит их боевой дух. И даст нам время привести в действие следующую часть нашего плана.
– Вы переходите в контрнаступление?
– Ваше дело – наука, профессор.
Солдат с усмешкой смотрел на меня. Я избегал его взгляда. Я не хотел неприятностей. Моя голова раскалывалась. Я забыл кокаин и попросил разрешения вернуться в гостиницу за лекарством. «Возьмите мое», – сказал Петлюра. Он протянул мне маленькую золотую коробочку, полную кокаина. Я нисколько не удивился. Вся эта революция, вся гражданская война – битвы на «снежке». Это топливо питало всю военную машину, топливо, гораздо более важное, чем политика или порох. Восстановив силы, я заметил солдата, который нагло ухмылялся:
– Думаете, я не знаю, что делаю?
– Думаю, что вы единственный, кто знает, товарищ.
Петлюра мрачно произнес:
– Вас могут расстрелять, капрал.
– Думаю, что сегодня у меня есть шанс, товарищ Верховный главнокомандующий.
Капрал нисколько не боялся, потому что слишком устал. Я почувствовал симпатию к нему. Нас перехитрили. Даже Сципион[123] нуждался в армии, чтобы уничтожить карфагенских слонов. И все в те дни было залито солнечным светом. Все битвы велись на жаре, а не в снегах. Только Ганнибалу был знаком снег, и то это были уютные снега Альп, а не снежные пустыни России. Рагнарёк наступал снова. Энтропия. И в России так много подтверждений этого. Нам повезло – у нас есть наши краткие мгновения тепла и жизни. Вот почему мы почитаем Бога.
Петлюра что-то пробормотал, повернувшись к капралу. Он не мог позволить себе кого-то расстрелять. Его армия, вполне возможно, теперь состояла только из притихших генералов, капрала и моей лучевой машины. Он сказал что-то по-французски единственному человеку в гражданском, кроме меня. Но Петлюра говорил со столь сильным акцентом, что, кажется, никто ничего не понял. Человек, возможно, был французским консулом. Он кивнул. Петлюра попросил меня навести линзу на леса Труханова острова:
– Вы можете уничтожить те деревья?
– Конечно. Но мне нужна энергия.
– Мы подключим.
Я направил свою машину на днепровский лед. Нажав на соответствующий выключатель, я провел тонкую линию по белой поверхности.
– Все, лед растаял. Подумайте, как можно было бы применить эту машину.
– Растопить лед – неподходящая цель… – начал один из генералов.
– Это может быть полезно на кораблях, – сказал другой.
Все они говорили как автоматы, как будто получали энергию и вдохновение от Петлюры, но этот источник иссяк и больше не мог обеспечить их всем необходимым. Мое устройство мало что значило для большинства из них. Они не знали, почему здесь оказались.
– Вы прожгли лед? – Петлюра взял походный бинокль. – Я вижу трещину. Превосходно. Само по себе это будет полезно, когда они попробуют перейти реку. Это напоминает битвы Александра Невского. Наши враги погибнут в нашей реке.
Петлюра протянул мне бинокль, но я в нем не нуждался. Генерал наклонился и, криво улыбаясь, восстановил настройку. «Спасибо», – сказал он медленно, как будто я не понимал русского языка.
Священники все еще пели для своей паствы. Звук становился все громче и громче. Петлюру возмутили их голоса; а я был рад их слышать. Даже тогда, не понимая, что делаю, я получал вдохновение от Бога, не от человека. Мне следовало запомнить это мгновение – ведь я, один из всей собравшейся компании, был наделен силой.
– Эти крестьяне… – произнес Петлюра. – Они скоты. Они предатели и глупцы. Они предали меня. Они примитивные животные.
– Мы все такие, товарищ, – сказал солдат. Он прислонился к парапету, выглянул в окно. – Но некоторые из нас – невинные животные. Вот единственное отличие. Вы провели не слишком много времени в стаде.
Петлюра прикусил тонкую нижнюю губу. Его бесцветные глаза обращались то к одному генералу, то к другому – и не видели ничего, кроме пустоты.
– Коришенко, – проговорил он, – вы должны сделать так, чтобы вся энергия была переключена на машину профессора.
Коришенко отдал честь и удалился, явно обрадованный возможностью уйти.
– Мы дождёмся сумерек, – произнес Верховный главнокомандующий. – Возможна ли опасность? Какая-то обратная реакция механизма?
– Это маловероятно.
– А что, если люди окажутся на пути луча?
– Скажите всем: пусть остаются в укрытиях, – предложил я. – На всякий случай.
– Мы не хотим разрезать какого-нибудь бедного еврея надвое, – заметил капрал.
Петлюра и его прихвостни уже покидали башню. Петлюра начал что-то говорить на своем ужасном французском. Я слышал, как человек в гражданском произнес:
– Что там с евреями? Еще один погром?
– Естественно, нет.
– У нас во Франции есть евреи.
Мужчины исчезли, голоса их смешались с раскатами хора, и я остался наедине с капралом.
– Он говорил что-нибудь этому французу об отступлении из Киева? – спросил мой помощник.
– Нет.
– Что он говорил о евреях?
– Ничего.
Капрал поднял руку, как будто хотел повалить мою машину.
– У меня нет предрассудков, но предупреждаю вас…
– О чем вы говорите?
Его поведение начало беспокоить меня. Этот идиот считал меня евреем, потому что я занимался наукой? В этом отношении я был согласен с Петлюрой и большинством крестьян. Евреи на Украине и в Польше сделали саму землю белой, они обескровили обе страны. Чернозем был истощен так сильно, что только кровь могла вернуть земле жизнь. Кровь и солнце и наши широкие реки, которые, по утверждению красных, они смогли покорить. Но кто может приручить русскую реку? Она навеки свободна. Они пытались сделать из нас европейских буржуа, но потерпели неудачу. Мы не относимся к среднему классу. Мы – интеллигенция, мы – рабочие, мы – крестьяне. Пусть евреи ищут свой Сион в другом месте. Они не получат Россию. Только славяне выживут на славянской земле. Татарам не удалось здесь уцелеть. Земля уничтожила их ханства. Ведь это одно и то же: финикийские торговцы и пятая колонна сионистов. Мне это известно – точно так же, как известно, что дьявол кроется во всех мужчинах. И во мне таится дьявол.
Я предложил солдату сигарету.
Солнце уже садилось. В Киеве было тихо. Повсюду было тихо. Поезда удалялись от города. Я мог разглядеть клубы дыма. Я видел фигуры на льду. Я не знал, кто эти люди. Пение внизу утихло. Я ощутил свое одиночество. Возможно, я заплакал. Я хотел девочку. Я хотел утешения, хотел отдыха. Я вспомнил Колю. Где он теперь – в петроградской тюрьме? Эмигрировал? Отправился с Корниловым или Деникиным, чтобы пробиться обратно к центру силы? Почему поляки вторглись на Украину? Они хотели вернуть свою империю. Не удивительно, что немцы начали бояться их, как боялись чехов. Чехи прославились своей храбростью и боевыми навыками. Они проложили дорогу домой через всю Сибирь. Тевтонцы боялись славян так же, как упадочные латиняне боялись викингов. Если б только империя сохранилась. Славянская империя. Тогда мы уже сегодня возродили бы эллинистический мир. Мы – наследники греков. Это наша славянская кровь объединяет нас, а не коммунизм. Англосаксы и китайцы пережили свою славу. Они обрели стабильность и погибель. Отрицание никогда не было свойственно славянам. Мы всегда предпочитаем действие бездействию. Если бы поляки доверились немцам, не дошло бы до второй войны. Национализм противостоит всему разумному и прогрессивному, всем плодам учености, всему опыту человечества. Израиль! Свежая шутка: теперь евреи стали националистами. Вот почему нам следует опасаться худшего.
Варшава, Прага и Киев были прекрасными городами. И кто разрушил их? Евреи-большевики. Гитлер, возможно, никогда не сделал бы того, что сделал, если б не их угрозы. Ему приходилось сопротивляться им, укреплять и защищать свои рубежи. Россия всегда была союзницей Германии. И кто разрушил этот союз? Еврейский фабрикант, еврейский интеллигент, еврейский политик. Чувствует ли мир эту угрозу? Не истерически, как Гитлер, а разумно? Пусть забирают Израиль. Пусть забирают весь Ближний Восток. А затем мы возведем вокруг евреев огромную стену и простимся с ними навеки. Они могут сколько угодно вопить у себя за стеной. Я не стану их слушать.
Когда стало темнее, я понял, что необходимая энергия накапливается. Капрал ушел за едой, но вернулся с сообщением о том, что всем приказали укрыться в подвалах. Кто-то думал, что ожидается налет цеппелинов, кто-то слышал рассказы о моем «фиолетовом луче». Удивительно, как быстро распространяются новости в осажденном городе. Сплетня, как говорят на Украине, рождается от голода. Мои запасные гальванические батареи были наготове. Я подсоединил их к трансформатору на случай внезапных перебоев в подаче энергии. Темнота принесла мне облегчение. Мои глаза болели. Я не мог изгнать образы крови и смерти, заполнившие мой разум. По крайней мере, Эсме, мать и, возможно, капитан Браун были теперь далеко, они мчались в Одессу, где французы поддерживали порядок, где еще оставалась надежда. Если все станет еще хуже, дядя Сеня поможет им уехать из страны на некоторое время. Я уверял себя, что если точно определю направление ветра, то смогу использовать свой луч, продемонстрирую его возможности, соберу машину с помощью капрала и отправлюсь вместе с опытным образцом к французам. Следующий поезд увезет в Одессу меня и мое изобретение, а оттуда корабль доставит нас в Париж.
Нигде не было ни единого огонька, но зазвучали артиллерийские залпы. Где-то в районе Труханова острова появлялись вспышки света. Я направил проектор на остров. Капрал попросил у меня сигарету. Я отдал ему портсигар. Он вытащил папиросу, положил портсигар мне в карман и закурил. Я подумал, видят ли большевики в бинокли огонек его папиросы. Если так – чего же они ждут в молчании и в темноте? Время от времени раздавались выстрелы. Я слышал крики, звук моторных двигателей, стук лошадиных копыт на деревянных настилах улиц – там, где снег растаял под ногами петлюровцев. Я нажал на рычаг проектора и увидел вспышку света. Думаю, я уничтожил орудие. Я обернулся к капралу, чтобы он мог разделить мой успех. Но он исчез. Церковь опустела.
Киев заполонили призраки. Я доверял инстинктам капрала больше, чем инстинктам Петлюры или своим собственным. Я позвал его, но было уже слишком поздно. Он ушел, чтобы присоединиться к большевикам или вернуться в свою деревню. Я хотел разобрать проектор, но в этот момент услышал звук шагов на лестнице. Я был так напуган, что решил: сейчас передо мной возникнут призраки или Антонов собственной персоной. Но это был Петлюра, в зеленой форме, черной шапке и с плеткой в руке. Он выглядел гораздо эффектнее, чем гетман, – стремился походить на аристократа, а на самом деле казался смешным, как герой «Узника Зенды»[124].
– Вы еще не использовали луч?
Я сообщил ему, что уничтожил орудие.
– Одного орудия недостаточно.
– Машину нужно навести на цель. Каждый выстрел требует большого количества энергии. Пока я все делал верно.
– Вы дали мне надежду. Но вы же и отняли ее.
Два генерала стояли рядом с ним, вместе с несколькими военными, младшими по званию. Все носили разную форму: одни были одеты в синее, другие – в белое, третьи – в зеленое.
– Я говорил вам, на что способен. Нужен еще день-другой.
– Антонов почти вошел в Киев. Его войско приближается. Нам нужно эвакуировать жителей. Вы могли бы остановить их своим лучом.
– Один?
– Вы же майор республиканской армии, товарищ. Вас могут расстрелять за неподчинение приказу.
Кто-то из генералов усмехнулся:
– Это правда!
– А вы уходите? – Я не мог поверить в такое вероломство.
– Мы оставляем эти позиции. У нас все еще есть сильная поддержка. Думаю, мы можем положиться на Григорьева. Велика вероятность, что Антанта пришлет нам отряды. Деникин и Краснов присоединятся к нам. Им это будет выгодно.
– Как я смогу спастись, если меня отыщут большевики? – Этот вопрос казался вполне резонным.
– Вы сможете бежать, – сказал какой-то капитан. – Вы же в гражданской одежде.
Я подумал, можно ли еще вернуться в гостиницу и собрать вещи, или их уже украли. Я отсалютовал по-военному: «Тогда я исполню свой долг». Естественно, я имел в виду долг перед теми, кто мне доверился, и перед самим собой. Не осталось никакой надежды на этот ультрафиолетовый проектор, который должен был один противостоять всей армии большевиков. Петлюра во всем ошибался. Я спросил его, где мне следует встретиться с основной армией.
Он заколебался: «Вы обо всем услышите».
Он предполагал, что меня схватят, и не хотел рисковать – ведь я мог раскрыть его новые позиции. Некоторые из генералов, казалось, явно мне сочувствовали. Другие улыбались. Я, видимо, стал для них чем-то вроде яблока раздора.
– Что, если Антонов захватит машину? – спросил я.
– Вы должны успеть уничтожить устройство.
Я думал, что он слишком верил в мою преданность, – я так и не понял, почему.
– А если они схватят меня прежде, чем я смогу его уничтожить?
Петлюра отвернулся. Жестом, выражавшим крайнее высокомерие и нетерпимость, он приподнял нагайку и стукнул по корпусу прибора. Я испугался. Тренога пошатнулась, но устояла.
– Они никогда не поймут, что это такое. У них нет денег. Они не смогут заплатить вам. Передайте это французам. Они дадут все, что попросите. – Петлюра что-то подозревал. Он был безумцем.
Я растерялся и не успел выровнять механизм прежде, чем драгоценная вакуумная труба вышла из состояния равновесия. Петлюра уже все испортил. Требовались долгие часы, чтобы перенастроить механизм. Я ничего ему не сказал.
– Вы попросили меня построить эту машину.
– Но она не работает!
– Вы ее не испытали как следует.
– Очень хорошо. Запустите ее сейчас. Уничтожьте остров.
– Я постараюсь. Вы, скорее всего, сделали это невозможным…
– Уничтожьте Труханов остров.
Я пожал плечами и направил проектор в сторону острова. Я начал поворачивать его, как будто это был пулемет, стреляющий очередями во все стороны. Естественно, ничего не произошло.
Петлюра рассмеялся:
– Я спешу, товарищ.
Я проверил свои датчики и обнаружил, что на трансформатор подавалось недостаточно энергии.
– Напряжение упало. Мне придется использовать запасные батареи. – Я указал в сторону лестницы – туда, где располагались устройства. – Кто-то должен потянуть этот большой рычаг до упора вниз, когда я подам сигнал.
Петлюра уставился на меня, как на сумасшедшего:
– И это сработает?
– Потяните за рычаг!
Какой-то дурак пошел к рычагу, гремя шпорами и орденами; военный гений, который мог усидеть на лошади и поэтому стал генералом в идиотской армии Петлюры. Он потянул за рычаг, прежде чем я отдал команду. Над батареями появилась вольтова дуга. Солдаты отпрянули. Раздался грохот, вспыхнул огонь. Петлюра закричал и бросился бежать, его люди последовали за ним, в то время как я сражался с уцелевшим оборудованием. Но сделать ничего уже было нельзя. Я открыл один из заполненных соломой ящиков для боеприпасов, в которых доставили мои вакуумные трубы. Труба все еще оставалась там. Мне требовались только линзы. Я начал снимать их как можно быстрее. Кто-то вернулся. Раздался пистолетный выстрел, труба на треноге взорвалась, и, закрыв глаза, я ощутил, как осколки стекла врезаются в мои руки и в лоб. Второй выстрел предназначался мне. Петлюра, очевидно, хотел убедиться, что большевики не получат никакого преимущества. В тот момент это показалось мне странным актом мести.
Тогда я подумал, что стрелял сам Петлюра. Но теперь полагаю, что ошибался. Я видел вспышки пистолетных выстрелов и темный силуэт. Я отодвинулся за одну из колонн, укрывшись снаружи на балконе. Всю обойму разрядили, а потом человек убежал. В огне еще что-то уцелело. Там остался мой ящик с соломой. Я попытался вытянуть по крайней мере одну из труб в безопасное место, но в любой момент она могла перегреться и взорваться – тогда моя смерть была бы неминуема. Раздавалось шипение электрических разрядов. Все провода были проведены просто ужасно. Но самая большая опасность, которой я подвергался, – сгореть заживо. Я не смог спасти ни одной линзы, ни одной трубы. Я осторожно спустился по лестнице, прислушиваясь, готовый к встрече с убийцей. Но он исчез. Я услышал, что отъезжали какие-то автомобили. Появились монахи с тонкими свечами; они смотрели на меня с укором. Я пытался жестами и взглядами извиниться, но они отвернулись от меня. Я соблюдал осторожность и не открывал рта. Я все еще не мог поверить, что подобная ненависть и насилие могут быть направлены на меня.
Я выскользнул из церкви. Мимо пробежал еврей в ермолке. Он задыхался и что-то прижимал к себе. Сверток. Я подумал, что это ребенок. Но это была, вероятно, семейная реликвия, которую он надеялся спасти от новых захватчиков. Мужчина был довольно молод, лет двадцати, и рыжеволос. Но при всей его очевидно еврейской внешности его можно было назвать красивым. Когда еврей удалился, остались лишь горы грязного снега. Все было мертво. Я нервно зашагал обратно к Крещатику, но меня никто не побеспокоил. Жители попрятались в свои подвалы. Все гайдамаки исчезли. Я добрался до «Европейской», вошел в пустой вестибюль и поднялся в свою комнату. Там никого не было. Мой номер обыскали. Ничего существенного, впрочем, не взяли. Я спрятал свой диплом, паспорт и другие бумаги, а также немного золота, в особый потайной карман брюк. Я собрал свои заметки и понял, что большая часть записей, касавшихся прибора, вместе с описаниями производственных процессов, исчезла. Я разложил пакетики кокаина в заранее пришитые потайные карманы в жилете и пиджаке. Я подумал: неужели Петлюра сам решил продать мои чертежи врагам? Но я ничего не мог поделать. У меня больше не осталось никаких доказательств того, что я построил и испытал смертельный луч. Меня грубо и цинично предали. После недолгих размышлений я решил взять все, что смогу, и отправиться на станцию. Ночью это могло быть опасно. Мне следовало подождать до рассвета. Я лег спать прямо в одежде, потому что отопление в гостинице было отключено. Я слышал выстрелы. Желтая кровь заливала мне глаза. Я корчился в грязи. Моя мать горела в огне. Бронзовые потоки текли по киевским улицам. Солнца вставали и останавливались над полем битвы, которым стал весь мир. Уходили годы – а я все что-то искал.
Утром я выглянул из окна и увидел, что красноармейская конница скачет по Крещатику.
Глава двенадцатая
Казалось, что красно-коричневая грязь выплеснулась на широкую холодную улицу и залила ее. Безжалостная и организованная, она растекалась под гул двигателей и стук копыт, заполняла здания, дисциплинированная, как немцы, и пугающая, как гайдамаки. Я наконец увидел настоящую армию и испугался. Вот что Троцкий, Сталин и Антонов создали из нашей старой царской армии: они пропитали ее большевистским фанатизмом и распалили обещаниями земли и Утопии. Мечта, за которую стоило убивать. И это была российская армия. Звучали песни. Люди ехали на лошадях, в автомобилях или шли пешком и смеялись так беззаботно и отчаянно, как смеются только русские во время сражений. На всем Крещатике не было ни единого националистического или республиканского флага. В тот холодный солнечный день не открылся ни один магазин. На улицах остались только лед и большевизм. Без особенной надежды я собрал все вещи. Я оделся в свой старый безликий черный с белым костюм. Я успел зажечь сигарету прежде, чем дверная ручка повернулась и усталый голос спросил, кто занимает номер. Я немедля подошел к двери и распахнул ее. «Доброе утро, товарищ, – произнес я. – Рад вас видеть. Наконец-то! Я Пятницкий».
Это был чекист-комиссар в кожаной куртке; они все носили такие, а многие носят до сих пор – эти кожанки так же легкоузнаваемы, как анораки сотрудников спецслужб. У комиссара были золотистые волосы, большой рот и ходил он, поджав губы.
Позади него стояли трое солдат-красноармейцев в матросской форме с красными звездами и нагрудными патронташами. В руках они держали длинные винтовки с неподвижно закрепленными штыками. Чекист, перелистывая регистрационную книгу гостиницы, спросил:
– Вы здесь часто останавливались, гражданин. Это ваш дом?
– Я лишился дома, – сказал я. – Его разграбили люди гетмана и Петлюры.
– Вы, похоже, не остались внакладе. – Он вошел в комнату.
– Я был беден. Я работал в Советах. Пятницкий… – Я с трудом придумывал, что же соврать. Я отчаянно пытался отговориться, чтобы спастись от этого ужасного человека.
– Вы приезжали сюда и уезжали, приезжали и уезжали. Почему?
– Я был в тюрьме, – сообщил я.
– По какой причине?
– Без причины. Симпатии к большевикам было вполне достаточно, чтобы оказаться в киевской тюрьме.
– Вас здесь не было, когда мы в прошлый раз вошли в город?
– Я был в Харькове, у товарищей.
– И кого же вы поддерживаете? Киевскую группировку?
Я знал о разных партийных фракциях ровно столько же, сколько о видах цветов, которые можно увидеть во время прогулки по полю.
– Я был неприсоединившимся, – ответил я. – Поддерживаю линию Москвы. Я пытался вернуться туда.
– У вас есть документы?
Я знал, что лучше не показывать настоящие документы, но в моем багаже все еще хранились запасные. Я открыл чемодан и вытащил их:
– Видите, я ученый.
– Доктор Пятницкий? Вы очень молоды.
– Я преуспел в Петрограде, товарищ.
– Вы получили степень в Киеве.
– Меня перевели. Именно поэтому я и оказался здесь. Товарищ Луначарский – мой знакомый. Он поручится за меня.
– У вас хорошие связи, – сказал он с усмешкой. – По ночам можно повстречать немало большевиков с хорошими связями.
– Я был знаком со многими товарищами в Петрограде перед революцией. У меня есть определенная репутация.
Чекист вздохнул и потер подбородок моими бумагами. Он снял шляпу с широкими полями и посмотрел на меня зелеными глазами, выражавшими едва ли не сочувствие. Это был взгляд человека, который собирался меня убить. Он отвернулся. Начался ритуал.
– Вы позволите этим товарищам обыскать комнаты?
– Если вы считаете, что это необходимо. – В воздухе повеяло смертью. Этот запах был мне знаком. Впоследствии я научился легко его распознавать.
– Вы жили очень хорошо.
– Мне везло.
– Откуда у вас деньги?
– Я работал механиком.
Он фыркнул. Я пожалел, что не остался у матери и не встал пораньше, чтобы успеть на одесский поезд.
– Моей рабочей одежды, конечно, здесь нет.
Он снова снял шляпу. Один из матросов нашел в ящике конверт и подал ему.
– Нам по-прежнему нужны квалифицированные механики, товарищ. – Он высыпал себе на ладонь все петлюровские воинские знаки отличия.
Я рассмеялся.
Он уставился на меня. Чекист был одним из тех лишенных воображения людей, которые просто не умели смеяться. Я сдержал эмоции:
– Мне предложили звание. Конечно, я от него отказался. Это всего лишь сувенир.
– Майор?
У меня обычно вызывал раздражение этот профессиональный сарказм, входящий в арсенал средств очень многих чекистов – да и всех прочих стражей порядка. Они лишены остроумия, но у них есть сила. Дурные шутки – худшее злоупотребление этой силой.
– В самом деле? Майор? Я впечатлен! – На самом деле я был напуган.
– Почему они предложили вам звание?
– Они хотели, чтобы я им помог решить промышленные проблемы.
– Какие? Запустить фабрики? Собрать автомобили? Или что-то еще?
– Я просто консультировал промышленников.
Чекист потер бесцветные брови. Он сжал суровые губы, как будто припомнил какое-то особо неприглядное прегрешение – свое или чужое.
– Вы имеете какое-нибудь отношение к огню из той церкви? Это было похоже на чертов маяк. Он помог нам перемещаться прошлой ночью. Я слышал, Петлюра или французы установили там секретное оружие. Что-то пошло не так, как надо. Вы находились там?
– Да, я устроил диверсию.
Чекист улыбнулся.
– В это время я находился под прицелом петлюровцев, – сообщил я. – Меня попросили заняться этим. Я согласился. Оружие должны были направить против наших сил, но я сбил прицел. Началась драка, и устройство взорвалось.
– Думаю, вас следует расстрелять, – сказал комиссар.
Я раздражал его. За время своей работы, он, очевидно, перестал прислушиваться к словам, различал только звуки, которые издавали его жертвы. Он научился замечать отчаяние и беспокойство и, по простоте душевной, принимать их за чувство вины. Я мог только продолжать упоминать имена большевиков, знакомых мне по Петрограду, вызывавшие то, что Павлов называл условным рефлексом. Они заставили его усомниться. Он, вероятно, ненавидел неопределенность, равно как и тех, кто заставлял сомневаться его самого, так что я играл в опасную игру. Эти московские чекисты в кожаных пальто славились поспешными решениями: взгляда на одежду и на руки было достаточно, чтобы проверить, занимался ли человек физическим трудом, затем следовали быстрая проверка на предмет буржуйского происхождения и команда «Расстрелять!». Кто-то отметил, что, руководствуясь этим критерием, в ЧК должны были расстрелять всех большевистских главарей.
Мои руки не были нежными. Я протянул их к чекисту, ничего не говоря. Он нахмурился. Я протягивал к нему руки, демонстрируя пальцы и ладони, покрытые мозолями от физического труда. Комиссар заколебался, покашлял, затем вытащил папиросу из картонной пачки, которая лежала в одном из его карманов. Для этого ему пришлось передвинуть кобуру. Он чиркнул спичкой. Я осмотрелся по сторонам в поисках собственных сигарет. Мои документы исчезли в другом глубоком кармане чекиста.
– Вы тратите впустую мое время. Вы арестованы.
– Домашний арест? Что я сделал?
– Нам нужна эта комната.
Из коридора донесся звук шагов. Потом раздался женский голос. Вошла мисс Корнелиус, в свободном платье из яркого красного шелка, с красной же шляпкой-клош на голове. Губы и щеки были ярко накрашены и подчеркивали синеву ее глаз и золото волос. Увидев меня, она замерла на месте и засмеялась.
–’Ривет, Иван! – Она обняла меня. – Шо, плохи твои дела?
– Вы с красными? – спросил я по-английски.
– ’Сё ’ремя с ими? ’От повезло, да? Ну, они посмешее других бу’ут. Или были. У мня новый прятель. Эт щас оч важно.
Чекист внимательно разглядывал носки своих начищенных туфель. Он нахмурился и что-то резко приказал матросам. Они начали вносить чемоданы госпожи Корнелиус в комнату. Девушка огляделась по сторонам.
– Я ж нико’о не потре’ожу? Они ’се сделают для м’ня. Но эт уж слишком, да? Прям ч’харда какая-то – никагда не знашь, в чьей постели окажься завтра? – Она резко подняла голову и разразилась хохотом. Потом опустила мягкую ладонь на мою руку. – А ты маленько подрос.
Я попытался улыбнуться и принять непринужденный вид, чтобы убедить чекиста, остававшегося в комнате, в том, что перед ним представитель партийной элиты.
– Луначарский здесь? – спросил я.
– Он стал скучен. И эт его жена, или кто она там, оч зла. Не. Мне б быть с Лео, но он уехал куда-то. А мне его не догнать. Да я и не волнуюсь.
– Какой Лео?
– Лев, – пояснила она. – Ты знашь. Троцки. Малыш Трошка, как я его зову. Ха-ха-ха!
– Вы… его… любовница…
– Ха-ха! Так многие го’орят, Иван. Главн, у мня ’се в порядке. Точнее, эт лучше всео. Я птаюсь вернуться обратно. Как и ты, да? Я не выдержу тут ще зиму.
– Собираетесь в Одессу?
– П’чему б и нет. Он ни слова не го’орит по-аглисски, – сообщила она, указывая на комиссара, весьма злобно на нас глядевшего. – И ненави’ит мня. Да и тьбя, судя по всему.
– Думаю, так и есть. Вы и правда собираетесь на побережье?
– Я ’сегда любила эт море. – Она подмигнула. – Самое время для отдыха.
Она знала, что я попал в беду. В таких делах на нее можно было положиться.
– И как тут с трансп’ртом? – небрежно спросила она.
– Зависит от того, кто вы.
Человек в кожаной куртке произнес:
– Постарайтесь говорить по-русски, товарищ. Живя в Риме…
– Русски? – произнесла госпожа Корнелиус на своем отвратительном и одновременно прелестном русском. Было легко понять, как она, с ее красотой, очарованием и акцентом, завоевывала сердца большевиков высшего ранга. Она мешала чекисту гораздо сильнее, чем я. Девушка рассмеялась. Комиссар отвернулся, чтобы скрыть свой угрюмый вид. – Если хотеть, Иван. – Казалось, что она всех называла этим именем. – Это очен хороши товарыш. Он ехать в Одесса, работать там для партия чтоб. Его знать многи товарыш исчо с петроградски время. Думай, вы знать: он с товарыш Сталин – старый други.
Так называемые сибирские большевики имели тогда больший авторитет среди рядовых членов партии. Сталин для меня оставался тогда только именем, которое связывали с различными неудачными кампаниями во время Гражданской войны; он не пользовался популярностью в среде еврейской интеллигенции, определявшей политику партии.
Я сказал, вытащив часы, что, вероятно, опоздал на одесский поезд. Чекист сделал шаг назад и взял свою папиросу, лежавшую в пепельнице.
– Поезд остановили. Его будут обыскивать в Фастове.
– Тогда все в порядке. – Я даже не стану пытаться передать русский язык госпожи Корнелиус. – Вы можете послать телеграмму и приказать им немного задержать отправление.
– Но как мне добраться до Фастова? – резонно спросил я.
– Так же, как солдат, – ответила она. – На машине.
– Я не настолько богат…
Она хлопнула меня по плечу и начала надевать огромную лисью шубу и такую же шапку.
– Брось! – сказала она по-английски. – Мы пое’ем на моем черт’вом автом’биле, ’от так!
По ее приказу матросы собрали мои вещи, уложили чемоданы в большой «мерседес», который стоял у дверей отеля. По снегу разлилась маслянистая лужа. Мне на миг показалось, что это кровь. «Садись», – сказала госпожа Корнелиус. Я опустился на заднее сиденье. Мне не доводилось ездить в такой машине. Крышу подняли, и внутри было тепло. Она по-русски спросила водителя:
– Что с бензин?
– Куда нужно ехать? – На водителе была красноармейская шапка-ушанка с огромной красной звездой спереди. Вся прочая его одежда показалась мне обычной для царской армии походной формой: полушинель, перчатки, шарф, чтобы защитить лицо от холода, и защитные очки.
– Фастов? – обернулась ко мне госпожа Корнелиус.
– Фастов, – подтвердил я.
– Хватит, чтобы добраться туда и обратно. – Водитель был удивлен.
– Превосходно.
Чекист стоял у входа в гостиницу, засунув руки глубоко в карманы. Он выглядел очень внушительно. Тут я вспомнил:
– У вас мои бумаги, товарищ.
Как будто лишившись последнего утешения, он вернул мне документы. Он, должно быть, крепко держал их. Чекист явно не одобрял поведения госпожи Корнелиус, но не имел никакой власти над ней. Теперь он лишился власти и надо мной. Он стал похож на демона, изображенного в пентаграмме.
– Не забывать о телеграмма, – сказала ему госпожа Корнелиус. – И если товарыш Троцки на связь выходить и обо мне спрашивать, говорить ему, что я посажу товарыш Пьят на поезд до Одесса.
– Да, товарищ! – Чекист впился в нас взглядом.
Усмехающиеся матросы помогли завести двигатель «мерседеса», машина начала трястись и реветь. Двое моряков вскочили на переднее сиденье рядом с водителем. Третий встал на подножку, вскинув винтовку на плечо. Водитель нажал на рычаг, и мы с шиком рванули с места под красным флагом с серпом и молотом. Мы ехали в официальном большевистском автомобиле! Не раз по дороге нас приветствовали красные победители. Думаю, что госпожа Корнелиус оценила иронию происходящего. Она часто махала рукой остающимся позади, но при этом была больше похожа на королеву, чем на товарища. Именно тогда – едва ли не впервые – я почувствовал, как обретаю свободу. Позднее мне довелось часто испытывать подобное, и я всегда ценил такие моменты. Они все связаны с новым столетием. Я имею в виду не сексуальное освобождение, а свободу полета, свободу плавания, свободу скоростного передвижения на поезде, свободу моторных машин. В том чудовищном немецком автомобиле, охраняемом элитой революционной армии, рядом с красивой иностранкой (ее духи с ароматом роз, ее меха, ее замечательный цвет лица, ее элегантную самоуверенность я помню до сих пор), я познал свободу мотора. Я решил обзавестись таким же автомобилем как можно скорее. Госпожа Корнелиус также наслаждалась поездкой. Она смеялась: «Мы прям пара уцелевших, ты и я, Иван. Вот за что я люблю тьбя».
Я все еще пребывал в изумлении от всего происшедшего. Именно она, в конце концов, спасла меня. Если бы не вмешательство госпожи Корнелиус, меня бы убили. Она толкнула меня в бок: «Никада не думай о смерти!»
Внезапно я рассмеялся – такой смех могла вызвать лишь она одна. Я хохотал как ребенок.
Мы мчались по направлению к Фастову вдоль бесконечной липовой аллеи. Я вспомнил свою цыганку Зою. Вообразил, что везу ее в этом автомобиле. Моя фантазия не имела ничего общего с неверностью по отношению к моей спасительнице. Госпожа Корнелиус не вступала со мной в сексуальную связь. Я даже не мечтал об этом. Она – моя лучшая подруга. И все потому что я оказался в Одессе у дантиста и умел говорить по-английски! Все мои успехи с тех пор были, как правило, связаны с ней. Она стала моей матерью, сестрой, богиней, ангелом-хранителем. И все же, по большей части, она едва замечала меня. Я забавлял ее. Она привязалась ко мне, как к любимому коту. Не больше – но и не меньше. И, подобно любимому коту, я выжил, чтобы обеспечить ей немного комфорта на склоне лет. Она почти не старела. Наверное, только на шестом десятке она начала хворать и набирать вес, хотя всегда отличалась внушительными женскими формами.
Я ненавижу тощих девочек, пытающихся подражать мальчикам. Нет ничего удивительного, что сегодня кругом гомосексуалисты. В двадцатые годы встречались худышки, но госпожа Корнелиус всегда оставалась женственной. Я не могу сказать, что с той же определенностью, как она, способен обозначить свои сексуальные предпочтения, но в этом, полагаю, мне следует винить князя Николая Федоровича Петрова и, возможно, даже моего кузена Шуру, невольно показавшего мне, что женщинам нельзя доверять: они слишком стараются угодить множеству мужчин сразу. Это мужской мир. Те жеманные идиоты, которые приходят в мой магазин, понятия не имеют, что я повидал в жизни. Я понимаю каждое слово, каждый намек, каждый жест. Мир начался не в 1965‑м. Возможно, именно тогда он кончился. Любовь, спокойствие, понимание… Эти ценности теперь важны только для пожилых людей. А стариков больше не уважают. В России, если бы я жил там, меня назвали бы старым занудой, boltun. Мы смеялись над такими в Киеве. Я их хорошо помню: евреи с Подола, у которых не было ничего, кроме сплетен и воспоминаний, ошибочно принимавшихся за жизненный опыт. Подобная сентиментальность всегда раздражала меня и бесит до сих пор. Нет ничего удивительного в том, что дети этих людей бунтуют и становятся жестокими, прагматичными революционерами; цинизм – оборотная сторона всякой сентиментальности.
Матросы на удивление обрадовались поездке. Я думаю, что им просто понравился автомобиль. Они повидали мир, знали, что рискуют жизнями, были в своем роде людьми доброй воли. Они не слишком изменились, наши русские моряки. Приходя в доки за водкой, я встречаюсь и беседую с ними. Они все так же уверены в себе и суровы. Тогда им нравилась госпожа Корнелиус. Они делали ей трогательные комплименты, которые, возможно, говорили и своим возлюбленным. Она отвечала, посылая воздушные поцелуи и делясь едой и сигаретами.
Вдоль дороги на Фастов мы видели множество мертвых лошадей. Их тела окоченели. Некоторые были еще теплыми; чувствовался отвратительный запах. В сиянии зимнего солнца я видел и трупы людей; тела молодых крестьян, брошенные так, как Петлюра хотел бросить мое тело, чтобы прикрыть свое бегство. Петлюра оказался еще одним чувствительным человеком, предавшим все, за что, по его словам, он боролся. Как обычно, он назвал предателями тех, кого сам ввел в заблуждение; он принес их в жертву своим врагам, когда они начали сомневаться в его лжи. Эти мертвецы, вероятно, заслужили такую участь. Некоторые все еще держали в руках свою добычу – пару женских туфель, отрез ткани, декоративный кинжал. Но большинство мертвецов уже было ограблено последователями Маркса и Ленина. Мы миновали черную линию мертвых православных священников. Тела аккуратно лежали вдоль сугроба. Позади снежного завала, почти параллельно череде тел, возвышались деревья. Казалось, что тени падают в противоположную сторону, – солнце находилось не со стороны деревьев, а с нашей стороны.
На снегу также виднелась кровь, и она была черной. Священники умерли уже давно. Распятия, конечно, с них сорвали, как и все прочие украшения, но одежда осталась нетронутой. Какая-то набожная женщина обнаружила мертвецов утром и попыталась придать им более-менее пристойный вид. Я вспомнил церковь и пение. Голоса нежных девочек. Я думаю, это католики-петлюровцы расстреляли священников.
Госпожа Корнелиус отвернулась.
– Меж нами, Иван, – доверительно прошептала она, – я не ож’дала ниче’о подобного. Вот що значит быть англичанкой! Там такому б не бывать. Те нужн’ ехать в Лондон, дружок.
– Я думал об этом.
– Там ты увидел бы м’ня совсем другой. – Она протянула моряку, стоявшему на подножке, уже раскуренную сигарету и подмигнула, улыбаясь ему. – Эт слабое место матросов: всегда п’нятно, чо им надо. Из-за них м’ня сюда и занесло.
– Так вы не собираетесь в Одессу?
– Не-а! Я как бы надеялась запрыгнуть на финский поезд и ехать туда, вроде как остановить лош’дь. Но все п’шло не так. И Лео может быть такой ревнивой свиннёй. Да не он один!
– Почему бы не поехать со мной в Одессу? Французы там держат все под контролем.
– Слыхала, там слишком много черт’вых большевиков.
– Вы боитесь? Они как-то могут вам навредить?
– Не! Они не уважают женщин. Понима’шь, в чем моя сила?
– Думаю, да.
– Они обращают внимание на женщин, только они в партии. Я для них всего лишь фантазия. У меня все будет х’рошо. Если Лео узнает, что я с т’бой в этом черт’вом поезде, он развернет его?
– Полагаю, именно так он и сделает. – Я скорее сожалел о принципах, которые мешали (и всегда будут мешать) мне сотрудничать с коммунистами. Они, конечно, знали, как получить и удержать власть, – гораздо лучше, чем все их конкуренты. Они не допускали никаких неопределенностей. Многие противники большевиков в конце концов вернулись обратно к Ленину. Большевистский порядок все-таки гораздо лучше, чем полное отсутствие порядка.
Когда мы въехали в довольно непривлекательный городишко Фастов, я увидел, что над куполом церкви развевается красный флаг. Синагога горела. Повсюду были красные казаки, кругом грязь и беспорядок. В небе над нами завис биплан, затем он снизился, пронесся над городком и улетел на запад. Как будто стремясь погрузиться в поезд, пушки и лошади запрудили улицу, ведущую к станции. Длинный одесский состав отвели с главной ветки на запасной путь. Люди толпились вокруг него. Здесь стояли красноармейцы, чекисты, женщины с младенцами, которых выставляли вперед, как талисманы, евреи, отчаянно спорившие с чиновниками, люди в форме с оторванными знаками отличия: их срывали так резко, что на месте прежних погон виднелись дыры. Юноши по-большевистски отдавали честь, старики бродили по глубокому снегу, отыскивая выброшенные вещи, красивые девушки опускали глаза и пытались флиртовать с людьми в кожаных куртках. Казаки с красными звездами на шапках бездельничали возле коней и грязно ругались на прохожих (нет ничего хуже казака, который сбился с пути истинного); в это время матросы построили рабочих и крестьян около поезда и погрузили их в купе первого класса, которые быстро переполнились и провоняли мочой. Богатые пассажиры вынуждены были перебраться в купе четвертого класса или даже в вагоны для животных в конце состава.
Автомобиль промчался почти до самых путей и наконец остановился. Офицер в обычной военной одежде, в плаще и старой царской сине-белой форме с неизбежными красными звездами подошел к машине. Он никак не приветствовал нас. Обычная военная дисциплина осталась в прошлом. Потом она вернулась – и стала гораздо суровее. Люди в годы Второй мировой удивились, когда Сталин вернул воинские звания и армейские почести. Он все понимал. Когда война становится реальностью, должны существовать солдаты; а пока существуют солдаты, должны быть и способы управлять ими.
Госпожа Корнелиус узнала офицера и приветствовала его. Он усмехнулся в ответ:
– Что я могу для вас сделать?
– Эт мой друг, – сказала она. – Он должен сесть на одесска поезд. Партийный дело. Он курьер комиссара Троцки.
– В начале состава есть вагон для представителей пролетариата. Они собираются провести переговоры с французскими солдатами. Как вы думаете, они сумеют, товарищ? – Казалось, он с тревогой ожидал моего ответа.
– Есть вероятность, – ответил я. Про себя же я взмолился: пусть язва большевизма никогда не коснется Франции. Но она напоминала газ, который пускают в траншеи. Она коснулась всех. С большевиками могло бы быть покончено, если б не тот выстрел в Сараево.
Красноармейцы окружили группу людей в гражданской одежде. Я видел некоторых из них совсем недавно. Тогда они носили петлюровскую форму. Их отвели в сторону, за насыпь. Раздалось несколько пулеметных очередей, потом кто-то расхохотался. Охранники вернулись уже без заключенных. Я поблагодарил Бога и госпожу Корнелиус за свое спасение. Я проспал, пропустил поезд и, вероятно, поэтому смог спастись от расстрельной команды.
Госпожа Корнелиус, сделав жест, который напомнил мне о матери, сразу начала заигрывать с моряками; она спросила, какие девушки им больше всего нравятся. «Сейчас мне подошла бы любая, – сказал один из них. – Я согласен даже на лошадь, если казак оставит ее одну на минутку».
Я никак не мог прийти в себя. Я чувствовал, что мои губы пересохли, и гадал, заметно ли мое смятение.
Один из матросов наклонился ко мне с переднего сиденья и потрепал по плечу:
– Это не твоя вина, товарищ! – Я с благодарностью улыбнулся ему. Он усмехнулся в ответ. – Бог знает, что вы, большевики, замышляете. – Я смутился. – Не беспокойся, – добавил он. – Я не ссорюсь с большевиками. Пока они исполняют приказы Советов.
Он говорил угрожающим тоном, как будто бросал вызов самому Ленину. Я никак не мог понять смысла этих слов. Я сказал моряку, что полностью с ним согласен и что у нас почти нет разногласий. Он уже отворачивался, чтобы вмешаться в спор между чекистом и женщиной с тремя маленькими сыновьями, которые отказались выдать свои сумки для осмотра.
Я прошептал по-английски госпоже Корнелиус:
– Почему они так безжалостно всех расстреливают? Это только приведет к новым смертям.
Она нахмурилась; я решил, что оскорбил ее. Затем хмурый взгляд сменился подмигиванием. Она серьезно сказала:
– Они жутк напуганы, Иван. И Лео, и эт мерзавцам плевать, кого убивать. Будто они хотят остаться на вершине черт’ва вулкана, к’торый вот-вот вз’рвется. Им его не остановить. Орать тут бесп’лезно! Вот и пробуют динамит. – Миссис Корнелиус внезапно расхохоталась. – Бедные гомики!
– Вулкан извергается, унося куда меньше жизней, – заметил я.
– Не на черт’вом Бали. – Госпожа Корнелиус была уверена в себе. – Они поднимаются, пока не встанут у самой чертовой лавы. Если их соберется достаточно, тогда, по их мнению, все застопится. – Она вытащила носовой платок из муфты, лежавшей на сиденье, и протерла нос. – Я читывать об этом, – гордо заявила она, – в… как его… «Иллюстрированном Пенни»[125]. Ты не видел нигде поблизости «Иллюстрированный Пенни», так?
– Я никогда его не видел.
– А я видала. Я могу много наделать, если читаю что-то хорошенькое. Мне было не так скучно, пока все это не пошло наперекосяк. Сколько уже прошло? Два годка? Ну, чуть больше годка после старикашки – он не любить меня. Нет – едва не упустил свой последний шанс. Он ведь не доверится Антонову, ведь так?
Я с трудом ее понимал. Она так глубоко погрузилась в тайную политику большевиков, что была уверена: все могут постичь смысл ее слов.
– Никогда не встречала такой кучи важных педерастов. Они, похоже, желают зацапать свое собственное королевство. Ясно дело, что я не могу зенок отвести от этих чертовых моряков! – Она вздохнула. – Ну, это было забавно, когда только началось. Пока они только и делали, что болтали. Мне надо бы быть умнее – не ошибаться. Ты поехаешь в Англию?
– Надеюсь.
– Я дам тебе мой адрес в Уайтчэпеле. Кто-то узнает, если я вернусь и куда я уйду. Но, скажу тебе, Иван, я отправлюсь на Запад при первой же возможности.
Произнеся эти загадочные слова, она, окутанная дорогими мехами и ароматом французских духов, наклонилась надо мной и открыла дверь автомобиля. Когда я собрался выйти из машины, она, не снимая перчаток, полезла в сумочку, вытащила брошюру, напечатанную на грубой бумаге, и карандашом медленно написала на обложке одну-единственную строчку. Потом она отдала книжицу мне: «Не прочь, если я скажу здесь тебе „пока“, да? Я не проеду по этому чертову снегу, если получится».
Два моряка повесили винтовки на плечи и вытащили мои чемоданы из ящика, крепившегося к задней части автомобиля. Сопровождаемый ими, я пошел по грязи и слякоти к вагону, который находился ближе всего к локомотиву. Множество головорезов, и мужчин, и женщин, следили за мной через запотевшие окна. Моряки свалили мои вещи на металлические ступени. Спотыкаясь, я протиснулся в дверь и оказался в спальном вагоне. Купе, однако, оказались настолько переполнены, что невозможно было вытянуть ноги. Большинство пассажиров напоминали крестьян и фабричных рабочих. Была парочка интеллигентов в темных пальто, подобных моему собственному. Я инстинктивно решил присоединиться к ним. Я уложил свой багаж, включая маленькую корзину от госпожи Корнелиус, но почти тотчас же понял, что совершил серьезную ошибку. Я не мог ответить на их вопросы и понять их намеки. Они освободили мне место, называли меня товарищем. Я пожал несколько рук и затем возвратился к двери вагона, чтобы помахать на прощание госпоже Корнелиус.
Рука, скрытая лисьим мехом, взметнулась в воздух. Автомобиль уже разворачивался. Один из моряков теперь сидел рядом с нею, улыбаясь мне и своим приятелям. Я услышал негромкое: «Не вешай носа, Иван!» – и она исчезла. Я остался с грубыми казаками, бледными чекистами, усталыми матросами. Я вернулся в относительно безопасное купе, где мне тут же предложили флягу водки. Я сделал глоток. Это был дешевый самогон; такой гнали в Шуляевке, одной из самых грязных киевских трущоб. Мне показалось, что я тотчас ослепну; кроме того, адское зелье подействовало на мои голосовые связки посильнее одесского арака. Мужчина, который предложил мне выпить, круглолицый украинец в очках с толстыми стеклами и с густой рыжей бородой, рассмеялся и сказал: «Привыкли к лучшему, а?»
Я сумел сказать, что не очень много пью. Это его еще сильнее развеселило: «Тогда вы не можете быть кацапом. Кто же вы? Мусульманин?»
Я хотел было сказать, что я из Грузии или Армении, но испугался, что кто-то еще в вагоне мог знать те места. Я покачал головой и сказал, что я из Киева, просто прожил некоторое время в Петрограде и кое-где еще.
– Я Потаки, – сообщил мой собеседник. Фамилия казалась как будто польской, но на Украине это не было редкостью. – А вас как зовут?
– Пьят. – Так меня окрестила госпожа Корнелиус. По-русски это означало просто «пять». Я подумал, что это имя мне подходит, и решил продолжать свою игру.
Он сказал в ответ, что у большинства из нас только два, и представил меня троим мужчинам и женщине, сидевшим в нашем купе. Я запомнил лишь имя дамы. Ее звали Маруся Кирилловна, и она была смуглой, худощавой и мрачной. Моя мать в молодости, должно быть, походила на нее. У нее были такие же темные глаза с тем же выражением, то ли откровенным, то ли наоборот. «Добрый день, товарищ», – проговорила она, расправила тугие кожаные перчатки и положила на колени маузер в кобуре. Она сидела ближе всех к окну и читала книгу – сборник стихов Мандельштама, изданный совсем недавно, судя по качеству бумаги.
Прочие соседи оказались благодушными идиотами, но Маруся Кирилловна производила впечатление женщины весьма основательной. Я решил не разговаривать с ней, если она не станет задавать прямых вопросов. Россия в те времена рождала женщин, которые были гораздо лучше мужчин. Все достойные внимания мужчины погибли. А они были еще более безжалостны, некоторые из этих женщин. Они сурово судили себя. Они были настолько одержимы самоконтролем, что представляли опасность для всех, кто не демонстрировал того же. Поэтому я и хранил молчание. Единственный способ произвести впечатление на таких женщин сводится к тому, чтобы позволить их воображению работать в вашу пользу. Они склонны считать молчание достоинством и полагают, что неразговорчивый мужчина более умен. У меня бывали весьма продолжительные связи (и в России, и позднее), которые сохранялись только потому, что мне хватало ума держать рот на замке. Я мог бы быть истинным Софоклом. Это совершенно неважно. Две или три фразы – и я бы прослыл фальшивкой. Такие женщины избегают зеркал, считая их признаком тщеславия, и при этом всегда ищут свое отражение в возлюбленных. Я абсолютно уверен, что не успел поезд оставить позади трупы и удалых казаков, Маруся Кирилловна уже начала смотреть на меня с подчеркнутым уважением. Я опустил шляпу на глаза, притворившись спящим.
История изгнания Данте вдохновила Листа, создавшего те болезненные звуки, звучащие в Большом, те латинские песнопения, которые исполняют русские девочки. Что англичане знают об изгнании? Они не испытывали ничего подобного. Куда бы они ни отправились, везде создадут очередной Суррей, новозеландскую баранину и мятный соус. Даже волнующую, жуткую Австралию, с ее ящерицами, они попытались превратить в некий одухотворенный Торки[126]. Римляне оставили после себя дороги и виллы, англичане же оставляют чашки с холодным чаем, несвежие блины и пансионы, засоряющие весь мир от Китая до Рио-де-Жанейро. Они не испытывают эмоций, не могут смириться с потерей, хотя бы так, как американцы, и прикрываются вежливыми приветствиями и кофе по утрам. И потому, что смерть настолько неприятна, они не могут взглянуть страху в лицо и улыбнуться в ответ. Они уничтожили свой закон и разрушили свою Империю – и точно так же лишились своего благородства.
Финикийцы сгинули, ушли куда-то под парусами. Что может спасти мир? Не еврейско-мусульманский Бог. Мы уже испытали прелести власти раввинов и ханов. Наши казаки встречались с ними и встретятся снова, если возникнет необходимость. Только Сын может спасти нас. Христос – грек. И греки знали об этом. Они смеялись над евреями, высказывая неожиданные новые идеи, которые обнаружили в Палестине и воскресили в Византии. Необходимо защитить Грецию. Как англичане защищали Кипр? Они позволили турецким крестьянам осквернить его. Эти сыновья ислама ничего не знали. Они не могли заботиться о зданиях, которыми завладели, об оливковых рощах и виноградниках. Греки лишились всего. Ислам набирает силу. Сионизм набирает силу. И с востока снова надвигаются ханы, с черепами на знаменах, но теперь это череп Мао, который скалится на нас с копейного древка. Россия должна защищать Запад в одиночку? До сих пор? Украина должна утонуть в свежей крови?
Я поклоняюсь Ему: Кyrios[127]. Боже. Христос Святого Павла. Греческий Христос. Я поклоняюсь Ему. Платон, Архимед, Гомер и Сократ – Бог предназначил их стать первыми пророками Иисуса, греческого Мессии. Вот почему евреи ненавидели его. Он проповедовал Разум и Любовь. Их завистливые черные глаза были обращены за Средиземное море, они видели восходящий Свет. Ах, Иерусалим. О Карфаген. Они разделят весь мир великой стеной. Что такое раса? Ничто. Свойство духа. Христос – грек. Ислам и сионизм обращают горящие черные очи на запад. Свет слишком ярок для них, чужд им. Они терзали его. Эти древние дьяволы, эти примитивные души. Что они знают о смирении, со своими коранами и талмудами? Все, что им ведомо, – месть. Смотрите, как они сражаются. Все, что им ведомо, – месть. Что мы им сделали? Огни горят на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, огни на алтарях невежества. Бог пытался убить собственного Сына и не смог. Его Сын вернулся из изгнания в Византию и сражается там до сих пор. Где гармонично слились Восток и Запад, там – Христос. И это знание каждый русский хранит в сердце своем. Вот что пытался поведать нам Тихон, наш мученик Тихон. Ирод. Нерон. Сталин. Они стремились убить Пастыря. Но они только резали овец. Бандиты-правители приходят и уходят. Они умирают, недоумевая, удивляясь, почему же они ничего не выиграли, почему не смогли одержать победу. И великодушие Пастыря сильнее, чем когда-либо. Он – наш защитник, наше успокоение и наша надежда.
Когда настала ночь, в поезде похолодало, и я вынужден был достать цыпленка и салями из моей привлекающей внимание корзины. Все соседи были мне благодарны. Даже Маруся Кирилловна ела не по-женски жадно. Поезд двигался очень медленно. Мы до сих пор еще не проехали Винницу – значит, пройдет немало времени, прежде чем мы достигнем Одессы. Пару раз мы слышали выстрелы или видели вспышки ружейного или артиллерийского огня вдалеке, но ни один из нас не мог даже предположить, кто с кем сражался. Маруся Кирилловна высказала мнение, что бьются отряды гайдамаков. Я думаю, что она была права. Тысячи атаманов пытались удержать ничтожные территории, пока основные силы сближались, готовясь к решающим сражениям нашей Гражданской войны. Иногда выстрелы доносились из поезда. Нас сопровождали красноармейцы, которые должны были высадиться, когда поезд достигнет территории, занятой бандитами; эти негодяи, подобно вьетнамцам, сочли весьма благоразумным провозгласить себя большевиками. Так они получили оружие и деньги и теперь могли добиваться собственных ничтожных целей.
Потаки заскучал. Он то и дело выходил из вагона, возможно, чтобы посетить уборную, хотя одна была рядом с нашим купе, и возвращался, стуча башмаками и хлопая руками. Женщина смотрела на него все более раздраженно.
– Пытаетесь заставить поезд двигаться побыстрее, товарищ?
– Я надеюсь завтра утром оказаться в доках, – объяснил он. – Туда прибывает французский корабль.
– И что вы сделаете? – Другой пассажир поддержал Марусю Кирилловну. – Побеседуете с каждым французским моряком, сходящим на берег? Объясните, как они мешают делу мировой революции?
– Они выгружают боеприпасы. – Потаки уселся рядом со мной и вытащил бутылку водки. – Мне нужно узнать, с каким оружием нам придется столкнуться. – Сделав внушительный жест, он одним глотком допил водку.
– Надеюсь, что вы не станете сразу разглашать полученную информацию, – сказала женщина. Она встала, расправила темную юбку, потом аккуратно уселась на место. – Кто-нибудь знает, который час?
Я вытащил свои часы. Они остановились. Я убрал их в карман:
– Увы, нет.
– Мы, должно быть, приближаемся к территории Григорьева. – Потаки нагнулся к смуглолицему человеку, который сидел у окна и читал газету. Он протер запотевшее стекло, но увидел только лед – и изнутри, и снаружи. Он потер живот. – Эта ваша колбаса, должно быть, сделана из кошек и крыс. – Он рыгнул. – Вряд ли она из собачатины, с собаками я всегда лажу. – Он рассмеялся. Мы становились все более раздраженными. Он почувствовал это, извинился, пустил газы и удалился в коридор, наполнив купе дурным запахом. Мы оставили дверь открытой, несмотря на холод, пока воздух не очистился. Никто не стал обсуждать источник запаха. Поезд остановился. Со стороны локомотива слышались крики. Мимо нашего вагона пробежали. Раздался стук. Шаги удалились. Труба локомотива снова задымила, мы двинулись вперед. Потаки вернулся и сообщил нам, что на линию упало дерево. Солдаты расчистили дорогу. – Они к этому привыкли. Я никогда не видел такой слаженной работы. – Он сделал паузу. – Я надеялся на более спокойную поездку. Как вы думаете, они позволят беженцам проехать?
Смуглый мужчина с газетой был озадачен:
– Мы не беженцы.
– Они этого не знают, не так ли? Вот ублюдки! Хуже поляков.
– Вы из Галиции? – спросила женщина.
– Я много лет провел в Москве. И два года в Сибири.
– А где в Сибири? – задал вопрос мужчина, сидевший напротив Потаки.
– Поблизости от Кондинска. Потом несколько месяцев пробыл в армии.
– Я бывал в Кондинске, – сказал человек, задавший вопрос. Он посмотрел на меня. – А вы тоже сибиряк?
– К счастью, нет, – ответил я.
– Это хороший опыт, – сказал Потаки. – Так гораздо лучше понимаешь, за что борешься. Ты живешь как крестьянин. Каждый должен испытать это добровольно, это не позволит оторваться от земли.
– Или оказаться под ней, – заметил смуглый человек.
Только мы с Марусей Кирилловной не стали смеяться над этими словами.
– Молоко там можно резать на куски, – ностальгически произнес Потаки.
– У вас было молоко?
– У крестьян было. Они подчас очень добры. На это стоит посмотреть. Вы видели, как они режут молоко?
Мужчина, сидевший напротив, кивнул, но теперь скептически смотрел на Потаки, как будто не верил, что его спутник вообще был политическим заключенным. Элита в те времена создавалась очень быстро. Вне зависимости от интеллектуальных способностей один только срок заключения в Сибири придавал особый вес каждому замечанию. Большевики напоминали дикарей. А ведь почти все они получили изначально неплохое образование.
Поезд шел все быстрее. Скоро он мчался так же, как один из довоенных экспрессов. Это нас обрадовало.
– Мы можем к утру оказаться в Одессе, – сказал Потаки. Он расслабился.
Его товарищ-сибиряк спокойно сказал:
– Теперь я больше не чувствую себя одиноким. Особенно после такого долгого одиночества. Каждую весну я как будто возрождаюсь. Становлюсь новым человеком. Но с теми же самыми политическими убеждениями, разумеется. Все это, однако, – разум. Разум остается. Но душа перерождается каждую весну.
Он стал таким же скучным, как Потаки. Мужчина у окна зашелся в приступе тяжелого, чахоточного кашля, который усилился, и человек начал фыркать и хрипеть.
– Полагаю, это астма, – сказала Маруся Кирилловна и попыталась открыть окно.
Все запротестовали:
– Выведите его в коридор.
Потаки помог мужчине встать на ноги. Кровь выступила на губах больного. Он пытался сдержать кашель и в то же самое время набрать в легкие воздуха.
– Вам нужен доктор. – От скуки и от желания показать, что я хороший товарищ, я встал и прошел по вагону, спрашивая, есть ли здесь врач.
Естественно, его не было. Люди с настоящей профессией не пожелали бы ехать в политическом вагоне. Они занимались реальными делами. Кашель утих, когда я вернулся. Лед осыпался с одного из окон и растаял в клубах налетевшего пара. Я разглядел несколько голых деревьев и маленькие заснеженные холмы. Мы миновали что-то, напоминавшее цыганские костры. Я почувствовал себя намного лучше, как только мы набрали скорость.
Я оставался в коридоре в течение следующего часа или двух, курил и размышлял. Мне повезло. Ни один из большевиков не стал задавать вопросы. Все решили, что я еду по важному делу, потому что меня привезли на служебном автомобиле. Наступил рассвет. Ход поезда не замедлялся. Мы были примерно на полпути к Одессе. Из купе вышла Маруся Кирилловна. Она явно закоченела, вытягивала ноги и руки, как балерина. Ее пистолет висел на бедре. Я заметил, что и юбка, и черная блуза сшиты из дорогого шелка. Она не знала лишений, привыкла к лучшему. Женщина кивнула мне и попросила сигарету, которую я охотно дал. У меня с собой было несколько сотен. Этот запас, вероятно, окажется бесценным. Мы закурили. Она то и дело потирала шею. Кажется, моя спутница побледнела еще сильнее. Я подумал, а не еврейка ли она. В линии ее рта было что-то такое… Она зевнула, разглядывая серый снег. Небо было тяжелым и мрачным. Между ним и землей повис желто-серый туман. Я никогда больше не видел ничего подобного. Казалось, все окружающее угнетало мою соседку. Я ощутил нелепое желание обнять ее за плечи (хотя она была почти с меня ростом). Я пошевелился. Она начала всматриваться в мое лицо. Казалось, ее что-то поразило. Она быстро произнесла:
– Вы устали. Вам нужно отдохнуть.
– Ага, – вздохнул я. Мне показалось, что это прозвучало многозначительно.
– У вас, должно быть, много всякого на уме. Слишком много думать – это изматывает, да?
– Да, конечно.
Она запнулась:
– Я… вам мешаю?
– Нисколько. – Я протянул к женщине руку, но так ее и не коснулся. – Мне просто скучно.
Это ее успокоило.
– Не могу долго стоять без дела. Наверное, именно это важнее всего для революционера. Нетерпение.
Как человек, основным достоинством которого всегда было терпение, я не мог ничего ответить. Возможно, ее обобщение оказалось совершенно точным и объясняло, почему я не стал революционером. Хоть я и не слишком терпелив с дураками, но не стану негодовать, если автобус опоздает на пять минут.
Маруся Кирилловна продолжала:
– Кто-то хочет создать Утопию в одно мгновение. Трудно понять, почему люди сопротивляются, не так ли? У них просто нет воображения, мне кажется. Или мечты. Мы должны дать людям все это. Вот наша задача. У каждого из нас своя роль, свои обязанности, свой долг.
Я кивнул. Поезд замедлил ход, затем снова набрал скорость. Он громыхал по склону, медленно поворачивая, и все было серым, включая локомотив, часть которого я мог теперь разглядеть. Серой стала наша кожа. Серыми стали окна. Дым от наших сигарет сливался в одно серое облако у самого потолка.
– Но интересно, что такое долг? – спросила Маруся Кирилловна.
И тут снаружи донесся шум. Я осмотрел насыпь и увидел мужчин в тяжелых пальто. Некоторые из них сидели возле пулеметов, другие стояли во весь рост и стреляли в нас из винтовок.
Стекло разбилось. Я упал на пол, потянув за собой Марусю Кирилловну. Поезд заскрежетал и закачался. Холодный воздух заполнил коридор. Состав трясся, как будто смертельно раненный; он прополз по склону еще немного, потом содрогнулся и замер, безжизненный, за исключением звука вырывающегося из топки пара, напоминавшего последние вдохи умирающего.
Кровь Маруси Кирилловны залила мою рубашку и куртку. Руки стали теплыми от крови. Лицо женщины превратилось в окровавленную массу. Единственное, что я смог разглядеть, – глаз, смотревший на меня грустно и неодобрительно. Заползая обратно в купе, я подумал, что она умерла точно так, как должна была, – в соответствии с романтическим складом характера. Такая возможность выпадает немногим.
Большевики в купе искали в своих сумках пистолеты, которые все они, казалось, везли с собой. Я был очень удивлен, увидев столько металла в этих мягких руках. Я снял с полки свои мешки и, подталкивая их перед собой, перебрался через тамбур в следующий вагон. Я не хотел, чтобы меня сочли одним из красных.
Я очутился в толпе крестьян. Кто-то из них кричал, другие же сидели молча, прикрыв головы руками. Все стекла в этом вагоне тоже оказались разбиты. Несколько человек было ранено, кого-то убили наповал, но мертвые сидели между соседями-пассажирами, которые не могли или не хотели пошевелиться. Это было странно. Крестьяне решили, что я чиновник, и начали расспрашивать, что случилось. Я сказал, что намерен выяснить. Но для этого они должны пропустить меня. Они отпихивали друг друга, некоторые даже снимали шапки, позволяя мне протиснуться вперед. Снова застучали пулеметные очереди. На сей раз стреляли с поезда. Потом последовали еще залпы. Раздались крики со стороны насыпи и из поезда. Перестрелка прекратилась. Казалось, начались переговоры.
Я дошел до конца второго вагона и решил переждать здесь. Уборная была занята. Я поставил свои мешки на кучу чьих-то вещей и сделал шаг в сторону, притворившись, что просто хочу попасть в уборную. Через разбитое стекло я увидел, что какие-то приземистые фигуры сползали с насыпи. Они казались темными шрамами на белом снегу. Люди смеялись и произносили слова «товарищ» и «советский». Я начал понемногу успокаиваться. Это были большевики, которые случайно открыли огонь. Но они находились далеко от линии фронта Красной армии и не носили красных звезд на одежде. По правде сказать, у них не было вообще никаких опознавательных знаков. Я предположил, что это люди из нерегулярных войск.
Глава тринадцатая
Эти люди говорили на смеси русского и украинского – понять их было достаточно легко. По крайней мере половину того, что они выкрикивали, составляли лозунги. Нападавшие начали спорить с защитниками поезда. Им нужны были припасы. Красноармейцы заявили, что в поезде только пассажиры. Я услышал, как один из вновь прибывших расхохотался.
– У них наверняка есть кое-что. Кто они такие? Кацапы? Направляются во Францию?
– В поезде едут важные товарищи. У них дела в Одессе.
– У нас тоже дела. Давайте нам евреев и пару кацапов. Нам нужна еда. Знаете, сколько мы здесь торчим?
– Вы с кем?
– С Григорьевым.
– Он сражался против нас.
– Теперь он снова за вас.
– Откуда нам было знать?
Настала тишина. Потом донесся шепот. Потом какие-то клятвы. Затем, через несколько мгновений, моряки подошли к поезду, стуча в двери прикладами винтовок: «Все на выход; досмотр, граждане».
Они остановились, добравшись до партийного вагона. Я начал пробиваться туда, но теперь крестьяне сбились еще теснее, пытаясь собрать свои пожитки. Меня отпихнули обратно. Я сумел ухватить один чемодан. Другой пришлось оставить. Я решил вернуться в свое купе по земле. Галош у меня не было. Я провалился в тающий снег. Подмораживало. Мои ботинки и брюки промокли насквозь к тому времени, как я достиг вагона. Я поднимался по ступеням, когда солдат закричал:
– Стой на месте!
Я смотрел на него, улыбаясь:
– Я просто иду в свой вагон, товарищ. Я пытался помочь людям в задних вагонах – там, где стреляли.
Солдат, сохраняя мрачное выражение лица, выслушал меня. Он на мгновение задумался. Я продолжал подниматься в вагон. Он спросил:
– Почему у тебя чемодан?
– Я случайно прихватил его. За меня поручатся мои товарищи.
Я открыл дверь вагона. Охранник передернул затвор на винтовке.
– Подожди, я должен проверить.
– Это глупо.
– Нужно соблюдать осторожность.
Я обрадовался, что при мне оказался чемодан с запасными документами. По крайней мере, они могли засвидетельствовать, что я всего лишь невинный инженер, таким было, если угодно, мое прикрытие для Одессы. На снегу оказалось теперь народу больше, чем во всем Фастове. Я слышал, что крестьянин спросил повстанца, где мы находимся. Около Дмитровки, ответил солдат. Это был городок примерно в пятидесяти верстах от Александрии. Как можно догадаться, мы ехали не прямым путем, хотя, конечно, и приближались к Одессе.
Я обрадовался, что мы еще не достигли территории, управляемой печально известным батькой Махно, который, предположительно, сражался на стороне большевиков, но приобрел дурную славу из-за бесконечных предательств. Он в одиночку едва не разбил националистов под Екатеринославом в ноябре.
Людей Григорьева оказалось немного; они выстроились так, чтобы останавливать любой проходящий поезд. Пассажиры начали утверждать, что над локомотивом висел красный флаг. Гайдамаки уверяли, что просто ошиблись. Националисты тоже не умели действовать честно.
Появился смуглый предводитель нападавших – жирный грубый человек с тяжелыми черными бровями, одетый в темный кафтан с патронташами, подпоясанный красным кушаком, папаху, французские армейские брюки и сапоги. При себе он имел два маузера, разнообразные ножи и, конечно, казачью саблю. Мужчина зловеще помахивал нагайкой. Подобно всем казакам, он знал ценность этого орудия, вызывающего ужас. Им можно было убить. Злодей наслаждался своей властью. Я начал думать, что лучше бы было остаться у чекистов.
Главарь остановился, приблизившись ко мне, – я именно этого и ждал. Он с некоторым интересом осмотрел мою приличную одежду. Брюки промокли до коленей, и на мне все еще оставались капли крови Маруси Кирилловны.
– Что в чемодане? – надменно спросил он. – Золото?
– Конечно, нет. Я здесь по делам партии.
– Из Москвы?
– Из Киева.
– В Москве теперь все жиды. – Он задумчиво поглаживал свою нагайку.
Я кивнул.
– И в Киеве. Вот что мне не нравится. Выходит, мы помогаем жидам. – Он отвернулся от меня с отвращением и, как будто рассчитывая на поддержку, посмотрел на испуганных крестьян. – Куда едете?
– В Одессу… – начал я.
Он снова обернулся ко мне:
– Я с ними говорю. Куда едете?
Крестьяне хором произнесли названия различных городов и поселков. Он сдвинул тяжелые брови.
– Хватит! – Он указал нагайкой на явных евреев, включая двоих в ермолках, и приказал им выйти вперед. Они протолкались сквозь толпу и остановились. Казалось, надежды у них не осталось.
– Все остальные – обратно в вагон, – произнес он.
Я начал снова подниматься по лестнице, но дальше прозвучало: «Не ты!» и «Назад!». Я почувствовал нарастающее раздражение.
– Не стоит этого делать, товарищ.
– Ты чертов большевистский жид.
Двойное оскорбление меня возмутило.
– Моя фамилия – Пятницкий. Я инженер.
– Как тебя зовут на самом деле?
– У меня есть паспорт, – ответил я, положил перед ним чемодан, распахнул его, достал свои запасные документы и протянул их собеседнику.
Он бросил на меня злобный взгляд, и я догадался: он не умел читать. Но поднес бумаги к самому носу, медленно изучая их. Он засунул их в рукав, тщательнее всего рассмотрев фотографию.
– Пятницкий. Это русская фамилия.
– Ничего не могу с этим поделать, товарищ. Я работаю в интересах Украины.
– Помогаешь националистам?
– Мне не важно, как их называют. Я пытаюсь освободить Украину от всех иностранцев.
– Включая жидов?
– Естественно.
– Тогда ты тоже предатель.
– Я не еврей.
– Наверное, среди большевиков ты такой один.
– Могу я вернуться в вагон?
– Почему они тоже не вышли из вагона? – Он оглядел окна.
– Мы – люди партии.
– Жиды, едущие домой в Одессу. – Он ударил по стеклу нагайкой. Стекло раскололось. Он рассмеялся. – Вперед, товарищи. Все вон. В снег вместе с пролетариатом.
Большевики не вышли. В конце концов бандиты забрались в вагон и вытолкали всех наружу. Люди сбились в группы, как нахохлившиеся цыплята. Они спрятали револьверы в карманы и сумки. Многие спорили. Некоторые показывали пропуска и удостоверения. Они шумели гораздо громче, чем все остальные пассажиры поезда.
– Заткнитесь! – крикнул наш враг. – Сколько у вас денег?
– Денег? – Это, кажется, произнес Потаки. – Нет никаких денег.
– Чертовы красные жиды. Золото!
– Погромщики! – выкрикнула изможденная женщина, кутавшаяся в косынку. – Вы перебили здесь половину людей. Трупы повсюду. Вы убили девочку!
– Мы привыкли убивать, дамочка. Это для нас обычное дело.
– Троцкий обо всем узнает, – сказал кто-то из пассажиров.
– Тогда Троцкий узнает, как мы на Украине относимся к жидам. Мы не работаем на жидов, красных, белых, зеленых или желтых. Мы уже их достаточно навидались.
– Антисемит, невежда, капиталист…
– Совершенно согласен, товарищ. Григорьев борется с вашими господами, потому что это ему выгодно. Он избавляется от землевладельцев. Вы думаете, что используете нас. Нет: мы используем вас. – Он взмахнул нагайкой. Плеть просвистела над головой женщины.
Она зарыдала, у нее свело дыхание:
– Ты ублюдок!
– Нам нужно золото и припасы. Нам их обещал Антонов. Где все это?
– Все в следующем составе, – сказал я. – В специальном поезде.
– Откуда ты знаешь?
– Мы говорили о вашем грузе накануне моего отъезда. Все знали, что это срочно.
– Поезд пойдет по этой линии?
– Следом за нами.
– Верно. – Кто-то догадался о моих намерениях. – Он будет здесь через полчаса.
– Хорошо, – сказал казак. – Мы подождем.
– Может случиться авария, – заметил я.
– Прекрасно. Тогда мы будем уверены, что поезд остановится, не так ли?
– Вы нарушаете договор, – сказал Потаки. – Вы лишитесь нашей поддержки.
– Мы и без нее прекрасно справлялись. Нам немедленно нужны поставки продовольствия и боеприпасов. К весне мы могли бы уже оказаться в Москве. – Казака переполняла какая-то провинциальная гордость – еще бы, он одержал несколько мелких побед.
Он походил на тех викингов, которые напали на город на Сене и вернулись домой, утверждая, что уничтожили Рим. Он засопел и осмотрел меня с головы до ног. – Ты инженер. Какой именно?
– Широкого профиля.
– Разбираешься в моторных двигателях?
– Конечно.
– Можешь починить один?
Я решил, что должен снискать расположение этого идиота, – иначе меня могут расстрелять.
– Все механизмы, в общем, одинаковы.
– Что?
– Если не понадобятся новые детали. Я могу выяснить, что неисправно. Если чего-то не хватает, я могу придумать выход. Но если вы лишились какой-то важной детали…
– У нас есть грузовик, он встал. Осмотришь?
– Ради общего дела?
Казак пожал плечами:
– Ты осмотришь его?
– Если пообещаете, что я вернусь в поезд, когда закончу.
– Хорошо.
Я не знал, собирается ли он дожидаться выдуманного поезда, или, наоборот, боится с ним встретиться. Я отнес свой чемодан обратно в купе. На первой странице записной книжки указал адрес дяди Сени, уложил ее в чемодан. В другом чемодане лежала только одежда. А этот был очень важен – в нем хранились мои планы, проекты, записи.
Я присоединился к хмурому казаку. Его люди уже грабили поезд, красные матросы беспомощно наблюдали за ними. Пострадали не только евреи, хотя к ним относились хуже всего. Хасид с кровавым пятном на спине лежал мертвый между поездом и насыпью.
Я последовал за казаком, который начал взбираться наверх. Я несколько раз поскользнулся и теперь был весь засыпан снегом. Я дрожал от холода. Наконец мы добрались до вершины. Мы сверху смотрели на узкую дорогу. На ней стояли жеребята, их охранял совсем молодой человек, почти мальчик, в изодранном овчинном тулупе. Пар от дыхания лошадей казался белее снега; создавалось впечатление, что здесь царило спокойствие. Дальше по дороге стояли три телеги, в которые можно было впрячь лошадей; чуть поодаль замер автофургон. От него поднимался еще более густой пар. Немецкие знаки отличия не до конца стерли с бортов машины, над которой развевался красный флаг. Капот был открыт. Два казака спорили о том, что увидели внутри, на каком-то диалекте. Когда мы приблизились, они умолкли. Один из них снял шапку, затем неловко надел ее. Их предводитель сказал: «Это механик из Москвы. Он осмотрит машину».
Я тотчас же заметил, что шланг радиатора отсоединен. Требовалось всего лишь прикрепить его обратно кожаным ремешком. Я решил произвести на казаков впечатление. От этого зависела моя жизнь.
– Кто за рулем?
Болезненный парень, чуть ранее снявший шапку, поднял руку.
– Заводите двигатель, – сказал я его напарнику.
Рычаг уже был установлен. Казак начал поворачивать его, как крестьянин, достающий ведро из колодца. Наконец двигатель заработал и немедленно начал перегреваться. Я наслаждался его теплом на этом морозе. Я обошел вокруг грузовика, как будто погрузившись в размышления, приказал остановить двигатель и отойти назад. Они с готовностью подчинились. Не снимая перчаток, я взял шланг и поставил на место. Потом попросил ремешок, который почти тотчас же нашли. Я привязал шланг, снял крышку радиатора, посоветовал набрать снега в ковш и растопить его на двигателе.
– Снег! – фыркнул главарь. – Эта штука ездит на бензине.
Даже я был удивлен таким невежеством:
– Сделайте, как я говорю.
Двое мужчин нашли большую емкость для воды и начали руками собирать снег, запихивая его внутрь. Когда снег растаял, я сказал, что они могут заливать воду в радиатор, но не слишком быстро.
В итоге радиатор был заполнен. Я сказал, что теперь можно снова заводить двигатель. Когда грузовик загрохотал и затрясся, предводитель заорал на меня: «Это не сработало! Что еще не так?»
И тогда двигатель завелся. Казак, который проворачивал рычаг, отпрыгнул назад. По запаху дыма трудно было понять, какое топливо они использовали. Дым казался абсолютно черным – возможно, они заливали неочищенную нефть. Грузовик покатился на меня. Водитель закричал и вцепился в трясущийся руль. Водили они не многим лучше, чем разбирались в двигателях. Наконец казак нажал на тормоз. Я выбрался из сугроба и услышал звуки, доносившиеся с той стороны насыпи, увидел клубы пара.
– Поезд уходит!
– Ты только что спас себе жизнь, – усмехнулся предводитель. Он обрадовался, увидев, что грузовик на ходу. – Слава богу, можешь и так сказать. Какой смысл теперь ехать в Одессу? Ты только что спасся – не поехал к черту в пасть. Я не знаю, кем ты себя считаешь: евреем, кацапом или большевиком. Но теперь ты – официальный инженер в войске гетмана Григорьева, служащий под началом сотника Гришенко. Разве ты не гордишься этим?
Бандиты вернулись, усмехаясь, размахивая своей постыдной добычей и хвастаясь ей. Все награбленное было брошено в грузовик. Мне пришлось залезть в фургон; я оказался частью добычи. Вокруг меня были украденные товары, пулеметы, боеприпасы, соленая свинина и две маленькие девочки, которые засмеялись, увидев меня, и предложили мне селедку. Я согласился. Эта трапеза могла оказаться последней в моей жизни. Девочки бормотали что-то с непонятным акцентом. Они спаслись из деревни, за которую сражались красные с националистами. Грузовик поехал. Сотник Гришенко ехал почти сразу за нами. На его суровом лице выразилось удовлетворение.
– Закройте полог, если хотите. Так будет теплее. И не ешьте слишком много. Это продовольствие для большого отряда солдат.
– Куда же, черт побери, мы едем? – Теперь не имело смысла проявлять вежливость.
– Не волнуйся, жид, ты в надежных руках.
Я в ответ закричал:
– Я не еврей. Я еду по партийным делам!
– Значит, ты едешь по еврейским делам, не так ли? – Собственная шутка ему явно понравилась.
Он хлестнул лошадь и умчался вперед. Я выглянул наружу и увидел суровую, необитаемую холмистую местность. Полоса желтого тумана смыкалась с землей. Я попытался разглядеть дым – от поезда или от сельского дома, где я мог бы найти убежище. Но ничего не было видно.
Все, ради чего я трудился, теперь осталось в чемодане в вагоне, полном большевиков, которые, несомненно, украдут все мои бумаги. Мать и Эсме, возможно, придут на станцию, чтобы узнать о моей судьбе. Я ничего не мог поделать – только надеяться, что мы проедем через какой-нибудь город. Можно будет попытаться сбежать и послать телеграмму в Одессу. Я пересел, устроившись поудобнее напротив пулемета на треноге. В итоге пришлось упереться локтем в кусок свинины. Становилось все холоднее. Я опустил тент, но оставил угол открытым, чтобы увидеть, поедем ли мы мимо крупного поселения.
Я оказался в положении плененного волшебника. Пока я смогу показывать этим варварам простые фокусы – останусь в живых. Меня напугало утверждение бандита, что я еврей; казаки убивали жидов без зазрений совести. Обвините славянина в иудействе – и заберете дыхание из его тела, слюну из его рта, душу из его глаз. Я не боюсь смерти. У меня есть Бог, и у меня есть честь. Гордость моя исчезла. Люди смеются надо мной на рынке. Они все оскорбляют меня, даже евреи. Они разграбили мою лавку и касались своими грязными руками моей одежды; они глумились надо мной и задавали глупые вопросы. Госпожа Корнелиус кричала на них и прогоняла. Юные девушки так восхитительны! Они покупают белые ночные сорочки, тонкие блузки, шелковые панталоны, и они так красивы. Они должны петь «Данте» Листа под звуки арф. Оплакивайте изгнанников; оплакивайте Данте в его изгнании и его величии. Оплакивайте Шопена, который так и не сумел достичь гармонии со своим славянским духом и тоже стал изгнанником. Я хотел бы умереть в Киеве, глядя на сирень и каштаны. Большевики, вероятно, срубили все деревья, чтобы построить новые улицы и застроить многоквартирными домами, такими же, как и здесь. Вот ваш социализм! Рационалисты уничтожают наш мир. Там, где мы видим красоту и безграничные чудеса науки, они видят лишь аккуратную геометрию этих домов. Верните мне старую русскую изрытую колеями дорогу в бескрайней степи. Верните мне все, что было, и я позабуду Божий дар, дар науки и предвидения. Людям не нужен Прометей. А Прометей изнемогает под бременем знания.
Дорога не улучшалась. Грузовик не останавливался. Машину часто заносило. Водитель компенсировал опыт внушительными порциями водки. Ему и впрямь нужна была храбрость, учитывая скорость, с которой он вел машину, и состояние дороги. Лошади и телеги остались позади. У меня появились бы неплохие шансы на спасение, если бы я тогда выпрыгнул из машины. Но я мог замерзнуть до смерти. У меня не осталось теплой одежды. У меня не было ни карты, ни представления о местности. Я даже не знал, по какой области мы ехали. Несмотря на шум от грузовика, неудобство и возню двух маленьких девочек, к вечеру я стал чувствовать себя спокойнее. Грузовик начал замедлять ход. Я выглянул из-под навеса. К своему восторгу я увидел, что мы проезжаем через большой поселок. Я ослабил крепление навеса и собирался выскочить, но тут грузовик остановился. Я свалился рядом со свининой и пулеметом. Маленькие девочки завизжали и захихикали. Я спросил, известно ли им, где мы находимся. Они не понимали по-русски. Мой плохой украинский был им тоже непонятен. Они вообще не получили никакого образования. Если бы их отправили в школу, они знали бы русский, ведь он был официальным языком. На темной улице зазвучали голоса. Я отодвинул навес и выскочил из машины. И тотчас натолкнулся на двух мужчин в синих куртках с золотыми нашивками. На мгновение я подумал, что это чиновники, и решил, что спасен, но затем заметил, что они тоже носили патронташи. У одного на голове красовалась матросская фуражка, у другого – меховая шапка-ушанка. Их густые бороды придавали им какой-то восточный облик. Они явно были бандитами.
– Братские приветствия, товарищи! – Я широко раскинул руки, как будто собираясь обнять этих людей. – Пятницкий. Инженер и механик.
Один из них тупо переспросил:
– Что?
Я повторил свои слова. К нам военным шагом подошел мужчина в чистой серой шинели и форменной шапке. Он бодро произнес:
– Они не знают по-русски ни слова, кроме военных команд. Несчастные ублюдки могут выполнять приказы, но они не понимают шуток. Они с Волыни, неплохо говорят по-польски.
Я подумал, что лучше сохранить в тайне мое знание польского. От знаний зачастую куда больше пользы, если ими не делишься.
– Где мы? – спросил я.
Он усмехнулся:
– В чистилище. Мы сделали этот городок нашей базой. А вы откуда? – Мужчина был чисто выбрит и говорил как образованный человек. Он приказал перегнать грузовик к церкви, которую использовали как склад.
– Я направлялся в Одессу. Гришенко попросил меня починить грузовик, так что пришлось сделать ему одолжение. Могу ли я откуда-нибудь отправить телеграмму?
– Кто-то чинит провода. К утру связь заработает. По крайней мере, с Екатеринославом.
Если бы удалось связаться с Екатеринославом, появился бы шанс перехватить поезд. Приехал сотник Гришенко со своими людьми; их усталые лошади еле тащились.
– Так и знал, что ты водишь дружбу с евреями, Ермилов! – Он спешился и зевнул.
Ермилов засмеялся:
– Он сказал, что его фамилия Пятницкий.
– У него даже есть документы, подтверждающие это. – Бумаги были извлечены из грязного рукава. – Видишь?
Ермилов умел читать. При плохом освещении он взглянул на документы и пожал плечами:
– Вполне приличные бумаги. Вы собираетесь уехать из России?
– Разумеется, нет. – Я потянулся за своим паспортом. Ермилов заколебался, поглядел на Гришенко, затем передал бумаги мне. Я положил их в карман. – Я тружусь во имя партии.
– Вы из Москвы?
– Нет, из Киева. Я такой же украинец, как и все прочие. Я хочу, чтобы Украина вновь обрела прежнее величие.
Гришенко фыркнул:
– Что ж, кацапы и евреи держатся вместе. Удачи, Ермилов. Но не дай ему сбежать, да? Он нам нужен: пробормотал какие-то заклинания над нашим грузовиком, и теперь машина стала как новенькая.
Гришенко направился к церкви и, ведя двух девочек за руки, шагнул за порог, будто отец, стремящийся преклонить колени в храме.
Ермилов сказал:
– Вам нечего бояться. Среди моих товарищей есть и евреи.
– В моих жилах течет казачья кровь, – сказал я. – То, что вам кажется иначе, – просто напасть какая-то. Неужели вы считаете евреем любого, у кого нет светлых волос и розовой кожи? Даже вашего предводителя?
– Для Гришенко все жиды. Так гораздо легче убивать. Вы действительно разговариваете не как еврей. Прошу прощения.
Этот образованный человек мог стать полезным союзником. Я принял его извинения, надеясь в дальнейшем на его защиту. У меня всегда возникали проблемы при общении с тупыми мерзавцами – благоразумие вызывает у них подозрение, а крик – агрессию. Одному только Богу ведомо, как живут Его дети.
Мы добрались до дома на одной из широких, грязных, разрушенных улиц, чуть поодаль от церкви. Это был маленький дом с внутренним двориком, в котором стояли на привязи два жеребенка и коза.
– Вы в самом деле инженер? – спросил Ермилов. – Или вам просто повезло? – Он спокойно посмотрел мне прямо в глаза, изучая меня с умеренным любопытством, потом засмеялся. – Я был лейтенантом в царской армии. Теперь я капитан у нашего атамана. Как вы думаете, большевики сделали бы меня генералом?
Мы отворили дверь и вошли. Одетая в черное женщина неопределенного возраста, шаркая ногами, зашагала впереди нас по грязному коридору. На стенах были пятна на месте прежних икон и картин.
– Это наша хозяйка. – Сотник Ермилов спросил ее: – У нас остался чай, пани? – Женщина удалилась в свою комнату. Щелкнул замок. Ермилов отреагировал философски: – Она притворяется глухой. Вы удивитесь, сколько глухих людей в этих краях. Как везде, где мы останавливались раньше. По крайней мере три четверти населения. Они становятся глухими примерно к девяти годам. До этого они просто немые.
Мы вошли в квадратную комнату, посреди которой была печь, украшенная примитивными картинками. Большей частью они облезли или почернели от сажи и времени. Три офицера, все в разных мундирах, сидели на скамьях у печи. Они ели большой кусок мяса, который передавали из рук в руки. Еще у них был черный хлеб и немного водки.
– Не возражаете, если этот товарищ к нам присоединится?
Ермилов подошел к печи. Офицеры посмотрели на меня. Один из них, с темной бородкой и шрамом на лбу, усмехнулся:
– Пожалуйста. Берите хлеб. Берите свинину.
Я уже поел селедки и не горел желанием есть мясо, обслюнявленное этими мерзавцами. Наверняка каждый из них страдал от нескольких венерических болезней. Я ограничился большим куском грубого хлеба и чашкой крепкого чая, оставленного на печи. Водки мне не предложили. Я очень устал. Я совсем мало спал в последнее время и не имел возможности поддержать свои силы порцией кокаина. Я сказал, что хочу в сортир, спросил, где он находится.
– Во дворе, где лошади. Настоящую уборную разрушили вчера вечером. Мы попытались вытащить Юрия, потому что он пробыл там слишком долго, но случайно перепутали, в какую сторону тащить.
Я оставил этих весельчаков и пошел на двор. Было настолько холодно, что желание справить нужду немедленно пропало. Затворив за собой дверь дома, я остановился, разглядывая жеребят. Коза теперь стояла в углу, и ее доила безумная с виду девочка.
Я осторожно начал нащупывать свой кокаин и в конце концов нашел маленький пакетик, на одну дозу. Я отвернулся, вытащил носовой платок и сделал вид, что сморкаюсь. Это, конечно, не лучший способ употреблять кокаин, но в тот момент единственно возможный. Я высыпал порошок в носовой платок, потом втянул в одну ноздрю, затем в другую; в итоге я вдохнул все. Доза оказалась большой. Я злоупотреблял наркотиками, когда работал над фиолетовым лучом. И теперь даже эта доза произвела лишь минимальный эффект. Я все еще чувствовал себя медлительным и сонным. Но в голове у меня немного прояснилось.
Никто не знал, что творилось на Украине в те дни: армии приходили и уходили, выигрывая и проигрывая сражения, грабя города, считаясь то надежными союзниками, то злобными врагами, то ненадежными соратниками – зачастую все менялось в течение часа: бандиты, казаки, анархисты, большевики, националисты. Слова утратили смысл. Преданность различных армий была, как говорят химики, исключительно изменчивой. Я не мог понять, был ли Григорьев, который уже сражался со Скоропадским и Петлюрой, союзником большевиков. Он мог только притворяться их другом; мог притворяться, что выступает против них. Он мог притворяться, что ведет переговоры, чтобы выиграть время для бандитских налетов. Вот, по-моему, в чем состоит сущность партизанской войны. Наша земля стала хуже прерий Дикого Запада во времена Кастера[128]. Она одичала, не контролируемая ни одним правительством. Седьмой кавалерийский полк мог бы добиться успеха; но мог и, подобно Квантриллу[129] в годы американской Гражданской войны, заключить союз с индейцами или сражаться на свой страх и риск.
Керосиновая лампа в комнате едва теплилась, когда я вернулся в дом. Все офицеры, за исключением капитана Ермилова, скорчились на полу среди тряпья и собирались спать. Ермилов расстегнул пальто. Он попытался свернуть цигарку из газеты и чайных листов. Я вытащил из кармана две папиросы и предложил одну ему. Он поблагодарил. Мы закурили. Обмен папиросами и закуривание – настоящий ритуал двадцатого столетия. Исследователи человеческого поведения должны уделить ему особое внимание. Мы сели, прислонившись к стене, возле самой двери. Ермилов поставил между нами лампу. Было холодно. Другие постояльцы заняли более удобные места у печи.
– Где ваш командир? – спросил я.
– Григорьев? В своем штабе в Александрии. Мы просто фуражиры.
– Мой отец был запорожским казаком, – сообщил я. – Так что я по крови близок атаману.
– Скорее всего, вы правы. Вы оба можете быть запорожцами – это так же вероятно, как и обратное, – добродушно ответил Ермилов. – У него около пятидесяти титулов, по нынешним подсчетам. Больше, чем у Краснова. – Он медленно раскурил папиросу, потом позволил ей угаснуть и вновь зажег от слабеющего огня лампы. – Странно, всего лишь пять лет назад мы были просто крестьянами, рабочими или даже школьниками. Пехотинцы, кавалеристы… Теперь все мы – казаки. Нас, наверное, хватит, чтобы изгнать всех турок и татар на край света. Но вместо этого христиане убивают христиан и штыки социалистов вонзаются в тела других социалистов. – Он почесал голову и усмехнулся.
– Вы не казак?
– Я был в казачьей бригаде. – Он пожал плечами. – Я умею скакать на лошади. Этого вполне достаточно. Мы непрерывно сражаемся в кавалерийском строю. Разве это не кажется странным? Какой-то любитель атавизмов придумал все это для собственного развлечения? Мы отступили в прошлое по меньшей мере на сто лет. Взгляните. – Сунув руку под пальто, он вытащил из-за пояса два больших и очень красивых кремниевых пистолета. Я видел старые картинки с изображениями казаков, носивших такое оружие. Пистолеты были черными, покрытыми сложным серебряным узором. Типичное кавказское изделие; на месте курков были кнопки. В замках оказались кремни. Пистолеты, похоже, были в рабочем состоянии. – Я взял их из музея, в то время как все остальные занимались поисками золота и мяса. Я уже стрелял из них в двух человек. Один был ранен. Второй упал и расшиб голову. Но я убил его. Можно использовать шарики от подшипников соответствующего калибра. Я отношусь к своим пистолетам всерьез. Сейчас они заряжены. Представьте, сколько бедных еврейских задниц подпалили эти пистолеты! – Он погладил ствол. – И как антиквариат они стоят целое состояние.
– Они не слишком удобны, не так ли?
– Они убивают, – огорченно ответил он. – Если бы я захотел сбежать отсюда – не знаю, в Берлин или куда-нибудь еще, – я мог бы целый месяц жить, продав их только ради одного серебра. Я видел, как две мужских компании на прошлой неделе дрались, используя сабли и плети, как в дни Тараса Бульбы. Неужели такое творится во всем мире? И в самом деле вернулись Средние века? – Казалось, его очень интересовало мое мнение.
– Похоже на то, – ответил я. – Но силы Антанты все еще используют самолеты и танки. Даже у большевиков есть SPAD[130]. Я видел их в деле неподалеку от Киева. Летают хорошо.
– Надолго ли все это?
– Вы в самом деле полагаете, что настал конец цивилизации?
– Если бы я так не думал, меня бы здесь не было. Я хочу узнать, как выжить. Я хочу стать удачливым дикарем. Вы понимаете меня?
– Это пораженчество.
– Я дезертировал с Галицийского фронта.
– Вы дезертировали?
– Как и все прочие. Я не индивидуалист, товарищ. Я запорожский казак, как и вы. Я отринул и Толстого, и Достоевского. Теперь пою похабные песни и отпускаю шутки о жидах, пью дрянную водку, мочусь, стоя рядом с тридцатью другими пьяницами, все они пердят и рассказывают о людях, которых убили, о девочках, которых изнасиловали, о лошадях, которых украли. Я принял цивилизацию как дар и никогда не задумывался об этом. Теперь мой нравственный долг – принять варварство. И я не намерен задумываться и об этом. Вот и все, конец. – Он встал и отыскал стакан, в котором плескалось еще немного дрянной водки. Я отказался от угощения, и он допил сам. – Как вы попали к Гришенко?
– Он остановил поезд, в котором я ехал. Я согласился починить его грузовик. Он отпустил состав, а мне пришлось остаться. Он обещал, что позволит мне вернуться на поезд.
– Все верно. Он ублюдок. Никто не любит его и не доверяет ему. Люди говорят, что он – еврейский шпион, большевистский шпион, белый шпион. Как вы сами видите, ему все равно, кого грабить. Но он добьется успеха. Это его мир. И я следую его примеру. Мы друзья. Он отдал вас мне как своеобразный подарок. Он знает, что я умею читать.
– Вы ему нравитесь?
– Не сказал бы. Но каждому нужен друг, и я – друг Гришенко.
– А что вы думаете о нем?
– Он – животное. Он абсолютно лишен морали. Вместо мозга у него ненависть. Вместо сердца – злоба. Я хочу быть похожим на него. Мы оба сейчас – сотники, но он поднимется выше. Григорьев уже отличает его. Атаман делает вид, что не одобряет его действий, когда рядом оказываются большевистские эмиссары. Но на самом деле его это не заботит. Гришенко – волк. И Григорьев создал целую стаю таких волков. Как опричники царя Ивана: железный круг, оскаленные зубы. Он достаточно умен, чтобы использовать броские политические лозунги, но хочет стать царем. Когда он добьется своего, я тоже стану волком. Опричники были единственными людьми, которым не угрожала жажда крови Ивана Грозного.
Ермилов казался мне безумным.
– Вы могли бы эмигрировать, – заметил я.
Он покачал головой:
– Во всем мире творится то же самое. Россия – это только начало. Все из-за войны. В Германии все рушится. В Англии создаются Советы. Все цивилизованные нации гибнут. Это похоже на землетрясение. Его никак не остановить. Вероятно, это естественный процесс. Возможно, он как-то связан с Солнцем или Луной. Как вы думаете?
– Это исключено, – с преувеличенной, пародийной серьезностью отозвался я, – мы не можем анализировать, располагая такими субъективными данными. Но вы – не первый русский, который развивает философию, основанную на отчаянии. И, может быть, не первый, кто делает ошибочные выводы.
– Я могу, как уже сказал, опираться лишь на внешние признаки. Вы знакомы с современной поэзией?
– Она мне не по вкусу.
– Наши поэты предсказали век крови и огня, апокалипсис. Разве они не называли нашу эпоху концом времен?
Я в этом сомневался. В Петрограде развелось столько – измов и – истов, что я до сих пор путаюсь. О них все позабыли, об этих акмеистах и конструктивистах. Они сошли с ума, убили себя или их убил Сталин. Как я недавно сказал, лично я был всего лишь листистом. Естественно, ни один из тех невежд в пабе не понял этого слова. Теперь я склоняюсь к мысли, что Ермилов был прав. Процесс просто шел гораздо медленнее, был менее драматичен и интересен, чем он думал.
– Мне позволят отправить телеграмму матери в Одессу? – спросил я.
– Мы немного побаиваемся телеграфа, мы дикари. – Он снова нагнулся к лампе, чтобы зажечь папиросу. – Сообщение должно представлять военную важность.
– Атаман все еще верен большевикам?
– В каком-то смысле – да.
– Тогда я представлюсь товарищем. Скажу, что дело политическое.
– Атаман хитер.
– Сколько ему лет?
– Примерно столько же, сколько мне, – сказал Ермилов.
– Сорок?
– Тридцать пять. Я выгляжу старше всего на пять лет? Значит, я приспособился гораздо лучше, чем предполагал. – Он не видел ничего обидного в моем грубом промахе. – Я все-таки смог пройти через все это, а? Может, я даже доживу до повторного изобретения колеса.
– Григорьев похож на Гришенко?
– Он намного умнее.
– Почему Гришенко думает, что все кругом евреи?
– Это просто. Он наслаждается страданиями других. А никто не любит страдания больше, чем евреи. Так что Гришенко устраивает, черт побери, настоящий цирк. Это что-то вроде сговора, я думаю.
– Он решил, что я еврей, но не убил меня.
– Он не был уверен. Он называет евреем любого, кто кажется ему немного «неправильным». Если люди начинают ныть и унижаться, он решает, что прав. Простая логика, не так ли? Здесь нет никакой тайны. Он – дикий пес и может учуять страх. Если хотите, чтобы он о вас хорошо думал, будьте таким же жестоким, как и он.
– Не понимаю вашего цинизма. – Голова у меня раскалывалась.
– Все мы выживаем, как можем. В мире, который нас окружает, приходится искать сильных хозяев.
– А почему бы не стать самому себе хозяином?
– Это второй тип выживающих. Я изучал историю, когда был кадетом. В армии я прослужил большую часть жизни.
Я угадал. Такой способ расслабления был привычен всем кадровым военным; экономия собственной энергии и энергии других. Бог знает, какие страсти в самом деле дремали в нем. Но он не позволил бы им проснуться. Такое он получил воспитание. Ермилов делал все, что мог. Лишившись своих убеждений, царя, Бога, он отчаянно рационализировал ситуацию, подыскивая наиболее подходящего кандидата, способного занять место государя. По крайней мере, именно так полагал я.
Меня теперь поражает, как близко мы в России подошли к основанию новой династии. Я воображаю, что мы могли получить царя Григория – Распутина. Или царя Григорьева. Или нового Петра – Краснова. Я уверен, что ни один из них не признавал величия собственных амбиций. Но они позволили бы своим сторонникам возвести их на царство. Распутин мог бы зваться теократом всея Руси. Чего бы он смог достичь? Просвещения? Или века террора, сопоставимого с ленинским? Стал бы он Лоренцо Великолепным или Савонаролой?[131] Или нам нужны оба в одном лице? Очевидно, именно так. Студент-семинарист из Грузии, Сталин, стал в конце концов и пастырем, и вождем. Он раздвинул границы Российской империи. Керенский не пожелал прибегнуть к кнуту. Он кричал на нас, как истеричная мать кричит на детей, умоляя их хорошо себя вести. Сталин объявил, что в России должна установиться дисциплина; и дисциплина установилась. Мы пережили века сумерек, и мы пережили Серебряный век. В отдаленном прошлом у нас случались и мгновения Золотого века. Мы тосковали по этим золотым векам. Но, наступив, они напоминают золотую арктическую осень, которая длится один-единственный день. А потом приходит зима.
Я спросил Ермилова, прежде чем заснуть:
– Почему Гришенко не стал ждать второго поезда, о котором я сказал?
– Если бы это оказался большевистский поезд, ему пришлось бы перебить всех свидетелей – пассажиров, солдат, машинистов. Слишком много. Это не очень удобно. Он получил лучшее из возможного – еврейское добро и механика, способного починить наш транспорт. Вы стали настоящей удачей. Для меня честь получить вас в подарок.
– Какое топливо было в том грузовике?
– Спирт, – сказал Ермилов, – по всей вероятности.
Он повернулся ко мне спиной и погрузился в сон.
Я не спал. Я снова вышел во двор. Я пожалел, что не умею скакать на лошади. Я обдумал похищение грузовика. Но его было трудно завести, и в баке могло оказаться недостаточно топлива. Я не хотел рисковать и злить Гришенко. Решил подождать, когда мы доберемся до Александрии, а там отыскать большевиков. С политиками иметь дело легче, чем с волками, а Ермилов был для меня просто удобным спутником, а не союзником. Он служил своему персональному царю: императору разрушения, богу отчаяния. Это почти традиционно: поверить вместе с дьяволом, что Бог покинул мир.
Глава четырнадцатая
Музыка создана, чтобы успокаивать нас. Даже казаки поняли это. У них были свои застольные песни, жалобные баллады о смерти и любви, колыбельные. Казак с винтовкой на спине и саблей на боку, поющий колыбельную ребенку, – одно из прекраснейших в мире зрелищ. Я видел такого казака, когда мы разбили лагерь на пути к Александрии. Меня бросили в грузовик с добычей и впереди всего эскадрона повезли по грязному февральскому снегу. Захватив Киев, Антонов теперь направлялся на юг. Так говорил Ермилов. Мы, судя по всему, теперь сражались за социализм.
В эту эпоху эгоизма, как мне следовало уяснить, слово «социализм» могло означать что угодно – в зависимости от пожеланий говорящего. Все эти бандиты были католиками. Католицизм оказался последней ступенью на лестнице, ведущей к коммунизму. Социализм или масонство, как это ни назови, пропитаны все той же ложной гордостью. Только греческая православная религия свободна от заразы. В нашей религии правит Христос. Здесь нет ничего, напоминающего независимое сознание. Это единственная религия, которая может спасти нас от участи Карфагена. Арабы не подвергают сомнению свой закон, основанный на Коране. В этом – их сила. Бог защитит невинных. Пусть начнется темный век, Железный век, тогда мы снова увидим Свет; новый рассвет, дарованный нам милосердным Господом. Мы не должны предавать Его доверие. Я сужу по собственному опыту. Я думал, что Бог одарил меня достаточно. Но его дары были отняты, потому что я принял их без веры. Именно поэтому в мире теперь существуют котлеты по-киевски, бефстроганов, клубника по-романовски: все потому, что генералы, политики и адвокаты изменили Богу. И теперь они стали официантами, швейцарами и поварами в разных концах света. Вот почему я продаю поношенную одежду на Портобелло-роуд немцам, которые отпихивают меня с тротуара, пытаясь заполучить якобы серебряный индийский браслет, чтобы отвезти его домой, в Мюнхен; французским девчонкам, которые смеются надо мной и болтают друг с другом, не зная, что я понимаю все их грязные словечки; американцам с их пугающей снисходительностью.
Я не ожидал увидеть в Александрии такой большой лагерь. Сам городок был средних размеров. Но он стал основной базой Григорьева; его жена и семейство жили здесь. Армия Григорьева оказалась намного больше, чем думали в Киеве. Там его считали в лучшем случае мелким полевым командиром, сблизившимся с красными. На самом деле ему повиновались тысячи казаков. Они собирались вокруг него, выполняли его приказы и считали своим атаманом. Он был столь же могущественен, как Краснов с Дона, человек, который написал очень важную книгу, раскрывающую секреты евреев, католиков, вольных каменщиков, все их предательские замыслы. Ее издали в Германии в двадцатых годах в четырех томах под названием «От двуглавого орла к красному знамени». В ней гораздо больше правды, чем во всех книгах, написанных с тех пор. Вот почему комиссары повесили Краснова, когда добрались до Германии. Ему следовало бы сменить имя. Я представляю, как его уводят в лес и казнят за то, что он сказал правду.
Григорьев не обладал ни благородством, ни умом, свойственными Краснову. Его напыщенные прокламации развесили по всей Александрии и окрестностям. Лагерь находился за пределами города, за железнодорожной станцией. Здесь были собраны бронированные вагоны, фургоны с товарами, легковые автомобили, мобильная артиллерия и все прочее, что удалось награбить. Кругом стояли армейские палатки, лачуги, разнообразные временные постройки; большая бочка постоянно заполнялась водкой, пить из нее мог любой солдат. Не только казаки, но и пехотинцы, артиллеристы и гайдамаки присоединялись к Григорьеву. Все они были пьяны. «У них переменчивый нрав», – предупредил меня Ермилов. Он помог мне выбраться из грузовика, спустил девочек и позвал женщину, стиравшую белье возле вагона, снятого с колес. Он приказал ей позаботиться о девочках и накормить их.
Теперь я стал талисманом Ермилова. Он повязал красную ленту мне на рукав и сказал, что я буду именоваться связным наших друзей эсеров. Большинство казаков поддерживало левую фракцию эсеров; эту группу именовали «боротьбисты» («боротьба» значит «борьба»; так называлась их газета). Они тогда имели большое влияние в Харькове. Григорьев выпускал множество прокламаций от имени этих почти большевиков. Он, возможно, не верил в их дело, но был достаточно мудр, чтобы на словах поддерживать боротьбистов. Казак служит своему атаману, только если атаман служит ему. Некоторые из них даже плевались, если кто-то произносил слово «большевик». Я заметил в городе несколько «кожаных курток». Очевидно, Антонов уже направил своих офицеров, чтобы те начали переговоры с Григорьевым. Я спросил Ермилова, можно ли посетить телеграф. Он покачал головой:
– Вы находитесь под моим надзором. Моя обязанность – следить за вами. Это приказ Гришенко.
– Вы равны ему по чину. Почему же подчиняетесь?
Мы миновали сломанный «ньюпор» и «альбатрос»[132]. Кто-то попытался соединить части машин. Это было глупо. Ни один самолет так не смог бы взлететь. Ермилов не ответил на мой вопрос. Подобно хозяину собаки, он позволил мне задержаться возле самолетов, как будто ожидая, что я вынюхаю что-нибудь интересное. Он сказал:
– Вы не должны приближаться к комиссарам. Гришенко хочет, чтобы вы остались с нами. Сами видите, нам нужен механик.
– Григорьев пристрелит его. Я – важное имущество, которым Гришенко не хочет делиться. – Я был оскорблен. Я в самом деле стал рабом, заложником.
– Григорьев может притвориться, что расстреляет Гришенко. Но Гришенко не погибнет. – Ермилов явно забавлялся. – Меня, однако же, расстреляют, если я позволю вам уйти. Видите, в какую игру играет Гришенко? Теперь я за вас отвечаю.
– Это просто детская забава!
– Такова война! У вас, между прочим, есть какие-то звания?
– У меня докторская степень Киевского университета. Петлюра вопреки моему желанию произвел меня в майоры.
– Майор – это хорошо. Теперь вы – майор Пятницкий из нашего инженерного корпуса. Работайте на нас, тогда сможете быстро продвинуться по службе. – Он помог мне протолкаться через толпу пьяных партизан, которые слонялись вокруг хижины. Судя по запаху, это место служило уборной. – По чину вы уже старше меня, заметьте!
Я все еще чувствовал усталость. Я пребывал в растерянности. Мне приходилось оставаться с Ермиловым. Он стал моей единственной связью со здравым смыслом в этом кошмарном хаосе. И тем не менее я злился на своего спутника. Он насмехался надо мной. Лагерь простирался на несколько миль вдоль железнодорожных путей. Иногда мимо проходили длинные поезда. В них были солдаты, оружие, добыча. Казаки бродили между движущимися локомотивами, едва замечая их. Я видел, как несколько человек едва не погибли под колесами.
Вот каковы были наши благородные красные воины! Большинство из них не могли даже прочесть григорьевских прокламаций. Тех, кто умел читать, ничего не интересовало из-за выпитой водки, они не могли сосредоточиться на словах. И все же многие оставались истинными казаками, сражавшимися за свободы, уничтоженные декретами дюжины никчемных царей. В тридцатых они вызывали ужас у самого Сталина. Он расформировал все казачьи отряды. В сороковых эти отряды были восстановлены, и их прежнюю славу вспомнили вновь, чтобы поднять боевой дух для борьбы с немцами. Многие немедля перешли на сторону Германии и продолжали бороться за свои идеалы. Сталин разгневался. Он отдал приказ расстрелять всех вернувшихся казаков как предателей. Не имело значения, были ли они военнопленными, партизанами или сражались на стороне Оси[133]. Либеральные англичане и добродушные американцы погрузили их в поезда и на корабли и отправили на страшную и постыдную смерть. Немногим удалось бежать. Некоторые остались в Канаде, где погода и земля, а может, и «Макдоналдс» с «Кэмпбеллом», пришлись им по вкусу. Они сбежали, но утратили русские души; они лишились духовного мира, необходимого для русских и тягостного для американцев. Некоторые, оставшись в России, продают свои души по ночам, танцуя и распевая песни для туристов. Даже партизаны Григорьева пили не для того, чтобы утратить сознание, а чтобы обрести души; чтобы найти Бога и получить подтверждение, что все, сделанное ими, было правильно. Увы, нет. И Бог не сказал им, что все сделано верно. И потому они продолжали пить. Тогда я нервничал, глядя на них. Сейчас, оглядываясь назад, чувствую жалость.
Мы вошли в палатку, где стояли две походных кровати. Ермилов поскреб щеку и нахмурился:
– Нам придется найти для вас тюфяк.
– Вы не один живете в этой палатке?
– С моим другом Гришенко.
Теперь мне придется спать рядом с Ермиловым и его господином, стать рабом раба. Ермилов открыл патронный ящик. Он не был заперт. Кто угодно мог украсть то, что там лежало. Мой спутник вынул бутылку хорошей водки: эту этикетку я запомнил еще в Одессе. Я принял его предложение и сделал большой глоток прямо из горла. Алкоголь согревает и стирает воспоминания. Кокаин приносит холод и ясность ума. Я нуждался в алкоголе. Ермилов приказал мне подождать в палатке, закрыл за собой вход, но я мог следить за ним через неплотно сходящиеся края полога. Он зашагал обратно к железнодорожной станции, смеясь и шутя с солдатами, походка его изменилась; я заподозрил, что вежливость Ермилова могла оказаться просто маской. Я сел на одну из кроватей и попытался разобраться в происходящем. Но мне это не удавалось. Меня захватили в плен казаки. Я остался в живых только потому, что Гришенко решил использовать меня для повышения своего престижа, а Ермилову нужна была аудитория для его сентиментальных бредней. Меня в любой момент могли пристрелить. Меня могли пытать. Я выпил еще водки и рассмеяться. Это стало проверкой моего остроумия. Я надеялся, что выпивка поможет мне крепко уснуть; завтра я мог прибегнуть к кокаину. Я решил следовать за Ермиловым. Пока не окажусь в безопасности – буду таким же надежным партизаном, как и мой спутник. Я смогу пробиться наверх, но не так, как собирался пробиться Ермилов, а с помощью интеллекта. Я стану незаменимым для этих дикарей. Я вспоминал истории Конан Дойла и Хаггарда, в которых белые мужчины попадали к аборигенам и ставили их в тупик простыми научными опытами. Я буду равняться не на Гришенко и даже не на Григорьева, а на «Затерянный мир» и «Копи царя Соломона».
Ермилов вернулся и отобрал у меня водку.
– Еле нашел этот хлам, выторговал у женщины за три бутылки. – Он отступил в сторону, когда двое грязных партизан, бороды которых были покрыты инеем и замерзшей слюной, бросили на пол соломенный матрац и одеяло. Сверху кинули рваное пальто, папаху, пару неудобных с виду ботинок и какие-то изъеденные молью меховые рукавицы. – Очень дорого. – Ермилов заткнул пробкой бутылку. – Надевайте.
– Но мое пальто…
– Мы, казаки, не очень хорошо относимся к людям, которые слишком горды для того, чтобы одеваться как все.
Он говорил беззаботно, почти весело, но сопровождал слова такими красноречивыми жестами, что я предпочел последовать его совету. Мое прекрасное пальто было снято; взамен я надел принесенное тряпье. Вши уже ползали по моему телу. Поношенные ботинки были слишком велики, и я мог их надеть поверх своих башмаков. Я почти тотчас же согрелся. «Отрастите бороду, если можете», – сказал Ермилов. Меня это оскорбило. Я пытался отрастить бороду. В результате стал похож на больного спаниеля. Прошло еще два-три года, прежде чем борода начала расти как следует. К тому времени, конечно, бороды вышли из моды, поскольку их носили люди старшего поколения, доказавшие свою никчемность, развязав войну. Маленькие усики я отрастил к 1925 году.
Ермилов отступил назад и внимательно осмотрел меня.
– Носите шапку повыше и чуть набок. – Он сам поправил мой головной убор. – Разве вам не знакомо выражение «Берегитесь мужчин, которые прячут под шапкой глаза»? Если шапка сдвинута вверх – вы храбрый, русский, настоящий казак, не нуждающийся ни в чьей защите. Говорите, ваш отец был запорожцем. Разве он вас этому не научил?
– Он мертв. – Как все теперь переменилось. Теперь мне шло на пользу то, что до сих пор я считал своим позором. – Он был эсером. Убийцей. Его застрелили в тысяча девятьсот шестом из-за участия в восстании.
Ермилов был доволен.
– Вы и впрямь такой, как говорите! Вы – загадка, юный майор. Гениальный мальчик, убежденный социалист, наполовину запорожский казак. А кто ваша мать?
– Ее семья из Польши.
Это было важной информацией. Ермилов кивнул, но промолчал. Я снова сел на край кровати. Он откупорил бутылку.
– Сделайте на сей раз небольшой глоток. Я берегу такую хорошую водку.
– Вам не стоило оставлять ее здесь. Бутылку могли украсть.
– Казаки не крадут друг у друга. – Ермилов был преувеличенно серьезен. – Запорожцы блюдут свою честь. – Он расстегнул пальто и протер шею какой-то тряпкой. – Вы посмели бы украсть у одного из них?
– Я не вор.
– Все мы не воры. Мы фуражиры, прежде всего в гетто. Мы присваиваем имущество, особенно если имеем дело с неохраняемыми поездами.
– Меня учили помнить о казачьей чести. Вам не стоит напоминать мне об этике истинных запорожцев и не стоит насмехаться над ней. Те люди снаружи – просто отбросы.
– Казачьи войска начинались с таких отбросов. Когда Москве понадобилась их помощь в борьбе с татарами, русские превратили их в изысканных романтических героев. То же самое происходит сегодня с трапперами и ковбоями в Америке.
Это звучало просто смешно. Но мне лучше было промолчать. Ермилов вынул один из своих черных с серебром кремниевых пистолетов и осмотрел ствол.
– Они бесполезны, если вы попытаетесь обращаться с ними как с современным огнестрельным оружием. Логически рассуждая, из них нельзя ни в кого попасть. Именно поэтому они мои. Кто-то может управляться с привередливыми лошадьми, а я – с этими пистолетами. Они – символ моего выживания!
Меня это не впечатлило. Позднее Париж и Берлин стали напоминать арсеналы девятнадцатого столетия. Каждый атаман продавал свою добычу под видом семейных реликвий.
Полог палатки распахнулся. Вошел Гришенко. Его сопровождала грубоватая с виду девица. Он ничего не сказал, но Ермилов застегнул пальто и сделал мне знак рукой. Мы удалились. Гришенко засмеялся и что-то сказал девице по-украински. В ответ раздалось ужасное хихиканье. Я не ожидал услышать подобное от такой опытной шлюхи.
Ермилов посмотрел на небо. Оно было серым, как снег. Он чертыхнулся:
– Я оставил водку. Гришенко может выпить сколько угодно.
– Я думал, что казаки никогда не крадут друг у друга.
Ермилов зашагал вперед. Он снова превратился в бандита.
– Гришенко – мой друг. Все, что есть у меня, принадлежит ему, – резко ответил он.
– А все, что есть у него?
Ермилов остановился, а через несколько мгновений засмеялся:
– Тоже принадлежит ему. – Он сделал шаг назад и положил руку мне на плечо. Я вспомнил о госпоже Корнелиус и ее шубе. Я скучал по ее «мерседесу». Я очень скучал по Одессе, по матери и Эсме. Ермилов отвел меня к цистерне. – Мы попробуем то, что пьют остальные.
Бандиты не обратили на меня внимания. По внешнему виду я теперь ничем не отличался от них. Оловянную кружку передавали по очереди всем столпившимся вокруг фургона. Водка была не хуже той, которую я пил в поезде. Потаки, наверное, уже успел добраться до Одессы и наслаждался преимуществами власти закона, планируя ее уничтожение. Революция – это произведение современного искусства; нечто судорожное, недисциплинированное, эмоциональное и бесформенное. Ленин и Деникин пытались переделать ее на собственный вкус. Троцкий стал катализатором этой войны; как он гордился собой, поднимаясь на крыши поездов, произнося речи в автомобилях, гордо вышагивая перед своими генералами! Каким же идиотом этот еврей должен был казаться с первого взгляда! Гусь в одном пруду с цаплями! Он выглядел так смешно – очки, борода, форма. Нелепый, самонадеянный клоун. Я не мог понять, почему госпожа Корнелиус посчитала его привлекательным; причиной могло быть разве что его могущество. Он был растяпой. Почти за все беды, начиная с 1918 года, нести ответственность должен именно он. Его называли величайшим генералом со времен Иосифа: это – оскорбление для Иосифа. Ленин любил Троцкого. Они были два сапога пара. Антонов был интеллектуалом, но он знал, как сражаться. Госпоже Корнелиус следовало сблизиться с ним. Но, возможно, Антонов оказался слишком сильным. В те времена она любила мужчин, которыми могла управлять. Она предпочитала дураков. Ей нравились благополучные браки. Я не думаю, что Антонов был женат. Я ничего о нем не знаю. Сталин, вероятно, убил его во время одного из тех ужасных процессов. Я избегал русских между войнами, иногда даже называл себя поляком или чехом. Я не мог вынести сочувствия людей, которые завязывали дружеские отношения с эмигрантами; это вызывало у меня неловкость. Я хочу остаться собой, а не представителем какой-то там «культуры».
Мы подошли к запасному пути железной дороги, где прокламации висели на телеграфных столбах. Водка подействовала на мой желудок. Я сказал об этом Ермилову. «Вы хотите есть, – ответил он. – Мы раздобудем здесь кое-какую еду».
Вагон, который некогда был частью поезда первого класса, теперь использовался как столовая. С кухни доносились отвратительные запахи. Я почувствовал себя еще хуже. Ермилов поднялся по лестнице. Не желая оставаться в одиночестве и все-таки опасаясь того, что мне придется есть, я последовал за ним. Мы уселись рядом с есаулами, которые ели суп, возмущаясь его вкусом.
Мальчик принес нам две тарелки и два куска хлеба. Суп был темно-желтого цвета, в нем плавали кусочки бледного мяса. Я долго набирался храбрости, прежде чем попробовать его. Ермилов присоединился к некоторым офицерам, смеявшимся надо мной: «Он новичок, инженер, майор Пятницкий». Я усмехнулся сухими губами. Это вызвало новые раскаты смеха. Я проглотил немного бульона и почувствовал, что хуже уже некуда. Вкус был омерзителен. Я пожевал мясо. Оно оказалось на удивление свежим. Я проглотил кусочек и торопливо съел немного черствого хлеба, по вкусу и запаху напоминавшего дешевое мыло.
– Откуда ты, товарищ? – спросил огромный казак, который носил бороду и усы на старинный манер. На нем была красивая форма, хотя с неизбежной красной кокардой на шапке и с красной полосой на рукаве.
– Из Киева.
– Рано там становятся майорами.
– Это просто, – ответил я. – Я был инженером на гражданской службе.
– На кого ты работал? – Вопрос прозвучал не слишком настойчиво, но я не понял его смысла. Я обернулся к Ермилову, который выручил меня, сказав: – Его отец был эсером.
– Ого, – сказал казак, – выходит, кумовство существует даже в революционных кругах. Где же теперь твой папаша?
– Его убили в тысяча девятьсот шестом. Моя мать живет в Одессе.
Он сочувственно посмотрел на меня.
– Не обижайся, маленький майор. Мы уже в пути. Эти черномазые не обидят наших женщин. – Французские зуавы, судя по слухам, обезумели и вступили в союз с одесскими евреями. Азия и Африка гадили на русской земле. – Сначала в Николаев или в Херсон, чтобы пополнить боеприпасы, потом в Одессу. Мы самая большая армия на Украине. Они нас не остановят.
Я подумал о моей Эсме, о моем ангеле, оказавшемся во власти какого-то ухмыляющегося негра в феске. Живот у меня свело. Я все-таки сумел более-менее легко управиться с супом и хлебом. Как и предсказывал Ермилов, от горячего мне стало намного лучше. Ермилов заговорил с человеком, который обращался ко мне.
– Ты прочитал прокламацию, Стоичко? Что там говорится?
– Как обычно. О наших замечательных успехах. О том, как мы хороши. О том, как мы служим атаману и помогаем боротьбистам. О том, как мы получили помощь от большевиков, чтобы противостоять хаосу, овладевшему всей землей.
– Больше ничего?
– Четвертый и пятнадцатый должны погрузиться в поезд для отправки на новый фронт завтра в шесть тридцать утра.
– Куда мы отправляемся?
Стоичко прочистил горло. Он подхватил кусок хлеба, от которого я отказался.
– На юг. Как обычно, ходят разные слухи. – Он разжевал хлеб. – Как поживает этот ублюдок Гришенко?
– Выплескивает мужественность в палатке. – Ермилов вытер губы.
Все остальные умолкли.
Я выглянул в грязное окно. Мимо, спокойно беседуя, прошли два священника. Они как будто шагали по тихой городской улице. Меня их вид успокоил. Они воплощали греческую веру. Позже я заметил, как они благословляли красные флаги. Есть священники и священники, точно так же, как есть казаки и казаки. Но плохой священник, по моему мнению, и в самом деле плох: он использует слово Божье, чтобы утвердить власть дьявола. Как легко эти священники приняли большевизм! Немногие противостоявшие этой напасти были убиты или осуждены своими же товарищами. Мне хотелось бы еще раз услышать, как киевские монахи поют «Diesirae»[134]. С чем может сравниться это сочетание архитектуры и музыки, так гармонично прославляющее труды Человека и Бога? Или «Вечерня» Рахманинова?[135] Даже атеист, даже еврей не останется равнодушным. Я слышал, что некоторые люди называют эту музыку выражением крайности. Они не в состоянии понять, что никаких крайностей в России нет. Нам всем приходится управлять своими умами, ограничивать восприятие, а не расширять его. Островитяне редко понимают это. Американцы сохранили островной менталитет. Они окружают все стенами. Я знаю такие имения: там невозможно навестить друга, не побеседовав с охранниками; в точности как в сумасшедшем доме. Стены – это безумие. Безумие – это стена. Жизнь слишком коротка.
Стоичко, по-прежнему с набитым ртом, ответил Ермилову:
– Хочешь пожить у нас? Найдется запасная койка.
Ермилов покачал головой, снял шапку и почесал голову. Его также донимали вши. Вши – это еще не самое худшее. Часто они – единственные спутники, которым можно доверять. Они пугают не привыкших к ним людей, но доставляют неудобства лишь тогда, когда их много. С ними можно справиться – просто ловить и убивать. Это делает солдатскую или тюремную жизнь не такой скучной. Мои знакомые музыканты из военного оркестра устраивали бега на барабанах и запускали наперегонки насекомых, мышей и лягушек. Крупные суммы денег переходили из рук в руки. Хозяева утверждали, что могут узнавать любимых бегунов. Я в это не верю. По-моему, все вши совершенно одинаковы. Чистота, как полагают англичане, это почти божественное свойство. Но в России есть секты, которые проповедуют прямо противоположное. Очень богатые сектанты отрезают себе половые органы, чтобы быть ближе к Богу. Деньги, которые они зарабатывают, переходят родственникам. Я считаю, что это отвратительно, но легко объяснимо.
Ермилов казнил парочку вшей, обдумывая предложение Стоичко. Потом отказался:
– У Гришенко это ненадолго.
– Ни одна девчонка не выдержит, – сказал один из есаулов, – если он задержится подольше. Как-то раз мне после него досталась маленькая еврейка. Я решил, что она стонет от удовольствия. Потом понял, что у нее сломана рука. Он ублюдок. Она была согласна. В таком случае не следует прибегать к силе. – Он гордился своим богатым опытом по части изнасилований. – Один взмах штыком творит чудеса. Бедная маленькая штучка. Я приказал Яшке быть с ней поосторожнее, когда пришла его очередь. Чувствовал себя идиотом.
Хотя их беседа меня интересовала, мне пришлось удалиться. Я спросил, где находится уборная. Ермилов посмотрел на меня.
– Та водка, видимо, оказалась дрянной. Вам нужно выйти. Я присоединюсь через минуту.
– Но где нужник?
– Вам не хватит времени отыскать его. Просто выходите. Эти товарищи огорчатся, если вас вырвет прямо на них.
Я двинулся к выходу, сопровождаемый громким смехом. Весь вагон-ресторан был загажен. Здесь стало плохо уже не одному человеку. От мысли о супе меня затошнило еще сильнее. Я вышел на смотровую площадку, а потом наружу вырвались водка, суп и хлеб. Меня зазнобило. Я закутался в старое пальто и оглянулся. Ермилов не мог меня увидеть. Впереди, в сумраке, был город. Там находились большевики и, возможно, более цивилизованные офицеры. Слабость в ногах усилилась, но я побежал и в конце концов благополучно скрылся, оставив позади две или три железнодорожных линии. Я пролез через дыру в заборе, прошел мимо дома с высокой крышей; из окна первого этажа на меня уставилось чучело орла; потом я свернул на боковую улочку. Александрия стала святыней. Здесь располагались только сам Григорьев и его ближайшие сподвижники. Почти ничего не напоминало о близком соседстве лагерной шушеры. Я подумал, погонится ли Ермилов за мной, чтобы пристрелить. Мимо проехали два грузовика. Их двигатели работали идеально. Неужели Ермилов преднамеренно позволил мне бежать? Мне показалось, что кто-то во дворе выкрикивает мое имя. Но было слишком шумно – вероятно, я ошибся. Или Ермилов подстроил мне ловушку? Может, он вместе с Гришенко придумал какую-то жуткую хитрость? Я чувствовал, что он нарочно проявил небрежность. Возможно, Гришенко утратил ко мне интерес, и Ермилов знал об этом. Следовательно, его не волновало мое возможное бегство.
Я пошел по улице. Дорогу вымостили деревянными брусками. Эти круглые деревяшки, очищенные от снега, напоминали облака в небесах. Я вернулся в цивилизованный мир. Я остановил казака, который был относительно прилично одет. Сказал, что я майор Пятницкий. Он, как я и надеялся, сделал вид, что имя ему знакомо.
– Атаман Григорьев уже вернулся? – спросил я.
– Не думаю, товарищ майор.
Я изобразил нетерпение.
– Где телеграф? Где центральный штаб? – Я проследил за его взглядом. Казак смотрел на здание, над которым был поднят большой красный флаг. – Там?
– Видимо, да.
– Очень хорошо. – Честь отдавать я не стал. Я слегка распахнул свое пальто, хотя уже изрядно замерз.
Это позволило ему разглядеть мой «штатский» костюм и, как я надеялся, убедило казака, что перед ним комиссар. Сочетание одежды было идеальным: я казался интеллигентом и при этом человеком из народа. Я немного задержался, нащупывая за подкладкой костюма пакетик на одну дозу. Снова воспользовался носовым платком, чтобы вдохнуть кокаин. Подкрепившись, я двинулся дальше. Коротко поклонившись солдату, стоявшему на карауле, я прошел через калитку у ворот, зашагал по дорожке и вскоре столкнулся с подпоручиком в зеленой с золотом казачьей амуниции.
– Я майор Пятницкий, – решительно заявил я. В мои намерения входило просто пробраться на телеграф и отправить сообщение, предположительно политического содержания, дяде Сене. – Я офицер инженерной службы. Атаман Григорьев приказал мне явиться сюда.
Подпоручик был примерно моих лет. Он внимательно выслушал рапорт, потом сопроводил меня в прихожую, в которой стояла обычная домашняя мебель, включая чучело медведя. Похоже, в Александрии любили чучела животных. На стенах висели оленьи головы. Это место, очевидно, служило маленькой гостиницей. Мы вошли в контору, где молодые дамы, как молодые дамы во всех конторах мира, возились с пишущими машинками и бухгалтерскими книгами. Одна щелкала счетами, пытаясь произвести вычисления, результаты которых быстро выписывала на большой лист бумаги. Она напомнила мне Эсме. Григорьев был не просто бандитом. Здесь располагался действующий военный штаб. Мы миновали этот рабочий улей и, преодолев деревянный барьер высотой по пояс, оказались у высокого стола. Офицер в мундире с сорванными эполетами посмотрел на меня утомленным, спокойным взглядом.
Он погладил свои нафабренные усы, потом повертел в руке какие-то документы. На вид ему было около пятидесяти.
– Товарищ? – Он явно испытывал неловкость, рассматривая мой костюм. – Вы из Херсона? Припасы уже доставлены? – Он сверился с каким-то списком.
– Я не офицер снабжения. Я майор Пятницкий. – Моя молодость и мое звание произвели эффект. Офицер подумал, что это невозможно. Но теперь мы жили в мире невозможного. Если я так молод и все же стал майором, значит, я должен быть важным политическим деятелем. Кокаин избавил меня от рези в животе и от нервной дрожи, хотя желудок у меня по-прежнему сжимало. – Мне нужно отправить телеграмму в Одессу.
Он в отчаянии опустил на стол усталые руки:
– Мы взяли Одессу?
– Еще нет. Но у нас там есть агенты.
– Телеграмма пойдет через Екатеринослав.
– Меня не волнует, как она дойдет, товарищ, – спокойно произнес я. – Естественно, она будет закодирована и пойдет под видом частного сообщения.
Он смутился:
– Возможно, нам следует посоветоваться с политруками.
– Я политрук.
– Но у меня нет полномочий.
Эти слова звучали по всей России. Их эхо разносится и до сих пор. Некогда полномочия перешли от Бога, через посредство царя, к его представителям. Они знали, где они и кто они. Их полномочия были основаны на Божественном изволении. Теперь, во имя коммунизма, они лишились полномочий. Мне следовало подумать, что первейшая обязанность коммуниста состояла в том, чтобы принять собственную ответственность и ответственность товарищей. Возможно, я слишком глуп, чтобы понять сложные рассуждения Маркса.
– Где политруки? – спросил я. Это была опасная игра, но только в нее мне и оставалось теперь играть. – Дело чрезвычайной важности.
– Наверху, товарищ. – Он указал как будто на небеса. – Разве вы не знаете?
– Я только что прибыл.
– Но не было никакого поезда.
– Я прибыл, мой друг, в грузовике. Меня похитил недисциплинированный бандит, который должен как можно скорее понести наказание.
– Не понимаю, товарищ. Кто это был?
– Сотник Гришенко.
Это для него что-то значило. Он нахмурился, записал имя, обвел его. Затем опустил перо в чернильницу, подчеркнул получившийся круг и поджал губы.
– Гришенко может чрезмерно увлечься.
– Он похитил меня из поезда, в котором я ехал в Одессу. Теперь вы понимаете меня?
Эти военные клише срывались с моих губ, как звоночки. Они возвещали обо мне. Мне не нужно было задумываться. Так говорили все, кто получил хотя бы мало-мальское образование. Только неграмотные и тупые, находясь в армии Григорьева, строили оригинальные фразы. Люди из штаба просто подражали офицерам, которых они убили и ограбили во время различных мятежей и побегов. Я инстинктивно понял это. Такие инстинкты нередко помогают, но они же могут усложнить жизнь.
– Вы займетесь Гришенко?
– Я сообщу об этом дивизионному командиру, товарищ майор.
– Многих других товарищей серьезно побеспокоили. Некоторых убили. Меня схватили. Это достаточно серьезно?
– Это очень серьезно.
– Гришенко нужно сделать строгий выговор. – Я хотел отомстить. – Понизить в звании.
– Он толковый боевой офицер, – начал человек, сидевший сбоку от меня.
Я развернулся в его сторону:
– Толковый? Он стреляет в товарищей!
Все женщины посмотрели на меня. Некоторые были симпатичными. Они походили на невинных монахинь, которые спокойно и легкомысленно трудились в аду. Мы еще раз миновали эту прелестную женскую обитель и поднялись по деревянной лестнице, покрытой красными коврами. На верхней площадке стояли несколько мужчин; они беседовали громко и грубо. При нашем появлении все разом умолкли.
– Пятницкий, – сказал я. – Из Киева.
Никто из них не принадлежал к числу партизан. Некоторые были одеты так же, как я. Другие носили аккуратную, невыразительную форму вроде той, которую предпочитали Троцкий и Антонов. У них были свежеотчеканенные большевистские знаки отличия: металлические звезды на шапках, тщательно пришитые фетровые звезды на рукавах. Красные непрерывно производили подобные детали. Многие только тем и занимались в Захваченной большевиками России, что шили новые красные флаги и чеканили новехонькие металлические звезды.
Собравшиеся приветствовали меня. Некоторые протянули мне руки.
– Я направлялся в Одессу. По делам партии. Меня буквально похитил с железнодорожной станции один из этих бандитов.
– Сохраняйте спокойствие, товарищ, – произнес маленький, преждевременно высохший субъект с мягкими губами и белыми руками. – Я Бродманн. Мы уже наслышаны о таком. Входите. – Он положил руку мне на спину и подтолкнул вперед, в комнату, заставленную жесткими стульями с прямыми спинками. На стене висела карта Южной Украины. Кто-то тихо затворил за нами дверь. Люди, казалось, расслабились. Они были напуганы еще сильнее, чем я. Бродманн сказал: – Мы – политики. Большевики и боротьбисты. Было предложение ликвидировать Григорьева. Сейчас это не обсуждается. Он лучший из возможных командующих. Я, конечно, не стану выступать против товарища Антонова. Он также добился блестящих успехов. Григорьев командует огромной армией. Он сочувствует нашему делу, но не подчиняется дисциплине. У него нет настоящего идеологического образования. Именно поэтому так важно не ссориться с ним, пока мы обучаем его отряды. Когда мы с этим разберемся, все проблемы будут решены.
Он рассуждал не меньше двадцати минут. Всякий, кому интересна подобная бессмыслица, может прочитать один из тех романов, которые получают Сталинские премии с таким же постоянством, с каким работают печатные станки. Я получил всю полезную информацию и потом спросил:
– Есть ли какой-то способ пробраться в Одессу?
– Вы были на последнем поезде, – произнес высокий худой мужчина в кожаном пальто, стоявший у окна. Он наблюдал за колонной грузовиков и артиллерии. – Вам очень не повезло. Французы перекрыли движение.
– Я могу послать телеграмму?
На мрачном лице мужчины появилось нечто похожее на усмешку.
– Григорьев использует телеграф как личное средство связи. Предполагается, что один из наших людей присматривает за ним, но он целиком во власти атамана и не сделает ничего без его прямого приказа. Нам разрешают использовать телеграф только для того, чтобы связаться с Григорьевым или – иногда – с Антоновым.
– А где Антонов?
– Пытается перехватить Григорьева. Ублюдок очень быстро перемещается, потому его так и поддерживают.
Я пришел в ярость. Вот он, социализм в действии: смерть, разруха и медленное удушение в тисках бюрократизма. Все мои отважные подвиги гроша ломаного не стоили. Мне следовало остаться с Ермиловым. Мой лучший план сводился к тому, чтобы сесть на поезд до Киева; по крайней мере, там я буду дома. Госпожа Корнелиус сумеет помочь мне.
– А ходят ли поезда в Киев?
– Вероятно, – сказал худой мужчина. Он сжал сигарету, как голодный ребенок сжимает материнскую грудь. – Нам не дают никакой информации.
– А Гришенко? Его накажут?
– Все зависит от решения Григорьева. Его самоуверенность возрастает, и он нас все больше игнорирует.
Бродманн предложил мне стул, брезгливо помог избавиться от пальто, затем бросил мою одежду в угол комнаты. Я, должно быть, выглядел несколько необычно в запачканном кровью костюме и рваных ботинках. Я сел. В окно я мог разглядеть, как мимо проходит колонна. Это впечатляло.
– Вы направили официальную жалобу? – спросил худой мужчина.
– Если офицер внизу что-то предпринял.
– Он расторопен, в отличие от остальных. Жалоба будет направлена начдиву.
Меня это вполне удовлетворило: по крайней мере, Гришенко ждут серьезные неприятности. Он, конечно, заслуживал гораздо худшего за то, что разлучил меня с семейством, за то, что называл меня мерзкими прозвищами и насильно удерживал в обществе грубых тупиц и циников вроде Ермилова. Мои новые товарищи спросили, чем я занимался в Киеве. Я сказал, что подрывал петлюровскую оборону. Это произвело впечатление. Я рассказал, как Гришенко заставил меня починить сломанный грузовик. Я был опытным инженером, выполнял сложные работы в одесских доках. Я чувствовал, как становлюсь значительной персоной. Пробелы в моих представлениях о партийном этикете остались незамеченными. Я был не просто политическим деятелем; я был активистом, поэтому занял очень высокое положение в их фанатичной иерархии. Я вспоминал об одесских знакомых, о месяцах, проведенных в Петрограде. Я небрежно упоминал об уничтоженных поездах и выведенном из строя оружии. Двое или трое из присутствовавших в комнате сказали, что им знакомо мое имя. Мое похищение воспринималось теперь не как обычное дело, а как серьезное, выходящее из ряда вон событие. Мое красноречие и гнев также помогли произвести нужное впечатление. Полагаю, я мог бы тотчас же собрать свою собственную социалистическую фракцию. За мной последовали бы тысячи.
В те времена легко было стать лидером. Многие русские не могли рассуждать самостоятельно. Они говорили: мы должны держаться вместе, сражаясь против общего врага. Но я не встретил ни одного общего врага, за исключением предрассудков и самомнения. Троцкий не собирался спасать Россию. Он хотел стать богом. Подобно богу, он стоял на крыше своего красного бронепоезда и провозглашал: «Да будет мир!» Троцкий отчаянно желал, чтобы его признали Спасителем, он напоминал ветхозаветного пророка. Потерпев неудачу, он выступил против Сталина. Интересно, как он предстал пред ликом Божьим после того, как Сталин изгнал его и он был убит ледорубом в мексиканском борделе. Представляю эту сцену – Бог стоит на крыше поезда и говорит Троцкому: «Ты прощен». Очень сомневаюсь. Этот ледоруб, вероятно, в аду очень пригодится.
Мои новые друзья провели меня в дальние комнаты постоялого двора. Здесь располагалась маленькая гостиная. Худощавый мужчина удалился. Мы уселись за ненакрытые столы, и нам принесли хорошую, простую, сытную пищу – партийцы в России всегда получают все самое лучшее. Я съел очень мало. Недомогание еще не прошло. Принесли кофе. Я выпил несколько чашек, избавивших меня от боли в животе. Мужчина вернулся. Все обсудили вопрос о том, где меня разместить на постой. Было лишь несколько свободных мест. Многие ночевали в спальных вагонах, стоявших на запасных путях. Я, конечно, не имел ни малейшего желания туда возвращаться и объяснил, почему.
– Я поговорил с нашим другом на телеграфе, – сказал худой мужчина. – У него тысяча сообщений от Григорьева. И все друг другу противоречат, как обычно. Я послал жалобу на офицера, который вас похитил. Ее получили и подтвердили. Офицер будет расстрелян. Я видел приказ.
Хоть мерзавец и заслуживал такой участи, я не хотел, чтобы на моих руках осталась чья-то кровь.
– Его не могли просто понизить в чине? – спросил я. – Или высечь?
– У Григорьева есть только одно наказание. Смерть. Вы великодушны, товарищ. Но нам может не представиться другого случая преподать урок этим погромщикам.
Одним Гришенко меньше – для мира это не так уж плохо, но я не хотел такой жестокой мести. Я не испытываю желания убивать. Я прежде всего ученый. Если бы судьба сдала мне карты получше, я теперь счастливо трудился бы в Национальной физической лаборатории или преподавал бы в Лондонском университете.
Наконец решили, что я поживу в комнате Бродманна. Его сосед должен был переселиться на станцию. Прежде чем удалиться вместе с маленьким революционером, я спросил худощавого:
– Когда приговор приведут в исполнение?
– Немедленно. Арест. Обвинение. Расстрельная команда. Я думаю, этот Гришенко не слишком полезен.
– Это правда. – Я только надеялся, что Ермилов не станет меня обвинять и разыскивать.
– Тогда у нас больше не должно быть неприятностей. – Он умолк, не договорив, как будто заметив свою непростительную ошибку. – Вы хотите присутствовать при этом?
– Нет-нет.
– Его должны расстрелять. Григорьев может вернуться, передумать и расстрелять нас вместо него. Такое случалось. – Его губы раздвинулись в улыбке.
Я шел с Бродманном по темному шумному городу, взбаламученному поспешными приготовлениями к сражению. Гудели грузовики, перевозившие оружие, ржали лошади. Конные и пешие отряды сталкивались, ссорились, а потом расходились своими дорогами. Мужчины в полном обмундировании мчались по улицам в штабы своих подразделений. Миновав все это, мы оказались на окраине Александрии, на улице, застроенной роскошными домами. Здесь, вдали от железной дороги, царило относительное спокойствие. Мы подошли к окруженному стеной саду. Бродманн отворил ворота большим ключом. Замок был очень старомодным. Его недавно отполировали. Мы зашагали по каменной дорожке. Эта часть города казалась идиллической: деревья, заборы, далеко отстоящие друг от друга домики с острыми крышами. «Наш хозяин, – сказал Бродманн, – отставной доктор. Он ненавидит нас, называет упырями. Но его любимое оскорбление – „еврей“. Мой совет – не спорьте с ним, он не представляет опасности».
– Евреи! Упыри! Вы убили императора! – Пронзительный голос донесся из дальней комнаты.
Мы с Бродманном поднялись по лестнице. Доктор не появлялся. Я думаю, что мы его напугали. Мышам достаточно просто пищать в своих безопасных норках.
В довольно чистой комнате кровати были разобраны, белье – в беспорядке. Но это выглядело гораздо лучше того, что предложил мне Ермилов до появления Гришенко. Сотник очень скоро пожалеет о том, что сделал. Он, вероятно, уже мертв. В комнате осталось немного мебели, только старая ширма, обычная военная лампа, груда брошюр и листовок, очевидно не принадлежавших нашему хозяину, пара плетеных кресел и две деревянных кровати; на таких до революции спали крестьяне или слуги. Бродманн опустил жалюзи, зашел за ширму и разделся, оставшись в красной фуфайке и длинных трусах, потом натянул длинную ночную рубашку из толстой фланели. «Доктор все продал или раздарил. Он боится грабителей. У него, вероятно, кое-что припрятано в саду. Но я не думаю, что он много заработал на своей практике. Не в этой деревне. Он знал Григорьева, когда тот был еще ребенком. Никто в Александрии, кажется, не любит атамана. Доктор говорит, что он хороший, защищает интересы царя. Он ведь и правда в это верит, а?» – Бродманн продолжал в том же духе. Он относился к числу политиков, которые любят говорить по делу. Его дешевый цинизм больше не тревожил меня; я зашел за ширму, разделся и лег в постель. На мне была лишь запачканная кровью рубаха, с которой я снял воротничок и манжеты. Мне стало очень холодно. После дозы кокаина я чувствовал беспокойство, но храп Бродманна помог мне мирно и крепко уснуть.
Меня разбудили рано утром. Снизу донесся шум. Потом по лестнице загрохотали тяжелые башмаки. Я испугался. Что-то запищал доктор. Я прочистил горло, но не мог заговорить. В полутьме я разглядел, что дверь медленно отворилась. Я сразу узнал силуэт Гришенко. Он избежал смерти и источал ярость – как источает жар только что вышедший из плавильни металлический слиток. Я знал, что это не кошмар. Я видел нагайку у казака на поясе.
Я помню только силуэт Гришенко; помню, как думал о его зверствах. Ни одной детали я не смог разглядеть. Помню его мощные руки. Я знал, что он пришел убить меня. Он держал два пистолета. Я задрожал и сел на постели.
Я ждал, что прозвучат выстрелы.
Но он развернул пистолеты и протянул их мне. Как призрак, явившийся с упреком. Он хотел, чтобы я убил его? Я дрожащими руками коснулся предложенного дара, ермиловских пистолетов с округлыми рукоятями, и неловко сжал их. В горле у меня разлилась желчь. Я не коснулся пальцами кнопок спускового механизма. Вес пистолетов давил на мои запястья. Они были слишком тяжелыми. Понятно, Гришенко бросил мне вызов. Я промолчал.
Зазвучал его голос – взволнованный, яростный шепот: «Это от Ермилова. Подарок».
Бродманн застонал в кровати. Гришенко безразлично посмотрел на него. Потом он, казалось, вовсе перестал обращать на Бродманна внимание и снова повернулся ко мне. «Он сказал, чтобы я принес их. Теперь они твои».
Я ничего не понимал.
В левом глазу Гришенко сверкнула слеза. Он вытащил один из своих длинных кинжалов из красных бархатных ножен и наклонился ко мне.
– Мы свободны. У нас свои законы. – Он прижал лезвие к моему подбородку.
– Почему? – Меня душил кашель, но я постарался сдержаться, опасаясь, что напорюсь на острие кинжала. Лезвие касалось яремной вены. Я чувствовал, как кровь пульсирует совсем рядом со сталью.
– Встань, жид!
Я вспомнил предостережение Ермилова. Гришенко – дикий пес, который нападает только тогда, когда замечает признаки страха. Я нажал на кнопки. Оружие не было заряжено. Пистолеты не выстрелили. Гришенко склонился еще ниже. Его дыхание обжигало:
– Встань!
У меня не было выбора. Я положил пистолеты на кровать и встал перед ним в одной рубахе. Ноги и промежность тут же закоченели. У меня кружилась голова. Он положил свободную руку мне на грудь и подтолкнул к стене.
Бродманн начал скулить какие-то лозунги, сидя в кровати в ночной рубашке. Он лепетал о правах и моей важности. Казак рассеянно бросил в его сторону: «Я тебя убью. Заткнись».
Мне показалось, что лезвие распороло кожу на шее.
Гришенко ухватил меня за плечо. Я подумал, что он сейчас сломает мне кость. Нож медленно опустился на мою залитую кровью рубашку и рассек ткань. Лезвие коснулось паха.
– Он сказал: ты поймешь, что для него значило это оружие. Он был святым. Я любил его. Я защищал его. Я думал, ты поддержишь его. Он не был счастлив. – Острие вонзилось мне в одну ногу, потом в другую. Я почти не почувствовал боли, но увидел кровь. Я не умолял его. Моя честь осталась со мной. Я не унижался, как унижались другие. Когда он приказал мне прислониться к стене, я повиновался. – Он хотел, чтобы ты жил. Чтобы выжил, так он сказал. Я не понял его. Но Ермилов был ближе к Богу, чем я. Ты принимаешь его дар?
– Да, – сказал я. Кажется, я поблагодарил его.
– Ермилова расстреляли вчера вечером. За то, что он позволил тебе сбежать. Не потому, что твои большевики так приказали. Он попросил меня отдать тебе пистолеты. Вот я и принес их.
Я не мог видеть его движений. Нож был прижат к моей груди, но Гришенко доставал из-за пояса что-то еще.
– Он заставил меня пообещать, что я не убью тебя.
– Что…
– Заткнись. Я пообещал. Но сказал, что должен буду удостовериться: ты его запомнишь. Не думаю, что ты сбережешь его пистолеты.
Я услышал ужасный свист нагайки, рассекавшей холодный мрачный воздух. Мы закричали. Я знаю, что такое боль. Эта боль была самой сильной, что мне довелось испытать. Я не ожидал ничего подобного. Удар был нанесен так ловко и продуманно, что все кости остались целы. Но на моих ягодицах до сих пор видны следы от маленьких свинцовых грузил.
– Теперь ты запомнишь Ермилова, жид.
Гришенко толкнул меня на кровать так, чтобы мое лицо уперлось в старинные пистолеты. Я заплакал. Он постоял, уставившись на меня, медленно пряча нагайку за пояс, а нож – в ножны, потом развернулся и вышел, бесшумно прикрыв за собой дверь. Выродок удалился. Выродок, убивший своего друга, чтобы спасти собственную шкуру.
А пистолеты все еще у меня. Мне недавно предложили за них тысячу фунтов.
Глава пятнадцатая
История не повторяется никогда; зато повторяются события, и постепенно, наблюдая за ними, вы понимаете, что люди везде и всегда похожи. Меня постоянно спешили осудить. Я редко был в чем-то виноват. Неужели моя вина лишь в том, что окружающие переносят на меня свои надежды и страхи? Я ученый, мой разум – разум ученого. Немногие это понимают. Меня унизили. Гришенко унизил меня. Бродманн говорил о произволе и недостатке дисциплины, использовал свой марксистский жаргон, осуждая поведение Гришенко, но я не мог заставить себя разбираться в этом деле. Я склонен к всепрощению. Мне нравился Ермилов. До некоторой степени я мог даже понять скорбь Гришенко. Тем не менее я не мог сидеть на твердой поверхности в течение многих недель. Позже я передал пистолеты на хранение госпоже Корнелиус и не видел их до 1940 года. Теперь они представляют большую ценность.
Доктор по приказу Бродманна осмотрел меня. Я завоевал его симпатию, хотя все еще оставался «гадюкой», «евреем» и «цареубийцей». Если б я был один, то, возможно, согласился бы со всем, что доктор говорил о красных, но Бродманн вертелся рядом. Очевидно, он опасался, что бедный маленький доктор убьет меня. Теперь нам предстояло встретиться с Григорьевым. Для этого следовало успеть на поезд. Когда мы ехали на станцию, я ощущал лишь отголосок боли. Только на следующий день я почувствовал онемение и мучительные страдания, невыносимые и раздражающие.
Я увидел Гришенко еще раз, когда садился в поезд. Он усмехнулся мне. Я покраснел, как девочка. Никто не заметил моей реакции. Бродманн был слишком озлоблен, воспринимая Гришенко как моего врага. В украденной роскошной одежде казак ускакал прочь, настегивая лошадь по шее и лопаткам все той же нагайкой. Округлые рукояти пистолетов касались моих бедер. Они легко уместились в карманах моего густо населенного вшами пальто. Там же были спрятаны мои документы и диплом.
Мы удостоились особого внимания. Нас разместили еще лучше, чем в киевском поезде. Сиденья, слава богу, были мягкими. Бродманн сел напротив меня, у окна. Он продолжал ворчать, бормотать и осматривать грязный снег, отыскивая следы Гришенко. Я рассмеялся и сказал ему, что это ерунда.
– Обычное дело! – воскликнул Бродманн. Правосудие для них – разновидность мести. Вот с чем нам приходится иметь дело!
Как ни странно, я в то утро чувствовал себя хорошо и ощущал собственное превосходство. Я усмехнулся:
– Худшее, что могло случиться, уже случилось, Бродманн. Побывали бы вы в моей шкуре!
– Я ненавижу насилие. – Его мягкое, морщинистое лицо исказилось.
– Тогда вы ошиблись в выборе профессии. – Вошел наш тощий друг; он снял длинное пальто, аккуратно свернул его и положил на верхнюю полку.
– Я был пацифистом. Большевики обещали нам мир. Я работал для них на фронте – издавал газеты и брошюры. – Бродманн снова опустился на сиденье, когда поезд тронулся с места. – Кто-нибудь знает, куда мы на самом деле направляемся?
– Григорьев сказал, что хочет встретиться с нами в своем полевом штабе. У него есть план: захватить Херсон или Николаев. Возможно, он уже там.
– Эти города слишком хорошо защищены. Греки и французы в одном, немцы в другом.
– Немцы не очень хотят сражаться за союзников и белых. Они могут присоединиться к нам.
– Но не к Григорьеву. Он вслух говорит, что думает о немцах. Они ему не доверятся.
Поезд мчался по широкой, необозримой степи. Грязь сменилась чистотой последнего снега. Он должен был очень скоро растаять. Война могла завершиться к весне. Успехи Григорьева и большевиков не оставляли сомнений. Скоро, вероятно, ожидалось решающее сражение. Мое единственное опасение заключалось в том, что битва начнется в Одессе раньше, чем я смогу обеспечить безопасность матери и Эсме. Наступление Григорьева казалось непрерывным и неизбежным. Если Махно присоединится к нам, белые и союзники будут уничтожены. Я молился о разногласиях между различными левыми группировками. Ничто не разъединяет людей так, как социализм. Цвет их флагов напоминал розы, которые я подарил госпоже Корнелиус, – насыщенный, блестящий кроваво-красный цвет. Цвет моей собственной крови. Когда я поранился о шипы, кровь смешалась с лепестками: она стала моей сестрой, моей матерью, моей подругой. Роза. Я не оглядывался назад. Я не чувствовал ностальгии. Меня обманули. Таков наш мир. Божий замысел откроется на Небесах. Я лишился веры. Все Божьи дары были у меня отняты. И вот я продаю в точности такие же меховые пальто, как и те, которые в прежние времена вынужден был носить, хотя и более чистые. Молодые люди с напыщенным видом шляются туда-сюда, как опереточные чекисты. Один из них носит анархические символы. Что он может знать об анархии? Он немного говорит по-русски. Я спрашиваю его: «Что это такое?» Показываю на значок. Он говорит, что «А» означает «анархия». Я говорю: почему бы не носить значки от А до Z, чтобы Z означало сионизм; ведь это – то же самое. Он решил, что я забавный. Какой идиот! Все эти убийства и похищения! Анархисты были игрушками в чужих руках и до сих пор остались идиотами. Они отвергли власть и все-таки ответили за свой терроризм. Что они получили взамен? Что получил мир? Анархию? Отсутствие правительства? Нет, то же самое правительство, только намного хуже. Вселенная расширяется. Вселенная остывает. Скоро повсюду будет снег.
Снег укроет и сдавит Землю. Все покроется льдом. Лед сожмется до исчезающей точки. И тогда не будет ничего. Это закон физики. Это энтропия. Это второй закон термодинамики. Это тепловая смерть Вселенной[136]. Это конец. Теория эха[137], которую недавно разработали: что она такое, если не надежда? Но что есть надежда, если не вера? У людей остается теория эха: ничто во Вселенной не исчезает, ничто не умирает. Что они сделали? Всего-навсего заново открыли Бога! Вот в каком состоянии сегодня пребывает наука. Она расходует ресурсы и деньги народа, выясняя то, что мир знал с начала времен и будет знать до конца: Бог любит мир. Меня учили другому. Моя наука – это мир механизмов и двигателей, а не теоретическое бормотание. Все хотят быть Эйнштейнами. Эйнштейну хватило совести – он указал источник своей теории. Он был благочестивым дураком. Русские называют таких «восторженными». При этом он был евреем и сионистом. Но, возможно, я оказываю ему слишком много чести. Как эти два еврея запутали весь мир! Они принесли в двадцатое столетие больше суеверий, чем все наши ученые сумели изгнать из девятнадцатого. Секс? Фрейд спутал секс с привязанностью, с потребностью в любви. Физика? Она стала поэзией. Все так говорят. Люди строят огромные лаборатории, чтобы проверить поэтические теории. Где же былой прагматизм?
Поезд остановился примерно через два часа. Мы оказались посреди голой степи. Хорошо организованный военный лагерь был разбит на ближайшем холме. Солдаты побрели к нам. Они несли большие бидоны с супом. Еду распределили по всему составу. Остановку запланировали для того, чтобы все в поезде смогли поесть. Неважно, являлся Григорьев бандитом или нет, но он достаточно разбирался в военном деле, чтобы поддерживать линии коммуникаций. Снабжение в его армии работало превосходно. Он управлял огромной территорией, контролируемой с помощью железной дороги и телеграфа. Григорьев мог быстро передавать новые приказы. Белые на юге уделяли гораздо меньше внимания средствам связи и скоростному транспорту. Они с подозрением относились к техническим новшествам. Красные, надо сказать, получили немалое преимущество. У них было меньше самолетов, но они с готовностью использовали воздушный флот. Белые надеялись только на кавалерию. Они были храбрыми романтиками. А расчетливые евреи смотрели в будущее. Но они видели не все. Я согласен, что все это было преступлением, но не хладнокровным убийством, а местью. В книгах пишут, что в лагерях погибло всего два или три миллиона человек. Я полагаю, что не менее шести миллионов. Сталин убил еще больше. Смерть властвовала в двадцатом столетии так же, как в шестом, четырнадцатом и семнадцатом. Memento mori[138].
Западные демократические страны не должны забывать о золотом веке Флоренции[139]. Савонарола через месяц уничтожил его. Свобода и ответственность – одно и то же. А молодежь позабыла об этой простой истине. Дисциплина, а не мечи – вот что спасло Спарту. Братская любовь спасла Спарту. Но она не спасла тех несчастных, благородных греков в Херсоне, когда слуги Сатаны напали на них. А еще говорят, что я ничего не знаю о вере. Нет, я пришел к вере. Мое сердце и мой разум привели меня к благородной вере в Россию; Россия противостояла Африке и Азии, Россия пустила корни здесь, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже – всюду. И моя вера мертва? Истинная вера Константина, который сделал Рим христианским, который основал Византию? Нет веры более чистой. Это вера греков, которые изобрели христианство. Евреи украли ее и вернули, как нечто совсем новое. Евреи всегда так торговали. Павел понимал это. Греки дали нам все – а мы снова и снова предаем их. Подумайте о Кипре. Британцы любят ислам. Они дают мусульманам землю для мечетей. Они приветствуют их в книгах; они призывают их покупать дома на Парк-лейн. Они называют своих героев в честь Аравии. Они флиртуют с исламом, как молодая девочка флиртует с демоном-искусителем, который собирается сделать ее проституткой. Они бесхитростны. Им не хватает древнего опыта России. Остерегайтесь Карфагена! Я напечатал несколько брошюр за свой счет. Нет никакого смысла что-то объяснять британцам. В лучшем случае надо мной смеются. Я храню брошюры у себя в магазине. «Национальный фронт»[140] – бессмысленная организация. Я не боюсь индусов. И не боюсь китайцев, которые владеют рыбной лавочкой напротив моего магазина. Неужели никто ничего не видит, кроме меня? На улицах полно шпионов. Это похоже на кошмар. Я единственный, кто понимает, что происходит. А что общего у нацистов и «Национального фронта»? Только прыщи и зависть.
Коммунисты и иностранцы украли наши души, нашу кровь, наши умы. Но они – не марсиане. Это вам не «Война миров». Нам не следует ждать естественного решения проблемы. Тело сопротивляется раку. Оно чаще всего побеждает. Новые клетки уничтожают инородные тела. Опасность возникает лишь в тех случаях, когда в дело вступает интеллект. Многие умирают, лишь узнав диагноз. Рак приходит и уходит, тело инстинктивно сражается с ним. Вот и нам нужно бороться. Нет существа более эффектного, чем Змей Горыныч. Chur menia! Chur menia! Но кто станет меня слушать? Не китайцы, не африканцы, не индусы. Не итальянцы. Даже греки не станут слушать. Многие знают, что за публичной библиотекой расположена сербская церковь. И в Бэйсуотере есть греческая церковь. Я сохраняю оптимизм. Но теперь использую другие, более тонкие методы. Нынче повсюду мужские и женские монастыри, католические, ирландские и негритянские часовни. Некоторые из молодых людей, кажется, начали кое-что понимать. Возможно, мы еще выкарабкаемся. Когда выдворим всех иностранцев и переселим Голдерс-Грин[141] в землю обетованную. Но я думаю, что уже слишком поздно. О Византия! Приди же к нам с твоими всадниками и твоими мечами, приди и спаси нас!
Поезд снова тронулся. Супом здесь именовались посредственные щи с большим куском мяса. Бродманн уснул. Другие читали или делали заметки в записных книжках. Именно так они вели нашу Гражданскую войну И все-таки у каждого в том вагоне, вероятно, на руках было больше крови, чем у дюжины казаков. Иногда рядом с поездом скакали кавалеристы. Всадники салютовали пассажирам и просто размахивали руками. Если мы ехали медленно, кавалеристы могли перекрикиваться с пассажирами. Поезд вез оружие и солдат. Все вагоны были бронированы. Некоторые, наш в том числе, просто прикрыли разнородными металлическими листами, прибитыми как попало. Окна были в основном незащищенными. В случае нападения нам следовало бросаться на пол и надеяться на лучшее. Но никаких нападений не произошло. Григорьев и большевики принесли в те края некое подобие мира. Это случилось незадолго до того, как их пути разошлись. Как и белые, они все ненавидели националистов. Но Дьявол обитал среди нас. Никогда Россия не была так разделена. Только теперь раны заживают, но ислам и сионизм по-прежнему угрожают славянской расе.
Я должен был встретиться с Григорьевым на следующий день. По своему обыкновению, он разместил полевой штаб в большом городе. Сидя на белом арабском скакуне, как Скоропадский, он устраивал смотр своим отрядам: пестрым, нарядным казакам в разнообразных одеяниях, вооруженным хорошими карабинами. Их кони, как всегда, были превосходно ухожены. Запорожский атаман оказался низкорослым, с обритой наголо головой и бледным лицом монгольского типа. Григорьев ни капли не напоминал актера. Он превосходно управлялся с лошадью. Его форма была по-настоящему казачьей, без дурацких старинных украшений. Он черпал силу в своих воинах, как делал Константин, вернувшись из Англии, чтобы заявить права на Римскую империю[142]. Он был истинным солдатом, отважно сражался на войне. Он смеялся, жестикулировал, но при этом железной рукой управлял своей лошадью, она никогда не сбивалась с шага и не поднималась на дыбы. Таким образом он демонстрировал интеллект и волю, скрытые под внешней бравадой. Вот почему казаки позволили Григорьеву стать их повелителем и вести в атаку на крупные украинские города. Я понял, почему Ермилов собирался стать незаменимым для атамана, почему Гришенко был настолько полезен. Если бы Ленин или Троцкий обладали половиной мужества Григорьева, нам никогда не пришлось бы сносить ужасы и последствия военного коммунизма. Среди всей этой мерзкой шайки нет ни единого человека, которому я стал бы служить так охотно, как Григорьеву; и все же я продолжал опасаться его последователей. Делая вид, что не одобряет бандитов-погромщиков, он тем не менее использовал их в собственных целях, как королева Елизавета использовала своих пиратов. В конечном счете, несмотря на предположение Ермилова, их могли устранить так же, как вышвырнули Лафита[143], сыгравшего свою роль во время американской революции. Троцкий с легкостью уничтожил большинство своих союзников к 1921‑му. Он приглашал их для мирных переговоров или политических встреч и убивал. Троцкий усвоил жестокость бандитов, но не усвоил их отваги. А я в таких делах просто дитя.
Поезд на следующий день встал на запасном пути, а затем доставил нас от лагеря Григорьева до ближайшего большевистского отряда. Несмотря на большое количество людей в форме, порядка здесь не наблюдалось. Многие красные казаки были пьяны, хотя чекисты пытались контролировать их. Эти комиссары обладали гораздо большей властью, чем обычные офицеры. Их все очень боялись – именно этого и добивался Ленин. Я был вдвойне доволен, что теперь оказался активистом; товарищи все еще обсуждали, как организовать мое путешествие в Одессу. Мы приблизились к городу, полагаю, на тридцать или сорок верст. Я не слишком хорошо умею определять время и расстояния. Николаев, если именно он был местом нашего назначения, располагался сравнительно близко к Одессе, восточнее у побережья. Херсон находился еще дальше к востоку, на Днепре, а Николаев – в устье Буга.
Эти два города имели стратегическое значение. Они располагались на главных железнодорожных путях, у рек, ведущих прямо к морю. Большие корабли швартовались в обоих портах. Захватив эти города, армия, вышедшая из Александрии, могла бы атаковать Одессу, которую охранял большой, прекрасно вооруженный гарнизон белых и союзников. Вот о чем все спорили на протяжении нескольких дней. Силы союзников, интервентов, защищали Херсон, а колеблющиеся немцы занимали Николаев. Города были уязвимы, несмотря на поддержку французских и английских военных кораблей. Однако Григорьев с большевиками много спорили о стратегии. Я подозревал, что Антонов хотел приписать все победы себе. Бродманн ежедневно утверждал, что убедил партизан в правоте большевистского дела. По его словам, они теперь стали именоваться большевиками, а не боротьбистами. Меня это не впечатлило. Они хватались за лозунги и партии ради простого удобства, потому что больше не могли сражаться за Бога. Белые хотя бы понимали, что для них ценно. Если бы у них были лидеры получше, они вернули бы нам Бога и царя. Римская империя никогда не погибнет. Она живет в духовном мире. Бог вернется в Россию. Религиозное возрождение продолжается. Византия остается – на земле и в сердцах людей.
Поезд проезжал по несколько верст в день. Грязный снег таял; из-под него показывалась разоренная земля; как будто повязки снимали с незаживших ран.
То, что появлялось на поверхности, подобно обломкам потерпевших крушение и подорванных кораблей, было отвратительно: мы видели наполовину съеденные человеческие трупы, обглоданные не дикими животными, но мужчинами и женщинами. Крестьян теперь расстреливали за людоедство и продажу человеческого мяса под видом мяса животных. Мы видели сожженные дома; остовы благородных старых особняков; сломанные экипажи и плуги; трупы коров и овец – шкуры и шерсть гнили на протухших тушах. Это был наш позор. Мы спрятали его под покровом зимы, как поступали всегда. Но когда почки набухли на деревьях, не уничтоженных снарядами, когда ростки поднялись над землей, не оскверненной нефтью, огнем и мерзостью людской, – тогда наши прегрешения были явлены. Ни один враг не нес ответственности за эти злодеяния, разве что Карл Маркс. Все это было сделано во имя украинской нации, во имя России, во имя единства, во имя гуманизма, во имя братской любви. Такого постыдного искажения истинных целей не ведала даже история Крестовых походов. Гроб Господень выкрали из наших сердец. И грех, как всякий грех, сделал наших солдат настоящими дикарями. Истории, которые мы слышали, были ужасны: о евреях и белых, поджаренных на костре на стальных листах, о жестокостях и насилии; о самых омерзительных сексуальных извращениях, жертвами которых становились и мужчины, и женщины.
Весна пришла, но мир не вернулся. По-русски Вселенная именуется «миром»; и в то же время мир – это все мы; все эти понятия имеют единый источник. Ведь мы – это Земля. Именно поэтому мы говорим о нашей земле, о нашей вселенной, о нашем мире, о нас; именно поэтому иностранцы редко понимают эту общность. Осквернить нашу землю значит уничтожить все. Мы не мистики. Все мистическое – в нашем языке. Дело в его созвучиях. Это основа нашей великой литературы, нашей поэзии, наших песен, нашей музыки. В русском языке присутствуют такие связи, которых немец, например, не может постичь, если он не говорит по-русски идеально и с любовью. Степной житель тревожится и впадает в отчаяние, если на его землю вторгаются противоестественные силы. Казаки сражались не за большевизм, не за белых, зеленых или черных; они шли в бой против шоссе, железных дорог, городов. Их идиллическая Россия – Россия бескрайних небес и маленьких деревень, лошадей и рогатого скота. Если бы казаки смогли принять двадцатое столетие, мир показался бы им прекрасным. Они смогли бы обрести свободу, которой не знали прежде. Но они нападали на города, уничтожали их, грабили и тащили добычу к себе домой. Даже Григорьев, даже Махно, хитроумные стратеги и грамотные люди, не могли понять, что города – это основа мироздания. Это непонимание стало главной причиной их поражения. Контроль над городами – вот ключ к свободе, которую они искали. Они говорили об этом, но не чувствовали. Казак должен почувствовать нутром, прежде чем что-то принять. Во всем мире евреи правили городами; еврей – первый настоящий, прирожденный современный горожанин. Даже местечковые евреи ненавидели степь.
Наша украинская война стала первой большой войной между городом и селом. Чтобы выжить сегодня, нужно заключить союз с городом. Люди, которые уезжают из городов, в лучшем случае – сентименталисты, в худшем – дезертиры. Украина была страной богатых промышленных городов, использующих наши природные ресурсы; страной богатых земледельцев, возделывающих наши бескрайние пшеничные поля. Украина продемонстрировала и проблему, и ее решение – гораздо проще, чем Россия. Именно поэтому мы так много страдали – и продолжаем страдать до сих пор. Я говорю не из жалости к себе, во мне ее нет. Я рассуждаю объективно. Проблему можно было определить, найти решение. Украина могла бы стать первой по-настоящему современной цивилизацией. Троцкий и националисты, столкнувшись, помешали этому. Здесь сошлись две зловещих силы. Проклятые эгоисты – они думали, что все знают лучше других. Хаос и древняя ночь вырвались на волю.
Мы с Бродманном стали в каком-то смысле друзьями. Он восхищался мной и часто просил совета. Я делал все, что мог, стремясь избавить его от крайностей. Я выдумывал случаи из предполагаемой жизни красного активиста. В итоге моя репутация укреплялась. Когда мы переезжали из одного лагеря в другой, зачастую требовались мои технические навыки. Я все еще оставался заключенным. Конечно, они не понимали этого. Я неоднократно говорил, что буду для них гораздо полезнее в Одессе, но на мои слова не обращали внимания. Они начали всерьез обсуждать убийство Григорьева – получили прямые указания от своих московских начальников. Атаман отбился от рук, отказывался исполнять приказы, склонял большевистских связных на свою сторону, сбивал с толку их лучших людей. Меня попросили изготовить адскую машину, чтобы взорвать казачьего вождя. Совесть не позволила бы мне совершить подобное. Я утверждал, что трудно достать материалы. Конечно, они предложили реквизировать все, что мне необходимо. Я сказал, что это опасно. Человек, который взорвет бомбу, может также погибнуть. Они готовы были использовать кого-то, не особенно полезного для партии.
Я упомянул, что могут погибнуть и другие люди, кроме Григорьева. Мне ответили, что люди, окружавшие атамана, несли такую же ответственность за происходящее, как и он сам. Я услышал знакомые заклинания, заученное большевистское обоснование хладнокровного убийства. Нечто подобное утвердилось в сознании социалистов всех мастей, включая национал-социалистов, которые вредили своему собственному делу, перенимая тактику противников. Они также унаследовали склонность большевиков к эффектным неологизмам. Ленин, Троцкий и Сталин за многое ответственны. Сталин считал себя филологом. Узнав об этом, я ничуть не удивился. Это для него было просто – он сам изобрел язык, который собирался изучать. Замятин проницательно и доходчиво рассказал об этом в романе «Мы». Все его идеи были украдены Хаксли и Оруэллом, этими злосчастными подражателями Герберту Уэллсу[144]. Анархистам же всегда плохо удавалось изобретение новых слов, хотя их лучшие лозунги нередко использовались большевиками. В этом, вероятно, и кроется причина их краха – анархисты все усложняли. Ленин понял, насколько эффективным может быть упрощение. Cheka. Это слово – пугающая аббревиатура, образованная от словосочетания «чрезвычайная комиссия». Мы бы с настороженностью отнеслись к этим словам, но не испугались бы их. В скандинавских языках слово, обозначающее ужас, звучит как «Skrek». «Шкрек» выражает ту же смесь холодности и суровости – сугубо деловой звук. До чего чекистам нравилось использовать эту аббревиатуру!
Cheka! – и все снимали шапки и шляпы. Мужчины и женщины даже падали на колени. Русские едва ли поняли, что они больше не рабы, кроме тех, которые именовались товарищами. Cheka! – и тотчас комиссарам подносили ничтожные запасы, документы и прошения о помиловании. И пулеметы стучали: cheka-cheka-cheka, давая понять, что такое помилование: быстрая смерть вместо медленной. Конечно, чекисты начали в конце концов уничтожать друг друга. Они погибали в подвалах, в канавах, в лагерях, пока прозвище не стало вызывать такое отвращение, что его пришлось изменить; и Берия начал свое правление, нашептывая Сталину в ухо пугающие слова. Говорят, он рассмеялся, когда убедился, что Сталин в самом деле умер. Он гордился, как будто это была его заслуга. Берия думал, что одержал окончательную победу. Он мог стать еврейским царем, воссевшим на российский престол, но, к счастью, повторил судьбу Распутина, всего лишь дилетанта по сравнению со своим знаменитым последователем. Сталин готов был перейти к истреблению евреев. Вот почему Берия отравил его. Но эти факты замалчивают. Что Сталин сделал, например, с трупом Гитлера? С точки зрения вечно подозрительного грузина, можно было действовать по праву вендетты. А может, Сталин был первым роботом, человеком из стали? Какую шутку сыграл Берия со всем миром? В России до сих пор КГБ называют «чека» – это слово стало жаргонным.
Наконец Бродманн мне доверился: он не хотел участвовать в заговоре. Я сказал, что совершенно с ним согласен. Мне как профессиональному саботажнику убийство Григорьева казалось делом низким. «Моя агрессия направлена на механизмы и средства связи», – заметил я. Теперь мы жили в спальном вагоне. Он стоял на запасном пути где-то к северу от Николаева. Мы очень редко получали новую информацию. Григорьев, казалось, не мог решить, на какой город ему напасть сначала. Антонов вообще не хотел, чтобы Григорьев начинал наступление. Он утверждал, что желает спасти граждан от произвола. Он в самом деле должен был показать своим хозяевам, на что способен, должен был превзойти успехи Григорьева. Тот, в свою очередь, каждый день рапортовал о десятке побед. Половина якобы захваченных городов на деле были цыганскими таборами или штетлами. Но хвастовство производило желаемый эффект. По мере приближения к большим городам к Антонову присоединялось все больше людей: залпы угрожающих телеграмм предвещали другие залпы, которые могли уничтожить всех сопротивляющихся; эти вестники устрашали гарнизоны и подрывали боевой дух солдат.
В марте мы узнали, что Григорьев штурмом взял Херсон. Его телеграммы «Всем, Всем, Всем!» были разосланы по всему югу Украины. Город был захвачен от имени трудящихся мира, но содержание сообщений казалось вполне ясным: Григорьев, атаман запорожских казаков, сделал то, чего не смогли сделать большевики. Погромы продолжались. Даже Антонов, управлявший Киевом, не мог остановить разграбление Подола солдатами Красной армии.
Разносилось великое множество слухов. Мы находились в пятидесяти верстах от линии фронта и не получали точной информации. Меня интересовало лишь то, что касалось непосредственно меня. Я до сих пор не мог получить разрешение на проезд в Одессу. Антонов стал подозрительным, он думал, что большевики играют в счастливые кораблики с Григорьевым. Этот морской термин обозначает переход одной команды на сторону другой. Большевики, официально командовавшие нерегулярными частями, исполняли все приказы Григорьева. Мы отнюдь не были уверены в том, что вождь сможет удержать все, чего добился. Вот почему Антонов хотел ликвидировать Григорьева.
В Херсоне произошло следующее: Григорьев выпустил ультиматум, адресованный гарнизонному командиру. Достойный грек ответил, что его обязанность – защищать город до последнего. Он запер на складе заложников-коммунистов и их семьи. Французские фрегаты из устья реки открыли огонь по казакам Григорьева, мчавшимся на Херсон. Французы использовали зажигательные снаряды. Они подожгли склад. Сотни мужчин, женщин и детей сгорели заживо. Месть Григорьева была ужасна. Французы бежали, но ни один грек не спасся. Их убивали – неважно, сопротивлялись они или сдавались. Григорьев сложил их тела на корабль и отправил судно вниз по течению, к Одессе: первый современный корабль мертвецов. Известие о боевом духе французских войск потрясло немецкий гарнизон в Николаеве.
В Херсоне оказалось немало добычи: танки, орудия, боеприпасы, еда. Город разграбили в истинно казачьем стиле. Григорьев продолжал притворяться, что он служит советской власти. Его люди продавали свою добычу и в нашем лагере, и во всех селениях, где они останавливались: женские платья, костюмы, ботинки, распятия, иконы, картины, деликатесы, антиквариат. Множество буржуев искало убежища в Херсоне. Казаки нашли себе множество жертв.
Николаев сдался вскоре после этого, и Григорьев собрал огромное войско. Тысячи казаков, гайдамаки, партизанские отряды, танки, пехота в бронепоездах – вся эта армия начала наступать на Одессу. Меня переполняла паника. В любой момент что-то могло случиться с моей матерью и Эсме. Я обратился через полевых командиров Антонова за разрешением на поездку в Одессу, но ответа не получил.
До меня дошел новый слух. Один из наших поездов отправлялся на Одесский фронт. Он вез большевиков. Антонов надеялся усилить армию Григорьева и сделать вид, что победа – дело рук большевиков. Я наконец получил назначение на должность политрука, вместе с Бродманном и еще каким-то человеком: я хорошо знал город, мог связаться с большевиками, уже ведущими пропаганду среди французов, местных жителей и белых.
Я разместился в штабном вагоне с дюжиной полупьяных красноармейских офицеров, Бродманном и третьим политруком. Его фамилия была, кажется, Крещенко. Когда поезд тронулся, офицеры сообщили о полученных приказах. Мы не ехали в Одессу. Наше первое задание было другим – войти в контакт с Махно, заручиться его поддержкой и помощью в свержении Григорьева, которому Махно явно не симпатизировал и поддерживал неохотно. Красноармейцы говорили, что французы слабы, раздроблены, запутаны противоречивыми приказами и не понимают, что происходит. Московские большевики могли бы то же самое сказать и о себе. Они не понимали позиции Махно и Григорьева. Их отвращение к нерегулярным войскам было очевидным – оба раньше служили в царской армии. Я сочувствовал большевикам, но мне приходилось выживать среди презренного сброда. Я по, крайней мере, знал, как разгорались страсти. Даже красные казаки полагали, что русские шовинисты не были настоящими коммунистами. Казаки, как они утверждали, были коммунистами по происхождению и опыту. Единственное, что понимал Троцкий: украинские партизаны не подчиняются дисциплине. Ему было достаточно легко смириться с остатками царской армии; но воинов-крестьян он не переносил и уничтожил бы их всех, как только они сделали бы свою работу. Сталин довел дело до конца. Каждый успех большевиков вел к возрождению царских порядков.
Скажите мне, кого реабилитировали? Скажите мне, кто несет ответственность за панисламизм? Теперь у нас нет больше казаков.
Призраки этих убитых греков носятся над туманными водами Днепра; они взлетают и опускаются на кровавые волны Черного моря. Их души сгинули без следа. Греция, колыбель цивилизации, твои дети опозорили твое имя! И если бы Кассандра оказалась там, если бы она увидела и предостерегла их, – разве они послушали бы? Добрый не слушает; невинный не слушает; слушает только злой. Лица греков разбиты ударами винтовочных прикладов. Одежда сорвана с их тел. Они свалены, как протухшее мясо, в лодки и отправлены вниз по течению великой русской реки к нашему собственному морю. Как, должно быть, потешались турки, когда узнали о том, какие зверства мы творим друг с другом. Благородных греков предали и французы, и русские. И мы еще говорим о демократии… Мы до сих пор используем их язык, религию, культуру, логику, и мы позволяем им гнить. Мы бросили их на растерзание неверным. Греция – наш общий источник, но мы не замечаем этого. Наш образец, наш идеал. Туристы причитают над останками Греции; извращенцы искоса смотрят на голые статуи и осмеивают учение Платона; а греки позорят себя кебабом, рециной и глупыми танцами. В Афинах греки продаются всем подряд, губят свою честь, но можно ли их винить? Греция, мать мира, подверглась поруганию от собственных сыновей. И что, она становится циничной, накрашенной шлюхой?
Одиссей! Мы построили город, назвали его твоим именем – и осквернили его. Мы заполнили его отбросами, уничтожили твоих отважных соплеменников, превратили святые места в конюшни. Мы изнасиловали жриц твоих храмов, содрали золотые росписи и разбили статуи. Но Греция восстанет, как восстанет и Христос; облагороженная жертвой, в страдании обретшая силу. Они бьют меня своими розгами. И Бог нисходит ко мне. Стамбул? Какое никчемное имя – разве оно подходит для города Константина Великого, принесшего в Рим светоч веры? Византия! Есть имена, звучащие как песни. Но Стамбул! Это имя выкрикивают с мерзких башен, возведенных жалкими, жадными, жестокими турками; это имя связано с джихадом, с местью людям Агнца.
Айя-София… И всем векам – пример Юстиниана…[145] Тысячу лет она хранила Восток. Даже турки не смогли одолеть ее. Под всеми новыми покровами, под надоевшими иллюзиями коммунизма – она по-прежнему жива в сиянии икон; здесь Божья Мать и Сын Божий; и здесь старик – Сталин, пускающий слюни в предсмертной агонии. Сын Божий не погиб. Его день еще не настал. Византия и Рим объединятся против татар, негров, евреев, тевтонцев. Пусть турки славят своих Сулейманов и Гарунов, своих предателей Лоуренсов. Их нефть вытечет в море, и мир погибнет. Бойтесь Африки. Но никто не слушает пророчеств. Люди – дураки. Люди – простаки. Они называют меня расистом. Я не расист. Раса – ничто. Я боюсь не расы, а религии. Религии, основанной на ненависти и зависти. Вот Карфаген, с его темными и древними глазами, его красными губами, его иссиня-черной бородой; и он жаждет мести. Византия восстанет. Барабаны умолкнут. Гонги не отзовутся эхом. Снег будет нашим, и наши реки потекут, покрываясь серебром. Мы защитили Европу. Мы построили византийскую колонию на руинах Карфагена, но она была обречена; ибо католики посвятили те руины проклятым богам и призвали зло, которое существует и поныне. Я был там. По крайней мере, в Тунисе. Нам следует подготовиться. Храбрые, свободные казаки и византийская вера. Неужто их ждет такой же конец, как у Греции? Наши казаки начнут танцевать и петь на унылых сценах, украшенных красными флагами, а наши священники – продавать грязные фотографии на ленинградских улицах? Где наш мир? Где Агнец Божий? Они схватили Краснова и повесили его на дереве. Они сплели заговор, чтобы погубить Григорьева. Они перебили командиров Махно. Они довели до самоубийства многих других. И вы хотите мне сказать, что их не стоит бояться? Вы думаете, что таков Божий замысел? Как это может быть? Бог перешел на сторону врагов? Как могут турки исполнить Его волю? Разве нас не достаточно испытывали? Мы страдали две тысячи лет. В чем наша вина? Карфаген был разрушен. Мы виновны? В чем?
Бродманн нервничал, думая о предстоящей встрече с Махно. Он сидел в углу вагона и жаловался. Он ненавидел анархистов сильнее, чем белых. Он, вероятно, в свое время поддерживал и тех и других. Он утверждал, что История не была готова к фантазиям Кропоткина. Люди слишком порочны и эгоистичны; их следовало бы приучать к идее коммунизма, как собак. Бродманн напоминал неофита, восстающего против того, чем когда-то восхищался, что теперь стало казаться несовершенным. Я часто встречал подобных людей. Он стремился укрыть весь реальный мир покровом своих убогих фантазий, потому что лишился стержня, духовного мира. Неважно, видим ли мы христианина или коммуниста: нравы у них одни. В те времена все ненавидели Махно. Большевики, белые, союзники. Мало того, что он добился не меньших успехов, чем Григорьев, так у него была возможность найти им лучшее применение. Но Махно стал алкоголиком в Париже. Потерянный, несчастный, запутавшийся, больной чахоткой, брошенный семьей, он непрерывно говорил, кашлял и плакал, уходя в небытие. Я как-то встретил его там, в Париже, где живет великое множество одиноких русских.
Глава шестнадцатая
Я решился бежать. Ночью, пока поезд стоял, а в вагоне все спали, я взял со стола карту, прихватил бутылку водки и немного еды и ушел. Снега практически не осталось. Мой план был прост: добраться до ближайшего более-менее крупного города. Теперь я был au fait по части тактики партизан – мог надуть кого-то из чиновников и раздобыть транспорт до Одессы. Возможно, удастся найти грузовик. Я бы починил его так же легко, как грузовик Гришенко. Я находился в каком-то трансе. Мои воспоминания о тех днях весьма туманны. Помню, что стремился добраться до матери и Эсме. Больше я ничего не планировал, разве что продать пистолеты Ермилова и купить билет на корабль, направляющийся в Ялту, которая была тогда в руках Деникина. Все сомневались в том, что французы смогут или захотят долго защищать Одессу.
Проклятые боги собрались с силами. Они мчатся по ветру, который дует на Запад. Ника! Победить. Британцы виновны. Они потворствуют злу. Они впустили людей Востока в свою страну. Взгляните на Портобелло-роуд. Взгляните на Бирмингем. T’hiyyat hametim[146]. Карфагеняне разбили лагерь на острове, финикийцы создали здесь торговую базу. Разве что-то изменилось? Британцы продадут свои права финикийцам за несколько шарфов из искусственного шелка и дрянных деревянных слонов. Культура не может вечно сохранять равновесие между светом и тьмой. Персы знали об этом. И что британцы оставили от их империи? Одно лишь бессмысленное название. А Карфаген остается с нами. Боги Вавилона и Тира раздавят Лондон своими каменными ступнями. Молох разверзнет пылающую утробу, и британцы строем зашагают туда, напевая какую-то песню. Дивное избавление! Вот чего они заслуживают. Они снова станут рабами финикийцев. Они научатся унижаться. Они рассеются по всей Земле, станут народом нищих, униженных, питающихся отбросами ничтожеств и будут плакать о своей славе, позабудут о чести и начнут рассказывать о былом величии, и их будут слушать с презрением, поскольку это величие они утратили. Nicht kinder. Nicht einiklach[147].
Я добрался до селения; вокруг была кромешная тьма. Здесь воняло, как и во многих других деревнях, но стояла мертвая тишина. Дома выглядели совсем ветхими, по большей части лишь грубые соломенные хижины. Все селение напоминало большой и неухоженный скотный двор. Мне доводилось видеть, как горели подобные места – я бывал в таких вместе с казаками. На рассвете я уселся у стены и ненадолго задремал. Проснувшись, я увидел стоящего рядом со мной еврея – хасидского раввина. Он спросил меня на идише, хочу ли я есть. Я сказал «нет» и поднялся. Итак, я попал в лапы сионистов, в штетл. Всюду были надписи на идише и иврите. Солнце сияло ярким и холодным светом над этой цитаделью жадности. Я уснул рядом с синагогой. Мои кости заныли. Следы от тяжелой нагайки Гришенко казались совсем свежими. Я сказал раввину, что не говорю на идише. Он улыбнулся. Потом, запнувшись, что-то пробормотал на иврите себе в бороду. Я ответил ему по-русски, что на иврите тоже не говорю. Он не понимал моего русского. Я перешел на немецкий, подумал, что лучше уж так, чем на украинском, который мне казался похожим на идиш. Но даже это оказалось непросто. Как же они торговали? Как они выживали? Земля здесь была бедна. Очень много камней. Этот край отличался от нашей русской степи. Он скорее походил на ветхозаветную Палестину. Раввин жестом предложил мне следовать за ним. Я покачал головой.
«Эммануэль», – произнес кто-то. Вокруг собрались одетые в черное мужчины и женщины; возможно, была суббота. Я нарушил правила. Я, кажется, почувствовал страх. Моя голова начала ныть. Она и теперь ноет. Я собрался с силами и заявил, что представляю советскую власть. Раввин кивнул и улыбнулся. Он, наверное, пытался заманить меня в ловушку. Вероятно, евреи рассчитывали, что у меня есть деньги. Я сунул руку в карман и нащупал пистолеты. У меня действительно оставалось немного петлюровских денег, они лежали вместе с документами в моем потайном кармане. Я был слишком осторожен, чтобы коснуться этого тайника. Они тотчас обо всем догадались бы и напали на меня, раздели бы донага. «Вы еврей?» – спросил по-русски молодой человек.
Называйте меня Иудой. Или Петром. Я не стану этого подтверждать – но тогда я был слишком напуган, чтобы ответить отрицательно. Я взмахнул рукой.
«Почему вы боитесь? – На нем был черный костюм, молитвенный платок и крестьянская рубаха. Черные волосы были скрыты под шапочкой. Его лицо выражало полнейшую невинность. Это меня насторожило. – Казаки? Вас преследовали?»
Евреи вышли из синагоги. Они окружили меня. Я сохранял спокойствие. Мои руки касались спусковых механизмов пистолетов. Евреи отвели меня в какую-то таверну. Они открыли двери настежь. По сравнению с этим местом заведение Эзо в Одессе выглядело петроградским кабаре. Я сказал, что у меня родственники в Одессе; я направляюсь к ним. Они спросили, где живут мои родные. Молодой человек был из Одессы. Я помню, как при этом почувствовал себя униженным. Я сказал, что мои родичи живут в Слободке, – следовало отвечать хитростью на хитрость. В конце концов, я стерпел то, что меня назвали евреем. Теперь, по крайней мере, я мог обратить это себе на пользу. Я пожалел, что покинул поезд. Я вытащил карту и попросил указать наше местоположение.
Оказалось, что мы где-то в районе Гуляйполя, большого поселения, название которого связано с именем Махно, как Александрия – с именем Григорьева. Эти места были настоящими казачьими крепостями. Мы находились в нескольких сотнях верст от Одессы.
Как несчастны были эти евреи. Такая нищета! И с этим внушающим ужас, будто осуждающим смиренным выражением лиц, свойственным им всем. Я задрожал, хотя и пытался сдержаться. Мне не хватало самообладания. Мне нужен был кокаин. А его почти не осталось. Не следовало расходовать попусту порошок. Я спросил, где Махно. В Гуляйполе? Они так не считали.
– Он где-то далеко, – сказал юноша, – сражается за нас.
– За вас? – Я едва не расхохотался во весь голос.
Даже анархист не вступил бы в союз с подобными существами. У них не было никакой гордости; они не сражались; они падали на колени, молились, причитали. Я на них насмотрелся. Евреи так поступают, чтобы испугать своих врагов. Они грабят христиан и все же полагаются на христианское милосердие. Христос сказал, что простил их. И Христу нужно повиноваться. Я ненавижу их не за убийство Иисуса. Я не так глуп. Я невиновен. Яхве, говорят они, уничтожает наших врагов. Но сами они этого делать не станут. Что такое Израиль, как не пристань для Европы? Пристань заброшенная и разрушающаяся. Союзники забыли о ней. Они заняты турками и африканцами. Эти евреи так гордо восседают в своих американских самолетах и британских танках. Это грех. Они бьют меня прутьями, но я не плачу. Заплакать значит умереть. Ермилов научил меня этому. Евреи предложили мне еду. Я отказался. Я достал водку и выпил. Потом предложил им. Они отказались.
– Где Махно? – спросил я.
– Сражается, – сказал юноша. – Вы не говорите на идиш?
– Мой отец, – заявил я, – был революционером.
Раввин догадался о значении этих слов и покачал головой. Он был невеждой. Сырой, пугающий запах бедности исходил и от священника, и от самой таверны. Какое унижение! Я никогда не был в таком бедном месте. Здесь все казалось древним и унылым. Все разваливалось. Разве у них вообще нет чувства собственного достоинства? Почему они не чинят дома? Я хотя бы забор поправил. Но их заборы рушились, сады зарастали сорняками. Закрытые магазины с еврейскими вывесками выглядели запущенными.
Русские деревни могли выглядеть так, но там была вполне понятная причина: крестьян ограбили. А кто ограбил этих? Я промолчу. Да, синагога: внутри было чисто. В синагоге, без сомнения, хранились прекрасные, расшитые золотом гобелены.
– Настали тяжелые времена, – сказал юноша. – Здесь, как и повсюду. Под каким вы флагом?
– Под флагом?
– Под красным или черным?
– У меня нет флагов, – ответил я, – я сам по себе. Сам по себе.
Я почувствовал слабость, как будто холод проник мне в желудок. Я по-прежнему чувствую его. Он всегда со мной. Как кусок холодного металла, который никогда не нагревается, даже от крови. Словно шпион, двойной агент… Я не знаю. Знамена развевались над дымом, над шкурами, над шапками, над лошадьми. Все флаги были спущены. Флаги всех цветов; дивные казаки; на добрых конях и с новым оружием. Григорьев не исполнял приказов, и в отместку Ленин и Троцкий пригнали на Украину китайцев, венгров, румын, чекистов, еврейских комиссаров. Комиссары обрушились на своих. Евреи пострадали больше всего. Красные захватили пятьдесят человек поблизости от польской границы и отрезали им языки: старикам, маленьким девочкам, молодым парням. Убили десять миллионов человек. И только кровь могла погасить пожары; кровь смешивалась с золой; густая пена покрыла нашу землю. Дым от горящей плоти забивал ноздри живым; он душил новорожденных детей, когда они пытались сделать первый вдох. Мы погрузились в бездну войны, как безнадежные жертвы кораблекрушения погружаются в воду, счастливые, потому что обретают забвение. Не осталось ничего, кроме дыма и пламени, кроме шума пулеметов. Этот шум был слишком громким. Целые города кричали от ужаса и от боли. Целые города кричали по ночам, заглушая звуки орудий, транспорта, бронепоездов, лошадиных копыт. Апокалипсис? Вьетнам? Лидице и Лежаки?[148] Ничто не сравнится с тем, что мы пережили на Украине. Потом пришел Сталин. За ним – Гитлер. А теперь немецкие туристы посещают, улыбаясь, земли Украинской Советской Социалистической Республики. Они оставляют здесь свои марки – как раньше оставляли следы. Горы больше не защищают нас. Мы знаем, что мы – гуманный народ. На кого мы напали? На Чехословакию? Но это были не русские люди. На Финляндию? Но она всегда была нашей.
Вы как будто с вертолета видите маленькие фигурки, которые что есть сил передвигаются вверх и вниз по скалам, цепляясь за камни. И вы понимаете, что они поднимаются и спускаются, поднимаются и спускаются, потому что думают, что нет никого, кто их любит. У них есть только скалы. Они обезличены. Поднявшись на вершину, они остаются в одиночестве и на некоторое время обретают силу. Они приносят эту силу к себе домой. Это не сила людей, которые чувствуют себя любимыми, а сила неповиновения. Но это все, чего они ждут. Неужели они ищут Бога? Я однажды сидел на скале в Лапландии и смотрел сверху на горы, облака, тундру; и горы скрывались в синеве – вплоть до самой Норвегии. Я стал подобен стали, закаленной и холодной. Я унес свою силу из Финляндии, добрался до колючей проволоки границы и посмотрел на Россию. Охранники с собаками пришли и прогнали меня. Я заговорил с ними по-русски. Они приказали мне уйти. Они были встревожены, но любезны. Они не хотели никаких неприятностей. Русским говорят, что им следует опасаться иностранцев. Я сказал, что я не иностранец. Они не поверили мне.
Я чувствую, что болен. Чувствую холод, металл у меня в животе. Русские щедры. Они хотят всех любить. А теперь им приказано опасаться любви. Неужели все потому, что Ленин, Троцкий и Сталин не могли любить? Они использовали нашу любовь. За что сражались Буденный, Тимошенко и Ворошилов? За жевательную резинку? Американские туристы дают ее российским офицерам в обмен на значки с их фуражек. Это правда. Это разрешено. Спросите кого угодно. Они сражались за Украину. Они грабили. Они преследовали крестьян. Они забирали зерно и лошадей. Они забирали даже обувь. Они говорили, что спасают Украину, что мы должны обрести свободу. Крестьяне хотели земли. Они не испытывали ненависти к евреям. Они ненавидели городских торговцев: кацапов и евреев, немцев и греков. Ведь их попросту грабили. Потом пришли большевики и стали грабить их еще больше. Когда все было украдено, они начали отбирать жизни. Вот что такое их красная конница. Обмен звездочек с фуражек на жевательную резинку в Ленинграде и фальшивые улыбки в японские фотокамеры. Где русская честь? Двуглавый орел обернулся двуличным комиссаром. И ислам растет в утробе империи. Славян превосходят числом. Что же удивительного в том, что они защищают свои границы? То, что случилось в Чехословакии, – вполне понятно.
Британцы и американцы, французы и шведы… Им никогда не приходилось сражаться так, как сражались мы. Мы одолели ислам. Мы вынудили татар повернуть обратно. Еврейские поляки были побеждены, но они сумели зацепиться – древние, терпеливые, умеющие ждать. Таков был Троцкий. С этим все согласятся. Если бы я был евреем, то чувствовал бы бремя вины. Но я – сам по себе. Я не сражаюсь ни под каким флагом. Никто не понимает, насколько могущественны были эти люди. Все думают, что мы убивали, потому что были сильны. Но мы убивали, потому что были слабы. У нас не осталось ничего.
Той весной вокруг Гуляйполя существовала своего рода зона покоя; возможно, это был центр урагана. Территория анархистов оказалась единственной, в которой воцарился мир. Мир полон иронии. Я остался в деревне, но сохранял осторожность. Когда прибыли отряды с хлебом для евреев, меня посадили в тачанку, прославленную Махно, обеспечивавшую ему превосходство в скорости и огневой мощи. Эти солдаты были истинными русскими, доброжелательными и открытыми. Я не знаю, почему они поддерживали Махно. Они именовались чернознаменцами, так как выступали под черным флагом, но гораздо больше напоминали идеализированных большевистских борцов из советской литературы. Мы остановились в другой деревне. Здесь жили греки. У них был хлеб, была мука. Нам предложили дзадзики[149]. Солдаты ничего не взяли. Мы остановились в сельскохозяйственной коммуне, названной в честь еврейки Люксембург. Я был пьян. Я был печален. Они спросили, в каком я чине. Я ответил, что был полковником. В ответ они расхохотались.
Я был товарищем Пьятом. Я был комиссаром Пьятом. Я был полковником Пьятом. Им следовало загибать пальцы, перечисляя мои звания. Лица солдат казались свежими и здоровыми. Я полагаю, что они были истинными прислужниками дьявола, потому и казались такими нормальными. Шум утих, вся грязь исчезла. Иногда мы пересекали железнодорожные пути – вот и все. Я сказал, что должен пробраться в Одессу. Они сообщили, что там никого не осталось. Григорьев захватил ее. Французы сбежали. Атаман в открытую столкнулся с большевиками, которые теряли контроль. Григорьев, конечно, был зверем, но умным зверем. Чернознаменцы теперь выжидали своего часа. Моего лица коснулся солнечный свет. Настала весна. Поля выглядели так, как они должны выглядеть. Деревни выглядели так, как они должны выглядеть. Здесь царил покой, свойственный сельской местности. Я впервые ощутил в себе любовь к открытым пространствам. Я постиг очарование степей, полей, деревень, лесов и рек. Небо стало синим. Махновцы постоянно беседовали со мной – на привалах, у костров, в пути. Они хотели, чтобы я принял их веру. Они напоминали ранних христиан. Я верил в Бога, а не в правительства. Некоторые из них соглашались со мной. Они были слишком умны, люди Махно; им почти удалось убедить меня. Прямо перед тем, как наш отряд выехал на белую дорогу, ведущую к Гуляйполю, я притворился, что стал братом-чернознаменцем. Мы проехали большие военные лагеря и прибыли в город. Я хотел увидеть батько, старика. Меня отвели к нему. Он сидел в большой длинной комнате, возможно, в школьном классе, с несколькими соратниками в привычных разноцветных одеждах: бескозырках, армейских мундирах, с патронташами. Махно был одет в зеленое военное пальто с черным аксельбантом, папаху он сдвинул на затылок. Махно был мал ростом; он много выпил. Мне запомнились его открытое славянское лицо и широкий лоб. Его речь была мягкой и дружелюбной, как у мафиозо. Он говорил на чистом русском языке, полном силы. Махно предложил мне водки. Я выпил. Я пил постоянно, каждый день. Он спросил, эсдек ли я или эсер, поддерживаю ли какую-нибудь фракцию. Я сказал, что поддерживаю «Набат». Мужчина с маленькими черными усиками, одетый в черное пальто и черную широкополую шляпу, впился в меня взглядом:
– Но ты же большевик.
– Ерунда. Я анархист.
– Ты Пьят?
– Да.
– Мы слышали о тебе. Саботажник из Одессы. Эсер.
– Кто вам это сказал?
– Бродманн.
– Он приехал сюда?
– Он все еще где-то здесь. Разве не так? – Смех Махно тоже был добрым.
– Мы вернули его, – сказал человек с усами.
Вошла женщина, такая же маленькая и коренастая, как Махно. Возможно, она приходилась ему сестрой. Во всяком случае, он приветствовал ее как родную. Она сказала Махно, что брат зовет его есть. Батько ответил согласием. Он хлопнул меня по плечу, назвал товарищем и, хромая, вышел из комнаты. Это был великий анархист, Нестор Махно, в зените своей славы. Я считаю его лучшим из людей, участвовавших в нашей войне, а это кое о чем говорит. Он уже тогда пил, но был весел. Он насиловал женщин – сам рассказывал мне об этом в Париже, после того, как Семен Каретник, Федор Щуса и другие его лейтенанты были преданы ЧК или погибли в сражениях. Тогда, в Париже, Махно радовался любому слушателю.
Меня отвели в маленький сарай и оставили с двумя растерянными, неопрятными субъектами. Поначалу они были слишком мрачными, чтобы вступать в разговоры, но, правда, представились. Они вышагивали по сараю, засыпанному соломой, и швыряли прутики в стены. Они также были пьяны. Здесь все были пьяны. Их звали Абрамович и Казаров. Какого-то Абрамовича осудили за саботаж в двадцатых годах. Возможно, это он и был. И Абрамович, и Казаров оказались большевиками. Их арестовали за попытку организации ревкома в соседней деревне. Махно запретил революционные комитеты. Эти двое напоминали многих других; их переполняла жалость к самим себе, они были полны самолюбования – знатоки людей, злившиеся на Москву за то, что их бросили, злившиеся на Махно, который, по их словам, в политическом смысле оказался невеждой. Смуглый Абрамович лицом очень походил на еврея. Он был очень молод; шрам у него на губе подчеркивал злобную, отчаянную усмешку. Казаров выглядел гораздо старше, у него были тяжелые великорусские черты лица; когда-то он, должно быть, считался красавцем. С такой внешностью я сталкивался не раз: сначала человек напоминает Нижинского, а через год уже вылитый Брежнев. Это можно сказать и о Казарове, разжиревшем от украденного хлеба и выпивки. Я держался поодаль от них, в другом конце сарая. Я просто спросил, какой сегодня день. Оказалось, первое мая. Мои соседи сочли это забавным. Я был пленником большевиков, евреев и анархистов в течение двух месяцев. За это время я сделался более рассудительным. Странные выдались каникулы…
Я оставался в сарае с заключенными большевиками всего два дня. Они ничего не знали об Одессе. Меня вывел из сарая усмехающийся махновец; он приказал мне отправиться в дом, который находился в конце улицы. Меня никто не сопровождал. В кармане у меня все еще лежали пистолеты, документы, какие-то деньги. Я, наверное, с головы до ног был покрыт грязью. Я не переодевался, не брился и практически не мылся по меньшей мере шесть недель. Мне было девятнадцать лет. Все вокруг смеялись надо мной и отдавали мне честь. Для всех проходивших мимо я был полковником Пьятом. Вот что стало моим спасением – моя юность. Дом оказался деревянным, с типичной украинской крышей, раскрашенный в разные веселые цвета, с верандой и тяжелой толстой дверью. Я отворил дверь. Солдат сказал, чтобы я прошел в заднюю часть дома. Шагая по коридору, я думал, что за мной послал Махно. Потом послышался звук льющейся воды. В доме было тепло и тихо. Я услышал девичий смех. Я постучал. Мне разрешили войти.
Эсме была голой. Сидя в оловянной ванне, она смотрела на меня и улыбалась. Она протянула ко мне покрытые мылом розовые руки, выставив наружу груди. Ее золотистые волосы потемнели от воды. Тело пахло чистотой и мылом. Она была бесстыдна.
Я отвернулся. Девочка в сером платье намыливала Эсме шею. «Он смущен». Это было ловушкой.
Я сел на стул около ширмы и повернулся к Эсме спиной.
– Как ты попала сюда? Анархисты в Одессе?
– В Одессе белые, – сказала она.
Вторая девушка начала насвистывать мелодию народной песенки.
– Я там не была. – Эсме встала из ванны. Я слышал, как с ее тела капает вода, видел ее тень. Солнечные лучи пробивались через окно в верхней части двери. – Мы остановились на станции, чтобы раздобыть провизию. Меня схватили солдаты и изнасиловали. Меня насиловали так часто, что у меня мозоли между ног.
Девочка в сером поперхнулась и захихикала. Они, конечно, собирались вывести меня из равновесия. Но почему Эсме так ополчилась на меня?
– А мать?
– Сошла с поезда. Она все еще в Киеве. С капитаном Брауном. – Голос Эсме стал мягче. Я почувствовал, что она подошла ближе, встал и направился к двери. Она закуталась в овчину и улыбнулась мне. – Макс?
Не знаю, почему я заплакал. Вероятно, всему причиной усталость и водка. Я потратил впустую так много сил, пытаясь пробраться в Одессу. Плача, я испытывал к ней ненависть. Она гладила мое лицо, а я по-прежнему ненавидел ее. Я столько страдал из-за нее и из-за матери. А их там даже не было. Я лгал, я пережил ужас и боль. Я мог бы спокойно остаться в Киеве с госпожой Корнелиус, которая позаботилась бы обо мне; я мог остаться с матерью. В этом, конечно, не было вины Эсме, но тогда я обвинял ее.
– Она никогда не хотела ехать в Одессу, – сказала Эсме. – Она слышала, что это был последний поезд, сказала, что ты не приедешь и она справится сама.
– А тебя изнасиловали?
– Меня больше не насилуют. У меня вполне достойная работа в агитбригаде. Мы путешествуем по деревням, развозим еду, книги и одежду. Станция примерно в тридцати верстах отсюда. Я только что приехала. Я слышала о тебе и хотела увидеться.
– Ты переменилась, – сказал я.
Ее это позабавило:
– Посмотри на меня, Макс. Хочешь принять ванну? Вода еще горячая.
Эсме – моя девственная сестра, лишенная пороков и страстей. Моя первая поклонница. Моя подруга. Моя роза. Она говорила грязные слова, не чувствуя стыда. Она предложила мне принять ванну. Я все еще был пьян и растерян. Я позволил женщинам снять с меня одежду. Я не возражал против того, чтобы они увидели мои шрамы. Я столько вытерпел от казаков, от их плетей и кинжалов! И я позволил женщинам вымыть меня. Эсме была нежна. Она что-то нашептывала, намыливая мне голову. Женщины высыпали в воду какой-то порошок. Он жег кожу. Он убивал вшей.
Они вдвоем вымыли меня, одна в сером платье, другая – голая, прикрытая лишь старой овчиной. «Я представляла, что это ты», – сказала Эсме. Ее трахали так часто, что между ног появились мозоли. Я дрожал. Я все еще плакал. Мне стало совсем холодно. Я дрожал. Меня укутали. Эсме отвела меня в спальню, где в два ряда стояли пустые кровати. Она сказала, что у меня лихорадка. Легкая форма сыпного тифа. Я не знал.
– Где ты был?
– Всюду, – ответил я.
– С большевиками? С этим Бродманном и его бандой?
Я задумался.
– Нет, я оказался с ними только потому, что искал тебя. Я думал, что ты в Одессе. Ты в самом деле анархистка, Эсме?
Она сказала, что не совсем. Она работала сестрой милосердия в агитпоезде. Там были два доктора, оба евреи; они тоже помогали. Были швеи. По ее словам, у них сохранялся некий порядок. Хотя их и защищали солдаты Махно.
– Скоро они уйдут.
– Почему?
– Потому что белые наступают. Донские казаки стоят у них на пути, и Махно бросил на помощь красным слишком много войск. Но время еще есть.
– Кто тебя насиловал? – спросил я.
– Многие, – ответила она.
– Кто?
– И правда, – сказала она, – казак отхлестал тебя. Животное.
– Бродманн насиловал тебя? – спросил я. – Вот свинья!
– Нет.
– Махно?
– Он спас мне жизнь, – ответила она. – Это было не совсем изнасилование. Это символ власти. Его жена знает, что он делает. Она пытается останавливать его. Ему потом становится дурно. Он пьет. Его солдаты ожидают от него чего-то подобного. Не в одном случае, так в другом. Здесь все знают его и двух его братьев.
– Ему не следовало насиловать тебя, Эсме.
– Это символ. Ты должен был быть там, когда все это началось.
Меня трясло. Я чувствовал себя больным, но в желудке у меня не было ничего, кроме водки. Она обратилась в желчь. Эсме! Эсме!
– Я присмотрю за тобой сегодня, – сказала она.
– Хорошо, что я пришел сюда. Кто еще?
– Кто насиловал меня? – Она рассмеялась. – Многие. Это глупо. Все кончено. Я снова делаю свою работу. У меня есть мальчик. Он хочет жениться на мне.
В спальне стояла тишина, здесь, кроме нас, никого не было. Я смутился. Эсме ласкала все мое тело. Мое новое, чистое тело. Она коснулась моего члена, погладила его. Я начал расслабляться.
– Я люблю тебя, Эсме.
– Я люблю тебя, Макс.
Она гладила мой член, мои соски, мое лицо. Растерла мазью шрамы от нагайки Гришенко, сказала, что мне станет лучше. Она любила меня. Эсме. Изнасилованная евреями и большевиками, но все еще полная сострадания. Мы могли бы пожениться, как хотела мать. Жить в деревне. Где ты? Ты сказала, что у меня лихорадка. Я не знал, что ты ушла, пока я спал.
Неделю спустя она вернулась. Теперь спальню заполнили десятки раненых. Она устала, была грязной. Она стала шлюхой. Она помогла другим больше, чем мне. Я был ее братом. А она ухаживала за теми самыми мужчинами, которые насиловали ее. Я покрывался потом. Без водки, которая помогала мне, лихорадка усиливалась. Эти евреи отравили меня. Они засунули мне в живот кусок железа. Я болел в течение многих месяцев. Я умирал. Эсме утешала других, как будто каждый из них был мной. Госпожа Корнелиус так не поступила бы. Она осталась бы со мной. Они отравили меня. Я правильно делал, не доверяя им. Я так глуп. Люди слишком шумели, пахли гангреной, кровью и порохом. Они были отвратительны.
Меня увезли с ними, с телег нас погрузили на поезд. Я увидел Эсме. Я думаю, что она искала меня, но не смогла разглядеть в огромной толпе, среди множества других. Потом исчезла из вида.
Sie fährt morgen in die Egypte. Sie hat ihre Tat selbst zu verantworten[150].
Такие вещи обычны в Египте. Мои города – из серебра. Они возносятся в медное зимнее небо. С башен тех городов я возношу хвалу Богу. Вагнер пересек пустыню. Анубис – мой друг. Yа salaam! Ana fi’ardak! Allah akhbar! Allah akhbar![151]
Глава семнадцатая
Кажется, девочка в сером подлатала мою одежду, вычистила и привела в порядок. У меня был новый мундир. Пистолеты и документы остались на своих местах. Подарки Ермилова лежали в глубоких карманах темно-синего кафтана. Но внутри я по-прежнему чувствовал холод. Повсюду звучали выстрелы. Нас высадили из поезда и погрузили на обычные крестьянские подводы. Махно исчез. Кто-то сказал, что он ускакал на лошади. Махно редко ездил верхом – из-за простреленной лодыжки ему тяжело было подниматься в седло. Многие уехали вместе с ним. Гуляйполе захватили. Я не знаю, кто одержал победу, белые или красные. Возможно, и те и другие. Они приходили и уходили.
Белые сначала сражались за Бога, потом за собственную гордость. Красные начали сражаться за народ, а кончилось все борьбой за власть. Русские от природы тяготеют к общине. Нам не нужен был Маркс и его вредоносная философия мести и разрушения. Толстой и Кропоткин пытались создать философию, подходящую для нашего национального характера. Коммунизм подчеркивает общность, он отдает сообществу преимущество в сравнении с индивидуумами. Он не стремится к равновесию. Чтобы выжить, мир должен пребывать в гармонии. Величайшие знамения Божии – Человек и Вселенная. Это равновесие нам следует пытаться обрести вновь. Человеческая порядочность… Если б только евреи оставили меня в покое. «Месть!» – кричат они.
Русское рыцарство обречено. Танки сокрушают русские сердца. Варварские путы впиваются в русскую плоть. Коварные чужеземцы используют нас. Герои Киева изгнали турок и монголов, но город стал безопасным для врагов. Мы могли бы столь многого достичь. Но все пропало…
Они уничтожили русский разум, русский язык, русские сердца. И все променяли на грошовую западную ерунду. Они забирают нашу мирную землю, наши древние города, нашу церковь. Они заигрывают с исламом. Сколько ошибок они могли натворить за эти годы? Они создали расу безмозглого скота, который теперь уничтожает мир – с водородной бомбой в руках, бессмысленно рычащий, не способный отличить правду от лжи. Темные силы угрожают нам изнутри. Бойтесь Карфагена!
Мы слышали уже множество голосов, предостерегавших нас: Кропоткина, Толстого, Блока, Белого. Смотрите вглубь! Смотрите на Россию! Но все смотрели на Германию. И они прокрались, проползли через Финляндию в немецком поезде. Марки. Что вынудило Гитлера угрожать великому союзу? Шептуны-евреи? Не греки, это точно. Я верил в Гитлера. А он предал всех нас. Тевтонцы всегда завидовали славянам. Они ждали тысячу лет, пока не подготовились. А потом перешли через горы. Отправились в поход на славян. В поход на Грецию. Они лишились основы. Так с ними будет всегда. Что у них есть? Бадья пива и кусок свинины. Все обрело смысл, когда турки и тевтонцы объединились. И британцы, как обычно, шли по этому пути и так прокладывали широкую дорогу в ад. Еврейские знаки жгут мою душу, клеймят мою плоть. Отпустите меня!
Маленькие зубы выгрызают мозг из моих костей. Эсме… Как ожесточило тебя отчаяние, когда вся твоя жизнь, твой идеализм сгинули в серой пене большевизма! Мать… Тевтонцы убили тебя, когда я летел на своей первой машине? Тевтонцы убили тебя – ибо клянусь, что слышал твой крик. Твой мир вспыхнул в 1941‑м. А затем он сгинул. Завоеватели сделали тебя счастливой. Неужели потому, что сражалась с Сатаной всю жизнь, всякий раз, видя, что он шагает по Крещатику, ты приветствовала его как знакомого противника? Я не хотел потерять тебя. В твоих глазах никогда не было любви. Но ты была счастлива.
Западная Европа слишком уютна, слишком тепла, слишком мила. Суровость нашего климата дает нам все – изоляцию, духовную жизнь, язык, гениальность. Мы теряемся в толпах, в тепле. Позвольте мне вернуться! Нас обездолили; нас изгнали. Теперь мы обитаем в подвалах. Нас оскорбляют и осмеивают. Мы, может быть, и выжили. Но Бог оставил нас. Он оставил Деникина. Махно и Григорьев, как Вилья и Сапата[152], могли сражаться за либералов, они допустили религиозную свободу, привели большевиков к Балтийскому морю – и стали эмигрантами. Но белые были слишком горды, националисты – слишком глупы, а Союзники никогда не понимали, что происходит в России. У русских есть их самость. Они уходят в себя, как англичане уходят в рационализм, чужой, заемный, отравляющий и разрушающий русскую душу. Вера в Бога и Его власть дарует единственную истинную свободу – свободу жить духовной жизнью.
Махно отомстил за меня. Он отправился в Александрию для переговоров с Григорьевым, осудил его погромы. Атаман рассмеялся. Он не послушал. Неужели это было настолько важно? Один из командиров Махно, я полагаю, Каретник, выхватил свой кольт и пристрелил атамана. Махно добил его. Другие анархисты убили телохранителей Григорьева. Махно выстрелил Гришенко прямо между глаз, и тот рухнул в июльскую пыль Александрии, вместе со своей нагайкой. Махно сумел тотчас завоевать поддержку людей Григорьева. Это была старомодная бандитская отвага. Его поступки и слова произвели впечатление на остатки запорожцев, многие из которых теперь оказались босыми оборванцами, потому что Григорьев так и не использовал все свои завоевания. Люди согласились последовать за батькой. Но они были обречены. Этот анархист, любитель евреев, в конце концов отделался от них. Он сбежал в Румынию, а оттуда в Париж; его мучила мысль о том, что он покинул Россию. Махно, по крайней мере, никогда не был националистом. Он, его жена и дочь любили Россию. Они говорили по-русски. Я встречался с ними в Париже. Его жене приходилось нелегко. Думаю, что его дочь вернулась назад. Он жил за счет других эмигрантов и пил дешевое французское вино, которое делает всех до неприличия сентиментальными.
Телеги ехали по пыльным летним дорогам; вокруг были маки, пшеничные поля, запах пороха и свист пуль. Я почти поправился, но решил, что неблагоразумно оставлять раненых. Кто стал бы связываться с полутрупами? Мы добрались до полусожженной деревни, и нас разместили в католической церкви, которую уже давно разграбили. Мы лежали среди мусора, который не представлял ценности даже для крестьян, среди старых следов лошадиного дерьма; сам навоз уже кое-чего стоил. Мы следили за тощими крысами, которые, в свою очередь, следили за нами, думая, кто же умрет первым и кто кого съест. Крестьяне не выпускали нас. Наши товарищи так и не вернулись. Двери были заперты, а окна – высоки. Крестьяне оказались слишком трусливыми, чтобы нас убить.
Мой кокаин украли – думаю, это сделала Эсме. Наркотик дал бы мне силу. Он помог бы мне. В свою очередь я сумел бы помочь другим. Мы молили о милосердии. Наши тихие голоса отзывались эхом в пустой церкви. Священник погиб; его повесили милиционеры. Крестьяне ненавидели нас. Они слушали наши мольбы. Наши голоса, вероятно, воодушевляли их, как других воодушевляло пение «Dries Spaseniye Miru». В тот день спасение пришло. «Dries spaseniye mini byst. Poyem voskresshemu iz groba». Воспоем, обращаясь к Тому, кто воскрес из мертвых. «Inachalniku zhizni nasheya: Inachalniku zhizni nasheya». Поправ смерть смертью. «Razrushiv bo smertiyu smert». Он даровал нам победу и великую милость. «Pobedu dade пат, i veliyu milost»[153]. Наш дух. Наш дух. Они бежали от нас, от наших душ. И многие из нас могли убедиться, что Бог и Его Небеса все еще существуют. Мы погружались в ту легкую эйфорию, которая свойственна всем пребывающим на грани между жизнью и смертью.
Затем раздались выстрелы – пулеметы и пушки. Это могло быть спасение. Умирающие лежали среди трупов. У меня по-прежнему были пистолеты, но не было пороха. Мы услышали, что артиллерия приближается к поселку. Лошади. Мы услышали их ржание. Церковь начала сотрясаться. Раздался благословенный шум – шум двигателей. За дверью звучали крики. Потом прогремел выстрел. Я закричал от радости: в дверном проеме замер офицер Белой гвардии с дымящимся револьвером в руке. Он поднес к лицу носовой платок. На офицере была светло-серая пехотная куртка с красно-золотыми погонами. На фуражке виднелся старый значок царской армии. Синие галифе заправлены в черные сапоги. На куртке сверкали орденские ленты. У пояса висела шашка. Его борода была аккуратно подстрижена, и хотя лицо покрывал слой грязи, а форма пропиталась пороховым дымом, офицер олицетворял все то, чего я не ожидал увидеть снова. Он позвал солдат в касках и форме цвета хаки. Они ворвались в церковь с винтовками наперевес, но начали кашлять. Некоторые раненые умерли уже несколько дней назад. Я выполз вперед, поднялся на ноги и улыбнулся. Но меня вновь обманули.
Белый офицер сказал: «Возьмите тех, которые могут ходить. Остальных расстреляйте на месте. Это будет милосердно». Сержант-пехотинец приказал людям идти. Меня вывели наружу. Я увидел маленький пехотный отряд. Здесь были всадники с длинными кнутами и широкими красными нашивками донской казачьей кавалерии. И наездники и лошади выглядели усталыми. Здесь стояло два танка, покрашенные в цвет хаки: массивные машины с орудийными башенками и боковыми пулеметами системы Льюиса. Также поблизости находились три больших пушки и с десяток пулеметов. Рядом стоял большой открытый автомобиль. Я попытался заговорить с офицером, но он направился к танкам, люки которых как раз открывали. За танками, как будто поклоняясь новым богам, на коленях выстроились в ряд крестьяне, держа шапки перед собой. Меня толкнули. Я воскликнул: «Я верный подданный царя!»
«Вот сам ему и скажешь, – произнес один из солдат, сдвигая каску, съехавшую на лоб. – Скоро будешь там же, где он».
Я был слишком слаб. Я снова попытался привлечь внимание офицера. Они собирались ограбить меня. Было очень важно сохранить то, что у меня осталось. Моя жизнь казалась чем-то менее важным. «Капитан! Капитан!»
Четверых раненых швырнули к стене – они начали падать еще раньше, чем пули коснулись их тел. Это было пустой тратой боеприпасов. Все раненые умерли бы через несколько часов.
Высокий стройный офицер, в рубашке и шортах цвета хаки, с большим носом и массивной челюстью, в фуражке, надетой задом наперед, и в очках, сдвинутых на лоб, быстро направился к нам. Он закричал по-английски. Солдаты отвели меня к стене с тремя другими пленными. «Остановитесь! Вы кровожадные ублюдки. Разве не видите, что он – джентльмен!» Они заколебались, посмотрели на белогвардейского капитана, который как раз отвернулся. Солнце било мне в глаза. Капитан пожал плечами и сказал по-русски: «Мы узнаем, кто он такой». Он заговорил по-французски с низеньким широколицым лейтенантом, который дурно перевел его слова на английский язык: «Говорят, нужно допросить».
Командир танка оказался австралийцем, как и все прочие танкисты. На лице его застыло выражение отвращения. Он пожаловался, что хотел вернуться в Одессу и оттуда отправиться на корабле прямиком в Мельбурн. Он все время потирал нос, как будто у него зудела кожа. Я заговорил с ним по-английски, когда он, вздохнув, наклонился и начал осматривать днище своей машины:
– Я очень вам признателен, сэр!
Его реакция меня поразила. Он как-то сразу переменился. Офицер усмехнулся и осмотрел своих людей. Они вскарабкались на машины и сидели на нагретом солнцем металле, потягивая что-то из фляжек.
– Хоть кто-то говорит на настоящем чертовом английском.
Выстрелы доносились из церкви и из-за угла, куда уводили раненых.
– Господи Иисусе! – сказал командир танка. – Что еще можете сообщить?
– Я говорю по-английски, – заявил я. – Катись, О’Рейлли, подальше! – Так я показал, что могу говорить и на нормальном наречии, а не только на книжном языке, как это называла госпожа Корнелиус. – Я учился в Киеве. Я доктор наук из местного университета и квалифицированный инженер. У меня звание майора.
– В чьей армии?
– В армии, верной законному правительству, уверяю вас, – я начал было объяснять, но упал в обморок.
Я очнулся в сумерках. Австралийский солдат держал у меня под носом кружку с горячим бульоном. Еда меня не интересовала. Я чувствовал себя как-то странно.
– Тебе нужно поесть, приятель. – Он напоминал русскую бабушку. Ради него я выпил бульон. Часть жидкости даже попала мне в желудок. – Какие же ублюдки эти крестьяне, – сказал солдат. Ему было столько же лет, сколько и мне. – Я ненавижу их сильнее, чем красных, а ты?
– Они пострадали, – ответил я.
– Разумеется. – Он кивнул. – Наши русские творят ужасные вещи. Все они – чертовы дикари. Неважно, какую чертову форму они носят. – Солдат вздохнул. Он не мог ничего понять. Он не хотел оставаться в России. Как и его командир, он стремился вернуться в буш, в свои дикие родные края. – Мы хотим помочь тебе. Нам нужен переводчик и инженер. Мы уже потеряли двоих наших парней из-за сыпного тифа. Ты что-нибудь знаешь о танках?
– Немного.
– А как насчет карбюраторов?
– Думаю, что разберусь.
– Превосходно. Теперь тебе надо бы немного вздремнуть. Утром позавтракаешь и сможешь взглянуть на Бесси. – Как я понял, австралийцы почти все танки называли «Бесси». Я не раз спрашивал, почему. Ответа никто не знал. Солдат говорил доброжелательно и уверенно, как человек, произносящий заклинание, действенность которого несомненна.
Я провел ночь в спальном мешке около танка. Русские свалили на землю ничтожную добычу, которую сумели отыскать; капитан Куломсин наблюдал за ними. Солдаты считали его добрым командиром. Они, конечно, называли себя добровольцами, но на самом деле таковыми являлись очень немногие. Австралийцы обращались с ними свысока, словно стыдились союзников. Говоривший по-французски офицер оказался сербом. Я предположил, что он был неудачливым авантюристом, который завязал дружбу с белыми, чтобы спасти свою шкуру. Я позавтракал хлебом и большой порцией очень жидкого супа. У австралийцев имелись собственные запасы, с добровольцами они не делились. Они выдали мне сигарету. Она оказалась гораздо слабее тех, к которым я привык. Это был настоящий виргинский табак. Я почистил карбюратор и подсоединил его. Солдаты проверили двигатель. Он работал вполне прилично, но был ужасно перегружен; австралийцы ездили слишком быстро. Проблем у меня возникло не больше, чем с обычным трактором. Мы выехали из деревни. Белые сожгли ее. За то, что жители укрывали красных, сказали они. Я этого не видел. Меня взволновало первое путешествие в душной кабине танка. Те машины были куда более тесными, чем современные танки, которые по сравнению с ними кажутся настоящими «роллс-ройсами». Мы медленно продвигались вперед. Австралийцы практически не разговаривали друг с другом. Я спросил, куда мы направляемся. На соединение с несколькими другими отрядами, ответили они, для какого-то настоящего сражения. Я решил, что танкисты имели в виду нападение на крупный город.
В танке было жарко и душно. Меня это не беспокоило. Я впервые за два года чувствовал себя в безопасности. Мы очень часто останавливались, изучали карты. Я переводил беседы капитана Уоллиса, австралийского командира, и русского офицера, который ехал в штабной машине. Мое сердце пело. Мы приближались к Одессе! Серб с негодованием смотрел на меня. В его услугах больше не нуждались. Когда видел его в последний раз, через одну из боковых танковых щелей, его лицо выражало боль и отчаяние. Меня попросили настроить двигатель другой машины. Я был, по словам австралийцев, на вес золота.
Все золото скоро исчезло из России. Теперь вы еще можете найти его в кенсингтонских антикварных лавках, поблизости от советского посольства.
Наступил август. Становилось все жарче и жарче. Всякий раз, когда предоставлялась возможность, мы открывали люки и вертелись в орудийной башенке, пытаясь насладиться прохладой. Мое лицо и руки стали совсем коричневыми. Я был счастлив и доволен к тому времени, как мы достигли низких, поросших лесом холмов. «Это очень похоже на Дорсет», – сказал капитан Уоллис. Мы остановились. Уоллис посовещался с Куломсиным.
Тот указал на пыльную дорогу, достаточно широкую, чтобы по ней проехать на танке, если сохранять осторожность. Куломсин поехал впереди на автомобиле.
Листья деревьев мерцали в солнечном свете. Запах земли, недавно пропитанной влагой, а теперь высохшей на солнце, действовал на меня расслабляюще. Я с тех пор обнаружил, что аромат гиацинтов, роз, сирени и лилий может быстро успокоить меня, в отличие от побочных продуктов мака.
До меня как раз дошла очередь, я поднялся в орудийную башенку – и тут мы выехали из леса и двинулись по заросшей лужайке к старому озеру, окруженному разрушенными балюстрадами. В центре водоема находился искусственный остров. Там росли ивы, рядом виднелись жалкие останки домика в японском стиле. На другом берегу, вдалеке, я разглядел большой неоклассический особняк, поврежденный недавним артиллерийским обстрелом. Южная стена наполовину обвалилась – мне показалось, что в доме произошел пожар. Несомненно, крестьяне, большевики, националисты, эсеры, анархисты, бандиты всех мастей побывали в доме и в поместье. Но оно отчасти сохранило свое древнее достоинство. Теперь над особняком развевался флаг Добровольческой армии. Хозяин, несомненно, мертвый или спасшийся бегством, скорее всего, успокоился бы, увидев этот флаг, но утомленные сражением белогвардейцы, разбивавшие лагерь вокруг дома, выглядели отнюдь не умиротворенно.
Танк проехал вдоль берега, и мы оказались в своеобразном загоне, где уже располагалось несколько других танков. К своему величайшему восторгу, я сумел разглядеть у причала на дальнем берегу озера два гидросамолета. На них в спешке нанесли отличительные знаки добровольцев, но изначально машины, очевидно, принадлежали немцам. Один самолет был большим, второй – крошечным, одноместным. Первый – двойной биплан с огромными крыльями от носа до кормы, «Эртц Флюгшунер». Второй – «Ганза-Бранденберг W 20»[154], предназначенный для взлета с подводных лодок, но никогда не использовавшийся для этого. Его можно было очень быстро разобрать, сложить и легко собрать снова. Это был идеальный самолет для военных кампаний, в ходе которых вода, конечно, не всегда была доступна. «Ганза-Бранденберг» казался замечательным самолетом. «Эртц», с другой стороны, заслужил дурную репутацию. Его было нелегко поднять даже со спокойной воды. Я не мог отвести взгляд от самолетов, пока двигатель танка не заглушили. Мы начали разгружаться, австралийцы обменивались громкими приветствиями и жаловались на своих русских союзников. Наконец ко мне подошел капитан Уоллис. Он пожелал представить меня русскому командиру, и мы пошли вокруг озера к особняку. Легкий запах гнили показался мне приятным. Отряды добровольцев сделали дом своей штаб-квартирой.
Я пожалел о том идиллическом прошлом, когда дом и имение представляли высшую ступень развития цивилизации на юге России. Однако я был счастлив уже оттого, что видел остатки былой роскоши. Я воображал, как все это должно было выглядеть во времена Тургенева, который чудесно писал о таких местах, где человек мог мысленно перенестись во Францию. В просторном холле было прохладно. Винтовая лестница вела наверх. Как и следовало ожидать, и картины, и все остальное, что представляло хоть малейшую ценность, было украдено. Я увидел несколько складных стульев и разборных столов для офицеров, карты на стене; атмосферу усталости, по-моему, усиливала жара, стоявшая на улице. Большинство солдат оказались русскими в роскошных мундирах царских времен. В штабе также были французские, греческие и британские офицеры. Я выяснил, что мы находились менее чем в двадцати верстах от Одессы и совсем близко от побережья. Я так и чувствовал дивный аромат цветов и соленой воды. Я вошел в большую комнату и увидел одного из русских, показавшегося мне знакомым.
Он был среднего роста, с моноклем и маленькими усиками, в темной кожаной куртке, которая распахнулась; под ней виднелась гимнастерка. На нем был мундир русских инженерных войск с красными, желтыми и черными нашивками. По званию – подпоручик. Этого человека я встречал в Петербурге, когда он приезжал домой в отпуск. Я приветствовал майора Пережарова, русского офицера, равного мне по чину. Пережаров находился, судя по всему, в дурном настроении. Он сидел за столом и курил. Капитан Уоллис представил меня как майора Пятницкого, из разведки. Пережаров угрюмо осмотрел меня. У него было смуглое, печальное лицо. Он заговорил на чистейшем французском языке, поинтересовался, как обстоят дела в Николаеве. Я объяснил, что занимался танками. Он кивнул:
– Вы говорите по-английски. Это уже кое-что. – Пережаров вздохнул. – И вы шпионили за красными? – Он с отвращением взглянул на мою одежду. – Запасной формы у нас нет.
– Я был в плену. И спас меня капитан Уоллис.
– Где вы были до этого?
– В Гуляйполе. До того в Александрии. Еще раньше – в Киеве.
– Знаете, чем сейчас занят Антонов?
– Разные фракции ссорятся, они не могут прийти к единому решению. Их перемещения, увы, для меня теперь – загадка.
– Что ж, их боевой дух не лучше нашего. Я очень рад. – Он отвернулся от меня.
Я приветствовал подпоручика и щелкнул каблуками, не сумев в точности повторить это движение истинного русского солдата.
– Полагаю, что мы знакомы. Вы не Алексей Леонович Петров, кузен моего старого друга, князя Николая Федоровича Петрова? Мы встречались у Михишевских несколько лет назад. В Питере. Меня тогда звали Дмитрий Митрофанович Хрущев.
– Ах да. – Он моргнул и снял монокль. Теперь он обращался с этим предметом гораздо увереннее. – Мы говорили о Распутине. – Он как-то неприятно рассмеялся.
– Мы с Колей были очень близки. Я занимался наукой.
Он посмотрел на меня с прежним высокомерием. Мне не приходилось сталкиваться ни с чем подобным со времени жизни в Петербурге. Я вспомнил, как раздражало меня его поведение. Но теперь мы были, в конце концов, равны. Я даже превосходил его чином.
– Не знаете, как поживает Коля? Где он? Мне известно, что он занялся политикой.
– Коля? – Смех был вызывающим, как будто он потешался над победителем. Мой собеседник был озадачен. Он произнес: – Кто знает, где он? Чека?
– Он в тюрьме?
Петров снова засмеялся:
– Вряд ли. Они не держат слишком много заключенных, не так ли? Особенно князей, близких к Керенскому.
Я очень огорчился. В словах Петрова слышалось обвинение. Я задумался, не считает ли он меня политическим союзником Коли.
– Вы говорите по-английски, как я слышал?
– Да. – Я оплакивал Колю, моего лучшего друга. – Я служу в разведке. Я работал переводчиком у австралийцев.
– Мне потребуется переводчик. Мы тратим слишком много времени, чтобы перевести сообщение. Из-за этого мы потеряем Одессу. Почему бы вам не отправиться со мной в качестве летчика-наблюдателя?
Форма инженера ввела меня в заблуждение. Я вспомнил давний разговор в петербургской гостиной. Он был, конечно, летчиком. Один из самолетов на озере принадлежал ему. Это могло стать моим первым путешествием в летающей машине, построенной не мной. Мне было любопытно исследовать различия.
– На «Эртце»? – спросил я.
– Это единственный двухместный самолет. Вам раньше приходилось работать наблюдателем?
– Нет, скорее нет.
– Это забавно. – Он снова рассмеялся, по-прежнему язвительно, как будто я сумел обойти его в какой-то игре. – Что скажете, Хрущев?
– Если ваше начальство согласно…
– У меня нет начальства. Я летчик. Как и танкисты, мы – сами по себе. Мы слишком ценны, чтобы заставлять нас терпеть всю эту болтовню. Я скоро вылетаю, у меня есть дело в Одессе. Вы знаете церковь Победителя?
– Странное название для церкви. – Я решил сыграть в его игру, какова бы она ни была. Но мысли о Коле не оставляли меня.
– Не правда ли? В самолете есть карта. Вы можете обозначить на ней позиции. – Он как будто преисполнился отчаяния. Все его идеалы исчезли. Он хотел за что-то отомстить, но не мог отыскать виновных. Мне следовало бы опасаться его, но я пытался перестать думать о Коле – и еще изо всех сил стремился полетать на самолете.
Петров отдал честь майору Пережарову.
– Господин майор, этот офицер будет мне очень полезен в качестве наблюдателя. Он может также передавать сообщения непосредственно английским офицерам. Я хотел бы взять его с собой в полет.
Пережаров пожал плечами:
– Как пожелаете.
Простившись с капитаном Уоллисом, я покинул особняк и направился с неожиданно примолкшим Петровым к берегу озера. Маленький деревянный причал восстановили и протянули туда, где были пришвартованы гидросамолеты.
– Вам знакомо устройство «Эртца»? – спросил Петров.
– Я знаю, что немцы отказались использовать их в военных целях.
– Не совсем. Вот так мы его и получили. С этой машиной дьявольски трудно управляться, но в ней есть особая прелесть. Малышка «Ганза» – просто сокровище. Вы даже не почувствуете, как она взлетает и приземляется. Как стрекоза. Но «Ганза» – одноместная.
– Вы управляете обоими самолетами?
– Я единственный оставшийся авиатор. У вас имелся какой-то опыт воздушных полетов? Кажется, Коля упоминал об этом.
– Мой самолет был экспериментальным.
– Да. – Он задумался. – Конечно; в Киеве.
– Я Коле очень обязан.
– Вы – из его ближайших друзей? Он был по-настоящему богемным человеком, но осознавал свое предназначение.
– В политике? – Я пожал плечами. Мне никак не удавалось ухватить нить разговора.
Мы дошли до конца причала.
– Жарко, как в пекле, а? – Петров снял фуражку. – Там прохладнее. – Он, казалось, тосковал по небу. Солнечный луч отразился от его монокля. Стекло сверкнуло подобно глазу дракона. – Вам, однако, удалось выжить. Вы отчасти мошенник, не так ли? И так попали в разведку.
Я сделал вид, что не заметил оскорбления:
– Это было единственное, что я мог сделать.
– Шпионить.
– И заниматься саботажем. Мне следовало наилучшим образом использовать свои инженерные способности. В борьбе с врагом.
– Вы всегда были против красных?
Я удивился, почему он так тщательно меня допрашивает:
– Я решительно сопротивлялся им.
– Вы с Колей расходились во мнениях?
– Только в этом вопросе.
– Я его поддерживал. Я был за Керенского, понимаете? Мы все виноваты.
– Революция Керенского стоила мне академической карьеры.
Петров посмотрел вниз, на радужные масляные разводы на воде.
– Мы все виноваты. Но мы с вами пережили Колю.
– Виноваты? В чем?
– В том, что не прислушались к нашим сердцам. Каждый может предвидеть будущее, разве не так? Дело в том, что мы отказались принять то, что увидели.
– Будущее?
– В кофейной гуще или на наших ладонях. В колоде карт или в очертаниях облаков.
– Я не суеверен. К сожалению, я рационалист.
– Ха! И вы живы – а Коля мертв. – Он окликнул механиков, лежавших на траве у самого берега. – Нам понадобится «Эртц».
Потом его внимание, казалось, привлекли стоящие вдалеке ивы.
– Мы сейчас отправимся? – спросил я.
Петров поморщился.
– Почему бы и нет? – Он погрузился в свои мысли. Я подумал, что он слишком непостоянен. – Есть кое-что, что я хочу сделать. Ради будущего.
Я предположил, что он думает о смерти и хочет написать завещание.
– Хотите передать это мне?
– Что? Да, если пожелаете. – Он потер пальцем левое веко, потом усмехнулся. – Если пожелаете. Так вы не можете предвидеть будущее? А ведь вы ученый!
Возможно, он позаимствовал что-то из модного мистицизма в доме Михишевских, что-то у своей сестры Лолли, той Наташи из минувших счастливых дней.
– Идемте.
Я возвратился с ним в особняк, в маленькую комнату на первом этаже; теперь в ней обитало несколько человек, а раньше она была кладовкой. Здесь все еще пахло хлебом и мышами. Из-под матраца Петров вытянул непочатую бутылку французского коньяка.
– Вы такой любите?
– Когда-то любил.
– Хорошо. Мы выпьем. За Колю.
– Не могу отказаться.
Мы расположились на подоконнике. За окном был виден неопрятный огород. Двое рядовых пытались привести его в порядок. Они работали умело, как крестьяне. Петров откупорил бутылку и вручил ее мне. Я пил медленно, с удовольствием. Он нетерпеливо отобрал у меня коньяк и запрокинул голову, выпив почти половину одним глотком. За время войны его горло, очевидно, загрубело. Он вернул мне бутылку. Я сделал большой глоток, но в бутылке еще оставалось немало. Петров разразился неприятным смехом, запомнившимся еще с петербургских времен, одновременно напряженным и негодующим. Он прикончил бутылку, оставив на дне лишь несколько капель:
– Вот как пьют авиаторы. Нам это необходимо. Вы слышали о тех глупых ублюдках, которые тянули самолеты на санях несколько сотен верст, чтобы сражаться за Деникина? Какова энергия, а?
– Выпивка не помешает вам управлять самолетом?
– Наоборот, поможет. Я последний оставшийся в живых из целой эскадрильи.
– Я знаю, каково это, – к тому времени я уже был слегка пьян, – потерпеть крушение.
– Знаете? – Он улыбнулся.
– Я сконструировал несколько экспериментальных самолетов. Я потерял управление, испытывая один из них. В Киеве.
Он опустошил бутылку.
– Все из-за братьев Райт. Черт их побери! И все изобретатели… Фауст не заслужил спасения.
– Может, вам лучше отдохнуть? – предложил я, не понимая его намеков.
– Очень скоро, доктор. – Он порылся под матрацем. – Очень жаль. Это была последняя бутылка. Теперь отправимся в высший мир.
Выпив, я нервничал гораздо меньше. Мы пошли к озеру; «Эртц» уже подготовили к полету. Пропеллер работал, поднимая волны. Механики, благодарные за дуновение ветра, держали самолет за хвостовое оперение и огромные задние крылья – так казаки могли бы удерживать опутанного веревками дикого, непокорного жеребца. Запах керосина казался приятным. «Идите вперед, – сказал Петров. – Садитесь в переднюю кабину. Там найдете ремень безопасности. Пристегнитесь. Рядом очки и прочая ерунда. Все, что вам понадобится». Он засунул что-то массивное, завернутое в ситцевую тряпку, себе под куртку. Я подумал, не бомба ли это. Я поначалу сомневался в том, что смогу добраться до кабины. Фюзеляж был сделан из дерева и ткани. Но мне удалось взобраться на качающийся самолет, цепляясь за стойки, и в конце концов усесться в маленькую кабинку наблюдателя с сиденьем и рукоятями, на месте которых в другой кабине располагались контрольные приборы. Изнутри в кабине был закреплен бинокль, здесь обнаружились также пистолет в кобуре, полевая сумка и планшет, несколько карандашей и летные очки, резина на которых истерлась и затвердела. Я был по-прежнему в кафтане, пистолеты давили мне на бедра, я уселся и закрепил ремень безопасности, потом надел очки. Петров сел сзади и начал подавать сигналы. Двигатель и пропеллер, конечно, производили слишком много шума, поэтому бесполезно было даже пытаться разговаривать.
Машина внезапно рванулась вперед, разом набрав безумную скорость. Самолет напоминал взбрыкнувшую лошадь, запряженную в сани, мы как будто мчались по неровному склону на салазках; это одновременно и бодрило, и тревожило. Грязные брызги неслись мне в лицо. Я почти тонул в них. Вода в озере оказалась стоячей.
Самолет завибрировал, развернулся на воде, наклонившись на правый борт. Потом я заметил движение элеронов на крыльях, и мы поднялись над зеленым озером и ивами; самолет резко накренился, и коньяк внезапно согрел все мое тело, разум и душу. Мы летели над лесом, разрушенными домами, заброшенными полями; летели к холмам и синему морю, мчались в тумане между небом и землей. Я видел блестящие мелкие лиманы с заброшенными курортами, колонны марширующих людей, всадников, автомобили, составы с боеприпасами и артиллерией. Я ощутил свободу полета. Не существует удовольствия превыше этого. К чему люди взбирались по горам, когда они могли извлечь гораздо больше пользы, летая? Ветер ревел и при этом успокаивал; такого сочетания риска и умиротворения не испытывал ни один завсегдатай модных курортов. Серый туман обернулся городом. Одесса с воздуха, с ее фабриками и храмами, портами и железными дорогами, выглядела точно так же, как в тот день, когда Шура показывал мне город: в его облике было что-то нездешнее и чудесное; но я настолько привык убегать от действительности, что меня нисколько не взволновала новая встреча с городом после долгих месяцев отсутствия. Я был добросовестным работником и занялся своим делом.
В доках собирались большие группы людей, широкие причалы были заполнены. В бирюзовом море я разглядел несколько кораблей. Виднелись большие пушки. В дальних предместьях располагались орудия, конница, пехота, но их было явно недостаточно. Красные плохо подготовились к встрече с Деникиным. Потом снизу донесся стук. На мгновение двигатель умолк, и я слышал только грохот орудий и визгливый смех Петрова. Он опустил самолет. Я почувствовал слабость. В нас стреляли. Двигатель снова заработал. Зенитная артиллерия вела по нам огонь. Шрапнель рассекла ткань, но серьезного ущерба выстрелы не нанесли.
Петров вел самолет вниз, в дым, на верную смерть; он летел низко над конторами, гостиницами, многоквартирными домами, а я делал пометки на картах. Мы промчались над лестницей церкви Святого Николая, по которой я бродил в первый одесский день вместе с Шурой. Мы облетели вокруг купола с огромным распятием; по одну сторону от купола простирались обрывы, сады и деревья, модный Николаевский бульвар, по другую – море и корабли; мы кружились и кружились, как игрушка на палке. Это было глупо и опасно. Петров все смеялся. Орудия из доков продолжали стрелять по нам. Неужели он рассчитывал, что нас подобьют? Повсюду висели клубы дыма. Петров распахнул свою летную куртку и вытащил предмет, который спрятал перед полетом. Он держал сверток в левой руке. Тряпка сорвалась и умчалась прочь, как мертвая птица. В руке Петров держал не бомбу, а большие песочные часы на мраморной подставке, возможно, работы Фаберже, из белого с синими прожилками мрамора. Стекло блестело. Песок искрился серебром. Петров вытянул руку, потом заложил вираж, наклоняя самолет еще ближе к куполу. Я почувствовал, что меня сейчас стошнит. Продолжали стучать пулеметы. Я мог различить их грохот сквозь шум двигателя, как будто издалека.
Самолет почти коснулся креста. Петров бросил песочные часы вниз, на золоченую крышу храма. Он смеялся. Я мог разглядеть его зубы. Очки превращали его лицо в череп с двумя огромными черными впадинами. Летчик побледнел. Его ноздри пылали. В бинокль я смог разглядеть, как часы коснулись купола и разбились; я видел, как мрамор раскололся на куски. Песок рассыпался, как монеты. Потом мы понеслись вниз, прямиком на пушки, стоявшие на верфи. Я, обезумев, начал делать новые пометки на карте. Внезапно самолет накренился. Я оглянулся назад. В Петрова попала шрапнель. Пули разорвали ему пальто, была видна окровавленная плоть. Он продолжал усмехаться. Из-за очков я не мог разглядеть истинное выражение его лица. Он махнул мне простреленной рукой; потом самолет поднялся в сине-зеленое небо Одессы, и вновь воцарилась тишина. Двигатель окончательно умолк. Мы плыли по ветру. Петров позвал меня. Думаю, он был безумен, потому что называл меня полковником и говорил о победителе. Его смех уже не прерывался. Он закричал: «Прощайте!» – и вновь запустил двигатель. Смех и шум машины слились для меня воедино. Мы начали пикировать прямиком в море. Я понял, что он хотел меня убить. Что-то оторвалось от самолета. Думаю, это была часть верхнего переднего крыла. Потом самолет беззвучно вошел в штопор. Двигатель издавал шум, напоминавший смех.
Несмотря на охвативший меня ужас, я пытался урезонить Петрова. Он совершенно обезумел. Ненависть ко мне или к тому, что я, по его мнению, воплощал, погубила его разум. Я до сих пор не могу понять этого. Он был мертв или, по крайней мере, без сознания повис на своих ремнях. Я не мог дотянуться до рычагов управления. Я отстегнул свой ремень безопасности и спрыгнул. Самолет врезался в воду и понесся по ней так, как будто все еще летел по воздуху. Я тонул. Мне показалось, что мои ребра сломаны. Я стал продвигаться к поверхности воды. Петров и «Эртц» исчезли в глубине. Я не мог как следует плыть. Но течение понесло меня, и я, изумленный, выбрался на пляж, поднялся и начал пробираться через скользкие камни. Пляж круто уходил вверх, почти сразу зарастая травой. Я уже мог разглядеть несколько зданий. Я задыхался. Мои ребра, казалось, уцелели. От Петрова не осталось и следа. От самолета тоже. Эта прекрасная машина исчезла навеки. Не думаю, что такие еще производят. Ноги меня не держали. Мне с трудом удавалось выпрямиться, я то и дело сгибался и опирался на руки. И все же почувствовал себя воскресшим, когда, полностью одетый, ощущая тяжесть пистолетов при каждом шаге, выбрался с пляжа и увидел на выгоревшем променаде пустынную эстраду. Я сошел на берег в Аркадии.
Глава восемнадцатая
Город спящих козлов; город преступников; город ноющих ворон; прощелыги валяются в переулках; пташки поют лживые песенки. Синагоги горят.
Стальной царь, идущий с юго-востока, из грязного города козлов, от древних руин. Сталь загнала их обратно в руины. К древним чужим морям, омывающим разрушающуюся скалу. Прочь от их родины. В бездну стыда; прочь от Бога. Куда они могли пойти? Эти благородные люди слишком долго сражались за свою землю; слишком долго, чтобы помнить причину. Почему они сражались? Почему они не сражаются теперь, эти русские? Звезды были уничтожены. Укрыты адской чадрой. Звезды сгинули в огромном темном солнце. Солнце взошло над Россией; и воцарились в ней хаос и древняя ночь. Мы только теперь узнали, в чем хитрость. С гор, из грязного города козлов и руин, явился смуглый грузинский царь, плачущий о России, которую уничтожил его повелитель; царь, возносящий хвалы дьяволу, но стремящийся к Богу. Жаждущий откровения, молчания, древних тайн и оплакивающий благочестивые взоры, старые бороды, прогнившие суеверия ханов и фарисеев, стреляющий в спину любому, кто посмел бы напомнить ему, словом или делом, о том, что он потерял. Безумный стальной человек, грешный священник, ты принес в Россию религию мести и отчаяния. Две головы, две души, два крыла. Обреченный король, владеющий сокрушающим молотом и серпом последней жатвы. Они невидимы и смертоносны. Я видел крестьян с этим оружием в руках, оружием скотов. Я видел, как они надвигались на евреев. Они вспарывали врагам внутренности и обретали силу отчаяния.
Они спрятали кусок металла у меня в животе. Они пролили мою кровь. Они пили мою кровь. Они осквернили ее. И металл – как холодный плод в моей утробе, и я не позволю ему ожить. Лишь когда я умру, мир узнает, что я скрывал; мир узрит мою маленькую, скачущую, милую, смеющуюся оловянную куклу. Этот кусок металла угрожает всему моему существованию. Но я не позволю ему вырасти. Я не позволю ему танцевать. Я не позволю ему кланяться. В свой черед он не позволит мне согнуться. Что это – гордость? Совесть? У меня нет никакой совести, за исключением долга перед Господом. У меня нет никаких обязанностей перед людьми. Только перед наукой. Я не хожу ни под какими знаменами. Я – сам за себя. Почему они что-то дают мне и что-то отбирают? Почему я не властен над собой? Бог – мой отец. Мой отец предал меня. Христос восстал из мертвых. Почему они карают людей Агнца? Греки вошли в город Одиссея. Французы, австралийцы, британцы и итальянцы. В те дни все они вспомнили о турках. И все еще сражались с ними. И ислам был побежден. Но Великобритания возлюбила ислам и позволила ему вновь возродиться. Великобритания и ее романтичная глупость, ее еврейские премьер-министры, ее банкиры и сутенеры. Эсме солгала мне. Ее не насиловали. Агитационные поезда. Счастливый муж-кулак. Мертвый муж. О Украина, сердце нашей империи, оплот против ислама! Почему погибла ты так позорно, пожирая собственную плоть, разрывая собственных детей, уничтожая всех, кто любил тебя? Гиены смеются в твоих храмах. Греки ушли из Одессы. Они укрылись на Молдаванке. Старые здания остались там же, где стояли до войны, но теперь пахли землей и сыростью. Никто не пожелал остаться в Аркадии, кроме нескольких евреев. Один из них отвел меня в дом, который вряд ли ему принадлежал, слишком роскошный, построенный со вкусом. Еврей шел легкой походкой, он не скрывал своей скорби; но его прикосновение было дружеским. Он был совсем молод, писал статьи в какой-то одесской газете, но теперь лишился работы. Он сказал, что газеты появляются и исчезают вместе с завоевателями.
– А вам не угрожает опасность? – спросил я.
– Я в безопасности, – ответил он, – но ужас зачаровывает, не так ли?
Я думал, что погибну, но теперь лежу в белой кровати с влажными простынями.
– Нет, – сказал я, – с меня хватит.
– Вы там были? – Он указал в сторону Киева.
– Был.
– И мне следовало бы быть там.
– Они убьют вас. Вы еврей.
– Евреи выживают.
– Некоторые, – сказал я.
Мне приходилось быть вежливым, потому что он мне помог. Кроме того, я всегда испытывал слабость к космополитичным одесским евреям, сильно отличающимся от своих соплеменников: лучшая разновидность евреев, как мы говорили.
Он рассмеялся, как будто я пошутил. Он смеялся с благодарностью, не так, как Петров; но я думал, что весь мир бьется в судорогах. Он был одержимым. Я решил сохранять осторожность, но влюбился в него, в этого южанина, этого сладкоречивого насмешливого еврея. Я хотел его. Да, я признаю это. Мне стыдно. Признаюсь, я дрожал, когда он принес мне бульон.
– Все приготовлено из морских водорослей, – сказал он, – не то, о чем вы мечтали, но это поможет. Но разве все истории лживы?
– Я был в танковой команде.
Он высушил мою одежду, отполировал мое оружие. Серебро сверкало. Пистолеты лежали на сиденье стула, военный кафтан висел на спинке. Он даже отыскал подходящую шапку.
– Вы были в том самолете, – сказал он.
– Наблюдателем.
– Значит, они наступают.
– Ну… – Я хотел расцеловать его длинные руки. Он кормил меня супом из деревянной ложки. – Ну…
– Конечно, вам нельзя рассказывать. Но такова моя работа. Я просто предположил.
– Вы уедете?
– Нет необходимости. Устроюсь в другую газету. Сейчас великое множество газет и политических партий, но хороших журналистов всегда не хватает.
– Я видел, люди могут уничтожить всех вокруг.
– Я покладист. – Он пожал плечами. – Видите ли, гибнут те, у кого большие запросы.
– Вы сказали, что хотите уехать подальше от побережья.
– Позже. Когда все уладится. А тогда они все равно могут убить меня?
– Возможно.
– Я не могу этого понять, а вы?
– Я понимаю их, – произнес я. – Во всем виноваты поляки.
– Мне тоже так кажется. – Он раскрыл маленькую зеленую книжку и показал мне строки из одного стихотворения. Я сейчас не могу его вспомнить.
Почему я поддался обаянию этого интеллигентного еврея? Христос на горе? Нет, это богохульство. Я полюбил его. Я не мог испытывать отвращения. Я ничем не был ему обязан. Полагаю, я стал его аудиторией. Еврей жил один в доме, который совершенно точно не мог себе позволить. Его скоро выставят вон. И он об этом знал. Я спросил, ходят ли еще трамваи.
– Вы бывали в Одессе?
– Я провел в этом городе часть своей юности, познал здесь счастье.
– Трамваи иногда ходят – конки, паровые, электрические. Зависит от имеющегося топлива. Но это долгая прогулка, а вы ранены. Можете подождать у Фонтана, но не уверен, что стоит надеяться…
– У меня там родственники.
Он пожал плечами. Я не хотел расставаться с ним. Он был нежен. Я доверял ему. Может, он притворялся евреем, как Терц?[155] Всего лишь притворство? Я ждал, что он прикоснется ко мне, но этого не произошло. Я пошел с ним к трамвайной остановке. Моя одежда высохла на солнце, пистолеты были чистыми. Весь курорт казался тихим и пустым. С тех пор я проникся симпатией к пустынным приморским городам. Я часто посещал их зимой, вместе с госпожой Корнелиус, но она никогда не была идеальной спутницей, предпочитала, по ее словам, немного веселья на побережье. А русские стремятся к одиночеству. Теперь это наше единственное достояние. Но даже его у нас отнимают. Они пытаются превратить Россию в Америку; в Америку, с ее сентиментальными условностями; пытаются уничтожить нашу культуру, язык, интеллект. Америка до войны была совершенно иным местом. Она была суровее.
Иногда мне кажется, что была еще одна война, третья. И что я выжил после нее. Наверное, это признак старости. Мне говорят, что я параноик. Но паранойя – всего лишь страх. И я боюсь. Я пытаюсь предупредить их. Мне говорят, что я боюсь не тех вещей. Как же так, если я боюсь всего? Моя голова полна разных возможностей. Меня не тревожит жизнь. Меня не тревожит, умираю ли я. И никогда не тревожило. Но меня беспокоит то, что скрыто во мне. Моя честь. Мои дары, которые Бог забрал, взамен принеся в дар Себя. Это – знание и благородная душа; вот что поистине драгоценно. Я никогда не понимал людей, которые не признавали этого. Госпожа Корнелиус не стала бы даже рассуждать о таких вещах. Я ей нравился. Она никогда не оказывала мне медвежьей услуги: не говорила, что любит меня. Любовь растет изнутри. У меня в чреве как будто катушка, сделанная из меди. Она проводит электричество. Она холодная. Они поместили ее туда. И она не позволяет любить. Дети любят меня, не так ли? Но почему же они в таком случае меня преследуют? Кварц? Диоды? Цепи? Задайте мне любой научный вопрос. Я боюсь предательства. Меня предавали. И любви всегда не хватало. Ту малость, которая была, у меня отняли. Или мне не хватало усилителя? Но для него не было места. Я стал сильным в обществе того журналиста, в предместьях города черных, спящих козлов.
Пришел трамвай. В нем было полно добровольцев-эсеров, носивших такую же форму, как и белые. Я легко заскочил в вагон. Они не обратили никакого внимания на меня и моего спутника, который решил, по его словам, понаблюдать за действиями. На полпути к Одессе электричество отключили. А лошадей, чтобы везти трамвай, не было. Солдаты решили остаться там, где были. Мы в сумерках двинулись дальше. Город становился все ближе. Я увидел огни, почувствовал вонь. Моя Одесса стала выгребной ямой. Вандалы грубо воспользовались ей. Красные ушли. Белые еще не пришли. Я вместе со своим другом отправился в дом дяди Сени. Там все было разрушено. Моя комната превратилась в руины. Я зашел в единственный магазин, который все еще работал на площади. Здесь продавали разное мясо. Все деревья срубили. Рельсы сдали в металлолом. С Молдаванки доносился запах дыма. В магазине мне сказали, что дядя Сеня все продал. Когда дом сожгли, его в нем не было. Кто-то слышал, что дядю арестовали за спекуляцию и отправили в тюрьму. Это стало уже эвфемизмом. Его ограбили и пристрелили. А Шура? Мобилизован. Мертв. А Ванда? Соседи не вспомнили Ванду. А тетя Женя? В магазине думали, что она, возможно, уехала в Крым, как и многие другие. Хозяева магазина и сами собирались отправиться туда, если им удастся раздобыть денег и разрешение на выезд. Они сказали, что не имели права на эвакуацию. Им нужно было заплатить за проезд. Мой друг заплакал, когда мы уходили. Полагаю, он просто переутомился.
– Вас трудно понять, – заметил я.
– О да. Нелегко. Не желаете пойти со мной: я хочу узнать, в какой газете теперь работаю.
Я покачал головой. Он ушел. Я обрадовался, что он уходит. Такие отношения были бы просто невозможны. Он направлялся к товарной станции. Солдаты уже прибывали. Лошади и машины тянули пушки к докам. Я направился в Слободку на поиски Эзо. Там не осталось ничего, кроме булыжников. Я пошел искать скобяную лавку, где жила Катя. Магазин разграбили. По всей Молдаванке были разбиты ставни, на улицах я почти не видел людей. Те немногие, которых я встречал, сутулились, судя по всему, от страха. Я прошелся по Николаевскому бульвару, добрался до церкви и окинул взглядом гавань. Теперь здесь не было щеголей. На рейде швартовался французский крейсер. Французы, должно быть, выжидали, пока не узнали, что Одесса в руках союзников. Я нашел кусок мрамора с синими прожилками и засунул его в карман. Почему Петров хотел убить меня? Неужели Коля сказал что-то, что его кузен мог неправильно понять?
На причалах все еще собирались толпы. Здесь были лимузины и экипажи. Все уцелевшие приличные русские ждали здесь, надеясь уехать. Они дрались за места на кораблях. Я решил, что должен возвратиться в Киев, вернуть мать силой, если понадобится, и отвезти ее в Ялту, которая в те дни считалась совершенно безопасным местом.
Больные дети окружили меня. Они угрожали мне, но были слишком слабы, чтобы драться. Я посмеялся над ними и отдал все петлюровские деньги. Пусть потратят их, если смогут. Они начали дергать меня за одежду. Я слишком устал, чтобы играть с ними. Я был занят. Мне следовало подумать. Я вытащил черный с серебром пистолет, и они убежали. Я засунул пистолет обратно в карман. Группа солдат приблизилась ко мне. Они попросили предъявить документы. Я сказал, что я майор Пятницкий и работаю на военную разведку, поэтому важно, чтобы никто не видел, как я с ними говорю. Они мне поверили и удалились. В гавани зазвучали выстрелы, но почти тотчас все стихло.
Я решил, что должен отправиться на станцию. Люди скоро поедут назад в Киев. Поэтому нужно как можно раньше занять очередь. Но станция, освещенная аварийными масляными лампами, была настолько переполнена, что я понял: мне не хватит сил справиться со всем этим. К тому же у меня не было настоящих денег. Я хотел отыскать какие-нибудь танки и воспользоваться гостеприимством моих австралийских друзей. Но они, вероятно, все еще находились в предместьях. Я слышал артиллерийские залпы, звучавшие где-то к северу от города.
Как обычно, флаги и прокламации появились раньше всего. Они покрывали город, как маска покрывает лицо прокаженного. Мимо проезжали военные автомобили. Казалось, все кругом очень заняты. Добровольцы и их друзья союзники все контролировали и, как и все новые завоеватели, полагали, что знают что делают. Так называемые представители истинного правительства России издавали указы, не слишком отличавшиеся от тех, которые я читал прежде. Был введен комендантский час для всего гражданского персонала. Я обрадовался, что на мне военный кафтан и шапка, пытался ходить строевым шагом. Я зашел в маленькое кафе на Ланжероновской, около Театральной площади. В тот вечер ожидалось какое-то представление, судя по обилию гостей. Кто-то сказал, что таково свойство одесского характера. «Мы всё переживаем – и всем наслаждаемся», – заметил официант. Он по ошибке назвал меня товарищем и извинился, сказал, что теперь очень трудно запомнить, кто есть кто. Неужели я прибыл с новыми отрядами? Именно так, ответил я. Он спросил, известно ли мне, что случилось с самолетом, который летал вокруг купола церкви Святого Николая утром этого дня. Самолет и вправду сбили?
– Да, сбили, – ответил я. – Я знаю; я был в этом самолете.
Разумеется, я тотчас стал для них героем. Меня угостили всем, что там было, – водкой, хлебом, колбасой. Благородные люди пожимали мне руку. Банкиры отдавали мне честь. Звучала музыка. Я получил небольшое удовлетворение от своих приключений. У меня спрашивали советов почти обо всем, и я с удовольствием отвечал; ведь я мог посоветовать вполне разумные вещи. Когда я сказал, что мне нужно вернуться в Киев, чтобы разыскать мать, мне предложили самые разные варианты проезда. Я договорился посетить какого-то князя на следующий день в его гостиничном номере. Карточку я тотчас потерял. В коляске, принадлежащей фабриканту из Херсона, я добрался по темным и дурно пахнувшим улицам до маленькой, неприметной гостиницы. По его словам, это было лучшее, что он смог отыскать. Мы постучали в металлические ставни; нас неохотно впустили. Фабрикант был пьян. Он представил меня угрюмой грузинке, назвав братом. Она сказала, что за меня возьмет дополнительную плату. Фабрикант рассмеялся и сказал: «Пани, я готов был заплатить за номер в „Бристоле“, поэтому не думаю, что сильно разорюсь, если заплачу вам за лишнее одеяло и матрац для моего брата». Когда мы поднялись наверх, он заметил: «Теперь мы все – братья».
Я провел ночь на полу в его комнате. Он все еще храпел и что-то бормотал во сне, когда я уходил. Мне хотелось есть. Денег у меня не осталось. Золота тоже. Надо было продавать пистолеты. Я отправился на старый рынок. Здесь продавали куда более роскошное оружие всего за несколько рублей. Я дошел до самой Преображенской и остановился у одной двери. На ней по-прежнему висела табличка с именем дантиста: «X. Корнелиус».
Меня вырвало, когда я стоял посреди грязной лужи – на том месте, где раньше собирались наемные экипажи. Мне никогда еще не было так плохо. Тяжесть сжимала мне голову, зрение подводило меня, в глазах сверкали искры, жгучей болью сводило ягодицы и бедра, в живот как будто засунули ледяной кусок железа. Прохожие называли меня проклятым пьяницей. Закричала женщина в модном платье. Мне показалось, что это госпожа Корнелиус. Я протянул к ней руки. Подошел жандарм, которого, вероятно, выпустили из тюрьмы, он отвел меня в переулок, сообщил, что с уважением относится к военным, но мне следует выбирать не такие людные места, если я пожелаю устроить спектакль.
Меня трясло. Я сидел на ступеньках у входа в заброшенный магазин и смотрел, как мимо проезжают экипажи и автомобили. Город обрел странное великолепие – такое может быть свойственно внезапно очнувшемуся умирающему пациенту, собравшемуся с силами незадолго до смерти. Я думаю, что причина проста: они расслабляются и примиряются со своей участью, чтобы в полной мере использовать то, что им осталось. Набравшись сил, я направился в гавань, но район у церкви Святого Николая был по каким-то причинам перегорожен. Я вновь услышал выстрелы и вошел в церковь. Здесь собралось не меньше людей, чем на железнодорожной станции. Я втиснулся внутрь и оперся на своих соседей. Тогда я еще не знал никаких молитв – просто бормотал себе под нос. Вынесли распятие. Священники запели. Они махали кадилами. Белое и золотое. Белое и золотое. Но Бог покинул Одессу, и черное солнце встало над Россией.
Мне неожиданно захотелось молока. Это заставило меня улыбнуться.
Я выяснил, что кокаин невозможно раздобыть; его можно было получить только в обмен на золото, никак иначе. Если бы в Одессе осталось что-то, что можно украсть, – я бы это украл. Тем вечером я решил пойти в кафе, где накануне повстречал князя и фабриканта. Оно было закрыто. На двери появилось объявление, выведенное мелом: «Здесь укрывали спекулянтов». Это напомнило мне, что Одесса находилась на военном положении и что за грабеж и спекуляцию полагалась смертная казнь. Мне очень хотелось есть. Я обошел несколько редакций, разыскивая своего друга, имя которого я позабыл. Некоторые из журналистов его знали, но считали, что он уехал из Одессы или скрывался у себя дома. Может, мне стоило поискать его там?
Трамваи в Аркадию в тот день не ходили. Денег, чтобы заплатить за проезд, у меня не было. Я молился о том, чтобы повстречать танковую колонну или хоть кого-то, кто меня узнает. Я был уверен, что госпожа Корнелиус спасет меня. В конце концов я оказался возле военного штаба на Пушкинской, неподалеку от Александровского парка, который теперь превратился в пустырь. Я вошел, представился, как ни в чем не бывало, и заявил, что отстал от своего отряда. Я объяснил, что служил в танковой бригаде. Мне ответили, что можно сесть на поезд, идущий в Николаев. Танки направлялись туда. Они были нужны в Николаеве, поскольку там началось восстание. Я спросил, можно ли отправить телеграмму в Киев. Мне ответили, что если нет срочных распоряжений, то придется подождать. В штабе со мной беседовали весьма любезно. Мне даже предложили стул. Я сказал, что был наблюдателем в самолете. Они посочувствовали, узнав о крушении. «Забавно: у нас слишком много информации, в ней просто не разобраться». Становилось все холоднее. Август подходил к концу. Я сидел на военном посту с чашкой чая и куском бисквита и болтал с солдатами, находившимися на дежурстве. Я проголодался едва ли не до смерти. Я привык к этому состоянию и почти наслаждался ощущением эйфории и самообладанием. Мы вместе шутили над тем, насколько я истощен.
Он пришел из древнего города, чтобы своей волей уничтожить то немногое, что осталось от нашего Просвещения. Мстительный атавист, злобный неудавшийся священник. Он надвигался на город, построенный по приказу женщины, которой давал советы Вольтер, – Екатерины Великой. Одесса была основана 22 августа 1794 года, в первую эпоху революций, в век разума. Город Пушкина и Лермонтова. Только их статуи оставили большевики, да еще и возвели новые, назвали в их честь корабли. Россия стала Диснейлендом человеческого достоинства. Это ужасное оскорбление. Они называют корабли в честь людей, которые протестовали бы против всего того, что большевики сотворили с нашей Россией. Стальной царь ехал по нашим улицам и говорил так спокойно, что никто не мог догадаться, сколько людей он уничтожил. Немцы ехали по нашим улицам. Одесса, основанная на фундаментах татарских поселений, на фундаментах финикийских портов, была обесчещена. Карфаген залил ее волной крови.
Они никогда не признают, что русские люди – это лучшая реклама для них. Даже нищие в поездах, грязные продавцы на станциях, цыгане, бедняки, убийцы, алкоголики – все они хранят частицу нашего древнего достоинства. А что наши правители показывают миру вместо них? Научную фантастику. Трактора. Sputnik.
Я написал письмо матери, сообщив, что вскоре вернусь в Киев или пошлю за ней. Я посоветовал взять с собой капитана Брауна, если ей нужен эскорт; я оплачу все расходы. Я попросил одного из солдат проследить, чтобы письмо опустили в мешок с киевской почтой. Он взял конверт и выдал мне квитанцию. Я сделал все, что мог, – по крайней мере, находясь в этом городе. Моя мать когда-то казалась счастливой. Я надеялся, что она была по-прежнему счастлива.
К утру удалось отправить телеграмму танкистам в Николаев. В ответном сообщении капитан Уоллис передал мне привет. Ему теперь не был нужен русский разведчик. Он добавил, что очень рад моему спасению и желает мне удачи. Два капитана вышли из комнаты и предложили проследовать за ними. По их словам, они тоже служили в разведке. Они сказали, что обо мне не поступало сведений, и извинились. Портрет убитого царя висел на стене. Все было как в старые времена. Я успокоился.
«Я работал в Киеве, – сообщил я, – и некоторое время был офицером связи в армии гетмана Скоропадского. Потом меня вызвали к донским казакам генерала Краснова. Я собирал информацию в штабе большевиков, был ответственен за саботаж петлюровских операций в Киеве». Они записали мои слова. Времена, по их мнению, были сложные. Я сказал, что мне пришлось уничтожить военные документы, но показал свой диплом. Упомянул, что был другом князя Петрова и находился вместе с его кузеном в то время, когда самолет потерпел крушение. Они спросили, допрашивал ли я гражданских лиц. Это была скучная, рутинная работа. Она оставалась их главной проблемой в настоящее время.
Я сказал им, что не делал в этом направлении ничего, достойного упоминания, но готов занять любую должность. Мне выдали документы, новую форму, револьвер в кобуре, хлебный паек, выделили койку в комнате, где жили еще три офицера, и ранец с какой-то ерундой. Я также получил расчетную книжку, но меня предупредили, что плата поступает нерегулярно и всем приходится рассчитывать на собственные силы. Оборудования и техники вообще не хватало. Так я стал офицером разведки в добровольческом отряде, приданном 8‑му армейскому корпусу. Моя работа сводилась к проверке и выдаче пропусков и других документов тем гражданам, которые обращались с запросами. Я приступил к работе на следующее утро.
За неделю я достаточно разбогател, чтобы купить немного приличного кокаина. Я до сих пор помню приятную дрожь, которую испытал, втянув первую после долгого перерыва дозу. Я был не одинок. Все прочие офицеры вели себя так же.
Одесса, как нам казалось, начала снова оживать. Веселые дома на одной знакомой улице около Карантинной бухты открывались и процветали, в них появлялись все новые девочки, и рулетка оставалась любимой игрой солдат, посещавших эти заведения. Мы надевали парадную форму, отправляясь в увольнение; наконец и я получил свою, белую с золотом, с зелеными и черными знаками отличия; ее изготовил местный военный портной. Его услуги стоили очень дешево. Когда я находился в его лавке, он предложил подогнать другую прекрасную форму, за которой так и не пришел заказчик. Она, по его словам, была сшита почти по моей мерке. Это была форма полковника донских казаков. Я осмотрел эту одежду и сказал портному, что возьму ее как есть. Обе формы доставили два дня спустя к мадам Зое, у которой я поселился.
Мадам Зоя была юной, пухленькой и остроумной. Цветом лица и волос она в точности напоминала мою цыганку, но так и не призналась, была ли она той же самой девочкой, и никогда не позволила мне заняться с ней любовью, хотя, казалось, очень ко мне привязалась. Возможно, она была чем-то больна. Хотя прошлое вернуть и невозможно, мне повезло: я повстречал нескольких старых друзей, включая Борю Бухгалтера, который женился на своей подружке и работал в одной из немногих еще открытых портовых контор. В итоге я стал общаться с ним очень часто. Он оказывал мне разные услуги, а доходы мы делили пополам. Боря хотел, чтобы я помог ему пробраться в Берлин, а я мог раздобыть необходимые документы за умеренную плату. Он рассказал мне, что Шура не погиб; он дезертировал, некоторое время скрывался на Молдаванке, а затем, предположительно, уехал на восток. Ванда стала шлюхой, как и почти все прочие подобные ей девчонки; ее убили во время какого-то сражения. Ребенка растили родственники в маленьком порту где-то на побережье. Дядю Сеню и тетю Женю арестовали, когда Григорьев захватил город; Боря думал, что их, должно быть, расстреляли, как и многих других. После этого я решил позабыть о прошлом и обратиться к будущему.
Мы с моими коллегами-следователями занимались прекрасным делом. Никого из нас не волновала система проверки людей и выдачи паспортов. Наша позиция была очень проста: мы не могли винить людей за то, что они хотят уехать. Красные или белые – они, по крайней мере, могли освободиться от ужасов России. Мы работали в большой душной комнате, в которой было всегда полно народу. Мы упорно трудились, работали довольно тщательно. Наша основная задача сводилась к поиску больших запасов золота и проверке списков людей, которых следовало допросить. Дело шло к Рождеству, я начал подумывать о том, чтобы оставить и Одессу, и свою работу. Следовало заняться настоящим делом. Было очевидно, что на родине мне помешают. Я собирался выехать за границу, послать за матерью, когда придет время, и создать себе репутацию или в качестве преподавателя в западном университете, или в качестве инженера и изобретателя, возможно, во Франции или в Америке. Кокаин вернул мне прежний оптимизм, рассудительность и энергию. Я мог работать дни напролет, успокаивая, утешая, помогая людям, отсеивая недостойных просителей; по ночам я развлекался и играл.
Однажды за рулеткой у Зои я выпил стакан дурной анисовой водки, и мне показалось, что я вижу, как по комнате идет госпожа Корнелиус в черно-золотом платье от Эрте[156]. Но к тому времени я свыкся с галлюцинациями. Эсме, моя мать, капитан Браун, Коля, Шура, Катя, Гришенко, Ермилов, Махно, даже Ванда и герр Лустгартен, казалось, время от времени появлялись в толпе. Я поставил на черное. И проиграл.
Я спросил у Зои, была ли среди моих соседей англичанка. Она покачала головой и сказала, что англичанки не часто посещали такие заведения. «Здесь бывает очень мало англичан. У них есть целая империя, в которой говорят по-английски, поэтому они могут чувствовать себя как дома, куда бы ни отправились».
«Запад есть Запад, – писал сэр Редьярд Киплинг, поэт, – Восток есть Восток, не встретиться им никогда»[157]. Но они встретились на юге России, на моей Украине; в пограничной области, на ничейной земле, у границы, на которой киевские герои сражались за христианство, как никакие другие герои не сражались прежде. Русское рыцарство было уничтожено на Украине в 1920‑м. Мать городов русских – обесчещена; Матерь Божья – изгнана. Потом пришли немцы. Мне кажется, результаты рентгена ошибочны. У меня в животе шрапнель. Это военная рана. Но хватит о докторах и их социалистических оздоровительных программах. К чему им беспокоиться о старом иностранце? Они были к нам добрее во Франции. Я встречал Вилли. Колетт[158] предложила мне место. Я знал их всех. Но сейчас вокруг одни невежды. Я ненавидел Гертруду Стайн. Но, по крайней мере, мне было известно ее имя. Белый и Замятин? Кто о них вспоминает сегодня, даже в России? Мне нравились ранние рассказы Набокова-Сирина, хотя я не всегда мог их понять. Тогда у него был талант. Позже он обезумел и начал красть у равных себе – просто потому, что об их существовании за пределами России никто не подозревал. Вот почему он начал писать по-английски. И его русский стал грубым. Герхарди[159], изображавшая худшее, что есть в людях, никогда мне не нравилась. Ставя печати в паспортах и выдавая документы, я думал, что очищаю Россию от всего упадочного. Кто бы мог предположить, что мне до сих пор придется страдать от последствий того заблуждения?
История – предатель. Человеческая доброта становится законом, превращаясь в свою противоположность. Переходят в атаку порочные силы цинизма. Добродетель высмеивается. Объясни и уничтожь. Вера моя – в Бога и научный анализ. Что есть раса, как не совокупность влияний социума и географии, встряхивающих общество? И это может длиться тысячелетиями. Меняйся и выживай. Сирин задумался о своей русскости; вот где он свернул не в ту сторону. Бойтесь Карфагена. Я слаб. У меня поднимается температура. Здесь совсем нет снега. Расовые опыты Сталина и Гитлера были слишком примитивны. Мы должны скрещиваться. Но одна только мысль о результате ужасает меня. Я боюсь, не стану этого отрицать. Я боюсь так же, как боялся человек, задумавший сотворить огонь. Прометей, грек, Бог… Прометея предали. Христа замучили. Когда он восстанет вновь? Византия должна очиститься. Гоните прочь чувство вины: это гадюка, пригретая на груди рыцарства. Россию предали – и она предала в свой черед. Бойтесь ислама. Бойтесь сионизма. Бойтесь мести. Рим в опасности. Бойтесь невежественных святош и глупых ученых. Бойтесь политиков. Бойтесь древнего Карфагена. Они приходят в мой магазин. Они потешаются надо мной. Они причиняют мне боль. Я их ненавижу.
Я не стану торговаться. Я скорее отдам им все эти антикварные schmutter[160]. Пусть они гордо вышагивают в одеяниях старцев и осмеивают мудрость. Они безграмотны и легкомысленны. В их сердцах нет любви. Они думают только о себе. Наш век – век эго. Я обвиняю художников, политических деятелей, психологов, учителей, потворствовавших им. Они не выносят взгляда Господа. Даже в церковь они идут не за тем, чтобы поклоняться: в их английских храмах никому не позволено плакать, даже когда для слез есть причина.
Их оскорбляют собственные родители, как только они начинают ходить, как только становятся людьми. Их переполняет цинизм. Стоит мужчине прикоснуться к ребенку, отнестись к нему с любовью и нежностью, – его тут же назовут извращенцем. Нет никакого закона, в котором говорится, что за клевету следует карать, что ложные идеи и мнения куда опаснее бедного старика, который качает маленькую девочку на колене, целует ее в щечку, поглаживает ее волосы и выражает потребность в любви всего лишь несколько опасных секунд. Воображение может походить на козлиные рога: они полезны, пока не начинают расти внутрь; после чего со временем костная ткань проникает в мозг, и козел погибает. Госпожа Корнелиус была лишена воображения, но она любила людей, которые им обладали. Она защищала нас, что, возможно, вело к нашей погибели. Она использовала нас, как говорят некоторые. Она была шлюхой, роковой женщиной. Но я скажу, что она отдавала слишком много. Матерь Божья! Она отдавала слишком много. Сильные часто вынуждены действовать так. Они не могут дождаться ничего взамен, кроме оскорблений и, очень редко, любви. Именно так Бог благословляет их. Они воссядут подле Него на Небесах и помогут одолеть мировую скорбь.
И зачем, вы спросите меня, Бог сотворил эту скорбь? Нет, Он не творил ее. Он сотворил жизнь; Он сотворил человека. Остальное случилось в Раю. Бог – не дьявол, отвечаю я. Доброта – это не зло. Но дьявол, однако, говорит с превеликим благочестием о правосудии и любви и скрывается под разными обличьями: художника, священника, ученого, друга. И люди называют меня параноиком, потому что я любил госпожу Корнелиус, и она никогда не предавала меня, моего доверия, потому что никогда не просила о нем. Какой вред я причинил другим? Мне следовало позволить Бродманну отправиться в Ригу. Но это была его ошибка – он оскорбил меня.
Мы сидели за своими столами в большой конторе, которую когда-то занимала судовая компания. Люди проходили перед нами чередой, богатые и бедные, старые и молодые; они старались выглядеть уверенными в себе или скромными, пытаясь казаться теми, кем не являлись. И я приглашал некоторых в специальную комнату для допроса, и там заключались основные деловые соглашения, и я отказывал тем, у которых не было средств, чтобы добраться до цели. Это было просто милосердие: я все знал об острове Эллис[161] и о том, что там творилось. Я знал об Уайтчэпеле и о том, как на беженцев охотились еврейские фабриканты и торговцы «белым товаром». При социалистах они процветали так же, как и раньше. Я старался быть справедливым. Мы не были жестокими. Мы не были циничными. Мы не занимались вымогательством. Часто мы выпускали людей, которые не вели никакого бизнеса.
Накануне сочельника, на исходе трудного дня, я осмотрел своего очередного клиента. Им оказался Бродманн – в темном пальто, фетровой шляпе, очках; его губы предательски дрожали. Он выглядел старше, но казался еще более наивным.
– Пьят, – произнес он.
Я держался с ним просто, предвидел, что могут возникнуть проблемы.
– Бродманн, – я просмотрел заявление, – вы едете в Америку.
– Надеюсь. Так что же, вы все время были белым? – встревожился он.
– А вы в таком случае по-прежнему красный? – спросил я.
– Конечно, нет. Они все разрушили. – Он захихикал.
Я зажег сигарету и сказал ему удалиться в комнату для допросов и подождать. Поговорил с двумя молодыми женщинами, которые собирались сесть на британское судно, направляющееся в Ялту, потом встал из-за стола и направился в маленькую комнату. Снег засыпал все окна. Я поздравил Бродманна с наступающим праздником.
– А может, вы едете в Германию? В заявлении сказано, что вы отправляетесь поездом в Ригу.
– Из Гамбурга я могу уехать прямо в Нью-Йорк. – Он выглядел очень испуганным.
Я начал понимать, что значит быть чекистом, ощутил свою власть, но постарался сдержать столь низменное чувство и сел, надеясь, что это успокоит его и он перестанет дрожать.
– Я никогда не был в Германии, – сказал он. – У меня просто такая фамилия. Вы же знаете.
– Красные друзья бросили вас.
– Я был пацифистом.
– И теперь вы решили сбежать подальше от войны? – Я шутил с ним очень мягко, но он, казалось, не понимал этого.
– Здесь больше нечего делать. Ведь так? – Его дрожь усилилась. Я предложил Бродманну сигарету. Он отказался, но несколько раз поблагодарил меня. – Вы всегда служили в разведке? – захотел выяснить он. – И даже тогда?
– Мои симпатии никогда не менялись, – ответил я.
Он бросил на меня восторженный взгляд; так можно было бы восторгаться дьяволом за его хитрость. Я почувствовал прилив нетерпения:
– Я не играю с тобой, Бродманн. Чего ты хочешь?
– Не будьте так грубы, товарищ.
– Я тебе не товарищ! – Это было уже слишком. Я ненавижу слабость. Я ненавижу, когда люди в поисках поддержки начинают вспоминать о том, что пережили вместе.
– Вы ведь поможете мне, как еврей еврею?
– Я не еврей. – Я встал и потушил сигарету. – Разве сейчас подходящий момент, чтобы меня оскорблять?
– Я не оскорбляю вас, майор. Я прошу прощения. Я не хотел грубить. Но в Александрии я видел… – Он стал совсем бледным.
Он видел, как меня выпорол Гришенко. Меня это не беспокоило. Но почему он об этом вспомнил? Тогда меня осенило: он видел меня голым и сделал страшное предположение. Я захохотал.
– Так вот, Бродманн, о чем ты подумал? Для такой операции есть вполне обычные медицинские показания.
– О ради бога! – Он упал на колени. Он унижался.
И мне стало дурно.
– Это не поможет, Бродманн! – Я уже не мог владеть собой. А он все плакал. – Бродманн, тебе нужно подождать. Обдумай все еще раз.
– Я столько страдал. Будьте милосердны!
– Милосердие, да. Но не правосудие. – Я готов был разрешить ему уехать. Я хотел, чтобы он убрался. Другой офицер, капитан Осетров, вошел с женщиной средних лет, которая пользовалась теми же духами, что и госпожа Корнелиус. С некоторым усилием Бродманн поднялся и указал на меня пальцем:
– Пятницкий – шпион и чекист. Вы что, не поняли? Я его знаю. Он саботажник, работающий на большевиков.
– Бедный безумный бес, – спокойно произнес я.
Осетров пожал плечами.
– Я хотел бы занять эту комнату на некоторое время, майор, если возможно.
– Конечно. А вы приходите завтра, – сказал я Бродманну.
– Сегодня сочельник. Контора закрывается. Я прочитал объявление. Я должен сесть на рижский поезд.
– Я совсем позабыл, – вздохнул я.
Осетров нахмурился, извинился перед дамой, которая усмехнулась и почесала за ухом, и шагнул вперед.
– Я могу помочь? – Чисто выбритое, бледное лицо Осетрова полностью сливалось с его формой. – Может быть, я займусь?..
– Нет нужды, – сказал я.
– Он – один из красных. Как он попал сюда, почему работает здесь? – Истерика Бродманна угрожала нам обоим.
Осетров заколебался. Мне было нечего сказать. Я дал Бродманну пощечину. Потом еще раз. Он заплакал; тут пришли охранники, которых вызвал Осетров. «Хотите, чтобы его забрали?» – спросил капитан. Это означало, что Бродманна посадят в тюрьму, возможно, расстреляют, если подтвердятся его связи с большевиками. Я ему ничего не был должен. Все свои ошибки он сделал сам. Я кивнул и вышел из комнаты.
–’Ривет, Иван! – Госпожа Корнелиус помахала мне рукой. Она была одета по последней моде, держала за руку французского офицера, который явно чувствовал себя не в своей тарелке, и размахивала свежими газетами. Она была в восторге. – К’жется, я тьбя видела. ’Де ты пропадал?
– Вы были у Зои? – Я все еще не пришел в себя после встречи с Бродманном. Его незаметно вывели из конторы. – Несколько ночей назад?
– В том борделе с рулеткой?
– Именно!
– Да! Шикарно выглядишь. Ты знашь маво приятеля? Он с их флота. Франсуа, кажись. И оч плохо г’ворит по-аглийсски. ’Кажи «’ривет!», а, Франция?
Я сказал морскому офицеру, что очень рад с ним познакомиться, спросил, с какого он корабля. Он служил вторым помощником на «Оресте». Они отбывали в Константинополь завтра, с военными и гражданскими пассажирами на борту. Начались неприятности с Кемаль-пашой. Разумеется, мы с офицером беседовали по-французски.
– Британцы пытаются завладеть всем, – невесело произнес он. – Действуют они очень вульгарно.
Я был удивлен. Ссоры между союзниками сильно напоминали о крымских событиях. Но я сохранял спокойствие. Я слышал, как Бродманн, когда его выводили наружу, завопил: «Предательство!»
– И вы любезно предоставляете госпоже Корнелиус место на вашем судне.
Он покачал головой:
– Корабль уже полон. Мы с ней встретимся в Константинополе. Я поговорил с капитаном британского торгового судна. Он согласился взять еще несколько пассажиров. Нам, разумеется, придется выправить документы для госпожи Корнелиус. Она весьма любезно предложила мне сопроводить ее сюда. Жаль, что мы не были знакомы прежде.
– Очень жаль, – согласился я.
Госпожа Корнелиус толкнула меня в бок.
– Да хватит уже! Манеры, тоже мне! Г’ворите по-аглисски!
Мы подчинились. Неожиданно в комнату вошел мой начальник и задумчиво поглядел в мою сторону. Я очень быстро сказал госпоже Корнелиус по-английски:
– У меня есть документы. Поможете мне сесть на британский корабль?
Она поняла, что я нервничаю, улыбнулась и опустила нежную, унизанную кольцами руку на мое предплечье.
– Мы ж ж’наты, правда ведь? Ты мой муж. Эт «Рио-Круз». Тьбе нужно разрешение или что-то вроде. – Она снова стала вести себя как леди. – Счастлива виить вас снова, майор Пьятницки!
Я щелкнул каблуками, поцеловал ей руку и отсалютовал французу. Мой командир, майор Солдатов, знаком показал, что желает поговорить со мной. Я тотчас подошел. Моя военная дисциплина в течение нескольких месяцев производила на него впечатление. Он был старым служакой из охранки, от природы не подозрительным, но очень чувствительным к любым несоответствиям. У него было круглое, морщинистое, румяное, чисто русское лицо, украшенное белой бородой и усами. Он постоянно носил темного цвета форму. Я вошел в его кабинет. Он закрыл дверь, предложил мне стул, и я сел.
– Бродманн? – сразу спросил он.
– Красный, – ответил я. – Кажется, я встречался с ним в Киеве. Когда занимался саботажем. Конечно, я говорил ему, что поддерживаю большевиков.
– Он говорит, что вы из Чека и были связным между Антоновым и Григорьевым.
– Я позволял ему так думать. В свое время.
– Мне придется разобраться с этим делом, Пятницкий. Конечно, рутинная проверка. – Очевидно, Солдатов не испытывал серьезного беспокойства. Он почти извинялся передо мной. – Вы хороший офицер, специалист по допросам, и нам такие нужны. Красные возвращаются, и они теперь намного лучше организованы. Мы немного беспокоимся из-за шпионов.
– Я все понимаю.
– Будет следствие. Весьма серьезное. Но я не хочу попусту тратить силы и посылать кого-то следить за вами. Вы пообещаете не выходить из своей квартиры до утра?
– Я квартирую, – ответил я несколько смущенно, – у Зои.
– Мне это известно. В общем, вам не стоит никуда уходить, так? – Он был чем-то похож на дядю Сеню. – Обвинения Бродманна все слышали. Я сегодня вечером его как следует допрошу. Может быть, он признает, что ему ничего не известно. Если этим все кончится, вы потеряете немного времени. Вернетесь к служебным обязанностям завтра.
– Завтра же праздник, – с улыбкой заметил я.
– Тем лучше. Тогда после Рождества.
Я вежливо поблагодарил его и удалился. Пробираясь сквозь снег к мадам Зое, я остановился, чтобы купить несколько сигарет у юной оборванки. По какой-то причине я дал ей золотой рубль и поблагодарил по-английски. Она ответила на том же языке. Я удивился. «Вы превосходно знаете английский», – заметил я.
Она замерзла, дрожала сильнее Бродманна. Девушка была очень мила. В других обстоятельствах я, возможно, потратил бы некоторое время, чтобы познакомиться с ней поближе. В таких уязвимых молодых женщинах было нечто, пробуждавшее во мне лучшие чувства, слегка напоминавшие любовь. Она сказала, что ее муж был белым офицером. Большевики расстреляли его. Она заботилась о матери. В Одессе тогда появилось много подобных женщин, продававших разную мелочь с подносов. Она чем-то напоминала Эсме – прежнюю Эсме. Я предположил, что это сходство исчезнет, если красные снова войдут в город. Союзники уже сожалели о своей поддержке Добровольческой армии. Их пугало то, что они считали нашей моральной слабостью. На самом деле это, конечно, было просто-напросто отчаянием. Британцы ненавидят отчаяние. Они сделают что угодно, лишь бы одолеть его, даже отдадут социалистам бразды правления собственной страной. Американцы разделяют ненависть британцев, но пока сопротивляются социализму, который, без сомнения, одолеет и их. Реакция французов кажется более здоровой. Бедность просто внушает им отвращение. Отвращение было основой их колониальной политики. Оно позволило им выбраться из Индокитая, не теряя лица, – американцам это не удалось. Но для британцев отчаяние и моральная слабость – синонимы. Мне понадобилось несколько лет, чтобы это выяснить.
Вернувшись к мадам Зое, я упаковал два чемодана. У меня были драгоценности и золото. Я, конечно, так никогда больше и не увидел моих старых чемоданов; вместе с ними пропали мои планы, мои проекты, мои надежды. Все, что у меня теперь осталось, – только запачканный кровью диплом и грязный паспорт. Придется начать все сначала. Меня не слишком вдохновляла мысль об остановке в Константинополе, но даже этот город казался мне теперь более безопасным, чем Одесса. И я уже не был беден. Рано или поздно мне пришлось бы уехать, так или иначе. Примерно через два месяца вернулись большевики. И тогда я стал бы жертвой Чека.
В большой чемодан я уложил всю свою форму, включая ту, которую носил постоянно. Я переоделся в гражданское и надел дорогую шубу. Пистолеты по-прежнему были при мне, они лежали в карманах. И шубу, и пистолеты можно продать, если понадобится. У меня остался набор чистых бланков, включая свидетельства о браке. Подделать сведения не составляло ни малейшего труда. Я попросил мадам Зою зайти ко мне, сказал служанке, что дело срочное. Через полчаса хозяйка дома появилась. Происходящее ее нисколько не удивило. Я достал хорошую меховую шапку, которая прекрасно сочеталась с шубой, дал мадам Зое пятьдесят золотых рублей. Мой паспорт и документы, конечно, были в идеальном порядке. Я попросил ее сказать, если кто-то спросит, что я занят с одной из ее девочек, спросил, сможет ли она незаметно вызвать извозчика, чтобы тот отвез меня в доки примерно в пять утра. Она ответила утвердительно и неожиданно поцеловала меня.
– Я буду скучать, – сказала она. – Кажется, вы приносили нам удачу. Что случится, когда вернутся красные?
Я показал ей папку с документами.
– Мой совет: воспользуйтесь сами и раздайте девочкам. Печати есть на всех, как видите. Просто нужно проставить имена и даты.
– Вы очень любезны. Но красные – тоже мужчины…
– Они попытаются отрицать этот факт, – ответил я. – Послушайте меня, Зоя. От Чека пострадают не только цыгане и евреи. Чекисты хотят уничтожить все признаки человечности – не только у себя, но и у других. – Честно говоря, не думаю, что выразил свое предупреждение так изящно. Со временем все слова становятся лучше и благороднее – особенно те, которые произносим мы сами. К счастью, мне удалось еще свидеться с Зоей, уже в Берлине. – Вы в безопасности лишь тогда, когда мужчины признают свою уязвимость. Когда они притворяются полубогами, их нужно бояться.
Мы снова поцеловались. Она спросила, хочу ли я заняться любовью. Я ответил, что мне сейчас нельзя отвлекаться. Следующий поцелуй был более сдержанным.
Еще не рассвело, когда я отправился в Карантинную бухту, на «Рио-Круз». Мы мчались на тройке сквозь густой снег, через всю Одессу, еще тревожную, еще живую. Некоторые назвали бы ее мерзкой и убогой, но даже в смертный час Одесса хранила тепло и очарование, которых не хватало более известным городам. Ее основала Екатерина. Дух царицы, жестокой и разумной, женственной и агрессивной, остался в этом городе. Екатерина стремилась к разуму и сторонилась романтики, но в ее жизни эти силы обрели гармонию, которую можно назвать русской, хотя сама правительница русской не была. Я видел Дитрих в «Кровавой императрице» фон Штернберга[162]. Мне понравился этот фильм. Но режиссера он погубил. Единственный голливудский фильм того времени, оказавшийся убыточным. Мы добрались до бухты; к моему превеликому облегчению, на судне царило оживление. На борт поднимались люди. Почти все они были русскими богачами.
Не думаю, что за мной следили. Напротив, мне кажется, что мой командир дал мне шанс сбежать. Мне сделали одолжение. И я не стал отказываться.
Мои документы проверили несколько раз – сначала русские, затем мрачные англичане. Я поднялся по трапу. Он дрожал у меня под ногами. Я впервые оказался на палубе большого судна. Корабль отправлялся в путь под английским флагом, но был, вероятно, военным трофеем, захваченным в каком-то южноамериканском государстве, которое от избытка чувств вступило в союз с Германией. Я увидел немало надписей на испанском. Я поднялся еще выше. Никто не спешил помочь мне нести багаж. Я добрался до каюты на верхней палубе и отворил дверь. Госпожи Корнелиус не было. В каюте стояла темнота. Я включил свет, загорелась тусклая лампочка. Каюту переоборудовали для двух пассажиров. Здесь стояли две койки. Были принадлежности для мытья. Я поставил свои сумки и вытащил кокаин. Мне надо было собраться с мыслями. Кокаин, как обычно, успокоил меня. Я подумал о Константинополе. Там будет тепло. А я очень замерз. В каюте не было отопления. Я растянулся на верхней койке, предположив, что госпожа Корнелиус займет нижнюю. Ее багаж, состоявший из нескольких чемоданов и сумок, сложили в угол, около иллюминатора. Я до сих пор ожидал неприятностей. Вполне возможно, что меня снимут с корабля раньше, чем «Рио-Круз» поднимет якорь. Корабль слабо покачивался. Из-за этого я решил, что мы отправляемся и госпожа Корнелиус опоздала, но потом понял, что мы не сможем выйти в открытое море, пока не запустят двигатели.
Я поднялся с койки и выглянул в иллюминатор. Море было черным, на поверхности как будто образовывался лед. Люди сновали туда-сюда. Мне показалось, что я услышал выстрелы, но, судя по всему, стреляли где-то очень далеко, в доках. Я отделался слишком легко и все же с готовностью принял выпавшую на мою долю удачу. Я почти не сомневался, что госпожа Корнелиус снова спасет меня. Завернувшись в теплую шубу, я заснул.
Меня разбудили унылый рассвет и веселая песня. Пела госпожа Корнелиус. Она была совершенно пьяна. Шляпа сбилась на затылок. Госпожа Корнелиус исполняла нечто из репертуара британского мюзик-холла:
Мы ср’жаться не х’тим, но впадем в п’триотизм, И тада захватим их к’рабли и деньги вмиг. Мы медведей поб’дили и бретонцев поб’дим, Русским мы не отдадиим К’нстантино-о-оопль.– Ой, пр’сти, Иван. Не х’тела бесп’коить. – Она уселась на свою койку. – М’ня на лодках слегка тошнит. Всегда тошнило. Всегда. А тьбя?
Она пыталась снять башмаки. Я посмотрел на ее чудесные округлые икры. Она почувствовала мой взгляд, посмотрела наверх и подмигнула. Она была восхитительна. Ее духи, ее одежда, ее уверенная женственность…
– Не волнуйсь, дружок, – сказала она, чтобы преодолеть мое замешательство, – я не стыжусь их. Я п’зрослела, понимать? ’Ривыкла восхищению. – Она встала и потянулась. – Бож мой! Какая б’ла пр’щальная вечеринка! Но тьперь мы женаты, да? Матросы, к’торые помогли мне подняться на борт, ’казали ’не, что ты здесь.
– О чем вы говорите? Женаты? – переспросил я. Я еще не совсем проснулся.
Она встряхнула головой. Очевидно, задумалась о приличиях.
– Тольк на словах, Иван, ст’рина. Вишь, я дала слово этому лягушатнику. Он не особ х’рош, но помог мне выбраться из эт адской дыры. ’Не нравится держать слово, када могу.
Я согласился с ее решением. Прошло много лет, прежде чем мы поженились в чувственном смысле. Корабль закачался сильнее. На «Рио-Круз», корабле старого образца, не было сложных стабилизаторов, разных «Праттов и Уитни», хотя, как я потом узнал, корабль построили на верфи в Клайде. Я все еще мерз. Снег падал на корабль, засыпал оснастку и поручни. Я подумал, что нас просто завалит. Но на фоне черной воды все казалось чистым и невинным. Сквозь снежный буран было невозможно разглядеть город. Я отыскал взглядом силуэт церкви Святого Николая. Одесса для меня была потеряна, как была потеряна Эсме, как был потерян Коля, – просто, почти случайно.
Я не еврей. Я не расист. Я вспомнил, как еврей в Аркадии был добр ко мне; как я любил его. Эта мысль показалась мне неприятной. Я вспомнил об этом случае пару дней назад – теперь, когда я стар, эгоистичен и непривлекателен. Эгоисты привлекательны только в юности. Я много отдавал, но получал всегда больше.
Потом я вышел на палубу и застыл, осыпаемый русским снегом, позволив ему укрыть меня с головы до ног, в то время как корабль плыл прямо в жаркие края, в святой город, в наш Царьград, который британцы ненадолго избавили от исламского гнета. Мы не раз сражались за Византию. Нас не раз обманывали патриархи. Но мы познали славу, и с этой славой мы всегда возвращались в Киев. Потом слава Киева отошла к Москве. С берега доносился звон колоколов. Настал сочельник. Москва погибла. Христа предали. Колокола церкви Святого Николая провозглашали рождение Спасителя, доверие которого было обмануто. Красные мчались вперед; красный прилив наступал и извергал на нас мертвецов, древних жнецов, мстителей с серпами… Карфаген выходит из моря. Призраки татар и турок смеются под развевающимися знаменами ислама, под бьющимися на ветру знаменами большевизма, под знаменами варварства, цинизма и мести, осмелившихся укрыться под именем благочестия.
Со склонов гор спустился бандитский царь, стальной царь с Востока, царь с четырьмя лицами. О моя сестра, мой брат, моя мать! Вы пали под колеса колесницы Антихриста. Все те, которых я любил и которые любили меня; все они пали. Они не придут в город спящих козлов, в город евреев. Они не приехали в Одессу, и я их не спас. Они думали, что Византия спасет их, но она не смогла. Греки не смогли прибыть в Одессу. Мы обратились в бегство от Карфагена. Греки не смогли прибыть в Россию. Россия, знавшая лишь гордость, пала. Они засунули кусок металла мне в живот. Они отравили меня своей добротой. Они запутали меня. Почему они не позволили мне умереть? Немцы пришли вместе с украинскими казаками и построили лагерь в овраге, над которым я летел. И они бросили старуху в море пепла и утопили ее в крови многих тысяч. Кровь евреев и русских наконец смешалась. Блеют черные козлы. Кому их принесут в жертву?
Они промчались по России с флагами и пулеметами, они уничтожили нашу честь. Мы бросили ее на верную погибель; у нас осталась только наша гордость. Они забрали наш язык. Они забрали нашего Христа. Но славяне помнят о Карфагене. Славяне должны вновь обрести свою честь. Они выкопают свои мечи из-под земли. Научите нас литании мести; говорите с нами на языке лжи и наслаждайтесь икрой, грузинским вином, дичью и супами. Вы омерзительны. Вы обесчестили свою землю. Вы обесчестили всё. Хлопайте в ладоши, поднимайте жесткие руки, когда колонны ваших танков едут мимо Кремля, – а потом закройте руками глаза, ибо великие орудия обратятся против вас, и вы и ваша Россия узрите месть. Вы этого боитесь? Предатели! Вы слабы. Сион! Рим! Византия! Все они могущественнее Карфагена. Одиссей возвращается. Греция спит. Греция пробуждается. Эти города навеки потеряны для меня. Эти добродетели навек потеряны для меня. Все для меня потеряно, но будет обретено вновь. Слова грека были искажены, его любовь была предана. Прометей! Меркурий! Одиссей!
Госпожа Корнелиус подошла ко мне, пританцовывая среди падающих снежинок. Она все еще напевала свою песню. Думаю, этот мотив застрял у нее в голове, потому что она ждала, когда мы окажемся на Босфоре. Она взяла меня за руку. Снег кончился. Она повела меня вперед по дрожащим доскам палубы.
Стальной царь устремился к Богу. Он вернул нам древнюю Империю и вновь сделал нас сильными, и хотя казалось, что жестокий Карфаген победил, Греция пробуждается. Византия жива. Существует Империя Духа, и все мы – ее граждане.
Госпожа Корнелиус заметила:
– Да уж, в эт вашей России снег так снег, ’кажу я вам!
Я спросил, как она сумела бросить Киев и ревнивого Троцкого.
– ’Не до смерти там надоело. Он стал скучным, аж жуть, – ответила она. – Я б’лталась там и ждала эт Лео до самого чертова мая. Б’ременная, и сё такое. Он ’сё г’ворил, что приедет, а када явился, то для того, шоб ’казать «прощай». Так что я нашла парней, шо взяли меня в Одессу. И ’от я здесь.
– Ребенок? Так был ребенок?
Она отвернулась от меня, смахивая снег с юбки.
– ’Се бу’ет в порядке.
Я умолк.
– Р’бенку ’се равно, – сказала она.
Я спустился вниз. Главный инженер сочувствовал русским. Он показал мне свои механизмы. Я поведал ему о своих планах, о новых видах кораблей, о самолетах и монорельсовых дорогах. Он заинтересовался. Он был счастлив, по его словам, что у него на борту есть такой инженер. Я спросил, когда мы прибудем на место. Оказалось, 4 января 1920 года. В мой день рождения. Это совпадение меня позабавило. С берега вели огонь большие пушки. Артиллерия стреляла в туман.
Я спросил главного инженера о других судах, на которых он служил. Он сказал, что знавал немало лучших кораблей, но «Рио-Круз» неплох для морского плавания. Он родился в Абердине и всегда интересовался механизмами. Мы сдружились. Да, в мире существует своеобразное братство инженеров.
Я рассказал ему о летающей машине, которую изобрел в Киеве, о своем фиолетовом луче. Он признался, что разрабатывает собственные идеи: корабли, соединенные так, чтобы они естественным образом скользили по волнам. Он показал мне кое-какие из своих чертежей. Они были довольно грубыми. Я тоже начал рисовать, поясняя некоторые идеи из тех, что зародились у меня в Петербурге. Я сказал, что будущее за нами. Это наш долг – посвятить силы и знания делу развития рода человеческого. Мы обсуждали эти проблемы до самого Константинополя.
Приложения
Рукописи полковника Пьята
Эти материалы взяты из первого ящика с рукописями Пьята. Все записи были сделаны на низкокачественной писчей бумаге, изготовленной, возможно, в Восточной Европе в середине сороковых годов, а может, и немного позже. Текст воспроизведен в том же порядке, в котором я его обнаружил, но мелкие каракули я решил убрать. Все разрывы в тексте – мои.
СОЖГИТЕ ИХ. НЕТ. Schmetterling. Ma fie sans la prix. Она течет вниз. Ougron fal czernick.
Ougron in dem feuhr, in die tram it miene ami podanny velebny – przy tej czerwonej rozy moja siostra. Siostra! Rozy. Siostra takiej wezesnej wiosny. Mon – моя сестра – from der – это она – сестра ранней весны. Когда следующий сеанс – призраки – тону. Полон рот.
Я горю. Надо вызвать ее на бис! Они лгали
– prawda – ta welika prawda – и унизили moja siostra… nie znam tiej rozy… historia Polska… tapiekna pani papenzenstvi polska! Ich mein fraulein… Nein!
…Papienzenstvi Pani‑les diables – honneur… говорить – ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ДР! – Что пользы?
Delenda est Carthago! Израиль, ограбили меня, запутан…
Я ХОЧУ МЕСТО В МЯГКОМ ВАГОНЕ…
сесть поезд. Пьят. ПОЛКОВНИК.
Prawda! Пять раз. Пятый!
Завоевать Карфаген! ОНА ВЕРНУЛАСЬ! ЧЕРЕЗ!
* * *
У меня нет времени! Окно!
говорят, начнут переговоры. Skrcek
Statsny? Как они посмели? Аzbuka – аnglicina– не работать – ДУМАТЬ! Вajka.
Zna arciblaz en… bacauce – slavik… slava! Snih… rypak… рарегkа… snehu…
Kartago… seredy… preziti… pamatorati… vycitky… zid… sperk… алмазы… Israil, Shulchan Aruch. Люцифер
Жид? Алмазы? Тех… ТЕХНИЧЕСКИЙ… Ытуя
страницы поглощают меня. Страницы… и коробки. Боже!
Евреи лишили тебя золота
и всего величия. Снег кровь течет из глаз, из
носа. Закрашивает небеса – знамена пропитаны кровью смиренных и слабых, они плачут Мир! Власть крестьянам!
Они убивают сдирают кожу с вырезают знаки на телах
Плачут массы наследуют по праву рождения! Пулеметы и пушки
Церкви иконы деревни
Только прах. Иерусалим! Моя кровь! Христос убит. Где спасение? Грех лжет. Рrawda! скрыта газетами, скрыта женщинами, скрыта снегом. Зверь во мне. я боюсь, слишком стар и бесполезен теперь.
Слишком стар, чтобы быть одержимым, что можно предложить? хочет молодости, хочет моей чести, не уничтожит… человечества
Это не погубит меня…
Дьяволы. Плачут. Это евреи.
Это серебряная голова
ОНО. Это не уничтожит меня. Моя гордость не лишит меня чести, женщины с розгами… никогда не приедут в Берлин… ОСВОБОДИТЕ МЕНЯ! Обещает
Гамбург Лондон
Нет не уничтожит дьявол еврей УНИЧТОЖЬТЕ ЕГО!
От коней смерть видел огонь.
Выстрелы в никуда лишили меня любви, ужас!
Штетл… Я никогда не унижался так, как унижались они. Очень хочешь такой жизни. Или голодные, неухоженные дети? Или желаешь унижаться? Я склонился перед кнутом. То же самое?
Хочешь отпущения убийство Христос?
убийство честь? Неважно.
Крестьяне так же дурно.
Уничтожали друг друга. Я видел это.
Еврей или славянин. Неважно. Гордость дьяволы.
Люди. Каннибалы! Только одно: ВОЙНА!
МОЯ ЗЕМЛЯ! Умирала от жажды. Деревья и посевы
горели. Степной пепел. Черный снег.
Возложить руки прочь никто не пришел.
Все пропало. Преданы. Кровавое красное знамя
Черное знамя смерти, ангелы опустошения Зеленое знамя зависти. Все глупость
ГОРДОСТЬ! ГОРДОСТЬ! ГОРДОСТЬ! Все позабыто.
Кто они, эти евреи? Почему стремятся к Разрушению так сильно безжалостная воля?
Израиль в Византии. Израиль в Германии, Карфаген вернулся. Вавилон вернулся. Тир вернулся. Карфаген
Атомы разносятся по всему миру жажда мести, мы уничтожены. Карфаген на ветру
Карфаген в воздухе, которым мы дышим в хлебе, который мы едим.
Сион! Медные трубы, золотые гонги С востока на запад
Мстит Сион Карфаген Чингиз-хан
на лихом коне тачанка мчится
вперед. Второй Ганнибал бросает вызов второму Риму.
ИЗРАИЛЬ! Римляне убивали евреев. Они убивали евреев.
Две тысячи лет царила тишина. Потом с востока подул ветер. Он все еще дует…
* * *
они шлюхи, эти женщины, не будут моими шлюхами О БОЖЕ! ДАЙТЕ МНЕ ШЛЮХУ! ДАЙТЕ ЕЕ МНЕ!
ДАЙТЕ МНЕ ШЛЮХУ! О БОЖЕ! ДАЙТЕ МНЕ ШЛЮХУ! ПОЧЕМУ НЕТ???!!!
* * *
Я живу слишком долго. Девятнадцать столетий прошло. Я сплю. узнал так много.
Отдал бы все. Но я спал.
ИЗРАИЛЬ? Где монументы? там лишь руины, где были памятники, здания, чудеса? И все это в одной коробке?
Где гордость? Ничего не принесли, кроме традиций?
И время рыдать голосить умолять
старый дряхлый Бог требует землю, отвергает собственного Сына право рождения? отвергает Любовь
Я отвергаю эту чушь. Бог отвергает Сына, цепляется за Власть, дает силы безрассудным священникам
Разделяет силу, недостатки, жадность, знание, печальный и древний Бог, его нужно отправить Домой. Отправить Домой вместе со всеми другими, грязными, одряхлевшими богами
Один
Зевс
Гог-Магог; Кали, пугающая до смерти, посылающая своих последователей убивать, убивать и убивать в надежде
Жизнь кончена и если достаточно будет мертвых, больше Жизни останется у нее. просит свинины поджаренной, но не может откусить; они только сосут. Сосут, сосут и сосут; беззубые боги. Умрите! И пусть дети обретут свободу! Вы ходите под себя. Загадили Небеса своими испражнениями. ДАЙТЕ НАМ СВОБОДУ!
* * *
Карфаген шагает по руинам. Карфаген с черным высунутым языком. Карфаген смеется мир становится красным. Я могу сделать его белым БЕЛАЯ ИМПЕРИЯ! ДЕВСТВЕННОЕ СЕРЕБРО!
* * *
Израиль уничтожен за день. Карфаген уничтожен за день. Империя инков уничтожена за день. Империи сиу и зулусов уничтожены за день. Манчжурская империя уничтожена за день. Российская империя уничтожена за день. Что осталось, кроме гордости? Чести нет, честь и нация были единым целым
честь могла спасти их. гордость уничтожила их
* * *
Ibe ybenester! Упаси… Пусть их поднимут на копья. Я видел их. Они мертвы
* * *
Бойтесь Африки. Бойтесь татар. Бойтесь мести с Востока Их слоны. Их
щиты союз уничтожит нас.
Безжалостно
* * *
Наш ужасный трепет и мы исчезли
Все исчезли. Они еще бредят о Разрушительной Воле Человека! Жизнь – это разрушение. Это вселенная. Нет большего прославления жизни, чем взрыв Водородной Бомбы!
* * *
Я подчиняюсь! Я подчиняюсь! Я подчиняюсь смерти Воскресению Эго. О Иерусалим!
О красота! осиротевшие кости. Любимая, счастливая и погубленная. Зоя с птичками. Птицы собираются с силами. Птицы клюют, когда насвистывают песни свободы. Моя империя, моя душа. Птицы умирают во мне. Одна за другой.
* * *
Авраам, первый великий жертвователь нашего человечества: где нож твой коснулся тела твоего доверчивого сына? Древний, счастливый, пропитанный страхом шумеров. Отвергни евреев – и ты отвергнешь собственное прошлое. В каком месопотамском уголке вселенной был рожден Бог, чтобы освободиться от божественности, от чистоты – смертью Сына Своего? Зло одержало еще одну временную победу и стало таким самоуверенным, что попалось в свою же ловушку и поддалось тем ужасным слабостям, которым оно и обязано своим возникновением. Прославленный Авраам: фанатичный создатель мифа о Жертвоприношении. Человек рожден, чтобы жить и радоваться жизни. Фанатик отрицает вселенную, считает ее жестокой и бездарно имитирует эту жестокость, которая на самом деле – воплощение великого равновесия. Ты лжепророк, Маркс. Маркс, в своей агонии ты вернул Человека в темные века. Города дышат и пребывают в себе: личность и город сливаются воедино. Единственная наша надежда – преодолеть все суеверия и понять самих себя и нашу роль в жизни города. Ибо города – вечный завет нашей человеческой природы: триумф Агнца. Пусть воины пустынь ворвутся на своих могучих конях в самое сердце города; пусть они
закричат от ужаса, постигнув привычную нам сложность, простую модель человеческого разума. Пусть обвинят в колдовстве и предадут огню иных братьев; они лишатся надежды на спасение – вот и все.
Они разграбили Аддис-Абебу; они разграбили Николаев и Екатеринослав. Только евреи постигли природу городов, но гордыня, ритуалы и чувства помешали им раскрыть тайну. Шумер – первая цивилизация городов. Анну? Ур? Я не знаю их имен. Всадники из степей и пустынь; всадники с гор и равнин. Они стремятся к неведению и покою, который именуют свободой, но это – детская свобода; всегда нужен патриарх, способный отстоять ее. А когда Авраам поднимает свой нож, подлинной свободы не остается – лишь бесконечная череда обещаний и предательств. Сион – спасение от судьбы, слабое утешение. Стоит ли нам думать о буре – если она утихает, мы все равно прислушиваемся к ее песне. Агнцу в городе не нужны пастухи; нужно лишь знание. И если человек боится Бога – значит, пусть боится и Бог.
Краткая история гражданской войны в России
После революции Керенского в феврале 1917 года Украина создала собственный парламент, Раду, все еще признавая власть Временного правительства. Первый председатель, Михаил Грушевский, сделал первые шаги в сторону украинского национализма, очевидно, под давлением солдат и гайдамаков – вооруженных крестьян, позаимствовавших свое название у повстанцев, боровшихся против поляков в XVIII веке. Поначалу все были убеждены, что Рада является частью Всероссийского учредительного собрания; но требования и притязания украинского парламента принимали все более националистический характер. Украинская партия социалистов-федералистов, лидирующая в то время, была скорее либеральной, чем радикальной. Грушевский в конечном счете вышел из нее и присоединился к более левой Украинской партии социалистов-революционеров, которая вскоре стала партией большинства в Раде. Еще более левой была Украинская социал-демократическая рабочая партия. Одним из ее вождей стал Симон Петлюра, убежденный националист. Недовольство отсрочкой провозглашения независимости Украины привело к Первому всеукраинскому военному съезду в Киеве 18 мая 1917 года. Вольные казаки, отряды ополчения и представители всех украинских воинских частей (тогда страна еще находилась в состоянии войны) собрались на конгрессе и объединились против Керенского, военного министра. В Центральную раду был избран совет, уполномоченный представлять интересы украинских солдат и моряков. Другие партии, включая большевиков и анархистов, сопротивлялись национализму, считая его реакционным, но частично поддерживали идею федерализма в пределах государств раздробленной Российской империи. В июне 1917‑го отношения с Временным правительством ухудшились настолько, что националисты окончательно порвали с ним и объявили о невозможности сотрудничества с российским правительством. Коалиционная Рада сформировала первое временное украинское правительство. Русские продолжали попытки вести переговоры с украинцами. Украина оставалась жизненно важной территорией, и Россия нуждалась в украинских солдатах (для понимания важности географического и экономического положения Украины см. карту). Прежде чем отношения между Керенским и Радой были полностью урегулированы, началась большевистская ноябрьская революция (в октябре по старому календарю), и политическая ситуация в Киеве осложнилась еще больше из-за различных группировок, поддерживающих большевиков, Керенского, демократов-белых, крайних националистов и даже сторонников возвращения авторитарной монархии. Эти фракции вели между собой свою гражданскую войну, в ходе которой Центральная рада вновь стала ведущей политической силой. Им предстояло решить проблему с крупными группировками, грабившими сельские районы. Они состояли из демобилизованных солдат, бандитов, именовавших себя казаками или гайдамаками и прикрывавшихся поддержкой той или иной политической партии. Большевики называли солдатами революции своих сторонников из их числа и бандитами – противников. Но прежде всего они были голодными, ожесточенными, запутавшимися людьми, безмерно уставшими, зачастую не совсем понимавшими, в какой стране находятся. Теперь невозможно сказать, действительно ли они руководствовались революционным идеализмом или верностью прежнему режиму. При том что Украина – крупнейшая российская территория за чертой оседлости, первыми их жертвами, как всегда, оказались евреи.
20 ноября 1917 года Рада объявила о создании Украинской народной республики. Депутаты на словах вновь провозгласили федерализм, но отказались признавать законность большевистского режима. Основные принципы новой республики были демократическими и включали отмену высшей меры наказания, право на забастовки и амнистию всех политзаключенных. Новую власть в основном поддерживало сельское население, так что земельная реформа оказалась одним из главных обещаний. Симон Петлюра стал военным министром, но вскоре ушел в отставку, не согласившись с политическим курсом. Различные революционные группы, включая эсеров, большевиков и анархистов, продолжали агитировать против Рады.
Украинская армия в это время большей частью состояла из добровольческих отрядов вольных казаков. Самым значительным из них был Гайдамацкий кош Слободской Украины, состоявший из двух батальонов, которыми руководил Петлюра, именовавшийся атаманом (изначально этим словом называли избранных предводителей казаков). Другой важной военной силой являлся Галицкий курень сечевых стрельцов, сформированный из западных украинцев, прежде служивших в австрийской армии. Силы Антанты пытались прибегать к помощи украинцев, но не могли предложить никакой реальной поддержки, так как Турция все еще контролировала Черное море, а большевики – Мурманск. Вооруженное восстание левых сил в Киеве в декабре 1917 года было подавлено, и Первый Украинский корпус под началом генерала Павла Скоропадского при помощи вольных казаков одержал победу над большевистским Вторым корпусом возле Жмеринки. Война между большевистской Россией и Украиной началась в конце декабря – большевики требовали признать и поддержать официальное украинское советское правительство, которое существовало в Харькове, занятом большевистскими отрядами. Настоящее вторжение большевиков началось 25 декабря. Руководил им талантливый красноармейский командир Антонов. Большевики добились значительных успехов, прорвали дезорганизованную украинскую оборону и захватили несколько крупных городов. Под командованием Муравьева большевистские отряды напали на Киев. Три тысячи защитников города отступили. Муравьев занял Киев и начал массовое истребление украинского «националистического» населения. По оценкам Красного Креста, в это время в Киеве было казнено около 5000 человек. Другие районы Украины также подвергались террору.
В ответ на это Рада подписала сепаратный мир с Центральными державами[163]. Немецкие и австрийские армии помогли войскам националистов во главе с Петлюрой, Скоропадским и другими отбросить красных назад. Сражения велись прежде всего за контроль над железнодорожными линиями и станциями – бронепоезда и конные отряды имели огромное стратегическое значение. К августу 1918‑го на Украине находилось около тридцати пяти дивизионов Центральных держав, и они действовали как оккупационная армия, определяя политику Рады, прилагавшей все усилия, чтобы сопротивляться требованиям австро-венгров и немцев, которые, прежде всего, нуждались в хлебе. В апреле немецкий командующий, фельдмаршал Эйхгорн, начал выпускать декреты независимо от Рады. Рада оказалась почти бессильной и лишилась поддержки правого крыла партии социалистов-федералистов. 25 апреля Эйхгорн выпустил указ, согласно которому украинцы отвечали перед немецким военным трибуналом за действия, угрожающие интересам Германии. Он продолжал требовать разоружения украинских военных формирований и, встретив сопротивление, послал немецкий отряд в здание Рады в Киеве, чтобы арестовать двух министров. На следующий день Грушевского избрали президентом Республики, но он почти сразу был свергнут в результате государственного переворота, поддержанного немцами и силами правых. К власти пришел Скоропадский, провозгласивший себя Гетманом Украины, романтическим казачьим титулом, предназначенным для привлечения людей, ностальгически отождествлявших украинскую свободу с казачьими восстаниями прошлого. Скоропадский был немецкой марионеткой, он охотно помогал немцам уничтожать диссидентов, предоставляя полную свободу действий безжалостной немецкой военной полиции. Сопротивление его режиму и германским оккупационным силам успешно проводилось войсками Петлюры, а также, более драматично, Нестором Махно, анархистом-социалистом, действия которого были такими смелыми и продуманными, что его многие называли Робином Гудом Южной Украины. Гетманат Скоропадского казался идеальным убежищем для тысяч русских, по тем или иным причинам бежавших от большевиков. Например, Киев и Одесса стали центрами буржуазной и аристократической оппозиции всем формам радикализма или национализма. Там, как и во многих других промышленных городах Украины, проживало немало представителей прочих национальностей, прежде всего русских и евреев. Погромы усилились. Скоропадский использовал все больше парадных, декоративных элементов, облачал солдат в замысловатые мундиры девятнадцатого столетия и издавал напыщенные, бессмысленные декреты. Он опирался исключительно на поддержку русских правых, а также на оккупационные силы, хотя многие министры Рады по-прежнему оставались на своих местах, не выступая открыто против немецких интересов. Союз промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства (Протофис) также поддержал гетмана. Пьят, очевидно, какое-то время имел отношение к этой организации, хотя его роль в ней неясна. Католики склонялись к тому, чтобы поддержать националистов, в то время как среди православных мнения разделились: одни отказывались признавать власть лидеров, поддержавших большевиков, другие встали на сторону националистов, третьи отстаивали официальную российскую власть, четвертые стремились разорвать все связи с Россией. Обе церкви решительно поддержали антисемитов.
После ратификации Брест-Литовского мирного договора гетман посетил Германию и удостоился сердечного приема у кайзера. Австро-Венгрия отказалась подписать соглашение из-за тайных притязаний на украинские пограничные территории, Галицию и Буковину. Когда Румыния заняла Бессарабию в марте 1918 года, гетман смог выразить лишь символический протест. Новые трудности возникли после провозглашения независимости Крыма и угрожающих событий на Дону, где власть захватил атаман Петр Краснов, который оставался убежденным монархистом, но в конечном итоге в августе 1918 года между Украиной и Донским казачьим войском было подписано соглашение. После окончания военных действий между Центральными державами немцы начали покидать Украину, оставив Скоропадского без всякой поддержки. Либералы вернули себе контроль над Радой, но левые и националисты, зеленые, отказались с ними сотрудничать. В ноябре 1918‑го была создана Директория Украинской Национальной Республики, возглавившая восстание против Скоропадского. Руководили Директорией Винниченко, Петлюра, Швец, Макаренко и Андриевский. Киев защищали русские и немецкие войска. Зеленые (армия Директории) гарантировали немцам беспрепятственное возвращение домой, если те провозгласят нейтралитет. Немцы согласились. 14 декабря гетман отрекся и сбежал с немцами. 19 декабря отряды Директории вошли в Киев, и националисты официально возглавили Республику.
Контролируя значительную часть Украины, Директория почти немедленно столкнулась с угрозой вторжения со стороны получившей независимость Польши, которая стремилась воссоздать свою украинскую империю, а также большевиков и белогвардейцев, поддержавших гетмана. К тому времени франко-греческие силы Антанты поддержали белых и подошли к Одессе и Николаеву. Будучи, по существу, умеренным социаkистическим правительством, Директория получила поддержку множества других левых фракций, хотя большевики и анархисты, которые считались интернационалистами, отказались признавать ее чем- то иным, нежели буржуазно-либеральным правительством, и продолжали действовать против Директории. Когда большевики начали второе решительное вторжение под командованием Троцкого и Антонова, многие из этих фракций согласились забыть о разногласиях и сражаться против Красной армии. Тогда под началом Махно оказалась очень большая и эффективная армия, использовавшая новую тактику, заимствованную в конце концов красной кавалерией. Другие революционные лидеры не придерживались определенных политических убеждений: Григорьев, сражавшийся в Херсонской области, атаман Ангел в Чернигове, Шепель в Подолии и Зеленый к северу от Киева. Они во многом напоминали военачальников, которые позже использовали в своих интересах народные волнения в Китае, но вообще-то на этом этапе все были заинтересованы в том, чтобы удержать свои территории, а не сражаться с Петлюрой или оказывать активную поддержку большевикам, которых атаманы считали российскими империалистами. В январе 1919‑го, однако, большевики с помощью повстанцев вошли в Киев, и в феврале отряды Директории покинули город и соединились с французами и, как следствие, с белыми. Это лишило их значительной материальной поддержки. Григорьев, в частности, направил свою армию на помощь большевикам и обрушился на силы Директории. Он строил весьма честолюбивые планы, начал захватывать города и поселки, стремясь добраться до Одессы и изгнать объединенные силы белых и Антанты, удерживавшие самый важный порт Украины. Лучшее описание этих событий содержится в книге Артура Э. Адамса «Большевики на Украине», изданной Йельским университетом в 1963 году. Некоторое время Григорьеву сопутствовал успех, он стал самым ярким лидером на Украине – к великому огорчению Антонова и Троцкого, которые изо всех сил пытались управлять повстанческими отрядами и постоянно терпели неудачи.
Махно вскоре вновь выступил против большевиков, и некоторое время они с Григорьевым собирались заключить союз, но эгоизм Григорьева и действия погромщиков (красные, зеленые и белые несли ответственность за бесчисленные злодеяния против украинских и польских евреев) вызвали ненависть анархиста и, во время хорошо известной встречи в селе Сентово близ александрийского лагеря Григорьева, прямо на виду у его последователей, махновцы казнили атамана за «погромные злодеяния и антиреволюционные действия». Но повстанцы так никогда и не смогли восстановить былую мощь. Постепенно их предали и уничтожили красные, тактика которых зачастую сводилась к тому, чтобы приглашать повстанческих лидеров на переговоры и затем расстреливать их на месте – так Троцкий поступил с махновцами. В атмосфере хаоса и массового убийства, напоминавшей о худших днях Тридцатилетней войны, Петлюра и его люди продержались немного дольше в Галиции, но к началу 1920‑го большевики заняли большую часть Украины, и вскоре красная конница Буденного обрушилась на поляков и оставшихся белых. К этому времени, конечно, Пьят уже был далеко.
Лобкович рекомендует «Повесть о жизни» Константина Паустовского в шести книгах как «превосходное, хотя и аккуратно отредактированное» дополнение к описанию этого периода украинско-российской истории. Он также сообщил мне, что как минимум одно из утверждений Пьята частично доказано Паустовским: в третьей книге, «Начало неведомого века», где он упоминает слух, распространившийся тогда в Киеве; согласно этим сведениям, Петлюра собирался использовать фиолетовый луч, чтобы защитить город от большевиков. Лобкович также замечает, что следует читать между строк биографии Паустовского, которая была, разумеется, первоначально опубликована в Советском Союзе и поэтому согласовывалась, по крайней мере, внешне, с официальными представлениями о деятельности Петлюры, Махно и других исторических личностях той эпохи. Он также рекомендует в качестве академического источника книгу «Украина, 1917–1921: История революции» (редактор Тарас Гунчак, издание Гарвардского института украинских исследований, 1977; Издательство Гарвардского университета).
Примечания
1
Игра слов: Сосо – уменьшительное от имени Иосиф и английское «так себе».
(обратно)2
Аркадия – курортная местность в Приморском районе Одессы, включающая одноименный пляж.
(обратно)3
Портобелло-роуд – улица в квартале Ноттинг-Хилл. Здесь расположен один из крупнейших в мире блошиных рынков.
(обратно)4
Госпиталь Св. Чарльза – больница на Эксмур-стрит, известная ныне большим количеством благотворительных программ.
(обратно)5
Клариссинки (Орден святой Клары) – женский монашеский орден, основанный в 1212 году. Большинство монахинь ордена не выходят в мир, соблюдают строгий затвор; сейчас в Великобритании сохранилось 11 монастырей клариссинок.
(обратно)6
Бленейм-кресчент, Вестбурн-парк-роуд – улицы неподалеку от Портобел- ло-роуд.
(обратно)7
«Дэйли миррор» и «Сан» – газеты, основанные в 1903 и 1963 году соответственно; самые популярные британские таблоиды, публикующие скандальные материалы.
(обратно)8
Михаил VIII Палеолог (1224/1225-1282) – византийский император с 1261 года; известен тем, что отвоевал у крестоносцев Константинополь, захваченный ими во время Четвертого Крестового похода, и возродил Византийскую империю.
(обратно)9
На самом деле Санкт-Петербург был переименован в Петроград в 1914 году.
(обратно)10
Имеется в виду, что ты не входишь в число выпускников привилегированных частных школ, деловые и дружеские связи с которыми могли бы тебе помочь.
(обратно)11
Центральное управление информацией (Central Office of Information) – созданное в 1946 году агентство, занимающееся связями с общественностью, подготовкой и распространением правительственных информационных и пропагандистских материалов как внутри страны, так и за рубежом.
(обратно)12
Принцесса Маргарет (1930–2002) – младшая сестра королевы Елизаветы II.
(обратно)13
Александрия – уездный город, входивший в состав Херсонской губернии (ныне – Кировоградская область), столица «государства» атамана Николая Григорьева.
(обратно)14
Хайберский проход – проход в горном хребте Сафедкох, на границе между Афганистаном и Пакистаном. Здесь велись активные боевые действия во время трех афганских войн. Имеется в виду «Баллада о царской шутке» Р. Киплинга: «Когда в пустыне весна цветет, / Караваны идут сквозь Хайберский проход» (пер. А. Оношкович-Яцыны).
(обратно)15
Карл Фридрих Май (1842–1912) – немецкий писатель, поэт, композитор, автор вестернов, в том числе циклов о Верной Руке и Виннету.
(обратно)16
Ахав (873–852 до н. э.) – седьмой царь Израиля, сын царя Амврия.
(обратно)17
Куренёвка – район Киева, известный с XVII века. Прилегающий к Бабьему Яру, этот район стал известен после катастрофы 1961 года, когда сточные воды прорвали дамбу и затопили его. Погибло около 1500 человек.
(обратно)18
«Pearson’s magazine» – популярный английский литературный журнал, выходивший в 1896–1939 годах, специализировавшийся на художественной литературе и политических дискуссиях. На его страницах публиковались работы Бернарда Шоу, Эптона Синклера, Герберта Уэллса и многих других.
(обратно)19
Фастов – город в Киевской области, в 64 км к юго-западу от Киева.
(обратно)20
Балабуха – сухое варенье и разные лакомства с ним производства династии кондитеров Балабух. Их «цеха варенья» располагались в центре Киева.
(обратно)21
Кирилловский лес – лес возле Кирилловской церкви в Дорогожичах, одного из древнейших храмов Киевской Руси.
(обратно)22
Панславизм – культурное и политическое течение среди славянских народов, в основе которого лежат идеи об этнической и языковой общности славян, необходимости их политического объединения. Возникло в Чехии в 1820 годах.
(обратно)23
Перечисляются самые популярные авторы фантастических и приключенческих романов, которые печатались в «Пирсоне»: Герберт Джордж Уэллс (1866–1946), Ч. Джон Катклифф Хайн (1866–1944), Макс Пембертон (1863–1950), Гай Бутби (1867–1905), Артур Конан Дойл (1859–1930), Генри Райдер Хаггард (1856–1925), Рафаэль Сабатини (1875–1950), Роберт Барр (1849–1912).
(обратно)24
Фирма Уильяма Райли занималась производством велосипедов с 1890 до 1910 года.
(обратно)25
И. И. Сикорский (1889–1972) разработал четырехмоторный деревянный биплан «Илья Муромец» в 1912 году. Во время Первой мировой войны была создана эскадра бомбардировщиков «Илья Муромец». «Большая Берта» – немецкая 420‑миллиметровая мортира, разработанная в 1904 году; строились «берты» на заводах Круппа с 1914 года. Цеппелины – дирижабли жесткой системы, которые строились графом Цеппелином в 1899–1938 годах.
(обратно)26
«Киевская мысль» – ежедневная газета либерального направления; издавалась в 1906–1918 годах.
(обратно)27
Знаком, в курсе дел (фр.).
(обратно)28
Юзовка, Екатеринослав – прежние названия соответственно Донецка и Днепропетровска.
(обратно)29
Самолеты «Илья Муромец» модернизировались в 1915–1918 годах с уменьшением конструкции, крупные истребители Сикорского С-XVII, С-XVIII не были удачными и существовали лишь в опытных экземплярах.
(обратно)30
Имеется в виду Андреевская церковь, Софийский собор и Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве.
(обратно)31
«Ревейл» («Reveille») – популярный во второй половине XX века британский таблоид; «Нэшионал Инквайрер» («National Enquirer») – американский таблоид, издающийся с 1926 года.
(обратно)32
Молдаванка – предместье Одессы, прославленное в «Одесских рассказах» Исаака Бабеля.
(обратно)33
Святой Христофор – мученик, почитаемый и католиками, и православными, живший в III–IV веках, покровитель путешественников.
(обратно)34
Руритания – вымышленная страна в Центральной Европе, место действия романов Энтони Хоупа (1863–1933); «Шапка-невидимка» (1908) – первый сборник рассказов Александра Грина (1880–1932); на самом деле книга посвящена политическим увлечениям автора и его участию в анархическом движении.
(обратно)35
«Cunard Line» (ранее «Cunard Steamship Line Shipping Company») – британская компания, оператор трансатлантических и круизных маршрутов океанских лайнеров; «P&Ocruises» – аналогичная американская компания. В настоящее время объединились под вывеской «Carnival Corporation».
(обратно)36
«Убийство в „Восточном экспрессе“» – роман Агаты Кристи вышел в свет в 1934 году, фильм Сиднея Люмета – в 1974‑м.
(обратно)37
Морлоки – человекоподобные существа-каннибалы, живущие под землей, описанные в фантастическом романе Герберта Уэллса «Машина времени»; представляют собой постчеловеческую расу, эволюционировавшую из промышленного пролетариата.
(обратно)38
Битва при Танненберге (26–30 августа 1914 года) – крупное сражение между российскими и германскими войсками во время Первой мировой войны, закончившееся поражением российских войск.
(обратно)39
«Веселая вдова» – оперетта австро-венгерского композитора Франца Легара.
(обратно)40
«Одесская газета» («Odessaer-Zeitung») издавалась с 1863 по 1914 год. Эта немецкая газета в Одессе была отнюдь не единственной.
(обратно)41
Карл Христофор Траугот (Tauchnitz, 1761–1836) – немецкий типограф и книгопродавец, основатель одного из крупнейших издательств Германии. С 1866 года стал выпускать «Collection of German Authors», a c 1886 года – «Students’ Tauchnitz Editions» (английские и американские сочинения с немецкими введением и примечаниями). Уильям Кларк Расселл (1844–1911) – английский писатель, автор морских приключенческих романов. Уильям Петт Ридж (1859–1930) – английский романист.
(обратно)42
Большой Фонтан – один из крупнейших приморских районов Одессы, где минеральные источники бьют прямо на пляжах. Подробное описание Муркок заимствует у К. Паустовского, из книги «Время больших ожиданий».
(обратно)43
Имеется в виду эпизод, в котором правительственные войска расстреливают мирных жителей на ступенях Потемкинской лестницы.
(обратно)44
Имеется в виду «Английский магазин» Вильяма Вагнера, купца, который также владел гостиницей «Европейская».
(обратно)45
Малый Фонтан – район бывшего хутора, где находился один из трех источников, снабжавших Одессу питьевой водой. Ко времени действия романа название являлось архаизмом (источник пересох, сам район вошел в состав Большого Фонтана).
(обратно)46
Видимо, имеется в виду сборник товарищества «Знание», выходивший в марксистском издательстве с 1904 по 1913 год (вышло 40 выпусков).
(обратно)47
Иза (Изабелла Яковлевна) Кремер (1887–1956) – певица, солистка оперетты; первая певица, которая пела со сцены на идиш.
(обратно)48
Правильно: Фредерик Содди (1877–1956) – английский радиохимик, лауреат Нобелевской премии (1921); создатель теории радиоактивного распада. Термин «изотоп» придумала в 1913 году Маргарет Тодд, которая была в гостях у Содди.
(обратно)49
Капелька, малость (фр., разг.).
(обратно)50
Литваки – территориально-лингвистическая подгруппа центральноевропейских евреев и исторически связанное с ними ортодоксальное течение в иудаизме.
(обратно)51
Газет с таким названием несколько – большей частью это националистические эмигрантские издания 1920–1930 годов. Наиболее известен «Голос России», который в 1936–1938 годах, редактировал И. Солоневич. Видимо, антисемитская направленность газеты для повествователя важнее, чем соответствие сроков издания.
(обратно)52
На самом деле строителем вертолета и первым человеком, поднявшимся в воздух на подобной машине, был один из братьев Корню, Поль (1881–1944). Полет состоялся 13 ноября 1907 года.
(обратно)53
«Клубника а-ля Романов» – десерт из клубники со сливками и ликером «Куантро».
(обратно)54
«Здравствуйте, мой юный друг». – «Здравствуйте, мсье. Как поживаете?» – «Ах, хорошо! Очень хорошо! А вы?» – «Спасибо, хорошо, мсье» (фр.).
(обратно)55
Меня зовут (фр.).
(обратно)56
«Круг» – завод шампанских вин в Реймсе, основанный в 1843 году. «Моэ Шандон» – один из крупнейших мировых производителей шампанского.
(обратно)57
Высшие женские курсы. – система женского образования в России; в Петербурге с 1873 года работали Бестужевские курсы.
(обратно)58
«Flight International» – британский авиакосмический еженедельник, издающийся с 1909 года. Старейший в мире журнал авиационной тематики.
(обратно)59
Гленн Хаммонд Кертисс (1878–1930) – американский пионер авиации, известный в том числе и тем, что создал первый самолет, взлетающий с поверхности воды.
(обратно)60
Сражение при Каллодене в северной Шотландии произошло 16 апреля 1746 года между шотландским ополчением и правительственными войсками. Шотландцы были разбиты.
(обратно)61
«Катти Сарк» – один из самых известных клиперов, построенный в 1869 году. В настоящее время – корабль-музей.
(обратно)62
Речь идет о Марии Башкирцевой (1858–1884), прославившейся как автор «Дневника».
(обратно)63
Первый магазин Карла Фаберже в Петербурге располагался на Большой Морской (позднее в столице появились и другие магазины), магазин ювелирного торгового дома «Братья Грачевы» открылся на Невском в 1900 году.
(обратно)64
Речь идет об апартаментах на верхнем этаже отеля «Десерт Инн» («Пустыня»), в которых Хьюз укрылся в 1966 году.
(обратно)65
Яков Васильевич Виллье (1768–1854) – военный врач, создатель системы военной медицины в России.
(обратно)66
Фирма Карла Хеншеля была создана в 1810 году, занималась, в частности, производством электрических локомотивов.
(обратно)67
«Русское слово» – ежедневная дешевая газета в Российской империи. Издавалась с 1895 по 1918 год.
(обратно)68
Пирожные по-венски – как правило, сдобные булочки.
(обратно)69
«Боже, Царя храни!» – государственный гимн Российской империи с 1833 по 1917 год. Музыка – А. Ф. Львова, слова – В. А. Жуковского и А. С. Пушкина.
(обратно)70
Движение искусств и ремесел (Arts & Crafts) – английское художественное течение Викторианской эпохи, участники которого занимались ручной выработкой предметов декоративно-прикладного искусства.
(обратно)71
Очень рад (фр.).
(обратно)72
«Я пью за твои успехи, дорогая… И абсент „Терминус“ дарует блаженство» (фр.). Упомянутый рекламный плакат был создан в 1892 году; на нем в образах арлекина и его дамы представлены более чем известные в те времена Коклен Бенуа-Констан и Сара Бернар. Последняя подала в суд на создателей рекламы, в результате плакат во Франции не использовался. Альфонс Муха (1860–1939) – чешский художник, яркий представитель стиля «модерн».
(обратно)73
Любитель плотских удовольствий (фр.).
(обратно)74
Жюль Лафорг (1860–1887) – французский поэт-символист; к числу «проклятых поэтов» его отнесли уже в XX столетии.
(обратно)75
Строка из стихотворения Шарля Бодлера «Пейзаж»: «И созерцать церквей и труб недвижный лес» (пер. Эллиса).
(обратно)76
Снег (фр.), в данном случае – «снежок», кокаин.
(обратно)77
Шейлок – персонаж У. Шекспира («Венецианский купец»); Фейгин (Фед- жин) – персонаж Ч. Диккенса («Приключения Оливера Твиста»); Исаак – персонаж В. Скотта («Айвенго»). Первые двое отнюдь не положительные герои.
(обратно)78
Израэль Зангвилл (1864–1926) – английский писатель и деятель еврейского движения; Бенджамин Дизраэли (1804–1881) стал премьер-министром Великобритании в 1868 году.
(обратно)79
Пер. К. Бальмонта.
(обратно)80
Дж. Г. Байрон «О, плачьте…» (из цикла «Еврейские мелодии»). Пер. Д. Михайловского.
(обратно)81
Рэг, кекуок, кун-дэнс, слоу-дрэг – негритянские танцы, популярные на рубеже веков, в основном близкие регтайму.
(обратно)82
В одном ряду перечисляются и большевистские издания, и модернистские журналы, и журнал «Новые миры», который редактировал Муркок в 1960‑х.
(обратно)83
О. Мандельштам «Не веря воскресенья чуду…»
(обратно)84
Мотор Лунделя в конце XIX века использовался в различных конструкциях электрических вентиляторов; это, пожалуй, единственный на тот момент способ его применения.
(обратно)85
«Вейгуд» и «Отис» – старейшие компании по производству пассажирских лифтов.
(обратно)86
Сливки общества (фр.).
(обратно)87
Анатолий Владимирович Луначарский (1875–1933) – революционер, писатель, критик, нарком просвещения в 1917–1929 годы. Федот Михайлович Онипко (1880–1938) – российский политический деятель, депутат Учредительного собрания.
(обратно)88
Родольф Салис (1851–1897) – создатель и владелец знаменитого богемного парижского кабаре на Монмартре «Le Chat Noir» («Черный кот»), открывшегося в 1881 году. В подражание «Коту» открывались подобные кабаре по всему миру.
(обратно)89
Арт-кабаре «Привал комедиантов» открылось 18 апреля 1916 года.
(обратно)90
Р. Киплинг «Отпустительная молитва». Пер. О. Юрьева.
(обратно)91
Джордж Мередит (1828–1909) – один из крупнейших писателей Викторианской эпохи. В 14 лет его отправили в школу моравских братьев (гернгутеров) в Германии, там он провел два года.
(обратно)92
«Некие цветы» – парфюм, созданный Роббером Бьенеме (парфюмерный дом «Убиган») в 1912 году. Цветочный аромат с нотами фиалки, иланг-иланга и апельсина не удалось восстановить ни одному из парфюмеров XX века.
(обратно)93
Ноттинг-Дейл – район Лондона к северу от Ноттинг-Хилла; с середины XIX века обиталище цыган и городской бедноты, синоним нищеты и упадка.
(обратно)94
«Кошка мельника» (фр.).
(обратно)95
«Swing Low, Sweet Chariot» и «Nobody Knows The Troublel See» – известнейшие духовные афроамериканские песни (спиричуэлс).
(обратно)96
Фимбулвинтер и Рагнарёк – апокалиптическая трехлетняя зима и следующая за ней гибель богов и всего мира, согласно скандинавской мифологии.
(обратно)97
«Искра» – нелегальная газета РСДРП, издававшаяся с 1900 года; «Голос труда» – анархистская газета, основанная в 1911 году в Нью-Йорке.
(обратно)98
Румыния объявила войну Австро-Венгрии 28 августа 1916 года, перемирие было заключено на самом деле только в декабре 1917 года; под капитуляцией здесь, очевидно, имеется в виду сдача Бухареста в декабре 1916 года.
(обратно)99
Пятницкий путает Тараса Шевченко с Павлом Чубинским, чье стихотворение «Ще не вмерла Украина» (1863) впоследствии стало национальным, а позже и государственным гимном Украины.
(обратно)100
«Голос Киева» – украинская газета, выходившая с 1910 года.
(обратно)101
Георгий Евгеньевич Львов (1861–1925) – первый председатель Временного правительства (март-июль 1917).
(обратно)102
Патаны – прежнее название пуштунов, афганцев, живших на границе Афганистана.
(обратно)103
Мертир-Тидвил – город и графство на юге Уэльса; Сурабая – второй по величине город Индонезии.
(обратно)104
Слово «робот» (robot, от чешск, robota – подневольный труд или rob – раб) Карел Чапек использовал в пьесе «Р. У.Р.» в 1920 году.
(обратно)105
«Маркс и Спенсер» – крупнейший британский производитель одежды. Еврейский иммигрант Майкл Маркс открыл первый магазин в 1884 году.
(обратно)106
«Зеленый сиу» (фр.).
(обратно)107
Битва при Камбре (наступление британской армии на позиции немцев) началась 20 ноября 1917 года. В этот день Рада утвердила название «Украинская Народная Республика», провозглашение независимости состоялось 22 января 1918 года.
(обратно)108
Державная варта – служба охраны порядка при Скоропадском. Существовала в 1918 году.
(обратно)109
Джесси Джеймс (1847–1882) – знаменитый американский бандит, ставший благодаря кинематографу (о нем было снято почти 30 фильмов) Робин Гудом Дикого Запада.
(обратно)110
Английская республика (англ. Commonwealth of England, в буквальном переводе – Английское содружество, позднее – Содружество Англии, Шотландии и Ирландии (англ. Commonwealth of England, Scotland and Ireland)) – историческая форма правления в Англии с 1649 по 1660 годы, введенная после казни короля Карла I и упразднения монархии.
(обратно)111
Карл Радек (настоящее имя Кароль Собельсон) – советский политический деятель, участник международного социал-демократического и коммунистического движения.
(обратно)112
«Красный флаг» (англ. «Red Flag») – английская рабочая песня, сочиненная Д. О’Коннеллом в 1889 году.
(обратно)113
Линия Гинденбурга – протяженная (160 км) система оборонительных сооружений на северо-востоке Франции, построенная немцами зимой 1916–1917 годов.
(обратно)114
Максимилиан Александр Фридрих Вильгельм, принц Баденский (1867–1929) – последний канцлер Германской империи (с 3 октября по 9 ноября 1918 года).
(обратно)115
Речь идет о временной денежной системе Украинской Народной Республики, утвержденной в ноябре 1917 года. Кредитные билеты выпускались в карбованцах, один карбованец содержал 17,424 доли чистого золота и делился на 2 гривны или 200 шагов.
(обратно)116
Директория – высший орган государственной власти Украинской Народной Республики в 1918–1920 годах. Симон Петлюра был главнокомандующим Директории.
(обратно)117
Евгений Михайлович Коновалец (1891–1938) – украинский националист, командир сечевых стрельцов (указ о самороспуске корпуса Коновалец подписал в декабре 1919 года).
(обратно)118
Имеется в виду Владимир Антонов-Овсеенко, русский и украинский революционер, с ноября 1918 года командир Украинской советской армии, принимавший активное участие в установлении советской власти практически на всей территории Украины.
(обратно)119
Парафраз финальной строки повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759).
(обратно)120
Здесь и далее упоминается симфония Ференца Листа (1811–1886) «Данте» (1855–1856).
(обратно)121
«Хвалит душа моя Господа» (лат.) – славословие Девы Марии из Евангелия от Луки в латинском переводе, одна из основных песней библейских, кульминация вечерни.
(обратно)122
Николай Павлович Дилецкий (ок. 1630 – после 1680) – украинский и российский композитор, один из создателей школы партесного пения в России.
(обратно)123
Публий Корнелий Сципион Африканский Старший (ок. 235 до н. э. – 183 до н. э.) – римский полководец времен Второй Пунической войны, одержавший победу над Ганнибалом.
(обратно)124
«Узник Зенды» – роман Энтони Хоупа (1894), самый известный в цикле о Руритании, очень популярный и многократно экранизированный.
(обратно)125
«Penny Illustrated Paper» – дешевая иллюстрированная еженедельная газета, издававшаяся с 1861 по 1913 год.
(обратно)126
Торки – город на южном побережье Англии, прозванный за свой климат английской Ривьерой. В XIX веке был модным морским курортом.
(обратно)127
Господи (греч.).
(обратно)128
Джордж Армстронг Кастер (1839–1876) – американский кавалерист, прославившийся храбростью и безрассудством, погибший в сражении с индейцами.
(обратно)129
Уильям Кларк Квантрилл (1837–1865) – капитан армии конфедератов, один из организаторов партизанской войны в 1860 годах.
(обратно)130
SPAD (фр. Société Pour L`Aviation et ses Dérivés) – французское авиастроительное предприятие, действовавшее в 1911–1921 годы. Во время Первой мировой эта фирма выпускала пятую часть всех самолетов в мире.
(обратно)131
Лоренцо ди Пьеро де Медичи (1449–1492) – правитель Флоренции в эпоху Возрождения, покровитель искусств, поэт. Джироламо Савонарола (1452–1498) – итальянский проповедник и реформатор.
(обратно)132
«Ньюпор» (фр. «Nieuport»), позднее «Ньюпор-Деляж» (фр. «Nieuport‑Delage») – французская__авиастроительная__компания, существовавшая с 1902 по 1932 год. До Первой мировой войны_производила гоночные самолеты, во время и после войны – истребители. «Albatros D. II» – немецкий истребитель, использовавшийся в Первой мировой войне.
(обратно)133
Ось (Axis) – общее название государств, которые сражались на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны.
(обратно)134
«День гнева» (лат.) – в католическом богослужении песнопение, посвященное описанию Судного дня.
(обратно)135
Речь идет о «Всенощном бдении» (1915), музыкальном произведении, основанном на православном богослужении и объединяющем вечернюю и утреннюю службы, Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943).
(обратно)136
Отсылка к классике «новой волны» научной фантастики – одноименному рассказу (1967) Памелы Золин.
(обратно)137
Мировое эхо (LDE, англ. Long delayed echo) – особый вид эха в диапазоне радиоволн, которое возвращается через время от 1 до 40 и более секунд после радиопередачи и иногда наблюдается в диапазоне коротких волн. В качестве объяснения предлагались самые разные гипотезы – от инопланетного вмешательства до божественной воли.
(обратно)138
Помни о смерти (лат.).
(обратно)139
После смерти Лоренцо Медичи в 1492 году Джироламо Савонарола не сразу стал диктатором Флоренции, более того, именно Савонарола восстановил в городе республиканские учреждения.
(обратно)140
«Британский национальный фронт» – националистическая партия, созданная в 1967 году.
(обратно)141
Голдерс-Грин – лондонский район, где традиционно селились евреи.
(обратно)142
Константин Великий (Флавий Валерий Аврелий Константин, 272–337) – римский император. Армия провозгласила его императором после смерти отца в 306 году прямо в Британии, где он находился в тот момент. Однако полную власть над Римом Константин получил, только вернувшись туда в 312 г.
(обратно)143
Жан Лафит (? – 1826) – знаменитый пират и контрабандист, с негласного разрешения американского правительства грабивший английские корабли в Мексиканском заливе.
(обратно)144
Джордж Оруэлл и Олдос Хаксли – авторы самых знаменитых антиутопий XX века «1984» и «О дивный новый мир», черпали свои идеи как из романа «Мы» Замятина, так и из первой крупной антиутопии – романа Уэллса «Когда спящий проснется» (1899).
(обратно)145
О. Э. Мандельштам «Айя-София» (1912).
(обратно)146
Воскрешение мертвых (иврит) – израильская доктрина мессианского искупления.
(обратно)147
Нет детей. Нет внуков (нем., иврит).
(обратно)148
Чешские поселки Лидице и Лежаки были разрушены нацистами в 1942 году во время операции «Антропоид». Многие жители казнены, многие заключены в трудовые лагеря.
(обратно)149
Дзадзики (цацики, тцатцики) – холодный соус-закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока, типичное блюдо греческой кухни.
(обратно)150
Она завтра едет в Египет. Она сама отвечает за себя (нем.).
(обратно)151
Привет! Аллах велик! Аллах велик! (араб.)
(обратно)152
Панно (Франсиско) Вилья (1878–1923) – один из лидеров повстанцев во время Мексиканской революции; Эмилиано Сапата Салазар (1879–1919) – лидер Мексиканской революции.
(обратно)153
Фрагмент воскресного тропаря «Днесь спасение».
(обратно)154
На самом деле самолеты «Эртц», созданные в 1916 году, оказались в числе лучших машин с тандемными крыльями и долго использовались в воздушной разведке. Маленькая одноместная летающая лодка «Ганза-Бранденберг W 20» стала одним из оригинальнейших проектов разборного самолета-разведчика.
(обратно)155
Андрей Донатович Синявский (1925–1997) – сын потомственного дворянина, литературный критик, филолог, использовал псевдоним Абрам Терц только для художественных и художественно-публицистических сочинений.
(обратно)156
Эрте (Роман Петрович Тыртов, 1892–1990) – дизайнер, один из создателей стиля ар-деко.
(обратно)157
Р. Киплинг «Баллада о Востоке и Западе» (1889). Пер. К. Филатова.
(обратно)158
Возможно, речь идет о Джоне Вилли (Джон А. С. Коуттс, 1902–1962) – известном художнике, авторе фетиш-комиксов. Колетт (Сидони-Габриэль Колетт, 1873–1954) – французская писательница.
(обратно)159
Ида Герхарди (1862–1927) – немецкая художница-модернистка.
(обратно)160
Тряпки (идиш).
(обратно)161
Эллис – остров в устье р. Гудзон неподалеку от о. Манхэттен. С 1892 по 1954 год – крупнейший центр приема иммигрантов в США.
(обратно)162
«Кровавая императрица» («The Scarlet Empress», 1934) – фильм Джозефа фон Штернберга, очень вольная интерпретация биографии Екатерины И.
(обратно)163
Центральные державы – военно-политический блок государств, противостоявший странам Антанты. В блок входили Германская империя, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгарское царство.
(обратно)



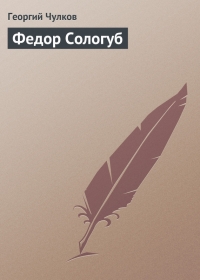
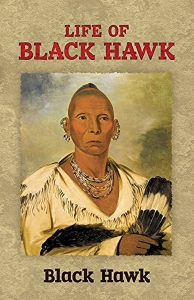
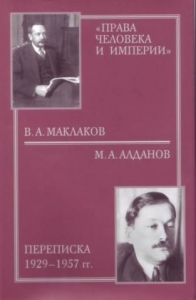
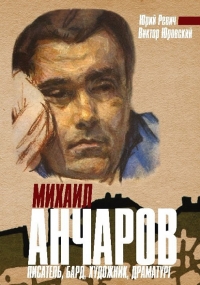
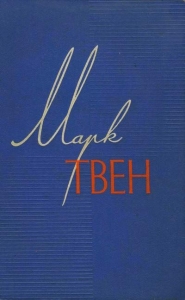
Комментарии к книге «Византия сражается», Майкл Муркок
Всего 0 комментариев