Василий Головко ЭХО ФРОНТОВЫХ РАДИОГРАММ Воспоминания защитника Ленинграда
Посвящаю связистам Ленинградского фронта
Как это ни прискорбно, но с каждым днем, отдаляющим нас от Великой Победы 45-го года, все меньше и меньше остается живых свидетелей тех неимоверно трудных, скорбных, по по-своему прекрасных дней. Сегодня уже выросли поколения, для которых Великая Отечественная — далекая история, и познают они ее в основном из школьных учебников, редких телепередач, которые строятся, как правило, на негативном материале, да еще из книжек крикливых лжеисториков, ставящих правду войны с ног на голову, стараясь угодить богатым заказчикам. Разобраться в этом ворохе домыслов, инсинуаций, а то и заведомо ложных выводов порой не просто даже опытным людям, не говоря уже о молодежи. Поэтому свидетельства очевидцев сегодня обретают силу необычайной высоты.
Предлагаемые в этой книге воспоминания защитника Ленинграда Василия Афанасьевича Головко свободны от политических красок, от стратегических выводов и полководческих размышлений. Это личные свидетельства рядового солдата, одного из тех, кому посвятил свои мемуары Маршал Победы Жуков. Воспоминания о трудных днях блокады, о боевых буднях защитников города, о командирах и сослуживцах, о первой фронтовой любви. И может быть потому, что написанные строки не претендуют на профессиональный литературный стиль, они читаются с неподдельным интересом, с глубоким доверием к искренности автора.
Думается, что эта книга займет достойное место среди той литературы, в которой правда о Великой Отечественной войне изложена хотя и бесхитростно, но с удивительной достоверностью.
Аркадий ПИНЧУК,
президент Ассоциации писателей
баталистов и маринистов Санкт-Петербурга
* * *
Это было воскресенье, то самое воскресенье 22-го нюня 1941 г. Выходной день! И мы, студенты Ленинградского строительного техникума, молодо спали, добирая последние дни. И кто-то запыханно вбежал в наше общежитие, что располагалось на набережной реки Мойки в доме 58, и громко крикнул: «Началась война с Германией!» Ни у кого эта новость не вызвала особой реакции. У меня — тоже.
Подумаешь, война. Мы пережили уже две войны: у озера Хасан и на Карельском перешейке. Отпраздновали две победы. Будет и третья — в этом никто не сомневался.
А накануне у нас была запланирована воскресная поездка на Кировские острова — так назывался ЦПКО им. Кирова. Привычно перекусив булкой с сахарным песком и кипятком (о питании студентов в общежитии я расскажу несколько позже), мы небольшой компанией отправились на трамвае в парк.
Вход туда был свободным — гуляй не хочу. Мы вышли на центральную аллею, побродили по узким дорожкам, полянкам и вскоре не без удивления поняли, что в парке фактически мы одни.
Не обнаружив того обычного, праздничного веселья в парке, когда он по выходным до предела заполнялся отдыхающими ленинградцами, когда повсюду работали аттракционы, ларьки, играли оркестры, мы примолкли и торопливо вернулись в общежитие. В наши души подсознательно вползала еще не понятная тревога.
О том, что будет война с Германией, как-то само собой разумелось, в этом никто не сомневался. Никто не сомневался и в нашей победе. В сознании молодежи четко отложилось убеждение, что воевать наша армия будет только на территории врага, и спуску ему — агрессору — не будет никакого. Спорили студенты о деталях: когда начнется война, сколько продлится, и кого из нас призовут в первую очередь. Большинство ребят втайне мечтали немедленно записаться добровольцами и тут же уехать на фронт.
А на улицах Ленинграда между тем уже выстраивались длинные очереди возле магазинов. Разбирали прежде всего соль и керосин, спички и мыло, теплые вещи, хотя жара в Ленинграде была в самом разгаре…
Здесь мне хочется сделать отступление и хотя бы кратко рассказать чем жил город перед войной.
В техникум я поступил в 14 лет, жил все время в общежитиях. На первом курсе — в Лигово или как его тогда называли — в Урицке. Это на юго-запад от Ленинграда, час езды на трамвае. Комната на пятерых человек, общая кухня, титан с кипятком, общий туалет в конце коридора.
На первом курсе стипендию не получал — вступительные экзамены сдал на тройки. Жил на деньги, которые присылала мать: 100 рублей в месяц. В основном они уходили на питание. По теперешним понятиям оно было скромное, но мне казалось весьма приятным, ибо покупал я то, что желала душа.
Любимый завтрак: полбатона, 50 г сахарного песка, кипяток из титана. Ставишь на стол чайник с кипятком, сахар кучкой на бумаге, полбатона в руке. Макаешь батоном в сахар и запиваешь кипятком. Вкуснота. Даже сейчас я вспоминаю все это не без удовольствия.
Несмотря на то, что в нашем техникуме был буфет, мы любили обедать в Электротехническом институте имени Бонч-Бруевича. Он находится недалеко от техникума, здесь же, на улице Герцена. Приходим, бывало, группой в три-четыре человека в столовую института после окончания занятий, садимся за стол и пока ждем официантку, полностью съедаем с солью тарелку хлеба, стоявшего на столе. Это была одна из немногих столовых, где хлеб на столах подавался бесплатно, вернее он входил в стоимость блюд. Нас это очень устраивало. Мы всегда до обеда съедали весь хлеб на столе, затем пересаживались за другой и уже здесь вторую стопку хлеба съедали за обедом. Обед состоял, примерно, из супа за 25 коп., котлеты 40 коп. и компота 5 коп., итого 80 копеек, иногда 70 копеек, наедались до отвала, в основном за счет бесплатного хлеба. Вечером же в общежитии ели, что бог пошлет: иногда селедку с хлебом, но чаще всего та же булка с сахаром и кипятком.
Очень я тогда любил ходить в кино. На дневные сеансы в передних рядах билет стоил 25 коп. После обеда я часто отсоединялся от компании и шел в кинотеатр «Баррикада», который находился здесь же рядом, на углу Герцена и Невского.
На дневных сеансах людей было мало, и я за свои 25 копеек усаживался на самые дорогие места и с упоением смотрел фильм. Была у меня специальная книжечка, где я вел учет просмотренных кинофильмов и помню, что за студенческие годы посмотрел их более двух сотен.
На питание уходило, кажется, около 60 рублей в месяц, остальные из 100 имеющихся рублей расходовались на разную мелочь. Одежду я почти не покупал, носил привезенный еще из дома костюм.
Многие студенты, жившие в общежитии, имели родственников в Ленинграде, кто — близких, кто — дальних. Это и понятно: иногородние ехали учиться в Ленинград именно потому, что кто-то из знакомых, родственников или земляков был в Ленинграде. У меня здесь жил отец — Афанасий Степанович. История его переселения из Белорусского местечка в Ленинград — весьма любопытна и как-нибудь я расскажу об этом подробнее. Здесь же, дабы увязать ситуацию в Ленинграде накануне и во время войны, отмечу, что отец и мать разошлись, когда мне было 8 лет, разошлись громко, с молвой на все местечко. Отец уехал в тридцатых годах в Ленинград, а мы, трое его детей, остались при матери. Она во второй раз вышла замуж.
Отец в Ленинграде тоже женился. Жена его — Дуся, имела комнату на двоих с подругой. В эту комнату отец и поселился. Вскоре замуж вышла и подруга тети Дуси, и мужа своего она тоже прописала в этой же комнате, в доме на 8-й Красноармейской. Две семьи стали жить в одной двадцатиметровой комнате. С жильем в Ленинграде было очень трудно, об отдельных квартирах и речи быть не могло, жили в основном в коммуналках.
Естественно, что при таких жилищных условиях отца, о моей прописке речи быть не могло. Да и отношения с отцом у меня были необычные. После развода с матерью он нам не писал и мы с ним не знались. Мать, бабушка и дедушка были весьма враждебно настроены к отцу, и эта враждебность в какой-то степени была передана нам, детям. Отец же не предпринимал никаких шагов по налаживанию контактов с детьми, платил исправно алименты — половину своей зарплаты, и на этом считал свою миссию исчерпанной. Работал он на заводах Ленинграда, сначала грузчиком, затем шинником на «Красном треугольнике». Кроме того, подрабатывал сверхурочно, компенсируя в некоторой степени взыскиваемые по исполнительному листу алименты.
Когда я заканчивал семилетку в поселке торфозавода «Гады», что в Кировской области, мать стала думать о моей дальнейшей судьбе, и порекомендовала наладить контакт с отцом, чтобы как-то продолжить учебу а Ленинграде. После обмена несколькими письмами, я съездил во время каникул в Ленинград к отцу, познакомился с его новой женой, и мы договорились с ним, что я приеду и а учебу в Ленинград, но с одним условием — жить в общежитии.
Хотя я учился на двойки-тройки, был бузотером, из-за чего нередко вызывали в школу мать, но желание попасть в Ленинград было так велико, что я все-таки без двоек закончил семилетку, и довольно сносно подготовился к вступительным экзаменам в техникум. Почему в строительный? Да очень просто — мой отчим Пинчук Федор Моисеевич работал на торфозаводе «Гады» прорабом-строителем, все мы его уважали, и я решил продолжить его строительное дело.
Отец в Ленинграде жил весьма скромно, но зато питались они хорошо, по праздникам устраивали с друзьями пышные застолья, по выходным ездили в городские парки или в Петродворец, или Пушкин. Карельского перешейка тогда еще не было, горожане ездили отдыхать на юг и юго-запад города. Но мне помощь от отца была весьма скромной. Все время он побаивался Дуси, которая строго следила за его заработками и изымала все до копейки, давая отцу на обед и на папиросы. Иногда он выкраивал пятерку и скрытно передавал ее мне.
Однако хочется отметить, что ко мне и со стороны тети Дуси и отца было доброе отношение. Несмотря на бедность и трудности, они пытались как-то помочь мне освоиться в Ленинграде. Само собой установилось, что каждое воскресенье я приходил к ним. На скудной студенческой пище я изрядно тосковал по хорошей, домашней еде. Тетя Дуся и отец видимо это знали, поэтому в день прихода к ним кормили меня, как говорится, по-королевски. Я не помню деликатесов, но наедался я всегда отлично. Наваристый борщ или суп, калорийное мясное — второе, выпечка — все уминалось мною в приличных размерах. В такие дни я солидно пополнял скудное питание в общежитии и студенческой столовой.
С отцом и тетей Дусей мы часто ездили в ЦПКО, где для меня главным номером было угощение мороженым. После занятий в техникуме я тоже частенько бегал в «Пассаж», чтобы полакомиться пломбиром. Съедал как правило 2–3 порции: эти ленинградские пломбиры! Они и сегодня не изменились ни во вкусе, ни в размере. Я мог съесть и больше порций. Но сдерживающим фактором была нехватка денег: свои 100 рублей распределить на все месячные расходы было непросто.
На втором курсе я уже получал стипендию, около 60 рублей в месяц, но дела у матери складывались весьма печально: арестовали моего отчима, родилась дочь Валя, сгорел поселок торфозавода, и всей нашей семье пришлось вернуться в Белоруссию, где не было ни кола, ни двора. Пятеро детей на руках— тяжкая доля женщины, но она все-таки выкраивала мне 40 рублей и посылала в Ленинград.
Эти деньги матери и стипендия, а в общей сложности те же 100 рублей, позволяли жить в общежитии и учиться в техникуме.
Это теперь я скрупулезно подсчитываю свои студенческие доходы и расходы, а тогда деньги тратились легко: есть — хорошо, нет — перебьемся. Жили весело, без забот и великих планов. Девочки на перерывах обучали нас, парией, современным танцам. Постигали мы это немудреное занятие трудно, но прилежность и настойчивость давали результаты. Усвоив азы и основы танцев, на вечерах в техникуме, да и часто и общежитии, без удержу отплясывали фокстроты и танго.
Вообще-то я должен признаться, что танцы заняли в моей жизни очень важное место. Они стали страстью, которая меня не покидала.
В нашем техникуме подобрался очень хороший и интересный коллектив преподавателей. Я и сегодня с теплым чувством вспоминаю преподавателя литературы Василия Васильевича Шилова. Как он увлекал студентов литературными образами, рассказами о писателях! Он был самым любимым учителем у студентов. Мы часто ходили с ним по городу, слушали его рассказы о литературной жизни Петрограда — Ленинграда. Возле гостиницы «Англетер» Василий Васильевич долго и подробно рассказывал о Есенине. Поэт до войны был не в почете, находился на полулегальном положении. Книг Есенина не было ни в библиотеке, ни в магазинах. Его стихи мы переписывали в свои тетрадки, а отдельные строки иногда вставляли в свои записки-письма девушкам. Поэтому рассказы Шилова о Есенине для нас имели особый смысл. Мы даже несколько беспокоились за судьбу Василия Васильевича, не говоря уже о его репутации у начальства. Времена были тревожные, еще чувствовались 37–38 гг., да и в 39-ом были случаи незаметного исчезновения студентов. У нас на курсе, например, исчезла девочка, ее считали немного «чокнутой», говорила иногда крамольные вольности и с сарказмом отзывалась о жизни. Ходили слухи об аресте ее органами КГБ.
Однажды Шилов обронил фразу, что Есенин не повесился, а его убили. Мы эту реплику тогда пропустили мимо ушей. Но в первые дни войны у входа в техникум я встретил Шилова в военной форме со шпалой в петлицах. По возрасту он тогда не подлежал призыву, и я спросил его:
— Василий Васильевич, вас уже призвали?
— Да нет, я добровольцем иду на фронт, — ответил он, — у меня с немцами свои счеты, я ведь их знаю еще с первой.
Это меня удивило! Шилов никогда не отличался ура-патриотизмом, а тут вдруг добровольцем…
В разговоре мы незаметно прошли улицу Герцена и вышли на Невский. Тут мне вспомнились его слова об убийстве Есенина, и я не удержался, спросил его:
— Василий Васильевич, вы уверены, что Есенин был убит?
Он помолчал, затем поведал мне историю, которую я не забыл до сих пор.
Из рассказа учителя запомнилось следующее. Шилов был знаком с Есениным, не могу сказать о степени этого знакомства. Поздно вечером, перед той роковой ночью, Шилов пришел в «Англетер» для встречи с Есениным. Подходя к номеру, где жил поэт, он вдруг увидел, что из него вышли двое мужчин, один из них прикрыл дверь, вставил ключ и закрыл ее на замок. Шилов решил, что Есенина в номере нет. Когда те двое удалились, он для верности постучал в дверь к Есенину. Никто не ответил, и он вышел на улицу. Там увидел он тех двоих, что побывали в номере поэта. Они уселись в стоявший напротив гостиницы автомобиль и уехали. А утром, когда Шилов подошел к «Англетеру», вдруг узнал о самоубийстве Есенина в прошедшую ночь. Из этого Василий Васильевич заключил, что Есенина убили те двое мужчин, которые накануне закрыли на ключ его номер.
Когда я прочитал, что ведутся поиски фактов об убийстве Есенина, то написал о Шилове одному исследователю. Очевидно, он как-то использует этот рассказ. Но дело в том, что Шилов вскоре после начала войны погиб на фронте, а мои попытки найти его родственников не увенчались успехом.
Еще одним любимцем студентов был преподаватель архитектуры Осип Осипович Осипов. Неправда ли, любопытное сочетание? Лысый, без единой волосинки, долговязый, немного согнувшийся, в белом костюме с белой, чистой рубашкой — таким запомнился мне Осипов. Рассказчик он был удивительный. Выводил группу на улицу, выстраивал студентов возле очередного памятника архитектуры и вел свой увлекательный разговор об архитектуре, истории, культуре. Думаю, что этот человек много дал неотесанным, приехавшим в основном из провинции юношам, привил им любовь к архитектуре, строительству, к городу на Неве.
Я и сейчас, иногда, подхожу к зданию, и как учил Осипов, внимательно рассматриваю и вслушиваюсь: какие чувства это здание вызывает? Если оно действительно построено со вкусом, на душе ощущение благодати, успокоения, сразу меняется к лучшему настроение. Думаешь: «Что твоя жизнь по сравнению с вечностью?»
Зайди, дорогой читатель, в Петропавловскую крепость, стань где-нибудь в укромном уголке и обозри стройные здания крепости. Убедишься, как они успокоительно действуют на тебя. Вот только к великому сожалению, Шемякин внес диссонанс в спокойствие Петропавловской крепости, подсунув нам издевательскую бронзовую фигуру Петра 1-го. Чувствовать архитектуру зданий — великое открытие, и это открытие помог приобрести дорогой для меня преподаватель Осипов.
А какие великолепные были у нас преподаватели физики, химии, строительного производства, сопромата и других дисциплин. Считаю, мне выпала удача общаться с ними и учиться у них!
Отмечать революционные праздники для нас, студентов, было истинным счастьем. Задолго до 1-го Мая без всякого принуждения готовились к нему. В драматическом кружке художественной самодеятельности репетировали пьесу. Хор готовил советские песни. Художники писали плакаты, лозунги, вырезали из разной цветной бумаги лепестки для цветов.
Утром 1-го Мая сбор в колонну на Гражданской улице, это недалеко от техникума. Гремит студенческий духовой оркестр. Песни, танцы. Поем и шагаем в колонне, чуть остановились — сразу танцы. Танцуем по ходу движения беспрерывно. Торжественно проходим Дворцовую площадь. Было почетно и радостно нести флаг, плакат или портрет.
Кто-то усмехнется — лукавит автор!
Нет, дорогой читатель, сам испытывал все это, когда, крепко сжимая древко знамени, я проходил с колонной по улицам города. И даже сейчас волнуюсь, вспоминая то гордое чувство сопричастности к большим делам моего отечества.
Война началась, когда я уже заканчивал третий курс техникума. Шли экзамены. На второй день войны мы собрались в здании учебного корпуса, и здесь перед нами выступили наши руководители. Третий курс состоял, в основном, из студентов 1923 года рождения, кому исполнилось восемнадцать, или исполнялось к концу 1941 г. Мы считали, что нас сразу призовут в Красную Армию.
Директор несколько охладил наш боевой порыв: «Задача для студентов 3-го курса состоит в том, чтобы сдать до конца июня все экзамены». Мы не понимали: экзамены и война — разве это сопоставимые вещи? Однако приказу директора подчинились и сразу засели за учебники.
Город на глазах преображался. На стеклах окон появились бумажные наклейки — для предохранения их от взрывной волны. Окна первых этажей предохранялись более капитально. Их от земли до самого верха обкладывали мешками с песком или устраивали высокие короба и в них насыпали песок. Мешками с песком укрывались расположенные поблизости от техникума памятники Петру I и Николаю I.
Начались налеты немецкой авиации. На город упали первые фугасы и зажигательные бомбы. Дыхание войны становилось все ощутимее. Военрук техникума вместе с присланным из военкомата человеком обучал нас, студентов, бороться с зажигательными бомбами. Всех, кто проживал в общежитии, разделили на отряды, установили график дежурства на крышах всех зданий техникума.
Беззаботная молодежь! Даже сейчас, когда вспоминаю эти бомбежки, холодок проходит по спине. А тогда никакого мы страха не испытывали, и в свободное от дежурства время при налетах авиации почти все сидели на крыше общежития.
Начиналось это с объявления по радио воздушной тревоги. В городе гудели все виды звуковой тревоги: специальные сирены, паровозы, заводы, фабрики, транспорт, все сливалось в сплошное гу-гу-гу. Инструкция требовала, чтобы по сигналу воздушной тревоги дежурный отряд сразу занимал посты на крыше, чердаке и в общежитии, а все, кто свободен от дежурства, укрывались в бомбоубежище, находящемся в соседнем доме. Убежище — это подвал со сводчатым кирпичным перекрытием, укрепленным деревянными стойками. Бомбоубежища готовились еще задолго до войны, здесь было все необходимое: вода, аптечка, скамейки, нары, носилки и т. п.
В первые дни войны мы бегали в убежище больше из любопытства. Сидение часами в полумраке — занятие не для молодых. При том в убежище поддерживалась железная дисциплина: ни ходить, ни бегать, ни громко разговаривать, а тем более шуметь — не разрешалось. Дежурные строго выполняли инструкции. Постепенно мы стали игнорировать указания администрации техникума и в убежище спускались весьма редко, По тревоге, как правило, поднимались на крышу и помогали дежурным нести их службу.
На крыше зрелище во время налета немцев было захватывающим. Как только утихали звуки воздушной тревоги, вдалеке на окраинах города раздавались первые артиллерийские выстрелы. Начинал нарастать гул авиационных моторов, пронзительный свист и грохот разрывов. Небо разрезается лучами прожекторов. Самолет берут «в плен» — десятки лучей направлены на один «юнкерс». Его ведут над городом, а в это время зенитки, захлебываясь палят по врагу. Но он, как ни в чем не бывало, спокойно движется в небе с одного конца города на другой и уходит в неизвестном направлении. Честно говоря, я только один раз видел, как подбили ночью немецкий самолет. Он как-то ускорил полет, повернул в сторону, звук его моторов усилился и стал приближаться к земле. Лучи прожекторов пытались сопровождать самолет, но вскоре потеряли, а через несколько секунд вспыхнуло зарево и докатился взрыв.
Зажигалок на город сбрасывалось много, были они и большие и малые. В соседнем доме крупная зажигательная бомба пробила перекрытия семи этажей, застряла во втором и подожгла дом. Он застилал дымом соседние улицы, приехавшие пожарные мужественно боролись с огнем, но от дома фактически остались только стены.
На наше общежитие тоже несколько раз падали мелкие зажигалки, но они даже не пробивали кровлю. Специальными металлическими щипцами с длинными ручками мы подхватывали их, тащили на край крыши и сбрасывали во двор. Там вторая команда такими же щипцами окунала зажигалки в железные бочки с водой, где они благополучно догорали, не принося ущерба.
Вскоре по окончании экзаменов за III курс группу наиболее физически сильных ребят направили на оборонное предприятие, расположенное где-то и районе проспекта Газа. Я пошел в гвоздильный цех. Вначале было разочарование: война и гвозди — не стыковались в сознании. Чем гвозди могут помочь фронту? Но вскоре стало ясно, что гвоздь на этом предприятии и был «гвоздем» всей программы выпуска оборонной продукции — противопехотных мин. Здесь сколачивались небольшие ящички, в которые закладывались взрывчатки, вставлялся взрыватель, и это нехитрое изделие автомашинами отправлялось на фронт.
Работа моя была нехитрая, но тяжелая. В цех поступала проволока в бухтах, а иногда просто в кучах, словно со свалки. Ее надо было прежде всего выпрямить. Для этого существовал специальный правильный станок. По конструкции он был до смешного прост. Изогнутая полуволной трубочка приводилась в движение от электромотора. В эту изогнутую трубку вставляли конец проволоки. Я подхватывал этот конец и что есть силы тянул на себя, а дядя Гоша с другой стороны трубки, разматывая бухту, подталкивал проволоку и следил за станком. Вытянув вдоль цеха метров двадцать проволоки, мы ее обрезали и начинали вытягивать очередной кусок. За смену образовывался штабель прямых заготовок из проволоки. Затем заготовки рубились на куски, равные двум гвоздям. Рубка производилась ручным прессом. Дядя Гоша подкладывает, а я, взмахом длинной, тяжелой металлической ручки опускаю резак. Получались заготовки с ровными срезами, на которых предстояло отпрессовать шляпки.
Все восемь, а иногда и десять часов, надо было стоять у станка и беспрерывно поднимать и опускать тяжеленную ручку резака. Каждые два часа мы менялись с дядей Гошей местами: он работал ручкой у станка, а я подкладывал проволоку. Это была непосильная для меня, изнуряющая работа. В короткий обеденный перерыв мы обычно выходили из цеха во двор, расслабленно садились на травку газона и развертывали пакеты со скромной снедью. Дядя Гоша всегда приносил с собой термос с чаем и, видя, как я всухомятку вминаю хлеб с колбасой, наливал и мне чашечку. Правда, всегда ворчал и выговаривал, почему я не приношу к обеду бутылку с водой, термоса у меня не было и он знал это.
День проходил напряженно. Никаких перекуров. Работали быстро и сосредоточенно. Сейчас я не могу припомнить, что было истинной причиной такого интенсивного труда: то ли зарплата, а она зависела только от количества сделанных гвоздей, или тревога за Родину, за необходимость обеспечить всем необходимым. Скорее — последнее.
Возвращался я в общежитие еле держась на ногах. Все тело и особенно руки гудели до нестерпимой боли. Сразу же валился на койку и какое-то время лежал без движения, прислушиваясь к ноющему желудку. А по графику еще надо было отдежурить положенное время на чердаке или крыше общежития, но это дежурство не пугало, по сравнению с работой в гвоздильном цехе, казалось приятным времяпровождением, отдыхом на свежем воздухе.
Рано утром снова в цех на проспекте Газа. На этот раз предстояло заготовки превращать в гвозди. Операция тоже до гениальности простая. Заготовка одним концом зажималась в специальных тисках, а торец ее обрабатывался прессом. Так же длинная, тяжелая железная рукоять, которой надо было беспрерывно махать: поднимать и опускать. Дядя Гоша подкладывал заготовку сначала одним концом, а затем другим. На обоих концах возникали шляпки двойного гвоздя. Они складывались в ящик и переставлялись к другому агрегату.
Здесь заготовки со шляпками на обоих концах следовало разрубить пополам. Получались два острых гвоздя. Снова приходилось становиться за пресс-резак с длинной тяжелой ручкой и снова махать вверх-вниз, вверх-вниз… И так весь день!
Пожалуй, менее изнурительной работой было волочение или выпрямление проволоки. Здесь были не такие однообразные движения, как на рубке или операции по выдавливанию шляпок гвоздей. Но выпрямление проволоки занимало несколько минут по времени, основная же работа — махать ручкой пресса вверх-вниз, вверх-вниз.
Хотя я не был белоручкой, и в деревне с детства работал, да и в техникуме почти постоянно прирабатывал на подсобных строительных работах, но изготовление гвоздей было каторжной работой. Я удивлялся дяде Гоше и другим рабочим, которые легко и свободно делают свое, казалось, невыносимо тяжелое дело. Усталости они не показывали, на всех операциях держались раскованно, привычно. Не знаю, то ли они не видели или не хотели видеть мои муки, но никакого снисхождения ко мне не было. Дядя Гоша постоянно подгонял: «Давай, давай быстрее!»
Жаловаться мне было некому, да и стыдно, не хотелось выглядеть хлюпиком. Я думал, что со временем боли в мышцах пройдут, я привыкну к тяжелой работе; но проходили дни, а состояние невыносимости не проходило. Я был бесконечно рад, если случались перерывы в работе из-за перегорания предохранителей в электросети или поломка станка. Полчаса или час такого вынужденного простоя казались истинным счастьем. Правда, старики отправляли меня во двор готовить проволоку, но эта работа была несравнима с беспросветным маханием вверх-вниз рукояткой.
А на фронте становилось все хуже и хуже. Немцы двигались, как на марше. Мы узнавали подробности от появлявшихся нередко в общежитии студентов четвертого курса, сразу же призванных в армию, они были старше нас и уже побывали в боях. Бросалась в глаза одна и та же мотивировка появления в городе:
— У немцев нет пехоты, они все на мотоциклах или на машинах. Танков — тьма-тьмущая. А об авиации и говорить нечего: наш «кукурузник» появится — и тут же его сбивают. Их же самолеты «Юнкерсы», «Хенкели» — беспрерывно летают и бомбят наши части. У нас же лишь винтовки, и то выдали перед самым боем. Бой начался, нас за считанные часы разбили, многие полегли, остальные — кто куда, я вот добрался до Ленинграда, сейчас иду на сборный пункт, на переформировку…
А жизнь в Ленинграде шла своим чередом. Ввели карточки на продукты, До этого с полок магазинов исчезли все товары. Если до войны витрины и полки гнулись от выставленных консервов: крабы, икра, шпроты, треска в масле и не счесть названий их, то потом осталась на полках лишь горчица в пачках, да вскоре и она исчезла. Пусто. Я заходил в магазин, долго стоял у витрин и с тоской вспоминал о довоенном изобилии.
Город все чаще подвергался бомбежкам. Нам сказали, что разбомбили Бадаевские склады, где хранились неприкосновенные запасы продовольствия. Когда эти склады горели, то заревом осветился весь город. Расплавленный сахар и масло текли ручьями по переулкам.
На улице Гоголя, угол Кирпичного переулка, в дом попала фугасная бомба, половина дома рухнула. В некоторых этажах комнаты разделились пополам. Проходя мимо этого дома, я останавливался и подолгу смотрел на его уцелевшую часть. В техникуме на чертежах и макетах мы изучали конструкции жилых зданий и вот теперь передо мной в натуре предстал поперечный разрез жилого дома. На оставшейся половине комнат стояли кровати, шкафы, тумбочки, столы, круглые печи. Как-то дворничиха мне сказала:
— Человек десять пожарники сняли с оставшихся половинок квартир.
Однажды, возвращаясь с гвоздильного цеха, уже около общежития на набережной реки Мойки, недалеко от Гороховой я попал под бомбежку. Началась она неожиданно, я не успел даже добежать до общежития и залег у решетки набережной. Бомбы рвались вокруг. Казалось, вот-вот грохнет мне на спину. Прижавшись к гранитному поребрику, я вдруг увидел, как взметнулся огромный столб дыма и земли у самого углового входа на фабрику им. Володарского. Здесь стояла грузовая автомашина и как раз шла погрузка сшитой на фабрике одежды для Красной Армии.
Я вскочил, перебежал короткий мостик и у двери швейной фабрики увидел разметанные трупы пяти девушек, разбитую машину и разбросанные новые гимнастерки. Тут же появилась фабричная сандружина с носилками и санитарными сумками, я помог дружинницам положить убитых на носилки, и их унесли внутрь фабрики. Так впервые мне довелось увидеть убитых на войне. Чувствовал я себя словно в бреду, в полусне. Не помню, как добрел до общежития, как рассказывал ребятам о случившемся рядом. Впервые пришло понимание хрупкости человеческой жизни. Были живые, хорошенькие девушки только что, и вот их уже нет. В одно мгновение исчезли…
Общежитие наше полуопустело. Часть ребят призвали в армию, некоторых направили в истребительные батальоны, другая часть, как и я, трудились в техникуме или на производстве. Улетучилось былое студенческое веселье, все приходили усталые, молчаливые, перекусывали — и в постель. Ночью — воздушные тревоги, они гнали в убежище или на крышу дежурить.
Со дня на день я ждал повестки из военкомата, но ее все не было. Забегал несколько раз в райвоенкомат, но там были огромные толпы людей, чтобы попасть к кому-либо из военных — надо было отстоять день. А я считался на военном производстве, где почти круглые сутки штамповали противопехотные мины. Немцы перли на всех участках к Ленинграду, и мы знали, что наши мины — самое нужное оружие для фронта.
Однажды, возвратясь с работы в общежитие, я встретил коменданта. Он вручил мне повестку. В ней сообщалось: к такому-то сроку мне надлежит прибыть с ложкой, кружкой, полотенцем… На работе меня быстро рассчитали и я стал готовиться к отправке на фронт. За день до явки на сборный пункт со мной произошел неприятный случай.
Я уже говорил, что при объявлении воздушной тревоги все должны были покинуть улицы и бежать в ближайшее бомбоубежище. В этот день нас, человек 5–6 студентов из общежития, воздушная тревога застала в гастрономе на углу Невского и ул. Гоголя. Как раз подошла моя очередь получать продукты, и тут сирена. Продавщица, естественно, сразу прекратила свою работу, но я стал ее настойчиво просить отпустить 200 г колбасы. Она ни в какую: «Вали отсюда в убежище». Я ей сказал какое-то едкое слово, она взвизгнула, рядом с ней оказалась заведующая магазином, вдвоем они схватили меня и потащили в кабинет заведующей. Я пытался увернуться, но оторвать цепкие руки толстой директрисы не смог. Тут же была вызвана милиция, и меня препроводили в отделение, где-то недалеко от Казанского собора, и тут же посадили в КПЗ.
Сидя в камере вместе с какими-то темными личностями, я понял, что попал в глупое и опасное положение. Директриса вдогонку, по требованию милиции, накатала на меня заявление, в котором обвиняла в нарушении общественного порядка в военное время, да еще в момент воздушной тревоги. Офицер, принимавший меня в милиции, бросил фразу: «Что, не захотел на фронт, думаешь в тюрьме отсидишься?»
Мои однокашники из техникума видели все это, но заступаться за меня побоялись, вернулись домой в общежитие.
Но свет, как говорится, не без добрых людей. Молодой милиционер, который изымал в КПЗ мои документы, через какое-то время вернулся в камеру и спросил:
— Ты из Белоруссии?
— Да, ответил я, — из Гомельской области.
— Мы земляки, я тоже из Гомельской.
Разговорились, я ему чистосердечно рассказал, как было дело. В начале войны каждый мало-мальски начальник хотел показать свою, так сказать, бдительность, ответственность, верную службу, ну и так далее. Директриса магазина была именно из таких.
Мы немного поговорили с земляком, вспомнили нашу Гомельщину.
— У тебя повестка, призывают на фронт?
— Да, завтра на сборный пункт.
— Ладно, не горюй, переговорю с лейтенантом.
Поздно вечером мне вернули документы, я подписал какие-то бумаги и уже через десять минут был в общежитии.
— Что же вы смотались, не попытались даже защитить меня, — сказал я однокашникам, с которыми был вместе в магазине.
— Да мы растерялись, думали если сегодня не отпустят, то завтра пойдем в милицию.
К этому времени ребята, с которыми дружил, разбрелись кто куда. Леша Балакин — коренной ленинградец, 1922 года рождения, был призван в армию в первые дни войны, направлен в минометную школу, которая располагалась около Витебского вокзала. Несколько раз я ходил его навещать, но только однажды нам удалось встретиться в проходной, у будки часового. Перекинулись несколькими фразами. Он интересовался делами в техникуме, расспрашивал о ребятах.
— Я учусь на минометчика, еще несколько дней, и нас отправят на фронт. Зайди к моим родителям домой и передай привет.
Леша Балакин жил с родителями в квартире дома, расположенного на Мойке, третий дом от Исаакиевской площади. Это рядом с техникумом. Подружились мы с ним еще на 1-ом курсе и с тех пор дружба наша была нерасторжима.
До сих пор отчетливо помню, как мы познакомились. Он поступал в техникум и сдавал экзамен по геометрии. Я толкался в коридоре, ждал своей очереди. Было лето, стояла духота, через открытую дверь аудитории я наблюдал, как какой-то парень пишет на доске решение геометрической задачки. Каким-то образом я увидел грубую ошибку в его решении. Когда он повернулся лицом к двери, я стал жестами показывать, где он ошибся. Увлекшись жестикулированием, не заметил, как в коридоре появился преподаватель и быстро подошел ко мне:
— Вашу зачетку!
Я тут же вручил ему находившуюся в руках зачетную книжку. Он сел за стол, сделал запись в ней: в графе «Геометрия» стоял жирный «кол». Это значило, что дальнейшие экзамены прекращаются, а я возвращаюсь домой.
Ужас моего положения можно понять. На экзамены в Ленинград я поехал из Кировской области, где в поселке торфозавода «Гады» осталась мать, сестра, два брата. Отчима — Федора Моисеевича арестовали по 58 статье, мать беременна, а сестра и братья меньше меня. Все мы были на иждивении отчима, и с его арестом семья оказалась в тяжелейшем состоянии. Мать хотела, чтобы хоть один из сыновей устроился в жизни, поступил в техникум. Возврат мой в поселок мог стать еще одним ударом для матери.
Хорошо все это понимая, я начал метаться по техникуму в поисках выхода. Добился на прием к директору, Аринушкину Григорию Ивановичу, и чистосердечно все ему рассказал, тут же покаялся и попросил его разрешить мне пересдать геометрию, хотя, фактически я ее и не сдавал, а «кол» получил за подсказки.
И дрогнуло сердце у Аринушкина.
— Ладно, — сказал он, — разрешаю сдавать остальные предметы. Если выдержишь успешно, разрешу пересдать геометрию.
Он тут же сделал распоряжение приемной комиссии, я стал готовиться к следующим экзаменам. Предстояло шесть испытаний. Сдал я их все, по литературе получил даже пятерку. Попалась мне тема Анны Карениной, и так азартно я рассказал об образе Анны Карениной, что преподавательница даже руками хлопнула:
— Замечательно, замечательно, как Вы хорошо чувствуете этот образ. Ставлю Вам «пятерку»!
Но когда открыла мою зачетку и увидела жирный «кол» — как-то сразу скисла.
— Ай-я-яй, что же это?
Я, краснея, объяснил существо дела.
— Ну все равно — по литературе «пятерка», — наконец твердо произнесла она и вписала отметку.
Других преподавателей этот «кол» тоже вводил в смущение. Вроде отвечаешь на все вопросы нормально, ждешь «четверку». Но вот открывает экзаменатор зачетную книжку, видит единицу, начинает охать и ахать и ставит «тройку».
Таким образом я был допущен к переэкзаменовке по геометрии, получил свою «тройку», и был зачислен студентом первого курса техникума и с первого сентября приступил к занятиям.
Из-за моей подсказки Леше Балакину тоже поставили «кол», и он, так же как и я, сдавал геометрию с разрешения директора. Так мы стали сперва друзьями по несчастью, а потом по душе.
Второй мой друг по техникуму — Саша Копполов, администрацией техникума был направлен в истребительный батальон. Из общежития он сразу ушел на казарменное положение. Дежурили они в городе в своей одежде, без обмундирования, так как эти формирования считались полувоенными. В задачу истребительного батальона входил захват шпионов и диверсантов, если их сбросят немцы с самолетов. Вскоре его призвали в военкомат и направили служить в Ленинградскую милицию. Всю блокаду Саша в Ленинграде боролся с бандитами, ворами и налетчиками, много перевидел, пережил драматических событий. Встретились мы с ним лишь после войны.
Леша Балакин, Саша Копполов и я были неразлучной «троицей» в техникуме. Однажды на перерыве мы с Лешей Балакиным решили помериться силой — кто кого уложит на пол. Мы так увлеклись борьбой, что собрали вокруг себя огромную толпу ребят из нашего класса. В какой-то момент Леша уцепился за мои брюки и и услышал, как они звонко треснули. Борьбу мы сразу бросили и осмотрелись. Брюки были разорваны сзади от пояса до колен. Я впал в уныние. Во-первых, это были мои единственные брюки, во-вторых, сквозь прореху светило голое тело, и как теперь выйти из техникума, как добраться до общежития, я не представлял. Леша попросил у девочек булавки, кое-как закрепил штанину вдоль прорехи. Я сел на заднюю парту и с грустью стал ждать окончания занятий. Когда уже все разошлись, тихой походкой спустился по лестнице вниз, осторожно шагая добрался до общежития. Затем весь вечер с иголкой и с ниткой в руках сидел в трусах на койке и зашивал брюки. Этот неумелый и хорошо заметный шов еще не один месяц напоминал мне о необходимости быть осторожным в движениях. Потом отец помог мне купить первый недорогой костюм, и я избавился от тревоги за состояние своих единственных штанов.
До сих пор я храню самые теплые воспоминания о нашей юношеской дружбе с Лешей Балакиным. Как истинный ленинградец, он с первого курса взял надо мной «шефство». Видимо ему импонировала дружба с простодушным деревенским пареньком и он старался быстрее приобщить меня к городу. Почти ежедневно, после занятий в техникуме, мы шли вместе сначала к нему домой, благо его дом находился рядом с техникумом. Он оставлял дома сумку с книгами и мы отправлялись прогуляться по Невскому проспекту. Потолкавшись среди шумной и разноликой толпы часок, Леша возвращался домой.
— Бывай, — говорил он мне, — я пошел домой, надо кое-что поделать.
Я же в общежитие не спешил. Меня, как магнитом, притягивали дома и витрины города, детали на фасадах здании, узорчатые решетки в скверах и тысячи различных мелочей городского убранства.
Это было не совсем осознанное постижение красоты великого города, но оно приносило мне истинное и глубокое наслаждение, укрепляло любовь к Ленинграду.
Незаметно приближался вечер, и надо было возвращаться в общежитие. И это угнетало, потому что общежитие на первом курсе было далеко от техникума — в Лигово или иначе — в городе Урицке. На трамвае — час езды. Пока доберешься — уже потемки.
Надо прямо признаться, что поначалу мое отношение к учебе в техникуме было такое же, как и в школе, где меня вытаскивали за «уши» на «тройках». Учебу контролировали родители, учителя, общественные организации. Ученик находился под постоянным контролем.
В техникуме все обстояло иначе. Родителей рядом нет, со стороны преподавателей контроль минимальный, никакой опеки — полная самостоятельность.
Как-то так получилось, что каждого студента едва успевали спросить хотя бы один раз по каждому предмету за четверть. И надо было иметь такое везение: как только очередь доходит до меня я не знаю ответа именно на этот вопрос. Преподаватель не ругался, не нервничал, делал в журнале отметку и продолжал занятия дальше. Я догадывался, это эти журнальные пометки могут мне выйти боком, но особого значения не придавал, верил, что спросят еще раз и тогда я отвечу, как надо.
Однако не успел я оглянуться, как закончилась первая четверть. Набор на I курс был сделан с запасом, с учетом отсева, у нас в группе тоже было несколько человек «лишних». Выявить их должны были вот те самые беглые вопросы, что делал преподаватель во время занятий. К немалому удивлению, у меня набралось «двоек» по шести предметам из десяти. Переживаний особых я не испытывал, год еще впереди и все еще можно исправить.
Однажды меня вызвал директор Аринушкин, усадил в кресло и очень спокойно сказал:
— Ну, вот что Головко, тяжело тебе заниматься. Поезжай домой, отдохни, наберись сил, а на следующий год мы тебя примем без экзаменов.
Я уже говорил выше о ситуации дома: отчим арестован, дом, где жила мать с братьями и сестрами — сгорел, семья ютится на квартире в деревне, бедствует. Отец тоже не мог взять меня в свою семью. Положение показалось безвыходным, и надо было представить весь ужас моего положения.
В таких тяжелых ситуациях у меня всегда откуда-то изнутри появлялись огромные силы самозащиты. Спокойно, но убедительно я стал объяснять Аринушкину, что эти «двойки» — случайность, стечение обстоятельств. Действительно, я не так уж плохо знал пройденные на занятиях материалы. По единственному опросу нельзя судить о знаниях студента.
Добил я директора следующей фразой:
— Григорий Иванович. Вы ведь ничего не потеряете, если дадите мне месяц испытательного срока. За это время я обязуюсь исправить все двойки. Если не исправлю — отправляйте тогда домой.
Он усмехнулся и ответил:
— Действительно, логика есть в твоих словах. Через месяц я тебя вызову и тогда решим вопрос.
Словно на крыльях, выскочил я из директорского кабинета на 3-ем этаже, тут же помчался в Лигово, в общежитие. Вот когда я по-настоящему взялся за учебу. Внимательно слушал лекции, вел подробные записи, в общежитии и в трамвае штудировал пройденный материал. На каждом занятии я выше всех поднимал руку, чтобы ответить на заданный вопрос. Эти были напряженные дни учебы. Если я чего-то не понимал, настырно обращался к товарищам и не отставал пока не получал нужного ответа. Для меня главным было понять логический смысл явления. Если я это постигал — знания входили в меня естественно и закреплялись навечно.
Ровно через месяц Аринушкин, как обещал, вызвал меня к себе. Листая журнал успеваемости, вслух рассуждал:
— Да, действительно, ты исправил отметки: тройки, четверки и даже пятерки. А почему же по-немецкому языку ничего не изменилось?
— Григорий Иванович, у нас в школе в 7 классе, из-за отсутствия преподавателя, иностранный язык не проходили, и мне трудно тягаться со всеми студентами, некоторые в шестом и седьмом изучали этот предмет. У меня даже в аттестате по иностранному — прочерк.
В принципе договорились, что к концу года я освою немецкий.
Григорий Иванович пообещал оказать мне помощь в этом деле.
Первый курс я закончил без задолженности и на лето уехал домой, в Василевичи, на Полесье, куда к этому времени переехали мать, братья и сестры. Мать попросила в письме: «купи дешевой мануфактуры». В поисках этой покупки узнал, что с мануфактурой, т. е. с тканями, у нас в Ленинграде, да и в стране — туго. На улице Шкапина, что у Балтийского вокзала, с вечера занял очередь в магазин «Ткани», всю ночь простоял на улице, а утром, после открытия магазина приобрел 10 метров ситчика (больше не давали). С этой покупкой я прибыл в Белоруссию. В Василевичах я не был больше 3-х лет. Здесь я родился, здесь окончил пять классов, а потом меня увезли в Кировскую область на торфозавод «Гады», где отчим работал десятником по строительству, а мать — продавцом в магазине. Там я окончил 7 классов и в 1938 году поступил в техникум.
Лето пролетело быстро, вернулся я в Ленинград повзрослевшим, и уже второй курс техникума закончил успешно — без троек. Последнее предвоенное лето провел тоже в Василевичах. В памяти наше местечко сохранилось как зеленое, очень красивое и большое село. Поля и луга, дубовые рощи, бескрайняя околица — это те места, где мы бродили с приятелями и славно проводили время. И хотя жизнь нашей семьи была нелегкой — ютились в чужом доме, недоедали и недосыпали, ругались друг с другом от извечной недостачи и бедности, память, тем не менее, сохранила светлые картинки работы на току, где молотили хлеб, походы за грибами и ягодами в окрестные леса, наши дружные ужины за огромным столом, на котором ароматно дымилась вареная картошка и белела в глиняной миске простокваша. И дед, Роман Игнатьевич, и мать — Мария Романовна, работая за двоих, а то и за троих, все же ни разу не заикнулись, чтобы я бросил учебу и помогал нм кормить младших братьев и сестер. Наоборот, всячески поощряли мое стремление «выбиться в люди». При этом всегда подчеркивали, чтобы уважал старших, чтобы вел себя примерно, чтобы в любой ситуации «оставался человеком».
В Ленинграде жизнь моя проходила, надо сказать, в полной свободе, однако дурное влияние ко мне не приставало: не сквернословил, не научился курить, а выпивка всегда была мне противной.
Летом же 1940 года в Василевичах мой приезд мы отметили с друзьями крепкой попойкой на кладбище. Не знаю, чем это объяснить, но кладбище было любимым местом, где мальчишки проводили свободное время. Оно располагалось сразу за селом, на песчаном взгорке возле небольшого болотца. Здесь росли вековые сосны, было много густой акации. Запах смолы и хвои казался самым прекрасным запахом на свете.
В тот раз мы с Кузьмой Антоновичем Брелем и Иваном Артемьевичем Шантаром незаметно наклюкались и одурманенные выпивкой смело пошли в кино. Десятилетний брат мой Аркадий видел, как мы бражничали и все время был рядом со мной. А когда мне в кинозале стало дурно, он встретил меня у входа, подхватил за талию и стал тащить домой. Я смеялся, представляя эту картину со стороны: долговязый, под два метра, дылда еле держится на ногах, а его, обхватив руками за пояс, тащит маленький шкет.
Проведенные в Василевичах два лета — в 1939 и 1940 годах — оставили на всю жизнь незабываемые воспоминания. Время проходило быстро, не успеешь оглянуться, а уже пора возвращаться на учебу. Кино, танцы, походы в лес, помощь родителям по хозяйству, компания друзей и товарищей. Погода летом в местечке стояла отменная. И хотя речки близка не было, мы каждый день купались в карьерах кирпичного или торфяного завода.
Третий курс техникума я закончил уверенно и успешно.
Армейская жизнь в блокаде
Провожал меня в Красную Армию отец. Он принес мне кое-что из продуктов и несколько пачек папирос.
— Зачем папиросы, я же не курю.
— Угостишь товарищей, — ответил отец.
Эти папиросы сыграли со мной злую шутку — я начал курить. Из Октябрьского райвоенкомата нас, призывников, повели пешком куда-то в район проспекта Карла Маркса, в запасной полк. Несколько дней нас продержали в карантине, где мы валялись на нарах без постелей и в своей одежде, рассказывали байки, вели беседы и бездельничали. Имея в мешке папиросы, я сначала баловался с курением, а затем понемногу стал втягиваться в эту дурную привычку.
В запасном полку шел отбор призывников в Ленинградскую военную школу по подготовке радиоспециалистов, которая только что была создана в Ленинграде на базе эвакуированного из города военного училища связи, что располагалось на Суворовском проспекте.
Принцип отбора был прост: среднее или незаконченное среднее образование и членство в ВЛКСМ. Согласия на учебу в школе ни у кого не спрашивали. Набралось нас призывников порядочное количество, видимо, более сотни человек. Из запасного полка, где-то в сентябре 1941 года, нас перевели в расположение военного городка бывшего училища связи. От Суворовского проспекта училище было отгорожено высокой чугунной решеткой, она и сегодня сохранилась в целости. На улицу Салтыкова-Щедрина выходил небольшой сквер, в глубине которого находилась санитарная часть и несколько двухэтажных домиков, где проживали преподаватели училища. Территорию военного городка на две части рассекала Парадная улица, где был контрольно-пропускной пункт. Такой же пункт был, естественно, у главного входа — на Суворовском проспекте. По периметру городок был застроен различными старинными зданиями.
Вскоре нам выдали военное обмундирование — синие шерстяные диагоналевые гимнастерки и такие же галифе, сапоги кирзовые, пилотки и все остальное вещевое довольствие. Здесь же мы приняли военную присягу.
Из разговоров курсантов и персонала военной школы было ясно, что создание школы преследует крупные стратегические цели. Первые месяцы войны показали, что наиболее уязвимым местом в боях нашей армии с немцами была связь, и особенно, радиосвязь. Вот почему срочно понадобилось организовать две школы по подготовке радиоспециалистов — в Москве и Ленинграде.
Это был первый набор в школу. Структура ее строилась по штатному расписанию армейского полка — батальоны, роты. взводы. У меня сохранилась красноармейская книжка, выданная в ЛВШРС. В сереньком дерматиновом переплете с маленькой пятиконечной звездочкой в центре, в нее вписаны все мои данные: ЛВШРС, курсант, 3-й батальон, 9 рота, командир роты А. Каныгин, грамотность — 3 курса Ленинградского строительного техникума, год призыва — 1941, нормальный, призван Октябрьским военкоматом г. Ленинграда. Домашний адрес, фамилия, имя и отчество жены или родителей: м. Василевичи Полесской области БССР, мать — Головко Мария Романовна, принял присягу 27.11.41.
Пройдя всю войну рядовым и демобилизовавшись в декабре 1945 года в звании сержанта, сегодня я могу уверенно сказать, что самым тяжким периодом в моей жизни было пребывание в ЛВШРС.
Как известно, осенью 1941 года замкнулось кольцо блокады Ленинграда и мы, курсанты, сразу почувствовали резкое изменение в рационе питания. Вначале все шло по-прежнему: ежедневные занятия в классах, строевая и боевая подготовка, заступление в караул, дежурство на постах и другие, как и положено в армейской жизни, обязанности. Мы должны были стать классными радиоспециалистами и уметь самостоятельно работать на радиостанциях. Много времени уделялось морзянке. Радиотелеграфист должен принимать на слух цифровые и буквенные знаки с достаточной скоростью — 14–20 групп в минуту, знать наизусть таблицу условных знаков (например, предложение «как вы меня слышите» передается звуковым сигналом, состоящим из трех букв — ЩРК). Кроме того, должен уметь обслуживать радиостанцию (рацию), устранять простейшие неисправности.
Занятия по морзянке проводились в классе — длинном помещении, со столами и скамейками, оборудованном радиотелеграфными ключами. Каждый курсант имел свой ключ и наушники. Начинали с изучения азбуки Морзе. Преподаватель говорил: «передаю букву „А“» и в наушниках звучало: «ти-та», «ти» — короткий сигнал, «та» — длинный. И так надо было запомнить все буквы и все цифры — от единицы до девятки и нуля. Весь алфавит предстояло изучить и самому передавать ключом. Преподаватель говорил: «Головко, передайте букву „г“», и я нажимал ключом «Та-та-ти». Занятия длились с утра до позднего вечера, часов по 10–12 в сутки.
Шла война, на улицах Ленинграда то и дело взрывались снаряды, кружили немецкие самолеты, и каждый курсант понимал, что надо как можно быстрее освоить специальность радиста и — на фронт. Очевидно, при нормальных условиях мы за несколько месяцев могли это сделать. Но в условиях блокады все наши планы менялись часто и в худшую сторону.
Серьезной и частой помехой были бомбардировки города, особенно ночные. Только рота уснула, объявляется воздушная тревога, вой сирен и команды дежурного: «Подъем, все в укрытие!» Надо быстро одеться и бежать во двор, залезать в траншеи, которые мы нарыли по всей территории школы. Сверху они были покрыты бревенчатым накатом и засыпаны песком, землей. Осень сорок первого выдалась холодная. В промозглых траншеях приходилось прижиматься спинами друг к другу и в таком положении сидеть до отбоя тревоги. Иногда за ночь объявляли несколько воздушных тревог При такой нервотрепке, усталость накапливалась, занятия днем проходили вяло, непродуктивно. Были еще и артиллерийские обстрелы, но на них в школе мало обращали внимания.
Но эти беды можно назвать цветочками, ягодки появились быстро: нам стали выдавать всего лишь по 250 грамм хлеба в день и скудный приварок, состоящий из мучного супа и двух-трех ложек каши-размазни. Молодой организм требовал нормальной пиши, но из-за ее недостатка быстро тощал.
С каждым днем питание становилось все хуже и хуже. Хлеб был черным, похожим на землю, сырым. Утром на троих выдавалась пайка в триста граммов. К завтраку требовалось разделить ее на троих. Кто-либо из курсантов разрезал черный брусочек на три куска, другой отворачивался, третий указывал ножом на кусочек и спрашивал: «Кому?», отвернувшийся называл фамилию.
Берешь в руки этот заветный кусочек хлеба, размеры его, примерно, кубик со стороной в три сантиметра и не дождавшись горячего блюда — тут же съедаешь. Затем подают мелкое блюдечко с кашей-размазней. Несколько секунд, и каши нет. Стакан несладкого чая на закуску и — завтрак закончен, выходи строиться…
Тут надо сделать вот какое отступление. Уже после войны я, да и мои товарищи по ЛВШРС, выяснили, почему в школе было такое плохое питание, ведь мы находились в Красной Армии. Казалось, в армии не должны были умирать от голода, от истощения. Тогда мы были молоды, неопытны и многого не знали. А правда заключалась в том, что в школе творились чудовищные злоупотребления. Повара, официантки и другой обслуживающий персонал были вольнонаемными гражданскими лицами. Офицерский состав, в большинстве с семьями, проживал в домах школы. Многие не успели эвакуировать даже детей, и все они переживали голод и холод блокады. По-человечески можно понять, что каждый старался спасти себя и своих близких. Поэтому каждый, как мог, обворовывал курсантов, и без того скудное по калорийности питание не доходило до наших желудков полностью.
Чувство голода преследовало постоянно. Мы тощали, шинели обвисли на худых плечах, пояса свободно болтались, вид бойцов производил жалкое впечатление.
Вторым врагом был холод. Из-за отсутствия топлива помещения школы не отапливались. Не знаю, каким чудом приготовлялась пища, но занятия проводились в холодных, промерзших классах, одежда же наша состояла из нательного белья, гимнастерки, брюк, шинели и кирзовых сапог с портянками. Дрожью прошибало все тело, и вот в этих условиях надо было стучать на ключе, отрабатывать скорость приема и передачи слуховых знаков морзянки.
Каждый с ужасом ждал приближения ночи, ибо сон в холодном сыром здании казался настоящей пыткой. Наша рота располагалась в большом актовом зале главного корпуса. Здесь установили свыше сотни металлических коек с сетками и ватными матрасами. На ночь койки мы сдвигали по две и на них спали по трое человек. Лучшим местом была, естественно, середина, поэтому еженощно менялись местами. На себя наваливали все: одеяла, шинели. Закутывались с головой и в таком положении немного согревались, засыпали коротким тревожным сном.
Как я уже говорил, постоянным ночным бичом были воздушные тревоги. Только чуть-чуть согреешься, задремлешь и вдруг слышишь вой сирены и команду «В укрытие!». Надо за секунды собраться, по лестнице бегом спуститься во двор и протиснуться в узкую промерзшую щель.
Вначале все беспрекословно выполняли команду «В укрытие!». Но вскоре многие стали уклоняться от этого весьма неприятного занятия и прятаться в разные укромные уголки. Часто залезали под кровати, но эту уловку наши помкомвзвода быстро разгадали и выкуривали курсантов ударами сапог. Более ушлые прятались под лестницей, в туалетах, в темных уголках коридоров.
Голод и холод беспощадно терзали всех блокадников. И это постоянно сосущее чувство в желудке, мысли о пище и дрожь в теле от холода изматывали и истощали душевные силы, и даже теперь, по прошествии десятков лет, вызывают жуткие и необъяснимо тревожные воспоминания.
Большой пыткой были заступления в караул. Сначала ходили повзводно, но скоро наши ряды поредели из-за смерти многих курсантов, и в караул уже шли всей ротой. Мне всегда выпадала участь стоять часовым у складов: боеприпасов, продсклада, вещесклада или другого подобного объекта. Хотя существовали посты более «выгодные», например, у проходной будки, но туда я почему-то никогда не попадал.
В карауле, помню, произошел со мной однажды такой казус. На пост выдавали длинный тулуп. Заступив часовым по охране склада боеприпасов, я укутался в теплые овчины, обошел, не торопясь, объект и присел в укромном уголке на какой-то выступ. Согревшись, незаметно задремал и уснул. Сквозь сон вдруг слышу: «Руки вверх!» Вскакиваю, открываю глаза, винтовки моей нет, а на меня из темноты направлено черное дуло. Я поднял руки вверх. Присмотрелся, моя винтовка оказалась в руках помощника начальника караула, а за спиной у него стоит мой сменщик. Меня сняли с поста и отправили на гауптвахту. Надо сказать, что в течение войны я не раз попадал на гауптвахту, но это был первый арест, первое наказание за проступок.
Правда, при тех условиях, в которых мы находились в военной школе радиоспециалистов, гауптвахта оказалась даже лучшим местом, по сравнению с ротными условиями жизни. Она располагалась в полуподвале, где-то недалеко от пищеблока, и холод здесь не так донимал, как в казарме. На гауптвахте отсиживал положенные сутки начальник какого-то продовольственного склада школы в звании старшины, и нам, «заключенным», приносили пищу не хуже той, что давали в столовой. Видимо, друзья начсклада не оставили его в «беде», а заодно и его сокамерников не обижали.
Пребывание в полуподвале на гауптвахте прибавило мне опыта в защите от холода. В зимние, холодные дни, занятия в школе проводились нерегулярно, отощавшие курсанты часто не выдерживали напряжения учебных часов, падали в обморок. Мы, курсанты, иногда были предоставлены сами себе — толкались по классам, бродили по помещениям и дворам в поисках тепла и пищи. Однако ни того, ни другого найти было невозможно. Как загнанные звери в клетке, мы с каждым днем теряли силы, превращаясь в призраков.
И вот однажды я обнаружил в подвале теплую трубу. Видимо, она шла от пищеблока. Была довольно толстой, обвернута изоляцией, находилась в полуметре от потолка подвала. Кое-как забравшись на эту трубу, я лег на нее животом и обхватил руками. Блаженное тепло медленно разлилось по всему телу! Хотелось, чтобы это наслаждение теплом длилось бесконечно. Я, притаившись, лежал на трубе и вслушивался в подвальную жизнь. Скоро стало ясно: я здесь не один.
— Кто тут есть? — спросил осторожно.
— А ты кто такой? — ответила темнота.
— Я из второго батальона.
— А мы из первого, греемся.
— Ребята, вы давно открыли это место?
— Помалкивай, болван, узнают командиры и подвал прикроют.
Об этом меня можно было и не предупреждать. Правда, в школе я подружился с земляком-белорусом, Сергеем звали, не запомнил его фамилию. Маленький, щупленький, с красивым лицом, он всегда вызывал к себе сочувствие. По отношению ко мне держался как ребенок к взрослому, и я покровительствовал ему чем мог. По секрету сказал Сергею о подвале и теплой трубе, и на второй день мы уже вдвоем крадучись пробрались туда и залегли на райское место.
Еще много раз я бегал на теплую трубу, но все-таки со временем эту лавочку прикрыли. Вход в подвал был забит наглухо. Курсанты пытались разблокировать входные двери, снова проникали к теплой трубе, но вскоре двери и окна подвала заделали кирпичом, и наша «малина» была ликвидирована.
Спасаться от холода мы пытались и другим путем. Находили в пустующих помещениях печку, из разбитых бомбежками и артобстрелами зданий выламывали деревянные части и разводили в печке огонь. Вокруг такого очага собиралась огромная толпа, нормально погреться было невозможно. Обычно я находил какой-либо ящик, садился на него или на пол, снимал сапоги и ногами пробивался к поверхности теплой печки. Приходилось пропихивать сначала одну могу между плотным кольцом курсантов, а если удавалось — то две. Ноги попадали подошвами ступни к заветному теплу. Незабываемый миг блаженства! Иногда печка так накалялась, что вызывала нестерпимую боль, но я все равно держал ноги прижатыми к гофрированной поверхности.
Может быть, от этого блокадного перегрева конечностей ног у меня они и до сих пор всегда холодные, мерзнут даже при плюсовой температуре.
И еще одно незабываемое воспоминание сидений у печки. Смотришь в спины и затылки курсантам, и видишь, как по ним неторопливо ползают вши. Сегодня многие не знают, что такое вшивость. А тогда она была ужасной. В баню не ходили, белье не меняли. Вши забивались во все швы одежды, в волосы, уши, ходили по людям цепочками по своим дорожкам, как это делают муравьи. Лично у меня их было немного. Еще тогда я заметил, что степень вшивости зависит от состояния человека. У кого их было много, тот долго не протягивал.
Здесь же у печки многие курсанты варили себе в консервных банках пищу. Нет, не дополнительную, откуда ей быть, когда весь Ленинград голодал. Просто разбавляли полученную в столовой пустячную норму питания обычной водой. Получив на завтрак 100 грамм черного, как земля, эрзац хлеба и две ложки каши-размазни, солдат складывал все это в консервную банку, которую постоянно носил в противогазной сумке. Затем бежал во двор, разыскивал лопнувшую трубу водопровода, доливал в банку воды и шел к печке. Банку запихивали через дверцу к горящим дровам, подогревали пищу и затем тут же ее съедали. Это было повальное, массовое явление самообмана. Все искали способы, как увеличить объем пищи. Но этот способ таил и огромную опасность.
Нетерпение брало верх, очередь с консервными банками у горящей печки торопила, и многие, не дождавшись пока смесь в банке закипит, употребляли ее едва-едва подогрев. Заканчивалась такая трапеза очень часто печальным исходом — расстройства желудка, понос, санчасть и — смерть.
Лично я, хотя и не часто, но тоже пользовался этим способом. Но какое-то деревенское чутье подсказывало: будь осторожен, не употребляй не кипяченое. И хотя было весьма не просто дождаться результата, когда со всех сторон торопят, подталкивают, я, несмотря ни на что, ни разу не съел не прокипяченную смесь в банке!
При постоянном, изнуряющем чувстве голода, мысли были заняты только одним — пищей. В поисках ее мы становились невероятно изобретательными.
Как я уже говорил, военная школа по под готовке радиоспециалистов была создана на базе эвакуированного из Ленинграда военного училища связи. Конечно, питание в училище связи было хорошим. Это мы поняли, когда в зимние блокадные дни раскопали возле пищеблока помойку. Не знаю, по каким причинам ее не убрали, но эта огромная куча костей, хлеба, овощей, перемешанная с землей и снегом, стала для курсантов школы настоящим Клондайком, который мы начали активно разрабатывать.
Я про помойку прослышал с опозданием, когда уже большая часть кучи была перерыта, но все-таки еще успел прилично подпитаться. Перво-наперво это кости. Я знал, что кости наиболее безопасная пища с точки зрения длительного нахождения на помойке. И вот, раздобыв несколько крупных мосластых костей, я шел опять же к той печке, и в огне держал кость, пока она не начинала чернеть. После некоторого охлаждения обугленную кость начинал грызть. Сейчас уже не помню ее вкус, но употребил я их много. Впрочем, жженных костей и другие съели немало. Помойка спасла в ту зиму не одну, наверное, жизнь.
Иногда на помойке попадался кусок хлеба, покрытого плесенью, кочерыжка от кочана капусты или затвердевшая каша. Все это тщательно очищалось, разогревалось в смеси с водой, доводилось до кипения и употреблялось в пищу. Однако, «малина» эта длилась не долго. Помойку быстро «переработали» и каждому, кто успел «нажировать» на ней, достались жалкие крохи. Мне удалось сделать некоторый запас костей и я еще долго жарил их в печке и грыз всухомятку.
Были и другие способы добычи пищи, и хотя вспоминать о них неприятно, но, как говорится, «слов из песни не выбросишь».
Из раздаточной пищеблока на завтрак, обед и ужин пища курсантам на столы подавалась официантками. Двигались они по коридору, выходили на площадку лестничной клетки, а затем поворачивали в столовую. Так вот, наиболее физически сильные и рослые курсанты в коридоре или на площадке подстерегали официантку, которая несла над головой поднос с тарелочками каши-размазни, быстро хватали одну или две тарелочки (в две руки), тут же слизывали кашу и убегали во двор.
Однажды в коридоре столкнулось несколько «хватальщиков». И когда начали охоту за кашей, официантка резко повернулась, поднос соскочил с ладони и тарелки с кашей полетели на бетонный пол. Боже мой, что тут было! Вместо того чтобы бежать с места происшествия, все бросились на пол и стали с бетонного пола слизывать кашу-размазню.
Конечно, эти выходки строго наказывались, выставляли дежурных по пути официантки, ловили «хватальщиков», но лично я каким-то образом избежал наказания, хотя и не раз пользовался этим способом.
Еще был и такой метод добычи пищи. Пищеблок располагался на первом этаже, а столовая на втором и третьем. Пища подавалась из пищеблока в столовую грузовым лифтом, а в раздаточной разливалась в посуду и разносилась по столам. Когда поубавилось курсантов, второй этаж пустовал, а кормились все на третьем этаже. Уже не помню, как возникла идея, кто был ее автором, некоторые курсанты, пробравшись на пустующим второй этаж, вскрывали дверцу грузового лифта и терпеливо ждали, когда пища пойдет на третий этаж. Задача состояла в том, чтобы изловчившись, на ходу зачерпнуть миской пли кружкой из открытого бака, стоящего на движущейся вверх площадке лифта, супа или каши. О том, что мы тем самым уменьшаем порции своих товарищей, как-то не думалось. Но лазейку эту прихлопнули очень скоро.
Ну и чтобы завершить описание «аморальных» действий в блокадную зиму, опишу еще одно. Как я уже говорил, со стороны Суворовского проспекта школу от города отделяла высокая решетка. Ежедневно, особенно по выходным дням, у решетки толпились гражданские лица с папиросами и табаком, который они меняли на пищу. При голодном рационе пищи в школе многие курсанты меняли кусочки хлеба на курево. Лично я ни разу такого обмена не делал, так как пищу, особенно хлеб, не мог держать в руках даже несколько минут — тут же съедал. А курить хотелось. Курил сухие листья с деревьев, кое-что давали и школе. Однажды, болтаясь у решетки и видя протянутые руки с папиросами, махоркой, табаком, я выхватил у какого-то парня пачку махорки и побежал вглубь двора школы. Решетка была высокая, и я никак не думал, что ее кто-либо одолеет, но вскоре тот парень догнал меня, отнял махорку, да еще и съездил по шее. Появление гражданского лица на территории военной школы, конечно, не осталось незамеченным. Нас перехватил часовой и доставил в проходную школы на Суворовском проспекте. Дежурный офицер допросил нас обоих, выяснил суть дела, а затем изрек:
— Махорка конфискуется, курсанта на сутки на гауптвахту, гражданина на улицу вон.
К решетке на Суворовском иногда приходил и мой отец. Жизнь его с тетей Дусей в блокадном городе была не слаще моей. Они также голодали, также терпели все невзгоды. Отец работал на заводе «Красный треугольник» простым рабочим, тетя Дуся — в какой-то организации. Привычка тети Дуси всегда держать в запасе продукты — здорово выручала ее и отца в тяжелые дни блокады. Отец же, работая плотником, всегда имел в запасе большое количество столярного клея. Ему и в блокадные дни удавалось экономить столярный клей на заводе и в небольшом количестве приносить его домой. Иногда он прихватывал с завода и небольшие бутылочки с олифой. Этот столярный клей, эта олифа, я убежден, спасли жизнь отцу, тете Дусе, да, видимо, и мне.
Из столярного клея тетя Дуся варила густой и вкусный студень. Это блокадное лакомство иногда перепадало и мне. Отец приносил студень в трехсотграммовой банке и передавал мне сквозь забор, как нечто самое бесценное. И это действительно было настоящее лакомство! Несмотря на звериный голод, я старался не сразу съедать студень — растягивал удовольствие как мог. Лизнешь немного, и терпишь, не дотрагиваясь до баночки. Иногда удавалось растянуть это счастье на два-три дня.
Я уже говорил, что в первые дни блокады подружился с Сергеем. В то суровое время делиться продуктами питания было не принято, но видя, какими печальными глазами Сергей смотрит на мой студень, я не мог удержаться и всякий раз капельку студня преподносил и ему. Он с благодарностью принимал этот царский подарок и тут же проглатывал его.
Олифа считалась ценнейшим продуктом блокадного времени. Отец кипятил ее, наливал в «четвертинку» и иногда приносил мне. Я теперь не помню, сколько раз за блокадную зиму он это проделал, но бутылочка с олифой и баночка со столярным клеем запечатлелись в памяти навсегда. Олифу я старался употреблять с умом. Бутылочка всегда была при мне, она находилась в сумке противогаза. Во время завтрака я чуть-чуть добавлял ее в кашу, а во время обеда — в суп. Не помню, улучшала ли олифа вкус пиши, но это было тогда не главным — здравый смысл подсказывал, что в моих руках средство, способное спасти от смерти. И я растягивал содержимое бутылочки по времени, насколько хватало сил и терпения.
На «Красном треугольнике» в шинном производстве, при склеивании автомобильных покрышек применялся какой-то порошок белого цвета. Работая на этом заводе, отец принес около килограмма порошка домой, думая, что это — мука. Приготовили тесто, и стали они с тетей Дусей печь на сковороде оладьи, а тесто вместо выпечки расплавилось и превратилось в жидкость. Долго они думали и определяли, что же это за «продукт»? На вкус — сладковат. Тогда отец попробовал есть тесто, оно было приятным. Съел немного, дабы не отравиться. Прошло довольно много времени, но отравления или каких-либо осложнений не последовало, и они с тетей Дусей понемногу стали употреблять это тесто в пищу.
При очередной встрече у решетки на Суворовском проспекте отец рассказал мне про свой «эксперимент» с незнакомым продуктом.
— Я и тебе немного принес, — сказал он, и протянул мне баночку от зубного порошка. — Смотри сам, будешь ты его есть или нет, но мы уже несколько раз пробовали.
Не задумываясь о последствиях, и с большим удовольствием я съел это «тесто», и, откровенно говоря, до сих пор не знаю: что же это такое было? Все хотел навести справки на «Красном треугольнике», да так и не собрался.
Не собрался я узнать и то, как отец добирался до меня. Жил он все-таки далековато от нашего училища. А трамваи и троллейбусы тогда не ходили. Был период, когда отец перестал появляться у решетки. Шли дни и недели, а его все нет и нет. Я ежедневно бегал к условному месту, но увы… Я стал волноваться, и наконец решил пойти в самоволку, добраться по городу до квартиры отца, узнать, что случилось с ним. Жил отец на 6-й Красноармейской, в доме на углу переулка Егорова. Квартира состояла из двух комнат. В большой комнате, метра 24, жили Васильевы — Николай Антонович и Аграфена Федоровна с маленьким сыном Вовкой. Другую, поменьше, размером примерно в двенадцать квадратных метров, занимал отец с супругой. Шестиметровая прихожая служила одновременно и кухней. Здесь стояла газовая плита, была раковина с водопроводным краном, столик, полочки какие-то. С кухни-прихожей был вход в маленький туалет. Вот и вся квартира, все «удобства». Но жильцы были и этому рады. Ведь отец с тетей Дусей до этого времени жили на 8-й Красноармейской еще хуже: две семьи в одной комнате (затем перегородками им выделили комнату размером пять-шесть метров).
Так вот, добраться с Суворовского проспекта до 6-й Красноармейской в блокаду было делом весьма не простым и рискованным, о чем я хорошо знал. Во-первых, самовольная отлучка из части грозила трибуналом или в лучшем случае длительным пребыванием на гауптвахте. Даже если в части и не заметят твое отсутствие, то в городе полно патрулей, и поэтому вероятность задержания постоянно висела над тобой дамокловым мечом. Но самая большая проблема — как добраться, как одолеть нелегкий путь. Физические силы на пределе и одолеть десяток километров было не просто. Город я знал хорошо и надеялся сэкономить силы, выбрав самый короткий маршрут.
Лучшим временем для отлучки было послеобеденное. Договорились с соседями по кроватям, что если меня будут спрашивать, то они скажут: он где-то на территории школы собирает щепки для печки. Но к ужину я собирался вернуться в часть и к вечерней поверке отчитаться.
Улизнуть с территории школы было просто. Мы уже знали не одну лазейку. Незаметно через скверик я выбрался на улицу Салтыкова-Щедрина и дошел до Литейного проспекта. Через Литейный мост и одноименный проспект шло интенсивное движение грузового автотранспорта. Как потом я узнал, здесь пролегал один из маршрутов от Ладожской трассы в город. На перекрестке я осмотрелся и пришел к выводу, что можно на ходу вскочить в попутный грузовик и какое-то расстояние к отцовскому дому проехать. Дождавшись, когда очередные грузовые автомобили подъехали с Литейного моста к перекрестку и притормозили, ожидая сигнал регулировщика, я быстро подскочил сзади к одной из машин и ухватился руками за борт. Но подтянуться и перевалить через борт в пустой кузов сил не хватило, а в это время автомобиль тронулся. Я закинул руки в кузов, и борт машины оказался у меня под мышками, а ноги скользили по укатанному на дороге ледяному покрову. Так, повиснув на борту сзади автомашины, я доехал до очередного перекрестка с Невским проспектом. Машина остановилась, и я передохнул. Регулировщик махнул флажком, я снова схватился за борт кузова и помчался, скользя ногами по Загородному проспекту. В голове мелькнуло: «Все в порядке, маршрут автомашины совпадает с моим». Таким манером я доехал до Технологического института. Когда автомобиль остановился на перекрестке, я облегченно вздохнул, отцепился от борта, с онемевшими руками и ногами добрел до тротуара и тут силы покинули меня. Я прислонился к стене, долго стоял, приходя в норму. Мысль, что я почти у цели, придала силы, и я пошел по Международному (теперь Московскому) проспекту в сторону 6-й Красноармейской, куда было рукой подать.
Мое появление в квартире и обрадовало и смутило родителей. Они знали, что в эти дни никого домой из части не отпускают, да и угощать-то меня дома было печем. Увидев меня, тетя Дуся заплакала, заохала:
— Боже ты мой, что же от тебя осталось!
Когда же я снял шинель, она поняла, что я завшивел, и хожу в давно нестиранном белье. Тут же достала отцовское нижнее белье и велела переодеться.
Жилье их по теперешним меркам было весьма скромным: комната десять-двенадцать метров, четырехметровая прихожая и туалет. В соседней комнате жили Васильевы, у них приходилось на трех человек двадцать четыре квадратных метра. Чтобы переодеться, надо было куда-то спрятаться. Но куда? Видя мое смущение, тетя Дуся сказала:
— Раздевайся и переодевай белье, теперь в бане мужчины и женщины в одном помещении моются, так что стесняться нечего.
Когда я снял гимнастерку, а затем нижнюю сорочку и увидел себя голым, был поражен сходством моего тела со скелетом, который еще а школе мы приносили из учительской а класс для занятий по биологии. Мое тело представляло тот же скелет, только обтянутый кожей. Смотрел я на ребра, посчитал их, в центре, на груди — пятачок, сплетение ребер. Хорошо просматривался скелет руки: были видны верхняя и нижняя кость, строение локтя, кисти. Особенно выделялась нижняя половина руки из двух параллельных костей. Волос на теле не было, лишь на голове проступал легкий пушок. Я смотрел на себя в зеркало с удивлением, словно рассматривал постороннего человека: кожа и кости, вот что запомнилось на всю жизнь.
Отец и тетя Дуся не удивились моему виду, так как сами были в таком же состоянии, но они, видимо, регулярно переодевались и видели себя в зеркале, я же в военной школе такой возможности не имел, и вот только здесь представилась возможность переодеться и взглянуть на себя как бы со стороны.
Обратный путь в часть я проделал быстрее, имея уже кое-какой опыт. Явившись в роту, уточнил у ребят, не спрашивал ли кто-либо обо мне. Все в порядке, мое отсутствие осталось незамеченным.
За блокадную зиму 1941–1942 года я отлучался из части домой, думаю, раза три-четыре. Однажды, выбравшись уже известными путями из части, я дошел до Литейного проспекта и на углу стал подкарауливать подходящую автомашину, сильно окоченел. Но вот остановился небольшой грузовик с низкими бортами. Я ухватился руками за борт, перебросил локти. Машина тронулась, и я покатил ногами, уцепившись за борт. Кузов был пуст, но в уголке возле кабины стоял плоский алюминиевый солдатский котелок. Мысль, что в котелке, возможно, имеется какая-либо еда, не давала мне покоя. Напрягаясь изо всех сил, я попытался перевалить в кузов. Где-то у пяти углов, когда машина остановилась буквально на несколько секунд, я собрал остатки своих сил, перевалил через борт и оказался в кузове. Чуть-чуть отдохнув, ползком подобрался к заветному котелку. Чтобы меня не обнаружил водитель машины, двигался в кузове в то время, когда двигалась автомашина.
Наконец добрался до котелка, схватил его за ручку, быстро перекатился по дну кузова к заднему борту, перелез через него и на очередном перекрестке отцепился от этого борта, быстро юркнул в переулок. Ура! Котелок был мой! Я еще не знал, что в нем, но чувствовалась тяжесть. Значит там что-то есть! Забежал во двор, открыл крышку. На дне котелка лежал кусок сырого мяса с костью. Я знал, есть сырое мясо нельзя. А хотелось!
Я был уже где-то недалеко от Технологического института. Там уже рукой подать до квартиры отца на 6-й Красноармейской. С котелком в руке и с радостным чувством (мясо в котелке) я зашагал к дому.
Тут надо сделать отступление. Московский проспект в войну именовался «Международным», а тетя Дуся называла его «Забалканским». Напротив 6-й Красноармейской находился небольшой кинотеатр и скверик. В войну в этом скверике была «барахолка», то есть небольшой базар, где люди меняли «барахло» на продукты питания. (Сейчас на этом месте, за красивой решеткой, сад «Олимпия» — название по одноименному кинотеатру, снесенному после войны). Конечно, на этом базаре мне делать было нечего. Находился в самоволке, добирался к родителям, да еще стянул с автомашины котелок с мясом. Логика подсказывала: надо как можно быстрее действовать по намеченному плану — домой, а затем в часть.
Не знаю, какой леший затянул меня на рынок. Хотелось приобрести алюминиевую ложку. У нас в школе, да и во всех других частях, почему-то было принято иметь не одну, а две и даже три ложки. Ложка выдавалась каждому бойцу как табельное имущество, а вторую ложку приобретали или за деньги или в обмен на курево или хлеб.
Буквально в первые секунды моего появления на базаре встретился патруль — офицер и два матроса. Меня тут же забрали и повели в какую-то близлежащую часть. В караульном помещении обыскали, кроме котелка и мяса, ничего криминального не нашли. Наличие мяса (около одного килограмма) я объяснил так: «Был у родителей, они мне дали кусок мяса, в части хотел его сварить в печке и покушать».
Меня под конвоем отправили в комендатуру города. Она размещалась там же, что и теперь, на Садовой улице, недалеко от Невского проспекта. В комендатуре города снова обыскали, сняли ремень и посадили в камеру. Через несколько часов из камеры вывели, и вооруженный солдат с винтовкой наперевес увел меня в свою часть. Я иду впереди с котелком, в шинели без пояса, за мной в двух шагах с винтовкой наперевес идет солдат. Переулками вышли на Литейный, а затем свернули на улицу Некрасова. Постепенно мы с солдатом разговорились. Я стал просить его отпустить меня.
— Как я тебя отпущу, я должен сдать тебя в твою часть под расписку.
У солдата в кармане шинели лежал конверт с моей красноармейской книжкой и сопроводительным письмом комендатуры. В моей голове начал созревать план побега. Знал, что при возвращении в часть под стражей часового, мне несдобровать: гауптвахта, а может быть и трибунал.
Стал ласково совращать солдата:
— Браток, отпусти меня, ради Бога, мне ведь не поздоровится после того, как ты меня приведешь в часть. Я тебе вот и котелок с мясом отдам.
— Я и так могу это мясо забрать себе, — ответил он.
— Нет, не можешь. Оно же числится в сопроводительной, которая находится у тебя в конверте.
Солдат перекинул винтовку за плечо, полез в карман, открыл конверт, извлек оттуда мою красноармейскую книжку и сопроводительное письмо. Действительно, в письме было сказано, где я задержан патрулем и что у меня обнаружено в котелке.
— Тут вес не указан, отрежь половину себе, все равно в части мне его не отдадут, — предложил я солдату.
Он достал из кармана складной ножик, открыл крышку котелка и стал ножиком отрезать мясо. Я иду с ним рядом, подбадриваю его.
— Давай, давай отрезай побольше, не стесняйся, сваришь в печке и хорошо заправишься.
Пока солдат возился с мясом в котелке, пакет из его кармана перекочевал в мой. Дрожь колотила меня, но уже полдела было сделано. Солдат весьма вольно караулил меня, знал, что без красноармейской книжки я никуда не денусь.
Болтая с солдатом, я внимательно и цепко глазами искал подходящее место, куда можно было бы убежать. Проходим мимо улицы Чехова, вот угол дома, выходящего и на ул. Некрасова и на ул. Чехова. Как только миновали угол, я приотстал на полшага от солдата и молнией юркнул за угол, пробежал несколько метров и скрылся в парадном подъезде дома. Собрав все силы, стал подниматься вверх по лестнице. На первой же лестничной площадке лежал труп женщины, на втором марше распластался труп мужчины. Пока я пробирался по лестнице вверх, все время мне встречались трупы умерших. Наконец я уперся в чердачную дверь, на которой висел огромный замок. Я оказался в западне, бежать было некуда. В бессилии я присел на ступеньку чердачного марша лестницы и стал ждать своей участи. Сердце стало постепенно успокаиваться, я прислушался к звукам. На лестнице тихо, в разбитое окно лестничной клетки доносится отдаленный шум улицы.
Не помню, сколько я просидел, затем тихо подошел к окну. На полу лежал труп девочки лет двенадцати, я изогнулся и одним глазом заглянул вниз. Увидев на улице «моего» солдата, отпрянул за стенку. Что делать? Еще немного постояв, стал осторожно наблюдать за солдатом. Сверху, с 5-го этажа, мне хорошо была видна улица, где был солдат. Он заглядывал то в дверь парадной лестницы, где находился я, то в рядом расположенные ворота сквера. Этот сквер простирался от улицы Чехова до соседней улицы, и люди, видимо сокращая расстояние, шли небольшим потоком через этот сквер. Солдат, видимо, решил, что я хорошо знаю этот район и, естественно, побежал в проходной сквер, а не в тупиковую парадную. Вскоре он через ворота двинулся в сквер, и я сверху проследил его путь до соседней улицы. Как только он скрылся с моих глаз, я опрометью, перепрыгивая через трупы, спустился по лестнице вниз, выбежал на улицу и что есть сил пошел в сторону своей части. Добраться до нее было делом техники, улицы глухие, патрулей не видно. По дороге из пакета извлек свою красноармейскую книжку, сопроводительную и конверт изорвал в мелкие части и бросил за забор.
В роте опросил ребят — все тихо. Но я боялся, что появится солдат и за мной придет мое начальство. Быстро улегся в кровать, а ребятам наказал, чтобы подтвердили: все время я был на месте, в роте. Прошел час, другой, но никто меня не потревожил. Все обошлось.
Не всегда удавалось добираться до отца попутными автомашинами, иногда они сворачивали в другом направлении, и приходилось возвращаться на «свой» маршрут, снова поджидать попутку, снова цепляться за борт и скользить подошвами сапог по накатанному льду мостовой. Однажды я добрался по Загородному проспекту до улицы Дзержинского (ныне Гороховая). Решил, что до дома уже недалеко, можно и пешком пройти. Иду по Загородному, на проезжей части у поребрика трупы. Напротив Витебского вокзала лежит замотанный с головой во что-то белое человек, тлеет ткань, в которую он завернут. Навстречу молодой человек тянет за собой санки, а на санках в тряпке мертвец, Прохожу мимо вокзала, здесь мостик через канал. На мостике у решетки еще два трупа. Невдалеке сидит на поребрике человек, то ли мужчина, то ли женщина, не разобрать, весь закутан в одежду, на голове какой-то колпак, а лицо закрыто полотенцем. Человек обессилел, ему уже не встать. Идут мимо люди, никто не обращает внимания ни на человека, ни на трупы, ни даже на дымящуюся ткань.
Потерянное в прошлый раз мясо долго не давало покоя. Представлялось, какую бы я сварил в банке из-под консервов похлебку. Казалось, что я слышу ее запах и чувствую вкус. Но, увы! В очередной самоволке я уже внимательно просматривал кузова попутных машин. А вдруг что-либо еще подвернется. Но попутные машины, как правило, были или пусты, или везли что угодно, только не продукты.
В один из дней стоя на Литейном, заметил крытый фургон, без задней двери. Быстренько уцепившись руками за проем, я стал осматривать внутренности фургона. Здесь по бокам стояли какие-то верстаки, на них — оборудование. Подтянулся, перевалил животом на пол и оказался в фургоне. Осмотрел его и около кабины заметил рюкзак. Стал щупать, похоже, в нем находились продукты.
Не думая, по какому маршруту движется автомашина, по моему направлению или нет, судорожно стал расстегивать ремни рюкзака. В это время машина остановилась, и я быстро выпрыгнул из нее. Отбежал, огляделся. Нахожусь где-то в районе Разъезжей улицы. «Далеко отклонился от маршрута», — мелькнуло в голове. Но не это было главное. Не покидали мысли о рюкзаке в фургоне. Тихо перешел на другую сторону улицы, стал наблюдать за автофургоном. Шофер сидит в кабине за рулем, а его напарник пошел в дом. Я решил ждать пока тронется автофургон и тогда попытаться снова добраться до рюкзака. Жду на морозе, дрожь во всем теле и от мороза и от предстоящей воровской операции. Проходит драгоценное время, а машина стоит на месте. Нервы не выдерживают, кушать хочется до помутнения в голове, продукты в рюкзаке рисуют в воображении фантастические картины. Тихонько подхожу сзади к фургону, заглядываю в дверцу, вижу вдали в темноте заветный рюкзак с продуктами. Тихонечко, ползком влезаю в фургон, на коленях пробираюсь к рюкзаку, и в это время слышу, как водитель вышел из кабины и подходит к проему фургона. Пытаюсь выскочить из фургона, но у дверей плотная фигура мужчины в гражданском. На блокадника не похож, плечи широкие, лицо упитанное, одет хорошо.
— Так. И что ты тут делаешь? — спросил он.
Я стою в фургоне и сверху смотрю на него. Первая мысль — сейчас он меня забьет.
— Выходи.
Я спускаюсь вниз и оказываюсь лицом к лицу с водителем. Завязывается разговор. Он смотрит на меня, «доходягу» в шинели, и начинает расспрос. Чистосердечно рассказываю, как мы голодаем, как хочется кушать, но нет пищи ни у отца, ни в школе.
Он старше меня, в отцы еще не годится, но где-то около этого. Дрогнуло сердце шофера. Не стал он меня бить и не отправил в комендатуру. Только рассказал, что его семья тоже в блокадном Ленинграде голодает, а он едет с Ладожского озера и везет голодающей семье кое-что из продуктов.
Отпустил с миром, время уже позднее, добираться до отца не было смысла, и я вернулся в свою часть. Обошлось благополучно. Служба в школе продолжалась.
В связи с начавшейся «перестройкой» и развалом страны, я, к сожалению, прервал свое повествование о Великой Отечественной войне, участником которой был с первых дней и до Дня Победы. Время бежит быстро, из памяти исчезают многие воспоминания, и вот в новый 1997 год я решил возобновить свои записки, решил потихоньку все писать, а при случае и напечатать хотя бы в нескольких экземплярах. Если не получится издать книгу, хотя бы небольшим тиражом, пусть останутся записки многочисленным моим родственникам: внукам, правнукам, знакомым.
Итак, ЛВШРС — «Ленинградская военная школа по подготовке радиоспециалистов». Блокадная, холодная, жестокая зима 1941–1942 годов. Она оставила наиболее резкие неизгладимые рубцы у тех, кто находился в кольце блокады, в мрачном Ленинграде. Из всех тягот войны самым тяжелым было выжить в этот период.
Понять, что такое голод, а тем более описать это понятие трудно даже для человека, прочувствовавшего все это на собственной шкуре. Голова непрерывно занята мыслями о еде, продуктах и ничто другое вытеснить эти мысли не может. Учебные занятия в школе даже «занятиями» назвать нельзя. Кто мало-мальски держался на ногах, находился беспрестанно в караулах, на различных работах: то на уборке территории, то на расчистке рухнувших зданий и тому подобное. В классе на занятиях присутствовали единицы. «Морзянка» туго усваивалась на голодный желудок, и по сути декабрь 1941 и январь-февраль 1942 года учеба носила формальный характер. Мы не были готовы к отправке на фронт радистами.
Конечно, каждый курсант мечтал попасть на передовую. Ходили фантастические слухи о достатке в еде на передовой, и все мы мечтали туда отправиться. Однако шли дни, а мы все еще были в этой «тюрьме», голодали, мерзли, несли службу и чувствовали себя обреченными.
Однажды я поскользнулся, упал и сильно расшиб себе нос, поперек носа образовалась глубокая ранка и с нее полилась кровь. В подсознании я понимал, что потеря крови — смерти подобно. Приложив что-то к ранке, я добрался до своей постели, лег на койку в шинели, шапке и сапогах лицом кверху, дабы остановить кровотечение. Лежу спокойно, закрыл глаза и шепчу присказку «Остановись, кровотечение». В казарму кто-то зашел из нашей роты, приблизился ко мне, посмотрел на мой расшибленный нос.
— Что, умираешь Головко?!
От этой фразы у меня в теле все задрожало. Бешено заработала мысль — неужели в самом деле конец?! На моих глазах уже умерли многие мои сокурсники. Смерть наступала довольно просто: как только у курсанта начинался понос, считай — пришла смерть. Его отправляли в санчасть, которая располагалась в отдельном здании, выходящем в садик, что на улице Салтыкова-Щедрина. Через два-три дня приходило сообщение: умер.
Таким путем скончался мой товарищ и земляк Сергей. По моим подсчетам, из нашей роты в 140 штыков к весне 1942 года осталось менее сорока человек, а более сотни умерло от голода.
Несмотря на тяжелейшие жизненные условия, холод, голод и невзгоды, умирать не хотелось. Выжить во что бы то ни стало, — эта мысль никогда не покидала. Вот и сейчас, лежа на койке и глядя в высокий потолок, я берег силы и капли крови, дабы выжить. Успокоился, кровь запеклась на носу, я еще какое-то время полежал и потихоньку побрел в учебный класс, рана оказалась не опасной, нос зажил и худшего не произошло.
Чтобы читатель мог понять глубину голода 1941–1942 гг., я хочу описать еще один запомнившийся мне случай.
Когда рота назначалась в караул, начальником караула обычно был кто-нибудь из комсостава — лейтенант, старший лейтенант. Начальник караула размещался в отдельной комнатке, караул — в двух соседних. Одна смена находилась на постах, вторая — спала, третья — бодрствовала. Как-то я вышел в проходную комнату, смежную с комнатой начальника караула. Было темно, но сквозь щели в двери из комнаты начальника караула просачивались полоски света. Видимо, из любопытства я заглянул в одну из узеньких щелочек и увидел такую картину: лейтенант сидит за столом, перед ним тарелка, в ней нарезанные маленькие кусочки мяса правильной формы в виде кубиков, примерно в один сантиметр. Тут я должен пояснить. Хотя мы были в школе курсантами, но это была действующая Красная Армия, со всеми отсюда вытекающими порядками. Видимо, продовольствие в школу выдавалось в положенном по тем временам размере, в том числе и мясо. Другое дело, что норма была мизерной, и в столовой ЛВШРС мясо для курсантов нарезалось в виде крошечных кусочков.
На караул обед приносили в специальной посуде и на какое-то время оставляли у начальника караула. И вот лейтенант, начальник караула, перед раздачей обеда курсантам решил отрезать какое-то количество мяса от каждой порции-кубика. Это я понял сразу, когда очень тихо, не шевелясь, смотрел в щелку. Заслышав, видимо, какой-то шорох за дверями, лейтенант замер в позе и вперся взглядом в дверь. За дверями было темно, и, естественно, видеть меня он не мог, в то время как я его видел хорошо. Видимо, убедившись, что за дверью никого нет, он принялся за дело: пальцами берет с тарелки кубик, кладет его на деревянный стол и ножиком ровненько по грани кубика отрезает толщиной в миллиметр плоский кусочек мяса и откладывает в тарелочку.
Мне как-то даже сейчас стыдно писать об этом, но голод не тетка, и слов из песни не выбросишь.
О блокаде Ленинграда много написано, в основном героического. Однако наши будни в военной школе не были героическими. Меня иногда спрашивают: «Была ли среди блокадников человеческая забота о ближнем, взаимопомощь, выручка и т. п.?» Трудно однозначно сказать, во всяком случае в вопросах еды такие понятия маловероятны, я не помню. Хотя был такой случаи. Астафьев Алексей, высокий парень, ленинградец, как-то поделился со мной своей едой, которую ему принесли его родственники, жившие где-то на Лиговке. Он меня угостил студнем, маленький кусочек, вмещавшийся на ладони. Из чего этот студень был сварен, я до сих пор не знаю.
С Астафьевым после школы мы попали в одну часть и долгое время были вместе на фронте, но об этом я еще расскажу ниже.
Еще раз напомню читателю наш рацион питания в школе. Хлеба — 250 граммов, это основной продукт и если бы он был полноценным, то, видимо, этого достаточно для выживания. Но дело в том, что если сегодня двести грамм хлеба — это приличный кусок, то наша курсантская пайка в 250 грамм имела размеры примерно детского кубика. Хлеб был цвета земли — темный, вязкий, как тесто, и, конечно, калорий в нем было мало. Выдавали хлеб на завтрак, обед, ужин куском на 3–4 человек. Затем за столом курсанты разрезали его на пайки, и каждому доставался кубик два на четыре сантиметра. Проглотишь его, и даже не почувствуешь вкус. Съедали хлеб, не дождавшись положенного из нескольких ложек супа, состоящего из мутной жижицы (замешанная на воде мука). На второе — две ложки каши и кубик мяса. Утром и вечером и того хуже. Да еще, видимо, шло обворовывание курсантов кухонным персоналом и комсоставом школы. Вот и получался полуголодный паек, на котором выживали единицы.
Все же несмотря на голод и холод, кое-как и чему-нибудь мы помаленьку учились. Прилично изучили на слух азбуку Морзе, кое-что усвоили по технике эксплуатации радиостанций. Весной 1942 года, где-то в марте, нам чуть-чуть увеличили паек, но после голода это была капля в море, последствия его еще долго шли за нами, вплоть до вступления в Прибалтику. Все это время хотелось есть, сколько бы ни съедал.
Ранней весной 1942 года неожиданно меня предупредили: «Собирайся, едешь на фронт, по ту сторону Ладоги». Мы знали, что там был Волховский фронт, и нас, нескольких человек, направляли в распоряжение армии под командованием Федюнинского.
Моей радости не было границ! Я ехал к знаменитому в то время Федюнинскому, на Волховский фронт, где нет блокады, нет голода! Оттуда, через лед Ладожского озера, по «дороге жизни», за нами, с Волховского фронта, прибыла автомашина — бортовой ГАЗик! Сборы наши длились недолго. Нам выдали новую переносную радиостанцию (рацию), состоящую из двух ящиков, сухой паек, оружие, боеприпасы, одежду. Мы уселись в кузов автомашины, которая стояла на выезде из ворот школы и стали ждать. Предстояло ехать «дорогой жизни» до Ладожского озера, затем по ледовой трассе через озеро, а там в свою часть.
Но отчаливание автомашины задерживалось, мы сидим в кузове час, второй… Идут разговоры, что ждут сообщений из Ладожского озера о состоянии пути. Так мы простояли до вечера, а вечером поступила команда до утра находиться в казарме в готовности к отправке. Но утром наша отправка снова не состоялась, и так продолжалось несколько дней. Автомашина стояла «под парами», шофер и капитан с Волховского фронта «убивали» время.
Мы уже точно знали причину задержки: из-за внезапного потепления, трасса по Ладожскому озеру стала не проходимой для автомобилей, и движение было приостановлено. Ждали, что морозы поправят положение, но морозов не было, и мы впали в уныние: наша заветная мечта из реальности с каждым днем переходила только в мечту.
Через какое-то время нам сообщили, что лед на Ладоге рухнул и мы остаемся в школе. Нас усиленно стали готовить к практическим делам. Послали на реальные объекты в Левашово, где были развернуты радиостанции, и мы стали тренироваться в работе на рациях в условиях, приближенных к боевым. За несколько недель я уже работал на ключе, как заправский радист, связывался с другими рациями, принимал и передавал радиограммы, были многочасовые дежурства на радиостанции, надо было все время вслушиваться в эфир и не пропустить вызова, иначе последует строгое взыскание. И вот я сижу в теплом деревянном домике, на голове наушники, на столе — радиостанция со светящимися приборами, вслушиваюсь в эфир, где творится что-то невероятное: тысячи точек-тире, треск, шум, глушение. В этом хаосе надо отыскать по позывным «свою» рацию, непрерывно подстраиваться ручкой под ее «голос» и внимательно слушать команды. Если вызывают тебя, надо немедленно ответить.
Однажды я слушал «голос» немцев, которые передавали призывы к бойцам Красной Армии. Я знал, что слушание «врага» строго карается. Но в комнате никого не было, я уменьшил громкость и начал слушать.
Прослушивание немецких передач на русском языке строго каралось по закону, и я знал об этом. Однако любопытство, жажда знать ситуацию в мире превозмогли страх, и хотя и редко, но я настраивался на волну противника и прослушивал некоторые передачи.
Ранней весной в Левашово произошел такой эпизод. Дежурил я на радиостанции, день был морозный и ясный, в окно пробивалось солнце, небольшая комната была ярко освещена. Сидел спиной к входной двери и рукой подстраивал на прием рацию. Рядом с «моей» волной, на которой поддерживалась связь, работала мощная глушилка по подавлению вражеских радиопередач. В этом шуме и грохоте я пытался уловить о чем говорят немцы. Вдруг сзади меня появляется, как из-под земли, фигура сержанта и он кричит: «Ага, немцев слушаешь?!» Я смущенно стал объяснять, что глушилка и вражеский голос находятся рядом, на той же частоте, на которой я работаю. Сержант не стал слушать моих объяснений и быстро ушел. Через какое-то время меня вызвали к майору, политработнику. Принял он меня гостеприимно, пригласил сесть и стал спокойно расспрашивать о радиопередачах немцев. Так как из-за мощного глушения можно было уловить лишь отдельные фразы, я ему чистосердечно рассказал, что немецкая радиопередача идет на «моей» волне, вернее рядом, что она постоянно мешает держать устойчивую связь, из передач можно разобрать отдельное слово. Особый упор я делал на то, что специально настраиваться на радиопередачи немцев я не собирался и не делал этого.
Майор оказался разумным человеком, В конце нашей беседы посоветовал никогда не пытаться настраиваться на волну немцев и слушать их передачи, так как фашисты ведут враждебную нам пропаганду.
В моей жизни, в сложных ситуациях, много раз встречались хорошие люди, которые помогали мне выйти из этих ситуаций. За время войны я знал много случаев, когда радисты «погорели» на прослушивании немецких радиопередач: для многих из них это закончилось штрафными батальонами, для других — тюрьмой.
Осмысливая случай в Левашово много лет спустя, я понимаю, что беседа с майором и для меня могла закончиться штрафным батальоном. Но майор видел исхудавшего от голода еще неопытного, не «оперенного паренька», и, видимо, пожалел меня, отнесся по-отечески.
Описывая события в школе, во время блокадной зимы 1941–1942 гг., я не стал останавливаться на повседневных буднях. Например, как горел на углу Суворовского проспекта и улицы Красной конницы расположенный рядом с ЛВШРС в большом сером здании с бетонными колоннами военный госпиталь. Нас, курсантов, ночью подняли по тревоге и бросили спасать раненых из горящего здания. Часто нас направляли на разборку разбомбленных на территории школы и близ расположенных улиц домов, расчистку завалов улиц и проездов.
Был я в то время молод и неопытен, но каким-то «шестым» чувством понимал, что самое страшное в городе произойдет весной, когда прекратятся морозы и наступит тепло. Ленинград был забит трупами умерших от голода, это я видел своими глазами и знал из рассказов других. Трупы валялись на лестничных клетках домов, в квартирах, на пустырях, на улицах, в разных укромных местах. Было лишь одно успокоение — все трупы заморожены! Но по весне начнется их разложение, произойдет эпидемия заразных болезней и все мы погибнем!
Надо отдать должное ленинградским властям и их руководителям — они, видимо, тоже хорошо понимали эти опасности и не дожидаясь оттепели начали уборку трупов. В моей памяти сохранилось такое видение. Движется по Суворовскому проспекту огромная грузовая бортовая автомашина, груженная замороженными голыми трупами. Тела аккуратно сложены, как дрова, рядами. Один ряд головами наружу, другой — ногами наружу. И так эти ряды поднимаются выше бортов автомобиля на метр или метра полтора. Наверху, на трупах сидят несколько живых людей, это рабочие по уборке трупов. При движении волосы на головах трупов развеваются по ветру. Такие сцены были повседневным явлением.
Многие дни и ночи замороженные трупы куда-то увозили, и мы, курсанты, молча провожали эти рейсы своими взглядами, отрываясь от работы по расчистке проездов от снега и завалов.
Заканчивая описание очень важного для меня периода пребывания в блокадную голодную зиму 1941–1942 годов в Ленинградской военной школе по подготовке радиоспециалистов, я еще должен сказать, что лично для меня это был самый тяжелый период Отечественной войны. На встречах с однополчанами мы редко вспоминаем школу, ибо воспоминания эти очень тяжелые и неприятные.
Знания по радиоделу мы, в основном, получили в начальный период, до декабря 1941 года и ранней весной 1942 года. В это время занятия шли интенсивно, с большой отдачей. Я в декабре 1941 года быстро освоил азбуку Морзе, клепал на ключе как заправский радист. По уровню знаний радистам присваивались три степени: высшая степень — первая, он должен принимать и передавать 18–20 групп в минуту, второй и третьей степени радисты принимают и передают соответственно 16–17 и 14–15 групп. В каждой группе 5 знаков — буквы или цифры — и если умножить 20 на 5, то радист первой степени должен обеспечить прием-передачу 100 знаков в минуту.
Кроме владения техникой приема и передачи на слух радиограмм, радист обязан знать наизусть таблицу сокращенных понятий, принятых в радиообменах. Например, фраза «как меня слышите» передается по радио тремя буквами. И так — несколько десятков сокращенных фраз.
Что касается технических знаний, то за короткое время программа предусматривала изучение общей схемы радиостанции, принцип работы ее, главные узлы, комплектация и т. д. Главное в этих вопросах — радист должен непременно уметь устранять неисправности рации. В боевых условиях это немаловажный факт, ибо выход из строя рации и неумение устранить неисправность грозит потерей связи и потерей бойцов.
В этих записках я мало останавливался на главной задаче школы — подготовке кадров для Красной Армии. Но, думаю, нет необходимости подробно описывать этот однообразный и скучный процесс.
Главные впечатления, которые я пытался воскресить в памяти, это страшные события первой блокадной зимы Ленинграда, 23 февраля 1942 года мне исполнилось 19 лет. Конечно, я не помню этот день, но многие моменты врезались о память, Мрачный город, без света, воды и канализации, одинокие фигуры, закутанные во всякое тряпье и бредущие по городу. Кто-то тянет за собой детские санки, а в санках завернутый в простынь или просто полуголый труп. Куда он тащит этот труп — конечно не на кладбище, ибо кладбище далеко, туда не дойти. Скорее всего он оставит труп в ближайшем переулке. Трупы, трупы, трупы — вот что запомнилось от тех дней. Они валялись везде. Ужас… И неистребимое желание поесть. Трудно, очень трудно передать ощущение голода, когда мозг сверлит только одна мысль — еда. При этом ты находишься в замкнутом пространстве блокадного города, где добыть пищу невозможно никакими путями, обладай ты даже семью пядями во лбу. Как загнанный с клетку зверь, оставленный без пищи!
Не помню в какое только время, но весной 1942 года горожанам и войскам прибавили паек, мы стали получать немного больше пищи, главное — качество хлеба заметно улучшилось. Однако истощение достигло такой силы, что дистрофию первой степени не скоро предстояло осилить. Потребовались еще годы, когда я уже и Эстонии впервые почувствовал, что, наконец, наелся. До этого же сколько бы и какое количество пищи ни потреблял, есть все равно хотелось. Живот выпучен, как барабан, казалось, лопнет от еды, а есть все равно хочется!
Я уже писал, что заключительные дни учебы в школе выпали работой в приближенных к боевым условиям в Левашово, Здесь я окончательно сформировался как специалист-радист, а это формирование было основано желанием быстрее попасть на передовую, где питание, в этом я был уверен, будет достаточным, чтобы насытиться. Я давно заметил, что когда очень хочется, то желания сбываются. Вскорости был произведен отбор нескольких курсантов для отправки на формирование новой части. Прощай, школа!
145 отдельная, «непромокаемая» рота связи
В число уходящих со школы попали: Леша Чапко, Женя Курнаков, Исай Дронзин, Женя Яковлев, Саша Григорьев, Николай Астафьев и еще несколько человек, фамилии не помню. За нами в школу прибыл лейтенант Борисов, он построил нас и пешим строем повел по улицам Ленинграда на Рузовскую улицу, что у Витебского вокзала. Там шло формирование части. Здесь мы пробыли несколько дней, а затем сформированная 145 отдельная рота связи двинулась к месту своей дислокации в село Рыбацкое. Шли повзводно. Наш радиовзвод возглавлял лейтенант Борисов, недавний выпускник военного училища, чистый «академист», подтянутый, стройный интеллигент. Он старался вести нас четким строем, но за блокадную зиму в школе строевой выправке мы мало были обучены, поэтому для нас несколько странным было желание Борисова с самого начала формирования части соблюдать военный ритуал. Училище он закончил не в Ленинграде, тяготы блокады ему были известны довольно смутно, вел он себя строгим командиром.
Через несколько часов ходьбы мы добрались до Рыбацкого. здесь начиналась самостоятельная жизнь нашей 145 ОPC. Хозяйство отдельной части — сложное дело, тем более на первых порах, когда идет притирка всех составляющих ее деталей. Прежде всего надо было составить точные списки личного состава роты. Начались поиски писарей. Желающих оказалось достаточно, а писать нечем — не было ни чернил, ни ручек (шариковых в то время не было). В этой суматохе выходит еврей Альтшуль с ручкой (перьевой) и бутылкой чернил. Вот ведь забавно! Человек предусмотрел все для того, чтобы быть писарем роты. И Альтшуль стал им, писарем в роте и закончил войну. Орудия своего производства он бережно хранил и пронес с собой через весь город — перьевая ручка (ученическая) и пузырек чернил определили его судьбу в этой войне.
Таким, примерно, способом выявлялись и другие специалисты. Поваром роты стал Пашка, работавший на гражданке где-то в столовой города. Пашка тоже закончил войну поваром в роте. Назначались ездовые, экспедиторы, плотники — заполнялись все специальности, нужные для жизнедеятельности отдельной, самостоятельной части.
Мы, как специалисты-радисты, были сразу оставлены в радиовзводе. Рота состояла из более десятка взводов — линейного, радиовзвода, посыльного, Бодо, хозвзвода и т. п. Командиром роты был старший лейтенант Горбачев. Рота имела всю необходимую технику и оружие. Предназначалась она для обслуживания всеми видами связи 14-го укрепленного района Ленинградского фронта (14 УР).
Некоторое время назад я побывал в Рыбацком. Совершенно не узнать этого поселка. Сейчас здесь возведены жилые массивы из современных кирпичных и панельных домов, построены заводы, в том числе огромный завод алюминиевых конструкций, завод железобетонных изделий, крупная металлобаза Ленглавснаба, где я провел реконструкцию почти всех объектов будучи в 1974–1986 годах заместителем начальника Ленглавснаба.
Во время же войны, когда формировалась наша отдельная рота связи, Рыбацкое представляло собой поселок, застроенный, в основном, частными деревянными домами. Из всей застройки выделялась железнодорожная станция — кирпичный вокзал и такая же водонапорная башня. Еще было построено много огромных деревянных бараков, в которых, видимо, до войны располагались общежития. Один из пустующих бараков заняла наша рота под столовую и бытовые помещения. Личный состав был размещен по другим баракам и землянкам, а также в пустующих деревянных домиках. Здесь же, в Рыбацком, располагался и штаб 14-го укрепленного района. В состав укрепрайона входило десяток отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов — ОПАБов, которые занимали оборону в кольце блокады Ленинграда от Невы до города Слуцка (ныне Павловска), что рядом с городом Пушкином.
История укрепленных районов мало освещена в нашей исторической литературе, но они, на мой взгляд, сыграли заметную роль в обороне Ленинграда, ОПАБы имели на вооружении тяжелую по тем временам технику — артиллерию и пулеметы средних и крупных калибров. Средства передвижения придавались ОПАБам и УРу только в периоды наступлений. В период обороны ОПАБы укрепрайона плотно седлали предназначенную им передовую линию, зарывались в землю, оборудовали по всей передовой дзоты и доты, и должны были насмерть стоять при наступлении немцев. Отступление бойцов ОПАБов было фактически невозможно, так как при этом вся техника (орудия, пулеметы, огнеметы и т. д.) могла быть оставлена противнику, ибо увезти ее было нечем. А отступление, при котором вооружение оставляется противнику, ничего хорошего не сулит: или штрафбат или расстрел. Время было суровое и законы были суровыми.
Передовая линия фронта пересекала железнодорожную магистраль Ленинград — Москва примерно а средней части пути между станциями «Колпино» и «Поповка», то есть в 3–4 километрах за станцией «Колпино» и проходила по трудно проходимым болотам. Почти круглый год местность затапливалась паводковыми водами, поэтому окопы вглубь земли рыть было невозможно и они устраивались путем огромных земляных брустверов. Делалось это просто. Нарезался с верхнего слоя поверхности земли дерн и аккуратно выкладывался в две линии (с перегородками). Между ними и находились окопы, но не в земле, а над землей. Таким же образом устраивались доты и дзоты, а также артиллерийские укрытия.
Но даже при таком, поверхностном устройстве окопов и всей линии обороны вода не давала жизни воинам, это было огромное бедствие и пытка. Частые ленинградские распутицы заливали буквально все вокруг. Приходилось шлепать по грязи при самых незначительных передвижениях, например, при доставке питания и боеприпасов. Да и в самих окопах всегда было сыро и неуютно.
И вот в таких условиях ОПАБам приходилось вести оборону Ленинграда не день и не два, а месяцы и годы.
На участке фронта 14-го укрепрайона шли почти непрерывные бои, командование Ленинградского фронта не давало покоя немцам. Мы всегда точно знали, когда будет очередное наше наступление.
Как я уже говорил, ОПАБы в силу своего тяжелого вооружения и отсутствия транспортных средств могли лишь стоять насмерть в обороне, но ни наступать, ни отступать не могли. Перед наступлением командование фронта задолго вело интенсивную подготовку. Перво-наперво в расположение нашего укрепрайона вдруг ночью прибывали полевые части и быстро располагались в окопах ОПАБов. Это значило, что через несколько дней будет наше наступление. За это время «полевики» знакомились с местностью, условиями боя, располагали свою технику, получали конкретные боевые задания.
Подготовка к наступлению и наступление — радостное событие в жизни бойцов. Я еще попробую рассказать об этом подробнее. А сейчас вернемся к формированию нашей отдельной роты связи в Рыбацком.
Для радиовзвода задача была проста и понятна: установить радиосвязь между ОПАБами и командованием укрепрайона. По прибытии в Рыбацкое часть радистов была отправлена в батальоны, я же остался в роте. Распределение было не добровольным, поэтому выбора не было, хотя каждый из нас стремился ближе к линии фронта. И это не бравада, надо понимать нашу молодость, отвагу молодецкую и — неопытность. Конечно, с высоты сегодняшних дней, когда тебе восьмой десяток, многих опасностей можно было избежать, но сегодняшний читатель, видимо, не поймет того задора и патриотизма 1941–1942 годов и даже не патриотизма, тогда это слово просто не упоминалось, но наше воспитание было таким, что трусость считалась самым большим грехом. А молодецкая удаль вообще не вызывала никаких раздумий, об опасностях почти не думалось.
Посланные в батальоны радисты должны были выходить в определенное время в эфир для связи со штабом укрепрайона. Однако проходили дни, а мы, радисты, никак не могли обеспечить устойчивую радиосвязь батальонов с укрепрайоном. Эти первые дни неудач и разброда потом будут вспоминаться всеми связистами с улыбкой и грустью. Забегая вперед, скажу, что уже в период нашего наступления на Лугу и Псков мы, радисты, были непревзойденными асами своего дела, связь устанавливали в считанные минуты, а из радиостанций выжимали двойную мощность, то есть, если рация рассчитана на максимальную дальность радиосвязи в 40 километров, мы держали устойчивую связь на 100 и более километров. Но это было потом, а сейчас же в Рыбацком мы сутками сидели с наушниками на голове и беспрерывно клепали ключом: «эра, эра, эра, я лес, я лес, как меня слышите, прием». Однако «эры» не слышно, молчит Ижорский батальон и снова выбиваешь ключом позывные, точки-тире, снова вслушиваешься в эфир, где тысячи позывных, разных по силе, звуку, окраске, сочности и все они гудят, пищат, ищут своих корреспондентов или ведут передачи. В этой многоголосой какофонии радисту надо отыскать свою, единственную радиостанцию и наладить с ней связь. В первое время получалось такое редко. Вынырнет «свой» голосок, начинаешь радостно ему передавать свои сигналы и позывные, но теперь он тебя не слышит. Не слышит, хоть плачь. Начинаешь проверять батарейное питание своей радиостанции, искать неисправности. Кажется все в порядке, а тебя Ижорский батальон не слышит.
Начали понемногу налаживать радиосвязь, но она была случайной, неустойчивой. Надо отметить, что у «линейщиков» со связью по полевым проводам дело обстояло гораздо лучше. Правда, провода часто выходили из строя из-за артиллерийских обстрелов, но бойцы линейного взвода быстро настропалились исправлять повреждения, и телефонная связь была довольно надежной. Из-за перегрузки проводной связи нам редко удавалось переговорить с батальонными радистами, но когда это удавалось, установить причины отсутствия радиосвязи все равно было невозможно. Наш командир радиовзвода Борисов, молодой выпускник военного училища связи, похудел из-за бессонницы и упреков командования УРа, ночами и днями не спал, бегал от рации к рации, давал разные указания, звонил по телефону в батальоны, а толку было мало.
И вот однажды Борисов собрал радиовзвод и спросил: «Кто хочет пойти на важное задание?». Не раздумывая, откликнулся я и Николай Астафьев. Борисов посмотрел внимательно: «Хорошо, — сказал он, — ждите указаний».
Борисов — молодец, это мы потом все оценили его смекалку. Он придумал оригинальный метод налаживания связи с батальонами. Нам выдали новенькую рацию РЛ-6, что значило: «Радиостанция ленинградская», малой мощности, рассчитанная на максимальную дальность радиосвязи до 40 километров, Она состояла из двух деревянных ящиков: один ящик был собственно радиостанцией, во втором размещалось электропитание для рации и самые необходимые запасные части, а также принадлежности — ключ, наушники, микрофон, По рации можно вести прием и передача как ключом (азбука Морзе), так и микрофоном, при микрофонном приеме-передаче дальность действия уменьшалась вдвое или втрое, а иногда из-за помех или плохого состояния эфира — и в десять раз, поэтому микрофоном работали редко.
Радиостанция РЛ-6 была сконструирована в начальном периоде войны в блокадном Ленинграде, ее производство организовал один из ленинградских заводов. По конструкции она была довольно простой, размещалась за спиной двух бойцов, каждый ящик весил 15–18 килограммов, дальность приема-передачи — 10 километров.
Цель нашего похода состояла в следующем. Удаляясь от штаба укрепрайона, мы должны были по пути в батальон развертывать радиостанцию, связываться с дежурной рацией штаба. Удаляясь от штаба, расстояние увеличивалось. Первые наши стоянки дали хорошие результаты, мы хорошо слышим и нас хорошо слышно. Но чем дальше мы удалялись, слышимость резко уменьшалась, а помехи совершенно сбивали нас с толку. Приходилось напрягать все свое внимание, слух, дабы принять сигналы.
Здесь я должен остановиться на одной важной детали: антенна! Уже много позже мы на практике убедились, что в нашем деле не так важен тип радиостанции, как важно правильно поставить антенну. От антенны зависело многое — и дальность связи и качество звука, и скорость установленной связи.
К сожалению, в военной школе на роль антенны в радиосвязи обращалось мало внимания, из этих школьных занятий знали типовую антенну, состоящую из двух концов — антенны и противовеса — каждый по 7 метров длиной.
Так, продвигаясь по направлению к передовой в Колпино, периодически развертывали антенну, подключали ее к рации и начинали работать. Первым подразделением, куда мы направлялись, был 72 ОПАБ или иначе «Ижорский батальон». Он занимал оборону на окраинах Колпино, а штаб батальона располагался на самом заводе, в заводских корпусах.
К артиллерийским обстрелам и бомбежкам немецких самолетов мы уже давно привыкли в ЛВШРС и в городе, где эта «прелесть» повторялась систематически, изо дня в день, ночью и днем. Естественно, что и в Рыбацком и по пути в Колпино такие обстрелы также были не менее интенсивны, чем в Ленинграде. Несколько раз нас пеленговали немцы и накрывали рацию «беглым огнем». У меня лично с самого начала обстрела Ленинграда выработался «свой» принцип укрытия — намертво прирасти к земле и не шевелиться. Каким-то чутьем я знал, что любое движение при бомбежке или артобстреле — смертельно опасно. Много раз за войну я был свидетелем, когда люди погибали потому, что не выдерживали их нервы. Снаряды и бомбы рвутся буквально в метре от тебя, но ты не должен шевелиться, пусть забрасывает тебя землей, свистят в сантиметре осколки — лежи и плотнее прижимайся к земле! Лучше, если ты во время обстрела упал хотя бы в маленькую впадину в земле — в этом случае шансов остаться живым больше. Однако не у всех выдерживали нервы, я видел как человек на секунду приподнимался, чтобы отскочить на полметра в сторону, где, ему казалось, находится спасение от снаряда или бомбы, и вот в эти секунды передвижения его и настигала смерть. Ниже я попробую рассказать некоторые случаи такой гибели людей.
Сейчас же все обошлось без происшествий, мы благополучно добрались до Ижорского батальона, в одном из разрушенных зданий нашли батальонных радистов и их радиостанцию. Они весьма были удивлены нашим приходом, смутились. Мы тут же на их глазах развернули свою радиостанцию, связались со штабом укрепрайона, а затем хотели проделать это на радиостанции батальона. Но не тут-то было. Если мы кое-как услышали своих, то нас они не слышат. Стали разбираться в чем дело, оказалось, причина в простом — «село» питание, то есть разрядились сухие батареи электропитания. Тогда мы подключили питание от нашей радиостанции и тут же установили нормальную радиосвязь.
В Ижорском батальоне мы пробыли сутки или более, проинструктировали батальонных радистов, потребовали замены питания в рации, договорились обо всех деталях радиосвязи с ними. Надо сказать, что у нас опыта было мало, но по уровню подготовки наши знания были выше, чем у батальонных радистов. Поняли мы и еще одну деталь: радисты батальона не очень старались установить прочную связь, при которой в эфир надо выходить регулярно, в установленное время. В этом случае, при работе их рации, немцы с Красного Бора и станции Поповка пеленговали и начинали интенсивный артобстрел, а это не очень нравилось ни радистам, ни некоторым командирам.
Хочу пояснить, что в целях маскировки расположения штабов, рации при них располагались не в самих штабах, а в некоторой отдаленности, и радиограммы на рацию и в штабы доставлялись или нарочными или передавались по телефону. Мы предупредили батальонных радистов об их ответственности за надежную связь, и с этою времени никаких вопросов не возникало, по крайней мере в ближайшее время.
Ижорский батальон имеет большую и славную историю, он был создан на базе знаменитого Ижорского завода и грудью защищал свой родной завод на подступах к Колпино. Поскольку об Ижорском батальоне имеется достаточно литературы, я не буду здесь на нем останавливаться. Отмечу лишь запомнившиеся впечатления от нахождения в этом батальоне.
Пробираясь между заводскими корпусами, можно было видеть почти сплошные разрушения всего, что находилось на этой огромной территории. Разбитые цеха, обрушенные огромные крыши с крышными фонарями, сплошные воронки от бомб и снарядов, торчащие из земли обломки коммуникаций, абсолютно никакой растительности — вся земля перепахана взрывами. Завод представлял кладбище разрушений. Но внимательно присмотревшись, можно было обнаружить, что среди этих разрушении и обломков теплилась жизнь. Люди здесь окопались основательно — везде были оборудованы огневые точки, доты и дзоты, землянки. Обрушенные детали зданий и сооружений были использованы для создания укрытий от бомбежек вражеской авиации и артобстрелов, которые происходили постоянно, днем и ночью.
Мне запомнилась огромная заводская труба, диаметром внизу метров 20–30, высотой более ста метров. Эта труба была насквозь простреляна снарядами, в ней было неисчислимое количество дырок разных размеров — до нескольких метров. Она насквозь светилась. Но удивительным было то, что труба выстояла, немцы так и не могли сшибить ее. Уже когда отбили Красный Бор, то пленные немцы нам рассказали, что на немецкой батарее в Красном Бору был заведен такой порядок. Перед завтраком немецкие офицеры спорили, кто первым попадет в трубу Ижорского завода. Начиналась стрельба из орудий. Как только наблюдатель на приборах фиксировал попадание, стрельба прекращалась и офицеры уходили на завтрак.
Намного позже, находясь в отбитом у немцев Красном Бору, который возвышается метров на 6-10 над болотом между ним и Колпино, мы с этого возвышения хорошо видели нашу знаменитую трубу на Ижорском заводе и хорошо представляли, как немцам было просто лупить по этой цели. Ее подорвали наши взрывники после разгрома немцев под Ленинградом во время начала реконструкции завода.
Сейчас же, любуясь трубой-великаном, мне подумалось, что так же как трубу не одолели немцы, не одолеть им и нас.
В Ижорском 72 батальоне мне потом приходилось часто бывать, сейчас же мы должны были покинуть гостеприимных ижорцев и двинуться в следующие ОПАБы. Отработав технику налаживания радиосвязи с Ижорским батальоном, мы это повторили и в остальных частях. Были встречи с нашими батальонными коллегами-радистами, были совместные сеансы связи с укрепрайонами, были скромные угощения и задушевные беседы. Постепенно и мы, и радисты батальонов набирались опыта, смелее действовали на своей технике и мало-помалу радиосвязь в системе укрепрайона стала занимать достойное место.
Если на первых порах командование всех уровней смотрело на радиосвязь довольно скептически и надеялось только на проверенные телефоны, то постепенно оно убеждалось в преимуществах радиосвязи. Ведь полевые провода, протянутые по земле, почти беспрерывно выходили из строя от бомбежек и артобстрелов. Линейщики напрягались из последних сил, дабы восстановить порванные провода. Обычно при обрыве, на восстановление проводной связи выходили два бойца вдоль линии с телефонными аппаратами за спиной, периодически подключались к проводу и уточняли место обрыва. При интенсивном обстреле не успевали соединить провод в одном месте, как он обрывался в другом. Особенно тяжело было ночью, когда бойцы поочередно держались за провод и таким образом двигались к месту обрыва. Еще жарче приходилось им во время боев, которые, как я уже отмечал, на участке нашего 14 УРа, да и в других УРах, шли беспрерывно с перерывами в несколько дней, однако успехов в этих боях мы не имели: противник прочно держал оборону, и мы ни на метр не могли продвинуться вперед.
Завидно было читать сводки о продвижении наших войск на других фронтах, мы же только теряли людей убитыми и ранеными, а о нас Совинформбюро сообщала: «На Ленинградском фронте шли бои за населенные пункты…». Но мы-то знали какие это были ожесточенные схватки и сколько было потерь.
Итак — Рыбацкое. После обхода всех ОПАБов, мы живые и невредимые вернулись в свою часть. Вообще я должен сказать, что выражение «живые и невредимые» довольно редкое на фронте, а тем более в кольце блокады Ленинграда. Сколько раз снаряды падали и метре-двух от меня, но все как-то обходилось благополучно. Всю войну я почему-то очень верил в свою судьбу, в своего Ангела Хранителя, думая: «За что меня должны убить? Я ничего плохого не делал».
Весну и лето после блокадной зимы 1941–1942 годов мы были в Рыбацком, если не считать наши челночные походы по батальонам и подмену убитых радистов в батальонах. Перенесенный голод в ЛВШРС постоянно давал о себе знать. Прибавленного пайка нам явно не хватало. Хлеб выдавали сразу по дневной норме, и я тут же, не дождавшись завтрака, съедал его без остатка. Обед и завтрак проходил уже без хлеба. Вот здесь я расскажу запомнившуюся на всю жизнь такую историю.
Одна из радиостанций в Рыбацком размещалась на веранде деревянного дома, чудом сохранившегося в поселке. В эти доме жила старушка, как она выжила, почему не была эвакуирована в город— не знаю. Но она жила в своем доме одна, чем-то питалась и как-то существовала. Весной 1942 года она в своем огороде сумела посадить разные овощи: свеклу, турнепс, брюкву и другие. Как только появились первые листья, она стала в небольшом котле, который видимо был использован до войны для приготовления пиши животным, варить что-то наподобие щей. Но эти щи состояли всего лишь из листьев турнепса, брюквы, свеклы и лебеды, добавлялись видимо сюда и другие дикие травы. Это варево она продавала нам, радистам, по 3 рубля за котелок. Мы уже были постоянными клиентами. Я даже покупал по два котелка, и все это съедал сразу. Живот заметно взбухал, однако голод не проходил. И эти два котелка щей без мяса, масла, жира и соли были дополнительной пищей к той, которую я получал из полевой кухни роты. Соль считалась страшным дефицитом, достать ее было невозможно. Пашка-повар даже на эту тему и говорить не хотел, просьбу отвергал с полуслова.
Я теперь не помню, откуда у нас были деньги, видимо нам выдавали кое-какое денежное довольствие, а возможно еще отец оставил мне какую-то сумму.
Какая-никакая зелень давала заметные результаты. Наша «кормилица» старалась изо всех сил готовить нам «щи», а мы с благодарностью принимали ее дары. На голове стали, рядом с пушком, появляться побеги волос, да и глядя на свои руки-ноги, мы видели, что «поправляемся». Не помню когда точно, но как-то отдыхая от дежурства на рации, мы лежали в траве на пустыре возле дома старушки. Вели веселые разговоры, шутили, вспоминали юность, учебу в техникуме, довоенную жизнь на гражданке. Припекло солнышко, день был теплый, безветренный, на небе ни облачка. Мы разомлели лежа кто на боку, кто на спине, а кто и на животе. И вдруг я чувствую, как у меня зашевелился (прошу прощения за эту пикантную подробность) мужской орган… Какое-то время я прислушивался к самому себе, а затем громко крикнул: «Ребята! Немаловажная деталь стало действовать!!!» Тут все дружно расхохотались, пошли шутки-прибаутки, «Значит живем!» — сказал кто-то. Тогда я впервые отчетливо понял, что после голода постепенно возрождаюсь к нормальной жизни.
Писать воспоминания о событиях более чем пятидесятилетней давности — довольно трудно. Многие детали уже позабылись. Например, как мы спали? Всю войну, по сути я, да и все воины, не знали, что такие кровать или постель. Спали не раздеваясь, одну часть плащ-палатки под бок, другой половиной укрывались сверху. Были специальные банные отряды, которые обслуживали действующие части банными услугами и вошепарками. Идем в такую походную баню, раздеваемся, всю одежду и белье сдаем в вошепарку. Пока моемся — белье пропарено и продезинфицировано. Одеваемся и от нас за версту несет «благовониями» вошепарки. Но зато ни один паразит не остается живым.
К этому времени линия обороны Ленинграда стабилизировалась, и наш укрепрайон вошел, как сейчас говорят, в будничную жизнь. Жизнь нашей отдельной роты связи проходила в пределах пространства, замкнутого линией обороны от Невы, через Колпино — Шушары до автомагистрали Ленинград — Москва и вглубь обороны: Понтонная, Саперная, Красный Кирпичник, Металлострой, Рыбацкое, Петрославянка. Все это пространство в свое время было исхожено и исползано вдоль и поперек, были знакомы все дороги, дорожки и стежки. День и ночь это пространство простреливалось со всех видов оружия, бомбили немецкие самолеты. Но жизнь не прерывалась, шла своим чередом. Сегодня любой звук от выстрела привлечет внимание каждого, тогда же на такие звуки мало кто обращал внимание, привычка — большое благо. Конечно, у нас были частые потери убитыми и ранеными, ниже некоторые эпизоды я вспомню, но все это было рядовым явлением.
Например, в Рыбацком на дороге, которая и сейчас идет вдоль Невы, есть небольшой мостик через реку Славянку. Немцы хорошо его пристреляли, и чтобы проскочить через этот мост, надо было проявить большое искусство. Шрапнель или осколки снарядов задевали каждую вторую автомашину, иногда погибали и пешие. Надо было уловить промежуток и в несколько секунд проскочить мост. Правда, пешие бойцы могли миновать мост, спустившись ниже по течению реки и перейдя ее вброд. Но не каждый хотел терять время и старался пробежать по мосту, а это часто кончалось трагедией. Так наша связистка, посланная с донесением в часть, была убита на этом мосту.
Вообще продвижение по открытой местности было игрой в прятки со смертью. Немцы хорошо изучили нашу оборону, знали прекрасно все дороги, проезды и подъезды, все важные точки держали под постоянным артобстрелом. Но и мы не лыком шиты. Все повадки немцев тоже хорошо знали и обстреливаемые места ловко обходили. За многие месяцы обороны и хождений туда и обратно, в батальоны и УР, мы находили такие пути-дорожки, где можно было пройти только имея хорошую сноровку и физические силы.
Через некоторое время рота и штаб укрепрайона из Рыбацкого перебазировались в землянки, возведенные вдоль реки Славянки, недалеко от станции Петрославянка. Это были хорошо оборудованные укрепленные пункты под землей с накатами из бревен, мы их называли «землянками», одну из которых заняли под радиостанцию. К этому времени у нас уже появились более мощные радиостанции — РБ (рация батальонная), 71ТК (танковая), обслуживание их усложнилось, но зато связь стала более устойчивой и надежной.
Началось наше обустройство на новом месте. Мне, как «строителю» (хотя я проучился и строительном техникуме три года — 3 курса из 4-х), поручили «построить» уборную-сортир. что было немаловажной деталью нашего быта. Война войной, а естественное дело надо было где-то справлять. Практика показывала, что если этот вопрос не упорядочить, то при огромном скоплении людей можно было наблюдать довольно неприглядную картину.
Сегодня, когда мы собираемся на ветеранских встречах, с хохотом вспоминается «строительство» сортира на фронте. Как вы понимаете, ни инструмента, ни материалов для «строительства» не было. С большим трудом собрал в округе кое-какой материал, остатки ящиков от снарядов, ржавую жесть, рваные куски рубероида. Все это в осажденном городе было страшным дефицитом, так как шло на отопление землянок.
Из инструментов каким-то образом был найден топор. Над траншеей положили две доски и на них соорудили «туалет» размером метр на метр и высотой метра полтора. Сначала все радостно одобрили «стройку» и тут же обновили, но затем этот «туалет» превратился в объект шуток и насмешек. Дело в том, что «сооружение» было весьма непрочным, и если снаряд разрывался где-то в 100 метрах, оно или заваливалось на бок или оголялась одна из сторон. Много раз я пытался восстановить его, но потом это надоело, и я закрепил только несколько досок вверху так, чтобы можно было спрятать голову «посетителя».
Прошу извинить меня, но я еще долго буду обращаться к теме голода, так как он преследовал нас долго, до Пскова и вступления в Эстонию. Сейчас же, в землянках на реке Славянка, наши мысли вертелись вокруг еды, так как пайка не хватало, а блокадная зима давала о себе знать. Иногда были и радостные моменты, это когда доводилось дежурить на кухне рабочим, можно было есть до отвала. И вот тогда уж супов, каш, хлеба и другой пищи столько съедалось, что живот выпирал из брюк. Уже ничего не лезет в рот, а есть все равно хочется. Это трудно понять человеку, не испытавшему голода, но поверьте, я до сих пор помню это чувство, непрестанно точившее мозг. Естественно, что наши умы, кроме работы были заняты поисками дополнительной пищи. В условиях блокады города добыть каким-либо способом даже самые простейшие продукты и в самом минимальном размере было невозможно. Поэтому в весенне-летне-осенний период дополнением к пайку был «подножий корм», как мы его называли. Это, в основном, травы, кое-как обработанные на костре или в печке-буржуйке.
Воровать в армии строго-настрого было запрещено, и факты эти сурово карались. Но «голод не тетка» и, конечно, мы добывали кое-что незаконным путем. Неподалеку, через маленькую реку Славянку в 1,5–2 метра глубиной, находилось поле капусты. По вечерам и ночью мы перебирались на ту сторону речки, отламывали листья капустных кочанов так, чтобы не было заметно кражи и из этих листьев готовили себе «щи». Поле капусты охранялось гражданскими сторожами, поэтому уворовать капустные листья было делом довольно сложным: несколько человек устраивали бдительное наблюдение за сторожами, а один или два человека в это время перебирались по-пластунски на другой берег и незаметно отламывали листья. К тому же нельзя было оставлять следов воровства, иначе — скандал, администрация огорода пожалуется командованию, и тогда нам несдобровать!
Анекдотичный случай произошел с нашим радистом Андреевым. Кухня роты располагалась в 1,5–2 километрах от наших землянок, в которых мы жили, к тому времени мы уже занимали две землянки, где находились рации. Путь к кухне пролегал по вздыбленной снарядами территории, где раньше стояли рабочие деревянные бараки, а рядом с ними — огромные выносные туалеты. Бараки и туалеты снесли и использовали на дрова, устройство блиндажей и землянок, а ямы с нечистотами остались, обросли травой, покрылись сверху мусором. В один из темных вечеров мы собрали котелки, вручили Андрееву и отправили его за ужином для всех проживающих в землянках. Получив от Пашки-повара в котелки кашу, Андреев возвращался обратно, и надо же такому случиться, — угодил в яму с нечистотами, еле из нее выбрался, потерял несколько котелков, а сам по уши в дерьме прибыл к нам. От него несло за версту. Несмотря на довольно прохладную погоду, он всю свою одежду снес в речку, притопил ее для отмачивания. К себе на рацию мы его не пустили, и он ночью, завернутый голяком в плащ-палатку, мучился в заброшенной, полуразрушенной землянке. Рано утром, бедняга, долго возился в речке, отмывал и выполаскивал свою одежду, расстелил ее на траве для сушки, а сам все-таки вломился в нашу землянку и спрятался под плащ-палатку. Запах сразу выдал его присутствие в землянке.
Несмотря на блокаду города, к нам на Ленинградский фронт с Большой земли начало поступать пополнение. Прибыло оно и в нашу роту — молодые девушки из Вологодской, Ивановской, Владимирской, Горьковской и других областей. Кое-как их обучили там, на Большой земле, специальностям связисток и они пополнили почти все взводы, кроме радистов, так что мы оставались чисто мужским взводом. Однако находясь в одной части, конечно, общались с бойцами всех взводов. Вновь прибывшие девушки иногда и по делу и без дела наведывались к нам на «эфир», как именовали наши землянки.
Так вот, в тот день, когда Андреев согревался голым под плащ-палаткой, а все его обмундирование сушилось на берегу Славянки, к нам по каким-то делам заявились несколько связисток. Среди них была Наташа, уже побывавшая раньше на фронте и уже «обстрелянная». Зайдя в землянку, Наташа завертела головой, потянула носом воздух и изрекла: «Мальчики, что-то у вас в доме не тот аромат?» Мы, конечно, не стали рассказывать о «приключениях» Андреева, но он сам просунул голову из-под плащ-палатки и изрек: «А у вас разве не бывает этого аромата?» Боевая и веселая Наташа звонко засмеялась и сказала: «Бывает, мальчики, если кто-либо выпустит втихаря!» Хохот покатился по землянке и пошли шутки- прибаутки! Жизнь продолжается.
Мы, радисты, с интересом рассматривали Наташу. Это была девушка среднего роста, стройная, светлые волосы, но особенно нас восхищала ее одежда — на ней была ладно сшитая гимнастерка, новая пилотка, короткая юбка, новый офицерский ремень и на боку — кобура с пистолетом «ТТ». Подробности ее фронтовой жизни мы не знали, но по какому-то праву ей было разрешено ношение пистолета, в то время как в роте такое оружие имели только офицеры. Ремень был затянут до предела, поэтому талию девушки, казалось, можно было обхватить пальцами.
Андреев же был тощ и высокого роста, тоже — светлые волосы, плотно примятые на голове, и когда он лежал на нарах, укрывшись плащ-палаткой, сверху вырисовывался его костлявый силуэт.
Зрелище было любопытное: в тесной землянке сидят в уголке принаряженные девушки, в другом углу — рация и мы, радисты, с наушниками на голове, а в «постели» лежит тощий Андреев! Кстати, ему почему-то всегда не везло: часто попадал в невинные истории, за что получал наряды вне очереди, со многими своими товарищами переругался. На лице его всегда была кислая гримаса, а смеялся он редко и как-то кисло.
Андреева я встретил в 60-х годах (он работал крановщиком на мощном, 25-тонном строительном кране). Мы обнялись, поприветствовали друг друга, вспомнили дела давно минувших лет. Он рассказал, что живет хорошо, есть семья, давно работает крановщиком, специальность освоил в совершенстве, заработок весьма высокий. Кроме заработка по основной работе, бывает «халтура». «И тогда, образно говоря, деньги стелют под гусеницы крана», — сказал Андреев. Я это тоже хорошо знал, ибо всю жизнь занимался строительством, ценность 25-тонного крана в любых ситуациях была высокой.
Помощником командира взвода был у нас старший сержант Афонин Василий Иванович. Мы его за глаза звали «Чапай». Это был франт, всегда подтянутый портупеей и офицерским поясом с планшеткой на боку. Сапоги у него всегда блестели, ибо чистил он их по несколько раз за день. По характеру это был душа-человек, веселый, общительный. Со взводом хорошо ладил, мы его уважали, но в то же время он был и «своим», как все бойцы. На руке носил огромные часы «Кировские», переделанные с карманных на ручные. В то время часы были редкостью, и у нас во взводе они были только у Василия Ивановича, да у командира взвода лейтенанта Борисова.
У Афонина с первых дней формирования роты завелась дружба, а затем и любовь со связисткой Шурой. По характеру она была под стать Василию Ивановичу — толстенькая хохотушка, среднего роста, розовые щеки, красивые ноги, светлые волосы. Шура часто приходила к нам в землянку с подружкой. Подружка мирно болтала с дежурившими на радиостанции радистами, а Василий Иванович с Шурой, за примитивной перегородкой, на нарах забавлялись своими делами, дружно хохотали, перекидывались шутками-прибаутками. Василий Иванович и Шура прибыли с Большой земли, ни тот ни другая блокады не знали, поэтому были на зависть жизнерадостны, веселы.
Мы же, радисты-доходяги, в это время мало думали о девушках. Хотя и были возможности поухаживать, но то ли по молодости, то ли из-за прошедшей голодной зимы относились к девушкам прохладно, шуры-муры не заводили и ограничивались короткими беседами в землянке или при встречах в роте.
Довоенное воспитание было довольно старомодным, не в пример нынешнему, «перестроечному», мы очень были стеснительными и скромными.
Я уже говорил о моем сближении с Астафьевым Николаем. Мы часто в связке «парой» ходили на задания в батальоны укрепрайона. Нельзя сказать, что это была дружба, но по каким-то признакам он «тянулся» ко мне еще в ЛШВРС, когда несколько раз угощал студнем, принесенным ему родственниками, жившими в Ленинграде. Здесь тоже, в Рыбацком, в Славянке, когда я шел на задание и нужен был напарник, всегда желание изъявлял Астафьев. Так мы с ним еще долгое время колесили в треугольнике Нева — Колпино — Славянка. Парень он был скромный, тихий, немногословен, одет опрятно. При своем высоком росте, с черными волосами на голове и бровях выглядел весьма привлекательно, однако знакомств со связистками не водил. Вскоре его перебросили на рацию в ОПАБ, и дальше пути наши разошлись, хотя иногда случайно встречались. А затем он вообще исчез. Только много позже, после войны, при встречах, организованных Советом ветеранов, я от Ефимова узнал, что Астафьев был несколько раз ранен и теперь живет в Ленинграде на Лиговском проспекте. По какой- то важной причине не участвовал во встречах, хотя приглашение ему посылали. Я все время собирался навестить его, но, как всегда у нас, русских, водится — «недосуг», не хватает времени. А потом мне сообщили, что Николай Астафьев умер. Так мы с ним и не повидались.
Здесь, в Рыбацком-Славянке, завязывалась наша фронтовая дружба с Алешей Чапко, Евгением Яковлевым, Сашей Григорьевым, Евгением Курнаковым, Исаем Дронзиным, Николаем Муравьевым, Алексеем Ефимовым, другими радистами. Так случилось, что мы вместе прошли бок о бок всю войну, и продолжали дружить и встречаться все послевоенное время. По мере воспоминания я попробую описать портреты этих ребят, а сейчас остановлюсь на самой яркой, на мой взгляд, личности — Николае Николаевиче Муравьеве, Он на год или два был старше нас всех (я уже писал, что все радисты были 1923 года рождения, имели среднее или незаконченное среднее образование). Выше среднего роста, с густой темной шевелюрой, худощавый, большая голова, глубоко сидящие глаза и очки. Взгляд у него был проницательный, в глазах светился ум. Пожалуй, во взводе он был самым мудрым человеком. На рации работал прилежно, но, что нас всех очень удивляло, так это его пристрастие к чтению книг и писанина дневников. Мы никак не могли понять, как этот человек в условиях войны, непрерывных бомбежек и обстрелов, постоянных лишений и заботах о хлебе насущном в весьма редкое свободное время что-то читает и пишет. Его писанина для нас была загадкой. Коля Муравьев был человеком скрытным и мало распространялся о своих записях. Если кто настойчиво приставал, он отвечал: «Делаю замечания о прочитанном». Где он доставал книги для чтения — остается загадкой для меня и сейчас. Ходил он в Рыбацкое и Славянку, общался с весьма редкими жителями этих поселков и там, видимо, брал книги для чтения.
Однажды нас всех поразило его предложение: в Славянке продают богатую библиотеку, там есть почти все русские классики — Л. Толстой, А. Чехов и т. д. Коля Муравьев предлагает собрать со всех деньги и купить для взвода хотя бы часть книг. Многие отнеслись к этому весьма скептически, но некоторые горячо его поддержали. Деньги по тем временам по сути были обесценены, так как основным товаром была еда, все же остальное стоило, по сравнению с продуктами, копейки. Можно было килограмм хлеба обменять на картину Айвазовского.
С Рыбацкого-Славянки иногда человека посылали с командиром в Ленинград по делам сугубо ротным. Кто попадал в такой вояж, пытался использовать эту командировку для посещения своего дома. Коля Муравьев в одну из таких командировок прихватил из дома приличную сумму денег. Его родители жили в деревянном жилом доме на Крестовском острове, на берегу Невки у самой стены стадиона «Динамо». Каким образом им всю блокадную зиму 1941–1942 годов удалось держать в хлеву возле дома корову — уму непостижимо. Отец Николая по сути жил всю зиму вместе с коровенкой в хлеву и охранял свое чудо от голодающих. Почти каждую ночь предпринимались попытки бандитов проникнуть в хлев, и надо было обладать недюжинными способностями, дабы отстоять свою «собственность». Уже много позже после войны отец и мать Коли Муравьева рассказывали о страхах и изнурительной борьбе за сохранность коровенки. Видимо, отец Николая сумел в парке Крестовского острова накосить достаточное количество сена, чтобы продержать зимой в хлеву корову.
В ЛВШРС я с Колей не встречался, но в Рыбацкое он прибыл выглядевшим намного лучше нас, так как ему из дому во время голода была существенная поддержка. Об этой интересной семье я постараюсь потом, как-нибудь, более подробно рассказать. Теперь же моя цель — как можно подробнее вспомнить военное время.
Так как деньги не ценились, о чем я уже говорил, то нужную сумму для покупки книг довольно быстро собрали. Лично я в это время этим делом не интересовался, но ради «компании» тоже внес какую-то сумму. И вот у нас в землянке появились огромные кипы книг. Коля Муравьев продолжал их «глотать», да и кое-кто из ребят на досуге пристрастился к чтению. Муравьев же продолжал распалять интерес однополчан к своей писанине. Особенно разбирало любопытство Женю Яковлева. В отсутствии Николая он все время заводил разговор на эту тему: «А что это Муравьев все время пишет?» Здесь надо отметить еще такую деталь. По части разговоров на политические темы каждый понимал, что язык надо держать за зубами. Хотя все мы были не такими уж верными ленинцами-сталинцами, но каждый знал о возможных последствиях за болтовню на политические темы, ибо тридцать седьмой год все помнили хорошо.
Коля Муравьев часто допускал весьма смелые по тем временам мысли, и мы все боялись за него, не попал бы он в штрафной или под трибунал. Возможно, эти соображения и подтолкнули Женю Яковлева в отсутствии Муравьева проникнуть в его мешок, который он прятал в самые темные углы землянки. Вытащив его дневники, он прочел их. Затем заговорщически сообщил нам о том, что все мы можем «погореть», ибо Коля Муравьев пишет о каждом из нас и обо всех наших «похождениях». Решили прочитать записи вслух (естественно в отсутствии автора), дабы оценить их «криминальность». Действительно, в дневниках Коля весьма подробно, как на самом деле было, описывал наши бытовые дела, «похождения», давал яркие портреты сослуживцев. Особенно несколько предвзято описал Женю Яковлева, о том, как Женю родители учили жить для «себя» и тому подобное. Обо мне в дневниках он отзывался ни плохо, ни хорошо, весьма правдиво: я действительно был малоотесанным, деревенским парнем, веселого характера, независимой натуры, хулиганистым.
Но главную тревогу у нас вызвало то, что в дневниках описывались некоторые наши довольно опасные, с точки зрения наших командиров, деяния. Например, «походы» через речку Славянку на капустное поле и другое. Женя Яковлев безапелляционно потребовал согласия у всех на уничтожение дневников путем сожжения их в печурке. Некоторые искали другие пути, доказывая, что для Муравьева такое будет тяжелым ударом и предлагали просить его изъять из дневников «криминальные» моменты. Но голосованием решили — дневники сжечь и открыто об этом сказать Муравьеву, Тут же, в «торжественной» обстановке предали их огню, а когда вернулся Николай, ему сказали о принятом вердикте.
Конечно, для него это был удар — погибли многомесячные дневниковые записи. Несколько дней он был мрачен, ни с кем не разговаривал, а затем все заметили, что он снова что-то пишет. Тайно установили контроль за его записями. Помню, меня тогда поразила его память, за короткое время он восстановил все прежние записи. Правда, «криминал» он выбросил, а портретные характеристики окружающих давал весьма умеренно, дабы не вызвать обиды у своих товарищей. Думаю, что Коля считал неизбежным «контроль» его товарищей за дневниковыми записями, ибо во фронтовых условиях упрятать дневники невозможно. Сначала он прятал их на груди под гимнастеркой, однако ребята тоже не лыком шиты, в любых условиях умудрялись читать его записи. А затем он и вовсе не стал их прятать, зная бесполезность этого. Таким образом, как сейчас говорят, установился «консенсус»: Коля писал, мы скрытно читали и не препятствовали в дальнейшем его занятию. Писал он дневники всю войну, каким-то образом переправлял их в Ленинград родителям, а после войны написал огромные труды, но, к сожалению, они нигде не опубликованы.
Нам предстояло перебазирование в Понтонную, поэтому библиотеку разделили на двух или трех человек, пожелавших переправить книги в Ленинград. Коля Муравьев забрал львиную долю, и каким-то образом переправил ее домой. Меня же это все мало интересовало, я лишь удивлялся, что люди занимаются «чепухой». После войны, бывая часто в доме Муравьевых, я видел огромные шкафы книг высотой 4 метра (квартира в старинном доме-коттедже). Конечно, книги из Рыбацкого-Славянки составляли в этой огромной библиотеке мизер.
Наше житье-бытье в землянках на крутом берегу реки Славянки, вблизи одноименной железнодорожной станции, осталось в памяти еще и потому, что здесь мы, блокадники, еле-еле восстановили свои силенки, немного «отошли» от жестокого голода. Я уже говорил, что чувство голода нас преследовало еще долго, вплоть до вступления в пределы Эстонии, но все же мы стали полноценными бойцами в смысле физического состояния, стали забывать слово «доходяга».
Если ехать из Ленинграда в Понтонную по проспекту Обуховской обороны, а затем по Рыбацкому проспекту, у моста через реку Славянку есть памятный знак в виде железобетонной глыбы с небольшой металлической плитой, на которой имеется текст о том, что на этом рубеже держал оборону города 14-й укрепрайон. Теперь здесь построены огромные жилые корпуса, и этот памятный знак выглядит совсем незаметным. В то военное время здесь стояла деревня, строения которой были приспособлены под военные нужды.
Наши вояжи от реки Славянки в район обороны продолжались постоянно. Нити связи тянулись в батальоны укрепрайона и мы исходили все это пространство вдоль и поперек.
Передислокация штаба укрепрайона в «Красный Кирпичник», а нашей роты связи в поселок Понтонный (рядом с «Красным Кирпичником») произошла в то время, когда я находился в одном из ОПАБов, поэтому мне не пришлось участвовать в этой суете.
Итак, прощай Рыбацкое, прощай Славянка! Встретимся мы с вами лишь после войны!
* * *
Был солнечный, летний, теплый день. Буйная трава покрывала все пространство поселка Понтонный. Только частые воронки от взрывов снарядов портили прекрасный летний пейзаж. Да неприятно зияли пробоины в стенах кирпичных домов. Редкие деревянные домишки в полуразрушенном состоянии сиротливо маячили на горизонте.
145 ОРС плотно окопалась на берегу маленькой речушки. В глубоко зарытых землянках, с многоярусными бревенчатыми накатами, располагались взводы и все службы части. В небольшом отдалении от других располагалась землянка командира роты майора Мошнина.
Высокого роста, немного сутулый, с умными и пронзительными глазами, всегда опрятно одетый, подтянутый, волевой и властный майор был грозой роты. Его все побаивались. Железной рукой он наводил порядок в части. Не терпел разгильдяйства и нарушений дисциплины, ревностно следил за внешним видом бойцов своей части. За проступки наказывал безжалостно. Никто не видел улыбки на его лице.
О его педантичности можно судить по такому случаю. Однажды, будучи в наряде, я стоял часовым у штаба роты. Скоро должен был идти в штаб майор. Зная это, я внимательно следил за обстановкой на территории роты, добросовестно выполнял указания начальника караула. Заметив вдали идущего к штабу майора, подтянулся, осмотрелся. Когда Мошнин поравнялся со мной, я его поприветствовал по-ефрейторски. Кстати, по уставу приветствие по-ефрейторски (выброс руки с винтовкой в сторону) полагалось только полковнику и чинам выше по званию. Но по какому-то неписаному закону все часовые роты приветствовали майора тоже по-ефрейторски. Часто у меня возникала озорная идея приветствовать его обычно, по стойке «смирно». Но всякий раз я все-таки выкидывал руку с винтовкой вправо. Вот и в этот раз я с подъемом и лихостью поприветствовал майора, впялившись глазами в его лицо. Но что это? Майор останавливается, поворачивается ко мне лицом, поднимает руку, и указательным пальцем показывая на меня, произносит:
— Трое суток гауптвахты!
Разворачивается и уходит в помещение штаба. Я довольно спокойно принял его слова, ибо у меня до этого много было озорных проступков, поэтому подумалось, что майору, видимо, доложили и он наказал меня.
Через несколько минут прибегает начальник караула, наш помкомвзвода Василий Иванович, сменяет меня на посту другим бойцом, снимает ремень с пояса, забирает винтовку.
— Пошли! — И ведет меля на гауптвахту.
— Слушай, за что мне трое суток?
— Хрен моржовый, что же ты лямку противогаза не заправил под лацкан шинели? Нарушение формы одежды — вот тебе и трое суток! Посидишь — другой раз будешь умнее, будешь следить за собой!
Гауптвахта — та же, отдельно стоящая, небольшая землянка, с двухъярусными нарами для отдыха двух человек. В землянке примерно на полметра на полу вода — здесь, видимо, давно никто не сиживал. Дело было летом, поэтому такая обстановка на губе меня нисколько не расстроило. Забрался на верхние нары, лег на спину, стал рассматривать бревна наката потолка, задремал. Время было послеобеденное, а ужина на гауптвахте не положено, поэтому я приготовился к весьма неприятному факту — лечь спать без ужина.
Еще хочу напомнить читателю — еда была весьма важным фактором для всех нас со дня блокады Ленинграда и вплоть до вступления на территорию Эстонии. Скажу прямо, все это время мы влачили полуголодное существование. Иногда удавалось наполнять брюхо до предела, уже в рот не лезла никакая пища, а есть все равно хотелось! Но и после блокады нас не баловали питанием. 800 граммов хлеба — дневную пайку — я съедал сразу, утром, после ее выдачи на руки. Остальной приварок был весьма скудный, никогда не удовлетворял наши дистрофичные потребности.
Достать что-либо дополнительное, кроме положенного пайка, было невозможно, кругом и везде были следы блокады. Офицеры получали дополнительный паек, многие из них делились этим пайком с солдатами. Но общая ситуация с питанием была трудная.
Майор любил при благоприятных обстоятельствах устраивать подобие «вечеров отдыха». Здесь, в Понтонной, в полуразрушенном от бомбежек и обстрелов доме, была оборудована «столовая», где повар Пашка кормил нас приготовленной едой. Окошечко кухни выходило в небольшой зальчик, через эту амбразуру он выдавал нам котелки с пищей, и в этом зальчике мы ее съедали. В этом зальчике и проходили так называемые «вечера отдыха».
Майор усаживался у стены на табуретке, внимательно следил за танцующими, а сам никогда не танцевал. Под гармошку пары весело крутили вальс, танго, фокстрот. Вот и сегодня проходил такой «вечер танцев». Проходил он вяло и скучно для майора, поэтому лицо его было хмурым и не веселым.
Тут я должен, не хвастаясь, сказать, что на подобных «вечерах танцев» я играл заметную роль. По мере своего повествования, я буду часто упоминать танцы, ибо вся моя жизнь, начиная со студенческой скамьи, пронизана страстью к танцам — танцам групповым, а не танцу одиночки. Не передать чувство, которое испытываешь в танце. Иногда при хорошей обстановке, приятной музыке, подвижной партнерше в танце наступает такое ощущение, словно ты оторвался от пола и паришь в воздухе!
Этот душевный подъем, видимо, передается и другим танцующим, они начинают интенсивнее двигаться, вытанцовывать пластичные «па», танцующая публика оживляется, а зрителям приятно наблюдать счастливых людей!
Я лежал в сырой землянке на верхней полке нар, весьма был опечален тем, что лишился ужина и танцев — двух моих любимейших действ. Вдруг дверь землянки с треском раскрывается, в проем всовывается голова Леши Чапко и он кричит:
— Васька, вставай быстрей и гайда на танцы. Майор приказал привести тебя в столовую, дабы ты танцевал!
Я быстро сообразил, в чем дело: без меня «танцы» идут вяло, нужен заводила, своеобразный «мотор».
— Леша, скажи майору, что я голоден, поэтому танцевать буду плохо.
Охраны гауптвахты никакой не было, мы с Лешей выбрались из землянки и направились на танцы. Леша подошел к майору, доложил ему что-то, я не слышал, так как стоял у входа. Вернувшись ко мне, он сказал:
— Майор приказал накормить тебя и сказал, чтобы ты сменил обмотки на сапоги.
Пока Пашка собирал остатки ужина с котлов, я мигом побежал в свою землянку, размотал обмотки на ногах, сменил обувь на хромовые сапоги (историю хромовых сапог поясню ниже) с «гармошкой», забежал к Пашке, проглотил приготовленный им «ужин» и с хорошим настроением, улыбкой и высоко поднятой головой явился на танцы. Гармонист крутил фокстрот, я подхватил сидевшую в стороне Тамарку Антонову и «гамбургским стилем» пошел по кругу, выделывая ногами замысловатые кренделя. Боковым взглядом наблюдаю за майором. Он заметно оживился, как будто промелькнуло на его лице подобие улыбки. Это меня еще больше подстегнуло, и я танцевал весь вечер с большим вдохновением. Вечер закончился хорошо — ни обстрелов, ни бомбежек не было, все танцующие с разгоряченными лицами и улыбками расходились по своим землянкам.
После танцев майор подозвал к себе и сказал:
— Ишь ты, на танцы так в хромовых сапогах пришел, а на пост одеваешь обмотки!
Я повинно наклонил голову и промолчал. Наказание было отменено, и я вернулся в родной взвод. Ребята встретили с шутками-прибаутками. Печка-буржуйка излучала тепло, в землянке было по-домашнему уютно.
А история с хромовыми сапогами такова. В последний приезд на студенческие каникулы из Ленинграда в Василевичи, в Белоруссию, на свою Родину, мать сделала мне подарок. Заказала у сапожника Келюса сапоги. Дома были в наличии голенища, и сапожник по размеру моих смастерил отличные хромовые сапоги. Я их привез в Ленинград, но одевал редко, ибо сапоги были не в моде. Хранились они в квартире отца — Афанасия Степановича, и после моего призыва в Красную Армию сапоги так и остались там. После голодной зимы 1941–1942 г., летом я в команде из нескольких бойцов был направлен в Ленинград за получением радиостанции. Мне удалось на минутку забежать к отцу, и в этот раз я прихватил с собой сапоги и патефон. Эти две вещи были для меня огромным достоянием, ребята бережно прятали патефон, переносили и перевозили его очень осторожно, боясь попортить. Патефон стал предметом коллективного пользования и коллективной заботы о нем.
Хромовые сапоги у рядового мозолили офицерам глаза, боясь, что их отнимут, я прятал в самые потаенные места, одевал их лишь на танцы, да и то не всегда. Однажды, просушивая сапоги на печке-буржуйке, я не углядел и задник у одного сапога прогорел. Кое-как я его залатал собственными силами, и сапоги послужили мне еще долгое время.
В войну многие офицеры обзаводились подружками. Их звали «ппж» — походная полевая жена. Многие пары стали потом мужем и женой, сохранив семьи до конца жизни. Так, командир 145 ОРС, сменивший Мошнина — капитан Горбачев сошелся во время войны с начфином роты Татьяной, всю войну они прошли вместе, дожили до «перестройки». И таких примеров много, даже если судить по нашей части.
Майор Мошниц тоже имел «ппж» — Сашу Потапову. Высокая, средней полноты шатенка, с круглым миловидным лицом, усыпанным небольшими веснушками. Саша не считалась красавицей, но спокойный, рассудительный характер придавал ей определенную привлекательность. Саша всегда мило улыбалась, никогда и ни на кого не повышала голос, была дружелюбной со всеми, не имела врагов. В роту ее, кажется, откуда-то перевел Мошнин. Числилась она в линейном взводе, но фактически выполняла роль «хозяйки дома» у Мошнина.
К нам в роту из детдома был направлен несовершеннолетний Виктор Сафронов. В это время входило в традицию такое явление, как «сын полка». Именно такое положение и занимал в части Сафронов. Видимо, детдом избавился от трудного подростка, передав его на воспитание солдатам. И вот Виктор, парень лет 16 или 17, среднего роста, немного курносый, с маленькими глазами, наголо остриженный, тощий, с некоторой неряшливой наружностью, стал равноправным бойцом нашей части.
Честно говоря, мы, радисты, недолюбливали Сафронова, хотя он сам старался с нами наладить дружбу.
У землянки, где располагался Мошнин, был установлен ночной пост. Вход в землянку находился со стороны речки, и Сафронов, будучи в наряде часовым у землянки командира части, с винтовкой за плечом отшагивал 40 метров вдоль берега речушки туда и обратно. Он видел, как поздно вечером в дверь к майору проскочила Саша Потапова. В полночь Сафронов взобрался на верх землянки и приложил ухо к металлической дымовой трубе. Что могли услышать уши молодого парня, сказать трудно. Вполне возможно, что Сафронов подслушал что- то интимное, но если бы он не сделал услышанное достоянием роты, все обошлось бы нормально. Витя же был языкастый, начал трепаться о своих впечатлениях от ночного бдения:
— Гоп, гоп, гоп — у-у-у-х-х! — красочно рассказывал Сафронов в своем взводе о звуках, услышанных им в дымовой трубе из землянки майора Мошнина. Рисовал еще разные подробности, возможно, привирая для эффектности. Бойцы слушали и раскатисто хохотали.
В ста метрах от крайнего ряда землянок располагался ротный туалет. Невзрачное строение из досок с корой, на одной двери «М», на другой «Ж». Сзади уборной — приличный котлован, укрытый такими же необрезными досками. Днем меня на радиостанции сменил Леша Чапко и я пошел в туалет. И вдруг вижу такую картину. Яма за туалетом вскрыта, и Сафронов черпаком на длинной рукояти черпает из ямы содержимое и наливает в ведро.
— Витя, ну а как гоп, гоп, гоп!.. — весело из-за туалета приветствую я Сафронова.
— Пошел на хер! — только и ответил он. Оказывается, ему дали вне очереди два наряда, в том числе очистить сортир. Больше Сафронова у землянки майора часовым не ставили.
* * *
Штаб 14-го укрепленного района расположился в поселке «Красный Кирпичник», рядом с поселком Понтонный. Здесь до войны был кирпичный завод, огромные печи для обжига кирпича с толстенными сводами стали прибежищем для штабных служб. Отсюда осуществлялось руководство боевыми действиями входивших в состав УРа отдельных пулеметно- артиллерийских батальонов, державших оборону Ленинграда от Невы до г. Пушкина.
Противник; очевидно, знал о расположении штаба укрепрайона, часто бомбил и совершал артиллерийский обстрел всей территории поселков Понтонная, Саперная, «Красный Кирпичник».
В этот день из роты связи в штаб укрепрайона отправлялась на дежурство сборная команда со всех взводов, человек четырнадцать. Женя Яковлев и я должны были сменить на радиостанции радистов.
Под командой сержанта Xворова мы нестройными рядами, парами двинулись по знакомой тропе в штаб. Как только вышли на окраину поселка, по нас обрушился настоящий град снарядов, за время всей войны я больше такого плотного обстрела не видел. Снаряды рвались вокруг с такой интенсивностью, что в сплошном реве и всплесках огня ничего нельзя было понять.
Все бойцы уже не раз бывали в артобстрелах. При первых же звуках приближающихся снарядов мгновенно прижимались к земле. Я оказался рядом с сержантом Хворовым. Снаряды рвались буквально в нескольких метрах от нас, осколки противно свистели над головой. Руками вцепившись друг в друга, и он, и я беспрерывно повторяли:
— Лежи, лежи, не ворошись!
Были слышны крики лежащих рядом бойцов, некоторые не выдерживали и пытались приподняться и куда-либо сдвинуться с места. Эти секунды и были роковыми для тех, у кого не выдерживали нервы.
Огонь так же внезапно прекратился, как и начался. Еще несколько секунд мы прислушивались к наступившей тишине. Затем я поднялся с земли и увидел страшную картину: несколько человек лежало без движения, другие — ранены. Аня Погост лежала ничком, лицом в канаву с водой. Я повернул ее лицом и увидел большую дыру во лбу. Аня была мертва. Схватившись за ногу, сидела на земле Ольга Муравьева, родная сестра моего друга Николая Муравьева, и громко стонала. Я подскочил к ней и увидел глубокую рану в голени ноги. Выхватив из сумки противогаза индивидуальный перевязочный пакет (такие пакеты в обязательном порядке имели все бойцы), стал бинтовать рану на ноге Ольги. В это время из роты уже бежали с носилками наши санитары. Результат артобстрела оказался весьма печальным — четыре человека убиты, четыре — ранены. Погибла подруга Александры Потаповой, красавица… и еще две девушки из линейного взвода. Таня Елисеева ранена в щеку, осколок пробил щеку и застрял во рту. Уже после госпиталя Таня шутила:
— Я была как подопытная собачка у академика Павлова, когда хотела есть, слюна текла через дырку в щеке.
— У Гали Удаловой осколок снаряда прошел над головой так близко к коже, что сбрил верхушку волос на макушке и она отделалась легким испугом.
Никто из мужчин не пострадал. Женя Яковлев успел свалиться в канаву с водой и по воде выползти из зоны обстрела. Нас с Хворовым спасла выдержка — мы за время обстрела не шелохнулись, вжавшись в землю.
На второй день состоялись похороны убитых, их похоронили в Усть-Ижоре на военном кладбище. Я на похоронах не был, дежурил на радиостанции.
В «Красном Кирпичнике», где располагался штаб укрепрайона, землянка радистов была оборудована возле карьера, где когда-то копали глину для изготовления кирпичей. Сейчас карьер был заполнен водой на порядочную глубину. У нас появилось чувство, что в карьере водится рыбка. Долго мы искали способы, как поймать рыбу, наконец, нашли какие-то куски сетки, то ли маскировочной, оставшейся от артиллеристов, укрывавших ими свои орудия, то ли брошенные довоенные. Кое-как смастерили бредень и, раздевшись догола, затянули его вдоль карьера. О радость! С первого же захода в сетке оказалось несколько карасей размером 15–20 сантиметров. Потрудившись изрядно в карьере, мы вечером сварили приличную уху, в условиях полуголодной жизни в роте это была прекрасная добавка к нашему скудному пайку.
Рыбалка наша продолжалась несколько дней, пока про нее не пронюхали разные ординарцы и порученцы из штаба УРа. Однажды они нагрянули в нашу землянку, когда в ней отсутствовали наши крепкие ребята, дежурили на рации Малек и девушка-радистка. Штабные «лакеи», как мы их называли, изъяли бредень и унесли к себе. На второй день, как только узнали о потере бредня, мы обсудили в радиозаводе ситуацию и решили любым способом отобрать свой бредень. Долго выслеживали где наш бредень. Однажды увидели, как штабники ловят в карьерах карасей. Незаметно подкравшись к ним, мы как коршуны налетели на «рыбаков», быстро отобрали бредень и убежали в кусты. Надежно спрятали сети в укромном месте и вернулись на рацию.
Вечером из оперативного отдела штаба в землянке появляется майор:
— Вы кто, радисты или рыбаки?
Мы молчали, уткнувшись в рацию.
— Вот что, бредень сегодня доставить ко мне в оперативный отдел, иначе вам будет плохо.
И ушел. Через некоторое время на рацию по телефону из роты позвонил командир радиовзвода Борисов.
— Немедленно снести бредень в оперотдел штаба! — прозвучал в трубке его стальной голос.
Делать было нечего, и мы выполнили приказ. Больше мы своего бредня не видели, а о рыбке вспоминали всю жизнь, даже на послевоенных встречах ветеранов.
* * *
Ночь была тревожной. В полосе расположения 261 ОПАБа, под Ям-Ижорой, немцы пытались переправить через линию фронта свою разведку и навязывали батальону бой. Проводная связь с батальоном несколько раз за ночь выходила из строя, и мое ночное дежурство на радиостанции было на пределе: беспрерывно стучал ключом и принимал радиограммы. Работа вымотала все силы, и когда к утру все атаки немцев были отбиты, закончилось мое время дежурства на рации.
Пришла новая смена, и я вернулся в роту. Немного поспал, но нервное ночное напряжение давало знать, и я вышел из землянки. Встретил помкомвзвода Василия Ивановича Афонина.
— Знаю, досталось тебе сегодня ночью, разрешаю прогуляться вокруг территории роты. Пройдись, отдохни.
Медленно я побрел вдоль берега речки, подошел к огромному полю, где росла капуста. Ядреные кочаны блестели на солнце. Еще прошел немного по капустной меже и присел на травку. Вытянулся на спине, глазам предстало бездонное синее небо. Так я лежал в траве и наслаждался теплом, солнцем, небом и этим прекрасным днем.
И черт меня дернул польститься на капусту. Рядом стоял кочан размером в десяток сантиметров. Я вытащил его вместе с корнем, обрезал ножиком хряпу, а небольшой кочанчик тут же съел. Не успел я запрятать корешки и листья капусты, как неожиданно, словно из-под земли, передо мной появился майор Мошнин с каким-то солидным гражданским человеком. Свидетельство моего преступления лежало на поверхности, скрывать что-либо или оправдываться было бесполезно. Я стоял перед ними с опущенной головой. Гражданский с укоризной сказал:
— Эта капуста выращивается для работников фанерного завода. Они такие же блокадники, изголодавшиеся люди, ждут не дождутся, когда вырастут кочаны.
Майор тоже что-то мне выговаривал, но от стыда я ничего не слышал. Закончилась эта история десятью сутками гауптвахты со строгим режимом, то есть с ограничением питания.
Уже после войны, работая в Ленинградском областном комитете КПСС, в отделе строительства, я как-то встретил директора фанерного завода Ботвинника. Узнал, что во время войны он тоже был директором этого завода в п. Понтонном. Я спросил его, не помнит ли он капустное поле в первое послеблокадное лето?
— Как же, как же, конечно помню. Капуста наш коллектив здорово выручила. Каждый работник получил по мешку кочанов, а в то время это было огромным подспорьем к скудным продуктам, выдаваемым по карточкам.
Я ему рассказал свою историю с кочанчиком капусты, срезанным мною.
— Ну, тогда таких случаев было много. Кругом солдаты, и нам приходилось бдительно охранять капустное поле. Но майора Мошнина помню, я с ним сотрудничал, кое-чем он помог заводу — грузовичок выделял, проводочков подкинул.
* * *
Радиовзвод обеспечивал связь в частях укрепрайона в основном на радиостанциях средней мощности РБ и РБМ, что это значило? «Рация батальонная, модернизированная». Паспортная мощность их составляла до 100 километров. Так как части укрепрайона дислоцировались в пределах расстояний, равных мощности раций, то мы постоянно обеспечивали устойчивую радиосвязь в нашем соединении.
Укрепрайон подчинялся штабу Ленинградского фронта, однако оперативно входил поочередно в состав 55, 42, 67 армий. Полевые части этих армий больше месяца не находились в зоне укрепрайона, часто сменялись новыми, наши же ОПАБы постоянно, годами держали оборону на закрепленных за ними участках фронта. Специалисты роты связи постоянно колесили из батальона в батальон, хорошо знали весь комсостав ОПАБов, до мельчайших подробностей изучили рельеф, «флору и фауну» всей прифронтовой полосы. Полевые провода были протянуты во все точки обороны, сеть их исчислялась сотнями километров и эту сеть связисты обязаны были держать в боевой готовности. Обрыв провода, потеря связи — ЧП, немедленно принимались меры к ее восстановлению. Ни дождь, ни слякоть, ни гроза, ни ураганный огонь немцев не могли быть причиной задержки выхода бойцов на линию.
Основная работа бойцов радиовзвода — дежурство на рациях, обеспечение радиосвязи. Это — в обороне. Когда же начиналось наступление, все подчинялось единой задаче: связь любой ценой. Свободные от дежурства радисты, а это в основном мужики-парни, шли с катушками полевого провода в пекло боя, чинили порванные от обстрела и бомбежек провода, ходили посыльными с донесениями в батальоны и роты, а в случае прорыва линии фронта — брались за винтовки и ложились рядом с бойцами ОПАБов, отбивали атаки врага.
Не помню, как это получилось, но мне часто приходилось работать с Николаем Астафьевым. Вот и на этот раз получили задание отбыть в 72-й Ижорский ОПАБ, заменить там убитых радистов. Пробраться в Колпино, где располагался штаб этого батальона, можно было по довоенной асфальтовой дороге. Но она беспрерывно обстреливалась, и здесь были большие потери в частях, использовавших эту дорогу. Во всяком случае, наши бойцы из других взводов редко пользовались этой дорогой, а передвигались окольными путями. Мы тоже решили двигаться ими. Получив продукты питания, патроны, гранаты и все необходимое, двинулись в Колпино. Узкая, извилистая грунтовая дорога петляла между железнодорожными путями, мостами, разбитыми строениями. Несколько раз вблизи грохнули разрывы снарядов. Повсюду валялись разбитые автомашины, повозки, лафеты орудий. В зданиях ни одного целого окна, зияли пробоины в стенах словно решето. Однако везде чувствовалась жизнь — вся земля нашпигована расположившимися повсеместно частями. Каждый клочок земли был освоен солдатами. В каком-то узком проулке, между двумя огромными заводскими стенами, нас настиг интенсивный артобстрел. Осколком снаряда Астафьев был ранен в колено правой ноги. Мы перевязали рану, к счастью, она оказалась небольшой (осколок срезал кусок ткани с колена). Однако передвигаться самостоятельно мой товарищ не мог. Возникла проблема, что делать — возвращаться в роту или добираться до батальона? Решили идти в батальон. Держась за мою шею, Астафьев медленно ковылял по дороге. Весь его груз я переложил на свою спину. Еле-еле мы добрались до батальона, в санчасти Николаю обработали рану, и мы поочередно стали работать на рации в Ижорском батальоне. Рана Николая заживала долго и мучительно, еще много раз ее чистили и промывали наши местные медики, а Астафьев, прихрамывая, продолжал нести службу.
Еще у нас в части была более мощная радиостанция — РСБ, если расшифровать эти три буквы — «рация самолета бомбардировщика». Располагалась она в фургоне автомашины ГАЗ. Если РБ и РБМ питались от сухих батарей, то для питания РСБ существовал бензиновый движок и как запасной — ручной «движитель», то есть двумя ручками, вперед-назад, надо было раскрутить вручную динамомашину, которая подавала ток на рацию, Пока радист передает радиограмму, второй боец работает двумя руками, сидя как на велосипеде на специальном приспособлении и крутит динамомашину.
Работа на РСБ давала некоторые преимущества для радистов. Во-первых, передвигались они всегда на автомашине, кроме того, в фургоне можно было иметь дополнительные вещи, которые не существуют у радистов, работающих на РБМ. РСБ обеспечивала связи укрепрайона со штабами Армии и Ленфронта, и здесь радисты узнавали первыми о новостях. В фургоне РСБ ребята часто прятали мой патефон и хромовые сапоги.
* * *
Каждую ночь, тихо и незаметно в зону обороны УРа прибывали все новые и новые воинские части. Они занимали свободные участки земли, здания и сооружения, окапывались, устанавливали орудия, пулеметы, минометы, «катюши», «ванюши». Чувствовалось, что готовится большое наступление. Кстати, наступлений наших было великое множество. К каждому празднику: День Советской Армии, 1-е мая, 7 ноября, новый год и другим — всегда было наступление. Шли тяжелые бои, мы несли огромные потери, а результат был нулевой. Мы продвигались на сотню-другую метров, а затем нас отбрасывали обратно. Читая сводки Совинформбюро, мы завидовали другим частям, занимавшим города и села, а тут бились напрасно, не имея никаких успехов. В сводках значилось: «На Ленинградском фронте шли бои местного значения». Вот почему и на этот раз подготовка к наступлению была для нас рядовым событием. Но что-то, шестым чувством, угадывалось необычное и вызывало тревогу. Вскоре меня и еще одного радиста перебросили с рацией совсем близко к передовой — в землянку, оборудованную в центре Колпинского кладбища.
Если ехать поездом из Ленинграда в Москву, сразу после станции «Колпино» есть небольшой железнодорожный мост через реку Ижору. За мостом, слева по ходу поезда, кладбище на высоком берегу реки. За кладбищем, в нескольких сотнях шагов шла линия обороны.
Вот на этом кладбище и расположились мы с рацией в небольшой землянке. Растянули по земле антенну, подключили питание, установили связь со штабом укрепрайона и батальонами. Стали ждать дальнейших событий, и они не замедлили придти.
Рано утром началась до сих пор невиданная нами артподготовка и бомбежка немецких позиций. Я вышел на землянки, взобрался на бугорок и оглянулся кругом. Когда смотрел в сторону Ленинграда — горизонт покрылся сплошными огоньками. Это били по врагу все калибры нашей артиллерии. Стоял сплошной грохот и гул. Даже из города корабли Балтийского флота посылали гостинцы немцам. На станцию Колпино притянули на железнодорожных платформах длинноствольные орудия большого калибра и они палили с таким азартом, что от вспышек глаза болели и уши закладывало.
Посмотрел в сторону немцев — там творилось что-то невообразимое. Взрывы слились в один огромный постоянный взрыв, казалось, земля вся ушла в небо. На высоту нескольких сот метров затянуло горизонт сплошным дымом. Наша авиация в это утро беспрерывно наносила бомбовые удары по позициям фрицев. Штурмовики-бомбардировщики, подлетая со стороны Ленинграда к передовой, уже над Колпино открывали огонь из всех своих пушек и пулеметов, трассирующие линии вились над головой. Мой скромный талант бытописателя не позволяет эмоционально и художественно воссоздать картину боя, но это величественное зрелище. В душе возникает какое-то возвышенное чувство, близость больших и важных событий.
Вскоре над кладбищем завязался воздушный бой истребителей, наших и немцев. Наблюдать воздушный бой, да еще нескольких десятков самолетов, занятие весьма впечатляющее. Такие бои описаны во многих трудах, и я не сумею передать картину боя.
Вернулся в землянку и стал помогать партнеру в работе на рации. Вдруг раздался такой силы взрыв, что нашу землянку встряхнуло, отовсюду посыпалась земля, рацию и нас завалило песком, мы склонились ближе к полу. Я выскочил наружу, и тут предстала невероятная картина. В бою был сбит наш самолет и он при падении врезался в высокий берег речки в нескольких метрах от нашей землянки. Но никакой воронки и самолета не было. На месте падения и на льду речки валялись и дымились мелкие части самолета, такие мелкие, что буквально нечего было собирать, самолет превратился в пыль.
Летчик успел выброситься на парашюте и теперь медленно приближался к земле. Хотелось побежать к месту приземления, но тут снова меня окликнул напарник и я вернулся в землянку принимать и передавать радиограммы.
Три часа длилась артподготовка и бомбежка, а затем началось наше наступление. Вдоль железнодорожного полотна рванулись танки, за ними пошла пехота. Начался штурм немецких позиций, проходивших примерно на середине между Колпино и Красным Бором. В истории Великой Отечественной войны все это называлось «Красноборская операция».
Был тяжелый бой. Несколько дней наши части прогрызали оборону противника. Положение осложнялось тем, что передовая линия наших войск проходила по болоту, окопов рыть нельзя, стояла сплошная вода, поэтому вся передовая состояла из так называемых наземных окопов, выложенных на высоту человеческого роста из дерна и земли. По такой системе была построена наша и немецкая оборона.
Хотя была зима, болото плохо подмерзло, и танки, и артиллерия вязли в провалах, их прямой наводкой расстреливали немцы. Кровавое было это наступление. Сплошным потоком потянулись в тыл раненые, одни шли сами, других несли на носилках или вывозили на телегах.
Однако метр за метром наши войска продвигались вперед, неся огромные потери. Вот уже бои завязались на окраинах поселка Красный Бор. В землянку буквально вваливается комвзвода Борисов.
— Кто свободный от дежурств на рации? — спрашивает он.
— Я — отвечаю ему.
— Давай быстро за мной, возьмешь катушки провода — и в Красный Бор. Приказано пробросить дополнительную линию связи в Красный Бор, там передовой пункт штаба укрепрайона.
Более двух суток я не спал. Кое-кому, возможно, покажется невероятным, но это так: с наушниками дни и ночи сидел за рацией, все понимали — идет наступление, от тебя многое зависит, тут не до сна!
С Борисовым перебежали полотно железной дороги, хотя никаких рельсов, естественно, ни насыпи не было, в одной из траншей сидели на катушках проводов связисты нашей роты. Каждый прихватил две катушки — и в путь. А путь предстоял нелегкий, надо было по насыпи железнодорожного полотна Ленинград — Москва проложить линию связи от Колпино до Красного Бора.
Первыми размотали свои катушки девушки. Меня, как наиболее сильного физически, оставили на конце отрезка линии, то есть в Красном Бору. Только мы перевалили линию взятых у немцев окопов, как со стороны Красного Бора появился немецкий самолет. Он шел бреющим полетом на высоте примерно ста метров над железнодорожной насыпью и поливал огнем окопавшихся в насыпи солдат. Задрав голову, я смотрел на приближающийся с Красного Бора самолет, еще ничего не понимая, но в этот миг кто-то дернул меня за ногу, и я кубарем свалился в траншею.
— Мать твою так, перетак, жить тебе надоело? Да еще из-за тебя фриц и нас бомбой угостит!
Я больно ударился при падении боком, лежал на дне траншеи и молча смотрел на тщедушного старичка с усами, белобрысого, низкого роста, тощего до невозможности. Самолет прочесал насыпь до Колпино, сделал там крутой вираж и уже на высоте скрылся за Красным Бором. Через несколько минут он снова повторяет свой фокус. Но и наши теперь встречают его кто чем может — все виды оружия, в основном винтовки и автоматы, направлены вверх из траншей и все лупят по пролетающему самолету. Разрядил и я свою винтовку, дав несколько выстрелов вдогонку стервятнику. Но наши выстрелы были ему, что мертвому припарка. Немец все снова и снова повторял свой маневр, вихрем проносился вдоль насыпи, поливал огнем наши траншеи и уходил к себе, затем вовсе скрылся.
Обстрел из орудий и стрелкового оружия немцы вели в основном по насыпи, ибо одна насыпь на многие километры возвышалась среди бескрайнего болота, и вдоль насыпи шли грунтовые, разбитые дороги, по которым производился подвоз боеприпасов и всего необходимого для наступающих на Красный Бор частей и подразделений.
Размотав свои катушки с остатками провода на последней, я ввалился в траншею выносного командного пункта — так официально называлась группа офицеров, выдвинутая на передовую для координации действий наших батальонов. Во главе этой группы был капитан Семенов Василий Викторович. Семенов меня узнал, ибо я с ним несколько раз ходил на боевые задания с походной рацией за спиной.
— А, радист Головко, здравствуй браток, вот ты и будешь здесь у нас радистом на КП. Сейчас позвоним, чтобы сюда рацию доставили.
Так я на долгие месяцы «поселился» в Красном Бору, который остался незабываемой вехой в моей фронтовой жизни. На этом эпизоде я остановлюсь немного подробнее, ибо после голодной зимы 1941–1942 года жизнь в Красном Бору была также весьма тяжелой.
Немцы потерей Красного Бора были весьма обозлены, поэтому на этот несчастный поселок многие месяцы обрушивали всю мощь немецкой артиллерии и авиации. Обстрелы следовали ежедневно, систематически. Когда мы захватили Красный Бор и станцию Поповка, что одно и то же, в поселке еще сохранились некоторые дома, многие были полуразбиты.
Но с каждым днем строений становилось все меньше и меньше.
Наш КП располагался в перекрещивающихся траншеях, вырытых возле дороги, идущей от Московского шоссе в сторону поселка Никольский и пересекающий железную дорогу Ленинград— Москва. Рядом стоял полуразрушенный бревенчатый дом, и одна из траншей уходила в подвал этого дома. Там, в подвале высотой примерно полтора метра, мы с Лешей Чапко, прибывшим с матчастью в Красный Бор, в уголке установили рацию, а снаружи на колышки натянули антенну. Быстро наладили радиосвязь со всеми подразделениями. Семенов был доволен, ибо проводная связь часто выходила из строя, и единственным выходом являлась радиосвязь.
Надо было зарываться в землю, наступление наше захлебнулось, линия фронта стабилизировалась, передовая проходила в нескольких сотнях метров от нашего КП. Было решено разобрать остатки дома, а бревно использовать для накатов КП. Лейтенант Вознесенский (после войны — Андрей Иванович Вознесенский, директор ЦНИИ им. Крылова, крупнейшего научного учреждения СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда), щупленький паренек, невысокого роста, с небольшими веснушками на щеках, в новой офицерской одежонке, первым залез на чердак дома. К нему на помощь поспешили мы, радисты, и еще несколько бойцов. Стали выбивать из гнезд нижние части стропил, чтобы завалить крышу. Когда осталось выбить оставшиеся несколько стропил, крыша заскрипела, готовая рухнуть. Было решено всем покинуть чердак и с земли кольями спихнуть злосчастную крышу. Но Вознесенский один остался на чердаке.
— Я еще выбью несколько штук стропил, чтоб легче было обрушить крышу — крикнул он сверху и стал топором бить по очередной стропильной ноге.
Не успели мы оглянуться, как вмиг крыша рухнула на чердачное перекрытие и накрыла лейтенанта. Все застыли в шоке. Послышался рев и крики стоящих у дома связисток:
— Ой, мамочки, убили лейтенанта!
Но в ту же секунду Вознесенский высунул голову в щель из-под упавшей кровли и с улыбкой на лице что-то крикнул. Все издали вздох облегчения. Оказывается, лейтенант в момент падения крыши успел упасть и прижаться к чердачному перекрытию, а кровля упала на отстоящие от этого перекрытия на высоте полметра балки и, таким образом, он оказался в свободном пространстве, нисколько не пострадал.
За считанные минуты дом разобрали, а затем начали сооружать накаты над подвалом. Получилось три или четыре наката, затем завалили на полметра землей и соорудили отличное укрытие, которое могли пробить только или крупного калибра снаряды, или бомба. Подвал углубили, разгородили на «кабинеты» и стали жить-поживать. Рация стояла в узком, не более метра, коридорчике. В остальных отсеках землянки разместились различные службы командного пункта укрепрайона.
При взятии Красного Бора я снял с убитого немца автомат, мы называли их «шмайсер». По сравнению с моим ППС «шмайсер» выглядел игрушкой высокого класса. Автоматы ППС изготовлялись в блокадном Ленинграде. Оружие отличное, стреляло даже после окунания его в грязь. Но внешний вид у автомата был никудышный, словно слепил его слесарь- самоучка. Черный металл, неказистая решетка около ствола, откидной приклад весьма примитивного вида. Но это был самый легкий по весу автомат для радистов, вынужденных таскать рацию в 16 килограммов.
Немецкий «шмайсер» тяжелее ППС в два раза, однако внешняя отделка его была на загляденье. Из вороненого металла, повсеместно закругленным, ладно скроенный, он вызывал чувство восхищения у наших бойцов. И я не мог с ним расстаться, хотя в то время начальство это не одобряло. Заряженный «шмайсер» повесил в коридорчике на вещевой мешок на вбитом в стенку гвозде. Пролезая как-то в этом узком коридорчике к рации, я задел «шмайсер» и он прикладом вниз рухнул на пол — раздались два выстрела, и «шмайсер» замолк. Я тихонько подобрал его, осмотрелся и увидел в вещевом мешке две дырки от пуль. Автомат мог бабахнуть и в спину мне, но и на этот раз я отделался легким испугом. На выстрелы никто не обратил внимание, ибо к ним привыкли как к комарам, и для меня ЧП обошлось без последствий.
Началась повседневная тяжелая работа. В кино и в книгах обычно изображают войну, как цепь героических поступков. Мне же она запомнилась как тяжелый труд, с огромными лишениями, недоеданием, недосыпанием, постоянными походами и переходами. Но это не значит, что мы были подавлены этим трудом. Нет, наоборот, наша молодость проходила в очень интересное время, мы были бодры, жизнерадостны и фронтовая жизнь нас нисколько не тяготила.
Долго я не мог понять, почему при выходах на различные задания наши командиры брали с собой меня, Женю Яковлева, Николая Астафьева, Толю Грачева. А вот «Малек» (Исай Дронзин), Леша Чапко, Женя Курников, девушки-радисты редко путешествовали вдоль линии обороны. Как-то помкомвзвода Вася Афонин сказал:
— Чудак, в случае ранения лейтенанта ты же его вытащишь к штабу, а «Малек» никак не сможет сделать этого — силенок мало.
Боевая обстановка в Красном Бору резко изменила поведение нашего командира взвода Борисова. Он стал нас всех называть на «ты», по имени: Вася, Женя, Коля и т. д. Мы были очень удивлены этим. Однажды Борисов заходит к нам, вынимает из сумки своей доппаек офицерский и говорит:
— Ребята, кушайте на здоровье!
С Красного Бора Борисов стал для взвода «своим», в лучшую сторону изменился его характер, и мы полюбили своего командира взвода.
Подзывает как-то меня Борисов и сообщает:
— Василий, идем с тобой вдвоем в 261 ОПАБ, это — справа, в сторону Слуцка (Павловска), там надо разобраться со связью в батальоне.
За минуту я прихватил все необходимое, и мы по траншеям двинулись в сторону Московского шоссе. Редкие разрывы снарядов и свист пуль нас мало беспокоили, мы уверенно передвигались по немецким окопам, только иногда переползали из одной траншеи в другую по открытой местности. В батальоне была обычная работа: опробование рации, проверка питания ее, беседы с радистами, инструктаж по правилам приема-передачи радиограмм и прочие дела.
Борисов зашел в землянку к командиру батареи, а я решил выйти по траншее на передовой окоп и посмотреть в сторону немцев. День был тихий и солнечный. Дойдя до передовой, я увидел сидящего в окопе возле пулеметного гнезда знакомого младшего лейтенанта из «Смерш» укрепрайона. Он держал на коленях сумку-планшет и что-то рисовал в блокноте. Подняв голову, крикнул:
— Ба, Василек, привет, ты какими судьбами здесь?
Разговорились. Оказывается, ночью на пулеметной огневой точке дежурили два бойца. Один лег придремнуть, а второй вылез из окопа и уполз к немцам, добровольно сдался в плен. Младший лейтенант прибыл сюда для расследования ЧП. Он тщательно составил чертеж-план огневой точки, ситуационный план, пометил, где находились оба бойца, начертил путь беглеца, опросил и запротоколировал рассказы свидетелей. Все это было сделано аккуратно, не спеша, с толком. Я удивился его пунктуальности.
— Такая наша работа, Василек. «Дело» со всеми подробными документами будет храниться вечно, и после войны, если объявится этот подлец, от наказания ему не уйти.
Пробыв в «хозяйстве» 261 ОПАБа двое суток, мы с Борисовым возвращались обратно на КП в Красный Бор. Не дойдя до него нескольких сот метров, мы стали свидетелями невиданной до сих пор бомбежки этого поселка.
34 бомбардировщика «юнкерс», двумя волнами, одна со стороны Невы, вторая — со стороны Слуцка заходили к Красному Бору. Мы легли на дно траншеи, когда самолеты пролетали над нами: были хорошо видны кресты на их крыльях. Затем оба потока стервятников сошлись над Красным Бором и стали его бомбить. Видно было, как словно дождь сыпались на землю бомбы. Вскоре поселок скрылся в сплошном дыму разрывов. Отбомбившись, «юнкерсы» спокойно ушли к себе, за линию фронта, хотя наши зенитки лупили по ним со всех сторон.
Нам казалось, что в Красном Бору все погибли. Выскочив из траншеи, мы бегом понеслись к себе на КП. Дорога была нелегкой, мы пробирались в зоне видимости противника и приходилось остерегаться пули или снаряда. Добравшись до КП, мы были бесконечно обрадованы: все живы, ранено несколько человек, в том числе старший лейтенант Сметанин из штаба УРа. Я прошел к землянке санчасти и увидел сидящего у входа, в заглублении, старшего лейтенанта. Осколком снаряда ему из голени вырвало кусок ткани величиной в диаметре сантиметров десять. Рана, по временам войны, небольшая, до этого я ран насмотрелся, были гораздо серьезнее и люди выживали. Поэтому мне было странно видеть сильно подавленного Сметанина. Он мрачно сидел на земле, неохотна отвечал на мои слова. К вечеру его увезли в Колпино, в госпиталь, а через несколько дней мы узнали, что он умер.
Вокруг нашего КП и в поселке творилось что-то невообразимое. Бегали солдаты, что-то тащили, на кострах поджаривали куски мяса. Оказывается, при бомбежке в поселке было много лошадей, люди попрятались по землянкам и траншеям, лошадей же не упрячешь, и они почти все оказались убитыми. Туши лошадей солдаты в считанные минуты разделали и растащили по окопам. Я весьма сожалел, что опоздал к такой славной добыче, а дежурившие на рации радисты прохлопали конину! Долговязый ездовой нашей роты Ольховиков сжалился надо мной и угостил зажаренным, довольно солидного размера, куском конины. Я тут же его съел с огромным удовольствием. Правда, потом выяснилось, что из других взводов бойцы успели припрятать солидные куски конины и они по-братски делились мясом с радистами.
Мелкие стычки с немцами продолжались. И в недалеко расположенную от КП санчасть ежедневно доставлялись раненые. Я и сейчас не могу объяснить причину, почему в свободное от рации время помогал санитарам перевязывать этих раненых? За многие дни этой работы я достаточно насмотрелся, как война уродует людей. Однажды был сильный минометный обстрел. Мина разорвалась буквально возле солдата и ему разворотило зад до костей. Куски мяса были отвернуты в разные стороны и в центре зияла глубокая яма. Медики куски мяса сложили обратно, забинтовали ему задницу со всех сторон и он стал дожидаться вечера для отправки в тыл, но к вечеру скончался.
Другой раз я помогал перевязывать раненного в грудь бойца. Осколок снаряда или мины прошелся по нему таким образом, что срезал, как бритвой, половину грудной клетки, с мясом и ребрами. Но внутренние органы не задел, и через открытую огромную рану были хорошо видны его внутренности. Медики соорудили что-то вроде крышки, прикрыли зияющую грудь, забинтовали его со всех сторон. Он даже сознания не потерял, сидел спокойно и дожидался отправки а госпиталь. Ночью его погрузили на телегу и повезли в Колпино. Надеюсь, что мужик выжил, хотя дальнейшую судьбу его не знаю, был он из другой части.
Стояла ранняя весна, снег быстро таял. В Красном Бору мы уже грелись на солнышке, но когда смотрели в низину, раскинувшуюся между Красным Бором и Колпино, она казалась покрытой снегом. Проходили день за днем, а низина все белела. Думали, на болоте снег тает медленно. В жаркий солнечный день я и еще двое приятелей решили немного пройти вниз, в низину, и посмотреть, что там белеет. Прошли сначала по наезженной дороге, а затем свернули на поле недавнего боя. Оказывается, это был не снег, белели на поле белые маскировочные халаты, в которые облачались наступающие бойцы. Трупы лежали так плотно, что в отдельных местах образовывали огромные пятна. Запомнился боец огромного роста, крепкого телосложения. Удивило его чистое лицо, без единой царапины, выглядел лет на двадцать, красивый и статный. Рядом лежали в разных позах другие его товарищи. Мы сняли шапки и хотели двинуться дальше, но вдруг кто-то заорал:
— Стойте, мины!
Мы остановились и стали смотреть в землю. В нескольких сантиметрах от наших ног лежали сплошной полосой противопехотные мины, полукруглые, чашечкой, диаметром 8-10 сантиметров, в картонных коробочках. С немецкой точностью они в шахматном порядке уходили в сторону.
Внимательно глядя себе под ноги, мы потихоньку стали выходить из минного поля, вышли на проселочную дорогу и вернулись на КП.
Думаю, что командование знало об огромном количестве трупов наших солдат, лежащих на болоте между Колпино и Красным Бором. Мы же начали возмущаться перед нашими командирами укрепрайона: почему не убираются трупы? Подействовало это или просто пришло время хоронить убитых, но в один из дней на болоте появились похоронные команды. Они сносили убитых в воронки от взрывов снарядов и бомб, складывали по несколько человек и закапывали. Одновременно здесь же работали саперы по разминированию болота. В несколько дней болото было очищено, трупы захоронены.
Отступая от хронологии повествования, скажу: после войны, в 50—60-е годы, мы ежегодно выезжали в Красный Бор на День Победы 9 мая. В первый выезд расположились с выпивкой и закуской на сохранившихся развалинах нашего КП. Землянка обрушилась, и в центре выросло деревцо диаметром 5–8 сантиметров. Мы сидели, поднимали стаканы за здравствующих и погибших, а в это время внизу, на болоте, где когда- то сплошняком лежали убитые при наступлении на Красный Бор солдаты, несколько тракторов готовили землю под посевы. Машина резво ходила вперед-назад, перепахивая поле. С грустью мы смотрели на работающих. К вечеру тракторы двинулись в нашу сторону на ночную стоянку в поселке. Мы подошли к трактористам и разговорились.
— Ребята, а знаете ли вы, какой бой кипел на этом болоте, и сколько здесь полегло наших солдат?
— Догадываемся, — ответили трактористы, — вспахиваем землю и сплошняком попадаются кости. Пытаемся их как-то упрятать в землю.
Возле нас появилась небольшая группа солдат, оказывается, это минеры, они ищут мины и уничтожают их. Женя Яковлев налил водки в три стопки, взял их в две руки, подошел к солдатикам.
— Служивые, выпейте за нас, живых, и за тех погибших здесь, в Красном Бору.
Молодые солдатики скромно пригубили чарочки, поблагодарили и пошли дальше искать мины.
Возвращаясь к описанию красноборских событий, хочу описать ранение Леши Чапко. Походная кухня располагалась вдали от КП, и за пищей приходилось добираться по траншеям ползком, ибо пространство все время простреливалось. В этот раз вечер был тихим, выстрелов не слышно, и мы с Лешей Чапко, захватив по 6–8 плоских котелков, по три-четыре в каждой руке, вышли с КП и направились к кухне. Решили идти открытой местностью, авось проскочим, что делали неоднократно. На войне, если сам себя не побережешь, никто за тебя этого не сделает. Прошли половину пути, идем рядом, вдруг из рук Леши посыпались на землю котелки, он левой рукой схватился за локоть правой и завертелся на месте. Я слышал мягкий звук возле себя — это пуля прошила руку Чапко. Мы присели на землю, я быстро разорвал у Леши рукав гимнастерки и увидел прострелянную выше локтя руку. Пуля с одной стороны вошла, с другой стороны руки вышла и улетела дальше. Сквозное ранение. Разорвал индивидуальный пакет, забинтовал руку и в санчасть. Здесь ему обработали рану, на другой день отправили в тыл на лечение. Через какое-то время он вернулся снова в Красный Бор. Совместная наша работа продолжалась.
Я уже писал, что на фронте спокойная обстановка продолжалась не долго, разной степени наступления организовывались часто, наши части иногда отбрасывали немцев за Саблино, но затем следовало контрнаступление, и наши возвращались на прежние позиции. После каждого боя появлялась масса убитых и раненых, их увозили в тыл.
Хорошо помню одно наступление по прорыву блокады Ленинграда. К нам в Красный Бор, вправо и влево от него, стали прибывать свежие полевые части. Они по-хозяйски располагались в зоне обороны 14-го укрепрайона. Повсеместно появились новые огневые точки артиллерии, прикатили «катюши», появились шеренги «ванюш». «Катюши» все знают, а «ванюши» — это те же «катюши», только без автомобилей, они устанавливались на направляющих прямо на земле с наклоном в сторону немцев.
Наши ОПАБы тоже готовились к наступлению, пополнились людьми и техникой, запаслись огромным количеством боеприпасов. Склады боеприпасов были разбросаны повсеместно, в траншеях, воронках, углублениях. Их никто не охранял, можно подойти к штабелю ящиков с патронами, набрать сколько душе угодно, без всякой нормы.
Я уже писал, что поселок Красный Бор расположен на возвышенности, поэтому с нашего КП в сторону Колпино и Ленинграда хорошо просматривалась низина-болото. Было видно, как в низине сосредотачивается техника и люди. Мы все с надеждой ждали нашего удара по освобождению Ленинграда от блокады. Знали, что с Большой земли будет навстречу войскам Ленинградского фронта наступать Волховский фронт.
Такой день настал. Началась невиданной силы артподготовка, затем волна за волной пошла бомбить немцев наша авиация. Зрелище было потрясающее. Впереди сплошной стеной поднимался в небо дым, сзади — сплошное мерцание огоньков — это бьет наша артиллерия. Продолжалась канонада несколько часов, а затем началось наступление. Успехи были скромные, в первые сутки наши войска продвинулись на несколько сот метров вперед, на вторые сутки — еще немного. Наконец, поступило сообщение — взяты станция Саблино и поселок Ульяновка, вот-вот советские передовые части вступят в Тосно. Однако за несколько часов немцы выбили нас из занимаемых позиций и мы откатились к прежним: Красный Бор — станция Поповка. Сплошным потоком потянулись колонны раненых и убитых, многие остались лежать там, под Саблино.
Такие наступления предпринимались систематически и все они заканчивались печально.
Вспоминается анекдотичный случай при наступлении на Красный Бор. Я уже говорил, что почти все командиры ОПАБов имели жен, некоторые законных, некоторые — «ппж». Командир ОПАБа, действующего в направлении поселка Федоровское, потерял орудие вместе с расчетом из пяти человек. Такое при наступательных операциях бывает. Расчет орудия утратил в боях связь со штабом батальона и его прибрали к рукам полевики, то есть прибывшие на период наступления в распоряжение 14-го укрепрайона армейские части. Взяли Красный Бор, а об орудии и его расчете никто ничего не знает, в наличии нет и в убитых не числятся. О ЧП стало известно командованию укрепрайона. Какие-то злые языки донесли, что комбат во время боя за Красный Бор усиленно оберегал свою любимую и поэтому прохлопал орудие с расчетом. Со штаба укрепрайона последовала грозная команда: комбату лично отыскать орудие. И вот офицер стал ползать по передовой в поисках своих бойцов. Где-то под Слуцком он-таки нашел расчет с пушкой целым и невредимым, состоящим на котловом довольствии в полку 55 Армии, приобщившем орудие к своему «хозяйству».
Жизнь связистов в Красном Бору была подчинена общему ритму работы выносного командного пункта штаба укрепрайона. Сам штаб располагался в Красном Кирпичнике, в 10 километрах от Красного Бора.
Теперь уже не помню, при каких обстоятельствах я познакомился с Кларой Васильевой, девушкой примерно моего возраста, работавшей машинисткой в штабе 95 ОПАБа, располагавшемся в железнодорожной насыпи на пересечении с грунтовой дорогой, идущей от шоссе Ленинград — Москва до поселка Никольское. На этой же грунтовой дороге, в километре от штаба 95 ОПАБа, находился наш КП. Расстояние небольшое, но постоянно обстреливаемое немцами, поэтому на свидание с Кларой приходилось местами ползти по-пластунски. Как только позволяла обстановка, я бежал в штаб 95 батальона, дабы увидеть и побеседовать с Кларой. Собственно я еще ни в кого не влюблялся, если не считать шестой класс школы на торфозаводе «Гады». В одном классе со мной училась Нина Денисова, краснощекая пампушка, с чистым лицом, пышными волосами, средней полноты, очень выделялись у нее синие глаза. Сидела она за партой впереди меня и я ее постоянно наблюдал в затылок, любуясь ее волосами и красивой шеей. Часто я ее задевал, но она не обижалась, поворачивала голову назад и улыбалась, словно мои шалости ей нравились. Самым большим проявлением моих чувств к Нине было мазание чернилами ее оголенных рук. Незаметно мазну ее чернилами, а она обернется ко мне и улыбнется! Не ругалась, не жаловалась, тихонько вытирает чернила и улыбается. Эта первая детская любовь запомнилась на всю жизнь, хотя не было ни свиданий, ни поцелуев, ни объяснений.
Как-то наш класс фотографировали. Я пересел на соседний ряд, дабы на фото быть ближе к Нине Денисовой. Нас разделял узкий проход. И вот когда фотограф прицелился и скомандовал «Внимание!», я быстро придвинулся ближе к Нине, но и она синхронно придвинулась ко мне! На фото, которое и сейчас хранится в моем альбоме, хорошо видно, как мы придвинулись друг к дружке, заняв своими телами почти весь проход между партами.
Отец Нины работал инженером на торфозаводе, и вскоре его перевели куда-то на другое предприятие, и Нина уехала навсегда. Ее отъезд я сильно переживал, тосковал по ней, она не выходила из моей памяти всю жизнь.
В техникуме мне нравились девушки, но, видимо, из-за моей бедности я не ухаживал и не влюблялся. Думаю, что именно моя скромная одежонка, весьма скудный бюджет угнетали мою психику и не позволяли такую роскошь, как иметь «свою» девушку, проводить с ней досуг. На танцы бегал, но там ты никому ни чем не обязан, пригласил, потанцевал, отвел на место, а на другой танец можно приглашать другую. Очень болезненно воспринимал отказ девушки при приглашении ее на танец. Мне казалось, что отказ следовал именно из-за моего скромного одеяния. После такого отказа шел в угол и пропускал несколько танцев. Затем внимательным взглядом высматривал кого пригласить. Выбирал похуже, думал, вот эта не откажет, однако, и эта, неказистая, тоже не шла танцевать, и вечер надолго был испорчен. Но такое случалось нечасто. На танцы ходили компанией в 2–3 человека парней, и поэтому было весело.
Уже много позже, когда мы ворвались с боями в Эстонию, мне попалась книга Отто Венингера «Пол и характер». Я ее с интересом «проглотил», даже выписки сделал. Автор доказывает, при каких обстоятельствах возникает любовь, притяжение полов. Один из его постулатов сводится к такой сути: если тебе очень нравится девушка, то и ты ей нравишься! Поэтому в послевоенное время я приглашаю на танец самых приятных для меня женщин и почти никогда не ошибаюсь: идут танцевать с улыбкой.
Но вернемся в Красный Бор. Постепенно у меня возникла любовь к Кларе. Не знаю, было ли уже такое чувство, но встречи наши, хоть и короткие, проходили приятно. Дальше поцелуев наши отношения не заходили, но каждый раз я со сладостным состоянием ожидал встречи. Фронтовая дружба продолжалась недолго, пути-дороги наши разошлись, связь мы потеряли. У меня остался лишь ее ленинградский домашний адрес.
Первая юношеская любовь остается на всю жизнь. После войны я разыскивал Клару, много раз ходил на ее квартиру, но жильцы отвечали, что ничего не знают.
В 70-е годы фронтовиков потянуло к встречам, и вот мы начали разыскивать однополчан, сообщая в газетах и по радио о месте встречи. Многих разыскали, но Клара не откликалась. Готовясь к 50-й годовщине Победы, я опубликовал в газете «Ленинградская правда» сообщение, что разыскивается однополчанка Клара Васильева, проживавшая до Великой Отечественной войны на Мытнинской улице. Раздался телефонный звонок:
— С вами говорит сын Клары Васильевой.
Сын сообщил, что мать имеет фамилию Белобородова, живет в Ленинграде, муж ее умер, передает ее телефон. Я набираю номер телефона и слышу голос:
— Васенька, дорогой, здравствуй! Сын сегодня прочитал в газете и сообщил мне, собиралась тебе звонить, но ты меня опередил.
От неожиданности я растерялся. Встречаясь с однополчанами на 9 мая, я видел, как постарели люди, особенно женщины. Вали, Кати, Нины, Саши стали старушками, и всегда с сожалением думалось— как жестока жизнь, что делает время с красавицами-девушками! Понимал, что нет и Клары Васильевой, и наша встреча лишь разрушит то сладостное воспоминание о фронтовой встрече, о прекрасном чувстве! Долго я оттягивал встречу, но вот на 9 мая назначена встреча наших ветеранов в музее «История укрепрайонов Ленфронта» при школе № 508 на улице Ленсовета, который возглавлял ветеран Анисимов Николай Иванович. Мои ожидания подтвердились. Клара Васильева и Белобородова Клара Петровна — не одно и то же. Однако радость встречи была неподдельной. Крепкие объятия, поцелуи, воспоминания о фронтовой жизни. Веселое застолье, концерт, танцы — все, как и положено фронтовикам.
Возвращаясь к войне, надо сказать, что в Красном Бору мы несли большие потери. Не говоря уже о потерях при наступлениях, но и в промежутках мы не досчитывались друзей и товарищей от бомбежек, артобстрелов и пуль. Однажды меня отправили в Колпино получить питание для рации. Дороги между Красным Бором и Колпино день и ночь держались под огнем, и дабы не попасть под снаряд, надо было проявлять особую сноровку. Способов уберечься от снаряда или бомбы было много и фронтовики их хорошо усвоили.
Подходя к участку дороги, где снаряды ложились наиболее плотно, я свернул вправо, переполз железнодорожную насыпь и под ее прикрытием стал пробираться дальше. Мне показалось, что опасное место осталось позади, и я, поставив автомат к кустику, присел по надобности. Вдруг метрах в 20–30 раздался взрыв, и мой автомат, стоявший перед носом, отлетел в сторону. Вскочил, подхватил автомат и бегом вперед. Однако смотрю и не верю глазам: на ложе автомата срез древесины осколком. Подумалось: «Вот так присел!».
Возвращаясь обратно, уже в Красном Бору я попал под обстрел «швырялками» Что это такое? Это когда немцы стреляют металлическими болванками; которые издают противный шипящий звук, а затем, падая на землю, рикошетом несколько раз подпрыгивают. Такая болванка, попадая в цель, мало что оставляет от нее.
Как-то пришел я по служебным потребностям в землянку линейщиков. Начался интенсивный артобстрел, и мы вышли из землянки в траншею. Коля-связист стоит впереди, я сзади него, чуть глубже в траншее. Вдруг перед моими глазами Коля осел и застыл, смотрю, а его грудь располосована осколком, из нее хлещет кровь. Коля скончался сразу.
Были и забавные случаи. Для связи с дальними батальонами, для лучшей слышимости мы поднимали на короткое время антенну на шесте, высотой метров 10–12. Конец антенны закрепляли на проволоке диаметром 0,2–0,3 сантиметра. Идет передача радиограммы, а мы с Грачевым решили посоревноваться, кто из винтовки попадет в провод антенны, прикрепленной к шесту. Конечно, 99 процентов шансов было, что попасть и тонкий провод два-три миллиметра никто не сможет. Но надо же такому случиться: после выстрела Грачева я пальнул, и антенна упала на землю — попал-таки! Конечно, это было случайно, но из землянки выскочил Леша Чапко и орет:
— Не слышно ни черта, где антенна?!
Нам пришлось с Грачевым изрядно потрудиться: опустить шест, прикрепить антенну и снова его поставить. Все обошлось, никого из офицеров поблизости не было, и нашу шалость никто не обнаружил.
Хочу описать одну бомбардировку, которую сам испытал в Красной Бору.
Нас трое. Двигаемся вдоль линии фронта, миновали траншеи, ямы, воронки, вышли на открытую ровную поляну. И вдруг заметили: летят несколько «юнкерсов». Спокойно взираем на самолеты, лежа на спине. Вдруг от самолетов отделяется масса черных точек. Сначала кажется, что точки в стороне. Но вот они быстро приближаются к земле— все ближе и ближе. Впечатление такое, что бомбы летят прямо в наши глаза. Становится жутко! Быстро переворачиваемся лицом вниз, к земле-матушке, впиваемся в нее. Раздаются неимоверной силы взрывы, свистят осколки, на спину и на голову падают тяжелые комья земли, кажется — все, погиб! Проходят секунды, взрывы прекратились, в небе слышен гул уходящих самолетов. Приподнимаем головы — кажись, все живы и даже не ранены, в нескольких метрах — огромные воронки, в два метра глубиной. Встаем, отряхиваемся: пронесло!
Налеты авиации немцев на Красный Бор были постоянными, и мы к ним привыкли. При таких налетах по самолетам открывался ураганный артиллерийский и пулеметный огонь, но на моей памяти остался лишь одни случай, когда были подбиты сразу два немецких самолета. Летчики из них выпрыгнули на парашютах и по ним тоже был открыт огонь из винтовок и автоматов — палили все, кто имел в руках оружие. Не знаю, опустились они мертвые или раненые, надо было бежать к месту их приземления, по желания не было.
Приведу пример наших будней в Красном Бору, описанный в газете «Красная Звезда» с моих слов.
Ни обстрелы фашистской артиллерии, ни бомбежки, ни свистящие пули над головой — ничто так не угнетало людей, как эта болотная вода и грязь, преследовавшие нас всегда и всюду. Промокали ноги, шинели, сырость, казалось, заползала под кожу. И это не день, не два, а многие месяцы под огнем врага.
Окопы фашистов проходили по возвышенности. Им было и сухо, и нас видно, как на ладони. Десятки раз нашим командованием предпринимались атаки с целью выхода на возвышенность, но оборона у врага была крепкой, глубоко эшелонированной. Но однажды…
Раскололось туманным утром небо от взвившихся снарядов «Катюш», вздрогнула земля от разрывов и затянуло захваченные фашистами высоты огненным дымом. Зашевелилась наша оборона, рванулись вперед люди, техника, лошади. Потянулись ниточки пулеметных трасс, схлестнулись над полем боя, над головами бойцов. Ни встать, ни в землю зарыться, кругом болото. Одно спасение — вперед!
И мы сделали этот решающий рывок, хотя и заплатили за взятые у фашистов сухие окопы дорогую цену. Когда весной сошел снег, на этом болоте еще подолгу белели пятна. Но это был не снег, как нам казалось поначалу, это были белые маскхалаты погибших защитников Ленинграда…
«Красный Бор» был взят. Передовые роты закрепились на возвышенности и чуть ли не из последних сил отражали яростные контратаки фашистов. В поселке не было клочка земли, не перепаханного взрывами. Во второй день обороны над Красным Бором появилось 34 «юнкерса» и начали совершать заход за заходом. И если люди уже успели зарыться в землю, то лошади и техника пострадали больше всего. Зрелище было ужасным.
Мы ждали ночного, решительного штурма фашистов. Ждали и готовились стоять насмерть.
Связистам-линейщикам доставалось тогда больше всех. От непрерывных артобстрелов и бомбежек рвались особенно те нитки, что связывали штаб с передовыми подразделениями. Устранение каждого обрыва требовало от связистов и душевного и физического перенапряжения. Сквозь болото, под непрерывным огнем, быстро отыскать обрыв, срастить и бегом назад, чтобы тут же выйти в другом направлении. Мы понимали, что без надежной связи бой не выиграешь и старались из последних сил.
Большинство бойцов роты связи были девушки. Даже сейчас, через десятки лет не устаешь удивляться, какую тяжесть несли на своих хрупких плечах эти 19—20-летние защитницы города Ленина.
Будто сейчас вижу вбежавших в землянку Аню Жукову и Веру Башмакову. Мокрые, перепачканы грязью, еле на ногах держатся, а на лицах улыбки: связь восстановлена! Вижу, как растирают посиневшие от холода руки, как жмутся к своим подругам, чтобы хоть чуточку согреться, но землю опять сотрясает очередной артналет, и трубка командирского аппарата безжизненно замирает…
Не дожидаясь приказа, Вера и Аня взваливают на плечи тяжелые металлические катушки, телефонные аппараты и уходят в ночную мглу, то и дело озаряющуюся вспышками разрывов.
Оставшиеся в землянке ведут свою работу, но все мы напряженно ждем весточку от девушек — они ушли в самое пекло.
Наконец аппарат затрещал, и в трубке пропел знакомый голое Веры: «Как слышно, мальчики?» Теперь мы уже стали ждать возвращения девушек. И вдруг опять обрыв. По существующему порядку, связист, устранявший обрыв, должен на обратном пути время от времени прозванивать линию. И действительно, минут через пятнадцать аппарат дзынкнул. Телефонист плотно прижал трубку к уху — снова загрохотали разрывы. Потом посмотрел на нас, зажал ладонью микрофон, словно боялся, что его слова кто-то услышит, и с недоумением сказал:
— Девчат накрыло снарядом… Аня убита, Вера ранена в ногу. Двигаться не может.
Мы не верили… Аня, этот голубоглазый жизнерадостный человечек, неутомимая в работе и шутках, любимая всеми за доброту и отзывчивость. Аня — убита? Представить, что она никогда больше не войдет в наш блиндаж, было выше всяких сил.
— Радисты Чапко, Муравьев, Смирнов и Головко — на линию! — скомандовал помощник командира извода сержант В. Афонин. — Возьмите носилки…
Припадая к земле, проваливаясь в залитые водой воронки, под непрерывным обстрелом, ориентируясь в кромешной темноте только по бегущему сквозь кулак проводу, мы спешили к нашим девочкам. Мы все еще надеялись, что Вера ошиблась, что Аня жива.
При одной из перебежек Муравьев был ранен: пуля выше колена пробила насквозь ногу. Перевязали его и снова вперед. У меня размоталась и потерялась обмотка. Снег беспрерывно забивался в ботинок.
…Вера лежала лицом вниз, мы ее увидели при свете ракеты. И сразу обожгла мысль: неужели и Вера? Перевернули на спину, расстегнули телогрейку. Слава богу, жива! Просто потеряла сознание. Попытались переложить на носилки — но что это? Провод не отпускал ее. Девушка была надежно привязана к линии…
Позже, придя в сознание, она рассказала, что после взрыва бросилась искать Аню. Наткнувшись на нее, сразу поняла — Аня убита. Перевязала ногу и к проводу: цел ли? Нитка связи была разорвана. Ползая по грязи, Вера нашла один конец и, чтобы не потерять его, привязала провод к здоровой ноге. Потом начала искать второй конец. И, когда уже почти отчаялась найти — вдруг нащупала провод. Стала тянуть оба конца, чтобы срастить нитку, но силы уже покидали девушку, сказывалась боль и потеря крови. Тогда она снова привязала к ноге возле колена сперва один провод, потом натянула его и привязала к ноге второй. Зачистила концы, срастила, подключила аппарат, сообщила о случившемся и потеряла сознание.
Мы их обеих несли на одних носилках. Худенькие, хрупкие, только и весу, что от намокших телогреек. Двигались осторожно и молча, как в кошмарном сне. Казалось, вот сейчас они встанут, отряхнутся и скажут, неотразимо улыбнувшись: «Спасибо, мальчики…»
Веру Башмакову мы занесли в землянку к санитарам, Аню на рассвете похоронили в одной из воронок.
Когда была частично прорвана блокада Ленинграда и стало возможным сообщение с «большой землей» по узкому коридору вдоль Ладожского озера, 14-му укрепрайону поручили оборону этого коридора. В городе Шлиссельбурге был создан оперативный пункт управления и для радиосвязи его с батальонами на этот пункт направили меня, Лешу Чапко, еще двух радистов.
Прибыли мы в Шлиссельбург ночью, разместились в какой-то заброшенной землянке, наладили связь через две линии фронта со штабом укрепрайона и с батальонами, доложили об этом руководителю оперативной группы — первому помощнику начальника штаба УРа (ПНШ-1) капитану Семенову Василию Викторовичу. С ним мы уже не однажды встречались раньше, и теперь я был рад работать под его началом.
Семенов производил впечатление этакого простоватого мужичка. Среднего роста, худощавый, белобрысый, немного сутулый, с живыми, умными глазами, весьма подвижный, смелый в принятии решений. Характерной чертой Семенова было уважительное отношение ко всем: и начальникам, и подчиненным. Он всегда был в движении, куда-то звонил, отдавал приказания, докладывал обстановку. Казалось, что Семенов — центральная фигура в укрепрайоне.
В Шлиссельбурге нам пришлось встречать новый год. Никаких празднеств у нас, конечно, не было, сидели у рации с наушниками на голове, выполняли обычную работу. Леша Чапко пробовал тренькать на гитаре, с которой не расставался на фронте. Этот черноволосый паренек, небольшого роста, худощавый, голос приятный — баритон, любил под гитару напевать песенки. Особенно у него хорошо получались песни, которые исполнял Марк Бернес. Да и пел-то под Бернеса и чем-то был похож на него. Мы подпевали «Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил», а также «Темная ночь».
После полуночи к нам в землянку вваливается офицер и говорит:
— Ребята, капитан Семенов просит радистов спеть в честь Нового года песенки. Кто-то из вас, кажется, имеет гитару.
Наши взоры обратились к Алеше Чапко. Он пожал плечами, смутился, а затем обратился ко мне:
— Васька, пойдем вдвоем, мне одному не вытянуть песни, да и как-то неудобно.
Я передал наушники другому радисту, и мы вдвоем с Чапко пошли к Семенову. В штабной землянке нас встретили бодрыми приветствиями. Здесь были, кроме Семенова, еще несколько офицеров. Накурено, на столе скромные закуски из консервов и какие-то напитки. Для начала нам преподнесли по 100 граммов водки, мы закусили. Леша начал настраивать гитару, а затем мы в два голоса спели «Темную ночь». Все сидели тихо, опустив головы, а когда мы закончили песню, раздались аплодисменты. В эту ночь мы пели еще некоторые песни, а нас все просили и просили продолжать. Конечно, выступать с песней — приятное занятие, как для исполнителей, так и для слушателей, и мы с вдохновением выполняли просьбы. Под утро вернулись в свою землянку.
В Шлиссельбурге мы находились недолго, вскоре пришел приказ свернуть оперативный пункт, переправиться через Неву и прибыть в расположение участка обороны, находящегося напротив города Кировска. Рано утром началась погрузка на бортовую автомашину имущества оперативного пункта. Сборы радистов были коротки, за несколько минут мы свернули наши пожитки и в полной готовности подошли к штабу, стали наблюдать за погрузкой ГАЗика. Здесь мне запомнился такой момент. Для Семенова его ординарцы где-то нашли в развалинах Шлиссельбурга пружинный односпальный матрац. Уезжая теперь из города, ординарцам хотелось увезти и этот матрац. Кузов машины был нагружен выше бортов более чем на полтора метра. Матрац взгромождается на самый верх. Картина, конечно, пикантная; фронт, война, амуниции и — матрац, Семенов еще был в землянке и кто-то из стоящих возле автомашины офицеров заметил:
— Семенов до войны, наверное, и не спал на пружинном матраце, так вот хоть в войну понаслаждается.
Эти слова как-то мне очень запомнились. В 1950 году, когда вернулся в Ленинград, я узнал, что наш ПНШ-1, капитан, потом майор и подполковник Семенов Василии Викторович, работает директором крупнейшего предприятия страны — Ижорского завода! «Вот тебе и не спал на пружинном матраце», подумалось мне.
Когда были созданы Совнархозы, Семенов был назначен заместителем Председателя Ленинградского Совнархоза, а после расформирования Совнархозов стал начальником Управления материально-технического снабжения Северо-Запада Госснаба СССР, куда входили Ленинградская, Псковская, Новгородская, Мурманская области, Карельская и Коми АССР. В 1974 году я чуть было не стал его заместителем, однако он ушел на пенсию, а на его место был назначен Яковлев Борис Михайлович, к которому я был Обкомом КПСС направлен заместителем.
Около города Кировска, в районе Невской Дубровки, существовал знаменитый «Невский пятачок», где на левом берегу Невы на небольшом участке земли закрепились наши части, врезавшись в немецкую оборону. На другом, правом берегу Невы, как раз напротив «Невского пятачка», держал оборону 14 УР, и мы из Шлиссельбурга прибыли в это место. Поработав здесь несколько дней, убыли в Красный Бор.
Прослушивание вражеских радиопередач каралось строго, в лучшем случае — штрафной батальон. Однако желание иметь необычную информацию пересиливало страх. «Запретный плод сладок». Время от времени я настраивал их радиопередачи на русском языке. Обычно это были сводки с различных участков фронта, и я узнавал о некоторых событиях, о которых наши средства информации умалчивали. Однако много было агитационных материалов, в основном о советской жизни, о том, что Россией правят евреи и коммунисты, и заканчивались такие агитки призывами переходить в плен к немцам.
Мне запомнилась радиопередача с участием знаменитого певца Печковского. Печковского я знал до войны, как отличного тенора. Женщины от его голоса сходили с ума: «Печковский — душка!». Ему устраивали бурные аплодисменты, женщины и девицы караулили певца на улицах Ленинграда.
Настроившись на немецкую волну, я услышал, что сейчас будет выступать артист Печковский. Он начал свое выступление с рассказа, как он перешел на сторону немцев. Перед началом войны артист был на даче где-то под Ленинградом, в Лужском районе. При наступлении немцев на Ленинград Печковский спрятался и дождался немцев, таким образом освободившись от советской тирании. Далее он говорил о своей концертной деятельности у немцев и закончил свое выступление грубой фразой: «Коммунисты будут от немцев бежать и срать!» Возможно, именно из-за этой фразы я запомнил выступление любимца ленинградских театралов.
Как известно, Печковский после Великой Отечественной войны отсидел в лагере 10 лет, а затем в средствах массовой информации пытались обелить его и представить как невинно пострадавшего. Думаю, что в архивах КГБ сохранились материалы о фактических делах Печковского во время войны.
Находясь в Красном Бору, мы все чувствовали приближение важных событий по полному освобождению Ленинграда от блокады. Сводки с фронтов говорили о беспрерывных победах наших войск, и мы с сильной завистью слушали эти сообщения. Все жаждали наступления и наступления успешного, позволяющего рвануть вперед, так как все предыдущие наступления на нашем участке кончались неудачно, в лучшем случае продвижением на несколько десятков метров вперед.
И такой момент наступил. К сожалению, не на нашем участке, а правее от нас, в стороне Пулковских высот. Мы видели и слышали, как там началась ураганная артподготовка, вступила в действие авиация. Через офицеров штаба мы пытались узнать: как там идут дела, однако сведения были разноречивые, никто толком ничего не знал.
На второй день, рано утром мы почувствовали что-то неладное, какую-то таинственную тишину: со стороны немцев не слышно было никаких звуков и выстрелов. Наконец поняли — немцы покинули траншеи. Потихоньку стали пробираться в их сторону, и вскорости убедились в наших догадках: немцев нет! Сразу бросились в немецкие землянки на поиски продуктов, и были весьма вознаграждены — нашлись сухари, галеты, консервы.
Я уже говорил, наши ОПАБы были способны стоять насмерть в обороне, для движения вперед не было транспортных средств. Однако несколько ОПАБов, находившихся в стыке с наступающими левее нас войсками, были подхвачены полевиками и вместе с ними двинулись вперед, в связи с чем радистам прибавилось заметно работы для поддержания контакта с ними.
Вскорости частям укрепрайона Ленфронт выделил транспортные средства, и мы двинулись вперед, в наступление! Прощай, Красный Бор и станция Поповка! Встретимся мы с вами уже только после войны, в 1951 году.
* * *
Общее наступление частей 14-го укрепрайона было направлено на юг от Ленинграда: Новолисино, Форносово, Поги, Лисино-Корпус. Меня с Исаем Дронзиным привезли с рацией ночью в какую-то деревеньку, сбросили и приказали наладить связь с ОПАБами и штабами УРа, быть промежуточным звеном между ними. Мы обосновались в какой-то избе, развернули антенну, установили связь, я начал из сухого пайка готовить кашу, так как мы сильно проголодались. Но в это время, около полуночи, последовал по рации приказ: к утру прибыть в Форносово, ибо утром рота уходит вперед. Предстоял путь километров пятнадцать. Преодолеть это расстояние с пустыми руками было пустяком. Но у нас был приличный груз: рация в двух упаковках, винтовки, сухпаек, запасное питание к рации, вещмешки, личные веши. С таким грузом не только двигаться пешком было невозможно, едва удалось все поднять с земли, тем более, что Дронзин («Малек») был маленьким мальчишкой в половину моего роста, щупленький, с маленькой головой, силенок у него — «кот наплакал». Уменьшить груз — невозможно, ибо сухой паек после блокады ценился на вес золота, а о запасном питании к рации и речи не могло быть, для любого радиста оно ценнее жизни.
Я бросился по деревне искать какое-либо подручное средство: санки, лыжи или что-либо. К счастью, около полуразбитой избы обнаружил простейшие маленькие, видимо детские, саночки из четырех полуметровых дощечек толщиной в сантиметр: две дощечки — полозья, две другие — поперечины сверху. На эти саночки мы погрузили наши пожитки, получился воз высотой более метра. Хорошо увязав свое имущество, сзади я привязал солдатский котелок с недоваренной кашей, Дронзин запрягся впереди, я руками стал толкать санки с грузом сзади. Выехали на проселочную дорогу, сплошь занесенную снегом. Полозья увязали в снегу, но мы что есть силы тянули санки вперед. На обочине дороги хорошо выделялись дорожные знаки: стометровые и километровые столбы. Немцы любили порядок и у них столбы выглядели хорошо.
Нам хватило сил протащить санки сто метров, дальше следовал отдых и подкрепление кашей. Так, с перерывами через каждые 100 метров, мы двигались к намеченной цели. Путь был тяжелым. Вскоре попали в зону разгромленного немецкого обоза. На дороге и по ее бокам валялись трупы немцев, повозки, ящики с боеприпасами, убитые лошади, винтовки, автоматы и прочее добро. Видимо, бой был недавно, ибо одна из лошадей похрапывала в предсмертных судорогах.
Стало жутко. Вблизи могли оказаться немцы, убежавшие в лес, а нас только двое, на вооружении — две винтовки. Я сделал для острастки несколько выстрелов, и мы двинулись дальше. Так, постреливая из винтовок, мы миновали страшное место дороги длиной более километра. В распоряжение роты прибыли утром, проделав путь за 8 часов. Он мне запомнился на всю жизнь.
В деревню Поги меня и Лешу Чапко забросили так же ночью. Здесь находилась разбитая церковь, и мы ее облюбовали для развертывания рации. По лестнице забрались в помещение на высоте 5–7 метров. Без окон и дверей, церковь напоминала продуваемое решето. Наладили связь. Днем было более-менее нормально, а ночью в разбитой церкви сидеть в холоде и темноте за рацией — занятие весьма неприятное. Я высовывался в проем и периодически стрелял из винтовки в подкупольное пространство. Это для поднятия духа.
Днем, оставив Чапко дежурить на рации, решил прошвырнуться по деревне на поиски съестного. Обходя двор одной избы, увидел за стеной сарая возвышение, присыпанное снегом, и торчащий сапог. При более внимательном осмотре обнаружил, что здесь свалены трупы наших бойцов. По рации сообщил об этом в штаб, через какое-то время прибыли офицеры. В числе убитых узнали бойцов разведроты, которые ушли через линию фронта в разведку, когда фронт проходил в Красном Бору. Видимо, наша разведка попала в засаду, была взята в плен и в Погах, где находился штаб немецкой дивизии, расстреляна.
В Погах мы осмотрели пустые избы, в подполье одной из них я обнаружил немного картошки, которая позже нам пригодилась. За домами раскинулось огромное немецкое кладбище. Поразило меня упорядоченное захоронение на этом кладбище. На каждой могиле стоял березовый белый крест. Все кресты были одинаковые и располагались в строгом шахматном порядке, ровные ряды, как струна, просматривались как по квадрату, так и по диагонали.
Из деревни Поги мы переместились в Лисино-Корпус, а затем и в Каменку. Наше продвижение было стремительным, настроение отличное: идем вперед!
Вскоре вышли на шоссе Ленинград — Луга: предстояло взятие Луги. Была создана оперативная подвижная группа штаба укрепрайона, и я радистом попал в эту группу. На небольшом грузовом ГАЗике мы двинулись по шоссе в сторону Луги: двое радистов (я и Дронзин), остальные — офицеры штаба. Дорога была сплошь забита войсками. Захватывающее зрелище: по широкому шоссе огромная масса людей и техники двигались в одном направлении — на Лугу. Сначала нашему ГАЗику удавалось кое-как прорываться вперед. Однако с каждым броском продвигаться становилось все труднее. Танки и самоходки двигались по целине, рядом с шоссе, наш же ГАЗик мог ехать лишь по дороге.
В одной из пробок кто-то сделал предложение: съехать в кювет и ехать по кювету, утоптанному танками. В кузове сидело человек двадцать отборных молодцов. Быстро спихнули автомашину с дороги и стали руками толкать ее вперед, Дело сразу пошло на лад, мы быстро рванули вперед. Сняли шинели, и всеми силами навалились на борта автомобиля.
Продвигаясь таким образом, вышли к переправе через реку Луга. Мост был взорван, справа виднелась станция Толмачево, где железнодорожный мост тоже лежал в развалинах. Стоя на высоком берегу Луги, мы видели, как в нескольких километрах влево шла переправа наших войск на другой берег. Это было неповторимое зрелище. Скованная льдом река чернела от людей и техники. В створе переправы река была шириной около километра, однако только у противоположного берега виднелась вода шириной метров сто, а остальная часть речки — болотистая пойма. До водной преграды машины пробивались своим ходом, погрязая в болоте. У противоположного берега, где текла вода, технику перетаскивали на буксире гусеничные трактора и танковые буксиры.
Наблюдая с берега за этим муравейником, царящим внизу, мне подумалось: «Если налетит „мессер“ или „юнкерс“, от этого столпотворения останутся рожки да ножки». Но уже в это время немцы были не те, что в Красном Бору. Ни одного вражеского самолета так и не появилось.
Мы столкнули свой ГАЗик в речку и, толкая его руками, стали продвигаться к противоположному берегу. Это был адский и рискованный труд. Увязая выше колеи в грязи, мы по сути дела на руках волоком тащили свое транспортное средство. Я был в валенках, грязь доверху наполнила их, но все равно изо всех сил упирался в борт машины. Вокруг стояли застрявшие в грязи танки, орудия, автомашины, другая техника. Люди, не уставая, пытались ее как-то вытащить. Мы же медленно, но верно продвигались вперед.
Наконец, добрались до водной полыньи, подцепили ГАЗик к трактору и мигом вытащили на противоположный берег. Вздохнули с облегчением. Кое-как почистились, взобрались в кузов и двинулись в сторону Луги, где шел бой за ее взятие. Мы спешили вместе с наступающими войсками войти в Лугу.
Километра через два или три случилась беда — вышел из строя карданный вал автомашины. Радистов с шоферами и автомашиной оставили на дороге у разбитой будки, остальные на попутном транспорте уехали в сторону Луги. Нам же пришлось ночь коротать у дороги. Разложили костер и так просидели до рассвета. Рано утром за нами приехал офицер, и мы явились в только что освобожденный город Луга. Здесь творилось что-то невообразимое. Город кишел людьми. Развертывались различные штабы, дымили походные кухни, разворачивались огневые точки, все было забито техникой. Но что нас поразило, так это обилие партизан. Мы много слышали о партизанах, но увидели их впервые в Луге. В гражданской одежде, с оружием за плечами, все они на шапках имели красную полосу. По этой красной полосе их и узнавали. Гражданских жителей на улицах я не видел.
Разрушения в городе были огромные. Нас, радистов, разместили в какой-то небольшой избе. Быстро развернули рацию. К этому времени все мы были уже асами своего дела. Установить связь — раз плюнуть. Я взобрался на рядом стоящее дерево, затянул туда конец антенны и привязал. При такой антенне мы перекрывали возможности рации в два раза, установив в рекордный срок радиосвязь с батальонами и укрепрайоном. Оставив Дронзина у аппарата, я прошвырнулся по Луге, но раздобыть абсолютно ничего не удалось.
За Лугой, в направлении Пскова, шли бои за село Струги Красные, поэтому, не задерживаясь в городе, мы двинулись дальше на юг. Гора с горой не сходятся, а человек с человеком может встретиться где угодно. Так получилось, что на военной дороге, на одной из пробок, я встретил девушку, с которой был мой первый мимолетный роман еще в Славянке. Встретились случайно, обрадовались. Пока стояла машина, перекинулись несколькими фразами. Она несколько изменилась, почему-то стала хвастаться, как ей хорошо живется в новой части, Я смотрел на нее с грустью, но вскоре мы тронулись в путь, и больше я ее не встречал.
Наши войска пытались взять с ходу город Псков, но получили жестокий отпор, остановились и заняли оборону. Несколько месяцев шли позиционные бои. Здесь, под Псковом, наша рота связи снова оказалась в условиях, похожих на ленинградские. Пришлось основательно окопаться. На скорую руку из деревьев соорудили в лесу огромный шалаш, в нем устроили в два ряда из веток подобие нар, в середине — проход. Шалаш разгородили по длине на две части: в одной половине — мужчины, в другой — женщины. К этому времени треть состава роты у нас — были женщины. Однако вскоре шалаш пришлось покинуть, началась обычная жизнь в обороне. Штаб укрепрайона разместился в Бобровнике, а взводы нашей роты связи — поблизости. Потянули провода в батальоны, были развернуты все радиостанции.
Псковская земля была немцами разорена до основания. Все деревни и села немцы сожгли, население укрывалось в лесах, в землянках, дорог туда никто из нас не знал. Надо отметить, что весь путь от Ленинграда до Пскова, по сути дела, проходил по разоренным и сожженным деревням.
Здесь я хочу остановиться на весьма важном случае с медом, из-за которого меня чуть не расстреляли. При встречах на праздниках Победы мы часто вспоминали этот злосчастный эпизод, смеялись, шутили. Но тогда шутки были плохи.
Корреспондент газеты «Красная Звезда» с моих слов так записал это событие.
«…Радисты расположились в оставленном немцами укрытии-землянке высотой чуть больше метра. Вход в нее был сверху — небольшая дверь. За рацией можно было работать сидя на чурбаке.
Командир радиовзвода Борисов приоткрыл ветки входа, спросил: „Кто свободный от дежурства?“ Я откликнулся.
— Ты-то мне и нужен, — сказал офицер. — Будешь старшим. Вам с рядовым Козаченком приказано срочно перебросить нитку вот в этот хутор, — Он развернул карту и показал тот злополучный хуторок. — Берите катушки кабеля и — вперед!..
Выполнив задание, мы присели на какой-то песчаный бугорок передохнуть, перемотать портянки. И вдруг я почувствовал, что под сапогом поехал прогретый солнцем песок. Обнажилась доска, вторая. Разгребли землю — дверь в погреб. Обследовали, не заминирована ли, осторожно открыли. Нет, это было не то, что мы ожидали увидеть, не погребок, набитый трофейными запасами вина и продуктов. Обычная крестьянская погреб-землянка, в котором когда-то хранилась картошка, другие овощи. Об этом свидетельствовал оставшийся в углу мусор и запахи гнилых корнеплодов, Козаченок досадливо пнул эту гниль сапогом и вдруг замер.
— Тут что-то есть! — сказал он тихо.
Мы разрыли мусор и обнаружили в нем два пятилитровых глиняных кувшина. Оба были закрыты клеенкой и туго завязаны бечевой. Взмах ножа, и к запахам прели примешался тонкий аромат пчелиного меда, У нас с собой был лишь один случайно завалявшийся сухарь, мы разделили его и сжевали, обильно закусывая янтарным нектаром.
Вернулись в расположение роты, и прежде чем доложить взводному о выполнении задания, устроили медовый пир в своей землянке. Мы не заметили, как вслед за нами, по нашим следам, на небольшом расстоянии шел худенький, мало приметный мужичок. Так случилось, что первым ему на глаза попался лейтенант Борисов. И пришелец пожаловался офицеру, что два советских солдата забрались на хуторе в его погреб и унесли два кувшина меда, который он берег на лекарство для больных детей. Он же указал и землянку, в которой скрылись те солдаты.
— Головко, медком угостишь? — спросил взводный, войдя к связистам. Оба кувшина стояли на столе из снарядного ящика.
— Пожалуйста, товарищ лейтенант! — обрадованно сказал я.
— Спасибо, Головко, — нахмурился офицер, — удружил… Залезть в погреб к бедному крестьянину и унести последнее, что у него было… не ожидал такого подарочка. Пошли к ротному.
Но ни ротного, ни комиссара на месте не оказалось. Борисов пошел докладывать о происшествии командиру роты Горбачеву. Тот немедленно снял трубку и обо всем случившемся рассказал оперативному дежурному укрепрайона. Дежурный, как и положено, поставил в известность о чрезвычайном происшествии непосредственного начальника генерал-майора Бесперстова.
— В моих войсках мародерство? — грозно удивился генерал и решительно приказал: — Немедленно доставить этих паршивцев ко мне в штаб. Согласно приказу Верховного лично их расстреляю!
Командир роты вызвал сержанта Смирнова. С оружием и патронами.
— Вам, товарищ Смирнов, приказываю отконвоировать Головко в штаб укрепрайона лично к товарищу генералу Бесперстову. — Голос у него звучал надтреснуто и, как показалось мне, с нескрываемой грустью. — Дошлите патрон в патронник и будьте бдительны. При малейшем неподчинении или попытке к бегству арестованного разрешаю стрелять. Головко за мародерство будет лично расстрелян генералом Бесперстовым. Выполняйте, Смирнов!
— Есть! — глухо сказал Юрка и повернулся ко мне. — Арестованный, в штаб укрепрайона шагом марш!
День незаметно шел к исходу. Дохнуло сырым холодком, и я вдруг почувствовал, как меня начинает бить озноб. В душе подсмеивался над собой, идущим на расстрел под конвоем своего друга. „Вот будет что вспомнить потом“. Когда „потом“, я как-то не подумал. Идти предстояло с одной окраины деревни на другую, противоположную. Я отметил, что встреченные нами солдаты смотрят на нас безо всякого юмора, скорее со злобным осуждением — раз под конвоем, значит преступник, какой-нибудь дезертир или предатель. Озноб прекратился, и меня обдало холодным потом. „Ведь и вправду могут расстрелять, — пришла вдруг ясная и страшная этой ясностью мысль. — Шлепнут для острастки других, и никому ничего не докажешь“. Я встречался с генералом Бесперстовым, был при нем с радиостанцией, когда шли изнурительные бон в районе Пскова. Жесткий и бескомпромиссно требовательный, он никому не делал никаких уступок и поблажек, в первую очередь самому себе. По несколько суток не знал отдыха, руководил боем, находясь чуть ли не в боевых порядках, под разрывами мин и снарядов менял командный пункт. О нем говорили, как о человеке решительном и безжалостном. И потому до меня все отчетливее доходил страшный смысл фразы, брошенной комроты: „будет лично расстрелян генералом Бесперстовым“.
— Ты что же, Юра, — спросил я боевого товарища, — в самом деле будешь стрелять, если я побегу?
— Естественно, как приказано, — не то в шутку, не то всерьез буркнул Смирнов. — Ты лучше иди и не разговаривай. Не положено.
За словом „расстрел“ в моей памяти мгновенно оживал летний день 1943 года, небольшая лужайка на окраине Усть- Ижоры, кирпичный домик СМЕРШа. Накануне из штаба укрепрайона пришло письменное приказание выделить от каждой роты двоих представителей и прислать к десяти утра в указанное место для участия в мероприятии. Радиовзвод представлял я.
О каком именно мероприятии шла речь — узнали на месте: показательный расстрел пленных фашистов. Июльское солнце к десяти часам уже набрало силу и жарило так, что хотелось или в тень, или в прохладную землянку. А „мероприятие“ затягивалось, зрителей долго и бестолково строили и перестраивали неподалеку от свежевырытой квадратной ямы. Все-таки человек двести присутствовало, и расположить их так, чтобы всем и все было хорошо видно, задача не простая. Наконец по рядам прокатилось глухое „Идут!“
От кирпичного домика отделилась группа немецких солдат и несколько охранников. Пленных грубовато построили возле ямы. Их было шестеро, все в хорошо подогнанной форме, в сапогах с короткими и широкими голенищами, чисто выбритые. Я впервые видел немцев с такого близкого расстояния и удивился, что не испытываю к этим шестерым той злобы и ненависти, которая всегда кипела при одной только мысли о фашистах и о тех бедах и страданиях, которые они принесли на нашу землю. У этих были нормальные человеческие лица, спокойные глаза, ни страха, ни затравленности, словно их вывели не на расстрел, а на утреннюю прогулку.
Толстенький майор в фуражке с синим околышем зачитал приговор военного трибунала, котором говорилось, что эти шестеро были взяты в плен при попытке совершить крупную диверсию против Ленинграда и его защитников, что все они члены фашистской партии, что на допросах ни один из них не раскаялся в содеянном, что все они заявили о своей преданности Гитлеру и одобряют его разбойную политику. Учитывая все это и особую опасность захваченных фашистов, военный трибунал приговорил всех шестерых к расстрелу.
Я внимательно вглядывался в лица пленных. Они по-прежнему были спокойны, словно не верили в зачитанный приговор. И лишь когда их стали разворачивать лицом к яме, один не выдержал и закричал, что он не фашист, а поляк, что его мобилизовали и он не хотел убивать. Майор, что зачитал приговор, приставил к его затылку пистолет и выстрелил. Точно так же, выстрелами в затылок, были убиты и остальные немцы. Стоя на краю ямы, офицеры СМЕРШа сделали еще по несколько выстрелов по свалившимся жертвам, спрятали пистолеты в кобуру и ушли в свой кирпичный домик. Над освещенной солнцем лужайкой повисло тягостное молчание. Умом я понимал, что расстреляны фашисты, что приняли они заслуженную кару, а на сердце было необъяснимое смятение: ведь пленные, а пленных не расстреливают…
И вот теперь, когда меня самого вели под конвоем, как преступника, я начал осознавать, что могут и меня так же спокойненько шлепнуть, как шлепнули тех шестерых. Воображение услужливо выстроило сюжет: из штаба укрепрайона выходят и строятся солдаты и офицеры, начальник штаба майор Мещеряков зачитывает приказ Верховного о том, что мародеров надо расстреливать на месте, генерал Бесперстов вынимает из кобуры пистолет и приставляет холодный ствол к моему затылку… Дальше резко падал занавес — сознание противилось воспроизводить продолжение. Не могло произойти дальнейшее, не могло! В штабе меня знали многие офицеры, знали, как одного из лучших радистов, как честного бойца — одного из первых награжденного орденом Славы. Да и сам Бесперстов должен помнить меня, ведь это я откопал генерала из-под рухнувшего после разрыва снаряда перекрытия блиндажа. Не мог он забыть тот случай, ведь руку жал, благодарил за спасение.
Солнце уже явно валилось к вечеру. Тени, что падали на дорогу от голых скрюченных деревьев и редких домов, стали длинными и серыми. Уцелевшие в окнах стекла вспыхивали насыщенно-красными бликами, и в этих вспышках я чуял некую безотчетную тревогу, как будто опытный артиллерист брал меня в смертельную вилку.
К штабу укрепрайона вышли через какой-то заброшенный двор с опустевшими постройками, с неприкаянно бродящими по нему собаками. У входа в штаб стояло несколько офицеров, тихо переговаривались, курили. Завидев меня и конвойного, кто-то крикнул, и во двор высыпало человек двадцать, точно, как и представлял я. А потом что-то не состыковалось, хотя на крыльце, похожем на трибуну, появились и начальник штаба, и генерал Бесперстов, и еще какие-то незнакомые полковники. Юра Смирнов поправил гимнастерку и приготовился отрапортовать генералу, что его приказание выполнено, но тот махнул рукой и добродушно сказал:
— Отставить конвой. Можете возвращаться в роту.
Было ясно, что пока мы шли через деревню к штабу, что-то произошло. Но что? Впрочем, через минуту этот вопрос нас перестал волновать. Какая разница, из-за чего начальство передумало? Главное, что все обошлась, что не случилось непоправимое, что жизнь продолжается».
* * *
Почему Бесперстов передумал? Разное говорили. Будто командир роты звонил ему, будто из штаба армии кто-то отсоветовал. Не знаю. Алеша Чапко утверждал, что какой-то хромой парень рассказал капитану Горбачеву, что «пасечник» лизал немцам задницы, выдал раненого красноармейца, что вместо того, чтобы его самого расстрелять, вы своих ставите к стенке. Вот тогда Горбачев и начал названивать…
Вскоре наступила весна, стало тепло, меня и еще двух радистов забросили куда-то на отдаленную точку, где мы развернули рацию и приступили к обычной работе.
При наступлении на Псков было подбито много наших танков Т-34, некоторые из которых оказались на нейтральной полосе. Кем-то было принято решение вытащить эти танки из нейтральной полосы. Задачу эту выполняла воинская часть, имевшая специальные тягачи, тросы и все необходимое оборудование. Тягач — это танк, но со снятой башней, сверху заделанный броней.
Глухой ночью наши танкисты приближались на тягаче к нейтралке, протягивали к подбитому танку трос, зацепляли его и на тросе тянули на свою территорию. Операция эта была очень опасной, ибо немцы внимательно следили за нейтралкой и при малейшем шуме открывали ураганный огонь, с нашей стороны были убитые и раненые.
Вспоминаю, как ребята-танкисты готовились каждый день к этой операции. Все были сосредоточены, серьезны, каждый делал свое дело. К вечеру они подходили ближе к нейтральной полосе, под специально создаваемый шум, подтягивали тягачи. Долго сидели в засаде, внимательно наблюдая за нейтралкой и за немецкими окопами.
Зато сколько было радости к рассвету, когда танкисты возвращались с операции! Иногда, чтобы вытащить танк, требовалось несколько ночей, редко удавалось провести операцию за одну ночь.
У танкистов мне запомнился Ваня Почукаев. Это был жизнерадостный паренек из Москвы. Среднего роста, спортивная фигура, вьющийся светловолосый чуб. Ваня был непревзойденный танцор, бывало в дни отдыха, под гармонь, выходил на круг с высоко поднятой головой, с пляской проходил по кругу, запевал:
Пускай цыганка тебя полюбит, В объятиях будет она с тобой. Она любить так не умеет, Как я любила тебя, родной.И пошел Ваня мелкой дробью своих кирзовых сапог отбивать «цыганочку»! А вечером Ваня снова со своими товарищами шел на нейтралку спасать наши танки. Мы с ним подружились, обменялись адресами, договорились после войны встретиться.
Однажды в лесу, где мы находились, случился пожар, лес полыхал с треском. И вот здесь танкисты на наших глазах проделали такое, что нам и не снилось. На танках и тягачах они начали утюжить лес вокруг пожара, локализовали его, а затем и полностью погасили.
При отступлении немцы по дорогам разбрасывали агитационные материалы. Дороги буквально были завалены листовками и брошюрами, они шуршали под нашими ногами. Одну такую брошюру я внимательно прочитал. В ней довольно убедительно излагался «еврейский вопрос». Из этой брошюры следовало, что евреи захватили власть в России, а также во многих странах мира. Особенно сильна власть евреев в США, где находятся все центры еврейского мирового правления. Многостраничная брошюра довольно подробно описывала методы и ухищрения еврейства в деле порабощения народов. Брошюра была первой в моей жизни замятиной, когда появились большие сомнения в существовавшем мироздании. Она дала толчок к более внимательному наблюдению за жизнью планеты, а многие ее постулаты подтверждались в повседневной жизни. Особенно это стало ясным на примере России, после так называемой «перестройки», когда «пятая колонна» сбросила маски, ринулась к власти и разорила страну.
Тогда, на войне, возникло желание сохранить прочитанную брошюру, однако времена были суровые, за нее в лучшем случае можно было получить штрафбат, в худшем — расстрел. Недалеко от нашей землянки, где располагалась рация, в сосновой рощице, возле приметной сосны, я вырыл в сухом песке небольшую яму, уложил брошюру в пустую консервную банку, и все это закопал с надеждой, если останусь жив, найти это место и извлечь брошюру. Однако после войны такой возможности не представилось, да и место это я забыл.
В девяностые годы подобная литература в таком большом количестве появилась на книжном рынке, что позволило хорошо изучить «еврейский вопрос». Полагаю, что наиболее основательными являются труды: «Что нам в них не нравится», «Дни» Вас. Шульгина, «Международное еврейство» Генри Форда, «Спор о Сионе, 2500 лет еврейского вопроса» Дугласа Рида.
Но вернемся к дням фронтовым. Итак, в районе Пскова и Острова шли позиционные бои, укрепрайон и рота связи держали оборону, и наша жизнь приняла обычный фронтовой ритм. Дежурство на рации, прием-передача радиограмм, передислокация с одной точки в другую.
Как всегда, меня беспрерывно направляли на отдаленные от УРа точки, где по сути дела мы с напарником и рацией находились вне опеки офицеров: Подборовье, Старанья, Бобровник, Елизарово. Все команды и приказы получали по рации. Естественно, мы получали сухой паек и пищу готовили сами. Обычно это были простейшие суп и каша. После блокады мы никак не могли избавиться от ощущения голода, поэтому нашего сухого пайка явно не хватало. В условиях Псковщины достать что-либо съестное было невозможно: население само голодало. Однако все же кое-что перепадало и нам, в основном картошка. Меняли на солдатское имущество, покупали за деньги. Однако это был мизерный приварок, и мы, по сути, не доедали.
Псков пал неожиданно и быстро, бои были кратковременные, но ожесточенные. Авиация, как немецкая, так и наша, была малочисленной. Вспоминаю случай, когда мы наблюдали за самолетом. Он летел высоко и по прямой, определить, чей он — было невозможно. Вдруг появились истребители и стали преследовать бомбардировщик. Нас поразило, что он не предпринимал никаких маневров, дабы увернуться от истребителей, летел по прямой. Вдруг задымил и неуправляемый полетел «штопором» вниз. От самолета отделились точки, затем раскрылись парашюты. Так мы и остались в неведении, чей самолет был сбит. Однако через несколько часов в расположение нашей рации вышел наш летчик со сбитого самолета. Он-то и рассказал, что сбит немецкими «мессершмиттами», напарника его подстрелили уже на парашюте, он его похоронил, а сам пробирается в свою часть.
Наши части укрепрайона двинулись вперед, и на второй день после взятия Пскова уже были на территории Эстонии. По каким-то причинам нашу рацию командование приказало оставить на месте для связи со штабом какой-то полевой части.
Движение вперед — мечта каждого бойца, ибо оборона и сидение на месте тягостно отражаются на психике людей. Наше вынужденное дежурство под Псковом, в то время когда наши радисты уже сигналили нам из Эстонии, было невыносимым. Это чувство особенно усилилось, когда мы получили, так сказать, «подпольное» сообщение от наших коллег, что в Эстонии полно продуктов.
Наконец, наступил долгожданный час: за нами на автомашине приехал офицер, забрал нас и наше имущество и в объезд Пскова, через Петсеры (Печора), мы поехали в Эстонию!
Лето было в разгаре, шли ожесточенные бои за освобождение от немцев Эстонии. Радистов бросали из хутора в хутор. Налаживая связь с наступающими батальонами 14-го укрепрайона, мы располагались то в Мыза Вынну, то в Комбья, то в Мыза Ныо, Вызывере.
После сожженной земли Ленинградской и Псковской областей, Эстония выглядела цветущим краем. Как известно, до войны республики Прибалтики были буржуазными, и вот теперь нам впервые пришлось побывать в «капитализме». Кроме небольших деревень и поселков, вся Эстония «усыпана» хуторами. Добротные дома и хозяйственные постройки, высокие каменные заборы, цветущие сады и огороды, повсеместно — пчелиные пасеки.
Что особенно запомнилось? Все дома были брошены, эстонцы убежали в леса или отступили вместе с немцами. Разворачивая радиостанцию на хуторе с расчетом в 2–3 человека, мы были в одиночестве. После блокады Ленинграда наш организм требовал пищи, но ее не хватало, и мы влачили полуголодную жизнь. Добыча дополнительной пищи была неотъемлемой составной частью нашей фронтовой службы.
Здесь, в Эстонии, на брошенных хуторах осталось полно разных домашних животных. Однажды мы прибыли на весьма отдаленный от штаба хутор. Двухэтажный деревянный дом на булыжном фундаменте, огромный, длинный, метров в 50 каменный сарай. При нашем прибытии из него послышалось мычание и рык скота. Открыли ворота и мычание коров и быков усилилось, скот беспокойно дергался на цепных привязях. Мы сразу поняли, что он несколько дней не поен водой, нет еды. Во дворе колодец с высоким «журавлем», рядом длинное корыто. Вручную стали наполнять корыто водой, скотина совсем «сошла с ума» — все рвутся к воде, дергая цепи. Стали подряд отвязывать коров, они бегом к воде, большими глотками, без продыха пили воду. Большой двор заполнился скотом, возможно, более сотни голов.
Когда остались на привязи последние 3 или 4 быка, они неистово метались на привязи и мы никак не могли их освободить — было страшно подходить к разъяренным животным. Так все наши попытки и остались безрезультатными. Напоенный водой скот мы выпустили со двора в поле, а оставшиеся быки продолжали реветь, пока не прибыла специальная команда, в задачу которой входило переправлять бесхозный породистый скот в Россию для пополнения колхозных ферм.
На другом хуторе мы жили, как говорится, в «раю». Здесь было полно крупно-рогатого скота, свиней, кур, в саду — пчелиная пасека. В подвале дома разнообразный набор солений, квашений, напитков, соков. Наши полудистрофические желудки были полностью удовлетворены, и чувство голода сразу пропало. Ели мы «вволю», о сухом пайке вовсе забыли, и даже когда находились в расположении штаба роты связи, мало кто ходил к полевой кухне.
Как говорят, «из песни слов не выбросишь». Были и злоупотребления. Получить на пасеке мед — неопытному человеку трудно, пчелы и близко не подпускают к ульям. Василий Иванович быстро сообразил, как забрать мед. Наполнил большое ведро водой, закрылся одеялом, подобрался к пчелиному домику, быстро сбросил крышку улья и бухнул в домик ведро воды! Пчелы выплыли вместе с водой, а он быстро вынул несколько рамок меда и положил их в ведро.
Конечно, блокадники, не видевшие многих продуктов питания, а уж медом и вообще годами не лакомились, в Эстонии наслаждались им от души. Был еще метод быстрого приготовления свинины. Обычно заходили в сарай, где за загородкой находились откормленные свиньи разных возрастов. Выбирали подходящую, небольшую, из автомата или винтовки стреляли ей в ухо. Затем в доме раскаляли огневую плиту до красноты, двое солдат брали поросенка за ноги и валтузили шерстью по накаленной плите. Обрабатывали кожу водой и скребли ножами. Получалась отличная корочка. Тушу разделывали и готовили блюда из мяса.
Обильная пища не всем шла на пользу. Майор Мошнин переборщил со свининой, желудок расстроился, и мы хохотали, наблюдая, как он, обхватив живот руками, бегает в кусты, охает и ахает.
Был у нас мастер по курам — Грачев. Куру поймать — много шума и возни. Грачев дожидался темноты, брал ручной фонарик и взбирался на чердак сарая. В это время куры стройными рядами сидели спокойно на жердях, подвешенных около крыши. Фонариком он ослеплял курицу, другой рукой брал ее за горлышко, быстро сжимал и сворачивал голову. Птица не успевала и пикнуть.
Обработка кур — дело хлопотное, много пуху и перьев, ощипать их без навыка непросто. Поэтому обработка шла по «ускоренному» методу: птицу опускали в кипящий котел, мокрые ошпаренные перья быстро удалялись, и кура была готова к приготовлению.
Что греха таить, наши солдаты, конечно, жаждали спиртного. Те граммы, которые выдавались во время боев, были «каплей в море». Еще на Псковщине, кое-где у селян можно было достать по очень дорогой цене самогонку, но такие случаи были весьма редкими. Здесь же, в Эстонии, при изобилии продуктов подвалы домов были забиты бутылками и банками. Однако в них были соки и напитки, при этом весьма неважного вкуса — кислые. Спиртное попадалось очень редко, видимо хозяева мало его употребляли. Иногда в кладовке или на кухне находили денатурат для примусов — синяя, с неприятным запахом жидкость, но приличной крепости. Вот она шла в употребление немедленно, по мере обнаружения. Наиболее приемлемой для желудка была смесь денатурата с кислым соком ягод, половина на половину.
«Хуторская» жизнь наша, конечно, быстро закончилась. К слову, в Эстонии наступающие части подбирали бесхозных лошадей, запрягали в брички и телеги в этим облегчали себе тяготы передвижения. Обзавелись лошадью с бричкой и мы. Стало очень удобно быстро передвигаться до заданной точки развертывания рации. 32-килограммовый груз теперь лежал не на плечах, а на телеге. И было странно смотреть на наших воинов, сидящих в цивильных повозках, движущихся сплошным потоком к линии фронта.
Такая «партизанщина», видимо, быстро дошла до сведения высокого начальства, и был спущен приказ — немедленно убрать из частей эстонских лошадей с повозками.
Однажды ночью нас подняло на ноги небывалое передвижение наших частей. Утром узнали: прибыла Вторая ударная армия. Значит, будет прорыв фронта немцев и наступление. Нас удивило, что по убранному капустному полю бродили бойцы и собирали кочерыжки, тут же ножами их очищали и с аппетитом жевали. Думалось: кругом хутора, полные живности и продуктов, а они собирают кочерыжки — вот чудаки!
Была моя очередь ехать на соседний хутор за кое-какими продуктами. К нам на развернутую рацию прибыли техник-лейтенант Девидзе и командир взвода лейтенант Крамер. Хотелось угостить их вкусным обедом. Подъезжаем вдвоем с Чапко к хутору и вдруг убеждаемся — пусто, ничегошеньки нет, все куда-то исчезло. Ни живности, ни напитков и солений, ни продуктов. Решили проехать дальше, но и на другой усадьбе ничего нет. Вот тут-то нас и осенило: за ночь бойцы Второй ударной выбрали буквально все подчистую. Разочарованные возвращаемся быстро обратно. Проезжая мимо одной усадьбы, мы увидели, как из дома вышел майор с перевязанной челюстью и искривленным лицом. Плотный, среднего роста, в новеньком обмундировании с портупеей и пистолетом на ремнях, он одной рукой держался за правую челюсть, а другой стал подавать нам знаки, чтобы мы остановились. За ним шли несколько офицеров. Не успели мы выпрыгнуть из брички на рессорах, как нас тут же окружили и по команде майора с больными зубами распрягли лошадь, взяли ее под уздцы и повели к дому, а нашу бричку перевернули вверх колесами в глубокий кювет на обочине дороги. Все это произошло так быстро, что мы даже не поняли, что же случилось?
Сидя на обочине дороги у перевернутой телеги, мы мрачно думали, что делать? Решили доложить нашим офицерам, благо они были у нас на рации. Леша побежал докладывать, а я остался караулить бричку. Через некоторое время появились Леша и Девидзе — высокий брюнет-грузин, с красивыми усиками, удлиненным лицом, с подтянутой стройной фигурой, не по-фронтовому одетый в приличную офицерскую форму, с полным комплектом ремней, пистолетом и планшеткой на боку. Он у нас в роте был в некотором роде офицер-франт, женский пол был от него в восторге, да и он относился к женщинам неравнодушно.
— Сейчас, Васья, мы заберем свою лошадь, — сказал Девидзе, — вы оба будете меня сопровождать, наведите марафет, подтяните ремни, автоматы — на грудь, идите со мной по обе стороны от меня.
В таком торжественном строе мы двинулись к штабу «полевиков». Подошли к дому, у входа — часовой.
— Товарищ боец, доложите командиру: техник-лейтенант Девидзе прибыл на переговоры.
Часовой стукнул ногой в дверь и на крыльце появился старший лейтенант. Девидзе объяснил ему цель прихода, и через некоторое время его пропустили в дом. Мы с Лешей отошли в заросший кустами угол двора, уселись на траве и стали ждать нашего командира.
Через несколько минут открылась дверь дома, и под конвоем двух автоматчиков вывели Девидзе. Вид его был весьма удрученный. Без пояса, пистолета, портупеи и всех ремней, с распущенной гимнастеркой арестанта повели в сарай, видимо, там была гауптвахта, впихнули за ворота и закрыли на замок.
Мы притаились, стали ждать, но ничего нового не происходило. Дабы и нас не посадили, мы ползком выбрались со двора, спрятались в канаве возле нашей брички, отдышались и стали соображать, что делать?
Леша вдруг захохотал и сказал:
— Давай Крамера сюда приведем, пусть и его посадят на «губу», вот весело будет!
Теперь уже я двинулся на рацию докладывать Крамеру. Он спокойно выслушал, быстро собрался и мы пошли на выручку Девидэе.
Несколько слов о Крамере. Среднего роста, плотного телосложения, черные, пьющиеся волосы, круглое лицо с постоянно чернеющими волосами, словно он не брился, в общем, типичный еврей. Он был у нас какое-то время командиром радиовзвода, сменив на этом посту Борисова, получившего должностное повышение. Характер у Крамера был довольно спокойный, особенно он не выпендривался (как иногда Борисов), и мы все с ним мирно уживались. К нам в часть прибыл после окончания военного училища.
Подошли к перевернутой бричке, к нам присоединился Леша, и мы втроем двинулись к дому. Оставив нас у калитки двора, Крамер вошел в дом, а мы, спрятавшись в кустах, стали ждать, когда Крамера поведут на гауптвахту. На этот раз ожидание затянулось. Примерно через полчаса или час на крыльце дома появляется Крамер и с ним капитан, оба смеются и веселой походкой направляются к гауптвахте. Капитан открывает ворота сарая, освобождая Девидзе. Еще через десяток минут появляются Крамер, Девидзе с лошадью под уздцы, со смехом подходят к нам. Крамер по-дружески прощается с капитаном, обнимаются. Мы с Лешей с удивлением наблюдаем эту сцену и никак не можем попять, как это Крамеру удалось проделать такую операцию.
— Очень просто, — сказал Крамер, — случайно капитан оказался однокурсником по военному училищу. Мы оба очень обрадовались встрече. Он быстро уговорил майора отпустить нас с миром, и вот мы все здесь!
От капитана Крамер узнал, что, оказывается, накануне вышел приказ командования фронтом немедленно все гражданские брички и повозки выбросить из частей фронта, а лошадей сдать специальным армейским командам, которые отправляют скот в Россию. Мы этого приказа еще не знали, поэтому и поплатились перевернутой вверх колесами бричкой и реквизированной лошадью.
С этого дня наше питание снова стало весьма скромным, в основном — сухой паек. Дополнительных продуктов не стало. Прибывшие полевые части подмели все под метлу! Укрепрайоны (ОПАБы) и рота связи с боями продвигались к городу Тарту, сильно укрепленному пункту немцев. Нас, радистов, перебрасывали из батальона в батальон, радиосвязь работала как часы! Все радисты приобрели огромный опыт, связь устанавливалась быстро. Все так приработались, что даже по стилю морзянки узнавали, кто работает на рации ключом. Не буду описывать батальонные события, они хорошо описаны в книгах, показаны в кино. Были бои, раненые, убитые. Немцы хотя и отступали, но яростно огрызались, часто совершали контратаки, налеты авиации, артобстрелы. Но продвижение вперед часто сопровождалось интересными случаями. Так, однажды мы, несколько радистов с рацией, прибыли в небольшой поселок Выйзывере. Осмотрелись, вроде нет людей. По каким-то неприметным деталям все-таки определили, что в одном доме как будто кто-то есть. Потихоньку пробрались во двор, зашли в дом и вдруг в углу увидели прижавшегося к стене маленького человечка. Попытки заговорить с ним — не увенчались успехом, это был эстонец, по-русски не понимал. Попробовали как-то изъясняться жестами — ничего не выходит. Остыв от испуга в связи с нашим появлением, эстонец открыл дверь в соседнюю маленькую комнату и кого-то позвал. Появилась очень симпатичная девица лет 25–30, улыбнулась и по-русски поздоровалась.
Мы сели за стол и она нам поведала такую историю. Все жители поселка убежали, кто вместе с немцами, кто в леса. В центре поселка, в добротном доме проживал довольно знатный в Эстонии человек — тайный советник, староста поселка. Он, кроме своей службы, занимался торговлей часами, запасными частями к ним и еще другими товарами. Жил богато и хорошо, много имел разного добра. Единственно в чем ему не везло — в лошадях: то подохли, то пропали. И когда под натиском Советской Армии немцы спешно отступили, тайный советник свое добро погрузил на одну телегу, так как была у него лишь одна лошадь, и вместе с немцами удрал, видимо, в Германию. Сам же хозяин дома и рассказчица (его родственница) были арендаторами, то есть арендовали у тайного советника землю и с нее жили. По всему было видно, что живут бедно, обстановка скромная, поставленные на стол угощения — не свидетельствовали об изобилии. Все из поселка убежали, а арендатор решил остаться и поджидать русских.
В его доме мы развернули радиостанцию, быстро установили нужную связь, работа пошла своим чередом. Проверили поселок — не видно людей. Зашли в дом тайного советника — это действительно оказался богатый владелец. Дорогая мебель, тяжелые портьеры, много комнат, на первом этаже холл 50–60 квадратных метров. В этом холле были сложены почти до потолка забитые деревянные ящики. Открыли несколько — в них одежда, обувь, различная утварь. В поисках съестного, мы из ящиков содержимое вытряхивали из середину холла. Несколько ящиков оказались заполненными частями наручных и карманных часов — пружины, колесики, корпуса, многочисленные детальки, металлические браслетки и т. п. Однако часов не обнаружили. Кое-кто взял отдельные коробочки, я же взял плетенную из металла браслетку к часам. Я уже говорил, что у меня всю войну было какое-то мистическое предчувствие: «если буду подбирать что-либо в вещмешок — убьют!» Поэтому считал, что только питание — не грех.
К сожалению, ничего из продуктов в доме тайного советника мы не нашли. При осмотре сада и огорода в кустах обнаружили много замаскированных 50-литровых бидонов для молока. Когда заглянули вовнутрь, то оказалось, что бидоны заполнены обвернутыми в бумагу хрустальными изделиями и дорогой позолоченной посудой. Видимо хозяин приготовил их к вывозу, но не смог это сделать, поэтому разбросал по кустам в своем саду.
Вечером, сидя в доме арендатора, мы рассказали хозяевам о нашем походе в дом тайного советника. А утром подходит ко мне Женя Яковлев и тихо шепчет на ухо:
— Вася, наши хозяева просят, чтобы мы из дома тайного советника принесли им кое-что из одежды и обуви.
— Так пусть идут и выбирают себе все, что им нравится, — ответил я.
— Я им то же самое сказал, но они ответили — не можем, боимся, если кто-либо увидит — будет потом плохо.
Не долго думая, мы с Яковлевым пошли в дом тайного советника, растянули на полу две простыни, нагрузили разного добра, завязали в два узла четыре угла и с тяжелыми ношами вернулись в дом арендатора. Бросили в комнату узлы, сказали: «Пользуйтесь на здоровье, никого не бойтесь».
Чтобы в этом месте закончить описание запомнившихся событий, скажу следующее. Через день-два к нам заявился комвзвода Крамер, с каким-то поручением по уточнению шифров для радиограмм. Мы ему доложили обстановку, а в вольной беседе упомянули о доме старосты. Крамер оживился:
— Пошли, посмотрим этот дом.
С Женей Яковлевым они пошли туда. Когда Крамер уехал от нас, Женя рассказал, что он запасными частями часов набил свой мешок и унес с собой. Мы от души посмеялись над незадачливым лейтенантом: кому нужны сейчас запчасти к часам?!
Однако много позже, когда наша армия вошла в город Пярну и обстановка стабилизировалась, Крамер долгое время реализовывал часовые запчасти часовщикам, за эти деньги поставил себе золотые зубы, покупал напитки и угощал ими офицеров штаба укрепрайона, довольно шикарно тратил деньги.
Выбивая немцев из населенных пунктов, мы медленно продвигались к Тарту. Город был хорошо укреплен, и немцы решили его защищать. Наши войска остановились вблизи города и заняли оборону. Начались кровопролитные позиционные бон, мы несли большие потери.
Однажды утром противник предпринял неожиданную атаку на наши позиции с артобстрелом и применением авиации. Передовая быстро была прорвана и немцы устремились к штабу 14-го укрепрайона. Началась небольшая паника, срочно грузили на машины и повозки документы штаба; нашу главную рацию, смонтированную на автомашине, оттянули вглубь. Всех свободных от дежурства радистов и связистов бросили с винтовками против прорвавшихся немецких солдат. Мы заняли оборону, несколько выдвинувшись вперед от штаба. Вскоре появились вдали немцы, и мы начали вести по ним прицельный огонь из винтовок и автоматов. В это время, с тыла, вдруг прибыло подкрепление из какой-то полевой части, имевшее на вооружении пулеметы и минометы. Огонь с нашей стороны усилился, и немцы залегли. В это время налетели немецкие самолеты и стали поливать нас из пулеметов, бросать бомбы.
В этом бою ранило Женю Курнакова, он получил осколочное ранение в ногу ниже колена, сначала не заметил рану. Сосед увидел кровь на штанах и тогда Курнакова отправили в санчасть. Была контужена Тамара Антонова, получил тяжелое ранение начальник политотдела майор Галицкий, ранило еще несколько человек. К счастью, обошлось без убитых.
Немцы не выдержали огня и отступили на свои прежние позиции. Курнакова на повозке отвезли в полевой госпиталь. Молодой хирург без наркоза разрезал ему голень, долго искал осколок и никак не мог его найти. Ему помогали две медсестры.
— Тебе очень больно? Давай поезжай в полевой госпиталь, там найдут осколок, — сказал хирург.
— Нет, не очень болит, хочу вернуться в свою часть, — попросил Женя.
— Ну, как хочешь.
Зашил десятисантиметровый разрез и отправил Курнакова обратно к нам. Он неделю отлеживался в нашей санчасти. Так и сегодня Женя в 75 лет ходит с осколком в ноге. Недавно посмотрели на рентгене, предложили удалить.
— Носил много лет, пусть остается, как-нибудь доживу, не мешает ходить — и ладно, — ответил Курнаков.
За эту вылазку немцы жестоко поплатились. Не помогла им и созданная на реке Эмайэги мощная укрепленная линия. Войска 67-й Армии, куда в оперативное подчинение вошли части 14-го укрепрайона, в двадцатых числах августа начали штурм города Тарту. Противник упорно сопротивлялся, вел мощный артиллерийский огонь по нашим наступавшим войскам, активно действовала авиация. Но у всех нас было какое- то огромное желание двигаться вперед, вперед, и только вперед. Мы, радисты, были разосланы в наступающие ОПАБы и здесь, сидя в окопах, видели, как наши опабовские батареи всей своей мощью вели огонь по противнику. За рекой, в небе возвышалось огромное облако из пыли и дыма. Строчили пулеметы, бахали минометы. Казалось, немцев полностью накрыли тонны металла и там уже никого нет. Но как только наши пошли в атаку, противник ответил мощным пулеметно- ружейным огнем. Наступающие цепи редели, падали убитые и раненые.
Батальон, где мы были с Женей Яковлевым, ворвался на окраину Тарту, он имел задачу не входить в город, а окраиной выйти в тыл немцев. Однако немцы так драпанули из Тарту, что наш батальон за городом не встретил сопротивления и мы остановились.
25-го августа 1944 года город Тарту был полностью освобожден от противника. В честь этого события по радио мы приняли приказ Главнокомандующего Сталина, в котором перечислялись отличившиеся части, в том числе и войска 14-го укрепрайона под командованием генерал-майора Бесперстова. Нам выдали по двойной порции спирта и устроили сытный обед. Вечером Москва салютовала нам двадцатью залпами из 224 орудий!
Наш путь лежал дальше, на север Эстонии, в направлении города Пярну. С боями освободили населенные пункты Мелисте, Пухья, а впереди был сильно укрепленный город Вильянди. Почти месяц части 14-го укрепрайона в составе 67-й Армии вели бои на участке от Тарту до Вильянди, и 20 сентября мы, наконец, ворвались на окраину этого города. Был поздний вечер, кромешная темнота, только вспышки ракет да пожары кое-как освещали наш путь. Углубившись на квартал в город, мы — то есть два радиста (я и Коля Муравьев), два линейщика и помкомвзвода Лавшук зашли в первый попавшийся небольшой двухэтажный кирпичный дом. С помощью карманных фонариков проверили помещения — никого нет. Забаррикадировали входы первого этажа, дабы не проник кто-либо в дом, на втором этаже развернули радиостанцию, сообщили о своем местонахождении, установили штатную радиосвязь. У одного из линейщиков оказалась литровая бутыль денатурата. Открыли банки консервов, собрали остатки водки. Денатурат, водка и консервы — все пошло в дело. После выпитого все прилично захмелели, тем более что здорово накануне устали, отмахав километров двадцать.
Лавшук принял решение: Муравьев будет дежурить на рации, один из линейщиков — часовой, остальные — спать!
Рано утром, еще не рассвело, меня кто-то разбудил толчком в бок. Раскрыл один глаз и вижу: стоит наш новый комвзвода младший лейтенант Зайков, маленький, щупленький человечек со сплюснутым белобрысым лицом и всем спящим дает пинки ногой. Когда все раскрыли пьяные глаза, Зайков молвил:
— Ну и мудаки! Зайди вместо меня к вам немец или диверсант-эстонец, он бы вас всех как цуциков перерезал, и не пикнули бы! Фронт в городе еще не стабилизировался, половина его в руках немцев, а вы так беспечно пьете и спите!
С винтовками, заспанными с похмелья рожами, мы действительно выглядели хило. Оказывается, и часовой и Коля Муравьев — тоже уснули, и нас действительно во сне можно было всех перерезать.
К счастью, Зайков, кроме выволочки, дальше дело не повел, и мы отделались легким испугом.
Рано утром бой за город Вильянди продолжился, дом за домом мы продвигались вперед, пока из города не были выбиты полностью немцы. Однако к этому времени воевавшие вместе с немцами эстонцы, видя, как немцы оставляют Эстонию, стали переходить в партизаны или, как мы их называли — диверсанты. Так вот, этих диверсантов-эстонцев осталось в городе Вильянди до дури, и когда немцы полностью ушли из города, а наши части расположились здесь, начались поджоги домов. Город Вильянди был застроен, в основном, деревянными двух-, трехэтажными домами, с красивой внешней и внутренней отделкой. Пожары следовали один за другим. Пожарных команд не было, и дома огонь уничтожал безжалостно.
Помню, как напротив нашего дома, где располагалась рация, стоял огромный многоквартирный дом в несколько этажей; в первом этаже — большой магазин. Вдруг мы увидели, что верхние этажи дома горят. Народ собрался у пожарища, стоит молча. Я подошел к дому и крикнул в толпу:
— Что же вы из магазина не берете товары, ведь все сгорит.
Один эстонец на ломаном русском языке отвечает мне:
— Не можем брать, нас обвинят в воровстве.
Тогда я, не долго думая, выломал окно, вошел в магазин и стал доставать с полок разные промтовары и подносить к окну. Желающих получить товары нашлось много. Ко мне на помощь в окно прыгнул еще какой-то солдат и мы с ним интенсивно стали выбрасывать в окно содержимое магазина: бакалею, продукты, мануфактуру и пр. Эстонцы лихо подхватывали их и куда-то уносили. Работали до тех пор, пока огонь не стал подступать к помещениям магазина.
В Вильянди мы находились несколько дней. Половина населения, в основном сотрудничавшая с немцами, покинула город, и многие квартиры пустовали. Мы заходили в такие квартиры в поисках продуктов и выпивки. Как-то в одной квартире, осматривая кухонные шкафы, я обнаружил на антресоли более десятка бутылок по 0,75 литра, похожих на шампанское, но заполненных денатуратом. Лично я особого пристрастия к спиртному не имел, поэтому денатурат не стал брать. Тем более что в Вильянди мы часто находили эстонскую водку в разрушенных продуктовых магазинах.
Вернулся на рацию. Младший лейтенант Зайков спрашивает:
— Водки не нашел?
— Нет, — отвечаю, — несли солдаты ящик, вот выпросил бутылку.
— Давай, открывай, выпьем.
Я открыл бутылку, налил понемногу, выпили. Я рассказал Зайкову о виденных мною в квартире бутылках денатурата.
— Мать твою так и переэтак, дурак ты или кто? Беги быстрей ищи эту квартиру и забирай все бутылки. Бегом!
Я выскочил, добежал до того дома, еле отыскал квартиру, в мешок погрузил все бутылки с денатуратом и обратно к Зайкову. Свалил к его ногам мешок, он заглянул в него, заулыбался.
Этот денатурат все желающие отведали. Вкус его пренеприятнейший. Пробовали смешивать с соками, но все равно, — противно. Однако вскорости весь он был употреблен.
В другой покинутой квартире, случайно, в комоде я обнаружил две красивейшие новенькие немецкие фуражки офицера СС, с черепом на кокарде. Одел, размер мой 62-й, подошел к зеркалу. Вид весьма внушительный. Было желание одну фуражку сохранить как сувенир, но военное время и положение сержанта-радиста не позволило это сделать.
Из Вильянди двинулись дальше, на Пярну. До Пскова и Петсеры мы продвигались по своей родной русской земле и это хорошо чувствовалось. Наши взаимоотношения с населением были самые дружеские. Сплошная бедность и разорение не позволяли гражданскому населению каким-либо образом оказывать нашим солдатам помощь в питании, куреве или выпивке. Был небольшой равноценный обмен. Например, за пол-литра бензина дед давал котелок картошки, за фонарик, сделанный из ракетного патрона — горсть картошки и т. д.
Войдя на территорию Эстонии, сразу почувствовали — иное государство. Добротные хуторские постройки, дома, полные всякого добра и продуктов питания, огромные хозяйственные постройки с сотнями голов скота, птица, пчелы, сады, огороды.
Так как мы шли в передовых частях, гражданского населения на хуторах почти не встречали, в городах же и поселках трудно было определить: как население относится к нам. Во всяком случае радости на лицах эстонцев не видели. Многие понимали русский язык, да и наши солдаты уже знали простейшие фразы по-эстонски: «Пимо он?» — молоко есть? «Тере» — здравствуйте. Нам же отвечали: «Эй ёле» (нет) или «эймисто» (не понимаю).
Во всяком случае наши отношения с населением были нейтральные, ни дружеские, ни враждебные.
Были ли случаи вандализма или насилия? Редко, но были. К этому времени в полном ответе действовал приказ Главнокомандующего о жестоком наказании обидчиков мирного населения и этот приказ неукоснительно выполнялся. За плохое поведение кое-кто поплатился штрафным батальоном или тюрьмой.
Помню такой случай. Мы развернули рацию в небольшом населенном пункте, где 8-10 домов были разбросаны на приличном расстоянии друг от друга. Двое были на дежурстве, двое отдыхали. Рано утром к нам со слезами на глазах пришла средних лет эстонка и стала что-то, жестикулируя руками, объяснять нам на эстонском языке. Ничего не понимая, мы эстонку повели к дому, где размещались офицеры выносного пункта управления. Здесь кто-то из офицеров знал эстонский, и выяснилось, что поздно вечером к ней в дом вошли два офицера («с одной и двумя звездочками» — младший лейтенант и лейтенант, как объяснила хозяйка), поужинали сухим пайком, затем заперли хозяйку дома в одной комнате, а в спальне всю ночь насиловали ее 20-летнюю дочь. Дочь сейчас дома, сидит потрясенная и плачет горькими слезами. Рано утром, затемно, офицеры ушли из дома.
Все были возмущены и потрясены. По всем домам сделали обыски, опросили всех бойцов, часовых. Из рассказов часовых выяснилось, что действительно, через поселок проходили два офицера, имеющие документы и направляющиеся в свою часть. Рано утром их видели покидающими поселок в направлении на запад. Позвонили в штаб, оповестили соседние части. Поймали преступников или нет, мы так и не узнали.
За успешную операцию по освобождению Пскова. Острова, Петсеры (Печоры) коменданту 14-го укрепрайона присвоили очередное звание генерал-майора. Мы, радисты, редко с ним встречались, но однажды в Эстонии генерал-майор Бесперстов со своей свитой заявился к нам на радиостанцию. Я сидел с наушниками и передавал на ключе радиограмму. Остальные радисты занимались кто чем. Бесперстов подошел вплотную ко мне, я передал адресату «ждать», снял наушники и стал докладывать.
— С кем есть связь? — спросил генерал.
— Со всеми ОПАБами, — ответил я.
— Тогда свяжись с 261-м и я сейчас продиктую приказание Милютенко.
Я быстренько вызвал 261 ОПАБ, доложил:
— Связь есть, товарищ генерал-майор!
— Передавай: «Приказываю Милютенко немедленно поднять в атаку батальон и наступать со всеми приданными силами и средствами на населенный пункт Пухья!»
Я в растерянности оглянулся назад. Сзади Бесперстова стоял начальник штаба укрепрайона подполковник Мещеряков и подавал мне знаки, из которых я понял, что ничего не надо передавать. Я взялся за ключ и, не включая передатчик, стал долбить на ключе, имитируя передачу радиограммы. Затем доложил генералу, что приказ передан.
Для читателя поясню. Все передаваемые и принимаемые радиограммы были зашифрованы. Передача открытым — преступление! На фронте было достаточное количество контролирующих станций и любое нарушение в эфире строго каралось по закону.
Бесперстов то ли не знал этих правил, то ли, будучи в сильном подпитии, не соображал о своих действиях, но его указание передавать устный приказ по рации — нелепость.
Через некоторое время вся толпа вывалила из дома во двор. Из любопытства я передал дежурство на рации Дронзину, а сам вышел во двор. Генерал завернул за угол и на глазах у всех, в том числе старушки-эстонки, стал писать. В новом генеральском мундире сцена выглядела пикантно. Затем Бесперстов повернулся, увидел старушку:
— Видела русского генерала? — спросил он, — так вот, перед тобой генерал!
Сцена эта запомнилась как неприятная. Мы слышали, что Бесперстов злоупотребляет спиртным, а тут увидели это воочию.
Наши войска вели наступление с двух направлений: нарвское и псковское, а в середине оставались Чудское и Псковское озера. Некоторые немецкие части попали в кольцо, и мы захватили много немецкой техники, военнопленных. Немцы выходили из окружения и сдавались в плен. Их собирали в небольшие группы и отправляли в тыл. Помню, как на нашу рацию, располагавшуюся на хуторе, вышли 3 человека. С поднятыми руками, они приблизились к нам, покорно сложили автоматы, все свое снаряжение на землю и с поднятыми руками продолжали стоять. Честно говоря, мы не ожидали такой сцены и поэтому растерялись: что делать? Кто-то предложил: расстрелять и дело с концом! Однако большинство наших бойцов не хотели и слышать о такой расправе, ведь немцы пришли сдаваться в плен сами! Запросили штаб укрепрайона, оттуда приказали: в сопровождении бойца доставить в штаб.
Здесь надо сказать, чего греха таить, некоторые наши части пристреливали одиночных военнопленных, ибо не было времени возиться с ними. Ведь надо было доставить их на сборный пункт, выделить бойца для сопровождения, а времени нет, надо выполнять боевую задачу, каждый боец — на вес золота, Поэтому, когда я привел немцев на сборный пункт, где уже собралось несколько десятков пленных, на их лицах я увидел нескрываемую радость и благодарственные поклоны в мою сторону. Видимо, идя под дулом моего автомата, они опасались, что я их по пути пристрелю. А когда увидели группу своих — поняли, что спасены.
Был такой случай. В нашей роте, в каком-то взводе служил «сын полка», белобрысый паренек лет 15–16, среднего роста, мордастенький, не по возрасту рассудительный. На двух телегах вместе со связисткой они везли телефонное имущество. Летний день, солнце в зените, по проселочной дороге едут тихо-спокойно, впереди сидит на телеге женщина-связистка, за ней, на второй — «сын полка». Из кустов выходят два вооруженных немца, подходят к передней телеге. Остановились, немцы улыбаются, бормочут «фрау, фрау», угощают связистку галетами, хотят что-то сказать, объяснить, жестикулируют руками, во фразах попадаются русские слова «рус, корошо» и т. п. «Сын полка» сидит на задней телеге и наблюдает эту картину, на него немцы ноль внимания, стоят спиной. Он берет с воза винтовку и двумя выстрелами убивает немцев! Затем они со связисткой лупят кнутом лошадей и быстро удирают с этого места к себе в часть.
Мы потом долго в роте обсуждали и анализировали между собой этот случай и пришли к выводу, что немцы, видимо, имели мирные намерения, хотели сдаться в плен. «Сын полка» был награжден за свой поступок медалью «За боевые заслуги».
В частях было много несчастных случаев из-за небрежного обращения с оружием. Я сам чуть не стал жертвой случая. На вооружении появились необычные ручные гранаты большого веса. Во время боев этого добра было повсюду в достатке. Я взял одну такую тяжелейшую гранату, подошел к речке и решил попробовать оглушить рыбу. Снял предохранитель и что есть силы метнул гранату на середину речки. Вдруг над водой раздался взрыв, и осколки на моих глазах срезали рядом стоящие со мной кусты. Как ни один осколок не попал в меня — одному Богу известно!
Аналогичный случай произошел со старшим сержантом Лавруком. Он тоже решил добыть рыбки путем глушения гранатой. Откинул чеку, на секунды задержал гранату в поднятой руке и она взорвалась. Взрывом Лавруку распороло руку, лицо, шею. Его отправили в госпиталь на долгое время и мы о нем ничего не знали. Но однажды по фронтовой дороге мы двигались автоколонной на тихом ходу. Вдруг в толпе солдат на дороге кто-то увидел Лаврука, крикнул. Мы все свои взоры сосредоточили на нем, стали кричать. Он узнал своих, встрепенулся, стал бежать за машиной, махать руками. Но фронтовые встречи мимолетны, мы колонной быстро двигались к новому месту расположения, а Лаврук остался в другой части, куда, видимо, попал после госпиталя. Во всяком случае, мы были рады, что он жив.
На фронте из алюминия солдаты мастерили разные поделки: портсигары, карманные фонарики, коробочки и т. п. Для фонариков использовались алюминиевые ракетные гильзы. Не всегда были стреляные, поэтому иногда гильзу освобождали от заряда путем выковыривания его ножом или острым предметом. Был случай, когда заряд загорелся в руках разряжавшего и обжег ему лицо. Вид был страшный — в черноте блестели лишь глаза.
Я уже упоминал, что в армии было много женщин, многие офицеры, да и некоторые сержанты и бойцы обзаводились подружками. Начальник инженерного отдела укрепрайона майор Любош тоже имел подружку из нашей роты связи. В этом ничего не было сверхъестественного, если бы не трагический случай: девица повесилась. В лесочке, недалеко от части. Ее увезли, было следствие, никто толком не знал причину трагедии. Много позднее, как-то в задушевном разговоре с Борисовым, который уже был заместителем начальника управления связи укрепрайона, мы узнали, что повесившаяся девица была гермафродитом. Так, впервые, я услышал это слово.
С боями части 14 укрепрайона продвигались к городу Пярну. На фронте всякое бывает. Имея боевое задание быстро продвинуться к высотке, мы — радисты — вместе с ротой одного из ОПАБов двигались по проселочной дороге, пешком и на телегах. Вскоре наткнулись на обоз какого-то полка. Ездовые обоза были в стельку пьяны и на дороге создали пробку. Мы пытались их обойти, но здесь было болотистое место, и единственным путем оставалась грунтовая дорога.
Начались переговоры наших командиров с офицерами обоза; вскоре переговоры перешли в ругань и оскорбления. Наша попытка напролом обойти обоз закончилась дракой. Обе стороны пустили в ход оружие, началась беспорядочная стрельба. К счастью, у обеих сторон хватило ума стрелять вверх, и «бой» закончился без жертв. Но все же мы сумели обойти застрявший обоз и вовремя занять высоту.
Поздно вечером, после непродолжительного боя, мы ворвались в город Мыйзакюла. Город казался пустынным, не видно и не слышно ни души. В темноте забрались в пустой дом, развернули радиостанцию, подключились к какой-то сохранившейся на крыше гражданской антенне, которая оказалась весьма эффективной и мы быстро наладили связь с частями и штабом укрепрайона.
Мыйзакюла был пунктом, где замкнулось кольцо окружения немецких частей в Эстонии. Отступление им было отрезано и они огромными пачками сдавались в плен. Утром возле нашего дома скопились сотни военнопленных. Странно было их видеть. Здесь собрались люди почти всех национальностей, даже грузины, армяне, итальянцы, поляки (не было прибалтов), какие-то желтые и темные лица — не разобрать. Мы долго наблюдали за пленными, а они, кто сидя, кто стоя, а кто и лежа, вели между собой беседы на непонятных для нас языках. Какой-то ненависти или желания кому-то заехать по мордасам— у нас не было. Простое любопытство.
Возле одной группы пленных я увидел лежащий в траве велосипед, поднял и выкатил его на дорогу. К нашему удивлению, велосипед оказался совершенно исправным. Видимо, кто- то из пленных катил на нем на запад.
Мы обрадовались находке и тут же начали обкатывать велосипед. За войну разучились ездить, но быстро освоили немудреную науку и от души повеселились, катаясь вокруг толпы военнопленных, которые с грустным видом наблюдали за нашим развлечением.
В конце сентября 1944 года, ночью, на плечах отступающего врага мы ворвались в город Пярну. Постольку с Пярну у меня связаны довольно серьезные события, надо коротко напомнить военную ситуацию.
В составе наших войск Прибалтику освобождали и сформированные из эстонцев, латышей и литовцев соединения. Но и на стороне немцев воевало не меньшее число прибалтов. Дрались они отчаянно и ожесточенно, в плен не сдавались, а оказавшись в окружении — уходили в партизаны. Вот этот-то контингент немецких прислужников яростно сопротивлялся. И потом вместе с немецкой группой армий «Север» укрылся на Курляндском полуострове. Вот что сказано об этом в книге «Великая Отечественная война Советского Союза»: «…вскоре наши войска встретили яростное сопротивление гитлеровцев и 19 октября были остановлены на заранее подготовленном рубеже Тукум-Гардене. Все последующие попытки фронтов прорвать оборону и расчленить прижатую к морю группировку успеха не имели… Поэтому вражеская группировка (в Курляндии) оставалась блокированной на полуострове до конца войны и капитулировала лишь в мае 1945 года».
В Пярну еще шли бои, а меня утром с помкомвзвода Василием Афониным бросили в 290 батальон, наступавший вдоль побережья Рижского залива, с которым к вечеру вступили в местечко Хяэдемеэсте. С ребятами — связистами из 290 ОПАБа мы были хорошо знакомы еще со времен боев под Красным Бором, поэтому у нас образовалась дружная компания: Михалев, Терехов, Чупаков, мы с Василием Ивановичем. В Пярну в спешке мы не получили сухой паек, и ребята из ОПАБа поставили нас на пищевое довольствие в ОПАБе. Конечной точкой нашего наступления вместе с 290 ОПАБом были поселки Айнажи и Салацгрива на границе Эстонии с Латвией. Здесь мы закрепились и стали в оборону.
Курляндская группировка немцев вместе с гарнизоном Моонзундского архипелага островов (о-ва Сарема, Вормси, Муху, Хиума, Сырве) прочно удерживала позиции и являлась хозяином Рижского залива. Вот почему командование Ленинградского фронта поручило оборону противоположного берега Рижского залива частям 14 укрепрайона, штаб которого расположился в городе Пярну, центре обороны.
Конечно, все мы мечтали о том, что наши войска быстро уничтожат Курляндскую группировку и нас перебросят на запад для наступления на Берлин. Но судьба рассудила иначе: Великую Отечественную войну мы закончили в Пярну, так и не одолев Курляндскую группировку фашистов.
Итак, мы скова в глубокой обороне. Для нас, молодых ребят. оборона не лучшее время. Опять, как и в обороне под Ленинградом, потянулись тяжелые и тоскливые дни. Немцы часто предпринимали вылазки на наше обороняемое побережье, но всегда получали достойный отпор и уходили на судах восвояси.
Однажды нас с Афониным неожиданно из Aйнажи отозвали в Пярну. Вернувшись, мы увидели, как город на глазах возрождается. Пярну был городом-курортом: песчаные пляжи, море, тенистые парки с аллеями. Его бульвары, площади и газоны делают город как бы большим садом. Рядом с привычными липами, дубами, кленами, березами, ясенями в парках и на бульварах можно встретить пихты, ели, лиственницы, сибирские кедры, черные сосны, туи и кипарисы, можжевельник и рябину, много других пород. Через город протекает довольно широкая река Пярну, мост через которую был взорван отступающими немцами. С постройки нового (временного) деревянного моста и началась жизнь наших воинов.
Мост был построен довольно быстро, и в знак благодарности власти города устроили в здании театра «Эндла» прием для его строителей. Конечно, в театр были не все приглашены, а лишь избранные. Мне очень хотелось попасть туда, но все попытки получить пригласительный билет потерпели неудачу. Было известно, что будет концерт, танцы, приглашено много эстонских девушек. Я решил каким-то образом пробраться в театр. Этот случай по моему рассказу описал в газете, уже в 90-е годы, корреспондент «Красной Звезды».
«В голове у меня сразу же выстроился новый сюжет: я стремительно направился к ратушной площади, что располагалась в центре городка. Улицы Пярну, хотя их и начали интенсивно расчищать, все еще были завалены битым кирпичом от разрушенных зданий. Кое-где в домах сквозь неплотно зашторенные окна пробивался слабый мерцающий свет, помогавший ориентироваться в залитом смолянистой темнотой городе.
У подъезда театра „Эндла“ стояло несколько виллисов, генеральская „эмка“. Водители, сбившись в кучку у одной из машин, курили, судачили. У входа в театр — два автоматчика. Долетевшие из здания звуки джаза, словно туманом, заволокли мое сознание, притупили выработанную войной осторожность, позвали требовательно и безоговорочно.
И я пошел. Перемахнул какой-то забор, лез через штабеля дров, сложенных во дворе театра, пробирался вдоль глухой стены, пока не увидел маленькие приземистые окна подвальных помещений здания. Чутье подсказывало, что эти слепые, похожие на амбразуры окна могут вывести меня туда — в светлые, наполненные музыкой залы. Я протиснулся в одну из ниш, отковырнул ножом засохшую замазку на стекле, вытащил пальцами старые, проржавевшие гвозди. В нескольких шагах прошел парный патруль, и я на несколько минут замер.
Когда шаги патруля затихли, вынул стекло, просунул в отверстие руку и, отбросив крючки, распахнул окно. Внизу был мелкий и липкий уголь. На ощупь отыскал дверь, к счастью она не была заперта, вышел в тускло освещенный коридор, привел себя в порядок. Дальше было просто — на звуки музыки. На первом этаже то и дело натыкался на удивленные взгляды каких-то гражданских людей, но мне было на всех наплевать. Знакомый старшина из штабных бесцеремонно остановил меня на лестнице.
— Ты как сюда попал, Головко?
— Приказано найти зампотеха роты связи. Не видел его?
— А где ты так перемазался? Посмотрись в зеркало.
— Та хрен с ним. Зампотех здесь или нет?
— Нет его здесь. Это точно. Пошли в туалет, там есть зеркало.
Я не узнал себя в ледяной глубине зеркала. Глаза запали, щеки провалились, через весь лоб угольная полоса. Такие же угольные пятна на обмундировании. Намочил под краном кусок бинта, который всегда носил с собой, вытер лицо, одежду, сапоги. Теперь можно было и танцевать.
Танцы были моей непреходящей страстью. Я это понял, когда в 1937 году поступил в Ленинградский строительный техникум. Учиться было нелегко — и школьные знания, полученные в белорусской глубинке, не соответствовали требованиям, и стипендия была символическая, и приживался к городским условиям не просто, но зато в техникуме каждую субботу и воскресенье устраивались в общежитии танцевальные вечера, и удовольствие, получаемое от них, многократно перекрывало все тяготы студенческой жизни. Уже с понедельника начинал считать дни и часы до очередной субботы. Когда меня призвали в армию и, будучи уже в Понтонной, я притащил туда старенький патефон, пластинку с фокстротом „Рио-рита“. Зажигательный танец! От голода шатались, а танцевали, да еще с каким азартом! Устраивали танцевальные посиделки и в укрепрайоне. В блиндаже, на полусогнутых ногах. Рядом рвутся снаряды, пулеметчики обмениваются „любезностями“, а в землянке с двумя накатами верещит патефон, солдаты танцуют „Рио-риту“.
Когда отбили у немцев Красный Бор, при обустройстве в нем связисты не забыли, что одну из землянок надо приспособить под „танцевальный зал“. Конечно же, „мотором“ в эти часы отдохновения был я и мои ближайшие друзья Женька Курнаков, Леша Чапко, Юра Смирнов. Гвоздем программы всегда было выступление дуэта Курнаков-Головко. Песни вылавливали по радио, записывали слова, запоминали мелодию, разучивали в свободные от боевой работы часы. На бис мы всегда исполняли песенку о незнакомке, которая однажды вышла на перрон из вагона под номером пять и навсегда разбила сердце юноши, который искал на этой станции свою любовь.
Однажды, будучи не в духе, командир роты снял меня с поста у Знамени за плохо заправленный противогаз и посадил под арест. А вечером офицер пришел на танцы с молодой врачихой из медсанбата. Танцы же не заладились с самого начала, и ротный понял почему.
— А где сержант Головко? — спросил он.
— Так вы же его под арест посадили, — напомнил Курнаков.
— Отставить арест, Головко должен быть на танцах!»
…Я был уверен, что ротный и сейчас обрадованно улыбнется, когда увидит меня в танцевальном зале театра «Эндла». «Покажи им, Головко, как танцевать надо — скажет наверняка, — пусть знают наших!» Если, конечно, он тоже приглашен в театр на этот торжественный вечер.
Увы, ни ротного, ни зампотеха в танцевальном зале не было. Да и танцы мне не поправились: чопорные гости, пресные лица, музыканты — как восковые фигуры. На танго пригласил белокурую стройную эстоночку. Она опустила глаза и решительно отказалась. Подошел ко второй — все повторилось. Сделал третью попытку, и снова отказ. Настроение совсем испортилось.
В свою землянку вернулся незадолго до полуночи. Все спали. Женька Курнаков хлебал из алюминиевой кружки горячий кипяток, готовился заступить на пост возле складов техимущества.
— Что-то башка трещит, сопли текут, — пожаловался он.
— Я подменю тебя, — сразу созрело у меня решение, — скажу взводному, что ты заболел.
К полуночи небо совсем очистилось, звезд стало много, и казалось, что они шевелятся. Изредка, на той стороне залива, где предполагалась передовая, вспыхивало и медленно оседало зеленовато-белое свечение — беззвучно, с испуганным трепетаньем. Откуда-то издалека в небо взлетали прерывистыми стежками желтые трассеры, я привычно провожал их полет глазами…
В Пярну я начал вести дневник. Жаль, конечно, что не сделал этого гораздо раньше, теперь бы пригодился для записи воспоминаний. Вот, что записано в первых строчках дневника: «Скука и тоска! Сколько же можно стоять на одном месте?! Неужели в этом Пярну буду до конца войны?» К сожалению (а теперь, возможно, и к счастью), мои опасения оправдались.
Итак, Пярну. Возможно, здесь была моя первая любовь. Не помню, как состоялось мое знакомство с Валей Правдиной, связисткой из нашей же роты связи, но вскоре у нас установились близкие отношения. Нельзя сказать, что она была красивой девушкой. Среднего роста, пикантная полнота, не портящая фигуры, круглое лицо, коротко стриженные темные волосы…
Как-то утром в землянку позвонил ротный. Не открывая глаз, нащупал эбонитовую трубку, просунул одним концом под клапан ушанки и, нажав микрофонный включатель, сонно представился:
— Сержант Головко слушает.
— Вот что, сержант Головко, — в трубке звучал усталый голос ротного, — разбуди Курнакова, пусть у радиостанции посидит, а ты дуй ко мне. Будет тебе одно приятное задание.
Располагался капитан Горбачев на первом этаже укрытого старыми тополями двухэтажного особняка, что приткнулся на заброшенной окраине Пярну. У полуразрушенного крыльца валялось несколько помятых цилиндрических коробок от немецких противогазов, сплющенная гильза от сорокапятки.
Капитан Горбачев сидел на стуле босой, расставив ноги, туго охваченные брюками, и пошевеливал розовыми пальцами- коротышками. Видать, только разулся. Ворот гимнастерки был расстегнут.
— Ты знаешь, Головко, — сказал он досадливо — радистов я берегу. Но линейщикам надо помочь. Тем более что связистка новенькая. Сейчас она у зампотеха инструктаж проходит. Проводишь ее на выносной пункт связи, вот сюда. — Он ткнул ногтем указательного пальца в измятый лист карты. — Все просто: по дороге вдоль моря. Тут попутного транспорта до дури. Верст пятьдесят. Там по кабелю определишься.
Старшина Храбров, ординарец зампотеха, не пустил меня в дом.
— Сейчас выйдет твоя связистка, — сказал он, плотно уминая махру в листок газетной бумаги. Послюнявил, склеил, один кончик цигарки запечатал пожелтевшими пальцами, второй сунул в рот. Ловко крутанул колесико самодельной зажигалки, прикурил. — Будь осторожен, — предупредил, — тут в Эстонии по лесам всякой вражины затаилось.
Я, грешным делом, подумал, что связистку придется ждать долго, хотел уже присесть, но дверь скрипнула и она вышла. Если бы у меня спросили, какой она мне показалась, я бы сказал: никакой. Обычный рост, обычное лицо, обычная короткая стрижка, упрятанная под новенькой ушанкой. И одета обычно: перехваченная солдатским ремнем телогрейка, ватные брюки, яловые сапоги. За плечами туго набитый вещмешок.
— Вот, Валя Правдина, наша новенькая, — сказал зампотех. — Проводишь и сразу назад. Парень ты, Головко, отчаянный, но предупреждаю — без глупостей. Понял?
— Так точно, товарищ старший лейтенант!
— Все. Счастливого пути. Можете топать.
Полуторку мы увидели, когда тракт повернул на холм, круто скользнул вниз. Здесь на холме, где волглый ветер затеребил полы шинели, в глаза бросилась пустовавшая площадка с тремя окопчиками, валялись, ржавея, спирали «бруно», пустые цинки от патронов и пропитанные смолой упаковочные картонки. Вся площадка была усеяна стреляными гильзами. А внизу у обочины стояла машина, из открытого радиатора валил пар. Шофер набирал воду из воронки самодельным ведром — белой высокой банкой от сгущенного молока с куском телефонного кабеля вместо дужки.
— Подвезете? — спросил я.
— Чего же не подвезти, если попутно, — буркнул шофер.
Валя села в кабину, я забрался в кузов, устроился на промокшем брезенте. Ехали медленно. В коробке скоростей что- то металлически хрустело. Миновали сожженную деревеньку. Черные печи, пролысины черной земли, ржавая щетина прошлогодней травы. На развилке машина притормозила.
— Вам прямо, мне направо, — сказал шофер, высунув в окно небритое лицо. — Километров пятнадцать.
— Давай сидор, помогу, — не дожидаясь согласия Вали, я снял с ее плеч зеленый вещмешок. Поправив карабин, закинул мешок за плечо. Наконец разговорились, Валя рассказала, что она из Горьковской области, была три месяца в учебном полку, на фронт просилась давно, а послали только сейчас. Очень жалеет, что их разлучили с подругой, и рада, что ей сразу доверили боевую работу. Я в свою очередь похвастал своими друзьями. Рассказал про Лешу Чапко, про Курнакова Женьку, Юру Смирнова. Вспомнил, как в первую блокадную зиму едва не отдали концы, когда учились в школе связи на Суворовском проспекте. Как помогал мне спастись от голодной смерти отец.
— Сохранился у него бидончик столярной олифы, он столяром был. А на помойке у нас была замерзшая картошка. Откопаешь несколько штук, на олифе поджаришь и — жизнь продолжается.
Валя бросала на меня быстрые взгляды, но сквозь прикрытые веками ее глаза нельзя было понять — то ли она не верит, то ли сочувствует, то ли удивляется, что такое могло быть на самом деле.
В деревеньку — конечный пункт маршрута — мы пришли в сумерки. Мороз снова сковал хрупким стеклом края луж. Охладевшее небо низко раскаталось над грустными полями, по которым шел накрап воронок. Промежуточный пункт связи обжил два блиндажа, оставленные немцами — чистые, обшитые неошкуренными стволами изведенного на это дело ближнего соснового подлеска.
— Нам про тебя уже телефонировали, — встретила нас полнотелая связистка со старшинскими погонами. — А вам, товарищ сержант, придется ехать обратно. Студебеккер попутный есть. Хотя мы надеялись, что вы у нас заночуете. Спиртику желаете?
Поесть хотелось. Но и от спирта не отказался. Не успел как следует подковырнуть ножом тушенки из глиняной миски, как у блиндажа просигналил студор. Надо было прощаться.
— Удачи в службе, Валюша, — сказал я и протянул руку. И когда в моей лапе оказалась ее маленькая теплая ладошка, вдруг почувствовал, что щеки и уши стали горячими. «Это от спирта», — успокоил себя и вышел из блиндажа.
А недели через две, когда сидел за ключом и отстукивал радиограмму в штаб корпуса, в жарко натопленный подвал с дымящимся котелком вошел Женька Курнаков и весело сообщил:
— Слышь, Вась, тебя спрашивает некая Валя. Приехала за продуктами для пункта связи.
Тут я снова почувствовал, что жаркая волна ударила в лицо.
Смутилась и Валя, когда увидела меня совсем близко. В этот раз на ней вместо ватных брюк была короткая, плотно обхватившая бедра защитная юбка. И хотя ноги в коричневых чулках свободно болтались в раструбах голенищ, это не портило внешнего вида, скорее подчеркивало стройность ее фигуры.
— Знаешь, — сказала она просто, — я тебя вспоминала чуть ли не каждый день. Звонила к вам на станцию, но тебя не было. А тут вот оказия подвернулась, я и напросилась.
— И я о тебе думал, — признался я и снова покраснел. — Ну, как у тебя там дела?
— Старшина у нас, ты ее видел, хорошая тетка. Как наседка, все заботится о нас, все жизни учит. Приглашала тебя в гости.
— А ты приглашаешь?
— Само собой, буду очень рада.
У нее было около двух часов свободного времени, и мы решили погулять в темнеющем неподалеку хвойном лесу. Уже который день не по-весеннему жарко пекло солнце, и лес задыхался от распаренной хвои. Хвоя была всюду: вверху зеленая, чистая, густая; и под ногами — подошвы скользили по мягкому многолетнему навалу сопревших и ныне подсушенных иголок. На стволах сосен запеклись выжатые солнцем прозрачные капли смолы. Валя отодрала от коры липкую сосульку и посасывала ее с удовольствием, как в детстве леденец. Ее примеру последовал и я. Было покойно и мирно. Слышались приглушенные голоса бойцов, звякающих инструментом возле разобранных гусениц танков, далеко на западе мерно ухали то ли выстрелы тяжелых орудий, то ли разрывы снарядов. Даже не верилось, что в десятке километров идут кровопролитные бои с прижатыми к морю частями курляндской группировки.
Я не заметил, как Валина рука оказалась в моей руке, как мы присели у толстого, выпирающего из земли корня старой сосны и Валя, как нечто само собой разумеющееся, положила на мое плечо свою легкую головку. Короткие волосы нежно коснулись моей щеки, и я замер, боясь спугнуть сладкое остановившееся мгновение.
Уже на следующий день группу радистов бросили в прифронтовую полосу, где немцы предприняли очередную попытку вырваться из курляндского котла. Работать пришлось и под обстрелом, и под бомбежкой, и даже хвататься за карабин, когда в расположение штаба просочилась группа немецких лазутчиков. Бои затихли так же неожиданно, как и начались.
— Пасха приближается, — не то в шутку, не то всерьез сказал капитан Горбачев, — Будут сидеть смирно, по праздникам они не любят воевать.
Еще он сказал, что высшее начальство очень довольно работой радистов, и что всех приказано представить к наградам. Воспользовавшись добрым расположением духа и хорошим настроением ротного, я попросил разрешения обратиться по личному вопросу.
— Что у тебя, Головко?
— В гости меня приглашали на пункт связи. Может, разрешите?
— Новенькая телефонистка?
— Так точно.
— Что ж… Разрешаю! В воскресенье, на Пасху, в понедельник к вечеру быть в роте!
Ночь накануне я почти не спал, волновался, все представлял, как встретит Валя. На рассвете еще раз начистил сапоги и предстал перед ротным.
— Пасха, пьяные эстонцы, мало ли чего может случиться. Зря вы его отпускаете, — заметил заместитель Горбачева.
— Пусть сбегает. Я обещал. Но в понедельник, как штык! Понял?
Что же тут было непонятного? В распоряжении 36 часов. Значит, 50 километров пути — не привыкать. Вышел на околицу, еще сморенную сном, и бодро зашагал по гравейке. Восток уже рассветлился и обещал добрый день: по-весеннему теплый и безветренный. То и дело оглядывался, надеясь увидеть попутную машину или хотя бы конную упряжку, но дорога была пустынной, а пройденные километры значительно короче всамделишных. Привыкший, как все связисты ходить много и быстро, я подсознательно верил, что у любой дороги есть конец, что на любой дороге, тем более такой крепкой и почти не разбитой разрывами и транспортом, обязательно появится попутка. Эта уверенность усиливала хорошее настроение от предстоящей встречи с Валей. Когда мы прощались в прошлый раз, она совершенно неожиданно обхватила меня рукой за шею, вытянулась на цыпочках и поцеловала. Горячо. В губы. Я прямо ошалел от такого пассажа, а когда опомнился, Валя уже махала рукой с подножки тронувшегося студебеккера.
Размашистыми шагами я упорно отмерял километр за километром, благо эстонская дорога была утыкана километровыми бетонными столбиками. Глядя на часы, старался за час отшагать пять километров, дабы за десять часов добраться до назначенного места.
Уже пройдено больше половины, сухого пайка нет и живот подтянуло, сильно хотелось поесть.
Воспоминание о пище отозвалось в желудке сосущим и требовательным сигналом. Отмахал не менее тридцати километров, а дорога как была пустынно-вымершей, такой и осталась. Хутора, мимо которых проходил, тоже не подавали признаков жизни. Лишь в одном дворе заметил пожилую женщину, кормившую с крыльца двух огненно рыжих петушков. Увидев солдата, старая эстонка насторожилась. Но я как можно дружелюбное улыбнулся ей, поздоровался с поклоном и спросил, не угостит ли хозяйка в честь праздника Пасхи кружкой молока. Женщина по-русски говорить не умела, но поняла меня и пригласила в дом. Достала из печи пирог и досадливо покачала головой — еще не испекся.
— В животе допечется! — продолжая улыбаться, сказал я.
Хозяйка пожала плечами, дескать, мне не жалко, но чтобы потом не было претензий. И молока налила в большую глиняную кружку. Во время трапезы я услышал гул автомобильного мотора и мгновенно выскочил из дома, убежденный, что пропустил свою единственную удачу с попуткой. Но старая полуторка шла в противоположную сторону, в Пярну, и на душе стало спокойно. Подарив эстонке валившуюся в кармане коробку спичек, я поблагодарил за угощение и пошагал дальше. Короткий отдых лишь четче проявил накопившуюся усталость, но мысль, что осталось уже меньше, чем пройдено, придавала силы.
Вход в землянку, которую обжили связистки пункта, дверей не имел, был завешен камуфлированной брезентовой тканью от немецкой палатки. Как только я дотронулся до нее, сразу забеспокоился, что-то заколыхалось в горле, стеснило в груди — не продохнуть. Боже! Как я заволновался… Позади 50 километров!
Конечно, меня ждали и волновались. Здесь никто не мог подумать, что не будет попутной автомашины и мне придется весь путь преодолеть пешком. Когда же я сообщил, что протопал пешком — удивлению не было границ!
Поужинали, выпили понемногу, перекинулись с обитателями точки новостями, Я сообщил, что завтра, в понедельник к вечеру я должен быть в роте. Народ засуетился, отвели нам с Валей за дощатой перегородкой место для ночлега.
Утром ноги гудели, но надо было отправляться в путь. Попутного транспорта снова не было, но и ждать у моря погоды некогда, служба есть служба, снова начал отсчитывать километры. Практически, если не считать эстонца с телегой и лошадью, который подвез километров пять, весь обратный путь снова преодолел пешком.
В роту вернулся поздно, за полночь. Ребята уже спали, доложил помкомвзвода о прибытии и завалился спать.
Уже в 70-е годы я как-то рассказал этот эпизод сто километрового похода своей жене Татьяне. Она обронила только короткую фразу: «Да, вот это любовь!».
Наш роман с Валей продолжался довольно длительное время. Редко, но она приезжала в Пярну, и эти встречи были радостными и счастливыми. В одноэтажном доме был большой зал, здесь был оборудован учебный класс для радиовзвода, где мы тренировались по своей специальности, повышали квалификацию. Наиболее опытные радисты сдали экзамены на 2-й класс, получил это звание и я. Для этого надо было передавать и принимать свободно 17 групп в минуту (по 5 знаков в группе, т. е, 85 знаков в минуту).
Во дворе этого дома находились различные хозяйственные постройки, в том числе домик-кладовка. Кто-то облюбовал этот «хитрый» домик для любовных встреч. Здесь было довольно уютно. Низкий потолок из вагонки, маленькое оконце, чистые бревенчатые стены, широкие полати, столик, скамейка. Ключ от «хитрого» домика передавался из рук в руки по мере потребности им воспользоваться. «Тайна» этого домика держалась строго, командиры о нем не знали.
По приезде Валентины в Пярну наши встречи тоже проходили в «хитром» доме. Трудно сказать, как все сложилось бы в будущем, но вскоре произошел случай, который предрешил наш разрыв.
Я вечером заступил на пост у склада техники. Он находился во дворе дома, в котором проживал заместитель командира роты связи старший лейтенант Михеев. Ординарцем у него был старший сержант Хворов. Окна квартиры Михеева выходили на улицу и во двор.
Прохаживаясь с автоматом на плече по двору, я случайно услышал через окна квартиры Михеева женский смех, показавшийся мне знакомым. Подойдя ближе к окну, стал вслушиваться, неожиданно узнал свою Валю. К этому времени она вернулась с точки и находилась в своем взводе в Пярну. Девушки-связистки по наряду ходили на занимаемые офицерами квартиры и производили уборки. Услышав голос Вали из квартиры Михеева, я не нашел поначалу ничего подозрительного: в квартире беседовали трое — Михеев, Хворов, Валя. Проходило время, а Валя не выходила. Вскоре я услышал похрапывание спящего Хворова. К этому времени за плотной шторой погас свет. Вышел на улицу, два окна Михеева освещались. Мысленно определил: Xворов задремал в своей комнате, а Михеев с Валей находятся в большой комнате, окнами выходящей на улицу. Вскоре погас свет, и как огненная стрела пронзила догадка. В таком состоянии человек может натворить непоправимое. Первой мыслью было: дать очередь из автомата по окнам. Метнулся во двор — храп Хворова продолжался, он спал. Все же, видимо, разум взял верх. Подобрав с земли увесистый камень величиной с кулак, я с силой швырнул его в уличное окно Михеева! Сразу как-то отлегло на сердце, и я вернулся во двор на свое место постового.
Через минуту-две дверь распахнулась и во двор выбежала Валя. Я подскочил к ней, она в испуге остолбенела, что-то стала лепетать.
— Поговорим завтра, — промолвил я и отпустил руку, она быстро убежала во взвод.
Еще через некоторое время на крыльце появился Михеев. Я стоял у склада, невдалеке.
— Кто на посту? — спросил он.
— Сержант Головко, — ответил я.
— По-ня-тно, — с растяжкой промолвил Михеев и ушел к себе.
В полночь меня сменил другой часовой, а я вернулся в радиовзвод. Интересная деталь: я никому не сказал о камне, брошенном в окно, Михеев, видимо, тоже не стал раздувать ночной инцидент, и для меня эта хулиганская выходка закончилась без последствий.
Валентина всячески оправдывалась, говорила, что Михеев пытался, но ничего между ними не было. А после того, как раздался треск стекла в окне и в комнату упал увесистый камень, он и вовсе отпустил ее восвояси.
Но с этого времени в наших отношениях появилась трещина. Мы продолжали встречаться, но каждая встреча начиналась с претензий друг к другу, упреков, споров. Я стал подозрительным, наводил справки о прошлом поведении Вали. Выяснилось, что на точке, где она долгое время находилась, к ней часто приходил какой-то пограничник. Она отрицала всякую связь с ним, но мои подозрения не рассеялись. Во всяком случае, серьезных намерений в отношении Валентины у меня не появлялось.
Жизнь в Пярну была довольно веселой. Немецкие вылазки на наше побережье не вносили заметных изменений в жизнь роты связи. Продолжались дежурства на рации, в карауле, патрулирование в городе, занятия в учебном классе. В свободное время устраивали танцы прямо на асфальте улицы под окнами учебного класса, под радиолу. Приходили гражданские люди, солдаты из других частей. Вскоре была открыта городская танцевальная площадка, и мы часто посещали это веселое место.
В радиовзводе появился младший лейтенант Зайков, маленький человечек, худенький, белобрысенький. Заметен он был тем, что был пристрастен к спиртному. Вся его жизнь протекала в заботах — как выпить. При этом он не скрывал этого, находился почти всегда под шафе.
— Правда только в водке, — часто говорил он.
Кончилось это тем, что милиция поймала его вместе с одним нашим бойцом в ювелирном магазине, который они пытались ограбить. Обоих посадили в тюрьму. Однако на 1-е мая их амнистировали и вскоре Зайков исчез из нашей части.
Немецкие передачи на русском языке по радио прекратились, видимо немцам было не до этого. Мы прослушивали эфир, хотя не знали иностранных языков, но было понятно: война приближается к завершению. Где-то в первых числах мая 1945 года мы узнали, что союзники ведут переговоры о мире, хотя в нашей армии это было секретом. 7 мая по передачам на английском и немецком языках я почувствовал что-то необычное, вроде кончилась война. Ждал, что вот-вот наше радио сообщит о Победе. Но прошел день — ничего нет.
9 мая в 2 часа ночи Саша Григорьев своим мощным голосом разбудил взвод.
— Немцы капитулировали, конец войне! — кричал он.
Мы все вскочили, стали обсуждать новость. И вдруг на улице раздались первые, сначала одиночные, а затем частые выстрелы. Было видно, как в небо летят трассирующие пули. Не долго думая, мы схватили свое оружие и, выбежав на улицу, стали палить вверх. Гул выстрелов нарастал, с соседних домов тоже выбегали солдаты и начинали палить. К ружейным и автоматным выстрелам вскоре присоединились залпы зениток, а затем бахнули крупнокалиберные орудия. Сплошной гул выстрелов из всех видов оружия продолжался несколько часов, словно шла артиллерийская подготовка перед атакой!
В четыре часа ночи построились и пошли на митинг. Настроение было такое, словно все сошли с ума. Особенно буйствовала женская половина, девчонки кричали, смеялись, толкали друг друга, валили наземь. После митинга никто не спал, шли задушевные разговоры. Особенно всех заботила проблема: когда по домам.
На 9 часов утра 9 мая был назначен общегородской митинг. Рота построилась повзводно и двинулась на центральную площадь. Радостно было смотреть на четкую колонну и сознавать себя победителем. Вот как у меня записано в дневнике: «Сознание гордости за нашу Красную Армию и панорама жадно смотрящего на нас эстонского населения придает какие-то необыкновенные, новые силы. А ведь многие из них когда-то смотрели на наступающих немцев и думали: „русским капут!“».
Несмотря на подписание немцами акта о капитуляции, для нас война 9 мая не закончилась. Группировка противника, наполовину состоящая из прибалтов, не сложила оружие, поэтому нашим командованием было принято решение — штурмовать!
Несколько радистов из нашей роты связи отправили на помощь войскам, штурмующим немцев. 10 мая я оказался под Тукумсом и влился в части полевиков. Начался ожесточенный бой за прорыв линии фронта. Наша войска были так ожесточены и решительны, что оборона немцев была сразу сломлена и вся громада нашей техники двинулась вперед. Помню лишь, что мы двигались в автомашинах на приличной скорости, а повсюду стояли люди в немецкой форме с подмятыми вверх руками. За несколько часов мы промчались по всей Курляндии и вышли к морю. Повсеместно шло пленение солдат противника, мы лакомились немецким шоколадом и консервами.
После окончания Курляндской операции вернулись в свою часть в Пярну, где уже продолжили жизнь в мирных условиях. Вскоре нас из Пярну вывели и передислоцировали в поселок Вити, вблизи станции Вяна. Здесь когда-то был, видимо, пионерский лагерь и вот в его помещения вселились взводы нашей роты.
Пошла будничная жизнь. Снова встал «во весь рост» вопрос о питании. Мне явно не хватало рациона, утвержденного для солдат мирного времени. Чувство голода напомнило блокаду Ленинграда. Дополнительно достать продукты не было возможности. Ребята советовали обратиться к командованию с просьбой о добавочном пайке, так как мой рост (183 см) и вес (около 100 кг), якобы, давали мне законное право на такую прибавку.
Командир роты ответил, что он не решает такие вопросы, и я обратился к начальнику политотдела укрепрайона подполковнику Маслову. Надо отдать ему должное — он внимательно выслушал и сочувственно отнесся к моей просьбе.
— Не хватает пайка? — спросил он.
— Да, товарищ подполковник, весь день мысли о еде.
— Ладно, что-нибудь придумаем.
Ушел я от него с хорошим настроением. Через некоторое время наш повар Пашка сообщил мне, что ему поступила команда выдавать мне двойную порцию, кроме хлеба. Тут же налил мне полный котелок щей, а а крышку от котелка навалил каши. Ребята шутили и хохотали:
— Ну, теперь ты, Васька, будешь как боров.
Конечно, двойной паек был многоват, и я стал делиться едой с товарищами.
Пашка-повар понимал, что двойные порции для одного бойца — многовато и стал «химичить»: суп наливал примерно полторы порции, то же проделывал и со вторым. Но и я был не лыком шитый. Обзавелся двумя плоскими котелками и с ними заявился к Пашке:
— Наливай порции раздельно, — сказал ему.
Пашка почесал за ухом, но стал выдавать двойной паек в полном размере. Так был решен главный для солдата вопрос.
Готовилась демобилизация старших возрастов. В этой связи пришел приказ часть имущества сдать на армейские склады. Так получилось, что первый рейс с таким имуществом поручили проделать мне. Ранним утром погрузили аккумуляторы, катушки проводов, телефонные аппараты и прочее, и мы с водителем двинулись в Таллин. Но сдать имущество на склад оказалось не так просто, Приемщики придирчиво осматривали каждую вещь и только после этого допускали в склад. В неважном состоянии оказались аккумуляторы, их не принимали, и я принял решение: водителя отослать в часть и просил прислать человека мне на помощь. На второй день приехал Леша Чапко, и мы вместе промыли аккумуляторы, привели их в порядок.
Командованию понравилась моя работа и меня стали посылать сдавать имущество постоянно. На этом деле проявились первые мои организаторские способности. Я метался по складам, разрубал разные бюрократические закорючки и успешно сбывал со своих рук порученное мне имущество.
Одновременно полным ходом шла подготовка старших возрастов к демобилизации. Готовились документы, шла сдача оружия, выдавались выходные пособия. Роту готовилась покинуть большая половина ее состава. Кем-то было принято решение устроить прощальный ужин с выпивкой положенных ста грамм.
Однако это мероприятие закончилось чуть ли не трагедией. Как водится у русских, участники прощального вечера перебрали спиртного, и началась массовая драка, всю ночь шло выяснение отношений.
Так как в радиовзводе была в основном молодежь, то мы в этой пьянке не участвовали. Ночью, когда спали, к нам в помещение влетел помкомвзвода младший лейтенант Северов. Мы знали с вечера, что в лесу идет драка и не стали в нее вмешиваться. Тут же Северов во весь голос скомандовал:
— Радисты, в ружье!
Видя, что и сам Северов под хмельком, Женя Яковлев из-под одеяла ответил:
— Силов нет, слабая кормежка, не сможем воевать с пьяными!
Северов еще что-то прокричал, пригрозил всех наказать и, видя, что никто не собирается вставать с постели, удалился.
Утром можно было наблюдать «славную» картину. Наш шофер с автомашины, где была смонтирована мощная рация, явился с разбитым бутылкой лбом, заклеенным крест-накрест пластырем. Гимнастерка разорвана и ни одной награды на груди. Кстати, на ужин все ветераны принарядились, подшили белые воротнички, до блеска начистили награды. И вот теперь все они бродили по лесу с опущенными головами, сосредоточенными глазами — искали свои награды. Кое-кто ползал на коленках или четвереньках. Нашему веселью не было границ, мы от души хохотали и издевались над горе-«фолькштурмом» (так мы называли «стариков»). Почти у всех были разбиты лица, порвана одежда, потеряны ордена и медали. Все-таки поиски дали результаты, и большинство нашли свои награды в лесу.
На ужине присутствовало и начальство из укрепрайона, но когда началась драка, оно быстро смоталось на легковых автомобилях, оставив ротных офицеров расхлебывать заварившуюся кашу.
О нашем непослушании команде «в ружье», конечно, никто не напоминал. И офицеры и «отвальные» бойцы несколько дней ходили словно провинившиеся дети, и нам было любопытно смотреть на них.
Схема демобилизации была следующей. Ленинградцев предстояло отправить отдельно, через Таллин в Ленинград. Всех остальных собирали в запасном полку, расположенном в глубине Эстонии, а оттуда формировали эшелоны по областям, т. е. по месту призыва.
Несколько раз меня направляли сопровождать демобилизованных в запасной полк. Работа эта была довольно интересная и я с удовольствием ее выполнял. С очередной партией демобилизованных уехала и Валя. Был летний, солнечный день, стояла жара, колосились поля. Мы прибыли на автомашинах в полк, и у меня оставалось много времени до обратного пути. Мы долго с Валей гуляли по полям, говорили о жизни, о наших отношениях. Забрались в высокую рожь, разделись и загорали под солнцем, стоявшем в зените. Трогательно распрощались, и я отбыл в часть.
Валя в запасном полку находилась долго, в ее область никак не могли сформировать эшелон, и я еще два или три раза встречался с нею при сопровождении очередной партии демобилизованных. Последнее посещение было рискованным. Демобилизованные были все отправлены, поэтому навестить Валю можно было, нарушив дисциплину.
Наш ротный фельдшер Шувалов при серьезных заболеваниях возил бойцов в гарнизонный госпиталь, в Таллин. И вот я прикинулся, что у меня заболел зуб. При очередной поездке в Таллин Шувалов захватил и меня. Утром команда из 6 человек прибыла в Таллин, я незаметно смотался, избегая патруля, перебрался пешком по городу на другой вокзал и на товарном поезде, в тамбуре, направился в запасной полк к Валентине. Около запасного полка на ходу поезда спрыгнул, поезда тогда ходили не шибко быстро, и через несколько минут был в объятиях Вали.
К концу дня, так же на товарняке, добрался до Таллина, перебрался на вокзал в сторону Пярну и стал поджидать Шувалова с его командой. Вскоре они прибыли на вокзал, я объяснил, что случайно отстал от своей команды, был задержан патрулем, а затем, после проверки документов и моего объяснения — отпущен. И вот я на вокзале, жду вас, т. е. Шувалова.
В начале войны немцы оккупировали мою родину Белоруссию, и все мои родственники: мать, бабушка, дед, два брата и две сестры остались в м. Василевичи. Всю войну я думал о них, надеялся, что они живы.
При наступлении наших войск ежедневно следил по сводкам Информбюро продвижение в направлении Гомель — Речица. И как только появилось сообщение об освобождении Василевичей, я стал беспрерывно писать солдатские письма- треугольники своим родным. Через некоторое время получил письмо от матери: все живы-здоровы! У меня как гора с плеч — на душе стало радостно! Да и дома, видимо, радости было много. Родственники хорошо знали положение в Ленинграде и считали меня погибшим. Первое письмо, конечно, вызвало неподдельную радость.
Чувствуя, что до демобилизации мне еще далеко, я стал прощупывать почву об отпуске. К моей радости, хлопоты вскоре увенчались успехом и мне был предоставлен отпуск для поездки в Белоруссию. Радости не было границ. Последний раз я видел родных в 1940 году, когда приезжал на летние каникулы после окончания второго курса Ленинградского строительного техникума. И вот теперь, летом 1945 года, предстояла встреча после многих лет разлуки и военного лихолетья.
С оформлением отпускных документов я справился довольно быстро, так как энергии моей не было границ. Я носился по канцеляриям и службам укрепрайона, и все с пониманием относились к моим хлопотам: человек едет к родным, которые многие годы были под властью немцев.
2 августа 1945 года прибыл в Таллии, там целый день простоял в очереди за железнодорожным билетом на Ленинград. Для отца купил на рынке в городе килограмм масла и 3 августа утром прибыл в Ленинград. Дома у отца никого не было, оставил вещи у соседей, а сам направился к своему другу по техникуму Саше Копполову, который всю войну служил в милиции, воевал с бандитами и грабителями, защищал ленинградцев от подлецов. Через некоторое время снова пришел на квартиру отца, на месте была лишь тетя Дуся, отец — на работе. Я его разыскал на Большом проспекте Петроградской стороны. Встреча была трогательной. Договорились: отец идет домой, я — на Московский вокзал узнать насчет билета на Москву, так как на Киев поезда еще не ходили, разрушены мосты и пути. На вокзале удачно получил билет на Москву, на дополнительный поезд, отходящий в полночь. У отца удалось побыть часа три. Поужинали из его скромного достатка продуктов, получаемых по карточкам, немного выпили, побеседовали и он меня проводил до Московского вокзала. В 24 часа поезд тронулся на Москву. В Москве без приключений переехал в метро с Ленинградского вокзала на Киевский и 5 августа в 12 часов дня, тоже на дополнительном поезде, выехал на Гомель. Поезд едва отошел от вокзала, надолго остановился, и с этого момента начались беспрерывные стоянки. В Брянск прибыли в 12 часов следующего дня (обычно от Москвы до Гомеля — сутки езды), и здесь планировалось отправление только вечером. Познакомился в пути со старшим сержантом Колькой, летчиком-радистом, вместе с ним пересаживаемся в отправляющийся на Гомель товарный поезд. Сначала ехали в тамбуре, а затем пересели в товарный вагон, притащили на остановке солому и улеглись спать. В Гомель прибыли вечером, и к моей радости узнаю, что наш товарняк идет на Василевичи.
Колька-радист ехал в Хойницкий район к своей девушке и наш путь до Василевичей совпадал. Ночью крепко уснули на соломе, а когда проснулись, то не могли определить, где мы находимся и, возможно, уже проскочили Василевичи. После долгих дебатов и наблюдений за полустанками определили: все в порядке.
В 6 часов утра 7 августа 1945 года я прибыл на станцию Василевичи, на свою Родину! Дома меня никто не ждал, ибо отпуск я оформил неожиданно, а письма тогда ходили по месяцу. Иду ранним утром по улицам родных Василевичей и не верю, что я дома. Подхожу к дому матери на улице Калинина, тихо, никого не видно. Открываю дверь, благо она была не заперта на замок, вхожу в дом. Вдруг с постели вскакивает сестра Ольга и с плачем бросается ко мне на грудь. В это время на пол с постели сваливается грудной ребенок и громко ревет. Я в недоумении. Подумалось, что Ольга родила ребенка — байстрюка (то есть без отца). Но вскоре она мне открывает «секрет», который в письмах мне не сообщали: моя мать, Мария Романовна, в 44 года родила сына, а мне брата.
— От немца, что ли?! — спрашиваю Олю.
— Нет, от нашего. Стояла у нас в Василевичах наша часть, в мать влюбился капитан и вот — ребенок, — отвечает сестра.
Новость вначале меня неприятно удивила. Прибежала бабушка Ева, в слезы, обнимает, целует. Ну а потом сбежались все родственники, пришли соседи. Шум, гам, расспросы, беседы, улыбки! По натуре я реалист, поэтому к рождению брата отнесся философски, вскоре все притерлось, неловкость улетучилась. Началось сплошное веселье. Четыре года в армии, пять лет разлуки — каждому будет понятно, какое это наслаждение опять быть дома. Возможно, писатель-романист описал бы это намного лучше моих сухих воспоминаний.
Хотелось побродить по знакомым местам, несколько раз ходил на болото в урочище Рожки, потом в Лугас (совхоз), к рябому мосту, за грибами на Зарецкое, за орехами в Замешки и в Пасуж.
Если Ленинград произвел на меня тягостное впечатление, в основном скудностью питания горожан по карточкам, то здесь, в Василевичах, в этом отношении был относительный достаток: картошка, хлеб, сало.
Две ночи с братишкой Аркадием гнали в погребе во дворе самогонку — предстояли застолья в честь прибывшего на побывку фронтовика! Ходили в кино, но качество его было очень плохим — только-только здесь налаживалась жизнь. Иногда в клубе устраивались танцы.
К себе в дом пригласила меня моя тетя — Полина Никитична. Собрались все ее родственники, пели песни, шутили, изрядно выпили.
У бабушки Евы и деда Романа была организована вечеринка. Стол прилично был обставлен выпивкой и закуской. Пришли два гармониста и начались залихватские танцы, белорусская полька — вихорь, краковяк, падеспань и другие. Танцевали и веселились до упаду. На другой день гулянье продолжилось в хате матери. Здесь оказался аккордеонист, и танцы закружились с новой силой. Дни летели мгновенно, и наступил срок возвращаться в часть. Дед Роман сказал, что можно отпуск продлить, получив у нашего фельдшера Ивана Прохоровича справку о болезни. Я как-то к предложению отнесся легкомысленно, а, возможно, потянуло в часть, и я 21 августа отбыл на Ленинград.
Путь на этот раз оказался весьма удачным. В Гомеле без труда закомпостировал билет на Москву, но сел в поезд с большим трудом. В вагоне соседями оказались солдаты-украинцы с отличными голосами. Здесь я впервые от них услышал мелодичную песню «По за гаем зелененьким брала вдова лен дробненький», которую я записал и потом всю жизнь напевал на застольях.
В Москве огромные очереди за билетами, поэтому не стал дожидаться и без компостера сел в тамбур с чемоданом на скорый в Ленинград. При проверке билетов перешел по крыше в другой вагон, где уже побывал контролер. На третий день, 23 августа, прибыл в Ленинград.
С Сашей Копполовым сходили в Мраморный зал Дома культуры имени Кирова на танцы, потом в кино на «Большую жизнь» с Петром Олейниковым, затем снова на танцы. Однако, вдруг меня одолела грусть по Василевичам. Мысли о деревенском житье-бытье не выходили из головы. Я казнил себя за то, что не воспользовался возможностью продлить отпуск с помощью Ивана Прохоровича. Пришел на Московский вокзал получать продукты по своему отпускному документу 27 августа и вдруг узнаю: в 2 часа дня на Москву идет поезд. Мгновенно принимаю решение: вернуться в Василевичи! Быстренько трамваем еду к отцу, сообщаю тете Дусе о своем решении, прихватываю для сестры Ольги ботинки и для матери несколько метров мануфактуры, приготовленных к отправке посылкой, и быстро возвращаюсь на Московский вокзал. Без компостера на билете и без особых приключений преодолел путь от Ленинграда через Москву, и вечером, 29 августа, снова в доме матери. Родителям объяснил свое решение, все обрадовались и еще несколько дней продолжилось веселье.
11 сентября выехал обратно и 13-го был уже в Ленинграде, у отца. Снова «Мраморный», кино «Бемби», «Дни и ночи», «Сестра его дворецкого» и другие фильмы. Застолья у отца, встречи со знакомыми. 16 сентября отбыл в свою часть в Эстонию.
Здесь ничего не изменилось. Но после отпуска одолела страшная тоска — в глазах стояли Ленинград и Василевичи. От брата Ивана пришло письмо, он после освобождения Василевичей был призван в Красную Армию, воевал, дошел до Берлина, после Победы был направлен на учебу в танковое училище, затем отказался учиться и вот теперь пишет из Саратова, что он возвращается в свою часть.
17 октября мы провожали своих однополчан-ленинградцев, уезжавших домой по демобилизации. Верные друзья, товарищи, с которыми долгое время воевали, покидали родную роту связи. Особенно мне было тяжело расставаться с Николаем Николаевичем Муравьевым. Он для меня был наиболее близким по духу другом. Уезжали Комаров, Ткачев, Галя Удалова — «старички» роты. Грустно было расставаться с друзьями.
Мне демобилизация не «светила», но и жизнь в армии стала невыносимой. Я сделал запросы в техникум, в Минвуз в отношении продолжения учебы, но ответов не было. Просил в письме Сашу Копполова разведать обстановку в техникуме, но он в это время женился и, видимо, из-за медового месяца ему было некогда возиться с моей просьбой. Жизнь моя в роте была бесцветной и тяжелой.
В таком подавленном состоянии мне часто вспоминался путь на поезде из Москвы в Ленинград, когда я познакомился в купе с сидящей напротив девушкой. Вот так это описано в моем дневнике.
«Она была, на вид, самая обыкновенная. По бледному лицу можно узнать в ней студентку. Как-то незаметно мы втянулись в разговор и не заметили, как быстро бежит время. Оказалось, что она студентка четвертого курса Московского университета биохимического факультета. Едет в Ленинград к подруге, с которой хочет поехать в Таллин, Ригу, осмотреть эти города. Видно было, что она из хорошей семьи, отец работает „большим“ начальником.
Наш разговор касался различных тем и везде мы находили общий интерес. Здесь, в поезде, впервые встретился с девушкой, с которой я говорил свободно и уверенно на разные темы. Время бежало незаметно, и опомнились мы только к утру, когда в вагоне уже все спали.
В Ленинграде ее должны были встречать, но она волновалась, придут ли на вокзал? Однако встречающих не оказалось, и здесь я проявил весь свой талант мужчины: нес ее чемодан, посадил на трамвай и даже несколько остановок провожал ее.
Это случайное знакомство сильно повлияло на мою психику — я понял, что можно встретить девушку, духовно близкую тебе. Было важно, что после крушения моей, по сути дела, первой любви с Валей, у меня появилась уверенность, что не все девушки плохие: можно найти друга по душе!!».
Итак, вопрос о демобилизации не давал мне покоя. Ожидания вызова из техникума или наркомата — не сбывались. Я продолжал нервничать и волноваться. «Спасительная палочка» пришла из Василевичей. Дедушка Роман и мать прислали заказным письмом вызов властей Белоруссии для работы по восстановлению хозяйства Республики. Получив письмо, я подумал: «Может быть это и к лучшему. В Ленинграде с питанием трудно, а в Белоруссии родные помогут стать на ноги».
Вызов передал командиру роты и с этого времени завертелась бюрократическая карусель. Командование роты не было заинтересовано в утечке молодых воинов, иначе и часть могут расформировать и кое-кто из офицеров останется без должности. Поэтому оформление моей демобилизации проходило весьма трудно и драматично.
Документ-вызов был из роты передан в штаб укрепрайона и дело завертелось, Вот как об этом записано у меня в дневнике 1 ноября 1945 года:
«Эти дни судьба бросает меня из стороны в сторону, то поднимаюсь на волне ввысь, то она бросает меня вниз. Уже Горбачев сказал: „Поедешь, Головко, домой“, а через день он же сообщает мне, что нужны еще какие-то справки, диплом и тому подобное. Последняя надежда на Борисова и Булкина».
Борисов, наш бывший командир взвода, работал в 14 УРе начальником отдела связи и хорошо ко мне относился. Майор Булкин — начальник отдела кадров укрепрайона, документы мои переслал в отдел укомплектовании Армии, там должна решиться моя судьба.
Мое нетерпение подогревало то, что были примеры демобилизации бойцов, не закончивших из-за войны техникум и теперь возвращавшихся завершить учебу.
Из дневника: «Переживаю мучительные дни неизвестности. Из головы не покидают думы о доме. Сегодня днем после дежурства задремал и мне приснился сон: дома за столом сидим с Кузьмой Антоновичем Брель, его братом Иваном и моим братишкой Аркадием, я разливаю вино, но не пили — в этот момент проснулся».
16 ноября узнаю радостную новость. Из отдела укомплектования пришла телеграмма: «Военнослужащий Головко В. А. по приказу номер такой-то подлежит демобилизации». Однако нервотрепка на этом не закончилась. Комроты делал все возможное, дабы не спешить с демобилизацией, ссылаясь то на отсутствие приказа, то на отсутствие денег. Наконец, я получил все необходимые документы, оставалось получить выходное пособие три тысячи рублей (при цене фунта масла 400 рублей). Горбачев тянул с выдачей денег, к я пошел на хитрость — прикинулся пьяным и в комнате рядом с начфином громко произнес фразу в том смысле, что «все пропью». Начфин Тоня тут же передала это Горбачеву, и назавтра я уже готов был к отъезду домой.
В конце ноября 1945 года я распрощался с друзьями, сделали «отвальную», под хмельком задушевно побеседовали, а затем — на поезд в Таллин, из Таллина в Ленинград. Здесь встретил Ивана Васильевича Белого, капитана, моего земляка, тоже возвращавшегося в Василевичи. Договорились ехать вместе. Наш путь уже теперь лежал через Витебск и Оршу.
Поездка наша домой — целая эпопея. Желающих ехать было больше, чем могли вместить поезда. Мы еле втиснулись в пассажирский вагон, долго ехали стоя, затем примостились на сиденье. По пути были разрушены железнодорожные мосты через реки и нам приходилось пересаживаться с поезда на поезд в Витебске и Могилеве. Наконец, добрались до Василевичей.
Итак, мечта сбылась, я на гражданке, предстояла новая жизнь в новых условиях. По своему проходному свидетельству в местном Райпо мне выдали 10 метров мануфактуры (за деньги). Шинель и гимнастерка, брюки и кирзовые сапоги, да еще 3 тысячи рублей — вот все мое «богатство», с которым я радостно вступил в новую послевоенную жизнь!
Сведения об авторе
На снимке: В. А. ГОЛОВКО
Головко Василий Афанасьевич родился в 1923 году в городе Василевичи Гомельской области. В 1957 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель. Свою трудовую деятельность В. А. Головко начал в 1941 году, когда будучи студентом 4-го курса Ленинградского строительного техникума, был призван в ряды Советской Армии и направлен на защиту Ленинграда. Все 900 дней находился в блокадном городе, в составе 145 отдельной роты связи 14-ro укрепленного района Ленинградского фронта. Радистом батальонной радиостанции в звании сержанта воевал на передовой под станцией Поповка, городами Колпино, Пушкином и Павловском (Слуцком). Вместе с Ижорским батальоном, который входил в состав 14 укрепрайона, вел бои по прорыву блокады Ленинграда и освобождению его от вражеского кольца.
В составе войск Ленинградского фронта с боями прошел путь от Ленинграда до побережья Балтийского моря, участвовал в освобождении городов Луга, Псков, Остров, Тарту, Вильянди, Таллин, Пярну и до конца Великой Отечественной войны находился в частях, действовавших против Курляндской группировки противника.
В январе 1946 года был демобилизован из рядов Советской Армии и по ходатайству Советских органов Белорусской ССР направлен на восстановление разрушенного хозяйства Белоруссии. В Василевичском районе Гомельской области возглавлял районный комитет по делам физкультуры и спорта, был председателем районной плановой комиссии, районным инспектором ЦСУ СССР. Большую работу проделал по строительству жилых домов на селе и переселению граждан из землянок, воспитанию находившейся в оккупации молодежи путем вовлечения ее в спорт. Здесь же, в 1948 году В. А Головко был принят в ряды КПСС.
В августе 1950 года, с разрешения партийных органов Белоруссии, вернулся в Ленинград для завершения образования, поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт. В 1957 году окончил его и получил звание инженера-строителя. Одновременно с 1950 по 1957 год работал в Исполкоме Ленинградского городского Совета сначала контролером, а затем помощником заместителя председателя Ленгорисполкома.
По направлению Ленинградского Обкома КПСС в октябре 1957 года В. А. Головко был направлен на подъем сельского хозяйства Ленинградской области. В Областном управлении сельского хозяйства он работал заместителем главного инженера по строительству животноводческих помещений, а с мая 1959 года — главным инженером по строительству в колхозах. В связи с реорганизацией Ленинградского областного управления сельского хозяйства в июне 1961 года В. А. Головко переводится в Ленинградское- областное объединение «Сельхозтехника» на должность начальника управления по строительству в колхозах. В. А. Головко лично создал в области Лужскую и Бокситогорскую межколхозные строительные организации, первые в стране, которые сыграли большую роль в развитии строительства на селе.
В апреле 1965 года В. А. Головко переведен на работу в Ленинградский Обком КПСС на должность заместителя заведующего отделом строительства. На новой работе он с полной отдачей сил и энергии организует деятельность строительных организаций и предприятий-заказчиков на выполнение планов строительства, внес большой вклад в повышение индустриализации жилищного, культурно-бытового и сельского строительства.
За девять лет работы в Ленинградском Обкоме КПСС он приобрел большой опыт партийной работы и внес заметный вклад в воспитание кадров строительной индустрии. После землетрясения в Ташкенте он направлял и координировал деятельность ленинградских строительных подразделений, работавших на восстановлении города, участвовал также в строительстве Ленинского мемориального комплекса в 1967–1970 гг. в г. Ульяновске.
По направлению Ленинградского Обкома КПСС В. А. Головко с 15 мая 1974 года работает заместителем начальника Ленинградского главного территориального управления Госснаба СССР. На этой работе он внес большой вклад в развитие, расширение и техническое перевооружение производственно-складской базы предприятий и организаций Главка.
В. А. Головко награжден пятью орденами Советского Союза и двенадцатью медалями. За ратные подвиги в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».
С 1986 года В. А. Головко является пенсионером союзного значения.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

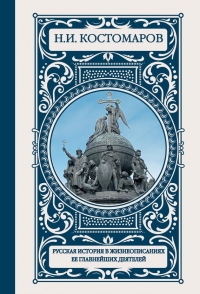

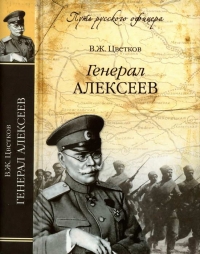
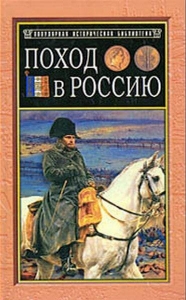

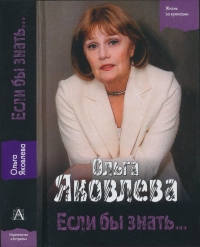
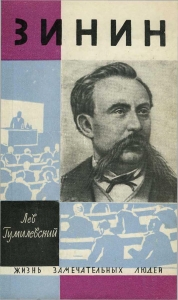
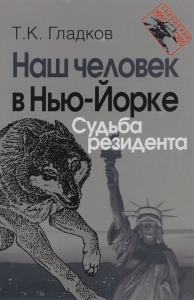
Комментарии к книге «Эхо фронтовых радиограмм», Василий Афанасьевич Головко
Всего 0 комментариев