Сью Блэк ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ Записки патологоанатома и судебного антрополога
Введение
«Смерть — не самая большая потеря.
Гораздо больше теряешь, когда что-то умирает внутри,
пока ты еще жив».
Норман Казенс, журналист (1915–1990)Смерть и преувеличенная шумиха вокруг нее обросли таким количеством предрассудков, каким не может похвастаться никакой другой аспект нашей жизни. Смерть воспринимается как трагедия, как апофеоз страданий и несчастья, как чудовище, нападающее из темноты — тать в нощи. Мы даем ей туманные пугающие прозвища — Беззубая, Костлявая, Старуха с косой — и представляем себе в виде мрачного скелета в черном плаще с капюшоном, который должен прийти и одним смертельным взмахом отделить нашу душу от тела. Иногда это черный крылатый призрак, грозно витающий над нами, ее неминуемыми жертвами. И несмотря на то что смерть, вроде бы, женского рода, по крайней мере, в таких языках, как латынь, французский, испанский, итальянский, польский, литовский и норвежский, ее нередко изображают как мужчину.
К смерти принято относиться враждебно, потому что в современном мире она воспринимается как недруг, как чужак. Несмотря на громадный прогресс человечества, в наше время мы вряд ли стали ближе к разгадке таинственной связи смерти и жизни, чем были столетия назад. Мы словно забыли, что такое смерть, и для чего она нужна: если наши предки считали ее, скорее, дружественной, то теперь мы предпочитаем относиться к ней как к нежеланному гостю, которого надо любой ценой избегать, пока это возможно.
Мы или обожествляем, или проклинаем ее, вечно разрываясь между двумя этими крайностями. В любом случае, мы предпочитаем поменьше о ней упоминать, словно из боязни, что тем самым ее приближаем. Жизнь добра, удивительна и прекрасна, смерть — это горе и тьма.
Добро и зло, награда и наказание, рай и ад, белое и черное — такой линнеевский подход ведет к тому, что мы начинаем, фактически, противопоставлять жизнь смерти, вытесняя последнюю — кстати, незаслуженно — на темную сторону.
В результате мы все сильнее ее боимся, словно смерть заразна, и, если привлечь ее внимание, может прийти за нами до того, как мы будем готовы проститься с жизнью. Мы можем скрывать свой страх за показной бравадой или шуточками на ее счет, в надежде обезопасить себя от ее когтей. Тем не менее, мы знаем: когда наступит наш черед, и она придет за нами, нам будет не до смеха. Вот почему с ранних лет человек лицемерит в ее отношении, высмеивая в один момент и почтительно склоняясь перед ней в другой. У нас складывается собственный язык, смягчающий острые углы и утишающий боль. Мы говорим об «утрате», о том, что кто-то от нас «ушел», и с мрачным пиететом сочувствуем другим, когда они «теряют» близкого.
Я не «теряла» своего отца — мне совершенно точно известно, где он сейчас. Мой отец похоронен на вершине холма, на кладбище Томнахурч в Инвернессе, в красивом деревянном гробу, предоставленном Биллом Фрейзером, нашим семейным распорядителем похорон, который отец, скорее всего, одобрил бы, хотя мог счесть слишком дорогим. Мы положили его в яму в земле поверх полуразложившихся гробов его матери и отца, где остались к тому времени разве что кости и немногочисленные зубы, которые сохранились у них на момент кончины. Он не ушел, мы не лишились его и не потеряли — отец умер. Собственно, так даже лучше, чем если бы он и правда нас покинул — это было бы очень безрассудно и безответственно с его стороны. Его жизнь подошла к концу, и никакие эвфемизмы не смогут вернуть ее — вернуть моего отца — назад.
Будучи выходцем из семьи прямолинейных, рассудочных шотландских пресвитерианцев, где лопату называли заступом, а любую сентиментальность считали проявлением слабости, я с радостью воспринимаю тот факт, что их воспитание сделало меня прагматичной и толстокожей — в общем, приземленным реалистом. Размышляя о жизни и смерти, я не тешу себя иллюзиями и стараюсь быть искренней и правдивой, но это не значит, что мне все равно и что я не ощущаю боли и скорби или не сочувствую другим. Я лишь не склонна к слезливой сентиментальности в отношении смерти и усопших. Как совершенно справедливо говорит Фиона, наш чудесный капеллан в Университете Данди, нельзя утешить красивыми словами, держась на почтительном расстоянии.
Почему, несмотря на всю искушенность нашего двадцать первого века, мы до сих пор предпочитаем прятаться за привычным надежным заслоном умолчаний и отрицания, вместо того чтобы задуматься, действительно ли смерть так страшна, чтобы всю жизнь ее бояться? Она совсем не обязательно бывает жестокой, мрачной и отвратительной. Смерть может быть милосердной, мирной и тихой. Возможно, дело в том, что мы ей не доверяем, потому что предпочитаем ничего о ней не знать и не стараемся в течение жизни познакомиться с ней поближе. В противном случае мы давно бы научились воспринимать смерть как неотъемлемую и фундаментальную составляющую жизненного цикла.
Мы рассматриваем рождение как начало жизни, а смерть — как ее естественный конец. Но что если смерть — начало новой фазы нашего существования? Кстати, именно на этом основано большинство религий, которые учат нас не бояться смерти, потому что за ней нас ждет новая, лучшая жизнь. Подобные убеждения много веков служили людям утешением, и, возможно, вакуум, возникший в результате возрастающей секуляризации нашего общества, во многом способствовал возрождению древнего, инстинктивного и необоснованного отвращения к смерти и всему, что связано с ней.
Однако, вне зависимости от нашей веры, жизнь и смерть, несомненно, являются неразрывными элементами единого континуума. Одна не существует и не может существовать, без другой, и, как бы ни старалась современная медицина, от смерти никуда не деться. А раз мы никак не можем ее избежать, почему бы не постараться сосредоточиться на том, чтобы как можно лучше провести время от рождения до смерти — то есть, собственно, жизнь.
Именно здесь и лежит фундаментальное различие между судебно-медицинской патолого-анатомией и антропологической патолого-анатомией. Судебная патолого-анатомия устанавливает причину и обстоятельства смерти — конец пути, — в то время как антропологическая патолого-анатомия восстанавливает этот путь, со всеми его обстоятельствами. Наша работа заключается в том, чтобы объединить полученные сведения о жизни человека с его телесными останками. Судебно-медицинская и антропологическая патолого-анатомия выступают тут равноправными партнерами — так сказать, соучастниками.
В Великобритании антропологи — в отличие от судмедэкспертов, — это, как правило, ученые, а не врачи, и поэтому редко обладают достаточными медицинскими познаниями, чтобы определить причину или обстоятельства смерти. Однако, с учетом бурного развития науки, от судмедэкспертов также нельзя ожидать всеобъемлющей экспертизы. Получается, что антропологам отводится важная роль в расследовании серьезных преступлений, где имеются трупы. Антропологи помогают отыскивать зацепки, связанные с личностью жертвы, и могут помочь судмедэкспертам в установлении окончательной причины и обстоятельств смерти. Каждая дисциплина привносит в процесс собственные отличительные методы и навыки.
Например, однажды передо мной и судебным патологоанатомом на столе в морге оказались человеческие останки в стадии сильного разложения. Череп был расколот более чем на сорок перепутанных фрагментов. Моей коллеге, как специалисту-медику, следовало определить причину смерти, и она считала, что это, скорее всего, огнестрельное ранение. Но ей требовалось подтверждение. Окинув взглядом груду осколков белой человеческой кости на сером металлическом столе, она сказала:
— Я даже не могу понять, что это за обломки, не говоря уже о том, чтобы собрать их вместе. Это твоя работа!
В подобных случаях роль антрополога заключается в том, чтобы определить, кем жертва могла быть при жизни. Кто это — мужчина или женщина? Высокого роста или низкого? Какого возраста? Какой расы? Есть ли на скелете следы каких-то травм или болезней, которые могли быть отражены в медицинской карте или у дантиста? Можно ли извлечь из костей, волос и ногтей вещества, которые укажут, где человек жил и какой пищей питался? Или, как в нашем случае, можно ли собрать из осколков трехмерную модель, чтобы не только установить причину смерти — ей действительно оказалось пулевое ранение в голову, — но также и ее обстоятельства? Собрав всю информацию и сложив череп из обломков, словно паззл, мы установили личность погибшего молодого мужчины и предоставили наглядное свидетельство, в соответствии с которым входное отверстие от пули находилось на затылке, а выходное — на лбу, между глаз. Жертву убили выстрелом в упор; парня бросили на колени и приставили пистолет прямо к голове. Ему было всего пятнадцать, и единственной причиной убийства являлось другое вероисповедание.
В качестве еще одной иллюстрации символической взаимосвязи между антропологом и судмедэкспертом я хотела бы привести случай с другим несчастным юношей, которого до смерти забили подростки, собиравшиеся вскрыть машину, припаркованную напротив его дома. Юношу пинали ногами, нанесли сильнейший удар по голове и проломили череп в нескольких местах. Личность потерпевшего в данном случае была нам известна, и судмедэксперт установил причину смерти — удар тупым предметом, приведший к массированному внутреннему кровотечению. Однако требовалось уточнить, каким именно предметом мог быть нанесен тот решающий удар. Мы смогли идентифицировать все фрагменты черепа и реконструировать его; в результате судмедэксперт подтвердил, что парень погиб от удара молотком или другим предметом подобной формы, который привел к вдавленному перелому черепа и множественным расходящимся трещинам, от чего и возникло смертельное внутричерепное кровотечение.
Для некоторых промежуток между началом и концом жизни будет длинным, возможно, больше столетия, в то время как для других, например, тех жертв убийства, эти события окажутся разнесенными совсем недалеко. Иногда их могут разделять вообще лишь несколько секунд — быстротечных, но таких драгоценных. С точки зрения судебного антрополога, долгая жизнь хороша в том смысле, что на теле остается больше примет, связанных с ее условиями, которые можно впоследствии восстановить по останкам. Отыскивать такую информацию для нас все равно что читать книгу или загружать данные с флэшки.
С точки зрения большинства людей, короткая жизнь — самый плохой вариант из возможных. Но кому судить, какая жизнь коротка, а какая нет? Ведь совершенно очевидно, что чем дольше с момента рождения мы живем, тем выше вероятность, что нашей жизни вот-вот наступит конец: в девяносто мы, в большинстве случаев, ближе к смерти, чем в двадцать. Простая логика говорит, что мы никогда не будем дальше от смерти, чем в этот самый момент.
Почему же мы удивляемся, когда кто-то умирает? В год это происходит с 55 миллионами человек — по двое каждую секунду, — и нам прекрасно известно, что и нас это тоже ждет. Этот факт ни в коем случае не умаляет нашей печали и скорби в случае смерти близких, но, все-таки, требует подходить к нему одновременно практично и реалистично. Раз мы не можем повлиять на свое рождение, а конец так и так неизбежен, почему бы не сосредоточиться на том, чем мы способны управлять, а именно — на ожиданиях относительно промежутка между ними. Возможно, именно им нам следует заниматься в первую очередь, осознавая и превознося его ценность, а не его продолжительность.
В прошлом, когда оттянуть смерть было куда сложнее, люди лучше справлялись с этой задачей. К примеру, в викторианские времена с их высокой детской смертностью, никто не удивлялся, если ребенок не доживал до своего первого дня рождения. Детям из одной семьи зачастую давали одно и то же имя, чтобы оно сохранилось, даже если кто-то из детей умрет. В двадцать первом веке детская смертность, конечно, стала гораздо ниже, однако удивляться тому, что кто-то скончался в возрасте девяноста девяти лет — против всякой логики.
Ожидания общества стимулируют медицину и дальше стараются максимально отдалять наступление смерти. Однако лучшее, что медики могут сделать — это дать нам больше времени, увеличив промежуток между рождением и кончиной. Из этой битвы победителями им не выйти, но они продолжают пытаться — в больницах по всему миру жизнь продлевают изо дня в день. Тем не менее, если смотреть на вещи трезво, подобные медицинские ухищрения — это просто оттягивание конца. Смерть наступает; если она не пришла сегодня, то может прийти завтра.
На протяжении нескольких веков человечество фиксировало и измеряло продолжительность жизни, так что мы знаем — статистически — когда примерно умрем, или, выражаясь более позитивно, сколько нам предстоит прожить. Такие «таблицы жизни» — любопытный и полезный инструмент, но он таит в себе определенную опасность, поскольку формирует ожидания, которые у одних не оправдаются, а у других превзойдут изначальные. Мы не можем знать, станем ли тем самым усредненным Джоном, который проживет свою норму, или окажемся на одном из краев графика.
Когда же мы оказываемся с краю, то принимаем это очень близко к сердцу. Мы гордимся тем, что прожили дольше, чем нам предсказывали, поскольку считаем, что каким-то образом обманули судьбу. Если же мы не дотягиваем до предсказанного срока, то нашим близким кажется, что у них украли дорогого человека, и они испытывают горечь, злость и тоску. Как в любых сферах жизни, большинство из нас вписывается в норму, но несправедливо винить смерть в жестокости и беспощадности, когда она всего лишь напоминает, что продолжительность жизни может быть самой разной.
Самую долгую жизнь (из зарегистрированных и проверенных) прожила француженка Жанна Кальман, которой было 122 года и 164 дня на момент смерти в 1997 году. В 1930-м, в год рождения моей матери, средний срок жизни женщин составлял шестьдесят три года, поэтому, умерев в семьдесят семь, она превысила норму на четырнадцать лет. С бабушкой было еще интересней: она родилась в 1898 году, и прогнозируемая продолжительность ее жизни составляла всего пятьдесят два года. Она прожила семьдесят восемь, то есть на двадцать шесть лет дольше, чему отчасти была обязана достижениям современной медицины — хотя сигареты наверняка приблизили ее конец. Мой прогноз — а я родилась в 1961-м, — был семьдесят четыре года; получается, сейчас мне остается еще каких-то семнадцать лет. Боже, до чего быстро летит время! Правда, с учетом моего образа жизни и нынешнего возраста, я вполне могу рассчитывать дожить до восьмидесяти пяти, так что лет двадцать пять или около того у меня пока есть. Уфффф!
Итак, в ходе жизни у меня появилась перспектива получить добавочные одиннадцать лет. Здорово? Не совсем. Видите ли, они не прибавились, когда мне было двадцать, или хотя бы сорок. Я получу эти годы, перевалив за семьдесят четыре. Выходит, добавку мы получаем в старости, а молодость продолжаем расходовать почем зря.
Расчеты прогнозируемой продолжительности жизни постепенно становятся все более точными, и мы знаем, что в следующих двух поколениях, моих детей и моих внуков, столетних будет больше, чем за всю историю человечества. Тем не менее общий срок жизни, которую человек может прожить, не увеличивается. Меняется средний возраст, в котором мы умираем, поэтому и наблюдается рост числа людей, попадающих на правый край графика. Другими словами, мы меняем кривую человеческой демографии. Развитие медицины и социального обеспечения ведут к старению населения планеты, что уже начинает сказываться на нашем обществе.
Хотя, как правило, долгая жизнь считается поводом для радости, я по временам спрашиваю себя, не является ли стремление прожить как можно дольше любой ценой просто затягиванием процесса умирания. Пускай прогнозируемая продолжительность жизни меняется, наступление смерти это не отменяет. Если же мы правда сможем победить смерть, то человеческий род и всю планету ждут огромные проблемы.
Работая изо дня в день рядом со смертью, я научилась относиться к ней с уважением. У меня нет никаких причин бояться ее присутствия или ее последствий. По-моему, я ее достаточно хорошо понимаю, поскольку общаюсь с ней напрямую, простым и ясным языком. Только когда она сделает свою работу, я могу приступать к своей — получается, благодаря ей я могу наслаждаться своей долгой, продуктивной и интересной карьерой.
Эта книга — не очередной избитый текст, посвященный смерти. Я не пошла по проторенной дорожке: не стала пересказывать громоздкие академические теории, сравнивать разные культуры или разливаться в утешительных банальностях. Я просто постаралась описать разные лики смерти — те, которые мне довелось увидеть за прошедшие годы, а также тот единственный, который явится мне лет через тридцать, если она согласится ждать так долго. Именно к нему обращается судебная антропология в попытках восстановить через смерть историю прожитых лет, узнать не только о смерти, но и о жизни — этих двух неразделимых частях общего целого.
В ответ я прошу вас об одном: забудьте хотя бы ненадолго о своем отношении к смерти, о недоверии, ненависти и страхе, и, возможно, вы увидите ее такой, какой вижу я. Не исключено, что, познакомившись с ней, вы станете относиться к смерти добрее и перестанете бояться ее. На своем опыте могу сказать, что общаться с ней — захватывающе, увлекательно и никогда не скучно, но она достаточно капризна и подчас совершенно непредсказуема. Нам все равно нечего терять — встреча рано или поздно состоится, так что гораздо лучше будет столкнуться со смертью, которую вы уже знаете в лицо.
Глава 1 Молчаливый учитель
«Mortius vivos docent»
(Мертвые учат живых)
Автор неизвестенНачиная с двенадцати лет, я проводила субботы и все школьные каникулы по локоть в мясе, костях, крови и внутренностях. Мои родители придерживались суровой пресвитерианской этики, в соответствии с которой я, достигнув этого возраста, должна была подыскать себе подработку и получать собственные деньги. Я устроилась в мясную лавку при ферме Балнафеттак на окраине Инвернесса, где проработала пять лет. Это была моя первая работа, и я полюбила ее всей душой. Меня нисколько не тревожил тот факт, что большинство моих друзей, подрабатывавших в аптеках, супермаркетах и магазинах одежды, считали этот выбор странным — пожалуй, даже отталкивающим. Я сама тогда еще не знала, что выберу патолого-анатомию своей профессией, но теперь, оглядываясь назад, расцениваю ту работу как часть плана, придуманного для меня судьбой, о котором ни я, ни они не имели пока ни малейшего представления.
Работа у мясника оказалась отличным подготовительным плацдармом для будущего анатома и антрополога, а также захватывающим и увлекательным занятием. Мне нравилась хирургическая точность мясницкого мастерства. Я научилась множеству вещей: как делать фарш, как вязать сосиски и — самое главное! — как готовить мясникам их любимый чай. Я смогла оценить всю важность правильной заточки лезвия, следя за тем, как они стремительно и ловко зачищали кости, отделяя темно-красную мышечную ткань от белоснежного скелета под ней. Они всегда знали, где резать, чтобы красиво свернуть мясо в брискет или разделить на аппетитные стейки. Было что-то успокаивающее в их уверенности: анатомия не таила для них никаких сюрпризов. Исключения случались крайне редко — помню, как-то раз один из мясников чертыхнулся себе под нос, наткнувшись на какой-то «непорядок». Похоже, у овец и коров внутреннее строение все-таки могло варьироваться, как у людей.
Я узнала, что такое связки и почему их надо удалять; где между слоями мышц проходят сосуды, которые мясник вырезает; как избавиться от «ворот» — жесткого узла над почкой, который невозможно прожевать, и как сделать разрез на суставе между двух костей, чтобы выпустить из него стеклянистую скользкую синовиальную жидкость. Я навсегда запомнила, что когда у тебя замерзли руки — а в мясной лавке они мерзнут всегда, — ты ждешь не дождешься, пока привезут свежий ливер, еще теплый, прямо с бойни. Погружая руки в ящик, ты, на мгновение, снова чувствуешь их — теплая коровья кровь ненадолго размораживает твою собственную.
Я научилась никогда не грызть ногти, никогда не класть нож на колоду лезвием вверх и поняла, что тупые лезвия провоцируют больше травм, чем острые, — хотя от острых, если все же допустить ошибку, ущерб куда больше. Я до сих пор наслаждаюсь, разглядывая витрины мясных лавок с их очевидным анатомическим раскладом, где все отрубы отделены, зачищены и подготовлены в точности так, как следует, и с удовольствием слушаю, как свистит в воздухе нож мясника.
Мне очень жаль было расставаться с той работой. Я настолько боготворила своего учителя биологии, доктора Арчи Фрейзера, что когда он сказал мне оттуда уйти, я ушла. А когда посоветовал поступать в университет — я поступила. Я понятия не имела, что собираюсь изучать, поэтому пошла по его стопам и решила заниматься биологией. Первые два года в Университете Абердина пролетели для меня в тоскливом тумане бесконечной химии, зоологии (я даже провалила первый экзамен), почвоведения, психологии, общей биологии, гистологии и ботаники. Под конец я пришла к выводу, что лучше всего ориентируюсь в ботанике и гистологии, однако перспектива посвятить свою жизнь растениям меня совсем не радовала. Получалось, надо выбирать гистологию — науку о человеческих клетках. Однако по завершении спецкурса мне хотелось одного — никогда больше не приближаться к микроскопу, превращавшему все вокруг в аморфные розовые и красные пятна. Тем не менее гистология проложила мне путь в анатомию, где, как все мы знали, надо было резать человеческие трупы. Мне только-только исполнилось девятнадцать, и я никогда раньше не видела мертвецов, но была уверена, что для девочки, которая пять лет разделывала туши в мясной лавке, это не составит особого труда.
На самом деле, моя субботняя подработка очень мало подготовила меня к тому, что нам предстояло. Первый поход в анатомический театр всегда производит на студентов глубокое впечатление. Это тот самый момент, который невозможно забыть, настолько он потрясает все ваши чувства. В группе нас было всего четверо, и я до сих пор помню эхо наших голосов, гулко разносившееся по просторному помещению с высокими потолками, большими окнами с матовым стеклом и роскошным викторианским паркетным полом — при других обстоятельствах оно вполне сошло бы за концертный зал. Точно так же я до сих пор чувствую запах формалина, такой густой, что его, казалось, можно было ощутить на вкус, и вижу тяжелые столы из стекла и металла с облезающей серой краской — их там было сорок или около того, расставленных ровными рядами и покрытых белыми простынями. На двух столах, под простынями, лежали тела, дожидавшиеся нас, по одному на каждую пару студентов.
Этот первый опыт меняет также ваше восприятие — себя и других. Каким мелким и незначительным чувствуешь себя, осознавая, что другой человек, при жизни, передал свое тело, после смерти, другим, чтобы те могли учиться. Благородство этого жеста для меня никогда не померкнет. Если однажды я перестану воспринимать его как настоящее чудо, то предпочту отложить в сторону скальпель и заняться чем-нибудь другим.
Нам с моим напарником по имени Грэхем досталось в случайном порядке тело безымянного донора — скрупулезно подготовленное для нас техником-анатомом, — на котором нам предстояло изучать анатомию в течение целого академического года. Мы решили называть его Генри, в честь Генри Грея, автора Анатомии Грея — книги, которая с тех пор сопровождает меня всю жизнь. Генри, выходец откуда-то из Абердина, был на пороге восьмидесятилетия на момент смерти и заранее завещал свое тело кафедре анатомии в университете в целях исследований и обучения. Обучения нас, Грэхема и меня.
С отрезвляющей ясностью я осознала, что на момент, когда Генри принял свое решение, я, его будущая ученица, понятия не имела о его бесконечно щедром даре, определившем мою дальнейшую судьбу. Скорее всего, я тогда вскрывала в зоологической лаборатории крыс, горько оплакивая свою участь, поскольку мне это совсем не нравилось.
Когда он умер, я могла резать очередной стебель или лист из нескончаемого университетского списка, чтобы изучить их клеточную структуру, и ничего не знала о его смерти. Каждый год, обращаясь к студентам первого и второго курса, готовящимся на третьем заниматься в анатомическом театре, я говорю, что человек, на котором — и у которого — они будут учиться, сейчас еще жив. Возможно, в этот самый день он примет решение передать свои останки нам, для образовательных целей. Я всегда чувствую, как замирает, затаив дыхание, вся аудитория, осознавая грандиозность этой мысли. Что если человек, прошедший мимо тебя этим утром, окажется через год перед тобой на анатомическом столе? Такой грандиозно щедрый жест со стороны абсолютного незнакомца просто невозможно воспринимать как должное!
В качестве причины смерти Генри был указан инфаркт; его тело забрали из больницы, где он скончался, и перевезли к нам, на кафедру анатомии. Была ли у него семья, поддержала ли она его решение, как родственники отнеслись к отсутствию традиционного ритуала похорон — ничего этого мы не знали.
В выложенной плиткой темноватой безликой лаборатории в подвале анатомической кафедры Колледжа Маришаля, через несколько часов после смерти Генри, Алек, наш техник, снял с тела одежду, обрил голову и закрепил на мизинцах рук и ног латунные номерки. Номерки должны были оставаться на трупе все время, пока он находился в университете. Дальше Алек сделал в паху надрез длиной около шести сантиметров, иссек часть мышцы и жира и отыскал бедренную артерию и вену на участке, именуемом бедренным треугольником. Он сделал еще один надрез, на вене, и еще, на артерии, куда вставил канюлю и закрепил ее на месте. Когда канюля была зафиксирована, в ней открылся клапан и формалиновый раствор потек по разветвленной артериальной системе из емкости, подвешенной над телом.
Бальзамирующий раствор по кровеносным сосудам добрался до каждой клеточки тела: до нейронов в мозгу, позволявших Генри думать о том, что его интересовало, до пальцев, державших руку любимого человека, до горла, произнесшего его последние слова — может, каких-то пару часов назад. Прокладывая себе дорогу, формалин вытеснял из сосудов кровь. Через два-три часа такого безмолвного бальзамирования, тело поместили в пластиковый мешок и отправили на хранение, пока оно не понадобится: через несколько дней, недель или месяцев.
За этот короткий промежуток времени Генри, по собственной воле, превратился из человека, которого другие знали и любили, в безымянный труп с идентификационным номерком. Анонимность в данном случае очень важна: она защищает студента, помогает ему мысленно отстраниться от факта смерти и сосредоточиться на выполняемой работе. Приступая к анатомированию трупа, он не должен терзаться сочувствием, а должен, сохраняя уважение и заботясь о достоинстве усопшего, все-таки привыкать рассматривать мертвое тело как обезличенную оболочку.
Когда Генри настало время сыграть свою роль в нашем анатомическом театре, его переложили на каталку, подняли наверх в старом трясущемся скрипучем лифте, водрузили на один из столов и накрыли белой простыней, где он дожидался, молча и терпеливо, прихода студентов.
Сейчас мы прикладываем немало усилий, чтобы первая попытка анатомирования трупа стала для студентов хоть и запоминающейся, но все-таки безболезненной. Как правило, никто из них — как и я в свое время — до того с трупами не сталкивается. В 1980 году, когда я впервые оказалась в анатомическом театре, для нас не проводили вводных занятий и не знакомили постепенно с телом, которое должно было стать нашим молчаливым учителем на следующие несколько месяцев. Мы, все четверо, были просто перепуганными третьекурсниками, которые с утра в понедельник явились на занятие, вооружившись разве что томиками Клинической анатомии Шелла для студентов-медиков и Руководством Каннингема по практической анатомии, да набором жутковатых инструментов, завернутых в салфетку цвета хаки, и остались сами по себе, брошенные на произвол судьбы, получив указание начинать с первой страницы Руководства. Мы не пользовались ни перчатками, ни защитными очками, а наши халаты быстро приняли самый неприглядный вид, поскольку нам не разрешалось выносить их из здания, чтобы постирать. Теперь, конечно, все по-другому.
У себя на столе мы с Грэхемом обнаружили целую коллекцию губок, которые — как мы быстро разобрались, — постоянно требовались для удаления лишней жидкости в ходе анатомирования. Губки очень часто приходилось выжимать. Под столом стояло ведро из нержавеющей стали, куда по завершении работ следовало собирать фрагменты тканей. Все части тела должны были оставаться вместе, даже мелкие обрезки кожи и мышц, чтобы при последующей отправке на похороны или кремацию оно было максимально целостным. Молчаливым стражником рядом с нами, застывшим в ожидании, стоял еще один важный учитель: человеческий скелет, с помощью которого мы могли разобраться, что находится у Генри под кожей и мускулами.
Первым навыком, которым нам предстояло овладеть, желательно не отрезав себе пальцы, было надевание лезвия скальпеля на ручку. Для этого следовало совместить тонкую бороздку на лезвии с краем ручки, а потом пинцетом завести его внутрь до щелчка, для чего требовалась немалая ловкость и тренировка. То же самое казалось его извлечения. Мне не раз приходила в голову мысль, что крепление можно было и усовершенствовать.
Если вы режете труп и вдруг замечаете, что из него течет ярко-красная артериальная кровь, помните, что кровотечений у трупов не бывает. Вы просто разрезали себе палец. Лезвия скальпелей такие острые, а в помещении так холодно, что вы не чувствуете, как порезались. Поэтому первым признаком нанесенной травмы становится алая кровь, растекающаяся по бежевой забальзамированной коже. Заражение вам, скорее всего, не грозит, поскольку труп забальзамирован, а значит, его ткани практически стерильны. Тем не менее управляться с острыми маленькими лезвиями, когда пальцы у вас холодные и скользкие от подкожного жира, весьма нелегко. В настоящее время мы тщательно следим за тем, чтобы в анатомическом театре постоянно имелся запас пластырей и хирургических перчаток.
Когда лезвие, наконец, насажено на ручку, а из порезанного пальца перестала течь кровь, вы склоняетесь над столом и тут же ощущаете, как глаза начинают слезиться от густых паров формалина. В руководстве сказано, где резать, но ничего не говорится о том, как глубоко и с каким нажимом. Никто не напоминает вам для начала «прощупать» Генри, чтобы разобраться, откуда резать и куда, все инструкции кажутся какой-то бессмыслицей. Вам становится страшно и слегка неловко. Вы замираете, готовясь сделать первый надрез, в центре грудины, от впадины у основания шеи до нижнего края грудной клетки. Кто будет резать, а кто смотреть? Руки трясутся. Этот первый надрез остается в памяти у каждого студента, каким бы искушенным он ни притворялся. Я и сейчас, прикрыв глаза, с легкостью могу вспомнить, как это было, и как невозмутимо Генри перенес наше неумелое вмешательство.
Пока твой безмолвный учитель лежит перед тобой, дожидаясь прикосновения скальпеля, ты про себя извиняешься перед ним за то, что собираешься сделать, потому что боишься все испортить. Скальпель в правой руке, щипцы в левой… на какую глубину прорезать? Не случайно большинство студентов начинают разрез с грудины. Костная ткань здесь так близко подходит к коже, что, как бы вы ни старались, испортить практически ничего нельзя. Нельзя прорезать слишком глубоко. Вы опускаете лезвие и осторожно проводите по грудине, оставляя тоненький бледный след.
Удивительно, насколько легко режется кожа. На ощупь она гладкая, прохладная и влажная, и, по мере того как она отделяется от тканей, под лезвием вы можете заметить бледно-желтый слой подкожного жира. Теперь уже чуть более уверенно, вы режете от грудины в стороны, вдоль ключиц, по направлению к плечу — выполняете свое первое вскрытие. Столько тревожного предвкушения, а потом в один момент — раз! — и все закончено. Мир вокруг словно замирает. Вас охватывает невероятное облегчение; только в этот момент вы понимаете, что в течение всего процесса вообще не дышали. Сердце колотится, в крови бушует адреналин, и вы с удивлением осознаете, что теперь испытываете не страх, а огромный интерес.
Пора переходить к анатомированию тканей. Вы начинаете отворачивать кожу, аккуратно приподнимая ее за край возле грудины, где сходятся вместе две части верхней перекладины воображаемой буквы «Т», в форме которой сделан надрез. Вы придерживаете кожу щипцами, стараясь давить на скальпель ровно с тем усилием, которое требуется, чтобы отделить ее от мышцы. Собственно, резать вообще не приходится. Желтоватый жир, соприкасаясь с вашими теплыми пальцами, тает и растекается. Удерживать скальпель и щипцы становится гораздо сложнее, и вся недавняя уверенность рассеивается как дым, когда кожа выскальзывает из щипцов, а жир с формалином брызгают вам в лицо. Никто вас о таком не предупреждал. Пахнет формалин отвратительно, но на вкус он еще хуже. Надо постараться, чтобы это больше не повторилось.
Продолжая отворачивать кожу, вы замечаете крошечные красные точки и понимаете, что перерезали небольшой кровеносный сосуд. И тут к вам приходит осознание невероятной сложности человеческого организма и необъятности информации, которую он содержит. Еще вчера вы в недоумении вопрошали себя, как можно посвятить целый год анатомированию мертвого тела, и для чего нужен учебник в трех томах с подробными инструкциями. Теперь вам становится ясно, что за год вы разве что поверхностно коснетесь предмета своего изучения. А еще вы понимаете, что никогда не запомните всего, что вам предстоит выучить, не говоря уже о том, чтобы до конца понять.
Вы сжимаете щипцы немного сильнее, и лезвие врезается в соединительную ткань под неверным углом, хотя кажется, что скальпель к ней едва прикоснулся. Обнажаются мышцы, а под ними — белые хрящеватые стенки грудины, похожие на решетку для тостов. Взгляд скользит по ребристой поверхности, а пальцы — по мышцам и костям. Вы начинаете распознавать и вспоминать названия отдельных костей — частей человеческого скелета, — и вот уже, сами того не замечая, переходите на язык, понятный анатомам по всему миру, язык, которым говорил когда-то Андреас Везалий, ученый XIV века, основатель современной анатомии и моя первая девичья любовь.
Поначалу забальзамированная мышца кажется однородной светло-коричневой массой (до странности похожей на консервированного тунца), но стоит присмотреться, и вам открывается ее рисунок, в котором можно различить направление волокон и тонкие ниточки нервов, обеспечивающих ее движение. Вы прослеживаете исходную и конечную точки, в которых мышца крепится к кости, и быстро понимаете, какое действие она выполняет, поражаясь ее инженерному совершенству. Как живое существо, вы чужды смерти, но чарующая прелесть человеческой анатомии словно прокладывает для вас мост в мир мертвых — мост, по которому мало кто сможет пройти, но, пройдя, никогда не забудет. Первый поход по этому мосту — уникален, потому что больше уже не повторится. Это особенный момент.
Приступив к курсу анатомии, студенты сразу же разделяются на два лагеря: тех, кто ее любит, и тех, кто ее ненавидит. Очарование этого предмета заключается в его логике и порядке; минусом является гигантский объем информации к усвоению — ну и, конечно, вонь формалина. Если очарование перевешивает минусы, анатомия проникает к вам в душу и вы начинаете ощущать свою исключительность, принадлежность к элите: к тем, кому открылись секреты человеческого тела, и кому безымянные завещатели позволили заглянуть внутрь себя. Конечно, у этой науки имеются свои отцы-основатели — Гиппократ и Гален, их последователи — Леонардо да Винчи и Везалий, но ее настоящими героями являются, безусловно, потрясающие мужчины и женщины, которые передают студентам свои мертвые останки, чтобы те могли учиться: наши уникальные доноры.
Анатомия рассказывает нам не только о том, как работает человеческий организм. Она говорит о жизни и смерти, человечности и альтруизме, достоинстве и уважении; она требует работы в команде и внимания к деталям, учит терпению, спокойствию и хирургическому мастерству. Мы взаимодействуем с человеческим телом на тактильном и очень, очень личном уровне. Никакие учебники и модели, никакая компьютерная графика не сравнятся с анатомированием трупов в том, что касается овладения нашим мастерством. Это единственный способ его освоить, если вы собираетесь стать профессиональным анатомом.
Эту науку, в прошлом, одновременно и демонизировали, и обожествляли. Со славных времен ранних анатомов, от Галена до Грея, и вплоть до наших дней, корыстолюбивые злоумышленники пытались обогатиться за ее счет. Преступления Берка и Хейра, которые в XIX веке в Эдинбурге убивали людей, чтобы поставлять трупы в анатомические школы, привели к принятию в 1832 году так называемого Анатомического Акта. Совсем недавно, в 1998 году, скульптор Энтони-Ноэль Келли угодил в тюрьму за кражу человеческих останков из Королевского Хирургического Колледжа; процесс над ним привлек большое внимание как к этике искусства, так и к законодательному статусу человеческих останков, передаваемых медикам для научных целей. В 2005 году в Америке закрылась компания, выпускавшая перевязочные материалы: ее президент был обвинен в незаконном похищении частей человеческого тела и продаже их медицинским организациям. Похоже, анатомия тоже подчиняется законам спроса и предложения — по крайней мере, для мошенников, чуждых представлениям об уважении и достоинстве. Вот почему мы так оберегаем своих доноров, и почему их защищает парламентский акт.
Смерть — это деньги, а там, где замешаны деньги, всегда найдутся люди, готовые переступить черту, чтобы ими завладеть. С учетом того, что во многих странах продажа человеческих останков считается легальной, а многочисленные организации по всему миру готовы дорого заплатить даже за обычный человеческий скелет, неудивительно, что старинное преступление — расхищение гробниц — совершается и в наши дни, хоть и в другой форме. Когда я была студенткой, в 1980-х, большинство скелетов, на которых мы учились, поставлялось из Индии, долгое время считавшейся главным источником костных останков для медицинских институтов. Хотя индийское правительство в 1985 году запретило такой вид импорта, черный рынок человеческих трупов процветает там до сих пор. В Великобритании мы, совершенно оправданно, выступаем против торговли костями и любыми другими частями тела.
Представления о том, что допустимо, а что — нет, относительно обращения с человеческими останками, с течением времени изменяется, как и любые другие наши взгляды, и порой эти изменения происходят достаточно быстро. Скелеты, которыми сейчас пользуются британские студенты, это в основном пластмассовые копии, и хотя настоящие человеческие кости до сих пор можно отыскать в пыльных кладовых школьных лабораторий, в приемных врачей и пунктах скорой помощи, большинство организаций, владеющих ими на вполне законных основаниях, стараются от них избавиться. Многие предпочитают передавать их в местные медицинские школы, за что взамен получают искусственные человеческие скелеты.
В отличие от своих предшественников, современные анатомы могут не торопиться в процессе вскрытия и препарирования человеческого тела, поэтому мы извлекаем гораздо больше пользы из полученных трупов, изучая их в мельчайших подробностях — все благодаря столетиям исследований, посвященных их сохранению и приостановке процесса разложения. Еще на заре нашей науки анатомы, получавшие для изучения трупы, только-только снятые с виселицы, искали способ сохранить их подольше, применяя для этого технологии, разработанные пищевой промышленностью, в частности замачивание в алкоголе или солевом растворе, замораживание и сушку.
После смерти лорда Нельсона в битве при Трафальгаре в 1805 году, его тело погрузили в бочку с бренди и доставили домой, чтобы с почестями похоронить. Замачивание в алкоголе оставалось наиболее распространенным методом консервации вплоть до открытия в конце XIX века опасного химиката под названием формальдегид, совершившего переворот в сфере анатомирования трупов. Формальдегид — это дезинфектант, биоцид и консервирующий агент, действующий настолько эффективно, что его водный раствор, формалин, до сих пор является самым распространенным в мире консервантом.
Однако, достигая определенной концентрации, формальдегид становится опасен для здоровья, поэтому в последние десятилетия ведутся активные поиски его замен. В анатомии стала шире применяться заморозка: тело разделяют на части, которые замораживают, а затем размораживают непосредственно перед препарированием, а также методы мягкого консервирования, после которых ткани остаются более податливыми и приближенными к текстуре живого человеческого организма. В 1970-х анатом Гюнтер фон Хагене изобрел пластинацию, при которой из тела с помощью вакуума извлекают все жидкости и жир, заменяя их полимерами. Такие останки можно хранить вечно — похоже, у нас появился новый фактор загрязнения окружающей среды.
Однако каких бы высот мы не достигли в сфере технологий для сохранения человеческого тела или его изучения с помощью разных видов сканирования, анатомия как таковая, естественно, не изменилась. То, что видели внутри вскрытого трупа Везалий в 1540 году или Роберт Нокс в 1830-м, видели и мы с Грэхемом в наши студенческие годы, анатомируя Генри. Однако, поскольку Везалий и Нокс могли работать только со свежими останками, у них было слишком мало времени, так что вряд ли между ними и тем, кого они препарировали, возникали такие же узы доверия и уважения, как — к счастью! — сложились у нас с Генри. А может, все дело в общественных и культурных традициях, сильно изменившихся за прошедшие годы.
Для меня в мире нет и не может быть другого Генри; точно так же для любого анатома его собственный Генри всегда уникален. В тот год благодаря ему я узнала массу вещей не только о человеческой анатомии, но и о самой себе. Когда придет мое время оглядываться назад и вспоминать моменты наибольшего счастья и удовлетворения, мыслями я всегда буду обращаться к Генри. Конечно, за тот год случались и неприятности — я бы солгала, сказав, что их не было. Я терпеть не могла резать ногтевые ложа у него на пальцах рук и ног, словно боясь — иррационально — причинить ему боль. Да и промывание пищеварительного тракта, честно говоря, не та процедура, которой хочется насладиться повторно.
Однако для меня интерес к изучению его тела в разы перевешивал эти малоприятные эпизоды, равно как и щекочущее ощущение страха, которое охватывает тебя, когда ты начинаешь осознавать, сколько всего предстоит сделать: обнаружить и заучить на память 650 мышц с их точками прикрепления, нервными волокнами и основными функциями, вычленить более 220 нервов — автономных, краниальных, спинальных, сенсорных и моторных, найти сотни поименованных артерий и вен, разветвляющихся от сердца и возвращающихся к нему, места их разделения и связанные с ними структуры в мягких тканях. А как насчет 360 суставов, не говоря уже о желудочно-кишечном тракте, эмбриологии тканей и нейроанатомии с ее проводящими путями?
Стоит вам решить, что вы ухватили нужный орган, как он выскальзывает из пальцев, словно мыло под душем, и все приходится начинать заново. Просто возмутительно! Однако такое постепенное освоение практической и теоретической информации — единственный способ изучить и понять грандиозно сложное устройство человеческого организма. Анатому не надо быть особенно умным: достаточно иметь хорошую память, продуманный учебный план и развитую пространственную ориентацию.
Генри допустил меня ко всем потайным уголкам своего тела, позволив изучать его анатомические особенности (отдельное спасибо его аберрантной поверхностной надчревной артерии — я ее никогда не забуду!), удивляться, натыкаясь на структуры, которые вдруг оказывались мне не известны, и пробиваться к практически невидимой парасимпатической нервной системе. Он все переносил стоически, никогда меня не подводил и не внушал ощущение собственной глупости; со временем стало ясно, что я теперь знаю о нем больше — в определенном смысле, — чем знал о себе он сам.
Я обнаружила, что он не курил (легкие были чистые), не увлекался спиртным (печень сохранилась в отличном состоянии), хорошо питался, но не переедал (он был высокий и стройный, без излишков подкожного жира, но и не истощенный), почки казались здоровыми, в мозгу не было опухолей и никаких признаков аневризмы или ишемии. В качестве причины смерти был указан инфаркт миокарда, однако мне его сердце показалось вполне сохранным. Хотя кто знает? Я училась всего лишь на третьем курсе.
Возможно, он умер просто потому, что пришел его час, и в свидетельстве о смерти написали лишь вероятную причину. Зачастую при анатомировании указанная причина смерти часто приводит студентов в недоумение: добравшись до якобы пострадавшего органа, они не обнаруживают никаких патологий или аномалий. Когда кончина наступает просто от старости, а человек заранее завещает свое тело для изучения, причина смерти заведомо является лишь предположением. Для того чтобы установить ее наверняка, надо провести вскрытие, но после него тело не будет годиться для анатомирования — в противовес желанию усопшего. Поэтому, если обстоятельства не вызывают подозрений и соответствуют возрасту умершего, в свидетельстве обычно указывают инфаркт, инсульт или пневмонию — ее еще называют «другом стариков».
К моменту, когда мы закончили препарировать тело Генри, от макушки до пят, у него не осталось ни одного сантиметра, досконально нами не изученного. Ни одной части, которую мы бы не рассмотрели в книгах, отыскали, обсудили, проверили и перепроверили. Я была очень горда этим мужчиной, которого никогда не знала живым, дышащим, говорящим, деятельным, но с которым теперь познакомилась настолько глубоко, что, казалось, знала его лучше всех на свете. Все, чему он меня научил, останется со мной навсегда.
Через несколько месяцев наступило время попрощаться и пообещать Генри, что все полученные от него знания я использую в благих целях. Церемония прощания проходила в часовне Королевского Колледжа в Абердине, где мы благодарили всех, кто завещал нам свои тела, в присутствии их родственников и друзей, преподавателей и других студентов. Я не могла догадаться, когда зачитывали их имена, какое из них принадлежало Генри. Сидя на жесткой деревянной скамье на хорах, я рассматривала гостей, гадая, кто из скорбящих родственников сейчас плачет по нем. Кто из сидящих на истертых церковных скамейках — его amicus mortis, друзья в смерти? Я очень надеялась, что Генри не умер в одиночестве. Гораздо приятнее было думать, что он скончался в окружении близких, что кто-то держал его за руку и говорил, как его любит.
Все анатомические кафедры Шотландии ежегодно устраивают такие службы. Так мы отдаем дань уважения своим завещателям и показываем их родным и друзьям, насколько ценен этот дар, насколько мы им дорожим и как он важен для обучения следующих поколений.
Глава 2 Наши клетки и мы целиком
«Без систематического изучения смерти наука о жизни не будет полной»
Илья Мечников, микробиолог (1845–1916)Что такое человек? Одно из моих любимых определений гласит: «Человек принадлежит в группе сознательных существ, состоящих из углерода, живущих в солнечной системе, непросвещенных, заблуждающихся и смертных».
Странно, какое испытываешь облегчение, получая разрешение пробовать и ошибаться — ведь ты всего лишь человек. Никому из нас ничто не удается с первого раза, и никому не отведен бесконечный срок, чтобы доводить каждое дело до совершенства, поэтому приходится смириться с тем, что в нашей жизни будут и взлеты, и падения. С некоторыми задачами мы справимся на отлично, а некоторые так и не сможем осилить и только потратим на них свое драгоценное время.
В фильме Пегги Сью вышла замуж есть один забавный момент, отражающий вечное человеческое желание заглянуть в будущее, чтобы понять, на чем сосредоточиться в настоящем, чтобы в дальнейшем оно оказалось полезным. «Понимаете, я же знаю, — говорит Пегги Сью преподавателю математики после контрольной, — алгебра мне абсолютно не пригодится — я совершенно точно говорю». Перспективное планирование в условиях, когда мы и понятия не имеем о том, что нас ждет впереди — занятие непростое, и хотя в молодости оно представляется очень важным, с возрастом начинаешь ощущать, что годы летят все быстрее, и понимаешь, сколького не успел совершить.
Сознание — вот, пожалуй, наша сама главная отличительная особенность. Благодаря ему мы осознаем сами себя, получаем уникальную способность к интроспекции и, соответственно, отличаем себя от других. С самоидентификацией, распознанием себя, связана самая запутанная область психологии. В 1950-х психолог Эрик Эриксон определил личностную идентичность как: «Либо асоциальную категорию, определенную правилами группы и (связанными с ней) характерными признаками и ожидаемым поведением, либо б)социальные отличительные черты, которыми человек особенно гордится или считает неизменными, но социально опосредованными (или а) и б) одновременно)».
Ученые считают, что чувство собственной идентичности — это проявление зрелого представления о себе, которое позволяет нам формировать сложные общественные связи. Оно помогает нам — до некоторой степени — выражать свою индивидуальность, а другим — мириться с ней, поскольку все мы можем проявлять свою подлинную сущность: то, какими мы хотим быть и какую позицию занимать. Благодаря этому мы можем объединяться с единомышленниками и отстраняться от тех, с кем не хотим идентифицировать себя. Такая свобода индивидуальности дает человеку уникальную возможность играть со своей идентичностью, манипулировать ею и даже изменять в целом концепцию своего «Я». Однако я считаю, что Эриксон упустил еще одну, очень важную категорию идентичности, причем ту, играть с которой интереснее всего: нашу физическую идентичность.
Если человек, как вид, отличается в физическом смысле от других видов, то этот же подход может быть применен и к его различению от другого человека. Важность идентичности для нашего общества, а также тот факт, что ею можно манипулировать, ставит ее во главу всех наук, связанных со следственными действиями, в том числе и моей судебной антропологии, занимающейся идентификацией человека, или его останков, в судебно-медицинских целях.
Как можно доказать, на основании биологических и химических особенностей организма, что мы те, кем себя считаем, и что теми, кем мы себя считаем, мы являлись всегда? В моей профессии имеется целый набор техник для установления личности неопознанного тела через его индивидуальные свойства. Судебные антропологи отыскивают телесные особенности биологического и химического характера, составляя достаточно подробную историю прожитой жизни, которую затем можно совместить с материальными следами, оставленными человеком в прошлом. Иными словами, мы ищем ключи к нарративу, закодированному в каждом теле, врожденному и приобретенному, простирающемуся от рождения до смерти.
С биологической, более приземленной точки зрения, человека в целом можно описать как крупное скопление саморегулируемых клеток. Хотя гистология, изучающая клеточное строение растительных и животных тканей, а также цикл жизни клетки никогда меня особо не интересовали — в них задействованы слишком сложные биохимические процессы, которые мой слабенький мозг оказался не способен охватить, да и ладно, — надо признать, что клетка — это базовый строительный блок любого живого организма. Поэтому если смерть считается ответственной за прекращение его земного существования, то она должна наступить для каждой из его клетки. Анатомы знают, что смерть начинается в клетке, распространяется на ткань, далее на орган и систему органов. Получается, что — нравится нам это или нет, — все начинается с клетки и заканчивается ей. Смерть может быть единым событием для организма в целом, но для его клеток — это процесс, и поняв, как он развивается, мы будем больше знать о жизненном цикле строительных блоков организма. Не переключайтесь — я постараюсь рассказывать так, чтобы не было скучно.
Каждое человеческое существо возникает в результате слияния двух отдельных клеток, которые затем начинают делиться — на редкость скромное начало, из какого-то крошечного белкового пузырька. Через сорок недель in utero эти две клетки, пройдя через удивительные превращения, достигают числа более 26 миллиардов. С учетом грандиозных темпов роста плода и специализации его отдельных элементов, требуется невероятных масштабов планирование, чтобы все прошло, как надо, и, к счастью, обычно все так и получается. К моменту, когда ребенок становится взрослым, количество клеток в его организме переваливает за 50 триллионов, и они подразделяются примерно на 250 типов, формирующих четыре основных вида тканей — эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную, у каждой из которых есть свои подвиды. Ткани, в свою очередь, организуются примерно в семьдесят восемь разных органов, делящихся на тринадцать основных систем и семь групп. Любопытно, что при этом только пять органов считаются жизненно необходимыми: это сердце, мозг, легкие, почки и печень.
Каждый день в нашем организме умирает 300 миллионов клеток, 5 миллионов в секунду, большинство из которых просто замещается другими. Наши тела запрограммированы так, чтобы знать, какие клетки заменять, когда и каким образом, и, в целом, неплохо с этим справляются. Каждая клетка, ткань или орган имеют свою прогнозируемую продолжительность жизни, которая служит чем-то наподобие срока годности в супермаркете, с датой «употребить до». По иронии судьбы, те клетки, с которых все начинается, живут короче всего: сперматозоиды сохраняются каких-то три-пять дней после выработки. Клетки кожи живут две-три недели, а красные кровяные тельца — три-четыре месяца. Неудивительно поэтому, что ткани и органы живут и работают дольше: печени нужен целый год, чтобы в ней сменились все клетки, а скелету — пятнадцать лет.
Оптимистическая убежденность в том, что раз наши клетки регулярно обновляются, то и мы каждое десятилетие превращаемся физически чуть ли не в нового человека, конечно, иллюзорна. Корнями она уходит в знаменитый парадокс Тесея — если все составные части исходного объекта были заменены, остается ли он тем же самым объектом? Только представьте, что будет, если выступить с этим казуистическим аргументом в суде! Так и вижу пожилого солидного адвоката, защищающего убийцу: «Но Ваша Честь, жена моего клиента умерла пятнадцать лет назад, поэтому даже если он ее и убил, то с тех пор стал совершенно другим человеком, потому что все тогдашние клетки у него в организме уже умерли и сменились новыми. Человек, стоящий перед вами, не мог присутствовать на месте преступления, потому что тогда его попросту не существовало».
Не думаю, что суду можно и правда выдвинуть подобный аргумент, но, случись такое, я с удовольствием выступила бы на стороне обвинения. Очень забавно было бы потягаться с адвокатом в метафизическом споре. Он, однако, поднимает неизбежный вопрос: сколько замен может выдержать биологическая единица, оставаясь все тем же индивидуумом и сохраняя прослеживаемую идентичность? Вспомните, к примеру, какие трансформации произошли в ходе жизни с Майклом Джексоном. Мало что от юной звезды «Пятерки Джексонов» осталось во взрослом человеке, изменившемся до неузнаваемости, однако имелись и другие составляющие, которые сохранились и продолжали определять его физическую идентичность. Именно такие составляющие мы и стараемся отыскать.
В наших телах есть как минимум четыре типа клеток, которые никогда не заменяются и живут столько же, сколько мы сами — технически, даже дольше, поскольку формируются еще до нашего рождения. Пожалуй, эти клетки можно привести в пример как свидетельство нашего телесного биологического постоянства в споре с вышеупомянутым адвокатом. К таким клеткам относятся нейроны нервной системы, небольшой костный пятачок в основании черепа — так называемая слуховая капсула, эмаль зубов и хрусталик глаза. Зубы и хрусталик постоянны лишь наполовину, поскольку их можно удалить и заменить современными имплантатами, нисколько не навредив при этом хозяину. Однако другие два типа незаменимы и потому действительно индивидуальны; они хранятся в нашем теле как неопровержимое свидетельство биологической идентичности, возникая еще до рождения и распадаясь уже после смерти.
Наши нейроны, или нервные клетки, формируются на очень ранней стадии внутриутробного развития, и к моменту появления на свет их у нас ровно столько, сколько отводится организму на всю жизнь. Их аксоны, напоминающие длинные распростертые руки, расходятся в стороны, словно дорожная сеть, обеспечивая движение с севера на юг и обратно. На юг по ним перемещаются моторные команды от мозга к мышцам, а обратно, на север, сенсорная информация от нашей кожи и других рецепторов. Самые длинные передают болевые и прочие ощущения вдоль всего тела, от кончиков пальцев на ногах по самим ногам до спины, дальше по позвоночнику, в мозг и, наконец, на его сенсорную кору, расположенную в области макушки. Если в вас 180 сантиметров роста, каждый такой нейрон может достигать почти двух метров. Поэтому, ударившись пальцем ноги об угол кровати, мы какое-то мгновение не чувствуем боли — это сигнал бежит к мозгу по нервам, — и только потом издаем громкое «ай», осознавая, что произошло.
Наличие этих клеток в мозгу поднимает любопытный вопрос о том, не являются ли именно они носителями нашей идентичности. Вполне возможно, что коммуникацию между ними можно расшифровать, поняв тем самым, как мы думаем, и как осуществляются высшие функции памяти и мышления. Современные исследования показывают, что с помощью флуоресцентных окрашенных белков можно запечатлеть формирование памяти на уровне отдельного синапса. Практическое применение этих знаний пока выглядит чересчур фантастично, хотя я рискну предположить, что понимание принципов работы нейрона может лечь в основу системы распознавания человеческой личности уже в скором будущем.
Второй участок, где клетки не обновляются — это слуховая капсула, расположенная глубоко внутри мозга, вокруг внутреннего уха. Это часть отвердевшей кости, образующей улитку уха, орган слуха, и полукруглые каналы вестибулярного аппарата. Внутреннее ухо формируется еще у эмбриона и имеет сразу тот же размер, который останется у взрослого; оно не растет и не изменяется благодаря активному продуцированию остеопротегерина, базового гликопротеина, подавляющего рост костной ткани. Если бы оно могло расти, у нас сильно страдали бы функции и слуха, и равновесия. Хотя уже у младенца слуховая капсула имеет свой взрослый размер, на самом деле она совсем крошечная, объемом не более 200 микролитров — это примерно четыре капли. Клетки, содержащиеся в этой маленькой косточке, уже дают нам возможность составить представление об идентичности ее обладателя.
Чтобы понять, насколько ценен каждый вид клеток для идентификации, надо разобраться, как они формируются — в костях, мышцах или гладкой оболочке внутренностей. На базовом уровне каждая клетка нашего тела состоит из химических элементов. Их формирование, жизнь и репликация зависят от поставки строительных блоков, источника энергии, обеспечивающей их существование, и от вывода отходов жизнедеятельности. Главное отверстие в нашем организме, через которое в него поступают эти строительные блоки, это рот, откуда они, через желудок, добираются до кишечника — нашего перерабатывающего завода. Получается, что все компоненты для любой клетки, ткани или органа, мы получаем исключительно из того, что потребляем. В буквальном смысле, мы то, что мы едим. Питание, таким образом, необходимо для выживания, и знаменитое утверждение, что без воздуха человек живет максимум три минуты, без воды — три дня, а без еды — три недели, пускай и не совсем точно, но весьма близко к истине.
In utero, не имея возможности самим потреблять пищу, мы получаем ее от матери через плаценту и пуповину, чтобы продолжалось строительство наших клеток и систем. Хотя беременным и не стоит, следуя поговорке, есть за двоих, надо все-таки следить, чтобы диета будущей мамы содержала все необходимое для обеспечения не только ее, но и очень требовательного пассажира.
Строительные материалы, из которых создается слуховая капсула, поступают из того, чем мать питается примерно на шестнадцатой неделе беременности. Получается, что у нас в голове, в крошечной косточке, внутри которой поместится не больше четырех капель воды, содержится информация, которую мы пронесем через всю жизнь, химическая сигнатура, говорящая, что наша мама съела на обед, будучи на четвертом месяце. Еще одно доказательство того, что матери всегда с нами рядом, и, похоже, разгадка их вечного мистического присутствия у нас в голове.
Мы считаем свое питание космополитическим, но в реальности потребляем воду и продукты, тесно связанные с нашим регионом проживания. Проходя через множество геологических слоев, вода поглощает изотопы различных элементов, свойственных данному региону, и мы, потребляя ее, записываем эту сигнатуру в химическом составе всех тканей организма.
Химический состав зубной эмали в ходе жизни практически не меняется — вот почему разрушенные зубы не могут восстановиться сами. Коронки наших молочных зубов формируются еще до рождения, поэтому их состав напрямую зависит от питания матери, так же как состав наших первых взрослых резцов. Остальные постоянные зубы принадлежат уже только нам и отражают наше питание в школьные годы.
Равно как наши «перманентные» ткани, волосы и ногти являются богатым источником информации о питании, поскольку их структура формируется линейно, и они растут с равномерным темпом. По ним, как по штрих-коду, можно читать, в какое время были поглощены и усвоены определенные нутриенты.
Как же судебный антрополог использует удивительную информацию, заключенную в наших клетках, для расшифровки биографии человека и установления его личности? Анализ стабильных изотопов — отличный пример того, как современные технологии приходят к нам на помощь. Соотношение углеродных и азотистых стабильных изотопов в тканях тела позволяет сделать важные выводы о питании: ел ли человек преимущественно мясо, рыбу или овощи. Соотношение изотопов кислорода проливает свет на происхождение воды, которую он пил, а по изотопной сигнатуре, связанной с водой, можно установить его предположительное место проживания.
Если вы переезжаете в другой регион, сигнатура меняется вместе с изменением пищи, которую вы потребляете, и воды, которую пьете. Анализ волос и ногтей помогает проследить такие географические перемещения. К нему часто прибегают для установления личности неопознанных трупов или для отслеживания передвижений преступников. Подозреваемого в терроризме, который утверждает, что никогда не выезжал из Великобритании, может разоблачить изменение соотношения стабильных изотопов, демонстрирующих сигнатуру, характерную для Афганистана. Анализ волос может также указывать на злоупотребление наркотиками: героином, кокаином и метамфетамином. Кстати, в детективах викторианских времен именно по волосам сыщики устанавливали отравление мышьяком.
Поэтому, теоретически, изучив останки человека и проанализировав изотопные сигнатуры его слуховой капсулы и первого резца, мы можем выяснить, в какой части мира жила его мать во время беременности и чем она питалась. Далее, проанализировав остальные коренные зубы, мы установим, где человек вырос, а по остальным костям — где он жил в последние пятнадцать лет или около того. Наконец, по анализу волос и ногтей, мы определим, где он провел последние месяцы жизни.
Сложность управления всей этой массой клеток просто поражает. Будучи настоящей фабрикой, наш организм работает на редкость слаженно — в большинстве случаев, — когда мы находимся на пике формы, и эффективно замещает большую часть из тех 300 миллионов клеток, которых мы лишаемся каждый день. Но по мере старения и дегенерации мы теряем способность производить новые клетки. Первые признаки этого процесса нам хорошо известны: волосы становятся тоньше и седеют, тускнеют глаза, на коже появляются морщины, снижается мышечная масса и тонус, ослабевают память и репродуктивная функция.
Все это нормальные атрибуты старения, явственно указывающие на то, что вы, скорее, ближе к концу жизни, чем к ее началу. Однако когда врач говорит, что они нормальны для вашего возраста, это вас не особо утешает — вы понимаете, что и смерть для вашего возраста нормальна тоже. Мало того, некоторые клетки, старея, выходят из-под контроля и начинают стремительно размножаться, а ткани, долгое время страдавшие от неблагоприятных условий окружающей среды, нездорового образа жизни и постоянного стресса, перестают функционировать эффективно. Мы можем продлить работу большинства наших органов с помощью хирургических вмешательств и фармакологической поддержки, но, в конце концов, они все равно откажут, и мы — наши тела — умрут.
В соответствии с одним судебно-медицинским определением, смертью организма считается момент, когда «наступает либо необратимое прекращение кровообращения и дыхания, либо необратимое прекращение функционирования всех отделов мозга, включая мозговой ствол». Ключевое слово здесь — «необратимое». Все медицинское сообщество ищет способ обратить это необратимое, словно священный Грааль.
Можно предположить, что раз наша жизнь зависит от пяти главных органов, то от них же зависит и наша смерть. Благодаря чудесам современной медицины мы можем пересаживать четыре из них: сердце, легкие, печень и почки. Но самый главный орган, мозг — основной командный центр, руководящий всеми остальными органами, тканями и клетками нашего тела — до сих пор заменить никому не удалось. Похоже, что жизнь и смерть зависят от тех самых нейронов (я же говорила, что у них особая роль!).
Наши тела меняются не только в процессе жизни, но и после смерти. Когда начинаются процессы, связанные с организменной и клеточной деконструкцией, мы распадаемся на химические элементы, из которых когда-то были созданы. Для этого существует целая армия волонтеров, всегда готовых к услугам — более 100 миллиардов бактерий, живущих в человеческом организме, которых до тех пор сдерживала работающая иммунная система. Как только среда меняется и успешное оживление или реанимация организма становятся невозможны, бактерии принимаются за дело. Теперь факт смерти подтверждается тем, что жизнь уже не возвратить.
В большинстве случаев, например, когда мы умираем дома, в окружении родных или в больнице, под присмотром врачей, время смерти заведомо известно. Однако если человек умирает один, либо тело внезапно обнаруживают при подозрительных обстоятельствах, время смерти приходится устанавливать особо, в соответствии с юридическими и медицинскими формальностями. Мы определяем его по информации, которую хранит организм. Судебный антрополог должен знать не только, как устроено тело, но и что с ним происходит после смерти.
Существует семь стадий посмертных изменений трупа. Первая — «pallor mortis» (буквально — «мертвенная бледность»), наступает в течение нескольких минут и остается заметной примерно в течение часа. Именно ее мы имеем в виду, когда говорим, что кто-то «побледнел, как мертвец». Когда сердце прекращает биться, капилляры перестают заполняться кровью — она отливает от поверхности кожи и начинает стекать вниз по телу под воздействием гравитации. Поскольку это явление наблюдается на самых ранних стадиях посмертных изменений, такая бледность не может считаться прямым указанием на время смерти. К тому же этот фактор весьма субъективный и не поддается точному определению.
Вторая стадия, «algor mortis» («смертельный холод» или «охлаждение трупа»), наступает, когда тело начинает остывать (бывает, правда, что оно, наоборот, нагревается — в зависимости от условий среды). Температуру тела обычно замеряют ректально, поскольку кожа остывает — или нагревается — быстрее, чем внутренние ткани. Хотя темпы падения ректальной температуры относительно стабильны, невозможно узнать, была ли нормальной температура тела на момент смерти. На нее могут влиять самые разные факторы, включая возраст, вес, наличие заболеваний или прием лекарственных средств. При некоторых инфекциях или реакциях на медикаменты температура поднимается, равно как при физических нагрузках или интенсивной борьбе непосредственно перед смертью. Более низкие показания наблюдаются, например, в состоянии глубокого сна. Поэтому и температура не является точным указанием на время смерти.
После смерти на темпы охлаждения трупа сильно влияет температура воздуха. Например, там, где она превышает 37 °C, труп не будет остывать, поэтому установить время смерти по этому показателю не удастся. Очевидно также, что по прошествии определенного времени оценка температуры тела не даст достоверных сведений, так как труп постепенно адаптируется к температуре окружающей среды.
Через несколько часов после смерти мышцы начинают сокращаться и наступает третье — временное — посмертное изменение, «rigor mortis» или трупное окоченение. Сначала, по истечении примерно пяти часов, оно захватывает мелкие мышцы, а затем распространяется на крупные, достигая своего пика в интервале с двенадцати до двадцати четырех часов после смерти. Когда мы умираем, насосный механизм, удерживающий ионы кальция вне мышечных клеток, перестает функционировать и кальций просачивается через клеточные мембраны. Это приводит к сокращению волокон актина и миозина в мышцах, отчего те застывают в напряженном положении. Поскольку мышцы связаны с суставами, суставы тоже могут согнуться и оставаться ригидными в течение нескольких часов. Далее напряженные мышцы начинают расслабляться из-за химических процессов, происходящих в теле, а суставы снова обретают подвижность. Именно этим объясняется редкий, но достоверно зафиксированный феномен, когда мертвецы вдруг вздрагивают или шевелятся. Однако садятся на каталках и громко стонут они только в фильмах ужасов — можете мне поверить.
Признаки изначальной подвижности, затем окоченения и восстановления подвижности можно использовать при установлении времени смерти, но на их протяженность оказывает действие большое количество переменных, а порой окоченение не наблюдается вовсе. Например, оно часто отсутствует у новорожденных и очень пожилых людей. При высоких температурах оно развивается быстрее, при низких — запаздывает. В числе факторов, заметно влияющих на него, некоторые яды (стрихнин ускоряет наступление окоченения, а угарный газ замедляет). Окоченение наступает быстрее, если перед смертью имела место физическая активность, и не наступает вообще в случае утопления в холодной воде. Поэтому еще раз — окоченение не является неопровержимым указанием на время смерти, вне зависимости от того, что говорят в детективных сериалах.
Поскольку сердце больше не бьется, наступает четвертая стадия посмертных изменений — livor mortis, или появление трупных пятен. Кровь начинает оттекать под воздействием гравитации вниз по телу практически сразу после смерти, еще на стадии pallor mortis, но пятна проступают только спустя несколько часов.
Более тяжелые красные кровяные тельца проникают через сыворотку и скапливаются на нижнем, относительно положения тела, уровне, в соответствии с законами тяготения. Кожа на этих участках в результате их скопления приобретает темно-красный или фиолетовосиний оттенок, так что трупные пятна ярко выделяются на фоне более бледной кожи выше. Если кожа соприкасается с поверхностью (например, когда тело лежит на спине), кровь вытесняется из тканей в прилегающие участки, на которые не оказывается непосредственного давления. Поэтому зоны контакта по сравнению с пятнами выглядят бледней.
Пятна полностью формируются в течение примерно двенадцати часов. Далее они фиксируются и могут служить важной уликой при установлении причин смерти. Они указывают на то, в каком положении находилось тело непосредственно после смерти, и помогают установить, перемещали его или нет. Тело с пятнами на спине, лежащее тем не менее лицом вниз, определенно переворачивали. Если человека повесили, кровь скапливается в нижних сегментах всех четырех конечностей и по пятнам, которые там все равно проступят, можно будет понять, что после смерти труп сняли с петли.
Относительно новую область исследований представляют собой недавно открытые некробиомы — колонии бактерий, растущие в мертвом теле. Ученые, исследовавшие образцы бактерий из ушей и ноздрей трупов, обнаружили, что с помощью секвенирования их ДНК можно определить время смерти с большой точностью — вплоть до нескольких часов, даже если она наступила несколько дней или недель назад. Если данные исследований лягут в основу нового метода определения времени смерти, и он не окажется слишком дорогостоящим, то вскоре этот новый парень вытеснит со сцены своих братишек, Pallor, Algor, Rigor и Livor.
Если тело не было обнаружено в ходе описанных четырех стадий, оно начинает очень неприятно пахнуть. На пятой стадии — гниения — клетки постепенно утрачивают структурную целостность и их мембраны разрушаются под воздействием кислотной среды телесных жидкостей. Этот процесс называется аутолиз (буквально, саморазрушение), и в ходе него складываются идеальные условия для размножения анаэробных бактерий, поглощающих клетки и ткани. В результате высвобождается большое количество химических веществ, включая пропионовую кислоту, молочную кислоту, метан и аммоний, по запаху которых обычно и находят разлагающиеся тела, которые были спрятаны или небрежно похоронены. Все мы знаем, как специально обученные собаки разыскивают трупы. Обоняние у них примерно в тысячу раз чувствительнее человеческого, поэтому они легко обнаруживают эти вещества даже в небольшой концентрации. Собаки — не единственные, кто отличается острым обонянием: крыс, например, тоже тренируют реагировать на запах разложения, как и — вы не поверите! — обычных ос.
По мере дальнейшей выработки газов труп начинает раздуваться и — когда некоторые пахучие субстанции, такие как кадаверин, скатол и путресцин, достигают высокой концентрации, — привлекает к себе насекомых. Мясные мухи чуют запах разложения уже через несколько минут после смерти и кидаются искать его источник, чтобы отложить там яйца — обычно в отверстиях, например в глазницах, ноздрях и ушах. Запах разложения проникает повсюду, так что насекомые устремляются к нему в надежде отыскать пищу для себя и своего будущего потомства. Давление в гниющих тканях нарастает и может приводить к протечкам жидкости из отверстий и даже к разрывам кожи, которые становятся новыми воротами для насекомых и прочих падальщиков. Цвет кожи постепенно меняется, становясь темно-фиолетовым, черным или грязно-зеленым, словно заживающий синяк, в результате распада побочных продуктов дегенерации гемоглобина.
Активное и далеко зашедшее разложение, шестая стадия, начинается, когда трупом завладевают полчища личинок. Они начинают в буквальном смысле прогрызать себе дорогу через ткани, которые становятся их источником пищи. Совместными усилиями насекомых, животных и растений поглощаются все мягкие ткани. В процессе вырабатывается значительное количество тепловой энергии: 2500 личинок своей деятельностью поднимают температуру в тканях на 14 °C относительно температуры окружающей среды. Однако при температуре выше 50 °C они сами умирают, поэтому, когда данное значение подходит к критическому, масса личинок разделяется на несколько более мелких групп в попытке охладиться. Именно это постоянное движение и активность описываются всякими цветистыми эпитетами типа «копошащейся массы червей».
Седьмая, финальная стадия — это скелетирование, когда все мягкие ткани исчезают, а остаются только кости и, в некоторых случаях, волосы и ногти, состоящие из инертного кератина. В зависимости от условий среды и временных сроков, кости тоже могут разрушаться. Мы распадаемся на элементы, из которых образовались на старте жизни. Минеральные ресурсы планеты не безграничны, и все мы состоим из возобновляемых материалов, которые должны вернуть в химический котел.
Как же долго идет процесс разложения? Здесь нельзя ответить однозначно. В некоторых регионах Африки, где полно насекомых, а температура очень высока, человеческое тело может превратиться в скелет всего за семь дней. На холодных пустошах Шотландии этот процесс занимает пять лет, а то и больше. На темпы разложения влияют климат, доступ кислорода, причина смерти, условия захоронения, воздействие насекомых, доступность для падальщиков, количество дождей и даже одежда. Неудивительно поэтому, что в некоторых случаях достоверно определить время смерти никак нельзя.
Тот факт, что разложение можно приостановить или ускорить, случайно или намеренно, также влияет на достоверность предположительного времени смерти. Замораживание останавливает разложение практически полностью, и если тело не подвергается периодическому оттаиванию, то остается сохранным много веков. С другой стороны, сухой жар, обезвоживающий ткани, также помогает трупу сохраниться. Благодаря ему, в частности, до наших времен дошли мумии в Синьцзяне и в пещере Фаллон в Неваде. Химические вещества помогли сохраниться знаменитым египетским мумиям, в частности Рамзеса и Тутанхамона. Из их тел удалили внутренние органы, а полости заполнили травами, специями, маслами, смолами и природными солями, то есть провели сложные бальзамирующие процедуры.
Погружение в воду, как в случае с телами утопленников из торфяных болот, может прерывать аэробную активность. Тело становится стерильным, и хотя со временем кислая среда болота размягчает скелет, труп сохраняется неизменным, с темно-коричневой «дубленой» кожей, еще много веков. При подходящих условиях — определенной температуре, кислотности и в отсутствие кислорода — жир в теле не гниет, а омыляется, превращаясь в так называемый жировоск, который обволакивает ткани и защищает их от разложения. «Бриенц», обезглавленный труп мужчины, полностью покрытый жировоском, был обнаружен в 1996 году в Бриенцском озере в Швейцарии. Анализ показал, что он утонул там в XVIII веке и тело полностью поглотили донные осадки. Однако в результате двух незначительных землетрясений, случившихся в регионе, труп освободился из плена и всплыл на поверхность.
Некоторые ученые призывают к созданию дополнительных исследовательских полигонов — широко известных под неприятным названием «трупная ферма», — на которых тела оставляют на открытом воздухе для изучения процессов распада. В США таких ферм пять, и еще одна в Австралии, так что я не поддерживаю идею учреждения в Британии новой. Аргументы, которые выдвигаются в ее пользу, меня не убеждают. Пока что мы используем тела животных, чей организм по своему устройству ближе всего к человеческому, например свиней, и свидетельств в пользу того, что такие данные недостаточно адекватны, практически нет, как нет и подтверждений тому, что исследования на человеческих трупах позволят точнее устанавливать время смерти. Мне нужно нечто более весомое, чтобы пересмотреть свою позицию. Саму концепцию «трупных ферм» я считаю жестокой и страшной и испытываю огромную неловкость, когда меня приглашают посетить одно из таких мест чуть ли не в качестве туристического аттракциона. Меня часто спрашивают, почему у нас в Британии нет «трупных ферм», но я считаю, что гораздо правильнее будет спросить, зачем они нам нужны и хотим ли мы их.
Что бы мы не оставили о себе на земле, после смерти наша идентичность имеет не меньшее значение, чем при жизни. Наше имя — ядро того феномена, который мы называем «я» — может жить дольше, чем даже наши кости, запечатленное на могильном камне, мемориальной доске или в книгах. Оно может быть одним из самых непостоянных наших признаков, но пережить на много веков наши смертные останки, а в некоторых случаях сохранить даже силу внушать следующим поколениям страх и ненависть или восхищение и любовь.
Безымянный труп — одна из самых сложных проблем в любом полицейском расследовании, причем такая, которую необходимо решить вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента смерти до обнаружения тела. Судебные эксперты должны попытаться связать телесные останки с именем, которое может быть где-то задокументировано, далее отыскать родных и друзей, которые могли бы подтвердить личность покойного — все ради того, чтобы пролить свет на обстоятельства смерти. Не установив имя, нельзя опросить семью, окружение или коллег, отследить переговоры по мобильному телефону, проверить данные камер слежения и попытаться реконструировать последние дни жизни. С учетом того, сколько людей пропадает ежегодно — только в Великобритании около 150 000, - задача весьма нелегкая. И тем не менее мы стремимся сделать все, чтобы вернуть неопознанному телу имя, полученное при рождении.
Обычно имя — точнее фамилия — появляется у нас еще до рождения. Если этого не произошло, то мы получаем его вскоре после появления на свет. Мы не выбираем его и не приобретаем случайно, и очень редко становимся его первым и уникальным обладателем. Этот маркер, выбранный для нас другими как подарок — а иногда и как проклятие, — остается при нас всю оставшуюся жизнь и становится важной составляющей нашего представления о себе.
Мы отвечаем на свое имя автоматически и без колебаний, по сути, на подсознательном уровне. В шумном зале, где даже беседу сложно вести, мы всегда расслышим собственное имя, словно его специально произнесли ясно и четко. Очень быстро оно становится неотъемлемым аспектом нашего «я», и, идя по жизни, мы нередко прилагаем значительные усилия, а то и платим немалые деньги, чтобы защитить его от неправомерного использования или похищения другими.
И тем не менее, несмотря на всю важность имени для нашей самоидентификации, мы запросто можем его изменить по самым разным причинам — например, вступая в брак, в попытке разделить публичную и частную жизнь или просто потому, что собственное имя нам не нравится. Некоторые люди живут с одним и тем же именем всю жизнь; некоторые пользуются двумя для двух разных ролей, а есть и такие, кто меняет имена и фамилии постоянно. Обычно, решив официально сменить имя, человек фиксирует это документально, но даже в этом случае он значительно осложняет работу для судебного эксперта.
Что касается уменьшительных и полных имен, то у человека их может быть вообще сколько угодно. Мой случай в этом смысле совершенно типичен. Я — урожденная Сьюзан Маргарет Ганн. Ребенком меня называли Сьюзан — или Сьюзан Маргарет, полным именем, если собирались призвать к ответу за какие-нибудь проделки, на которые я была большой мастерицей. Когда я подросла, друзья стали звать меня Сью. Я вышла замуж и стала Сью Маклафлин (миссис, потом доктор Маклафлин); потом, после второго замужества, Сью Блэк (профессор, потом леди Блэк) — и некоторое время, чтобы сохранить преемственность в своей научной деятельности, я представлялась как Сью Маклафлин-Блэк (как тут не задуматься о кризисе идентичности!).
Если бы моя мать настояла на своем, я была бы Пенелопой — по той простой причине, что ей очень нравилось имя Пенни. Слава богу, мне повезло не превратиться в Пенни Ганн; точно так же я благодарна судьбе, что не стала судебным антропологом по имени Иона, конечно, очень симпатичным, но плохо подходящим к моей фамилии. По счастью, у имени Сьюзан Ганн никаких опасных коннотаций пока что не обнаружилось, хотя из-за фамилии надо мной, бывало, и подшучивали.
Поскольку уникальные имена встречаются крайне редко, большинство из нас делит свой наиболее личный маркер еще со многими людьми. Из примерно 700000 Cмитов в Великобритании, 4500 носят имя Джон. Мое собственное имя встречается все-таки реже: Ганнов у нас зарегистрировано всего 16 446, причем большинство, что неудивительно, живет на северо-востоке Шотландии, в окрестностях Вика и Терсо. Но Сьюзан из них не больше сорока.
Встретить тезку бывает забавно, но иногда приводит и к недоразумениям. Для актеров выбор псевдонима, которого нет ни у кого другого, становится настоящим кошмаром. Когда я стала Блэк, на горизонте немедленно возникла другая Сью Блэк, специалист по компьютерам, спасшая Блетчли-Парк от надвигавшегося упадка. Это оказалась очаровательная дама примерно моего возраста; хоть лично мы никогда и не встречались, но активно переписывались по электронной почте. Периодически ко мне обращаются с вопросами про Блетчли-Парк или приглашают прочитать лекции по дешифровке во времена Второй мировой войны, и тогда мне приходится сообщать моим крайне разочарованным корреспондентам, что они связались с «другой Сью Блэк», и что, если только их не интересует беседа о трупах, я советую им связаться с «той самой».
Наше особое отношение к имени отражается в фольклоре и литературе, в многочисленных историях о смене имени, его краже, о перепутанных и заимствованных именах, не говоря уже о сюжетах с усыновлениями или подменами при родах. Эта тема широко освещена в шекспировских комедиях; собственно, значительная часть его произведений так или иначе касается концепции идентичности. Имя лежит в основе массы сюжетов, исследующих природу человеческого общества, конфликты и взаимоотношения между людьми.
Конечно, более вероятны подобные ситуации были при несложном общественном устройстве прошлого, когда фальсификация новой личности или кража имени у кого-то не влекла за собой таких рисков, как сейчас. Злополучный авантюрист шестнадцатого века, укравший имя Мартена Гэрра, которому посвящено немало книг, фильмов и мюзиклов, не продержался бы так долго в наше время, когда криминология позволяет установить личность практически со стопроцентной точностью.
Тем не менее до сих пор имеют место ситуации, когда скелеты вываливаются из семейных шкафов. Узнать, по прошествии многих лет, что ты не тот, кем себя считал, бывает крайне тяжело — тут-то уж точно возникает вышеупомянутый кризис идентичности. Неужели моя мать на самом деле моя сестра? А мой отец — он мне не отец? Мой отец это мой дедушка? Меня усыновили? Поскольку наша идентичность строится на основаниях, заложенных для нас другими — теми, кому мы доверяем, — имя и семейная генеалогия становятся краеугольным камнем в наших представлениях о себе, давая чувство защищенности. Но для кого-то все это оказывается карточным домиком. Когда ложь открывается, все, что мы думали о себе и о своем месте в мире, рушится в один миг. Подобные разоблачения зачастую бывают спровоцированы чьей-то смертью, когда родственники получают доступ к документам или криминалисты проводят расследование, устанавливая личность неопознанной жертвы, в попытке разобраться в обстоятельствах и мотивах, приведших к кончине.
Итак, что же делают судебные антропологи, сталкиваясь с неопознанным телом, чтобы установить его личность? Сначала мы составляем биологический профиль. Мужчина это или женщина? Возраст на момент смерти? Расовая принадлежность? Рост? Ответы на эти вопросы позволяют нам приблизиться к описанию внешности человека. Поняв, что речь идет о женщине от двадцати до тридцати, чернокожей, ростом примерно 165 см, мы обращаемся к базам данных о пропавших, чтобы вычленить тех, кто подходит под эти широкие критерии. Кандидатов обычно оказывается немало. Однажды при поисках белого мужчины 20–30 лет ростом 180–185 см мы выявили 1500 возможных пропавших только на территории Великобритании.
Есть три набора данных, признаваемых Интерполом в качестве первичных индикаторов личности: это ДНК, отпечатки пальцев и стоматологическая карта. Отпечатки пальцев и стоматологическая карта используются в криминологии уже более ста лет, а вот анализ ДНК тут новичок — он вошел в арсенал судмедэкспертов только в конце 1980-х, сыграв поистине революционную роль. К нему прибегают и в полицейских расследованиях, и в спорах об отцовстве, и в вопросах иммиграции, а благодарить за него мы должны знаменитого британского генетика сэра Алека Джеффри из Университета Лестера.
ДНК, или дезоксирибонуклеиновая кислота, это генетический строительный материал, имеющийся в большинстве клеток человеческого тела. Половину своей ДНК мы получаем от матери, а половину — от отца, так что по ней легко проследить родственные связи. Существует распространенное заблуждение, что получение ДНК из тела само по себе является способом идентификации личности; на самом деле, для этого требуется провести сравнение, например с образцом ДНК, некогда взятым у того, за кого принимают погибшего, или, если образца не имеется, у его ближайших родственников (родителей, братьев и сестер или детей). Генетические данные, к примеру, брата погибшего, могут быть практически идентичны, поэтому, если для установки личности используется ДНК родных, потребуются другие доказательства, указывающие конкретно на этого человека, например стоматологическая карта.
При анализе ДНК родителей, мы предпочитаем брать образец у матери, поскольку всегда существует доля вероятности, что предполагаемый отец на самом деле не является таковым. Семьи бывают самые разные, и в некоторые вопросы биологического родства никто не держит в секрете, но случается, что открытия подобного рода приводят к большим потрясениям, поэтому мы в своей работе проявляем максимальную тактичность и осторожность. Как говорила моя мудрая бабка, «всегда знаешь, кто твоя мать, но вот насчет отца ей просто веришь на слово». Пожалуй, из ее слов можно сделать кое-какие выводы о нашей семье. В любом случае, никому не нужны внезапные разоблачения, когда ситуация и без того напряжена.
При одной из недавних катастроф, когда погибло более пятидесяти человек, мы столкнулись с ярким примером того, как смерть и последующие пробы ДНК могут открывать семейные секреты. Две сестры были уверены, что их брат погиб в той катастрофе, но проверка по госпиталям и моргам показала, что он не попадал ни в один из них. С братом не получалось связаться ни у них самих, ни у коллег и друзей; он не отвечал на телефонные звонки и с его номера никаких звонков не совершалось. За неделю с момента катастрофы с его банковского счета не снималось средств, и кредитные карты ни разу не использовались.
В полицейском морге хранилось одно неопознанное, сильно поврежденное тело, подходившее в целом под общее описание этого человека, но его ДНК не совпало с ДНК сестер. Дальнейшее расследование показало, что это действительно был их пропавший брат. Ни он сам, ни они не знали, что в детстве его усыновили — факт усыновления подтвердила престарелая тетка. На сестер лег двойной груз: от смерти брата и от сознания того факта, что биологически он не являлся их родственником. Это поставило под вопрос их представления о брате и, конечно, отношение к родителям.
Британская полиция за год получает около 300 000 звонков с сообщениями о пропавших людях — примерно 600 в день. Примерно в половине случаев факт пропажи подтверждается, и заводится полицейское дело, при этом 11 % таких дел получают статус приоритетных и связанных с рисками. Половина пропавших — подростки в возрасте от 12 до 17 лет, сбежавшие из дома. Чуть больше половины (около 57 %) из них — девочки. К счастью, большинство детей возвращаются сами либо их находят живыми, но еще 16 000 в течение года и более числятся пропавшими. В случае исчезновения взрослых, соотношение немного другое: около 62 % — мужчины, в основном в возрасте от двадцати двух до тридцати девяти лет. Из приблизительно 250 человек за год, обнаруживаемых погибшими при подозрительных обстоятельствах, число детей не превышает тридцати.
Бюро по розыску пропавших в Великобритании подчиняется Национальному криминальному агентству, сотрудничающему с Интерполом, Европолом и другими международными организациями. Когда пропадает человек, Интерпол выпускает так называемое желтое сообщение, которое распространяется в полицию 192 стран, входящих в его состав. «Черное сообщение» рассылается, когда обнаружено тело, и идентифицировать его не удалось. При идеальном раскладе, все черные сообщения должны были бы коррелировать с желтыми. Мы прилагаем все усилия, чтобы их совместить, сопоставляя приметы пропавших (прижизненные) с приметами мертвых (посмертными).
Казалось бы, расследование проще всего начинать с базы данных ДНК и отпечатков пальцев. Однако данные появляются там только в том случае, если погибший привлекал внимание полиции (также в базы данных включаются ДНК действующих криминалистов, полицейских, солдат и других лиц, участвующих в расследованиях, чтобы не путать их с данными преступников). Через Интерпол мы можем запросить помощь у других международных правоохранительных агентств, имеющих собственные базы данных, если считаем, что такой поиск может дать нужные результаты. В большинстве стран нет общих баз данных ДНК или отпечатков пальцев, равно как нет и национальной базы стоматологических карт. Поэтому, если вы не служите в полиции или в армии и раньше не подвергались судебному преследованию, крайне маловероятно, что сведения о вас присутствуют в какой-либо базе данных.
Давайте вернемся к примеру со скелетом молодого белого мужчины, упомянутого выше, по общим приметам которого база данных выдала 1500 совпадений. Его обнаружил в лесу на севере Шотландии человек, выгуливавший своего пса. На место происшествия сразу же прибыли полицейские и судмедэксперты. Кости лежали на земле, в целом в анатомическом положении, но череп почему-то оказался у ног. Сверху, с ветки гигантской шотландской сосны, прямо над телом свешивался капюшон куртки, в котором обнаружили кость — второй шейный позвонок. В скелете под ним этого позвонка как раз не хватало. Получалось, что тело висело на дереве, а затем, в процессе разложения, ткани шеи растянулись и оборвались. Тело упало на землю, и голова откатилась к ногам. Позвонок же зацепился за капюшон.
Все указывало на то, что тут произошло самоубийство. Неизвестно по каким причинам, но этот человек взобрался на дерево, закрутил капюшон вокруг шеи, зацепил его за ветку и спрыгнул вниз. Но нам все равно надо было установить его личность, чтобы точно разобраться в причинах смерти и уведомить родных.
Никаких документов на месте происшествия не оказалось. Мы не нашли ни кошелька, ни водительских прав, ни банковской карты. Из костей нам удалось извлечь ДНК, но в базе данных совпадений не нашлось. Поскольку останки превратились в скелет, отпечатки пальцев мы снять не могли. Антропологические характеристики указывали на то, что скелет принадлежал белому мужчине в возрасте 20–30 лет, ростом 180–185 см.
На скелете обнаружились следы некоторых травм, полностью заживших к моменту смерти: переломов трех ребер с правой стороны, перелома правой ключицы и трещины коленной чашечки. Если все травмы он получил при одном и том же инциденте, то в больнице наверняка имелись соответствующие записи. У него не хватало также четырех зубов: первых премолярных с обеих сторон на верхней и нижней челюсти. По смещению остальных зубов можно было сказать, что они не отсутствовали изначально, а были специально удалены. Получалось, что где-то у дантиста также имелась карта с нужными записями. Оставалось только их отыскать.
Именно по этим базовым характеристикам мы и получили 1500 совпадений. Конечно, полиция не могла проверить их все — это было бы пустой тратой сил. Чтобы у них появилось, с чем работать, нам следовало сократить этот список до двузначного, а еще лучше однозначного числа. Мы решили по черепу реконструировать черты лица. Целью этого процесса, соединяющего в себе науку и искусство, было не создание точного портрета покойного, а получение его примерного изображения, которое сузит для полиции круг кандидатур.
Мы напечатали рисунок на листовках, которые расклеили в регионе, где был обнаружен труп, а также опубликовали в газетах, разместили на сайте о розыске погибших, показали по телевидению и отослали в Интерпол. После того как портрет показали на ВВС, в передаче Криминальные новости, к нам поступило несколько звонков, причем часть звонивших указывала на одного и того же человека. В их числе оказалась его мать: она смотрела передачу, и портрет напомнил ей сына — худший из возможных кошмаров.
Когда появляется предполагаемое имя, которое надо подтвердить или опровергнуть, расследование переходит на новую стадию: от широкого физического профиля к узкой личностной идентификации. Полиция может приступать к опросу родственников и получению образцов ДНК для сравнения. В том случае материнская ДНК показала позитивный результат, да и биологические данные совпадали: ее сын был белым, ростом 185 см, в возрасте двадцати двух лет — на момент, когда его видели в последний раз. Мы смогли получить его стоматологическую карту, медицинские данные, больничную выписку и рентгеновские снимки. Несколько лет назад он участвовал в драке, и все переломы, обнаруженные нами, были зафиксированы в больничной документации.
Дальнейшего расследования не потребовалось — его никто не убивал. Парень ушел из дома примерно за три года до того, как было обнаружено тело, сказав семье, что ему надо ненадолго залечь на дно, поскольку он попал в серьезные неприятности, задолжав значительную сумму своему поставщику наркотиков. Он уверял, что беспокоиться не о чем, с ним все будет хорошо. В тех краях его знали как пьяницу и наркомана и называли обычно не настоящим именем, а одной из кличек.
К сожалению, молодой человек решил покончить с собой. Не будем судить о причинах, подтолкнувших его к самоубийству. Вернув ему имя, мы обозначили конец его земного пути. Мы дали ответы безутешным членам семьи и передали им его тело. Мы редко приносим родным хорошие вести, но считаем, что наша работа, которую мы делаем честно и с уважением, помогает им простить и отпустить покойных.
Конечно, если бы у самоубийцы имелись при себе хоть какие-то документы, процедура завершилась бы гораздо быстрей. Обычно люди носят с собой что-то, указывающее на их личность, но все-таки, если бы в стране существовала универсальная база ДНК или закон об обязательном вживлении чипов, нам было бы гораздо легче опознавать тех, у кого при себе ничего нет. Тем не менее любые упоминания о подобных возможностях вызывают волну протестов, так как якобы противоречат гражданским ценностям и свободам.
Мы считаем свои данные приватными, но в действительности постоянно делимся ими с кем-то. Раз за разом люди, облеченные официальными полномочиями, получают информацию о нас — в том числе, когда нас уже нет в живых.
Итог всему сказанному отлично подводит один диалог из Корабля мертвых, романа, написанного в 1926-м, между главным героем и офицером полиции. Автор, Б. Травен, сам был человеком довольно загадочным и всячески скрывал свою личность. Он пользовался псевдонимом, а его настоящее имя и, соответственно, более-менее достоверные детали биографии, до сих пор остаются под вопросом.
— У вас должны быть документы, где написано, кто вы такой, — сказал мне полицейский.
— Мне не нужны документы. Я и так знаю, кто я, — ответил я.
— Возможно. Но другие тоже хотят знать, кто вы.
Глава 3 Смерть в семье
«Если жизнь не стоит воспринимать слишком серьезно, то и смерть — тоже»
Сэмюел Батлер, писатель (1835–1902)«Пойди посмотри, все ли у дяди Вилли в порядке».
Таково было распоряжение, брошенное мне через плечо отцом, который затем вышел из комнаты и присоединился к друзьям и родне, дожидавшимся вместе с моей мамой и сестрой в часовне похоронной конторы.
Дядя Вилли, мой двоюродный дед, умер три дня назад. Не думаю, что отец велел пойти мне, потому что ему было неприятно идти самому. Будучи типичным прямолинейным отставным военным, шотландцем старого образца, он вряд ли испытал бы потрясение при виде мертвого тела Вилли. Уверенный в том, что чересчур нежничать с девушками не стоит, отец, памятуя о моей будущей профессии, счел мою кандидатуру идеально подходящей для этой задачи.
Я к тому моменту вскрыла уже не один труп и нескольких помогала бальзамировать, но все равно, мне еще не исполнилось двадцати, и практика в анатомическом театре все-таки сильно отличалась от первого столкновения лицом к лицу с мертвым телом близкого родственника. Отцу просто не пришло в голову, что я могу быть не готова увидеть тело любимого деда в зале похоронной конторы. И совершенно точно я не знала, что он подразумевал под «порядком». Но отец дал мне поручение, а мы всегда выполняли все, что он нам говорил — мне и в голову не могло прийти ему возражать. Отец обычно выплевывал свои команды из-под жестких сержантских усов, словно по-прежнему находился на службе, и не принимал никаких отказов.
Вилли играл в нашей семье особую роль. Жизнерадостный, с широкой улыбкой, без единого седого волоса в густой шевелюре — таким он и скончался, дожив до почтенного возраста восьмидесяти трех лет. Он участвовал во Второй мировой войне, как многие мужчины его поколения, но никогда о ней не рассказывал. После армии он стал штукатуром: именно ему многие роскошные особняки в престижных кварталах Инвернесса обязаны своей дивной лепниной.
Вилли и Кристина, его жена, которую все называли Тиной, сильно печалились, что у них не получалось завести детей. Поэтому когда моя бабушка по материнской линии, сестра Тины, скончалась через семь дней после рождения моей мамы, они с радостью взяли ребенка к себе, в дом, полный радости и любви. Для меня они стали настоящими бабушкой и дедом: любящими, заботливыми и расточительно щедрыми.
Выйдя на пенсию, Вилли стал мыть машины в местном гараже, чтобы немного подзаработать сверху. Помню, как он стоял в боксе, со шлангом в руке и в резиновых сапогах — их голенища приходилось подворачивать, иначе его толстые ноги туда не помещались, — с сигаретой в углу рта и с неизменной улыбкой. Время от времени он громко фыркал, распугивая соседских ребятишек, всегда вертевшихся вокруг него. С помощью родни Вилли заботился о своей жене, у которой в старости развилась деменция вместе с тяжелым артритом и остеопорозом. Он считал это своим долгом по отношению к ней, как тогда было принято во многих семьях, и ни за что не согласился бы отправить супругу в больницу или инвалидный дом.
После смерти Тины Вилли каждое воскресенье приезжал к нам на обед и обычно присоединялся к нам на всех пикниках с тех пор, как я была еще совсем малышкой. Вне дома он всегда носил костюм-тройку, рубашку и галстук. Костюмов у него было два: один твидовый, для повседневной носки, и один нарядный — для похорон.
У меня сохранилась фотография дяди Вилли, отлично отражающая его сущность — жизнерадостность и неиссякаемый юмор. Снимок сделан на пляже Роузмарки, в один из дней, когда мы устроили там пикник. Добираться до пляжа нам приходилось на отцовской машине: в те времена это был черно-бежевый «Ягуар Марк II 3.8», которым папа страшно гордился.
Даже на пикник с сандвичами на бережке Морей-Ферта дядя Вилли явился нарядным, словно собирался в церковь: в своем костюме и идеально начищенных ботинках. Разложив легкое складное кресло из металлических трубок, и установив его на мягком песке, мы посоветовали Вилли передохнуть в тенечке, пока мы будем расстилать на пляже покрывала и распаковывать ланч. Пока мы возились с провизией — мама, как обычно, наготовила еды на целый батальон, — у нас за спиной вдруг раздался взрыв смеха. Дядя Вилли кое-как уселся в шаткое кресло, но, когда его вес надавил на легкий каркас, оно начало погружаться в песок. Словно капитан тонущего корабля, который вот-вот поглотят волны, дядя поднял руку в прощальном салюте и держал ее так до тех пор, пока не опустился — кстати, с немалой долей изящества — задом прямо на песок. На фотографии он заливается хохотом, и, глядя на нее, невозможно не улыбнуться в ответ. Всю жизнь дядя Вилли довольствовался малым и был при этом очень счастлив.
Он даже умер так, что наверняка бы посмеялся над своей смертью, окажись у него такая возможность. В одно из воскресений, за обедом у нас дома, он просто упал на стол, словно внезапно заснул. У него произошел разрыв аневризмы, приведший — как чаще всего бывает — к мгновенной безболезненной смерти, которая тем не менее повергла в полнейший шок мою достаточно чувствительную и эмоциональную мать. Мгновение назад он, как обычно, смеялся и шутил, а в следующее уже умер. К несчастью для дяди Вилли — и для маминой любимой скатерти — упал он не особенно изящно, лицом вперед, прямо в тарелку с томатным супом. Похоже, даже в смерти дядя сохранил свое обычное чувство юмора.
И вот теперь мы все, родственники и друзья, объединившись в скорби, собрались в похоронной конторе, чтобы проводить последнего представителя старшего поколения семьи. Но сначала мне предстояло сделать глубокий вдох, вспомнить, что я уже большая девочка, сделать то, что велел мне отец, и оказать дяде Вилли последнюю услугу: проверить, все ли у него «в порядке».
Мне кажется, любой человек, увидев мертвое тело кого-то близкого, постарается сделать паузу и вспомнить, каким тот был при жизни, а потом будет держаться за свои воспоминания, чтобы не позволить печальному зрелищу затмить его образ. Вилли был добрым и душевным, с огромной волей к жизни. Я никогда не слышала, чтобы он кого-то осуждал или на что-нибудь жаловался. Он позволял мне делать от своего имени ставки на бегах, водил в кондитерские, разрешал мыть с ним машины — в общем, привносил радость в мою детскую жизнь. Единственное, о чем я жалела, так это о том, что уже не смогу узнать его лучше, сама став взрослой.
Я до сих пор помню приглушенное освещение в траурном зале, негромкую печальную музыку, лившуюся из колонок, аромат цветов и легкий намек на запах дезинфицирующего раствора. Деревянный гроб стоял на катафалке прямо по центру, окруженный венками, с открытой крышкой, которую предстояло заколотить, чтобы он навек упокоился с миром.
Потрясенная, я внезапно совершенно ясно осознала всю невероятность поручения, данного мне отцом. Человека в гробу не похоронят до тех пор, пока я все не проверю! Дядю Вилли надо осмотреть. Я ощущала, что мне доверили важнейшую миссию, и потому страшно переживала. Я и сама не знала, готова ли к такому и как это на меня повлияет.
Я подошла к гробу, слыша стук сердца, отдававшийся в ушах, и заглянула внутрь. Там лежал не дядя Вилли. Кто-то другой. Я судорожно глотнула воздух. В складках белой ткани покоился какой-то маленький человечек с мраморно-белым лицом, слегка замаскированным тоном. Не было румяных щек, привычных морщинок вокруг глаз, губы посинели, и — что самое невероятное — он молчал! На нем, правда, был надет парадный костюм дяди Вилли, тот самый, для похорон, но сама его сущность исчезла, оставив лишь легкий физический след на оболочке, в которой некогда обитала эта громадная личность. В тот день я поняла, что когда жизнь покидает сосуд, который служит нам с рождения до смерти, на земле остается даже не тело, а просто эхо — или тень.
Конечно, в гробу был дядя Вилли — по крайней мере, то, что от него осталось. Просто он был совсем не похож на себя. Тот момент неоднократно возникал у меня в памяти, когда я наблюдала за родственниками жертв массовых катастроф, которые проходили по рядам мертвых тел, лежавших на земле, в поисках знакомого лица, которое они так стремились — или, наоборот, боялись, — там увидеть. Помню, многие мои коллеги не верили, что человек может не узнать своего ближайшего родственника. Но, по собственному опыту взаимодействия со смертью, я могу сказать, что мертвые, даже те, кого вы прекрасно знаете, выглядят совсем не так, как живые. Перемены, которые со смертью происходят во внешности человека, гораздо более глубокие, чем те, что вызываются просто прекращением поступления крови и падением давления, расслаблением мышц и окончательным отключением мозга. Утрачивается что-то необъяснимое, как бы оно не называлось — душа, личность, или просто жизнь.
Мертвые выглядят совсем не так, как актеры, изображающие мертвецов в фильмах, которые просто лежат, словно в глубоком сне. Пропадает нечто, что при жизни помогало нам их узнавать. Конечно, здесь есть и простое объяснение — раньше мы никогда не видели их мертвыми. Быть мертвым — это совсем не то, что спать или лежать неподвижно.
В тот момент я не могла понять, почему не узнала дядю Вилли, и из-за этого сильно разволновалась. Его внешность не исказили ни жестокие обстоятельства смерти, ни разложение. Его смерть вовсе не была жестокой, и произошла она каких-то три дня назад, за маминым супом — в Шотландии не принято тянуть с похоронами.
Я понимала, что в таком крошечном городке как Инвернесс, где Вилли, как и моих родителей, все прекрасно знали, никто не мог перепутать труп, не говоря уже о том, чтобы намеренно поменять покойников или сделать с телом что-то незаконное. Он здесь родился, вырос, женился и теперь умер. Распорядитель похорон был одним из наших родных — он бы точно ничего подобного не допустил. Естественно, передо мной лежал Вилли. Но все равно, хотя рассудком я это понимала, разница между тем, каким он был при жизни и как выглядел теперь, после смерти, меня потрясла.
Избавившись от последних сомнений, я вдруг осознала, какой покой царит в траурном зале. Молчание в помещении, где находится покойный, отличается от обычной тишины. В зале царило спокойствие, и мои опасения относительно того, что я сильно испугаюсь, начали потихоньку отступать. Поняв, что дядя Вилли, которого я знала, действительно умер, я смогла по-другому взглянуть на его тело, хотя и понимала, что не смогу отнестись к нему так же, как к безымянным трупам в анатомическом театре. Их я знала только на одном уровне, как мертвые тела, а Вилли существовал для меня сразу на двух: в настоящем, как физическое тело передо мной в гробу, и в прошлом, в моей памяти, как живой человек. Эти две его ипостаси не совпадали между собой и не могли совпадать — потому что были совершенно разными. Я помнила живого Вилли, а в гробу видела просто мертвое тело.
Предполагалось, что я быстренько загляну в гроб, чтобы убедиться, что там действительно мой двоюродный дед, что у него все в порядке с одеждой, и он — как всегда хотел, — выглядит в этот момент достойно. Однако в своем юношеском стремлении сделать все идеально, я зашла слишком далеко. По сути, я ударилась в дотошность, достойную Летающего цирка Монти Пайтона. Вот только никаких мертвых попугаев там не было — только бедный старый дядюшка Вилли.
Если бы кто-нибудь из служащих похоронного бюро вошел в тот миг в зал, он наверняка бы усомнился в моем психическом здоровье, и меня, скорее всего, удалили бы из здания, обвинив в нарушении покоя мертвых. Я совершенно уверена, что ни одно другое тело в истории этого почтенного шотландского похоронного дома перед тем, как покинуть его пределы, не подвергалось столь доскональной проверке.
Сначала я убедилась, что он действительно мертв. Честное слово! Я пощупала пульс — сначала на запястье, потом на шее. Дальше положила руку на лоб, чтобы проверить температуру. Каким образом я собиралась ощутить тепло кожи у трупа, пролежавшего три дня в холодильной камере морга, я и теперь не могу объяснить. Я обратила внимание, что лицо не вздуто, кожа не обесцвечена, а запаха разложения не ощущается. Я проверила окраску пальцев на руках, чтобы убедиться, что до них дошел легкий бальзамирующий состав, потом проделала то же самое с ногами (да, признаюсь — я сняла у него один ботинок). Потом осторожно приподняла веко, чтобы убедиться, не изъяли ли у него незаконным образом глазное яблоко, и расстегнула верхнюю пуговицу рубашки в поисках разреза от нелегального вскрытия. Я знала, что никогда нельзя забывать о возможности кражи внутренних органов. Ну и пускай, что мы в Инвернессе! Конечно, его никак не назовешь столицей черного рынка краденых органов, но все же… Дальше — и это самое позорное — я проверила рот, желая убедиться, что никто не стащил его зубные протезы. А вдруг кому-нибудь понадобилась дедушкина вставная челюсть? Практически новая, один владелец, еще послужит…
Заметив, что у него остановились часы, я автоматически их завела и поправила руки, лежавшие на объемистом животе. Неужели я всерьез думала, что ему захочется узнать время, когда он окажется в могиле на кладбище Томнахурч, чтобы прикинуть, сколько он пролежал в ожидании похорон? Или еще зачем-нибудь? В любом случае, даже если бы он очнулся, то все равно не рассмотрел бы циферблат без фонарика, а фонарик я в гроб не клала. Я поправила прядь волос, упавшую ему на лоб, и легонько похлопала дядю Вилли по плечу. Молча поблагодарила его за то, кем он был для меня, а потом, вновь обретя здравый ум, вернулась к отцу и сообщила, что у дяди Вилли все в порядке. Можно хоронить.
В тот день я перешла много границ и без всяких логических оправданий. Хотя сейчас мне не верится, что я правда все это сделала, я понимаю, насколько смерть и горе сильно влияют на наш рассудок. Я впервые столкнулась с подобным опытом и справилась с ним единственным возможным для себя способом. Тот момент оказался очень важным: он подтвердил, что я умею отделять эмоции от разума. Я могла проявлять сочувствие, работая с трупами незнакомцев, но тут я сдержала переживания и воспоминания, нахлынувшие на меня при виде тела близкого и любимого человека, и такая отстраненность позволила мне с профессиональной и беспристрастной точки зрения провести полный осмотр.
Это нисколько не утишило моего горя, но показало, что подобная отстраненность не только возможна, но и желательна. За этот урок я благодарю и дядю Вилли, и моего отца, который просто решил, что я вполне готова к подобной задаче, и ни на мгновение не усомнился в моей способности справиться с ней. И я рада, что действительно справилась.
Единственной наградой от отца стал короткий кивок, который показал, что он верит мне на слово. С этого момента я больше никогда не боялась смерти.
Страх смерти — это обычно вполне оправданный страх перед неизвестным; перед обстоятельствами, которые мы не контролируем, которых не знаем и к которым не можем подготовиться. «Ротра mortis magis terret, quam mors ipsa», — написал более 400 лет назад знаменитый философ Фрэнсис Бэкон, цитируя римского стоика Сенеку. «Нас пугает подготовка к смерти, а не сама смерть». Тем не менее ощущение, что мы контролируем свою жизнь — это тоже иллюзия. Внутренние барьеры и конфликты, царящие у нас в мозгу, определяют то, как мы справляемся со своими страхами. Нет смысла пытаться контролировать то, что заведомо не поддается контролю. Гораздо лучше научиться не бояться неопределенности.
Чтобы понять корни страха перед смертью, попробуем разделить ее на три стадии: умирание, смерть и пребывание мертвым. Пребывание мертвым, пожалуй, вызывает меньше всего опасений, поскольку оправиться от смерти все равно нельзя, и не стоит, соответственно, беспокоиться о неизбежном.
Страх перед пребыванием мертвым определяется в основном нашими представлениями о том, что происходит после смерти: у тех, кто верит в рай и ад, ну или в любую форму дальнейшей жизни души, взгляды будут отличаться от тех, кто ждет лишь забвения. Смерть — неизученная территория, куда билет бывает только в один конец. Никто пока еще не вернулся оттуда с достоверным научным подтверждением своего пребывания за смертным порогом. Конечно, иногда случается, что некто, кого уже считали мертвым, вдруг опять начинает дышать, но с учетом того, что ежедневно на планете умирает более 153 000 человек, подозреваю, что количество «воскресших» не достигает статистически значимого числа, и настоящий научный опыт из подобных случаев извлечь невозможно.
Все мы слышали о людях, переживших клиническую смерть, которые описывают, как они куда-то плыли, выходили за пределы своего тела, видели яркий свет в конце туннеля, заново проживали свою жизнь и погружались в полный покой. Эти видения дразнят нас, якобы давая возможность представить, что ждет человека после смерти, а порой и вообще ее отрицая. Но у науки имеется собственное объяснение. Все эти феномены возникают естественным порядком в результате определенного биохимического и электрического воздействия на мозговую активность. Стимуляция височно-теменного узла с правой стороны мозга создает ощущение «плавания» и «вылетания» за пределы собственного тела. Яркие видения, ложные воспоминания и проигрывание реальных сцен из прошлого возникает из-за перепадов уровня нейротрансмиттера дофамина, которые влияют на гипоталамус, мозжечковую миндалину и гиппокамп. Недостаток кислорода и повышенный уровень углекислоты приводят к зрительным галлюцинациям с ярким светом и туннельному зрению, а также к возникновению эйфории и чувства умиротворения.
Стимуляция лобно-височно-теменной зоны коры головного мозга убеждает нас, что мы уже умерли — мы можем даже чувствовать, что лишились крови, всех внутренних органов и начали разлагаться, в случае довольно редко встречающегося психического расстройства, так называемого синдрома Котара.
Человеку свойственно отдавать предпочтение мистическим и сверхъестественным толкованиям событий, а не простой логике биологии и химии. Именно на этом основана деятельность доморощенных мистиков и гадалок с их туманными зеркалами, внушающими трепет неискушенному клиенту.
Самый большой страх связан со способом смерти — собственно процессом умирания. Страшный и болезненный период, который может длиться несколько мгновений или месяцев, с момента, когда мы узнаем, что смерть уже здесь, и до того, как она действительно приходит. Будем ли мы в свои последние дни мучиться от болезни, погибнем ли внезапно в аварии или станем жертвой преступления, а может, просто тихо угаснем? Иными словами, придется ли нам страдать? Как говорил писатель и ученый Айзек Азимов, «Жизнь прекрасна, смерть — это покой. Только переход немного неприятный».
Вот бы нам всем, как дяде Вилли, повезло прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь и закончить ее в результате внезапного безболезненного падения в тарелку с теплым томатным супом, в окружении любимой семьи! Он не боялся смерти, потому что не знал, что она за ним уже идет. Для меня это лучший вариант кончины, которого я бы желала всем, кого люблю. Конечно, для остальных его смерть стала шоком. У моей мамы не было времени подготовиться к расставанию с человеком, которого она считала практически своим отцом, или свыкнуться со скорбью. Ритуал умирания, которого она ждала, так и не состоялся, дядя в одночасье перешел от жизни к смерти. Тем не менее в долгой перспективе родные и друзья находят утешение в том, что человек, по которому они горюют, умер максимально безболезненно, физически и морально.
Веселый дядюшка, обожавший поесть, умирает за обедом; садовник, застигнутый инфарктом, валится лицом в навозную кучу… смерть и черный юмор нередко идут рука об руку. И пускай капризы и причуды смерти в самый ее момент обычно не кажутся забавными, в дальнейшем они помогают близким легче пережить ее факт. Холодная ирония куда более жестока: гордый, независимый мужчина, всегда боявшийся инвалидности, проводит последние годы жизни, запертый внутри собственного тела, в безликой больничной палате; врач, лечивший гепатиты, умирает от рака печени; женщину, боявшуюся скончаться в одиночестве, смерть настигает в госпитальном боксе, когда рядом никого нет… Все это реальные случаи, произошедшие с моими друзьями и родственниками.
Моя любимая бабушка, техтер, родом с Шотландского высокогорья, говорившая на гаэльском, верила в предсказания. Она много рассказывала про свою бабку, которая, по ее словам, могла предсказывать каохлад (конец жизни) обитателей их маленькой деревушки на западном побережье, потому что видела во сне их похороны. Прапрабабка узнавала, чьи это похороны, по тому, кто шел во главе процессии.
Одна из таких историй касалась «Кэти с Глена», дальней родственницы моей бабушки, кончину которой старуха предсказала, увидев в одном из снов похоронный кортеж, возглавляемый мужем Кэти Алеком. Для всех ее пророчество стало шоком, поскольку Кэти была еще молодой и очень здоровой и крепкой. Но когда весна сменилась летом, моя прапрабабка опять напомнила о нем, сказав, что конец Кэти близок: во сне она видела, как резали торф, а это означало что лето подходит к концу. День за днем бедняжку Кэти преследовали пристальные взгляды, но она продолжала себе заниматься своими делами и ни на что не жаловалась. Когда пришло время резать торф, Кэти вместе со всеми отправилась на выработки, где кидала бруски вверх из ямы, а потом раскладывала на просушку, прежде чем везти в сарай на телеге, запряженной быком. Ее, как и остальных, донимали мухи, и от работы постоянно болела спина.
Никто не мог потом сказать, почему бык в тот день вдруг разбушевался, но бедная «Кэти с Глена» оказалась у него на пути, и бык расплющил ее о каменную изгородь. Как в предсказании, Алек в то лето действительно прошел перед ее гробом до самого кладбища. Моя бабушка, конечно, могла выдумать эту историю — с нее бы сталось, — но если это было правдой, то в нашей семье кое-кого определенно могли сжечь на костре за ведьмовство, особенно с учетом рыжей шевелюры. Подобные суеверия лежат в корне многих ошибочных представлений о смерти, а заодно служат отличным сюжетом для страшных сказок, которыми пугают детей в холодные зимние ночи, у камина, в котором жарко горит торф.
Моя бабушка — мать моего отца — принадлежала к поколению, в котором умирали гораздо раньше, чем мы теперь, и из всех моих бабок и дедов я знала ее одну, так что она являлась очень важным человеком в моей жизни. Она была мне одновременно учителем, другом и конфидентом. Она верила в меня и понимала, как никто другой, и если только мне требовался совет, дружеский разговор или утешение от кого-то, кроме родителей, я неизменно шла к ней. Даже когда я была еще ребенком, она откровенно беседовала со мной о жизни и смерти. Смерти бабушка совсем не боялась. Я часто думала, уж не предвидела ли она, когда та за ней придет. Помню, в один из наших памятных ночных разговоров, я вдруг совершенно ясно осознала, что она не всегда будет рядом, отчего сильно опечалилась и испугалась. Я не хотела ее терять.
Бабушка посмотрела мне прямо в глаза своими глубокими черными глазами и сказала, что я обычная фаоин (дурочка). Она никогда меня не покинет, даже когда «уйдет», так она это называла. Она обещала, что всегда будет сидеть у меня на левом плече и, как только зачем-нибудь мне понадобится, мне достаточно будет повернуть голову влево и прислушаться к ней. Я ей сразу поверила и никогда не забывала ее обещания. Я на самом деле всегда жила с ним, каждый день и каждый час. Я до сих пор автоматически наклоняю голову влево, когда задумываюсь о чем-то, и до сих пор слышу ее голос, когда мне нужен совет. Не уверена даже, чем ее слова стали для той маленькой испуганной девочки благословением или проклятием, потому что мое детство наверняка прошло бы куда веселей, если бы я не помнила постоянно о своей мертвой бабушке. Много раз она не давала мне совершать вещи, которые — я и сама знала — мне не следовало совершать, но все равно хотелось. Кто-то может назвать это совестью, но я совершенно уверена, что у моей совести мелодичный голос моей старой шотландской бабки.
Тогда же она взяла с меня слово позаботиться о моем отце, ее единственном ребенке, когда придет его час. Никто, сказала она, не должен переступать порог смерти в одиночку. Она будет ждать с другой стороны, но я должна проводить его до дверей. Я не стала расспрашивать, откуда взялась эта странная просьба — в конце концов, мне было всего десять. Не спрашивала я и о том, почему там не будет моей мамы. В действительности так и оказалось — мамы не было с ним. Могла ли моя бабушка, которая к тому времени давно лежала в могиле, каким-то образом предвидеть, что мой отец останется последним из старшего поколения нашей семьи, и проводить его сможем только мы, дети?
Умирание — это дорога, по которой не хочется идти в одиночку, но через порог мы перешагиваем сами. Мифы и сказки внушают нам разные представления о том, что такое смерть, и чего от нее ожидать, но кто знает, какой она окажется для меня или для вас? Это очень личный, интимный момент — конец всего, что мы знали, чем являлись, что понимали, к которому нельзя подготовиться по учебникам и руководствам. Мы никак не можем на него повлиять, поэтому нет смысла растрачивать наше драгоценное время, беспокоясь о нем. Когда момент придет, мы просто испытаем его.
Моя бабушка умерла в безликой больничной палате. Страстная курильщица, она легла на обследование по поводу болей в груди; когда хирурги приступили к диагностической операции, то обнаружили рак легких в последней стадии и просто зашили ее обратно. Я знала, что это не та смерть, которой она бы хотела, но в те времена, с подобными заболеваниями, практически не существовало альтернатив обычной смерти в больнице, под воздействием обезболивающих. Ей не дали возможности умереть дома, в тишине и покое. Мы были еще детьми, и в больницу нас не пускали, поэтому я так ее больше и не увидела. Об этом я жалею всю свою жизнь. Мне очень хотелось бы поговорить с ней еще хотя бы один последний раз, услышать, что она скажет об умирании и о смерти, исполниться ее спокойной мудрости.
Итак, мое первое соприкосновение со смертью произошло в возрасте пятнадцати лет, когда умерла женщина, которую я любила больше всех на свете. Мой отец, понимая, насколько тесные отношения связывали нас с ней, спросил, хочу ли я увидеть бабушку, лежащую в гробу. Страдая от разлуки с ней и боясь увидеть ее мертвое тело, я отказалась — к великому облегчению матери, которая активно выступала против. Об этом я тоже горько сожалею. Я не пережила того последнего момента наедине с бабушкой, ни когда она умирала, ни после ее смерти. Возможно, именно поэтому я так остро отреагировала на ситуацию с дядей Вилли.
Все, что мы могли сделать — это достойно проститься с ней, и уж поверьте, мы не ударили в грязь лицом. Моя мать готовила до тех пор, пока не опустели все кладовые, виски и шерри текли рекой, а окна нашего дома стояли распахнутыми, чтобы ее душа свободно летала туда и обратно. Последнее, что я помню о том дне — это как наш приходской священник выписывает восьмерки знаменитого шотландского танца, рила, у нас в палисаднике под музыку, льющуюся из колонок. Да, мы устроили праздник, и он ей наверняка бы понравился. Я гадала, встретилась ли она на небе со своим создателем. Наша семья не была чересчур религиозной, хотя мы регулярно посещали церковь и строго блюли христианские обычаи. Помню, как моя бабушка вела яростные философские споры со священником за карточной партией. Пока он размышлял над ответом, она потихоньку подменивала карты прямо у него под носом.
Бабушка так сильно верила в жизнь после смерти, что я почти хотела, чтобы она вернулась и рассказала, как там все устроено. К сожалению, возвращения не состоялось.
Глава 4 Смерть подходит ближе
«Важность некоторых моментов не можешь оценить до тех пор, пока они не превратятся в воспоминания»
Теодор Сусс Гейзел, писатель и мультипликатор (1904–1991)Практически каждый из нас встречается со смертью лицом к лицу еще задолго до того, как она придет за ним лично, и эти моменты оказывают заметное влияние на наши страхи, предположения и представления о том, что мы считаем «легкой» смертью. Для большинства первое столкновение со смертью происходит, когда умирают родители.
Став взрослыми, мы осознаем, что на нас ложится ответственность за тех, кто привел нас в этот мир, за их последние дни и за их похороны, как это было испокон веков. Таков естественный порядок вещей — дети хоронят родителей, а не наоборот. Правда, в наше время, когда люди стали жить дольше, в семье могут одновременно сосуществовать сразу несколько поколений. Если «детям» перевалило за семьдесят, ответственность и за родителей, и за родителей родителей, падает на третье поколение. Но утрата родителей — при любых обстоятельствах — не только сталкивает нас с реальностью смерти, заставляя обычно знакомить с ней и своих детей, но также напоминает, что мы не молодеем и что наступит и наш черед.
Поскольку все мы — дети современной культуры, в которой принято избегать разговоров о смерти, словно опасаясь напомнить ей о себе, нам бывает трудно разобраться, чего хотели бы для себя наши близкие, когда приблизится их конец, и, соответственно, трудно подготовиться к нему. Мы с моим мужем Томом частенько рассуждали о том, кто из наших родителей умрет первым, а кто переживет всех остальных, пошучивая, что «скрипучая дверь сто лет провисит». И это была не игра, а искренняя попытка спланировать жизнь наших стариков так, чтобы они как можно дольше сохраняли свое достоинство и независимость. Кстати, наши предсказания не оправдались: тот, кому, по нашему мнению, предстояло уйти первым, мой отец например, намного пережил остальных.
Боялась ли я смерти родителей? Признаться, я и сама не знаю. Думаю, я больше волновалась о том, как они будут умирать, а не собственно об их смерти и ее последствиях. Я сознавала неизбежность их ухода и поэтому считала, что должна непременно все прагматически спланировать. Дело тут не в равнодушии — я обожала их обоих и была бы счастлива, если бы они жили еще долго-долго, — но, раз уж смерти было не избежать, к ней следовало подготовиться.
Моя мать заболела довольно неожиданно. Я вела недельный выездной семинар для полицейских, когда мне позвонил отец и сообщил, что ее увезли в госпиталь. Как я и ожидала, он не мог внятно объяснить, что с ней произошло. Я прервала занятия, села в машину и выехала из Данди в Инвернесс. Шоссе А9, вечно забитое грузовиками, домами на колесах и неугомонными туристами, кажется очень длинным и муторным, особенно когда тебе спешно надо добраться из конца в конец, не рискуя лишиться прав или жизни.
Когда я добралась до госпиталя, первым, что сказала мама, было «ты приехала». Она всегда боялась, что когда ее здоровье начнет сдавать, некому будет о ней позаботиться и она останется одна. Всю жизнь она ухаживала за другими людьми: в детстве за дядями и тетями, потом за мужем и детьми, — и потому привыкла считать себя не стоящей внимания, даже не сознавая, насколько высоко мы ее ценили. Теперь мне предстояло позаботиться о ней. В молодости мама перенесла гепатит, и теперь ее печень постепенно отказывала. То же самое касалось и других органов: асцит, скопление жидкости в брюшной полости, заметно усилился, а повышение уровня билирубина привело к желтухе. С учетом возраста, поправиться она уже не могла.
Мама так и не сумела переключиться с отношений между дочерью и матерью на отношения двух взрослых людей, поэтому у нас редко случались откровенные разговоры. В результате она очень мало знала обо мне, считала меня слишком закрытой и потому не делилась со мной своими надеждами и страхами. У нас в семье вообще мало говорили и делились между собой, и маме всегда было неловко с кем-то обсуждать личные проблемы. Тина и Вилли так берегли и защищали ее в детстве, когда она осталась без родителей, что она выросла крайне зависимой. Я же, наоборот, унаследовала отцовский и бабушкин прямолинейный подход к жизни и сознавала, что матери сложно такой меня принять. Тем не менее она всегда знала, что может рассчитывать на меня в трудных ситуациях — что я, с моей логикой и практичностью, непременно справлюсь.
Теперь, когда ее состояние стремительно ухудшалось, я чувствовала, что ей бы не хотелось отвечать на мои расспросы о том, что, по ее мнению, мне бы стоило или не стоило для нее сделать. Сама она не проявляла никакого желания прибегать к медицинским процедурам, которые могли бы оттянуть ее конец, и не просила меня попытаться продлить ей жизнь. Похоже, мама решила, что пришел ее час, и смирилась с этим, не испытывая ни надежд, ни сожалений. Чутье подсказывало мне, что, как уже случалось в прошлом, она переложила ответственность на меня, предоставив мне решать, как она проведет последние дни своей жизни. Мой отец и сестра определенно испытали облегчение, поскольку оба стремились снять с себя ответственность. Я занималась всем, что касалось ее последних дней, смерти и похорон. Мне это не было в тягость, и я, хоть и страдала, с гордостью исполнила долг благодарной дочери по отношению к матери, которая с искренней любовью растила ее.
Помню, как врач облегченно вздохнул, когда я однозначно сообщила ему, что отказываюсь от реанимационных мероприятий и кормления через зонд. Я отказывалась также от пересадки печени. Все эти варианты врач был обязан предложить, как последнюю надежду, но мы оба знали, что на самом деле никакой надежды не было. Мы только продлили бы процесс умирания. Пересадку органа, который мог бы много лет служить кому-то молодому, мы с ней обе даже не рассматривали. В этом я была совершенно уверена: в прошлом мама не раз говорила, что, когда органов и так не хватает, не имеет смысла пересаживать их старикам.
Я успела на одну ночь перевезти ее домой, прямо перед смертью, но это сильно ее потрясло и напугало. В больнице ей поставили катетер, и сама она не могла с ним управляться, что повергало ее в шок. Помню, я тогда спросила, что бы было, поменяйся мы местами — если бы я нуждалась в помощи, она бы стала ухаживать за мной? От вопроса она раздраженно отмахнулась — ну конечно да! Маме пришлось согласиться, пусть и неохотно, с тем фактом, что иногда родители и дети меняются ролями. Когда на следующий день я отвозила ее назад в госпиталь, было уже ясно, что домой она не вернется. Она нуждалась в паллиативном лечении, которое ей могли оказать только там — по крайней мере, так нам внушила здравоохранительная система. В любом случае, я согласилась на то, чтобы она умерла под воздействием медикаментов, и чтобы врачи и медсестры исполняли все те интимные действия, к которым она ни за что не подпустила бы членов семьи.
В целом я отвечала за план действий, на который ориентировалась врачебная команда, но медики сами решали, когда какие лекарства вводить и как контролировать степень ее взаимодействия с миром. В моменты мрачных раздумий я корю себя за те долгие часы, которые она провела в одиночестве в больнице. Друзья поначалу навещали ее, но постепенно, по мере того как она реагировала все слабее, перестали заходить. Думаю, ей приятней бы было находиться дома, окруженной любовью и заботой в свои последние дни, но мой отец никогда не справился бы один, а медицинские услуги на дому в те времена практиковались совсем не так широко, как теперь.
В своей занятой жизни мы пытаемся найти баланс между тем, что, как нам кажется, мы должны делать, тем, что делать вынуждены, и тем, что хотели бы. Под конец, думаю, большинство людей ощущает, что не добилось поставленной цели и многое поменяло бы в своем прошлом. Да, у меня был муж, дети и работа в 200 милях от родительского дома, но и мать у меня была только одна — притом ей всегда не хватало уверенности в себе, и, несмотря на доброе сердце и открытую душу, она всю жизнь ощущала себя одинокой и ненужной. Поэтому я жалею, что восприняла как должное тот факт, что о ней позаботятся в больнице и что, в мое отсутствие, к ней будут приходить другие люди. Поступила бы я сегодня иначе? Скорее всего, да, но к этому обычно приходишь задним числом, с опытом. По мере того как представители старшего поколения нашей семьи один за другим уходили от нас, я справлялась с этим процессом все лучше и лучше. Как говорится, мастерство приходит с опытом.
С момента первого поступления моей матери в больницу и до ее смерти прошло всего пять выходных, и все субботы и воскресенья я с дочками сидела у нее, чтобы дать ей ощутить себя в тесном семейном кругу. В наш предпоследний визит она уже начала впадать в кому. Я сказала, что мы приедем в следующую субботу и попросила продержаться, хотя и слабо верила, что это ей удастся. Как жестоко было просить, чтобы она повременила со смертью, пока мы не освободимся! Но в тот момент это казалось мне вполне уместным: дать ей нечто, чего она бы ждала (просто безумие, ведь она умирала!). Боюсь, на самом деле я лишь усилила ее страдания и ощущение одиночества. Сейчас я содрогаюсь при мысли о своей бесчувственности. Мне стыдно, что я, в своем максимализме, считала, что ей остается только мне подчиниться, что я была уверена, будто делаю ей добро, хотя на самом деле только вредила. Возможно, я к себе слишком жестока, но никто меня не убедит, что она не пыталась нас дождаться, хотя уже могла упокоиться с миром.
Госпитальная палата, лишенная тепла, души и воспоминаний, с ее стерильной обстановкой, чаще всего становится главной декорацией для смерти, и именно в ней родные готовятся к этому, самому личному, интимному и необратимому событию. В следующую субботу, в последний раз, когда мы видели маму живой, мы с дочками почти весь вечер просидели с ней наедине. Я была уверена, что это их последний шанс с ней проститься, и не хотела, чтобы они росли как я, сожалея, что не провели последние драгоценные часы в обществе бабушки.
Моя мать лежала в отдельном боксе, в коме — под воздействием морфина, — и больше не была с нами. Или все-таки была? Сестра, ухаживавшая за ней, просто формально проделывала необходимые процедуры. Она не была злой или равнодушной, но не демонстрировала также ни симпатии, ни понимания по отношению к своей пациентке или к нам. Она делала свою работу — и не собиралась тратить на нас время.
Наша средняя дочь, Грейс, которой тогда было двенадцать, страшно разозлилась на нее за бесчувствие. Именно та злость и гнев заставили впоследствии эту сообразительную обезьянку самой выучиться на медсестру. Опыт взаимодействия со смертью зачастую меняет жизни людей. Грейс выросла понимающей и сердечной — именно такая медсестра должна была находиться при ее бабушке в последние часы на земле, и именно на такую вправе рассчитывать любая семья. Она не боится сидеть рядом с пациентом и держать его за руку в последние мгновения, утешая и успокаивая без всякой фальши. Разве не этого мы хотим, когда больны, страдаем и умираем? Доброта и искренность — вот что нам всем нужно. Я не удивлена, что в последнее время она задумывается о работе в паллиативной помощи. Конечно, это нелегкий путь, но, если она его выберет, то, я уверена, будет до конца бороться за достоинство каждого пациента, за которым ей выпадет ухаживать. Наверняка ее бабушка ею бы гордилась, как гордимся мы все. Грейс — наш ангел-утешитель, хоть она покрасила недавно волосы в голубой цвет, чем наверняка напугала некоторых своих бедных пациентов.
Исследования с помощью энцефалографа показывают, что, из всех наших чувств, слух отказывает последним, когда мы теряем сознание или умираем. Вот почему специалисты по паллиативному уходу всегда следят за тем, что говорится у постели пациента, и напоминают родственникам разговаривать с ним, даже если он в коме. В последние выходные мы решили, что бабушка не должна покинуть этот мир, слыша лишь напряженное молчание, прерываемое вздохами и слезами. Мы собрались взорвать старые традиции, стать семьей фон Траппов: мы решили петь.
Хотя мысли о ее смерти все равно болезненны и печальны, вспоминая тот необыкновенный последний день, мои девочки всегда смеются. Мы перепели весь репертуар из мультфильмов Диснея, рождественские гимны (хотя дело было в разгар лета), все любимые песни моей матери и даже старые шотландские куплеты. Каждый раз, заходя в палату, врачи и сестры улыбались и качали головами при виде нашей троицы, нестройно распевавшей знакомые мелодии. Выражение на их лицах вызывало у нас новый приступ истерического веселья, и палата наполнялась радостью, смехом, светом и теплом, а кошачий концерт продолжался. Больница — очень нездоровое место для души, и капелька веселья там никогда не помешает. Рядом с мамой не было ни священников, ни скорбящей родни — только «ее девочки», которые веселились, составляли ей компанию и просто вели себя как обычно.
Смерть, в конце концов, это лишь составляющая жизни, и хотя зачастую, под воздействием западной культуры, мы отстраняемся от нее, возможно, нам следовало бы ее принять и поблагодарить. Иногда, из лучших побуждений, мы стараемся оградить своих детей от суровой реальности, но на самом деле, нам стоит готовить их к тому, с чем им неизбежно предстоит в будущем столкнуться. Я знаю, что не все согласятся с подобной философией, но для меня было важно, чтобы мои дети находились там, чтобы они попрощались со своей бабушкой и чтобы потом, когда настанет моя очередь или очередь их отца, они знали, что могут держаться, как обычно, смеяться и шутить, и что мы предпочитаем слушать их смех и песни, а не рыдания. Возможно, некоторым покажется крайне неуважительным распевать «Белые скалы над Дувром» или «Кенни сбросил тетку вниз» у смертного одра собственной матери, но я уверена, что ей это понравилось.
Пропев весь мыслимый репертуар, мы совсем выбились из сил. За все это время мама ни разу не шевельнулась, но мы все равно держали ее за руку, смачивали губы и расчесывали волосы. Когда наступило время расставаться, мы не смогли удержаться от слез. Девочки с ней попрощались, и я попросила дать мне минутку с мамой наедине. Но поняла, что не могу произнести ни слова. Я не могла сказать, что люблю ее, что буду по ней скучать, не знала даже, как мне ее поблагодарить. Ни мама, ни отец никогда не говорили, что любят меня, хотя я всегда знала, что это так. Подобная сентиментальность была у нас в семье не в чести, и теперь произнести подобное было все равно что пойти наперекор всем семейным традициям, разрушить декорум, который всегда между нами царил. Кроме того, я боялась, что если это скажу, то начну рыдать и не смогу остановиться, а мне не хотелось, чтобы дочери видели меня такой. Ради них я должна была оставаться сильной.
Поэтому я просто сказала «прощай» и закрыла за собой дверь, оставив ее в одиночестве совершать последний путь. Об этом решении я сожалею больше всего. Будь моя воля, я вернулась бы назад и попрощалась бы с ней совсем по-другому. С другой стороны, возможно, останься я тогда в палате, она продолжала бы цепляться за жизнь — ради нас. Мне надо было ее отпустить, и я решила, что для этого должна уйти.
Я только-только добралась до дома, когда, через два часа, мне позвонили из госпиталя и сообщили, что мама умерла. Когда это произошло? Что если она только и ждала, пока мы уедем, чтобы, наконец, уйти из жизни? Или еще некоторое время лежала в одиночестве, слушая тишину, воцарившуюся в палате? Может, она даже радовалась ей и тому, что прекратилось наше кошмарное пение? Правда, в этом я сомневаюсь. Находилась она в палате одна или с ней посидела какая-нибудь из сердобольных медсестер? Наверное, под воздействием морфина она просто тихо скончалась, ничего не заметив.
Точных ответов на мои вопросы нет и не может быть. Единственное, в чем я уверена, это что хоть ей и не выпало умереть у себя дома, в кругу семьи, как она наверняка бы хотела, мы постарались сделать для нее все, что могли. Я искренне надеюсь, что она это понимала. Какие бы планы мы не строили и каких бы обещаний не давали, болезнь и смерть порой решают за нас.
Находиться рядом с умирающим гораздо тяжелее, чем порой кажется. Вы можете дежурить возле его постели круглые сутки, но он испустит последний вздох, когда вы случайно задремлете или на минутку выйдете за кофе. Смерть следует собственному расписанию — не нашему.
Мы с Томом позволили девочкам самим решать, хотят ли они в последний раз увидеть бабушку перед похоронами. Мы не хотели, чтобы они шли дальше по жизни, сознавая, что у них не было возможности с ней проститься и принять ее смерть. Все трое решили, что хотят. Бет была уже взрослой — ей исполнилось двадцать три, — но Грейс и Энни было только двенадцать и десять. В зале похоронной конторы стояла тишина, гроб был открыт, и на меня тут же нахлынули воспоминания о дяде Вилли, но на этот раз я держала себя в руках.
В тот день я еще раз убедилась в стойкости, достоинстве и сдержанности наших дочерей. Когда я отошла, позволив им впервые взглянуть в лицо смерти, все они сразу отметили, какой удивительно маленькой выглядит их бабушка. Первой — что весьма примечательно — к ней приблизилась Анна. Та самая бесстрашная малышка, которая пугала мою маму до смерти, когда забиралась на самый верх игрового комплекса в детском парке и радостно махала оттуда, держась за лесенку только одной рукой.
Анна склонилась над гробом, взяла бабушкину руку в свои и ласково ее погладила. Больше ничего не требовалось. В этом жесте была только любовь — никакого страха перед смертью. Бабушка умирала, умерла и теперь была мертвой — мои дочери это прекрасно понимали. Они приняли ее конец. Девочки знали, что лучший памятник для нее — воспоминания, которые они сохранят, и знали, как выглядит достойная смерть.
Мой отец воспринял ее кончину довольно отстраненно. Он не принял участия в организации похорон, не взял на себя никакой ответственности — по сути, он просто пассивно плыл по течению, и все вокруг происходило словно помимо него. Они с матерью прожили вместе пятьдесят лет, но он, казалось, совсем по ней не скорбел. В то время я восприняла его реакцию как смесь врожденного стоицизма с глубоким потрясением.
Оглядываясь назад, я понимаю, что деменция, которая вскоре у него развилась, уже начинала проявляться, и что моя мать скрывала от нас ее симптомы, списывая все на его забывчивость и странности. У нее на похоронах, традиционных и пышных, он держался так, будто не совсем осознавал, что происходит. Все основные признаки были уже налицо, но, озабоченные бюрократическими формальностями и погруженные в собственные переживания, мы их не замечали или предпочитали не замечать. Он не делился воспоминаниями о ней, не пролил ни слезинки и в целом вел себя, как обычно. После службы он беседовал с друзьями и семьей так, словно находился на свадьбе, а не на похоронах женщины, с которой прожил всю жизнь.
Если последние дни моей матери пролетели достаточно быстро, то отец умирал долго и, будь у него выбор, наверняка предпочел бы другой исход. Думаю, знай он, что его ожидает, этот суровый шотландец, лишенный всякой сентиментальности, просто ушел бы в лес у нас за домом с винтовкой и сам свел бы счеты с жизнью. Помню, раньше я нередко думала, что лучшим способом умереть для него было бы свалиться с крыши, когда он в очередной раз туда забирался поправить отстающую черепицу. Сложно сказать, кому в те годы пришлось тяжелее, нам или ему. Насколько сложней наблюдать за тем, как болезнь Альцгеймера отбирает память и, собственно, личность у любимого человека, чем быть ее непосредственной жертвой?
Оставшись в одиночестве, лишенный присмотра жены, которая все оправдывала его привычными странностями, отец постепенно погружался в пучину кошмаров. Он проклинал мальчишек — которых сам выдумал, — за то, что они забрались в дом и украли у него ключи; говорил нашим дочкам сидеть тихо, чтобы не разбудить бабушку, которая к тому времени уже год как умерла. Симптомы болезни постепенно усиливались, так что нам приходилось к ним как-то приспосабливаться.
Мы редко предвидим приход деменции заранее, поэтому просто смиряемся, если она начинается. Мы с Томом решали проблемы по мере их поступления. Мои родители жили в своем семейном доме с 1955 года, и хотя мы не раз предлагали им переехать в более компактное жилье, мой отец всегда отвечал, подмигивая нам, что уже мы будем разбираться со старым домом, когда их не станет. Теперь о переезде не шло и речи. Мы договорились с сиделкой, которая должна была заглядывать к нему три раза в день и проверять, чтобы отец нормально питался — еду для него закупали мы, уже готовую, и ее требовалось только разогреть, — и чтобы он находился в безопасности и в тепле. Практически каждые выходные мы ехали за 230 миль в Инвернесс, чтобы сделать в доме уборку, сменить ему постель, выстирать одежду и привезти продукты.
Понадобился настоящий кризис, чтобы мы, наконец, взглянули в лицо реальности и приняли по-настоящему серьезное, и довольно неприятное, решение. В одно холодное утро мне позвонили из отделения полиции. Обычно, когда ко мне обращаются полицейские, речь идет о каком-нибудь преступлении, но этот звонок был личным: моего отца обнаружили возле дома престарелых в футболке и спортивных брюках на десятиградусном морозе.
Полицейские отвели его в дом престарелых, решив, что он там живет, но им сказали, что он «не отсюда». Они забрали его к себе, напоили кофе с печеньем, чтобы отогреть, и постарались разговорить и выяснить, кто он такой и где живет. Отец понял, что они хотят, и показал дорогу домой, где они обнаружили дверь, открытую нараспашку, а на кухне список телефонных номеров, составленный когда-то моей практичной мамой. Шоссе А9, известное под названием «дорога в ад», показалась мне в тот день еще длиннее, а камер на ней как будто стало еще больше за то время, что мы мотались из одного его конца в другой.
Было очевидно, что дальше жить один отец не может. Суровый, упрямый мужчина, каким я его помнила с детских лет, теперь нуждался в уходе.
Когда я была совсем маленькой, тетка моей матери, Лина, «съехала с катушек» по выражению моего отца. Из-за старческого слабоумия Лину поместили в госпиталь Крейг Даней, где он ее еженедельно навещал. Она никак не реагировала и не узнавала его, однако этот, не склонный к сентиментальности, человек мог часами сидеть с ней рядом и что-то рассказывать, пока она раскачивалась взад-вперед, непрерывно потирая большой и указательный пальцы. Однажды я спросила, зачем он это делает, и его ответ, в котором явственно читалось влияние моей матери, потряс меня до глубины души.
— Откуда нам знать, слышит ли она нас? — сказал отец.
— Что если вдруг она там, заперта у себя в голове, и просто не может общаться? Что если она чувствует себя одинокой и боится?
Этого он не мог допустить и поэтому навещал ее и поддерживал даже тогда, когда моя мама отказалась к ней ходить, так как слишком расстраивалась. Помню, насколько я удивилась такому ответу. Когда деменция проявилась у него самого, я не сомневалась, что он по-прежнему здесь, запертый в своей голове, напуганный и одинокий.
Мой отец дожил до восьмидесяти пяти лет, и в последние годы мы наблюдали, как этот двухметровый гигант со щеткой жестких усов, мощными ногами, грудью колесом и голосом, способным остановить дорожное движение, постепенно становился все меньше и меньше, пока не исчез совсем. Поначалу у него бывали вспышки агрессии, но потом они уступили место полной безучастности. Мы перевели его в дом инвалидов в пяти минутах от нашего дома в Стоунхейвене, где наша семья стала его единственным кругом общения на ближайшие два года. Старые друзья не могли его навещать из-за дальности расстояния, да и в любом случае он их уже не помнил. Грейс, наша будущая медсестра, виделась с ним чаще остальных, поскольку тогда уже подрабатывала в этом инвалидном доме. Мы гадали, не отвратит ли ее такой опыт от избранной карьеры, но, похоже, он только усилил ее решимость.
Несколько лет мы проводили вместе все каникулы и рождественские праздники, и — пусть это прозвучит эгоистично — наслаждались возможностью побыть с ним подольше, чтобы потом лелеять оставшиеся воспоминания. Мы разговаривали, слушали музыку, пели и возили его на прогулки в инвалидном кресле, которое теперь было необходимо, потому что однажды он упал и сломал шейку бедра.
Я сидела с отцом на солнышке, держа его за руку — тактильное проявление любви, которого я никогда не получала ребенком. Ему нравилось ощущать тепло солнца, и когда я вывозила его в сад, он всегда подставлял лицо лучам и мурлыкал от удовольствия, словно кот. Он явно получал от этих выездов массу приятных впечатлений, равно как и от своих любимых конфет, мороженого и, время от времени, глоточка спиртного. Усы у него тогда распушались, а щеки розовели. Ему не было больно, он не выглядел угнетенным, и я не сомневалась, что отец понимает, кто мы такие, потому что его лицо каждый раз освещалось, когда кто-нибудь из нас заходил в палату.
Тем не менее это был человек, который в прошлом ни за что бы не согласился зависеть от кого-то, пусть даже от меня. Сестры в его учреждении очень его любили, потому что он не доставлял им никаких хлопот и всегда встречал улыбкой, что значительно облегчало их задачу. Хотя мы, естественно, не были «счастливы» за него, он находился в безопасности, за ним ухаживали, его любили, держали в тепле и холе, и в целом он вел спокойное и мирное существование. И все же, это была больница — удобная, комфортная, но бездушная, — а не дом. Когда-то он называл такие «господним залом ожидания».
В последний год жизни он уже не мог ни ходить, ни говорить. А потом, постепенно, начал угасать. В один день, словно решив, что с него хватит, он перестал есть. Вскоре отказался и от питья. Метафорически, он отвернулся лицом к стене и просто ждал, когда наступит конец. Может, он даже его торопил. Я принимала все решения, относительно его пребывания в доме инвалидов, поэтому отдала те же распоряжения, что и в случае с мамой: отказ от реанимации, никакого питания через зонд, обязательно уход, обезболивание и естественная смерть в свой черед.
Его смерть не была жестокой и пришла к нему мирно и тихо, в момент, который он бы одобрил и который, отчасти, выбрал сам. Понимая, что времени у нас остается немного, мы с Томом, Бет, Грейс и Анной пришли к нему в его последний, как оказалось, день. Все выглядело так, будто он просто решил отключиться. Он лежал, свернувшись клубком, на боку, не замечая нашего присутствия в палате. Если бы он мог слышать, то услышал бы нашу беседу, смех и свою любимую музыку — «Собор в горах», в исполнении оркестра волынщиков из школы, где учились девочки, — на CD. Он практически не шевелился и ни на что не реагировал. Он ничего не пил, поэтому кожа на его огромных руках, напоминавших медвежьи лапы, хотя и была теплая, стала сухой и тонкой, как бумага.
Когда мы собрались уходить на ночь, я сказала ему, как когда-то умирающей матери, что мы уходим, но утром вернемся — поэтому ему надо держаться. Не так-то легко избавиться от старой привычки! И тут у него на лице промелькнуло выражение ужаса, ясно читавшееся в выразительных черных глазах. Бет судорожно вздохнула. Она видела то же, что и я. Я и представить себе такого не могла!
— Мама, кажется, тебе нельзя уходить, — сказала она.
Он был прав, когда, много лет назад, навещал в больнице тетю Лину. Он действительно был здесь, запертый в своем молчаливом мире, не способный или не желающий общаться. И только теперь, когда происходило нечто крайне важное, он нашел в себе силы и послал нам сигнал SOS, единственным доступным для него способом. Он знал, что должно случиться и не хотел оставаться один.
Ребенком я дала бабушке обещание, что буду с ним рядом, когда его время придет, и теперь оно действительно пришло. Я успокоила отца, сказав, что съезжу домой принять душ и переодеться, и не позже чем через час вернусь. Когда я приехала обратно, Том, Грейс и Анна ушли; Бет предпочла остаться со мной и со своим дедом.
Не думаю, что отец боялся умирать, он просто не хотел в этот момент находиться в одиночестве. Его мать прекрасно его знала. Мы с Бет сидели в комнате, приглушив свет, говорили и смеялись, пели и плакали. Он не реагировал на нас, но мы все время держали его большие теплые руки, и он ни на мгновение не чувствовал себя одиноким. Если одна из нас выходила в туалет или за кофе, вторая оставалась. Он лежал не шелохнувшись. Ни разу его руки не сжали мои, глаза так и не открылись. Не было никакого сомнения, что эта ночь станет для него последней — это знали все, включая его самого, — но в палате царил покой и умиротворение.
В последние часы, когда его душа уже готовилась отделиться от тела, дыхание отца начало замедляться. Я сказала, что все хорошо, что мы здесь, с ним, что он не один. Он дышал все реже, все медленнее, а затем перестал. Я подумала, что все закончилось, но тут он сделал еще несколько неглубоких вдохов. Потом наступила агония — короткие судорожные вдохи, и предсмертный хрип, когда слизь и жидкость собираются в горле, поскольку кашлять человек уже не может. И, наконец, последний вдох, уже просто рефлекторный. Через несколько секунд, увидев, как пена из легких появляется у него на губах и в носу — это означало, что воздуха в них уже нет, — я поняла, что он мертв. Вот так вот просто. Никакой паники, мучений, боли, суеты — просто тихий уход.
Удивительная личность, всегда занимавшая огромную часть моей жизни, духовно и физически, покинула этот мир в один миг, словно повернулся выключатель. Осталась лишь тонкая пустая оболочка, но присутствие отца словно еще ощущалось в комнате. Странное дело: я не испытывала привязанности к лежавшему передо мной телу, потому что это был уже не он. Мой отец не был этим телом, он являлся чем-то гораздо большим, чем оно.
Мы открыли окно, чтобы отпустить его душу на свободу. Если мать действительно пришла его встречать, как когда-то обещала, то я не почувствовала ее присутствия. Конечно, я не удивилась, но все-таки была немного разочарована. Потом мы немного поплакали, присев рядышком, а дальше приступили к необходимым формальностям. Мы вызвали медсестру, которая проверила его пульс (мы это уже сделали) и его дыхание (и это мы тоже сделали) и записала время смерти — на добрых десять минут позже настоящего, но это уже не имело значения.
Мой отец умер от старости. В прошлые века причину его смерти в официальных документах отразили бы более поэтически, но с нашим избитым медицинским словарем ее приписали, как обычно у стариков, острому инсульту, сердечно-сосудистым нарушениям и деменции. Я сидела с ним рядом — никакого инсульта не было. Пожалуй, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы действительно имелись (чего следует ожидать в его возрасте), но деменция, насколько мне известно, сама по себе никого не убивала. Просто пришло его время, и он с этим согласился.
Тем не менее я всегда считала, что болезнь Альцгеймера это очень нелегкий путь к концу. Длинный период угасания оказался очень тяжелым и для нас, и, могу предположить, для него, если временами он все-таки приходил в себя и сознавал, что с ним происходит. Мы словно начали с ним прощаться еще за два года до смерти, когда постепенно стали терять того человека, которого знали всегда. Но, в конце концов, он умер хорошей смертью, хоть она и заставила себя долго ждать. Когда настал момент, он отвернулся к стене и упокоился с миром, в присутствии тех, кто его любил. Чего еще может человек для себя пожелать?
Глава 5 Прах к праху
«Жизнь измеряется не ее продолжительностью, а ее наполненностью»
Питер Маршалл, пастор (1902–1949)Способы поддержать и утешить умирающего в разных странах и культурах, по сути, мало отличаются друг от друга, чего нельзя сказать о похоронах. Но, будь то буддийские похороны в горах Тибета — где тело, чтобы оно возвратилось в землю, разрубают на куски и оставляют на вершине, — пестрые шумные процессии с джазовым оркестром в Новом Орлеане, или наши помпезные британские церемонии, их главная задача всегда заключается в том, чтобы у скорбящих появилась некая успокаивающая модель поведения, которой можно следовать в трудный час. Такие церемонии очень важны не только потому, что позволяют семье и друзьям проститься с усопшим, но и потому, что приносят скорбящим утешение, задавая шаблон, с помощью которого они трансформируют свое горе в ритуал, открыто демонстрируя его или, наоборот, маскируя.
Горькая правда заключается в том, что скорбь не проходит никогда. Американский психоаналитик Лоис Тонкин говорит, что утрату невозможно «преодолеть», и это ощущение совсем не обязательно ослабевает со временем. Утрата остается с нами, и мы просто продолжаем жить, приспосабливаясь к ней, задвигая в глубины сознания. Поэтому постепенно она начинает казаться более отдаленной, и у нас получается с ней справляться, но полностью от чувства утраты избавиться нельзя.
Теория горя, разработанная в 1990-х голландскими учеными Маргарет Струб и Хэнком Шут, утверждает, что это чувство развивается по двум путям, между которыми выбирает человек. Их «двоичная» модель горя выделяет «ориентацию на утрату», когда мы фокусируемся на своих переживаниях, и «ориентацию на восстановление», когда мы стараемся находить для себя деятельность, которая временно нас отвлекает. Мы можем надеяться только на то, что приступы острого горя со временем станут более редкими. Однако каждый переживает утрату по-своему, и тут нет никаких временных рамок.
Похороны близкого человека — лишь один из первых шагов на этом пути. В Великобритании большинство траурных ритуалов всегда было связано с христианской религией, но теперь, когда в нашей стране соседствуют разные культуры, а общество становится все более светским, умножаются и варианты проводов покойного. В целом мы стали менее религиозны: теперь больницы переполнены теми, кто требует их лечить, а церкви пустеют, покинутые теми, кто готов был полагаться на свою веру. В прошлом мы смирялись со смертельным диагнозом и обращались к церкви за спасением души; теперь же мы рыщем по интернету в поисках хоть какого-то, пусть ненадежного, способа еще немного продлить себе жизнь.
Торжественность, чинность и церемонность, окружавшие раньше смерть, по мере секуляризации общества постепенно отступают. Давно миновали времена профессиональных плакальщиков, траурных украшений, популярных в средние века и в викторианскую эпоху (кстати, у меня их целая коллекция), канула в лету традиция снимать шапку при виде похоронного кортежа, этого memento mori, который всегда навевал на меня священный трепет. Церковные гимны уступают место Фрэнку Синатре и Джеймсу Бланту. Недавно к нам на кафедру анатомии обратился некий джентльмен, интересовавшийся, сможем ли мы забальзамировать его тело, чтобы его похоронили так, как он хочет — сидящим на своем Харлей-Дэвидсоне. Это, видите ли, единственный способ обеспечить трупу необходимую устойчивость. При всей своей изобретательности он явно был сумасшедшим — нам пришлось ему отказать.
Я определенно родилась не в том веке. Я предпочитаю традиционные проводы с похоронной процессией, как в лондонском Ист-Энде, с черным лаковым катафалком, который везут черные лошади с плюмажами на головах, а впереди идет распорядитель в цилиндре, задавая необходимый торжественный темп. От таких величественных шествий у меня мурашки бегут по спине.
Еще я люблю красивые кладбища: они всегда очень мирные и гостеприимные, особенно если находятся в центре города, где само расположение указывает на их важность для местной общины. Мы с бабушкой частенько устраивали пикники на кладбище Томнахурч (отец его всегда называл «мертвым центром Инвернесса»), когда летом ходили навещать могилу ее мужа, а Том школьником бегал там по дорожкам, тренируясь к соревнованиям по регби. Сейчас многие такие кладбища заброшены и постепенно приходят в упадок — возможно, со временем их вообще заменят электронные могилы, где родные и друзья будут выкладывать фотографии покойных. Отнюдь не то же самое, на мой взгляд.
Старея, мы посещаем похороны все чаще и начинаем замечать новые тренды: старые традиции отмирают, уступая место тем, которые мы считаем более современными. Конечно, исчезновение некоторых старинных обычаев вызывает сожаления, но, должна признать, во многих аспектах свобода, которой мы теперь обладаем при выборе сценария церемонии, позволяет более точно отразить в ней личность, ценности и убеждения покойного, что, безусловно, является положительным моментом. И пускай траурные ритуалы сейчас стали короче и проходят не так публично, скорбь остается прежней. Если выполнена главная задача — утешить скорбящих и почтить память покойного, — то кто мы такие, чтобы судить, как надо было сделать правильно? Точно так же и традиции остаются в силе для тех, кому приносят утешение.
Для проведения похорон следует предпринять столько разных действий, что порой задаешься вопросом, не придумано ли это все намеренно, чтобы отвлечь тебя от горя. Помимо регистрации смерти, переговоров с похоронным агентом, получения копии свидетельства о смерти и публикации объявления в газетах, приходится принимать еще массу решений. Похороны обоих моих родителей проходили в часовне при крематории: для них надо было выбрать цветы и музыкальное сопровождение, а также набросать прощальную речь, которую зачитывал служащий. Нужны ли нам машины, и если да, то сколько? Какой выбрать гроб (мой отец про свой наверняка сказал бы, что сжигал и получше — смешно, ведь именно это мы и собирались с ним сделать), где устроить поминальный банкет и откуда заказать угощение, как оповестить всех, кто хотел бы прийти? В Шотландии, где не тянут долго между смертью и похоронами, такая лихорадочная активность быстро выявляет в людях и все хорошее, и все дурное. Масса происшествий, связанных с похоронами, становится потом семейным фольклором.
Мой отец много лет служил в церкви органистом, и я знала, какую музыку он хотел бы слышать на своих похоронах, а какую — совершенно точно нет. Однако, как бы я не стремилась сделать все так, как ему бы понравилось, я не могла избавиться от мысли, что стараюсь ему угодить, когда он единственный не будет присутствовать на церемонии в этот день.
Каждую субботу отец, дождавшись вечера, отправлялся в церковь, чтобы поупражняться перед воскресной службой. Иногда я ходила вместе с ним и сидела в первом ряду, слушая его прекрасную игру на церковном органе. Он частенько исполнял «In the Mood» Глена Миллера. Странно было слышать эту мелодию, написанную для большого оркестра, раздающуюся в пустой церкви, но мне она нравилась. По воскресеньям, пока я была еще маленькой, мне вменялось в обязанность ходить в церковь с отцом. Я должна была сесть во втором ряду, прямо напротив органа, и следить за пением прихожан по книге с гимнами. Когда они доходили до последнего стиха, я клала руку на спинку скамьи перед собой — наш условный сигнал, означавший, что отец должен остановиться на этом куплете. Несколько раз я отвлекалась, и отец радостно играл еще куплет, которого в действительности не существовало. В те дни я получала серьезный нагоняй.
Отец терпеть не мог, когда прихожане пели без души. Поэтому я страшно возмутилась, когда услышала, как на его похоронах люди в церкви начали бормотать гимны себе под нос. Я не могла смотреть на беднягу органиста в углу зала, представляя, как разозлился бы отец. Вот почему я сделала нечто невероятное: встала, подняла вверх руки и велела всем замолчать — да-да, прямо посреди церемонии. Я рассказала им, как не нравилось отцу играть на органе, если люди пели не от души, и попросила их сделать над собой усилие — хотя бы ради него. Мои дочери были в ужасе, а остальные в большинстве своем решили, кажется, что я сошла с ума. Однако мне нравится думать, что я сделала те похороны незабываемыми.
Я не колебалась, выбирая, под какую мелодию процессия выйдет из церкви. Конечно, это будет «In the Mood». Это название он смешно коверкал, говоря вместо «Mood» «Nude» — голышом.
И отец, и мать оставили нам четкие распоряжения относительно того, где и как захоронить их останки, но не сказали, какие именно — тела целиком или пепел. Конечно, существовал и третий вариант, но ни один из моих родителей не пожелал завещать свое тело для научных целей, а я не чувствовала себя вправе их переубеждать.
Чем дальше в лес, тем больше дров. Их выбор мест на кладбище был вообще полнейшим безумием. Мама хотела, чтобы ее похоронили рядом с дядей Вилли и тетей Тиной, у подножия кладбища Томнахурч, а отец собирался лежать вместе с родителями наверху. Мы говорили, что, возможно, им стоило бы подыскать участок, где они поместились бы вместе, но старый добрый шотландский прагматизм (и, в случае моего отца, еще и старая добрая шотландская скупость) одержал верх. Если у подножия холма есть одно свободное место, а на вершине — другое, зачем покупать еще? Зачем тратиться на новый участок? Оба считали, что мертвым все равно, где лежать, главное, чтобы все прошло достойно. Конечно, мои родители предпочитали следовать традициям, но одновременно отличались практицизмом и отсутствием сентиментальности. Отец частенько говорил, что будет махать маме рукой с вершины холма, а она неизменно отвечала, что ни за что не станет махать в ответ.
И вот моего отца кремировали, а потом почти год его прах в красивой резной урне, которую он наверняка бы одобрил, стоял у нас в гостиной на столе, пока мы не смогли собрать вместе всех родных и устроить церемонию погребения. Торопиться все равно было уже некуда. Он умер и теперь всегда был при нас. Даже наши уборщики, после первого потрясения, привыкли к его присутствию и, в каком-то смысле, с ним подружились. Они здоровались с отцом, приходя в дом, и аккуратно стирали пыль с латунной таблички на урне. Когда урну похоронили, они заметно расстроились. Людям не обязательно быть живыми, чтобы ощущалось их присутствие в доме.
На Рождество мы решили, что дедушка должен сидеть с нами за обедом, поэтому поставили урну во главе стола. Многим это, наверное, покажется странным, но для нас все выглядело совершенно нормально; мы даже надели на урну шапку Санта-Клауса. Вся семья подняла бокалы за тех, кого с нами больше нет и кто для нас так много значит, в том числе за него — последнего члена старшего поколения, покинувшего нас навсегда.
Эта смена поколений в семье произвела сильное впечатление на Анну, нашу младшую дочь, которая осознала, что мы с ее отцом теперь самые старшие, а они с сестрами идут за нами. Пережить смерть моего отца ей было тяжело не только потому, что она его обожала, но еще и потому, что она сильно пугалась при мысли о том, кто должен стать следующим.
Когда, наконец, настал момент предать прах отца земле, мы выбрали для этой роли сына моей сестры, на жизнь которого он оказал серьезное влияние. Барри с достоинством вынул урну с прахом дедушки из багажника машины и торжественно и осторожно опустил в яму. Анна решила, что дедушка наверняка бы не отказался от глоточка спиртного на посошок, и поэтому вылила на урну щедрую порцию виски. Отец счел бы этот жест страшным расточительством, в чем с ним явно был согласен востроглазый могильщик, переминавшийся поодаль.
Что бы, по нашему мнению, не происходило с душой человека после смерти, родные и друзья обычно нуждаются в каком-то месте, которое могли бы навещать, или в картине, которую видят внутренним взором, где лежат останки их близкого. Для некоторых это могила, для других — местность, где был развеян прах усопшего, как правило, имеющая некую связь с его жизнью. Многие предпочитают держать прах у себя, как мы сделали с моим отцом, но постоянно. Некоторые даже берут его в поездки туда, куда покойному нравилось бывать при жизни, или туда, где он хотел побывать, но так и не смог. Я знаю человека, который отвез прах своей матери в Нью-Йорк на уикенд, потому что она всегда хотела посмотреть Центральный Парк.
Кремации, впервые появившейся в Великобритании в начале XX века, сейчас отдает предпочтение большинство, и ее популярность объясняется отчасти разнообразием выбора относительно того, что сделать дальше с прахом покойного. Его можно запустить в космос или растворить в воде, где он образует коралловый риф, можно замешать в стекло и превратить в украшение, пресс-папье или вазу. Его можно насыпать в патрон, добавить в наживку для рыбалки или смешать с порохом для фейерверка, чтобы усопший покинул этот мир с шумом и треском, или даже спрессовать в крошечный настоящий бриллиант.
Когда нет специально выбранного «места упокоения» и обычные похороны невозможны, семье приходится нелегко — от этого особенно страдают родственники предполагаемых жертв убийства и тех, кто погиб в катастрофах, когда тела так и не удается обнаружить. Поэтому отказ от церемонии в момент, когда горе наиболее острое, представляет собой большую жертву со стороны семей тех, кто, подобно Генри, лежавшему некогда передо мной на секционном столе, решают завещать свои тела для анатомических и других научных исследований. Я прекрасно понимаю, как чувствуют себя родные, оставшиеся без официального прощания. Тело, завещанное для науки, по закону может удерживаться до трех лет — долгий срок для семьи, которая дожидается, пока прах к ней вернется. Однако, что касается этих доноров, мы надеемся, что уверенность в том, что соблюдено их собственное желание, хотя бы отчасти утешает родных.
Решение завещать свое тело для медицинских, стоматологических и научных исследований, а также в образовательных целях, не из тех, которые принимают необдуманно. Причины, по которым люди к нему приходят, бывают самые разные, но, как правило, все они альтруистичные, исходящие единственно из желания сделать свой вклад в науку, что позволит в дальнейшем спасать жизни или облегчать страдания. Некоторые наши доноры просто считают, что «мертвым уже все равно» и что их останки лучше применить с пользой, чем уничтожить или оставить гнить. Как однажды сказала мне очаровательная пожилая дама, упершись руками в бока: «Юная леди, это тело слишком прекрасно, чтобы его сжечь». Правда, имеются и причины чисто практические. Принимая во внимание среднюю стоимость траурной церемонии и похорон, которая в Лондоне составляет около 7000 фунтов, а в среднем по стране около 4000, экономическая привлекательность очевидна. Однако мы не осуждаем и такие мотивы. Это личный выбор человека, и наша задача — проследить, чтобы он был соблюден.
У нас, на кафедре анатомии Университета Данди, работает удивительная женщина, Вив — менеджер по работе с завещателями, — которая каждый день получает звонки от людей, интересующихся, как завещать свое тело науке. Кафедра анатомии — то место, где разговоры о смерти ведутся без неловких пауз, замалчиваний и уговоров. Некоторые будущие доноры просят разрешения зайти к нам, чтобы обсудить некоторые детали или полистать нашу Книгу памяти. Некоторые, наоборот, хотят обо всем договориться по телефону, чтобы как можно меньше участвовать в процессе. В таких случаях Вив отправляет им необходимые документы по почте — правда, бывало, что она сама садилась в машину и отвозила их людям домой, если считала, что те просто не решаются явиться лично, хотя и нуждаются в разговоре с глазу на глаз.
Завещатели подписывают документы в присутствии свидетеля (не Вив, это было бы нарушением закона), а потом отправляют один экземпляр к нам на кафедру, а второй, вместе с завещанием, передают нотариусу. Больше ничего не требуется. Мы, со своей стороны, активно подталкиваем их к тому, чтобы они сообщили о своем распоряжении семье и друзьям — в этом случае, когда приходит их час, никто не удивляется, и задержки сводятся к минимуму.
Люди, решающие завещать свое тело науке, не ждут, что мы будем рассыпаться в благодарностях или уговаривать их передумать; все, что им нужно — это участие, ободрение, доверие и честность. Вив, которой они звонят, в этом смысле идеальный собеседник. Я всегда поражаюсь, слыша, как она разговаривает с ними по телефону. Обаятельная женщина с тонким чувством юмора, она отвечает всегда по делу, откровенно и в то же время гуманно, на все вопросы, которые ей задают, никогда не сползая в пустые утешения. Некоторые из наших завещателей звонят ей просто так: поболтать, сказать, что они пока что живы, или поделиться ценными сведениями о своих многочисленных недугах. Они относятся к ней, как к другу — к человеку, который будет поддерживать их семьи, когда наступит их час. И так все и происходит.
Когда, наконец, поступает звонок от их сына или дочери, мужа или жены, Вив деликатно, но настойчиво помогает им проделать все формальности, чтобы тело доставили к нам в университет как можно скорее. Для многих семей это сложный момент. Они могут не понимать или не соглашаться с решением завещателя, которого сильно любили, или противиться длительной отсрочке привычных похоронных церемоний. Мы делаем все возможное, чтобы желание завещателя было соблюдено, но, поскольку нам бы не хотелось причинять его семье лишнюю боль, иногда возражения со стороны родных одерживают верх.
Помимо согласия на то, что их тело будет в нашем распоряжении в течение трех лет, завещатели могут дать разрешение на более длительное хранение его отдельных частей, на фотографирование в учебных целях, и на использование их останков другими образовательными учреждениями Шотландии, если мы не сможем их принять. На такое сложно согласиться человеку, только что лишившемуся матери, и именно поэтому мы советуем всем нашим донорам открыто и честно обсудить свои распоряжения с семьей.
Вив делает очень важную, тонкую и деликатную работу в сфере связей с общественностью в нашем университете и потрясающе справляется с ситуацией, даже когда семья переживает острый период горя. Недавно она получила орден Британской империи за свой вклад в работу с завещаниями тел для научных целей в Шотландии — а вовсе не за «услуги покойникам», как выразился какой-то бестактный журналист. Я очень горжусь ею и ее работой.
Наши доноры живут самой разной жизнью. Свои тела завещают науке почтальоны и профессора, дедушки и прапрабабушки, святые и грешники. Возраст, с которого допускается завещание тела, в Шотландии составляет двадцать лет, но большинство наших доноров — люди за шестьдесят. Самому пожилому из всех, чьи тела мы получали, было 105 лет. Прожитая жизнь не имеет для нас особенного значения, мы принимаем практически всех. Есть лишь две причины, по которым мы можем отказаться от завещанного нам тела, но они встречаются достаточно редко. Если коронер или следователь требуют вскрытия, такое тело мы не можем принять, так как оно не годится для учебных целей. Если у покойного обнаруживаются раковые метастазы такой степени, что внутри почти не остается ничего сохранного, его тело мы тоже отклоняем. В недавнем прошлом нам пришлось отказаться от трупа человека с тяжелым ожирением, по банальным техническим причинам — у нас не было нужного оборудования, чтобы его поднимать и перемещать.
Около 80 процентов наших доноров живут в окрестностях университета, и мы очень гордимся отношениями, которые сложились у нас с общиной Тейсайд. На протяжении нескольких поколений семьи в Данди время от времени отправляют своих покойников «в университет». Их имена перечислены в нашей Книге памяти. Книга — не просто мемориал в честь завещателей, но еще и напоминание нашим студентам о том, как им повезло получить от людей столь щедрый дар с одним-единственным условием: чтобы они учились. Книга выставлена в холле факультета, чтобы каждый студент видел ее, направляясь в анатомический театр.
У нас есть один донор, олицетворяющий особенные отношения университета с местными жителями — это пожилой мужчина, которого я буду здесь звать Артур. Он просто очарователен: посещает все мероприятия в университете, будь то лекции по анатомии или литературные семинары. У него живой ум, он стремится получать новый опыт, сохраняет ясность мышления и много философствует — причем о жизни, а не о смерти. Он не религиозен и считает, что — как он сам выражается, — его останки гораздо лучше будет «переработать» ко всеобщему благу, а не тратить бешеные деньги на «никому не нужную траурную церемонию».
Артур отличается от остальных тем, что решил самостоятельно уйти из жизни и уже спланировал, как это сделает. Он настаивает на том, что не хочет быть обузой для других, если в своем преклонном возрасте станет неспособен сам о себе позаботиться. Когда он решит, что с него хватит, то возьмет на себя ответственность за свою смерть и положит конец собственной жизни. Он не хочет, чтобы друзья или родственники вместе с ним проходили через плачевный процесс умирания. Он прекрасно сознает, что собирается совершить, полностью уверен в сделанном выборе, и никакие уговоры не могут заставить его передумать — поверьте, я пыталась множество раз. После тщательных изысканий, Артур нашел подходящий способ покончить с собой. Он сказал мне, что уже купил по интернету все необходимое для того, чтобы умереть с миром, никак не повредив собственное тело, и теперь полностью контролирует свою жизнь и смерть — до самого последнего момента.
Не все способны так подробно изучить данный процесс и прийти к решению, которое Артур считает абсолютно естественным, хотя многие, пожалуй, поняли бы его — в абстрактном смысле слова, — и даже последовали бы его примеру. Ассистированный суицид и добровольная эвтаназия в Великобритании находятся вне закона. Правительство время от времени обсуждает их, поэтому я надеюсь, что со временем нам разрешат самим делать выбор при условии, что мы к нему стремимся, и самостоятельно определять, когда закончится наша жизнь. Думаю, когда-нибудь мы сможем принимать зрелое решение в ее отношении без контроля со стороны властей и под сенью закона, чтобы те из нас, кто хочет контролировать момент своей смерти, не были вынуждены тратить немалые деньги на то, чтобы умереть в другой стране, или идти на прочие, более трагические меры.
Суицидальный туризм — дорогостоящий бизнес, и решение о поездке часто принимается значительно раньше, чем требуется, из опасений, что задержка может привести к усилению болезни до той стадии, когда человек уже не сможет передвигаться. Чтобы быть уверенным, что этого не произойдет, люди лишают себя возможности провести еще немного драгоценного времени с семьей и насладиться им до того последнего момента, когда речь о качестве жизни уже не будет идти.
Ассистированный суицид законодательно разрешен в Канаде, Нидерландах, Люксембурге, Швейцарии и некоторых штатах США. В Колумбии, Нидерландах, Бельгии и Канаде допускается также добровольная эвтаназия. Разница между ними заключается в степени участия второй стороны. Если пациент просит врача положить конец его жизни, возможно, с помощью смертельной инъекции, и врач удовлетворяет его пожелание, это называется добровольной эвтаназией. Если врач прописывает пациенту смертельное лекарство, которое тот должен принять сам, это ассистированный суицид.
В Америке ассистированный суицид допускается только в случаях, когда человек смертельно болен и при этом полностью в здравом рассудке, и только в штатах Орегон, Монтана, Вашингтон, Вермонт и Калифорния. Орегон первым в США разрешил ассистированный суицид в соответствии с Актом о достойной смерти от 1994 года. После того как двое врачей засвидетельствуют, что пациенту осталось жить не дольше шести месяцев, ему выписывают смертельное лекарство, которое он принимает сам. Строгие ограничения обеспечивают отсутствие злоупотреблений. Лекарство представляет собой смесь фенобарбитала, хлоралгидрата, сульфата морфина и этанола и стоит от 500 до 700 долларов. Примерно 64 % пациентов, получающих лекарство, его действительно принимают — обычно находясь у себя дома. Тот факт, что оставшиеся 36 % — достаточно высокое число, — решают не принимать лекарство, свидетельствует о том, что люди понимают, какой делают выбор. Возможно, сам факт того, что лекарство у них есть, убеждает смертельно больных в том, что они контролируют ситуацию и держат жизнь и смерть в собственных руках.
В британских больницах смертельно больные люди и их родные должны полагаться на медицинский персонал в своем стремлении сделать процесс умирания и собственно смерть как можно менее болезненными. Врачи обычно прибегают к регулярному введению морфина в отсутствие питания и воды, что приводит к достаточно быстрой кончине — как в случае с моей матерью.
Британская медицинская ассоциация пока что высказывается против ассистированного самоубийства, возможно, из-за достаточно оправданных опасений, что общество перестанет доверять врачам. Однако, как показывают недавние европейские исследования, страной, где уровень доверия к врачам самый высокий, являются Нидерланды, а там ассистированная смерть разрешена. Похоже, что возможность выбора повышает доверие к медицине, а не снижает его.
Аргументы за и против легализации ассистированного самоубийства не новы. Его сторонники считают, что, раз у нас есть право на жизнь, то должно быть и право на достойную, гуманную и безболезненную смерть, причем в момент по нашему собственному выбору. Их оппоненты высказывают озабоченность возможностью нарушения закона, а также опасностью давления со стороны общества на стариков или инвалидов, ставших «обузой», или восприятием инвалидности как оправдания для сведения счетов с жизнью. Некоторые возражают по религиозным мотивам, считая, что только Создатель может решать, когда мы умрем. Своими разглагольствованиями протестующие часто заглушают голоса тех несчастных, которые страдают от непереносимой агонии, и отчаянно желают иметь возможность ассистированного самоубийства. Конечно, они могут свести счеты с жизнью, но, чтобы оставаться в рамках закона, это нужно сделать целиком самостоятельно — соответственно, единственные способы, которые им остаются, это самые травматические и жестокие.
Какова бы ни была ваша точка зрения, выбор времени смерти, по-моему, должен оставаться исключительно личным и не подлежать контролю со стороны государства. Возможно, переход к менее пессимистичному и недоверчивому отношению к желаниям тех, кто стремится сам решать, когда им умереть, является признаком зрелого и ответственного общества. И не просто совпадение, что в тех странах, где разрешено ассистированное самоубийство, паллиативное лечение финансируется гораздо лучше, а вопросы, связанные со смертью, обсуждаются более открыто. Я, например, предпочла бы жить в обществе, где людям позволен больший контроль над их жизнью и смертью.
Я уважаю Артура с его стремлением умереть на собственных условиях, и разделяю его недовольство тем, что в настоящий момент общественные установки заставляют его совершить это в одиночку, потому что закон не может — или не хочет — позволить ему умереть достойно и тогда, когда он решит сам. Его желание завещать свое тело анатомическому театру, соответственно, отклоняет любые жестокие методы: поскольку он хочет избежать вскрытия, он должен «сохранить свое тело».
Он уже сообщил, что ничего не будет предпринимать в рождественские и новогодние праздники, когда Университет закрыт, и даже поинтересовался, какие дни наиболее удобны для нашей кафедры анатомии. Когда он снова заговаривает о чем-то подобном, я начинаю сильно тревожиться, хотя и знаю, что не в силах его переубедить, потому что все мы уже пытались — и далеко не один раз. Я не стану ему помогать, но я не могу его и остановить — у меня нет на это права, а сам он мне таких полномочий не дает. Наши с ним разговоры я считаю признаком большого доверия и стараюсь ему не мешать, просто позволяя пускаться в рассуждения, благодаря которым он пытается понять, насколько ему комфортно с этой мыслью и насколько она приемлема или неприемлема для остальных.
Артур сильно огорчился, когда, все как следует обдумав, обратился в еще один университет, чтобы узнать их точку зрения на его план, и ему сказали, что его тело не примут, если он совершит суицид. Ему было трудно примирить такое отношение с собственным вполне понятым стремлением к «достойной смерти» и искренним желанием поучаствовать в обучении других.
Он продумал все детали. Мне Артур сообщил кодовое слово, которое знаем только я и он: это слово он, по его словам, оставит мне на автоответчике в выходные, чтобы в понедельник я поняла, что его тело меня ждет. Я должна буду сразу оповестить все задействованные службы, чтобы его распоряжения были выполнены. Он не сообщит мне заранее, когда решил умереть, чтобы я не чувствовала себя виноватой, а также чтобы я не могла ему помешать. В каком-то смысле это, конечно, очень по-доброму с его стороны, но из-за Артура у меня уже развилась стойкая антипатия к миганию красной лампочки автоответчика на телефонном аппарате, особенно в понедельник по утрам. Пока что сообщения от Артура не поступало и, я надеюсь, не поступит. Даже допуская возможность, что однажды он осуществит свой план, я все-таки хочу, чтобы Артур скончался естественной смертью, быстрой и безболезненной, в соответствии со своими желаниями и не оскорбляя современные общественные устои. На случай, если я окажусь в отпуске или еще куда-нибудь уеду, мы с Артуром уведомили также Вив. Кажется, наш старичок нас обеих заставил плясать под свою дудку.
Сложно выразить словами, насколько я благодарна Артуру за его поддержку в адрес завещательной деятельности и анатомического образования и за то, что он поделился своими желаниями именно со мной. В то же время на мне лежит тяжкое бремя ответственности за соблюдение всех официальных формальностей. С моральной точки зрения это еще трудней. Именно тут происходит настоящая борьба; по вечерам я часто думаю о нем и спрашиваю себя, чем он сейчас занят. Что если он совсем один? Вдруг плохо себя чувствует? Может, ему страшно? Может, прямо сейчас он собирается прибегнуть к средству, которое заранее купил? Могу ли я ему помешать? Должна ли я мешать ему? Хотя у него есть мой телефонный номер, мне он своего не давал. Я понятия не имею, когда он собирается все сделать — если это случится, — а к тому моменту, как все произойдет, вмешиваться будет уже слишком поздно. Поэтому все, что я могу — это продолжать и дальше разговаривать с ним.
Я не уверена, что хочу его переубедить, если это означает подвергнуть его риску той смерти, которой он так старательно пытается избежать, но мне кажется, что своими вопросами я заставляю его заново переоценивать принятое решение. Он временами на меня злится за бесконечные напоминания, но я говорю, что они продиктованы «добрыми намерениями», на что Артур, состроив недовольную гримасу, отвечает, что «эти добрые намерения какие-то не очень добрые».
У него есть привычка между делом вставлять провокационные замечания о разных теоретических ситуациях, от которых я порой впадаю в ступор. Глаза у него при этом обычно хитро блестят. Некоторое время назад он спросил, можно ли ему побывать у нас в анатомическом театре и присутствовать при вскрытии. Я остолбенела. Никогда раньше завещатель не просил меня показать ему анатомический театр. Но, почему, собственно это так выбило меня из колеи? Разве мы что-то там скрываем? Ведь можно купить билет на выставку Body Worlds, где представлены рассеченные человеческие тела в разнообразных позах. Можно пойти в музей хирургии и поглядеть на стеклянные контейнеры с образцами внушающих ужас патологий и аномалий всех видов, какие только встречаются в человеческом организме, полюбоваться разными жуткими диковинками, законсервированными в формалине и закрытыми в банках. В интернете любой поиск выдаст вам гигантский набор изображений, связанных со вскрытием человеческих тел. Вы можете зайти в книжный магазин и взять с полки анатомический атлас, можете увидеть процедуру вскрытия по телевидению. Артур, казалось, нисколько не беспокоился о том, что увидит в анатомическом театре, я же, по какой-то необъяснимой причине, была крайне встревожена. В чем было дело: в личной вовлеченности или просто чересчур большой ответственности?
Однажды Артур тоже станет трупом на секционном столе, если не изменит своего решения — а он не изменит, в этом я уверена. А раз он к этому стремится, то совершенно естественно, что ему хочется посмотреть, как там все устроено и в какой обстановке он, возможно, проведет несколько лет. Когда будущие студенты приходят в университет, им разрешают заходить в анатомический театр, так почему бы не пустить туда будущего донора, который, в конце концов, является второй стороной их символических взаимоотношений? Возможно, вспоминая о собственном первом опыте посещения анатомички, я боялась, что Артур испугается или огорчится. Сложно было предсказать, чем станет для него такой визит — полной катастрофой или полным успехом, который принесет ему успокоение.
Я попыталась отмахнуться от его просьбы какой-то шуткой, но он не собирался сдаваться так просто. Артур вежливо, но настойчиво сказал, что хочет сделать это вместе со мной, потому что мы хорошо знакомы и он мне доверяет, но если я откажусь, он поймет. Придется обратиться в другой университет и попросить их. Подумайте только, каков шантажист! Словно издалека, я услышала собственный голос, говоривший, что я все узнаю и попрошу разрешения у начальства, то есть, похоже, я согласилась. Против воли. Я никогда не могла сказать Артуру «нет», сама не знаю почему. Возможно, дело в том, что он мне очень нравится, и я очень горжусь работой, которую на моей кафедре ведет персонал, целиком и полностью преданный нашим донорам, их семьям, студентам и образованию. Если наши «молчаливые учителя» действительно «учат», то они являются персоналом. Возможно, в каком-то смысле, Артур мог считаться будущим членом нашей преподавательской команды.
И тут же я подумала, что, скажи я это ему, он презрительно ухмыльнется и, скорее всего, обвинит меня в использовании бесплатной рабочей силы.
Я поговорила с инспектором факультета, и он сказал, что визит вполне допустим, если заранее все организовать. И вот, в назначенный день, мы с Артуром встретились у меня в кабинете и еще раз поговорили о завещании тела и о том, что это означает для него, для меня и для наших студентов. Мы обсудили его планы относительно кончины, я снова высказалась против, а он, как обычно, пропустил мои возражения мимо ушей. Я рассказала о процессе бальзамирования, а он поинтересовался химическими реакциями, которые происходят в теле на клеточном уровне. Как оно пахнет? Как выглядит? Каково на ощупь? Мы полистали кое-какие учебники, и он сказал, что мышечная ткань выглядит не такой красной, как он предполагал. Он думал, что она того же цвета, что мясо в лавке, а не розовато-серая, как на самом деле. Ему полезно было посмотреть на картинки, чтобы подготовиться к тому, что он увидит дальше.
Мы поболтали о скелете, висевшем в углу, с цветными метками, указывавшими, откуда отходят и куда прикрепляются мышцы. Повертели в руках черепа, стоявшие у меня на полке, поговорили о том, как растут и ломаются кости. За чашкой чая мы беседовали о жизни, смерти и учебе. Я позволила ему самому задавать темп.
Когда Артур решил, что готов, мы вышли из кабинета и отправились в музей. Артур к тому времени сильно сдал, и ступеньки представляли для него определенную сложность, но он поднялся по ним, держась за перила одной рукой, а другой опираясь на трость. Мы ненадолго остановились в холле, где я показала ему Книгу памяти, хранившуюся в стеклянной витрине. Артур обратил внимание на то, как много людей жертвует нам свои тела, и сделал несколько предположений относительно их мотивов. Мы поговорили о нашей ежегодной майской мемориальной службе, и он спросил о возрасте самых молодых и самых старых доноров, когда-либо попадавших к нам на секционный стол. Кого у нас больше, мужчин или женщин? На все его вопросы я отвечала совершенно откровенно.
Проходя по коридору, мы рассматривали чудесные картины, нарисованные нашими талантливыми студентами, медиками и анатомами, и обсуждали вековую связь между анатомией и искусством, особо упомянув при этом знаменитых голландских мастеров, питавших какую-то болезненную тягу к анатомическим театрам.
Наш музей находится в светлом помещении, где рядами расставлены длинные белые столы: за ними студенты занимаются и сравнивают выставленные образцы с иллюстрациями в учебниках. Артур присел за один из столов, а я показала ему сагиттальные, корональные и горизонтальные срезы человеческих тел, выставленные в тяжелых герметичных пластиковых контейнерах — они повторяют срезы, которые получаются на снимках при компьютерном и магнитно-резонансном сканировании. Я поставила один контейнер на стол перед Артуром и сообщила, что перед ним горизонтальный срез грудной клетки мужчины. «А откуда вы знаете, что это мужчина?» — спросил он. Я показала на волоски, торчавшие из кожи, и мы оба прыснули от смеха.
Я продемонстрировала положение сердца, легких, основных кровеносных сосудов, пищевода, ребер и позвоночного столба. Артур был искренне изумлен. Его поразили скромные размеры позвоночного столба, по которому проходят все моторные и сенсорные сигналы в нашем теле, и пищевода; Артур сказал, что теперь будет стараться глотать поменьше пищи за раз. Еще он сказал, что, увидев, из каких хрупких элементов мы состоим, он вдруг понял, насколько уязвима человеческая жизнь. Он внимательно рассмотрел коронарные сосуды сердца, в том числе переднюю межжелудочковую ветвь левой венечной артерии, которую еще называют «вдовьей» артерией, и попросил показать ему желудочки.
Его насмешили сердечные волокна, или «струны», которые, как он выразился, напоминали крошечных человечков, державших над собой лилипутский тент. Он спросил, сколько лет образцу и сколько тот еще прослужит.
Пожилой джентльмен прекрасно чувствовал себя, разглядывая и обсуждая все эти вещи. Я не замечала никакого напряжения — кроме, пожалуй, моего собственного. В его глазах ни разу не промелькнул страх, голос ни разу не дрогнул, руки не затряслись. Пора было переходить к главному. Я на минутку оставила Артура наедине с образцами, а сама проскользнула в анатомический театр: просторное, залитое светом помещение, полное, как обычно в рабочие часы, шума и разговоров. Студенты занимались за секционными столами. Я оглядела отдельные группы, выбирая ребят постарше. Найдя подходящую, я рассказала студентам об Артуре и попросила, по возможности, с ним переговорить. Их явно встревожила перспектива беседы о вскрытии с будущим покойником — особенно с учетом того, что они и так стояли над трупом, со скальпелями и зажимами в руках, анатомируя его плечевой сустав. Однако ребята быстро собрались, немного посоветовались между собой, и дали согласие. Тут же был выбран и спикер.
Даже не знаю, кто больше волновался: студенты, Артур или я. Что если вся наша затея окажется грандиозной ошибкой? Артур медленно поднялся на ноги и пошел следом за мной в анатомический театр. В воцарившейся тишине можно было услышать, как капает вода из крана. Оживленный шум голосов, только что заполнявший помещение, стих, сменившись почтительным молчанием и показательной сосредоточенностью на работе. Удивительно, как в одно мгновение атмосфера полностью изменилась. Словно коллективное сознание, пронизывавшее сплоченный студенческий коллектив, заставило всех начать вести себя по-другому. Такое часто бывает в моргах, где царит неписаный закон: если заходит посторонний, надо сменить поведение и тему разговора, пока не выяснится, кто это такой и зачем явился. Все студенты в анатомическом театре так поступали, причем без всяких предупреждений и инструкций. И за это я очень ими гордилась.
Артур, немного неуверенно, подошел следом за мной к столу. Студент, которого выбрала группа, представился и нервно пошутил, что рукопожатие, пожалуй, не совсем уместно с учетом работы, которой они тут заняты. Остальные студенты, стоявшие вокруг стола, тоже назвали свои имена. Они были такие бледные и взволнованные, что я боялась, как бы кто-нибудь из них не свалился в обморок. Артур показал на стол и спросил: «А что это? Почему надо резать именно так?» Я отступила в сторону и увидела, как прямо у меня на глазах произошло настоящее чудо: Артур и студенты объединились вокруг смерти, погрузившись в завораживающий мир анатомии.
В зале снова загудели разговоры — это означало, что студенты приняли Артура в свой круг.
Он провел за секционным столом минут пятнадцать, если не больше. Раз или два я слышала взрывы смеха в ответ на какие-то его шутки. Решив, что четверти часа вполне достаточно и для ребят, и для Артура, которому тяжело было стоять, я подошла и позвала его на выход. Он поблагодарил студентов за их профессионализм, а они, в свою очередь, поблагодарили его за бесценный дар, который он собирается сделать. С обеих сторон ощущалось искреннее желание еще немного поговорить. Тем не менее я заметила, что студенты выдохнули с облегчением, когда Артур развернулся и медленно пошел к дверям. Они очень боялись его чем-то обидеть или расстроить. Однако ребята понимали всю важность того, что сделали для него, равно как и того, что он сделал для них — и сделает для будущих студентов.
Мы же с Артуром вернулись ко мне в кабинет, чтобы немного успокоиться — за новой чашкой чая — и еще поговорить. Он казался очень вдохновленным, оживленным и даже более уверенным, чем раньше, в своих планах относительно завещания тела. По его собственным словам, он сожалел только о том, что будет по другую сторону скальпеля. Процесс вскрытия показался ему таким захватывающим, что, вполне возможно, пойди его жизнь по другой стезе, он и сам мог бы стать отличным анатомом.
Денек выдался нелегкий и оказал громадное влияние на всех, кто принимал участие в том визите. Повторила бы я его еще раз? Увольте — ни за что на свете.
Глава 6 Эти кости
«Есть в шкафах что-то такое, отчего скелетам в них не сидится»
Вилсон Мицнер, драматург, антрепренер и рассказчик (1876–1933)В какой момент ваша смерть перестает иметь значение для живущих? В стихотворении «Так много времени» Брайан Пэттен говорит, что «жив человек, пока он есть внутри нас», и эта мысль перекликается с моими собственными рассуждениями. Сейчас, когда я начинаю стареть, у меня изо рта все чаще вылетают те же фразы, что и у моего отца. Мы не умерли, пока на земле есть люди, которые нас помнят.
Соответственно, у нас есть определенный «срок жизни» — или лучше говорить «срок смерти»? — не более четырех поколений, хотя наши отголоски могут сохраняться и дольше, в воспоминаниях родственников, семейных историях, фотографиях, фильмах и других записях. В моей семье мое поколение последнее помнит моих бабушку и деда, а мои дети — самые младшие из тех, кто помнит моих родителей, поскольку до появления внуков те не дожили. Меня очень печалит тот факт, что, когда я умру, со мной умрет и моя бабушка. Тем не менее я нахожу некоторое утешение в том, что мы с ней умрем вместе — я в своем теле, а она в моей памяти. Вполне вероятно, что меня тоже забудут со смертью моих внуков, хотя есть некоторая вероятность, что мне посчастливиться дожить до того момента, когда мои правнуки достаточно повзрослеют, чтобы меня запомнить. И вот теперь мне стало страшно. Как получилось, что я так быстро постарела?
С точки зрения закона тело не представляет интереса для судебной медицины, если человек скончался более семидесяти лет назад. Если отсчитать эти семьдесят лет от текущего момента, мы окажемся во временах Второй мировой войны. Получается, что мои прабабки и прадеды, ни с одним из которых я не встречалась, технически теперь являются скелетными образцами, и что моя бабушка превратится в объект археологии меньше чем через тридцать лет — вполне вероятно, еще при моей жизни. Почувствую ли я себя оскорбленной, если кто-то выкопает мою бабушку или прабабушку, чтобы изучать их, как археологические образцы?
Да, еще как!
Точно так же я буду сильно возражать, если кто-то покусится на останки моей прапрабабки. Хотя связи с более дальними предками у нас не такие прочные и ощутимые, мы все равно чувствуем кровное родство. Поэтому ответственное отношение к археологическим останкам, достойное обращение с ними и соблюдение требования оставить их покоиться с миром, не должны ограничиваться сроками нашей собственной жизни. Не существует просто горы костей — все это чьи-то родственники, люди, которые когда-то смеялись, жили и любили.
В последнее время я веду молодежный семинар в Колледже Инвернесса и как-то раз предложила его участникам поближе рассмотреть скелет, который висит у них в научной лаборатории. К концу занятия мы узнали, что перед нами молодой человек, не старше их самих, ростом около 165 см, страдавший анемией из-за недостаточного питания и, вероятней всего, из Индии, так что теперь мои ученики видели скелет совсем в другом свете. Они больше не хотели, чтобы он висел в углу кладовки, и обращались с ним гораздо уважительней. Анонимность человеческих останков приглушает наше сочувствие к ним, но в том и заключается сила судебной антропологии, что она возвращает им личностную идентичность, а нам — стремление беречь и заботиться о них. Я надеялась именно на такую реакцию со стороны учеников, и они оправдали мои ожидания. Это оказались очень зрелые и ответственные молодые люди.
Для некоторых останков сроки, когда они представляют судебный интерес и когда становятся археологическими образцами, заметно сдвигаются. Существуют определенные факторы, которые делают эти границы проницаемыми — в основном так происходит в случаях, если обнаруженные останки принадлежат, предположительно или наверняка, какой-то определенной личности, родственники которой еще живы. Например, вне зависимости от течения времени, любые детские останки, обнаруженные на пустоши Сэддлворт, где хоронили своих жертв серийные убийцы Иэн Брэди и Майра Хиндли, всегда будут рассматриваться как улики для суда.
Я никогда не собиралась становиться остеоархеологом, но это не значит, что я не работала с археологическим скелетным материалом. Впервые я столкнулась с ним на четвертом курсе Университета Абердина. После третьего года — анатомирования человеческих тел, которое я обожала, — мне предоставили список предметов, которые, казалось, представляли собой интересы отдельных ученых, но никак не цельный академический план. Например, одну неделю я занималась нейроанатомией, на следующей переходила к эволюции человека, дальше — к конфокальной микроскопии (никогда ее не понимала), и, наконец, к лекциям какого-то неряшливого типа, обожавшего рассуждать о корсетах и их вреде для женского здоровья. Очень странно!
Гораздо больше меня заинтересовал проект, который каждый должен был сделать к концу года. К сожалению, преподаватели на нашем факультете исследовали в основном содержание свинца в мозгу у крыс, карциномы гипофиза у хомяков и невропатию у мышей с диабетом. Я до смерти боюсь мышей, крыс и вообще любых грызунов, неважно, живых или мертвых, поэтому ни за что не взялась бы за проект, предполагавший изучение их трупиков. Я ходила за профессорами и умоляла предложить мне что-нибудь другое — что угодно, лишь бы я могла работать. Наконец, мой будущий научный руководитель предложил мне заняться идентификацией останков по костным фрагментам — тема из судебной антропологии. Отлично — никаких шкурок, хвостов и когтей! Никаких суетливых подергиваний лапок, укусов, царапин, и вообще закономерное продолжение предыдущих занятий: от человеческого тела в анатомическом театре, а до того от мяса в лавке мясника.
Мне предстояло выяснить, как определить пол человека, если сохранились только фрагменты скелета. Образец, который я исследовала, относился к Бронзовому веку и хранился в музее Колледжа Маришаля. Останки были похоронены вместе с артефактами из «культуры колоколовидных кубков», получившей свое название в соответствии с необычной формой сосудов для питья. Такие кубки, иногда вместе с мелкими камнями или примитивными украшениями, помещали рядом с телом в цисте, каменном ящике для захоронения. На северо-востоке Шотландии цисты обычно строили из четырех боковых каменных плит и одной покровной сверху. Большинство из них было случайно обнаружено фермерами при вспашке, когда плуг задевал верхнюю плиту и под ней открывался скелет, сидящий, скрючившись, рядом со своим кубком. Считалось, что представители данной культуры были изначально купцами, мигрировавшими вдоль Рейна, которые затем осели на восточном побережье северной Британии. Поскольку чаще всего их хоронили в песке, останки отлично сохранялись, и вот теперь им предстояло лечь в основу моей научной работы.
Темные служебные помещения музея Маришаля были моим раем. Пыльные, теплые, пропахшие деревом и смолой, они напоминали мне отцовскую столярную мастерскую. Я провела там много молчаливых часов, спрятавшись за архивными стеллажами, размышляя о культуре колоколовидных кубков, ее людях, их жизни и смерти. Это был мирный народ, и умирали они тоже мирно. Но, хоть они и казались мне интересными, и я обожала изучать их кости, меня преследовало ощущение незавершенности, неопределенность. Все это объяснялось не только удаленностью от нас культуры, существовавшей 4000 лет назад, но еще и раздражающей уверенностью в том, что мы никогда ничего не узнаем о них наверняка. Мои данные представляли собой теории, а не факты. Расследовать факты, касающихся жизни и смерти более близких к нам по времени жителей островов, бывало порой сложнее, но и удовлетворения я получала больше, поскольку с успехом применяла навыки идентификации тел из современного мира и отвечала на большинство вопросов, которые ставили передо мной.
Люди населяют наш остров более 12 000 лет, поэтому любой практикующий судебный антрополог время от времени натыкается на археологический материал. С учетом значительных колебаний количества населения в разные века, мы можем только догадываться, сколько всего людей скончалось на нашей территории, но в целом считается, что с возникновения вида Homo Sapiens 50 000 лет назад и до наших дней на планете жило и умерло около ста миллиардов человек — в пятнадцать раз больше 7 миллиардов ее нынешних обитателей. Количество живущих на планете никогда не превысит количество умерших — для этого требуется, чтобы население перевалило за 150 миллиардов, чего Земля просто не выдержит.
В XXI веке в Великобритании ежедневно умирает 39 000 человек — это примерно полмиллиона тел в год, от которых надо как-то избавляться, обычно путем похорон или кремации. Существует не так много способов уничтожить мертвое тело, прежде чем оно начнет доставлять окружающим дискомфорт. Пять самых традиционных из них используются человечеством по всему миру уже много веков. Во-первых, тело можно оставить на открытом пространстве, чтобы им занялись наземные и крылатые падальщики — метод, до сих пор используемый при «небесных» похоронах в Тибете. Во-вторых, его можно утопить в реке или в море, где то же самое проделают подводные обитатели. В-третьих, можно хранить его на земле, например, в мавзолее или чем-то подобном — вариант, обычно предпочитаемый богачами. Четвертый способ — закопать в землю, где за его поглощение примутся беспозвоночные. При наличии соответствующего разрешения мы технически можем похоронить тело где угодно, в том числе на собственных землях, если нет угрозы заражения источников воды. И, наконец, тело можно сжечь, что в последнее время считается наиболее быстрым и гигиеничным методом, хотя вокруг него и ведутся споры относительно загрязнения окружающей среды.
Возможно самое экстремальное решение — которое в наши дни считается социально неприемлемым и активно порицается, — это его съесть. Хотя каннибализм (антропофагия) был распространен во многих культурах, в Великобритании почти не встречаются свидетельства употребления мертвых тел в пищу. Исключение составляют пещеры Гоу в Сомерсете, где в конце ледникового периода жили охотники на лошадей из ущелья Чеддер. Скелетные останки, обнаруженные там, покрыты характерными порезами, свидетельствующими об отделении плоти для последующего поедания. Больше свидетельств у нас имеется относительно позднейшего «медицинского каннибализма», основанного на убеждении, бытовавшем у аптекарей, о мистических свойствах мертвого тела. Лекарства от многих недугов, в том числе мигрени и эпилепсии, а также общеукрепляющие снадобья, изготавливались из разных частей человеческих трупов. Идея заключалась в том, что если смерть застигла свою жертву внезапно, то душа остается запертой в теле еще некоторое время и может передать свои целительные свойства тому, кто примет лекарство. «Трупные настойки» обычно изготавливались из растертых в порошок костей, высушенной крови и переработанного жира, а также других не самых аппетитных составляющих человеческого организма.
Францисканский аптекарь в 1679 году записал следующий рецепт настойки из человеческой крови. Сначала необходимо было слить кровь у покойника, который при жизни обладал «страстным темпераментом» и, желательно, «плотным телосложением». Далее крови следовало дать осесть в «густую липкую массу», после чего ее выкладывали на деревянную доску и резали на полоски, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Далее кровь сушили на противне и, пока она была еще теплой, растирали в бронзовой ступке, а получившийся порошок просеивали через шелковую ткань. Порошок пересыпали в пузырек, а весной разбавляли свежей водой, получая укрепляющий напиток.
Любопытно, что, по утверждению одного из знаменитых британских правоведов, каннибализм сам по себе у нас в стране не запрещен — ему препятствуют законы об убийстве и о расчленении тела. Узнав об этом, моя младшая дочь Анна, будущий адвокат (или юная акула, как мы ее называем), немедленно поинтересовалась, посасывая порезанный палец, будет ли считаться преступлением, если кто-то съест сам себя — такая практика называется автосаркофагией. А как насчет взаимного каннибализма, с согласия обеих сторон, при котором никто не умер? Похоже, в Великобритании каннибализм больше ассоциируется с убийством или осквернением трупа, но не карается как самостоятельный акт. Теперь я сильно беспокоюсь, какую именно ветвь юриспруденции Анна в дальнейшем изберет.
Исторически кладбища в нашей стране были излюбленным местом для избавления от тел. В древности места для них выбирались в соответствии с культурной важностью или священным символизмом определенных земель. Когда в государстве появилась формализованная религия, могилы переместились на церковные дворы или, если умирал кто-то выдающийся, непосредственно в помещения церквей, а также в крипты под ними.
С массовой миграцией в города в период промышленной революции мы начали нуждаться в новых кладбищах, и в викторианскую эру стали возникать муниципальные, обычно за городской чертой. До принятия Похоронного акта 1857 года повторное использование могил не было редкостью, но, по мере заполнения новых кладбищ, тела предыдущих обитателей стали извлекать из них слишком рано, что вызывало возмущение общественности. Новый закон постановил, что могилы вскрывать нельзя, за исключением случаев, когда требуется официальная эксгумация. Любопытно, что правонарушением считалось именно вскрытие могилы. Кража трупов не шла вразрез с законом — если на них не имелось одежды.
В 1970-х местные власти получили право повторно использовать заброшенную могилу, если гроб в ней сохранился в целости. При повторном использовании могилу углубляют, чтобы похоронить еще одного человека сверху. Обычно эту практику применяют к захоронениям, которым более ста лет, исходя из того, что их больше никто не посещает. В 2007 году в Лондоне, где проблема стоит особенно остро, был принят акт, позволявший эксгумировать останки и помещать их в контейнеры меньшего размера, прежде чем перезахоронить, в случае если захоронению более семидесяти пяти лет и не имеется никаких возражений со стороны владельцев участка или родных покойного. Это позволяет заново использовать могилы для захоронения других тел, не обязательно связанных с первым хозяином. В 2016 году такой же закон принял парламент Шотландии.
Повторное использование могил остается сложным вопросом и поднимает многочисленные религиозные, культурные и этические споры. Однако за неимением достаточных площадей для захоронений Великобритания уже находится на пороге кризиса — по данным исследования ВВС, проведенного в 2013 году, половина всех кладбищ в Англии к 2033-му будет полностью занята, — значит, надо что-то предпринимать, чтобы предотвратить закрытие кладбищ для вновь поступающих, либо придумывать другой способ избавляться от тел.
С учетом того, что в год в мире умирает около 55 миллионов человек, проблема, конечно, затрагивает не только Великобританию. Больше всего страдают города, где не существует традиции повторного использования могил. В Дурбане, ЮАР, и Сиднее, Австралия, так же как в Лондоне, обсуждение нового законодательства вызвало ожесточенные дебаты.
Многие города мира, особенно европейские, исторически применяют немного другой подход, извлекая кости из могил и перенося их в просторные подземные катакомбы или оссуарии, где оформители с их помощью дают волю своему воображению. Самыми крупными такими хранилищами является парижское, где лежит около 6 миллионов скелетов, и чешское — так называемая Седлецкая костница, построенная в 1400-х для хранения скелетов, выкопанных с переполненного церковного кладбища. В 1870 году резчик по дереву Франтишек Ринт получил заказ рассортировать полученные останки и приступил к работе, в результате которой скелеты, количество которых оценивалось между 40 000 и 70 000, превратились в потрясающие изысканные декоративные и архитектурные элементы новой капеллы. Канделябры, гербы и колонны — все в ней выполнено из человеческих костей. Похоже, в своей преданности искусству, Ринт не позволял сентиментальности сказываться на выборе материалов, и смотреть на его произведение отнюдь не всегда приятно: чего стоят хотя бы косточки младенцев, из которых, в частности, выложена витиеватая подпись автора.
Во многих странах современной Европы традиция выкапывать останки с кладбищ естественным образом вылилась в повторное использование могил. В Германии и Бельгии, к примеру, могилы предоставляются в пользование бесплатно сроком на двадцать лет. После этого, если семья не решит платить, чтобы содержать могилу и дальше, ее обитателя передвинут глубже или вообще перенесут в другое место, иногда в массовое захоронение. В странах с теплым климатом, например Испании и Португалии, где тела разлагаются быстрее, останки лежат в земле еще более короткое время. Далее, если семья захочет, кости могут перенести в оссуарий в стенах кладбища — но уже за деньги. Если же родные не объявляются, кости изымают. Некоторые попадают в музеи, некоторые просто сжигают и измельчают в прах. В Сингапуре власти пошли по пути Европы и Австралии, приняв вариант «закопать поглубже и использовать повторно».
Но в целом захоронения в землю, неважно на какой срок и непосредственно в почву или внутрь монументов, постепенно выходят из обыкновения. 30 миллионов футов древесины, 1,6 миллионов тонн цемента, 750 000 галлонов бальзамирующей жидкости и 90 000 тонн стали ныне закопаны в землю только на территории США — наглядная демонстрация загрязнения окружающей среды. Люди, озабоченные сохранением экологического баланса планеты, естественно, возмущаются таким положением, но с кремацией дела обстоят не лучше. Каждая кремация эквивалентна сгоранию 16 галлонов топлива, что заметно повышает выделение ртути, диоксинов и фуранов (токсичных веществ). По приблизительным оценкам, количество энергии, расходуемой на кремации в США за год, достаточно для того, чтобы восемьдесят раз совершить полет до Луны и обратно. Однако крематории в Штатах процветают — в 1960-х им отдавали предпочтение лишь 3,5 % населения, в то время как сейчас эта цифра равняется почти 50 %.
Неудивительно, что наиболее высокий процент кремаций приходится на те страны, где сожжение тела является культурной нормой и традиционным выбором по религиозным мотивам, особенно у буддистов и индуистов. В Японии кремируют 99,97 % покойных, далее следует Непал (90 %), а за ним Индия (85 %). С точки зрения статистики, больше всего кремаций происходит в Китае — около 4,5 миллионов в год.
В процессе кремации сгорают все органические составляющие тела, оставляя только сухие инертные минералы, в частности, фосфат кальция из костей. Прах не превышает 3,5 % от тела и весит примерно 4 фунта. В большинстве крематориев останки изымают из топки и пропускают через так называемый кремулятор, где кости перемалываются в порошок и из них удаляются все посторонние примеси, в том числе металлы. В Японии после кремации семья извлекает фрагменты костей из пепла с помощью палочек и перекладывает их в урну, начиная с ног и кончая головой, чтобы покойный не оказался вверх тормашками.
В Великобритании около трех четвертей населения ныне отдает предпочтение кремации, но бурный рост ее популярности, начавшийся в 1960-х, сейчас немного приостановился. Современные общества склонны раздвигать границы, поэтому начинают возникать новые, более «экологичные» варианты избавления от тел (прах, остающийся после кремации, практически лишен питательных веществ). Один из них — «резомация», или алкалиновый гидролиз. Тело помещают в емкость со щелочным раствором (каустической содой или гидроксидом натрия) и нагревают до 160 °C под давлением около трех часов. Все ткани разлагаются, превращаясь в зеленовато-коричневую массу, богатую аминокислотами, пептидами и солями. Оставшиеся фрагменты костей измельчаются в пыль в кремуляторе и далее могут быть рассеяны или использованы в качестве удобрений (в них содержится гидроксиапатит кальция).
Еще один метод, «промессия», представляет собой сухое замораживание тела в жидком азоте при температуре — 196 °C. Далее с помощью вибрации при определенной амплитуде оно рассыпается в порошок. Порошок сепарируется от металлической пыли с помощью магнита и помещается в верхний слой почвы, где бактерии завершают процесс. Последняя «зеленая» альтернатива, «человеческий компост», пока находится на стадии разработки, но идея заключается в том, что семья доставляет тело покойного, обернутое льняной тканью, в центр «рекомпозиции», в середине которого стоит трехэтажная башня — гигантская версия садового компостера. Там тело кладут на подложку из деревянной стружки, способствующей разложению. Спустя шесть недель оно превращается примерно в кубический ярд компоста, который можно использовать для удобрения деревьев и кустарников. Разработчики пока не решили, как поступать с костями и зубами, поэтому «человеческому компосту» еще есть, куда развиваться.
Если подобные современные методы станут нормой, мало кто из нас оставит по себе физический след, как наши предки. Скелетные и прочие останки помогли археологам и антропологам заглянуть в жизнь людей из давно исчезнувших культур с близкого расстояния и на очень личном уровне, что, безусловно, является настоящей роскошью и обогащает наши представления о человеческой истории.
Исторические останки обычно представляют собой кости и предметы, с которыми усопший был захоронен, но, как уже говорилось, при определенных климатических условиях — сухая жара, температура ниже нуля, погружение в жидкость, — некоторые тела хранились практически нетронутыми в течение многих веков. Эци, ледяной человек, обнаруженный в 1991 году в горах на границе Австрии с Италией через 5000 лет после смерти, сохранился почти полностью, как и тело Джона Торрингтона, участника несчастливой экспедиции Франклина 1845 года, обнаруженное 129 лет спустя похороненным в промерзлой тундре на севере Канады вместе с еще двумя сослуживцами.
«Болотные люди» в частности человек из Гроболла, человек из Толлунда, человек из Линдоу, женщина из Стидшольта и мальчик из Кайхаузена, своей сохранностью обязаны торфу, в котором были похоронены. Погружение в слабокислый раствор с высоким содержанием магния обеспечило целостность 2000-летней китайской мумии династии Хан, известной как Леди Дай, которую обнаружили в 1971 году рабочие, копавшие бомбоубежище под госпиталем близ Чанша. Сохранились даже ее кровеносные сосуды, в которых ученые обнаружили небольшое количество крови группы А.
Хотя моя команда редко вторгается в сферу археологии, однажды я дала себя уговорить поучаствовать, вместе с еще тремя учеными, в телевизионном документальном сериале ВВС2 под названием История в деталях (History Cold Case), который снимался в 2010–2011 годах. По сценарию мы должны были исследовать человеческие останки и делать предположения о том, как жили эти люди, лишь изредка, по капле, получая дополнительные сведения от редакторов. Мы искренне не имели понятия о том, что нам предъявят в следующий раз, или что мы обнаружим. Поэтому съемки были весьма волнительными и, одновременно, захватывающими. Я неоднократно сожалела о своем решении принять в них участие: стоять перед камерой — точно не мое, у меня, что называется, «лицо для радио». Однако истории, с которыми мы столкнулись, лишний раз напомнили мне, насколько далеко могут дотянуться покойники из своих могил и насколько их биографии до сих пор трогают нас.
Популярность, неизбежная при регулярном появлении на телеэкранах, имеет и плюсы, и минусы. Очень неприятно, когда незнакомые люди запросто обращаются к тебе — неважно, с одобрением или с критикой. В большинстве случаев они хотят сказать, что им очень понравилась программа, но встречаются и такие, кто проходится по твоей внешности, комментирует какие-то твои высказывания или просто сообщает, что ты недостаточно умна.
Трое из четверых участников программы были женщинами — это тоже привлекало к нам повышенное внимание, и мы получали гораздо больше писем и е-мейлов, чем получают на таких передачах ведущие-мужчины. Нас называли «тремя ведьмами из Данди». Ксанте Мэллетт, судебному антропологу и криминологу, адресовалось большинство посланий личного характера, что никого не удивляло — она и правда потрясающая женщина. Кэролайн Уилкинсон, специалисту по реконструкции лиц, слали стихи о том, как она возвращает людям утраченную красоту, и воспевали ее мастерство. Что касается меня, то я получала в основном письма из тюрем с просьбами помочь вытащить их авторов на свободу, потому что «честное слово, это не я убил мою жену». Популярность передачи в определенных кругах привела к тому, что ее называли не История в деталях, а Лесбиянки в деталях, напрочь забывая о бедняге Вольфраме Мейер-Аугенстайне, нашем эксперте по изотопному анализу, хотя, думаю, профессор об этом нисколько не жалел.
С другой стороны, мы получали массу чудесных писем и е-мейлов от зрителей, которым нравилось открывать для себя что-то новое, и такой отклик со стороны публики напоминал нам, что люди искренне интересуются тем, что могут нам сообщить тела давно почтивших предков, и как современная наука, разработанная для применения в суде, помогает погружаться в жизнь прошлых поколений. На программе случалось немало грустных и трогательных моментов, когда мы восстанавливали биографии самых простых людей — не королей, епископов или генералов, а детей или девушек-работниц, — показывая, что и они тоже не забыты. Их истории просто были написаны языком, для расшифровки которого требовалась судебная антропология.
Один печальный случай касался дошедшего до нас анатомического образца — мальчика лет восьми. Его нигде не зарегистрированный мумифицированный труп был обнаружен в хранилище нашего факультета в Университете Данди. Мягкие ткани отсутствовали; сохранился только скелет и искусственно заполненная особым составом артериальная система. Мы ничего о нем не знали и не представляли, что с ним делать, поэтому решили, что исследование в рамках программы может вывести нас на что-нибудь интересное.
Стоило нам приступить, как стали выясняться печальные подробности. Ребенок не страдал от недоедания, и с медицинской точки зрения его смерть объяснениям не поддавалась. Датировка останков указывала на то, что он скончался до принятия Анатомического Акта 1832 года. Что если перед нами одна из жертв пресловутых похитителей детей, процветавших в те времена, когда анатомы платили за детские трупы по размерам — за каждый сантиметр? А может, его похитили из могилы гробокопатели, которых анатомы нанимали, чтобы удовлетворить потребность в трупах для обучения студентов и проведения новаторских исследований? Мы знали, что знаменитые анатомы Уильям Хантер и Джон Баркли оба выполняли перфузии сосудов как раз в тот период, и анализ химических веществ, извлеченных из останков, показал полное соответствие составам, которые применяли Хантер и его последователи. Режиссеры не упустили возможность указать на иронию ситуации — современные анатомы раскрывали возможное преступление, совершенное анатомами прошлого.
В конце программы мы должны были принять решение, о котором изначально никто не задумывался: что делать с телом ребенка дальше? Оставить ли его на факультете, передать в музей хирургии или похоронить? Мы единогласно сошлись на последнем. Я терпеть не могу, когда человеческие останки выставляют как экспонаты в витринах на потеху публики. Есть тонкая грань между просвещением и развлечением, и, в глубине души, мы всегда знаем, когда переступаем через нее. Принцип, которым тут следует руководствоваться, это представить, что речь идет о вашем ребенке. Чего бы вы для него хотели? К сожалению, получить разрешение на похороны оказалось не так легко; останки мальчика пока хранятся в музее хирургии, в запасниках, дожидаясь, когда все-таки решится их дальнейшая судьба.
Еще одна трагическая фигура — «девушка с Кроссбона», молодая женщина не старше двадцати, практически наверняка проститутка, которую обнаружили в общей могиле на кладбище Кроссбон в Саутворке, на юге Лондона. Она скончалась, страшно обезображенная третичным сифилисом, которым заразилась, вне всякого сомнения, из-за своей профессии. С учетом того, как далеко зашла болезнь, мы предположили, что она была инфицирована в возрасте десяти-двенадцати лет, что позволяет составить представление о страшном мире детской проституции в XIX веке. Когда мы реконструировали ее лицо, то были потрясены тем, насколько его изуродовала болезнь. Далее Кэролайн осуществила еще одну реконструкцию, показав, как девушка выглядела бы, останься она здоровой или получи вовремя инъекции пенициллина. Безусловно, на анонимные останки мы смотрим немного отстранение, но когда перед нами предстало лицо молодой женщины из крови и плоти, такое, каким оно было и каким могло быть, достанься ей лучшая участь, мы все осознали, что имеем дело с реальным человеком с собственными надеждами, мечтами, характером; с жизнью, которую можем реконструировать в таких подробностях, что, возможно, выяснится даже ее имя. Возможно — но не обязательно.
История, вызвавшая наибольший отклик, касалась скелетов женщины и трех младенцев, обнаруженных в Бальдоке, в графстве Хартфорд, и датированных римской эпохой. Женщина лежала в могиле вниз лицом, а первый новорожденный — у ее правого плеча. В ходе дальнейших раскопок был найден второй скелет младенца, у нее между ног. Третий находился внутри тазовой полости. То, что с ней произошло, до сих пор случается в странах с неразвитой медициной, неспособной справиться с диспропорцией в размерах таза матери и черепа плода. То же самое происходит, когда ребенок не переворачивается в матке и рождается вперед ягодицами. Вмешательство, способствующее родам в таких обстоятельствах, в наши дни проходит относительно легко и безболезненно, по крайней мере в развитых странах. Однако не в древнем Бальдоке.
Первого ребенка мать родила успешно, хотя мы и не можем быть уверены, родился ли он мертвым или появился на свет живым и скончался вскоре после того. Второй из тройняшек, с которым возникла проблема, застрял в родовом канале: либо из-за ягодичного предлежания (что вполне возможно с учетом положения скелета), либо из-за узости таза. Мать, скорее всего, умерла, пытаясь родить второго ребенка, и была похоронена вместе с первым. Когда она и второй младенец начали разлагаться, декомпрессия черепа плода и давление накопившихся газов вытолкнули его, наконец, из материнского чрева — феномен, известный как «посмертные роды». Третий ребенок так и остался в матке, где умер, так как проход ему перекрывал второй из тройняшек, застрявший в родовом канале. Какой печальный исход события, которое должно было стать счастливым, но закончилось вместо этого четырьмя смертями.
Не так давно моя команда из Университета Данди помогала в изучении удивительной археологической находки в графстве Роуз, где при раскопках в пещере Роузмарки, на Черном острове к северу от Инвернесса, был обнаружен человеческий скелет. Это место полно для меня воспоминаний из детства — в частности, именно там ушел в песок вместе со стулом мой дядя Вилли. Я люблю совпадения, и мне нравится, когда какие-то места или события всплывают в моей жизни повторно.
Мы согласились участвовать в исследовании останков, применив свой, следовательский, подход к анализу травм на скелете, чтобы понять, что произошло с этим парнем. Наша работа осуществлялась в рамках проекта «Пещеры Роузмарки», организованного Археологическим обществом Северной Шотландии и местными жителями, чтобы узнать, кто жил в пещерах, когда и при каких обстоятельствах.
Скелет лежал в песке в задней части так называемой «Пещеры Смельтера», к северу от горской деревушки. Радиоуглеродная датировка показала, что он относится к периоду пиктов, предшествовавшему приходу викингов, то есть к концу железного века. Он находился в «позе бабочки»: колени согнуты, лодыжки скрещены, колени разведены в стороны. Между коленями помещался большой камень. Руки лежали на бедрах, также прижатые камнями.
Еще один камень придавливал грудь. Теоретически камни могли положить на тело, чтобы покойник не выбрался из могилы, горя жаждой мести, или просто чтобы его не унесло приливом.
Судя по степени деформации черепа, смерть его точно была насильственной. Прочие части тела не пострадали, так что в остальном это был здоровый, крепкий мужчина лет тридцати.
Анализ травм — логический процесс дедукции, который требует глубоких знаний относительно того, как ведут себя кости, как меняется их поведение в случае переломов и последующих травм и как правильно определить последовательность таковых. В ходе этого анализа определяется, в каком порядке наносились повреждения. Изучая травмированные участки и взаимосвязь между ними, мы устанавливаем, как травмы причинялись и с помощью каких орудий.
Похоже, первый удар человек из Роузмарки получил в щеку справа, где зубы у него были выбиты копьем, мечом или какой-то палкой: орудие вошло неглубоко и не проникло до позвоночного столба, чтобы причинить более серьезные повреждения. Он совершенно точно был жив, когда это произошло, поскольку один из выбитых зубов находился в грудной полости — скорее всего, он вдохнул его после удара.
Дальше его ударили в челюсть слева, возможно, кулаком или дубинкой, на что указывали округлые контуры повреждений. Сломалась и челюсть, и оба сустава, которыми она крепится к черепу. Изнутри треснула также клиновидная кость в основании черепа. Сила второго удара была такова, что мужчина отлетел назад и при падении ударился головой о твердую поверхность — возможно, о камни на берегу, где он позже был похоронен. За этим последовали множественные переломы и трещины, разошедшиеся по черепу во все стороны от точки соприкосновения, располагавшейся в левой части затылка.
Он лежал на правом боку, когда нападавший, или нападавшие, склонились над ним и, чтобы добить, пронзили округлым орудием, по форме и размерам идентичным тому, которым были выбиты зубы, его голову возле виска. Выходное отверстие располагалось прямо с противоположной стороны, возле глазницы. Последним ударом ему проломили череп с такой жестокостью, что его оставшиеся части разлетелись на куски.
Меня пригласили в Кромарти, чтобы я выступила в местном историческом обществе с докладом о наших находках. Скелет был найден в последний день раскопок, и команда решила накрыть его тентом, чтобы порадовать членов общества удивительным сюрпризом. Будучи родом из Инвернесса, я пользуюсь определенной известностью в наших краях, поэтому мое грядущее выступление обросло самыми разнообразными слухами. Когда, в финале своей презентации, руководитель археологов показал слайд с фотографией человека из Роузмарки на месте обнаружения, аудитория замерла в изумлении. Далее вышла я и рассказала, кем был этот человек, что с ним произошло, и, наконец, продемонстрировала прекрасную реконструкцию его лица, созданную моим коллегой Крисом Райном. Публика была потрясена.
Позднее одна из присутствовавших дам сообщила мне, что из-за переживаний была вынуждена скорей отправиться домой и прилечь. Вместо ожидаемой сухой лекции об археологических находках она пережила весь спектр эмоций, слушая историю жестокого убийства местного жителя. Она даже заглянула в глаза жертвы, в его лицо, которое, не умри он 1400 лет назад, вполне сгодилось бы для Роузмарки и в наши дни. Меня очень радует, что люди всегда проникаются сочувствием к историям других людей, пусть даже те жили столетия назад, и что они начинают воспринимать своих предтеч как местных жителей, раз те занимали этот же клочок земли на нашей планете. Люди из Роузмарки и окрестностей даже начали нам посылать фотографии своих сыновей и внуков, указывая на явное сходство с нашим пиктом и предполагая, что могут быть с ним в родстве.
Подобные археологические находки приносят удовлетворение в том смысле, что позволяют блеснуть при их демонстрации, но с точки зрения судебного антрополога они в то же время и разочаровывают, потому что, как бы мы ни были уверены в своих выводах, нет никого, кто может подтвердить, правы мы или нет, или указать, где мы ошибаемся. Как я впервые обнаружила еще студенткой, работая над проектом по культуре колоколовидных кубков, отсутствие достоверных свидетельств может очень сильно досаждать исследователю. Для меня, чем ближе по времени к нашей эпохе любые археологические материалы, тем больше шансов на успех, поскольку повышается вероятность найти документальные свидетельства, которые помогут более достоверно восстановить обстоятельства, которые мы изучаем, и реконструировать их на более надежных основаниях.
Вероятно, именно поэтому я так заинтересовалась маленьким ирландцем, жившим в XIX веке, с которым впервые познакомилась в 1991 году, когда проводила экскавацию в крипте церкви Святого Варнавы в западном Кенсингтоне в Лондоне. Сводчатый потолок церкви начал трескаться и грозил обвалиться, так что требовалось срочно что-то предпринять. Нас пригласили потому, что крипта использовалась для погребений, и тела следовало извлечь на поверхность, прежде чем строители возьмутся за укрепление стен. Мы получили разрешение архиепископа провести экскавацию: вскрыть гробы, кремировать тела, а пепел вернуть на освященную землю.
Наши покойники были похоронены в тройных гробах, которые в начале XIX века были популярны у богачей. Из-за своей многослойности они напоминали русские матрешки. Снаружи находился деревянный гроб, иногда обитый тканью, с декоративными ручками и прочими украшениями, а также с табличкой, на которой указывались имя и дата смерти его хозяина. Внутри помещался свинцовый саркофаг, запечатанный герметично, также с табличкой, указывающей на личность покойного. Свинцовые гробы были необходимы, чтобы жидкости при разложении не вытекали наружу, а впитывались в слой отрубей, покрывавший дно. Они также гарантировали, что запахи останутся внутри и не будут просачиваться наружу, в церковь, где могли бы оскорбить тонкое обоняние прихожан во время воскресной мессы.
Третий, последний гроб был более функциональным, обычно из дешевой древесины, например, вяза, и служил просто изнанкой свинцового. В нем покойный лежал на подушке, набитой конским волосом, с хлопковыми оборками — узор из дырочек на них имитировал дорогие английские кружева, — одетый в свой самый лучший костюм.
К моменту, когда мы взялись выкапывать останки, внешние гробы практически полностью разложились — сохранилось лишь немного древесины и декоративные элементы. С долговечными прочно запечатанными свинцовыми гробами дело обстояло по-другому. Нам пришлось вскрывать эти страшно тяжелые контейнеры, напоминающие гигантские жестяные консервные банки, чтобы добраться до внутренних деревянных гробов и извлечь то, что осталось от покойных. Мы получили разрешение на изучение и фотографирование останков, с целью определить, кто там похоронен. Задачей наших исследований было решить, можно ли извлечь ДНК из тел, похороненных в XIX веке. Сохраняется ли генетический код в свинцовом гробу?
Ответ, к сожалению, оказался отрицательным. При разложении тела образуется слабокислая жидкость. Поскольку вытекать ей было некуда, она вступила в реакцию с древесиной внутреннего гроба, образовав гуминовую кислоту, которая разрывает связь между базовыми парами (строительными элементами двойной спирали ДНК) и их костяком. Вся генетическая информация растворилась, превратившись в густую черную массу на дне гробов, напоминавшую шоколадный мусс (анатомы широко используют аналогии с пищей, описывая субстанции, с которыми им приходится иметь дело — прием, не всегда уместный, но очень эффективный).
С учетом количества захоронений и близости церкви к Кенсингтонским казармам, не было ничего удивительного в том, что многие покойные имели отношение к армии. Благодаря разным войнам, шедшим тогда в Европе, записи соответствующего периода исключительно информативны. Мы пригласили персонал из Национального музея армии в Челси, чтобы получить рекомендации по дальнейшей работе и указания на личности покойных, которые могли иметь историческое значение.
Одно захоронение их особенно заинтересовало, причем не столько из-за самой покойной, Эверильды Чесни, а из-за ее мужа, генерала Фрэнсиса Роудона Чесни из королевской артиллерии, который прославился не только военными подвигами, но и эпохальным плаванием по Евфрату на пароходе — путешествие, целью которого было доказать существование нового, более короткого пути в Индию, нежели долгие опасные плавания вокруг мыса Доброй Надежды. Мы оставили гроб Эверильды напоследок, на тот случай, если не будем укладываться в сроки, в надежде на то, что интерес к ней при необходимости даст нам дополнительное время. У нас было всего десять рабочих дней на то, чтобы открыть, зарегистрировать и перевезти содержимое шестидесяти свинцовых гробов.
Как ни печально, Эверильда скончалась и была похоронена в крипте вскоре после женитьбы. Когда мы открыли гроб, то обнаружили, что скелет ее уже фрагментировался. Остались нетронутыми лишь кости рук в тонких шелковых перчатках. Одна кисть была заметно крупнее другой, отчего мы заподозрили, что она страдала какой-то формой паралича. Сама по себе Эверильда для историков интереса не представляла — в отличие от прочего содержимого гроба. Ее эксцентричный супруг похоронил новобрачную вместе со своей полной парадной формой, в которой был на их свадьбе 30 апреля 1839 года. Он положил ей на ноги форменные брюки, на грудь — китель, рядом с головой — фуражку и сапоги возле ног. Форму мы передали в заботливые руки кураторов Национального музея армии, а Эверильду кремировали вместе с другими обитателями крипты. Их прах вернулся для захоронения в той же земле. С течением времени меня стал все больше интриговать загадочный муж Эверильды, коротышка ростом всего 1 м 62 см, которому при поступлении в академию пришлось вставить в сапоги пробковые вкладыши, чтобы удовлетворять армейским требованиям. Я читала книги, где он упоминался, и начала расследование обстоятельств его жизни. Однажды я наткнулась на сайт, названный его фамилией. Сделав глубокий вдох, я опубликовала там пост с вопросом о том, не знает ли кто-нибудь, где хранятся дневники, которые, как я выяснила, он вел. В ответ я получила чудесный е-мейл от Дейва, прямого потомка генерала Чесни, который живет в окрестностях Чикаго. С этого началась наша дружба по интернету, продолжающаяся вот уже пятнадцать лет. Стоило мне узнать новые детали о его семье, я спешила их сообщить его старому отцу, который всегда с нетерпением ждал новостей. «Нет ли чего-нибудь от той дамы из Шотландии? — спрашивал он Дейва. — Что еще она разузнала?»
Таким образом, благодаря мужчине, скончавшемуся больше ста лет назад, возникла удивительная дружба двух людей, никогда не встречавшихся лично, а третий человек на закате дней снова обрел интерес к жизни, что можно считать настоящим чудом. Вне всякого сомнения, среди нас встречаются личности такого масштаба, что даже из могилы могут влиять на жизни людей. Скелеты — это не просто пыльные иссушенные реликты; это человеческие истории, которые иногда сохраняют достаточно влияния, чтобы воспламенять воображение ныне живущих.
В Ираке, после второй войны в заливе, по-прежнему находясь под впечатлением от истории генерала Чесни, я как-то сидела на берегу Евфрата (при этом меня охранял, ни больше ни меньше, целый батальон королевской артиллерии — еще одно совпадение из тех, что мне так нравятся). Внезапно, сама того не ожидая, я обратилась к старшему офицеру: «А в королевской артиллерии есть благотворительный фонд?» Я понятия не имела, откуда возник этот вопрос, и сама страшно удивилась, когда он вдруг сорвался с моих уст. Очаровательный молодой человек ответил, что фонд, безусловно, имеется. Далее он начал с энтузиазмом рассказывать об отличной работе, которой занимается благотворительный фонд, а тем временем отчетливый голос в моей голове велел мне продолжать свои исследования и, возможно, даже написать книгу о роли этого человека в истории. Может быть, однажды я так и сделаю, а гонорар передам в благотворительный фонд королевской артиллерии. Уверена, Фрэнсис меня бы одобрил.
Должна признать, что я немного увлеклась моим коротышкой-ирландцем, и то, что началось как простой интерес, превратилось в легкую манию: однажды я заставила всю семью поехать на каникулы в Ирландию, чтобы побывать у него на могиле, и в бинокль, с дальнего расстояния, посмотреть на дом, который он построил собственными руками. К счастью, у меня очень понимающий муж, который смирился с тем, что в нашем браке нас трое.
Глава 7 Не забытые
«De mortius nil nisi bene dicendum»
О мертвых — или хорошо, или никак
Силон из Спарты, древнегреческий мудрец (V до н. э.)Расположение карьера Далмагэрри, трассы А9 и сгоревшей машины Рене Макрей.
Насколько не были бы увлекательны археологические раскопки, мое сердце принадлежит нынешнему времени — я предпочитаю решать современные загадки, помогая устанавливать личность покойного и находить улики против тех, кто виновен в смерти другого человека или причинении ему тяжелого ущерба. Мне важно отыскивать ответы, которые помогут скорбящим родственникам, а прокурору дадут основания привлечь виновника к суду, либо снимут несправедливые обвинения.
В студенчестве, погрузившись в мир давно усопших и осознав, что он мне не слишком интересен, я двинулась дальше, стремясь к большей связи с реальностью и к открытиям, которые будут меня ждать с каждым следующим шагом.
Я никогда не хотела работать с живыми. Хоть я и признаю важность такой работы и глубину удовлетворения, которое получаешь, исцеляя больных, в глубине души мне всегда казалось, что с живыми пациентами куда больше проблем, чем с трупами. Будучи наполовину одержимой порядком, а наполовину — трусихой, я решила, что односторонние отношения подойдут мне больше — иными словами, предпочла работу, где вопросы буду задавать только я.
Выбери я медицину, то наверняка при первой же ошибке, негативно сказавшейся на чьем-то здоровье или ускорившей чью-то кончину, я тут же подняла бы белый флаг. Я лишилась бы всякой уверенности в своей способности принимать решения и сочла бы свое вмешательство опасным для пациентов. Кто-то скажет, что именно так и следует рассуждать врачу, но я просто не смогла бы работать дальше, если бы сочла, что могу причинить кому-то вред. Поэтому, думается, правильный путь был мною выбран еще в школьные годы. Работать только с покойными: сначала в мясной лавке, потом в морге.
Судебные антропологи, конечно, тоже порой совершают ошибки. Только в наивных телешоу CSI яйцеголовые ученые в конце неизбежно торжествуют. На самом деле в нашей памяти куда более отчетливо запечатлеваются воспоминания о случаях, которые поставили под вопрос нашу репутацию или так и остались нерешенными — случаях, когда мы чувствуем, что могли бы сделать больше. Это, в частности, дела, в которых, сколько бы усилий мы ни приложили, личность безымянного трупа так и не удается установить, либо те, где не удается обнаружить тело пропавшего, который практически наверняка мертв. Если круг не замыкается, остается ощущение незавершенности. Такие дела словно укусы на коже — сколько не чеши, продолжают зудеть, пока отгадка не будет найдена.
Я не представляю, что может быть страшней, чем не знать, где находится любимый человек или что с ним произошло. Он жив и здоров? Или случилось нечто ужасное? Может, он умер и лежит где-то на пустоши, вдали от человеческих глаз, или его специально закопали в какую-то безымянную яму в земле? Эти мысли терзают всех родителей, братьев, сестер, детей, родственников и друзей пропавших.
Скорбь — наш ответ на любую потерю, не только на официально подтвержденную и засвидетельствованную смерть, и для тех, кто не знает, жив их близкий или умер, ее груз особенно тяжел. С ней они засыпают вечерами и просыпаются по утрам, а порой не расстаются даже во сне. С течением времени некоторым из них кажется, что ее острота слабеет, но тут, без предупреждения, чье-то имя, дата, фотография или музыка снова бросают их в черный водоворот, заставляя перебирать все кошмарные варианты. Для человека характерен такой двоичный процесс, с колебаниями от «ориентации на утрату» к «ориентации на восстановление». Супруги, у которых пропал ребенок, как-то сказали мне, что живут в каком-то «заикающемся» мире. Ты проигрываешь в голове одни и те же жуткие сценарии, которые идут по бесконечному кругу, и никак не можешь вырваться из него.
Сложно представить и острое, неизбывное чувство утраты, с которым сталкиваются родные тех, чьи тела так и не были обнаружены. Даже зная наверняка, что человек мертв, они все равно не могут до конца принять этот факт. Семьи людей, сгоревших в пожаре, жертв авиакатастроф или природных катаклизмов могут продолжать надеяться, что тело еще будет найдено, и это только усиливает их горе.
Вот почему судебные антропологи обследуют каждый фрагмент человеческих останков, каким бы крошечным он ни был, пытаясь любыми средствами его идентифицировать.
Случай с жертвой пожара в Шотландии иллюстрирует, как наше вмешательство превращает безымянные останки в тело конкретного человека, которое можно похоронить и дать ему покоиться с миром. Одинокий домик был полностью уничтожен пожаром, который бушевал примерно час до того, как кто-то из фермеров заметил вдалеке пламя и вызвал пожарную бригаду. К моменту, когда пожарные добрались туда со станции, находившейся в двадцати милях, по узким извилистым проселочным дорогам, дом лежал в руинах. Крыша обвалилась, и черепица вперемешку с обугленным содержимым чердака накрыла все слоем мусора в три фута глубиной.
Пожилая дама, жившая в домике, любила пропустить стаканчик-другой и много курила. Нам сообщили, что зимой, чтобы не мерзнуть, она обычно спала на раскладном диване в гостиной, которая обогревалась угольным камином, горевшим день и ночь. Мы собрали планерку и решили, что останки следует искать возле каркаса дивана. Когда пожарные подтвердили, что мы можем безопасно войти внутрь, и передали нам план примерной расстановки мебели в комнате, мы придумали, как наиболее безопасно подобраться к дивану, не потревожив остальные улики. Надев белые костюмы, превратившие нас в телепузиков, черные резиновые сапоги, щитки на колени и двойные нитрильные перчатки, мы на четвереньках поползли вдоль стены к центру комнаты, расчищая себе путь щетками и лопатками, и выискивая сероватые обломки — именно так выглядят после пожара человеческие кости.
Работа продвигалась медленно: внутреннее пространство дома было все еще сильно задымлено и затоплено водой, оставшейся после тушения пожара; мусор местами продолжал дымиться и был горячим на ощупь. Лишь через два часа мы добрались до каркаса дивана у восточной стены и осторожно стряхнули обломки, упавшие на него, но внутри каркаса человеческих останков не обнаружили. Мы обратили внимание, что диван не был разложен, а это означало, что женщина, жившая в доме, не спала там в момент начала пожара.
Через три часа мы устроили еще одно совещание, чтобы решить, где искать дальше. Обломки дивана удалили; теперь надо было выбирать, двигаться ли вдоль восточной стены, или вдоль западной. Еще раз окинув комнату взглядом, я заметила крошечный серый осколок, длиной не больше 3 см и шириной около 2. Мы сфотографировали его и подняли пинцетом — это оказалась часть человеческой челюсти, без зубов, которая кальцинировалась или обгорела до такой степени, что едва не рассыпалась в пепел.
Мы предположили, что останки должны находиться где-то между диваном и камином, и действительно обнаружили там очень хрупкие и сильно фрагментированные кости левой ноги, несколько позвонков, оплавленных чем-то вроде нейлона, вероятно, из одежды хозяйки, и левую ключицу.
Итак, останки женщины, жившей в доме, предположительно нашлись. Но как подтвердить, что они именно ее? Извлечь ДНК из скелета, выгоревшего в пепел, не представлялось возможным. Она носила вставные зубы, которые, скорее всего, расплавились в огне. Оставалась только ключица. На ней имелись отчетливые признаки давнишнего перелома. Кость, которая была сломана, а затем срослась, никогда не будет такой же, как та, которая не ломалась. Когда кость срастается, на ней появляется что-то вроде мозоли; костная ткань не восстанавливается до такого состояния, чтобы по ней нельзя было установить факт предыдущего повреждения.
В медицинской карте хозяйки было записано, что десять лет назад она упала и сломала левую ключицу. Для прокурора этого оказалось достаточно, чтобы подтвердить личность покойной и разрешить выдать останки семье для погребения. Они могли уместиться в обувную коробку, но это было хотя бы что-то.
Для офицеров пожарной службы, расследующих обстоятельства пожаров, тот случай стал предупреждающим сигналом: лучше иметь на месте судебных антропологов. Они признали, что никогда не сочли бы те крошечные серые осколки за человеческие кости, собственно, они их вообще, скорее всего, не заметили бы, и просто расчистили бы мусор, оставшийся после обрушения крыши. С тех пор судебные антропологи в Шотландии регулярно участвуют в выяснении обстоятельств пожаров при наличии человеческих жертв, вместе с полицией и пожарной бригадой. Между нами сложились отличные рабочие отношения, и уже не раз подтверждалось, что с поисками фрагментов человеческих останков лучше все-таки справляются ученые.
Две наиболее проблемных категории пропавших людей для нас — это те, кто пропал бесследно, поскольку мы не знаем, с чего начинать поиски, и тела, личность которых не удается установить.
Все читали в газетах о каком-нибудь парне или девушке, возвращавшихся домой с вечеринки поздно ночью в субботу. В подобных случаях расследования проводит Бюро по розыску пропавших, которое знает, каковы наиболее вероятные варианты, и соответственно начинает проверку с них. Например, если часть пути, по которому пропавший должен был добираться до дома, проходит у воды — вдоль реки или канала, или по берегу озера, — эти места проверят в первую очередь. В Великобритании в год тонут примерно 600 человек. Чаще всего (в 45 %) это происходит случайно, в 30 % случаев это самоубийство, и менее 2 % приходится на преступления. Неудивительно, что чаще всего люди тонут по субботам, в день пиковой развлекательной активности, связанной с неумеренным потреблением наркотиков и алкоголя. Около 30 % утоплений происходят возле берега или прямо на нем, примерно 27 % — в реках, а в море, бухтах и каналах — всего по 8 %. Из всех зарегистрированных суицидов, связанных с водой, более 85 % происходят на каналах и реках. Эта статистика объясняет, почему водные массивы являются одним из первых мест розыска пропавших.
Поиски пропавших детей также дают очень важные статистические сведения полицейским и их экспертам-советникам. Большинство детей, предположительно похищенных (более 80 %), быстро отыскивают и возвращают родителям — как правило, они просто отвлекаются, забредают куда-то и понимают, что потерялись. Похищения с убийствами, конечно, привлекают больше внимания прессы, но случаются, по счастью, достаточно редко.
Жертвами чаще становятся девочки, чем мальчики; крайне редко похищают детей в возрасте до пяти лет. Конечно, это мало чем может утешить семью, оказавшуюся в такой печальной ситуации, однако данная статистика очень помогает полиции осуществлять поиски.
Если ребенок вскоре не нашелся, это, как правило, означает, что он стал жертвой преступления, хотя многие семьи продолжают цепляться за байки об украденных детях, возвращенных семье много лет спустя, целыми и невредимыми. Подобные случаи, хоть и редкие, все-таки бывают, что наглядно иллюстрирует история Камийи Мобли. Похищенная из госпиталя в Джексонвилле, штат Флорида, в 1998 году, когда ей было всего несколько часов, женщиной, у которой случился выкидыш, Камийя была обнаружена живой и здоровой восемнадцать лет спустя, в 300 милях оттуда, в Южной Каролине, где провела вполне счастливое детство, понятия не имея о своей настоящей семье. Однако такой исход ждет лишь немногих и тоже достается тяжелой ценой — достаточно представить, какой вред наносит ребенку подобное крушение всех представлений о своей идентичности и своих корнях. Остальные, похищенные с более жестокими намерениями, чаще всего становятся жертвами изнасилований — самый страшный кошмар любого родителя.
Несмотря на осознание того, что истории наподобие случившейся с Камийей, — редкое исключение, многие семьи десятилетиями держатся за последнюю надежду, тем самым, наверное, помогая себе справляться с болью. В отсутствие трупа и свидетельств, подтверждающих, что ребенок мертв, они считают, что отказ от надежды станет колоссальным предательством с их стороны.
Подобные дела официально остаются открытыми до возникновения новых обстоятельств, пока сохраняется их актуальность: если живы родственники или существует вероятность, что преступника еще удастся отправить за решетку. Как недавно напомнил мне полицейский суперинтендант, «закрытых „висяков“ не бывает». Когда тело находится, и его удается идентифицировать, для родных это становится тяжким ударом, разбивающим надежды, которые они лелеяли так долго, и заставляющим признать факт утраты. Еще тяжелей им приходится, когда в ходе расследования удается выяснить обстоятельства, сопутствовавшие последним дням и моменту смерти их любимого человека. Но я предпочитаю думать, что, в долгосрочной перспективе, правда играет положительную роль, устраняя незавершенность и сомнения и позволяя начать потихоньку восстанавливаться.
Я часто думаю о семьях, в которых пропали дети, и гадаю, как чувствовала бы себя на месте родителей. При написании этой книги я постаралась, насколько было возможно, сохранить анонимность людей, чьи личные трагедии здесь описала, но одно исключение я все-таки сделаю: для двух пропавших детей и одной матери, которых так и не нашли, — в надежде, что, возможно, напоминание об этих случаях поможет отыскать их и вернуть тем, кто до сих пор по ним тоскует. Их семьи смирились с тем фактом, что пропавшие уже умерли, и теперь хотят только узнать, где находятся их останки, чтобы «возвратить их домой». Кто знает, вдруг упоминание о них пробудит чью-то память, и если есть хоть крошечный шанс, что рассказ о тех давних исчезновениях поможет семьям найти ответы, в которых они так отчаянно нуждаются, то, я считаю, оно того стоит. Моя бабушка, законченная фаталистка, учила меня, что мы никогда не знаем, какая цепочка совпадений может привести к нужному результату.
Первый случай относится к годам, когда я училась в школе, и я прекрасно помню все, что с ним было связано, потому что он произошел практически у меня на пороге. Я никогда не думала, что, спустя тридцать лет, буду участвовать в расследовании одного из самых долгих дел, связанных с исчезновением человека. Рене Макрей, тридцати шести лет, и ее трехлетнего сына Эндрю в последний раз видели живыми в пятницу, 12 ноября 1976 года. Полиции изначально сообщили, что она отвезла старшего сына к мужу, с которым они жили раздельно, и поехала в Килманрок навестить сестру, но позже выяснилось, что она, скорее всего, встречалась с мужчиной по имени Уильям Макдауэлл: у них вот уже четыре года продолжался роман, и Уильям, очевидно, был отцом Эндрю.
Той ночью, в двадцати милях к югу от Инвернесса, машинист поезда заметил горящую машину на съезде с трассы А9. Это была синяя BMW Рене. К моменту приезда пожарной бригады машина полностью сгорела; ни Рене, ни ее сына поблизости не оказалось. Не было их следов и внутри, за исключением пятна крови той же группы, что и у Рене — это выяснилось при дальнейших следственных мероприятиях. По округе ходили всякие дикие слухи, включая версию с посадкой в аэропорту Далькросс самолета без опознавательных знаков, который увез Рене на Ближний Восток, где она теперь купалась в роскоши, похищенная арабским шейхом.
Конечно, никаких оснований у этих россказней не было. С незапамятных времен именно так люди реагировали на необъяснимые трагические события, сочиняя небылицы, которые затем становились частью местного фольклора. Их повторяли и просто так, без корыстных намерений, и с целью прославиться за чужой счет. В любом случае, эти слухи ничем не помогали и зачастую заставляли полицейских терять драгоценное время.
Помню, как полиция постучалась к нам в двери ранним воскресным утром, чтобы переговорить с моим отцом. В поисках Рене и Эндрю было задействовано больше сотни полицейских, к которым присоединились также местные волонтеры и военные в запасе. Они обыскали все дома в округе, все заброшенные сараи, все хижины. Наш дом осмотрели тоже, наряду с остальным жильем, прилегавшим к трассе А9. Тем или иным образом, каждая семья в Инвернессе оказалась затронута расследованием, касавшимся исчезновения Рене и ребенка. Полицейские трудились не покладая рук. Они прочесывали пустоши Каллодена и любые постройки, стоявшие на них. Королевская авиация прислала самолеты, оборудованные инфракрасными радарами, чтобы обследовать болота и затопленные карьеры. Весь округ буквально перевернули вверх дном.
Детектив-сержант, который вел это дело, начал раскопки в карьере Далмагэрри, к северу от Томатина, всего в нескольких сотнях ярдов от того места, где была обнаружена машина Рене, и сообщил, что там ощущается запах разложения. Однако, по каким-то причинам, дальнейшие работы были приостановлены, и вскоре, за неимением убедительных версий, полицейские начали сворачивать расследование. Подобные серьезные происшествия всегда оставляют за собой след, который долго не заживает. Город, не говоря уже о семье и друзьях пропавших, не может спокойно жить дальше, пока они не найдутся. Если пропадает ребенок, острота потери не утрачивается даже по прошествии десятилетий. Если Эндрю сейчас жив, ему должно быть около сорока (а Рене за семьдесят). Каждый раз, когда приближается круглая дата с момента их исчезновения, местная пресса снова вспоминает о той истории.
Как бы это ни было жестоко, такие статьи не дают делу об исчезновениях стереться из людской памяти.
В 2004 году при строительстве нового съезда с трассы А9, для которой потребовались песок и гравий из карьера Далмагэрри, у полиции появилась возможность заново обследовать карьер и прилегающие территории, чтобы, наконец, завершить расследование и дать ответы на нерешенные вопросы.
Карьер Далмагэрри занимает пустой участок земли площадью около 900 квадратных метров между трассой А9 на юго-востоке и крутым склоном, ведущим к Фунтак-Берн и шоссе на Ратвен, на севере. Об этом месте с 1976 года набралось уже немало устных свидетельств: кто-то говорил, что видел, как в тот вечер, в темноте, по дороге шел человек, кативший перед собой коляску (Эндрю так и не нашли); кто-то утверждал, что вниз по холму к карьеру тащили мертвую овцу (Рене была в тот вечер в пушистой шубе). Человек, с которым Рене состояла в связи, Билл Макдауэлл, работал на компанию, которая в то время как раз занималась разработкой карьера. Когда все эти фрагменты информации сложились вместе и к ним добавился отчет от детектива-сержанта, отметившего запах разложения при раскопках в 1976 году, полиция решила, что их достаточно, чтобы предпринять новое, подробное обследование местности в рамках розыскных мероприятий по старому «висяку».
Меня пригласили, вместе с нашим ведущим судебным археологом, профессором Джоном Хантером, возглавить экскавацию, проводившуюся в целях поиска останков Рене и Эндрю Макреев. Съемки с воздуха, произведенные в 1976 году, позволили нам составить точное представление о топологии карьера на тот момент и выкопать землю так, чтобы полностью ее реконструировать. Когда это было сделано, мы начали обследовать участки возможного захоронения. Мы работали в тесном сотрудничестве с владельцами карьера: они предоставили рабочих и водителей, которые стали полноправными участниками нашей поисковой команды.
Карьер Далмагэрри — место глухое, к которому ведет только один огороженный проселок, отходящий от А9, где полиция выставила надежную охрану. Пресса немедленно всполошилась, а за ней и местные доброхоты, стремившиеся любым способом донести до нас свою версию событий. Некоторые, свято веря в то, что полиция скрывает ценные ведения — чего она, совершенно точно, не делала, — пытались давить на нас в попытке выяснить, что все-таки происходит. К счастью, дело было еще до появления дронов. Мы устроили пресс-конференцию, чтобы разъяснить людям, чего хотим добиться, и скрестили пальцы, чтобы общественность этим удовольствовалась и позволила нам работать спокойно. Забегая вперед, скажу, что раскопки настолько затянулись, что успели всем наскучить, и о нас благополучно забыли.
Начало работ повлекло за собой поток «почты из дурдома», как выражается Вив — писем от поклонников теории заговора и просто местных жителей, стремившихся внести свой вклад в расследование, которые свято верили, что именно их теории и фантазии наведут нас на нужный след и помогут раскрыть тайну. Я получала письма с указаниями копать в каком-нибудь конкретном месте: один из моих корреспондентов не поленился даже нарисовать гигантский желтый крест на дорожном полотне трассы А9, указывая, где якобы находятся останки. Мне сообщали, что в округе действует целая банда похитителей людей и педофилов, возглавляемая полицией — именно поэтому тела и не были обнаружены. Многие называли имена тех, кого всегда подозревали, и требовали немедленно начать раскопки у них на заднем дворе. Ну и, само собой, мне писали ясновидящие. Все, что я могу сказать — это что духи явно потешались над ними, поскольку ответ у каждого был свой. Я понимала, что большинство этих людей просто хотели помочь, но на практике их письма лишь отнимали у нас время, не давая никаких реальных зацепок.
За тридцать лет, прошедших с исчезновения Рене и Эндрю, карьер успели засыпать, выровнять и засадить деревьями. По нашим прикидкам, восстановление его до состояния 1970-х годов должно было занять не меньше месяца, и только потом мы могли начать размечать потенциально интересующие нас участки. Если бы их удалось обнаружить, нам потребовалось бы дополнительное время.
Первым делом предстояло спилить более 2000 деревьев, чтобы обнажить поверхностный слой почвы и разметить топографию карьера в том виде, какой он имел тридцать лет назад. Скорость, с которой деревья спилили, очистили от коры и увезли с площадки благодаря современному оборудованию, оказалась просто невероятной. Работа, на которую в прошлом ушло бы несколько недель, была выполнена за считанные дни. Некоторые деревья намеренно оставили по границам карьера, чтобы за ними можно было спрятаться от назойливых журналистов и любопытных местных жителей, рисковавших свернуть шею, свалившись вниз с трассы А9. Я была уверена, что, если Рене и Эндрю там, мы непременно их найдем, хотя, заявив об этом прессе, немедленно пожалела о своих словах. Я не собиралась будить в людях напрасные надежды. Если же нас ожидал провал, то, по крайней мере, мы бы убедились, что в карьере никаких улик нет.
Не исключалась возможность того, что карьер использовали как первичное место захоронения. Останки могли закопать там, а позднее извлечь и перевезти в другое, а потом и в третье место. Эта теория подтверждалась всеми имевшимися у следствия данными, за исключением замеченного запаха разложения. Места первичного захоронения обычно выбираются из-за их удобства и близости к месту преступления (в данном случае, вероятно, к сгоревшей машине). Они также обычно хорошо известны преступнику. Поскольку большинство убийств происходит незапланированно, убийцу сначала охватывает паника, и он пытается как можно скорей избавиться от тела и сопутствующих улик. Дальше, немного поразмыслив, он возвращается и перевозит останки в более безопасное место, подальше от места преступления. Поскольку в этот раз он успевает все обдумать, обнаружить место вторичного захоронения для следствия куда сложней, не говоря уже о третичном.
В следующие четыре недели мы перелопачивали 20 000 земли из карьера, координируя работу копателей и судебных археологов и антропологов, в поисках костей, обрывков одежды, деталей коляски и тому подобного — ведро за ведром. Археологи руководили копателями и осматривали поверхность земли после каждого взмаха лопаты, а антропологи тщательно просеивали каждую горсточку почвы. Мы работали в сушь, в дождь, в жару и холод, под градом и пронизывающим ветром — иногда все в один день.
Чего мы добились? Мы знали, что восстановили топологию карьера в точности в том виде, в каком он находился в 1976 году и ранее. Мы обнаружили предметы, это подтверждающие, в том числе пакетик от чипсов с солью и уксусом, на которых Джимми Сэвилл рекламировал соревнования в честь юбилея королевы. Мы знали, что если бы останки действительно находились там, мы бы их непременно нашли, поскольку при таком тщательном обследовании не пропускали даже косточки птиц и грызунов. Мы обнаружили потенциальный источник неприятного запаха: в карьер свозили содержимое из общественных туалетов, которое закопали, когда началось строительство трассы А9 в 1970-х.
Но мы не нашли Рене Макрей, не нашли Эндрю и не обнаружили никаких улик, относящихся к одному из них или к их исчезновению. Это стало тяжелым разочарованием для команды, которая, начиная такую масштабную операцию, возлагала на нее огромные надежды, но мы сделали все, что могли, и были уверены, что, где бы они сейчас не находились, в карьере Далмагэрри их точно нет.
Стоимость работ оценивалась приблизительно в 110 000 фунтов, что было бы совсем небольшой ценой, наткнись мы на останки Рене и Эндрю. Главный констебль приложил немало усилий, чтобы добиться разрешения на вскрытие карьера спустя тридцать лет после их исчезновения, но он стал бы настоящим героем, если бы там нашлись их тела. Лично я считаю, что это было мужественное и смелое решение, которое лишний раз продемонстрировало стремление полиции к раскрытию подобных дел, вне зависимости от срока давности.
По возвращении в свой офис, когда настало время подумать о проделанной работе и о том, можно ли было сделать что-то еще, я внезапно получила глубоко тронувшее меня письмо — его написала сестра Рене, чтобы поблагодарить нас за наши усилия. Она не стремилась к отмщению, а просто хотела вернуть сестру назад, похоронить ее и знать, что теперь Рене дома и, наконец, в безопасности — общее желание всех семей, которым выпала судьба всю жизнь вздрагивать при стуке в дверь, который может теоретически сулить им радостные вести, но, скорее всего, разобьет последнюю надежду.
Когда такие поиски увенчиваются успехом, это, безусловно, счастье для всех нас. Когда мы не находим то, что искали, то просто сходимся на том, что искали не в том месте. В этом смысле сестра Рене выразилась куда более красноречиво, чем я в своих интервью, сказав, что «Время не залечивает раны, и я не верю, что время может заставить людей настолько забыть о преступлении, что виновник решит, будто ему ничего не угрожает. Когда я читаю о старом преступлении, которое внезапно раскрыли, это внушает мне надежду. Может быть, когда-нибудь…»
Время, терпение и совесть — вот что подпитывает надежды у родственников пропавших. Полиция Шотландии не закрыла дело Рене и Эндрю Макреев, равно как и их семья. Кто-то где-то знает, что с ними произошло и где лежат их тела. Возможно, эти люди хранили молчание о чем-то, что знают или слышали, просто не решаясь заговорить. Однако время идет, ситуация меняется, родственники и знакомые умирают, и если такой человек — или люди, — вдруг ощутит укол совести, пусть даже на смертном одре, то должен поступить достойно и положить конец страданиям целой семьи.
Второй случай, о котором я хочу рассказать, касается одиннадцатилетней Мойры Андерсон, которая вышла из дома бабушки в Котбридже холодным зимним днем 1957 года, чтобы купить масла и поздравительную открытку для матери, и пропала. В разрез со стандартной процедурой, в 2014 году королевский адвокат, Фрэнк Малхолланд, назвал ее убийцей педофила Александра Гартшора, скончавшегося в 2006-м, спустя сорок девять лет после исчезновения девочки. Водитель автобуса Гартшор был последним, кто видел Мойру живой, что, безусловно, не означает автоматического признания его виновным. Технически он невиновен до тех пор, пока суд не вынесет ему приговор, но, поскольку Гартшора уже нет в живых, суд никогда не состоится.
Я помню, как в 2002 году сидела вместе с бывшим следователем, вышедшим на пенсию, и смотрела по телевизору новости о ходе расследования по делу об исчезновении двух школьниц, Холли Уэллс и Джессики Чэпмен в Сохеме, в графстве Кембридж. Сторож их школы, Иэн Хантли, утверждавший, что говорил с ними, когда они проходили мимо его дома, давал интервью новостной бригаде. Бывший детектив тогда заметил: «Всегда надо как следует присмотреться к человеку, который утверждает, что последним видел пропавшего живым. Этот мне кажется каким-то скользким». Как все мы знаем, вскоре выяснилось, что Хантли убил Холли и Джессику. Я была поражена прозорливостью моего друга. Полицейские инстинкты, в сочетании с многолетним опытом, поистине бесценны. Полиция сейчас во многом опирается на современные технологии, но старую добрую детективную работу ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.
Случай Мойры Андерсон стал широко известен благодаря чудесной женщине, активистке по имени Сандра Браун. Сандра, которая была на несколько лет младше Мойры, тоже выросла в Котбридже, приложила массу усилий, пытаясь в точности восстановить, что там все-таки произошло. Она ведет масштабные кампании в защиту прав детей, а в 2000 году основала Фонд Мойры Андерсон, который помогает семьям, в которых дети пострадали от домогательств, насилия, преследований и связанных с этим проблем. В 1998-м она выпустила книгу, Там, где зло, об исчезновении Мойры и о расследовании, растянувшемся на целых сорок лет. В этом исследовании, исполненном справедливого стремления добиться истины, и написанном с характерной для Ланаркшира прямотой, но одновременно с состраданием, она описывает разрушительное влияние, которое насилие над детьми, это самое страшное из преступлений, оказывает на тех, кого затронет.
Сандра уверена, что в Котбридже в те времена действовал организованный кружок педофилов, и считает Александра Гартшора виновным не только в похищении Мойры, но и в ее убийстве. Самое поразительное заключается в том, что Александр Гартшор — отец Сандры.
Впервые я познакомилась с Сандрой в 2004 году, когда Гартшор был еще жив, а она хваталась за любую зацепку, чтобы отыскать истину. Она связалась со мной после того, как привлекла экстрасенса к поискам останков Мойры (эти ясновидящие всегда тут как тут). Они нашли чьи-то кости. Не могла бы я на них взглянуть?
Кости были обнаружены, когда они в поисках останков Мойры обследовали канал Монклэнд. Экстрасенса поразили сильнейшие эманации страха и боли, якобы исходившие от них. Он не сомневался, что кости излучают страдания, пережитые ребенком, который, по его глубокому убеждению, и был Мойрой.
Мое отношение к подобным вещам однозначное — это полная ерунда. Думаю, я понимаю, почему люди обращаются к подобным самопровозглашенным ясновидящим, особенно когда предыдущие усилия ничего не дали, и им все равно нечего терять. Некоторые из таких «экстрасенсов» действуют из добрых побуждений, но просто заблуждаются, другие — настоящие шарлатаны, и я всегда ужасаюсь тому, какой ущерб они могут причинить семьям пропавших. Однако, раз уж кости нашлись, я согласилась, ясно дав Сандре понять, что если они действительно окажутся человеческими, мы с ней больше контактировать не сможем, потому что дело окажется в ведении полиции. Она все поняла и согласилась. Сейчас мы с Сандрой подруги, и я знаю, что она бы над этим посмеялась, но в тот момент мне показалось, что она немного сумасшедшая.
Доставка костей была организована весьма таинственным образом. Экстрасенс работал в Университете Данди — вот тебе совпадение, — но, как мне сказали, желал сохранить инкогнито, поэтому собирался оставить их у двери моего кабинета. Я ждала, когда кости прибудут, и, наконец, они появились. Для останков, имеющих столь важное значение, обращение было не слишком уважительным: их ссыпали в пакет из супермаркета и повесили у меня на ручке двери. На бумажке, прикрепленной к мешку, красовалась короткая надпись «Монкленд». Прежде чем его открыть, я сделала кое-какие заметки, сфотографировала мешок и надела маску и перчатки, чтобы избежать попадания в материал своей ДНК. Признаюсь, я заметно нервничала, когда открывала пакет. Но уже через пару секунд прошипела сквозь зубы: «Да черт вас всех побери!» — внутри лежали зачищенные мясником ребро и плечевая кость обыкновенной коровы.
Я сообщила эту новость Сандре, и она восприняла ее со стойкостью настоящего солдата. Для нее это лишь означало, что закрылась одна дверь, но оставалось еще множество других. Время от времени мы с ней созванивались: с ее подачи Фонд Мойры Андерсон и семья Мойры продолжали теребить судебные и следовательские органы. Примерно в 2007 году она впервые упомянула о том, что тело Мойры может быть похоронено в одной из могил на Старом кладбище в Монкленде. Она обратилась к королевскому адвокату Шотландии, предшественнику Фрэнка Малхолланда, с запросом на обследование могилы, и считала, что есть надежда на положительное решение.
Переговоры продолжались весь 2008 и 2009 годы, а Сандра тем временем договорилась, чтобы у сестер Мойры взяли образцы ДНК, а меня попросила оставить результаты у себя, на случай, если они понадобятся. Я до сих пор их храню. Она также предоставила мне подробный список всего, что было на Мойре в день исчезновения, чтобы мы, обнаружив пуговицу с ее пальто, пряжку с туфель или ремешок от сумки, сразу могли их узнать. Придя в полную боевую готовность, она запросила и получила разрешение на сканирование могилы с помощью специального радара. Я не особенно разбираюсь в снимках с такого радара, но результаты явно демонстрировали, что в земле имеются любопытные аномалии. Правда, следовало учесть, что дело было на кладбище, где специально копают ямы и хоронят в них людей.
В 2011 году у нас с Сарой произошел долгий разговор, в ходе которого она объяснила, почему хочет, чтобы мы вскрыли могилу и провели эксгумацию. Она считала, что тело Мойры может находиться непосредственно под гробом мистера Синклера Эптона, похороненного там 19 марта 1957 года.
Она утверждала, что Мойра погибла от рук организованной группы педофилов 23 февраля, в день пропажи, и что ее тело где-то прятали, возможно, в каком-нибудь потайном отсеке в автобусе Гартшора, пока не нашлось подходящего места для захоронения. Если Гартшор действительно принимал в этом участие, то ему требовалось как можно скорее избавиться от тела, так как вскоре он должен был предстать в суде Котбриджа по обвинению в приставаниях к двенадцатилетней девочке, после чего мог быть заключен под стражу. Действительно, 18 апреля ему был вынесен приговор: полтора года в тюрьме Саутон. И вот там, отбывая наказание, он в беседе с сокамерником упомянул о своем старом приятеле, «Синки», который ему недавно «сделал громаднейшее одолжение, сам того не зная».
Синклер Эптон, скончавшийся в возрасте восьмидесяти лет за месяц до заключения Гартшора в тюрьму, приходился тому дальним родственником; Гартшор знал о его смерти и предстоящих похоронах на кладбище Монкленд. Не исключалось, что смерть этого ни в чем не повинного человека обеспечила Гартшору надежное место, чтобы спрятать Мойру.
Могила была готова, вариант казался идеальным: кто станет искать пропавший труп на кладбище? Гартшор наверняка знал, что могилу выкопают заранее и оставят на выходные; похороны должны были состояться во вторник. Что если он положил Мойру на дно, присыпав тонким слоем земли, рассчитывая, что сверху на нее опустят гроб мистера Эптона и тело будет скрыто навеки?
Должна сказать, что работа, проделанная Сандрой, и ее выводы выглядели весьма убедительными. Я разработала план для судебных властей, в котором описывала все этапы исследования могилы, мы передали его на рассмотрение и стали ждать ответа. В тот год Фрэнк Малхолланд, ныне лорд Малхолланд, был назначен королевским адвокатом. Решительный человек, не склонный к колебаниям, Фрэнк сам родился в Котбридже, всего через два года после исчезновения Мойры. Он был тесно связан с городской общиной и тоже считал, что вопрос необходимо закрыть для ее блага. В 2012 году он распорядился о возобновлении расследования, мы получили зеленый свет и обратились к детективу-сержанту Пэту Кэмбеллу из полиции Стрэтклайда, чтобы обсудить детали эксгумации. К тому моменту я сотрудничала с Сандрой по данному делу уже восемь лет.
Мы сошлись на том, что, с разрешения местного совета и семьи Эптона, начнем эксгумацию, но при малейшем признаке обнаружения детских останков перейдем в режим следственного мероприятия, поскольку таковых в могиле присутствовать не должно. Если это произойдет, нам на помощь придет полиция Стрэтклайда, а наша деятельность окажется под контролем судебных органов. Мы будем работать уже не в интересах семьи пропавшей, а в интересах правосудия.
Мы решили, что эксгумацию лучше будет назначить на лето, когда световой день дольше, дожди реже, а погода теплей, соответственно и почвы на Старом кладбище в Монкленде, с большим содержанием глины, будут суше, что облегчит нам задачу. Бумажная волокита, однако, затянулась до декабря. Разрешение на эксгумацию мы получили — догадайтесь когда? — во вторую неделю января. Мы с моей коллегой Люсиной Хакмен решили на будущее планировать раскопки на зимние месяцы, в надежде, что тогда, наоборот, получим желаемые результаты. Простой просьбой решить вопрос не удалось.
Мы установили, что на тройном участке, принадлежавшем семье, должно было находиться всего семь гробов. Три слева, похороненные последними, в 1978, 1985 и 1995 годах; один посередине, датируемый 1923 годом, и три справа, где как раз и должен был лежать мистер Эптон, рядом со своей супругой, похороненной в 1951 году, а также еще один гроб, 1976 года. Тревожить останки, находившиеся в левой и центральной частях могилы, не было необходимости, хотя у нас было на это разрешение — на всякий случай, например, если мы обнаружим, что гроб мистера Эптона находится не там, где предполагалось.
Гробы нередко оказываются не на тех местах, где должны находиться. Человека могут похоронить в другом месте по разным причинам. Иногда, вскрыв могилу, родные выясняют, что туда не поместится еще один гроб; иногда это происходит просто по ошибке. В документах не всегда отражается подлинная картина. Представьте, после того, как моя собственная бабушка умерла в 1976 году и мы открыли могилу, чтобы похоронить ее вместе с мужем, то обнаружили на нашем участке гроб с младенцем. Насколько нам было известно, ни один ребенок в семье не умирал, и его на нашей земле не хоронили, но, когда мы обратились в администрацию и проверили документы, никаких записей о еще одном захоронении обнаружено не было. Такое случается. Ребенка перенесли куда-то еще. Я немного расстроилась при мысли об этом, но мою бабушку тоже требовалось где-то похоронить, а участок наверху надо было придержать для моего отца, когда придет его час.
У нас сложилась потрясающая команда для эксгумации на Старом кладбище Монкленда: доктор Люсина Хакмен, с которой мы проработали в Данди целых шестнадцать лет, доктор Крейг Каннингем — с ним мы были знакомы лет десять, и доктор Иэн Биккер, которого я знала еще с тех пор, как он был студентом. Благодаря узам доверия и уважения, сложившимся за годы знакомства, мы великолепно сотрудничали и понимали друг друга с полуслова.
Прежде чем приступать, мы убедились, что надгробие надежно закреплено на месте; правда, в конце концов, нам пришлось все же его сместить, чтобы избежать риска быть погребенным под мраморной плитой и добавить свои трупы к тем, что уже покоились в могиле. Чтобы получить доступ к гробу мистера Эптона, нам предстояло сначала вскрыть гроб миссис Макнелли, похороненной в 1976 году. Глинистая почва затвердела, и хотя для первичного вскрытия могилы мы использовали технику, дальше надо было копать вручную на случай, если всплывут какие-либо улики.
У нас было разрешение провести краткий антропологический осмотр, чтобы убедиться, что в первом гробу лежит именно миссис Макнелли, которой на момент смерти было семьдесят шесть лет. Гроб был классическим для 1976 года — с тонким слоем дерева, наклеенным поверх дешевой стружечной плиты, и, с учетом влажности почвы, оказался в весьма плачевном состоянии. Миссис Макнелли осторожно вынули и поместили в мешок для тел, где она и покоилась, пока ее тело не переложили в новый гроб и не вернули на место.
Останки полностью соответствовали данным, указанным в документах.
С учетом короткого светового дня, длившегося не более шести часов, нам требовались генераторы и переносные лампы, чтобы работать стандартными десятичасовыми сменами. Обогреватели тоже бы не помешали, но их нам так и не предоставили. Суровая шотландская зима была в самом разгаре, сырая и морозная. Мы работали, утопая в мокрой глине; пытаясь сделать шаг назад, мы оставляли сапоги в грязи, потому что не могли вытянуть их из этого болота. Ноги у нас постоянно были холодными и влажными. В таких условиях рабочий день кажется особенно длинным и тяжелым. Тем, кто считает судебную антропологию увлекательным занятием, я советую провести денек на Старом кладбище в Монкленде, в январе, промерзшим до костей, стоя по колено в грязи, когда стенки могилы грозят вот-вот обрушиться на тебя и сделать своей следующей жертвой.
Когда мы удалили из ямы днище гроба миссис Макнелли, то сразу обнаружили гроб мистера Эптона. Металлический блеск и изменившийся звук под лопатой, которая наткнулась на дерево, указали нам на то, что гроб на месте. Он был из прочной древесины — традиционно для того времени, — в полной целости и сохранности. Блестела, как выяснилось, табличка с именем покойного. Ее осторожно сняли и вытерли, чтобы проверить имя, возраст, а также дату смерти. Мистер Эптон лежал ровно в том месте, где должен был лежать, вся информация оказалась верной. А вот чего мы не знали, так это где точно находится Мойра — внутри гроба, под ним, сбоку или даже в еще одном гробу, ниже, в котором шесть лет назад похоронили его жену. Все эти варианты казались возможными и поэтому нуждались в проверке.
Мы сняли крышку гроба мистера Эптона и под ней обнаружили его прекрасно сохранившийся скелет. Мы осторожно перебрали все останки, чтобы убедиться, что среди них нет детских костей (их не было), а потом, косточка за косточкой, переложили их в еще один мешок и передали на хранение до момента, когда их можно будет вернуть назад в могилу. Боковые стенки гроба аккуратно разобрали, чтобы обнажить дно. С наибольшей вероятностью, если теория Сандры была верной, Мойра должна была лежать под дном гроба мистера Эптона и над гробом его жены. Мы вынули дно, и тут обнаружилось, что между ним и следующим гробом не поместится и папиросная бумага. Где бы ни находилась Мойра, между гробами мистера и миссис Эптон ее точно не было.
Это, однако, не означало, что ее не могли затолкать в какой-нибудь угол ямы, поэтому мы продолжили копать по бокам, а также в изножье и в изголовье могилы. Ничего. Последним мы обследовали гроб миссис Эптон. Когда могилу, перед похоронами мистера Эптона, вскрыли, злоумышленник мог взломать этот гроб и положить Мойру внутрь. Как и у ее мужа, гроб миссис Эптон находился в отличном состоянии. Когда мы подняли крышку, то обнаружили под ними лишь останки самой пожилой дамы. Мы изучили пространство вокруг гроба, но ничего не нашли. В могиле на Старом кладбище Монкленда Мойры точно не было.
Очень нелегко было сообщать эти новости Сандре, которая так надеялась вернуть останки семье Мойры и всей общине Котбриджа и неустанно боролась, чтобы получить разрешение на вскрытие могилы. Это стало тяжелым событием и для родных мистера Эптона, случайно оказавшихся задействованными в деле, к которому они не имели никакого отношения. Их участие — свидетельство того, насколько далеко расходятся волны от такого рода преступных деяний. Они тоже надеялись, что тело Мойры окажется в могиле, ведь только это могло оправдать их переживания, связанные с эксгумацией. Они тоже были сильно разочарованы — как и весь город. Останки похоронили заново, и они провели мемориальную службу на могиле.
Девочка, бесследно исчезнувшая в Котбридже в 1957 году, до сих пор считается пропавшей, и ее дело не закрыто. С момента ее исчезновения прошло шестьдесят лет, поэтому количество людей, которые могут что-то знать о том случае, стремительно уменьшается. Маловероятно, что кто-то окажется в суде в связи с ее пропажей, главная цель поисков сейчас — принести мир в сердца ее пожилых сестер, для чего необходимо вернуть им ее останки.
Не так давно полицейские осушили и обыскали один из участков Монклендского канала, получив сообщение, что в ночь ее исчезновения кто-то видел, как в воду там бросили мешок. Радар показал некоторые аномалии на дне канала, и туда направили водолазов. Наша команда снова собралась вместе, но на этот раз нам представили кости крупной собаки, возможно, немецкой овчарки. Полиция продолжает поиски, и возможно, однажды нам повезет — в результате расследования или просто по счастливой случайности.
В случае с Рене и Эндрю Макреями, исчезнувшими на двадцать лет поздней Мойры, у тех, кто может сообщить какую-то информацию и облегчить страдания родных, времени не намного больше. Неопределенность — одно из самых тяжких испытаний, выпадающих на долю тех, чьи родные пропали. Если работа, которую мы делаем, способна принести им хоть какое-то утешение, то она стоит любых усилий. И если окажется, что преступник, их убивший, еще жив, то он понесет наказание. По делам об убийстве срока давности нет.
Глава 8 Invenerunt corpus — обнаружено тело
«Украденная личность — это не деньги, не махинации в киберпространстве, это кража нашего духа».
Стиве Кови, лектор (1932–2012)Без тела расследование обстоятельств исчезновения человека сильно осложняется. Однако оно проблематично и тогда, когда тело найдено, но нет никаких указаний на личность.
К сожалению, как мы уже видели, предположение о том, что для каждого обнаруженного неопознанного тела должно иметься соответствующее заявление о пропаже человека, которые надо просто сопоставить между собой, слишком упрощено. Заявление может быть сделано в другой стране, в отделе полиции, удаленном от места обнаружения тела, либо за много лет до него, и пылиться, забытым, в архиве. Может случиться и так, что никакого заявления не делалось вообще — никто не заметил пропажи человека, либо не озаботился тем, чтобы поднять тревогу. Некоторые считают подобные случаи печальной особенностью современного общества, но в действительности существуют люди, которые не хотят взаимодействовать с другими и быть частью общества, и, если они не совершили ничего противозаконного, их право на уединение и анонимность должны соблюдаться. Когда люди, предпочитающие жить в одиночестве и безвестности, умирают также в одиночестве и безвестности, их опознание может представлять определенные проблемы, причем, в некоторых случаях, неразрешимые.
Промежуток между смертью и обнаружением тела заметно осложняет задачу. Однажды нас вызвали в государственную квартиру в Лондоне, где жил какой-то китайский джентльмен. Он полтора года не вносил квартплату, и поэтому совет принял решение о выселении. Каково же было потрясение приставов, когда они обнаружили квартиросъемщика мертвым, лежащим в кровати, завернувшись с головой в одеяло. Он скончался во сне примерно год назад, и труп успел скелетироваться. Матрас и одеяло послужили стоком, впитав в себя все жидкости, образующиеся в процессе разложения, отчего мягкие ткани высушились, а тело превратилось в мумию.
Мужчина жил один и умер один, никто не знал его имени и не волновался о его пропаже. При опросе соседи сообщили полицейским, что не заметили его отсутствия, хотя некоторые, поразмыслив, вспоминали, что обращали внимание на обилие мух у него на подоконнике с внутренней стороны примерно пару месяцев назад, а также неприятный запах, но списывали все на гниющие пищевые отбросы, разогретые летней жарой.
Причину смерти установить не представлялось возможным, равно как получить образцы отпечатков пальцев, ДНК или стоматологическую карту, чтобы убедиться, что это останки именно того человека, который снимал квартиру. Его опознали на основании расы и возраста. Иногда, в дебрях большого города, в окружении миллионов людей, можно оказаться невидимкой.
В отсутствие очевидных улик или указаний на семью, родственников или коллег, способных пролить свет на обстоятельства смерти, полицейское расследование так ни к чему и не приводит. В идеальном мире у полиции был бы неограниченный бюджет и достаточное количество персонала, чтобы разыскивать всех пропавших и опознавать все безымянные тела. Однако мы прекрасно сознаем, какие ограничения на нас накладывает реальность, и, с учетом постоянно растущего количества исчезающих, всегда будут те, кого не удастся найти, живым или мертвым. Практически в каждом полицейском отделении есть дело о человеческих останках, которые, несмотря на все усилия, так и остаются неопознанными. Каждый год какие-то из них хоронят, безымянными, в отсутствие родных и друзей, потому что полиции так и не удалось установить, кем они были при жизни.
Когда умирает большинство из нас, вопрос об опознании не стоит. Обычно это происходит в присутствии медиков, дома или в больнице, а те, кто погибает в результате инцидента, как правило, имеют при себе документы: кошелек или сумку с кредитными картами, правами и другими бумагами, подтверждающими их личность. Даже если при теле ничего нет, имеются зацепки, позволяющие его опознать, если оно обнаружено в доме, где человек жил, или в машине, которая ему принадлежала, поэтому дальнейшее расследование не представляет особых затруднений — за всеми нами тянется бюрократический бумажный след. В подобных ситуациях быстро находится кто-то из родных, способный подтвердить личность покойного и помочь с опознанием.
Самая большая проблема возникает, когда тело обнаруживается внезапно, в каком-нибудь укромном месте, обычно уже разложившееся, и без всяких указаний на личностную принадлежность. Обычно выясняется, что и в базах данных отпечатков пальцев и ДНК по нему тоже ничего нет. Именно тогда на сцену выходит судебная антропология, обычно представляющая последний шанс опознать безымянный труп.
Процедура, которой мы следуем, четко задокументирована и опирается на здравый смысл, логические научные толкования и внимание к деталям. Как уже говорилось в главе 2, есть два типа идентичности, которые мы стараемся установить, работая с анонимными останками: биологическая идентичность, к которой относятся базовые классификаторы, и личностная идентичность, то есть имя покойного. Вторая обычно вытекает из первой, но даже в этом случае нам нужно запастись временем и терпением. Естественно, мы сразу же снимаем отпечатки пальцев и берем образцы ДНК в надежде, что обнаружим совпадение по базе данных. Однако в большинстве случаев надежда не оправдывается и нам приходится переходить к старой доброй антропологической экспертизе.
Люди разделяются на несколько основных классификационных категорий, которые помогают нам сузить спектр вариантов. Если смерть наступила недавно, больше шансов, что нам удастся в точности определить четыре базовых классификатора биологической идентичности: пол, возраст, рост и расу. Эти характеристики позволяют составить профиль человека, то есть сообщить, что обнаруженные останки принадлежат женщине, белой, в возрасте от двадцати пяти до тридцати лет, ростом около 160 см. Очень важно правильно определить эти показатели, потому что ошибка может привести к тому, что труп никогда не будет опознан, или сильно задержать расследование. Если нас приглашают в суд в качестве экспертов, то наше мнение должно опираться на серьезные научные основания, поэтому нам приходится всячески избегать соблазна строить собственные предположения.
Детерминант первого признака биологической идентичности, пола, однозначен — перед нами либо мужчина, либо женщина. Термин «пол» в данном случае относится к конкретному определению, используемому в нашей сфере деятельности, и его нельзя путать с «гендером», который больше связан с личным, социальным и культурным выбором, и может расходиться с биологическим полом.
Генетической нормой для человеческого генома является наличие сорока шести хромосом, объединенных в двадцать три пары. Одна хромосома в каждой паре — половина вашего генома, — наследуется от матери, вторая — от отца. Двадцать две пары, хоть и различаются немного между собой, имеют одну и ту же «двоичную» форму (их можно сравнить с парами относительно одинаковых черных носков), в то время как в двадцать третьей, связанной с полом, хромосомы различаются (как носки разного цвета).
Как большинство из нас помнит из школьного курса биологии, хромосома X является признаком женского пола, a Y — мужского (особенно в SRY-гене хромосомы). У женщин объединяются хромосомы XX, а у мужчин — XY. Хромосому X мы все наследуем от матери. Если хромосома, унаследованная от отца, тоже X, ребенок родится с комбинацией XX и вырастет в женщину. Если от отца унаследована хромосома Y, ребенок вырастет мужчиной. Существуют частные случаи нарушения хромосомных пар, в том числе синдром Клайнфельтера (XXY) или синдром Тернера (ХО), но они настолько редки, что я не сталкивалась с ними ни разу за все время работы.
Будущий эмбрион обладает генетическими признаками пола с первого же момента, когда сперматозоид проникает в яйцеклетку, но в первые недели внутриутробного развития он как бы асексуален, то есть не имеет внешних признаков мужского или женского пола. Еще на восьмой неделе, когда мягкие ткани только начинают формироваться, нет возможности различить признаки пола, однако к двенадцатой уже можно сказать, какого пола может быть плод. Когда мама проходит первое ультразвуковое исследование, пол ребенка можно установить по видимым внешним гениталиям.
В наши дни некоторые больницы предпочитают не сообщать пол ребенка, отчасти из-за нехватки персонала и времени на обследование, но также и из других соображений, например, судебных исков в случае ошибки, или риска селективных абортов у пар, в культуре которых младенец определенного пола ценится выше другого. Поэтому пол ребенка может храниться в тайне вплоть до его рождения — как и происходило до появления ультразвука. Мне даже нравится элемент неожиданности; я никогда не хотела заранее знать пол моих будущих детей. Как выразился мой тесть, «если у него одна голова и по десять пальцев на руках и на ногах, то какая разница?»
Если родители все-таки хотят знать пол, а врач, проводящий обследование, готов им его сообщить, то вывод делается по тем же визуальным характеристикам, что и при родах, когда пол объявляет акушерка — если у ребенка есть пенис, то это мальчик, если нет, девочка, что и регистрируется официально. Это может быть ошибочно с точки зрения и биологии, и социологии, и культуры, но с начала времен пол определяли именно так, и ничего другого пока придумать не удалось.
В этот момент закладывается краеугольный камень, на котором будет основан дальнейший ход жизни ребенка. Его будут растить как мальчика или девочку, со всеми культурными атрибутами, соответствующими данному определению, на том лишь основании, что у него имеется — или нет — визуально фиксируемый пенис. Если не произошло ошибки, то во время полового созревания у мальчика разовьются гениталии соответствующего размера (яички и пенис), волосяной покров будет формироваться по мужскому типу, на руках, ногах, груди, подмышках, лобке и лице, а голос станет грубее. У девочки вырастет грудь, расширятся бедра, вырастут волосы в подмышках и на лобке и начнутся менструации. А теперь представьте, какое потрясение переживает подросток, когда, прожив двенадцать лет мальчиком, вдруг видит, как у него начинают расти молочные железы, или, считая себя девочкой, замечает волосы у себя на груди. Пубертатный период — очень тяжелое время, когда особенности телесного развития выходят на передний план, и внезапные перемены подобного масштаба, вполне естественно, сильно сказываются на психологическом состоянии подростка.
В большинстве случаев наш пол при рождении определяют правильно, но судебный антрополог всегда должен иметь в виду и весь спектр других возможностей. Будь все мужские скелеты голубыми, а женские розовыми, нам было бы куда проще. Как бы смешно это не звучало, давайте ненадолго допустим именно такое обозначение для мужских и женских отличительных особенностей. Пусть голубой означает присутствие SRY-гена и продукцию тестостерона, а розовый — его отсутствие и доминирование эстрогена. У каждого ребенка вырабатываются оба гормона, но в разном соотношении. Поскольку у мужских эмбрионов всего одна Х-хромосома, вдобавок к доминирующему тестостерону они производят также эстроген, в рамках нормального биохимического функционирования. У женских тестостерон вырабатывается в меньших количествах, без участия Y-хромосомы, в яичниках и надпочечниках. Если вы, дамы, в этом сомневаетесь, дождитесь менопаузы, когда выработка эстрогена снизится и тестостерон возьмет свое, и вы увидите, как у вас начинают расти усы и борода. Бородатые женщины из знаменитых викторианских цирков — не капризы природы, а обычный вариант биологической нормы.
Пол, или то, что мы считаем мужскими и женскими признаками, обычно зависит от сочетания между генетикой и биохимией, а также от их влияния на ткани тела, в том числе на мозг. Представьте генетически розового эмбриона, у которого начинается избыточная продукция тестостерона (такое происходит в результате генной мутации, приводящей к гиперплазии надпочечников), или генетически голубого, у которого либо не включился SRY-ген, либо тестостерона вырабатывается недостаточно (гипоплазия надпочечников), либо избыточно продуцируется эстроген, и вы поймете, как, в зависимости от этих факторов, могут менять внешность и физиологические свойства организма.
Судебный антрополог должен обо всем этом помнить, осматривая скелет, который сформировался в результате сложного взаимодействия между генетическим полом и биохимическими процессами. Всегда существует возможность встретить «серый», или, по нашей классификации «фиолетовый», когда у мужчины имеются некоторые женские характеристики, а генетическая женщина выглядит более мужественной, чем представительницы ее пола на другом конце шкалы, у которых генетика и биохимия оказались в гармонии. Человеческий организм тем и интересен, что у него есть масса возможных вариантов. Вот почему человека так увлекательно изучать.
Даже если останки относительно недавние, определение биологического пола может представлять определенную проблему, особенно если человек перенес хирургическую операцию. Поэтому очень важно не идти на поводу у внешних признаков (например, фрагментов женского нижнего белья) и всегда держать в уме возможность неправильного формирования половых органов или хирургического вмешательства. Отсутствие матки может указывать на принадлежность к мужскому полу, но может быть и признаком того, что женщине сделали гистерэктомию, или же она родилась без матки в результате агенезии (когда орган не формируется в процессе внутриутробного развития). Отсутствие пениса и наличие груди, казалось бы, указывает на то, что перед нами женщина, но точно так же это может быть мужчина, перенесший операцию по смене пола.
После цунами в Азии в 2004 году, когда погибло больше четверти миллиона человек, вопрос биологического пола и гендера неоднократно поднимался при опознании тел. Одна из пострадавших стран, Таиланд, считается мировой столицей трансгендеров. Поскольку операции по смене пола с женского на мужской там стоят почти в четыре раза дешевле, чем в США в год их там выполняется около 300, и третий пол, или катой, считается неотъемлемой частью общества. Однозначный диморфизм в определении половой принадлежности в этой части света, соответственно, не работает: вот почему после катастрофы внешний осмотр трупов всегда сопровождался дополнительными исследованиями.
Определение биологического пола осложняется, когда тело начинает разлагаться. Внешние половые органы распадаются достаточно быстро, и оценка внутренней анатомии в ходе посмертного вскрытия помогает не всегда. Анализ ДНК в поисках SRY-гена дает возможность подтвердить принадлежность останков к мужскому полу, однако не помогает при идентификации женского тела в отсутствие полного кариотипирования (составления подробной хромосомной карты). Итак, что же мы делаем, когда все, что нам досталось — это высушенные, разобщенные или давным-давно похороненные человеческие кости?
Хотя мою мечту о голубых и розовых скелетах природа не осуществила, у цельного взрослого скелета все-таки имеются достаточно надежные признаки биологического пола. Особенности, на которые мы обращаем внимание, проявляются во время полового созревания в ответ на повышение выработки половых гормонов. Если доминирует эстроген, скелет будет меняться по женскому типу. Это не означает, что скелет обязательно женский, просто у него ярче проявятся «розовые» характеристики. Основным изменением будет подготовка таза к будущей беременности и родам: он станет шире, чтобы головка ребенка могла через него пройти.
Однако женский таз не обязательно развивается в рамках нормы. Диспропорция таза и черепа младенца в прошлом страшила беременных по всему миру. Если таз был недостаточно широк, чтобы ребенок мог проникнуть в него и затем выйти через родовой канал, это означало затянувшиеся схватки и никакого шанса выжить. Помните ту роженицу с тройняшками из Бальдока? Столетиями женщины умирали от осложнений при родах.
В обстоятельствах, когда требовалось спасти мать, пренебрегая ребенком, использовались жуткие гинекологические инструменты, которые позволяли хоть как-то разрешить ситуацию с диспропорцией. Перфоратор, к примеру, выглядел как небольшое копье, которое вставляли роженице во влагалище и затем продвигали до самого плода в матке, где он «перфорировал», то есть продырявливал его. В большинстве случаев ребенок рождается вперед головкой, поэтому перфоратор проделывал отверстие в черепе, в так называемом родничке, относительно мягком участке, который позволяет костям черепа сжиматься при проходе через родовой канал.
Далее череп подцепляли крючком на конце перфоратора, чаще всего за орбиту (глазницу). В процессе разрушались ткани мозга, и ребенка проще было вытащить через родовые пути. Позднее придумали инструмент, напоминающий щипцы, с помощью которого ребенка вытаскивали сразу целиком.
В наше время диспропорция между тазом и черепом плода встречается реже в результате улучшившихся условий жизни, а также в результате действия сурового закона природы, «выживает сильнейший», ведь узкий таз как наследуемый признак постепенно исчезает. Однако даже сейчас роды в некоторых странах мира продолжают оставаться опасными и для матери, и для ребенка. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в год в мире умирает 340 000 рожениц, 2,7 миллиона детей рождается мертвыми и умирают 3,1 миллиона новорожденных — практически все в неразвитых странах. В Африке ниже Сахары риск умереть при родах для женщины составляет 1 к 7, и диспропорция до сих пор обусловливает 8 % таких смертей.
Там, где у женщины есть доступ к необходимым медицинским услугам, форма и ширина таза не имеют значения, потому что ребенка можно вынуть путем кесарева сечения, шансы на благополучный исход при котором для обоих очень высоки. В некоторых наиболее обеспеченных странах достижения анестезиологии и медикаментозной терапии, в том числе с помощью антибиотиков, привели к тому, что кесарево сечение стало даже более распространенным, чем традиционные роды. В ситуациях, когда благополучие матери и ребенка при естественных родах представляют для больницы риск с финансовой точки зрения, персонал выбирает кесарево сечение как наиболее безопасную альтернативу.
Поэтому западные женщины в XXI веке могут быть самых разных форм и размеров, и все могут передавать свою форму таза по наследству. Забавно, но определить пол по форме таза в наше время проще у археологических образцов, чем у относительно недавних останков, поскольку уровень полового диморфизма, необходимый для обеспечения безопасных родов, с ходом наследования постепенно утрачивается.
Если в организме доминирует гормон тестостерон, то в пубертатном периоде он вызовет увеличение мышечной массы. Все мы знаем о том, как прием мужских гормонов в форме анаболических стероидов снижает содержание жировой ткани и стимулирует мышечный рост у бодибилдеров. Между мышечной и костной тканью существует прямая зависимость: чтобы удерживать массивные мышцы, требуются крупные кости. В таких областях, как череп, длинные кости, плечевой и тазовый пояса, развиваются выраженные участки крепления мышц. Тестостерон, таким образом, обуславливает маскулинизацию скелета, хотя это отнюдь не означает, что останки биологически или генетически мужские.
Если доминирующего гормона в организме пока что нет, как у детей, не вступивших в пубертатный период, скелет сохраняет педоморфное, детское состояние — то есть выглядит, скорее, розовым, чем голубым. Поскольку характерные изменения, на которые мы обращаем внимание, начинаются у скелета только с половым созреванием, пол по детскому скелету с необходимой степенью достоверности определить невозможно.
Если для обследования представлен скелет взрослого целиком, судебный антрополог может определить его пол с точностью 95 %, хотя у разных этнических групп могут проявляться особенности, которые также необходимо учесть. Например, голландцы — официально самый высокий народ в мире, но младенцы у них рождаются того же размера, что и у остальной западной популяции. Поэтому у голландцев самый низкий уровень осложнений при родах: женскому тазу, ширина которого соответствует росту, не пришлось видоизменяться, приспосабливаясь к деторождению. Женщины других национальностей, меньшего роста, производят на свет младенцев нормального размера, и поэтому у них более выражен половой диморфизм, ведь их таз должен был адаптироваться, чтобы роды проходили безопасно. Соответственно, у голландцев отличить женский скелет от мужского по особенностям тазовых костей гораздо сложнее.
Естественно, если скелет поврежден или фрагментирован, определение пола становится крайне затруднительным. Чтобы получить более-менее надежные данные, мы должны отыскать крошечные фрагменты костей и точно установить их положение в скелете — относятся ли они к дистальной плечевой кости, проксимальной бедренной или к надостной части лопатки? — поскольку эти независимые участки обычно указывают на принадлежность к тому или иному полу. Мы полностью зависим от того, сохранились ли в скелете эти, наиболее различные у женщин и у мужчин, фрагменты. Форма большой седалищной вырезки в тазу, следы прикрепления затылочной мышцы в области шеи, размер сосцевидного отростка за ухом и наличие супраорбитальных насечек под бровью являются отличительными особенностями пола.
Чем больше степень полового диморфизма, тем точнее судебный антрополог определяет пол скелета. Однако всегда надо помнить, что признаки, на которых мы базируемся, являются лишь следствием биохимических влияний, их силы и протяженности, а не однозначными указаниями на биологический или генетический пол человека.
Определить пол неопознанных останков очень важно, поскольку, пытаясь сопоставить их с данными кого-то из пропавших, мы, таким образом, сокращаем список возможных кандидатур практически наполовину. Однако существует и другая сторона медали — если мы ошибемся, то шансов на опознание практически не останется.
Если с определением пола мы преуспеваем у взрослых, но практически несостоятельны у детей, то что касается второго биологического признака идентичности — возраста — все обстоит с точностью до наоборот. Вспомните, насколько порой бывает сложно определить возраст даже живых взрослых людей, которые дают нам куда больше зацепок, чем покойники, и вы поймете, что такое установление возраста по останкам, особенно если они скелетированы или, еще хуже, разобщены.
В жизни угадать возраст тем сложнее, чем старше становится человек. Если зайти в любой из классов начальной школы, можно без труда определить, с точностью до года, возраст сидящих в нем детей. Имея дело со старшеклассниками, можно догадаться о среднем возрасте всей группы, но в ней всегда будут те, кто выглядит значительно старше или значительно младше остальных, поскольку телесные изменения, соответствующие половому созреванию, происходят у всех в разное время. Если же попытаться отгадать возраст, войдя в комнату со взрослыми, то нескольким мы, конечно, польстим, но примерно половину, скорее всего, сильно обидим.
На первых годах жизни прослеживается четкое соответствие возраста, особенностей лица и роста. Лицо — отличный индикатор, поскольку оно изменяется вместе с ростом зубов.
Каждый год я делаю фотографии всех моих детей в их дни рождения, чтобы иметь своего рода хронологическую карту и наблюдать за тем, как меняются их лица (все хорошие ученые рассматривают своих детей как этакие чашки Петри). Первая серьезная перемена происходит в возрасте четырех-пяти лет, когда челюсть, образующая нижнюю часть лица, должна достаточно вырасти, чтобы в шесть лет там смог успешно пробиться первый постоянный моляр. Второе заметное изменение случается перед наступлением полового созревания, когда челюсть снова раздается, обеспечивая место для вторых постоянных моляров. Ну а дальше все идет кувырком, так как в их жизнь (и в нашу тоже) вторгаются бушующие гормоны, а лица начинают приобретать свои взрослые очертания.
Взаимосвязь возраста и роста у маленьких детей отлично отражается в размерах одежды. Их маркируют по возрасту, а не по меркам, потому что производители с достаточной долей уверенности могут сказать, что, например, от рождения до шести месяцев рост ребенка будет составлять около 67 см. Мы не ищем платьице на малышку ростом 1 м, а смотрим одежду на четыре года. Возрастной шаг меняется по мере взросления ребенка: для малышей интервал составляет три месяца, потом шесть. Дальше идут интервалы в один или два года, и так примерно до двенадцати лет. Тут наступает половое созревание, когда размер и возраст перестают обязательно соответствовать друг другу.
Поэтому, изучая останки плода или младенца, мы устанавливаем его рост с точностью до нескольких недель по костям конечностей — верхних (плечевая, лучевая и локтевая) и нижних (бедренная, большая берцовая и малая берцовая). С детьми младшего возраста точность доходит до месяцев, у детей постарше — до двух-трех лет.
Мы строим свои выводы не только на простых измерениях. У детей некоторые кости состоят из отдельных частей, что позволяет им расти, которые затем сливаются. Паттерн такого роста и слияния тесно связан с возрастом, и стадия, которой достигло развитие костей, служит достаточно надежным на него указанием. Бедренная кость взрослого человека, например, является единым целым, но у ребенка состоит из четырех фрагментов: тела, дистального конца (у колена), проксимальной головки (у бедра) и большого вертела сбоку, где крепятся мышцы. Первым из хряща в костную ткань преобразуется тело — оно окостеневает на седьмой неделе внутриутробного развития. Центр окостенения в колене становится заметен к моменту рождения — именно его наличие, определенное с помощью рентгеновского снимка, в прошлом считалось указанием на то, что плод достиг необходимой степени зрелости и мог считаться жизнеспособным. Это служило доказательством на процессах против матерей-убийц, избавлявшихся от полностью сформированных младенцев, за что полагалось более суровое наказание, чем за избавление от недоношенного плода.
Головка бедренной кости, образующая тазобедренный сустав, начинает окостеневать к концу первого года жизни, а верхняя часть большого вертела, куда крепятся большая и малая ягодичные мышцы, а также некоторые мышцы бедра, превращается в кость в возрасте от двух до пяти лет. Далее все части начинают расти по направлению друг к другу и постепенно сливаются.
В возрасте от двенадцати до шестнадцати лет у девушек и от четырнадцати до девятнадцати у юношей головка бедра сливается с телом, далее, примерно через год, к ним присоединяется большой вертел. Последним с ними сливается дистальный конец, у колена, что происходит у девушек между шестнадцатью и восемнадцатью годами, а у юношей между восемнадцатью и двадцатью. Когда все фрагменты объединяются, кость перестает расти. Когда прекращается рост костей, мы достигаем своей максимальной высоты.
Рост и созревание большинства костей в развивающемся скелете следуют определенной схеме, которая позволяет нам установить возможный возраст человека, если, конечно, его развитие происходило нормально. Некоторые части тела дают нам больше информации, чем остальные. Так, рука взрослого состоит из примерно двадцати семи костей, а ребенка — из сорока пяти отдельных элементов. Это очень помогает при установлении возраста, как при жизни, так и после смерти. К тому же рука — легко достижимая и этически приемлемая часть тела для рентгеновского обследования, которое обычно применяется, чтобы определить, что человек, утверждающий, что является несовершеннолетним ради статуса иммигранта или беженца, действительно ребенок.
Примерно половина населения нашей планеты, рождаясь, не получает никаких документов, и, соответственно, не имеет официально подтвержденного возраста. Это не представляет проблемы, пока человек остается в своей стране, где власти допускают подобную возможность, но если он решает мигрировать в страну, где данные всех граждан документируются, то нарушает ее законы.
Страны, подписавшие Конвенцию ООН по Правам Ребенка, соглашаются защищать детей, давать им жилье, одевать, кормить и учить. Когда в поле зрения властей попадает претендент на статус иммигранта или ребенок, не имеющий надлежащих документов, судебных антропологов приглашают для установления их возраста, особенно если те привлекли к себе внимание суда в качестве правонарушителя или жертвы: например, когда ребенка ввезли в страну нелегально.
Моя коллега доктор Люсина Хакмен — одна из двух британских практикующих антропологов, имеющих разрешение давать такие заключения в отношении живых людей. В своей работе она использует снимки — компьютерную томографию, рентген или магнито-резонансное сканирование, — чтобы определить приблизительный возраст, который затем станет в суде основанием для признания человека виновным или свидетельством в пользу ребенка, если речь идет о нарушении его прав.
После того как детство и подростковый период остаются позади, корреляция между возрастными особенностями скелета и реальным хронологическим возрастом слабеет. Мы можем с точностью до пяти лет определить возраст человека около сорока, но далее изменения, происходящие в наших скелетах, становятся преимущественно дегенеративными, а стареем мы, прямо сказать, с разными темпами, в зависимости от генетики, образа жизни и состояния здоровья. Наверное, у каждого найдется знакомый, который в шестьдесят лет выглядит на сорок, и наоборот. Изучая останки людей на пятом или шестом десятке, мы прибегаем к общим фразам, типа «среднего возраста» — я, кстати, ненавижу это определение, особенно относительно себя, — а про людей после шестидесяти говорим «пожилой». Кошмар! Лишнее свидетельство того, как плохо мы определяем возраст человека на верхнем конце шкалы, будь он живым, трупом или скелетом.
Итак, мы неплохо определяем пол у взрослых и плохо — у детей, а возраст точно определяем у детей, но плохо — у взрослых. А как обстоит дело с двумя другими биологическими категориями, ростом и расой? Одну мы устанавливаем довольно точно, а другую приблизительно — если говорить вкратце. Было бы идеально, если бы критерий, который мы определяем точнее всего, сразу указывал на личность — о, почему природа не смилостивилась над нами! К сожалению, этот критерий — рост — по сути, наименее важная из четырех биологических характеристик.
Судебная антропология уже не кажется такой захватывающей, как на телешоу, да? В реальном мире очень важно помнить, что опознать человека нелегко, что для этого требуется немалый опыт, знания и, желательно, доступность данных по всем четырем факторам. Антрополог, утверждающий, что абсолютно точно сможет указать пол, возраст, рост и расу по скелету, крайне опасен — это очень неопытный ученый, не представляющий себе степень вариативности человеческого организма.
В Великобритании средний рост взрослого человека составляет от 1,5 м до 1,93 м. Все, кто выходят за эти рамки, считаются необычно низкими или необычно высокими. Средний рост женщин 1,65 м, а мужчин — 1,78 м. Конечно, на рост заметно влияют и генетика, и окружающая среда. Если родители у вас высокие, вы, скорее всего, тоже вырастете высоким, если низкие — то и вы будете низким. Мы можем предсказать будущий рост человека, просто умножив его рост в два года на два (невероятно, но к двум годам мы уже достигаем половины своей высоты), либо подсчитав его по формуле среднего роста родителей. Для мальчика, в сантиметрах, формула следующая: рост отца + рост матери +13÷2; для девочки: рост отца -13 + рост матери + 2.
В качестве иллюстрации к влиянию генетики, давайте посмотрим на разницу в росте у населения разных частей света. Самые высокие мужчины — голландцы, средний рост которых 1,83 м, а самые низкие — с Восточного Тимора, 1,6 м. В Латвии самые высокие женщины, обгоняющие даже голландок со средним ростом 1,7 м, а в Гватемале — самые низкие, 1,5 м.
Самым высоким человеком, чей рост подтвержден документально, считается Роберт Першинг Уодлоу из Иллинойса, США, который на момент смерти в возрасте двадцати двух лет достиг 2,72 м. К сожалению, он страдал от повышенной выработки гормона роста, и, когда умер в 1940 году, еще продолжал расти. Самым низкорослым, 54,6 см, признан Чандра Бадур Данги из Непала, страдавший карликовостью и поставивший рекорд продолжительности жизни с данной аномалией — он скончался в 2015 году в возрасте семидесяти пяти лет.
Как показывают эти примеры, генетика — не единственный фактор, влияющий на наш рост. Помимо достаточно редких гормональных расстройств, на нем сказываются более распространенные факторы: питание, высота местности, перенесенные заболевания, употребление алкоголя, курение, вес при рождении — все это влияет на то, какого роста мы будем во взрослой жизни. При полностью благоприятных условиях ребенок достигнет своего максимального потенциала. Если в первые пятнадцать лет он подвергнется воздействию негативных факторов, то будет ниже ростом, чем ожидалось.
Поскольку в западной культуре высокий рост считается преимуществом, а низкий — недостатком, у нас прослеживается тенденция переоценивать собственную высоту. Когда мы прикидываем рост других, то и его переоцениваем тоже. Не желая признавать, что с возрастом становимся ниже, мы на протяжении всей жизни указываем измерения, сделанные в юности, когда мы были в расцвете, хотя наш рост уменьшается, хотим мы этого или нет. Перевалив за сорок, мы теряем по сантиметру каждые десять лет, а после семидесяти — еще от трех до восьми сантиметров.
Наш рост зависит от длины и толщины всех составляющих тела, от кожи на пятках ног до макушки, включая длину и высоту костей (пяточной, таранной, берцовой, бедренной, таза, крестца, двадцати четырех позвонков и черепа), плюс суставов между этими костями, а также толщину хрящевой ткани между костями в каждом суставе. С возрастом хрящи истончаются, а пространство между костями в суставах уменьшается. Некоторые заболевания, например артрит и остеопороз, также влияют на состояние костей и суставов, уменьшая наш рост. И, хотите верьте, хотите нет, рост человека меняется в зависимости от времени суток: ложась вечером в постель, мы примерно на 1,25 см ниже, чем по утрам, когда встаем. Большую часть роста мы теряем в первые три часа после подъема, когда наши хрящи сплющиваются, а свободное пространство в суставах уменьшается.
Было бы очень непросто определять рост человека по скелету, требуйся для этого складывать измерения всех отдельных костей, хрящевых прослоек и суставных промежутков. Если тело обнаруживают практически нетронутым, в нем обычно сохраняется достаточно мягких тканей, так что его можно просто измерить лентой и записать приблизительный рост. У разрозненного скелета рост определяется, как у ребенка, по длине костей в конечностях. Предполагается, что, если у вас длинные руки — а еще верней ноги, — то и рост тоже высокий, и наоборот. Мы измеряем каждую из двенадцати длинных костей (бедренных, больших и малых берцовых, плечевых, лучевых, и локтевых) с помощью так называемой остеометрической доски, и подставляем полученные значения в соответствующие статистические формулы, с учетом предполагаемого пола и расы человека. В результате получается его приблизительный рост при жизни, с возможной погрешностью в три-четыре сантиметра.
Реальность такова, что при судебном антропологическом исследовании рост не является ключевым признаком для опознания останков, если только он не исключительно маленький или большой. Я знаю семьи, продолжавшие цепляться за пустые надежды и утверждать, что найденные останки не принадлежат их сыну, хотя ДНК это подтверждает, только потому, что антропологическая оценка показала примерный рост 1,67 м, а он был ростом 1,72 м. Вот почему мы предупреждаем о возможной погрешности и указываем ее диапазон.
Наш четвертый биологический идентификатор — раса, или, как ее теперь принято называть «принадлежность к популяции». Мы избегаем термина «раса», так как он ассоциируется с социальным неравенством, а оно связано с многочисленными предрассудками. Кроме того, данный биологический критерий опирается на очень древние корни. Установление популяции потенциально представляет громадный интерес для процесса расследования, но судебные антропологи в данном случае говорят не на том же самом языке, что полицейские. Полиция хочет знать, где ей искать следы пропавшего — среди поляков или среди китайцев. К сожалению, мы не можем с точностью этого сказать, просто изучив скелетные останки.
Мы классифицируем людей по целому спектру физических особенностей: цвета кожи, цвета глаз и волос, формы глаз и носа, типа волос и языка, на котором они говорят. Кластеры многофакторной генетической информации в целом подтверждают, что, несмотря на смешение черт, характерных для разных географических регионов, население земли делится на четыре популяционные группы. Африканская, к которой относятся народы, проживающие ниже Сахары, является первой. Вторая популяция охватывает регионы, простирающиеся от Северной Африки через Европу на восток, до границ с Китаем. К третьей относятся восточные регионы Азии и, через северную часть Тихого Океана, Южная Америка и Гренландия. Четвертая, более географически изолированная, включает населению островов южного тихоокеанского региона, Австралии и Новой Зеландии. Так мы приходим к архаическому делению на расы: негроидную, европеоидную, монголоидную и австралоидную.
Если наших предков можно классифицировать по расам достаточно точно, то с современниками это становится сложнее; думаю, многие из вас были бы удивлены, если бы как следует изучили собственные гены. В нашем археологическом прошлом смешение между группами происходило редко, но в тесном современном мире, где оно широко распространено, генетические особенности каждой конкретной расы проявляются все слабее.
Генетика не позволяет нам точно сказать, откуда родом человек — из Китая или из Кореи, или определить, является ли женщина немкой или британкой. Поэтому она мало чем поможет в определении расы покойного, если у него, к примеру, дед по матери индус, бабка по матери англичанка, дед по отцу нигериец, а бабка по отцу японка.
Существуют базовые характерные различия, особенно в строении черепа, которые прослеживаются у людей, чья популяционная принадлежность достаточно выражена. У нас есть компьютерные программы, обрабатывающие параметры черепа и выдающие предполагаемую расу индивида, но эти результаты нельзя воспринимать буквально. Как правило, мы стараемся подтвердить их с помощью дополнительных данных, например сохранившихся волосков или мягких тканей, либо каких-то вещей, обнаруженных при покойном: предметов одежды, документов или религиозных атрибутов. Самые надежные результаты дает анализ ДНК, но и он указывает только на популяцию — не национальность. Он не сообщит, был ли человек индийского происхождения уроженцем Мумбай или Лондона. Здесь способны помочь только стабильные изотопы.
После того как все четыре биологических идентификатора выяснены, мы переходим к индивидуальным параметрам — то есть к опознанию человека, с использованием одного из одобренных Интерполом базовых методов: сличения ДНК, дентальных карт или отпечатков пальцев. У скелетных остатков снять отпечатки пальцев не представляется возможным, но иногда это удается сделать у сильно разложившихся трупов.
Если в базе ДНК совпадений не нашлось, полиция может обратиться к общественности в поисках каких-нибудь зацепок. Чтобы установить личность покойного — его имя — требуется розыскная работа; полицейские предполагают, что местные жители дадут им некоторые сведения, которые в процессе разработки или подтвердятся, или нет. Распространяя сообщение о том, что пропавший — чернокожий мужчина в возрасте от тридцати до сорока, ростом около 1,80 м, полиция значительно сужает разброс вариантов, сразу отбрасывая женщин, детей, стариков, низких и высоких, а также представителей прочих популяционных групп. Однако, как уже говорилось выше, остаются тысячи кандидатур, чья пропажа зарегистрирована, в целом подходящих под данный биологический профиль.
Полиция распространяет плакаты с изображениями пропавших, которые основываются на реконструкции их лиц — как, например, в случае с самоубийством, описанном в главе 2. Судебный художник или специалист по реконструкции опираются на биологические характеристики, которые мы им предоставляем, так что они непременно должны быть точными. Если мы скажем, что тело женское, когда оно мужское, или что оно относится к негроидной расе, хотя на самом деле — к европеоидной, что человеку было около двадцати, когда на самом деле — пятьдесят, то реконструированный портрет никогда не будет похож на того, кто должен быть на нем изображен.
Иллюстрацией того, насколько сильно такие реконструкции могут помогать при опознании является эдинбургское дело 2013 года, когда в неглубокой могиле на Корсторфайн-Хилл нашли расчлененные женские останки. Единственными зацепками были броские кольца на пальцах и очевидные вмешательства дантиста. Портрет по останкам создавала моя коллега, специалист по черепно-лицевой реконструкции, профессор Кэролайн Уилкинсон; его распространили по международной сети и опознали в Ирландии как Филлис Данливи из Дублина. Миссис Данливи приезжала в Эдинбург к сыну, который всем говорил, что она вернулась в Ирландию. В результате опознания ему предъявили обвинение в убийстве матери, совершенном за месяц до обнаружения тела; впоследствии обвинение подтвердилось, и он был осужден.
Чем короче интервал между смертью, захоронением останков и опознанием тела, тем выше шансы обнаружить необходимые улики. В данном случае скорость, с которой было опознано тело, во многом обеспечила успех расследования.
Когда у нас есть предположения относительно личности покойного, мы можем сравнить его ДНК, извлеченную из костей, с образцами, взятыми у матери, отца, сестер, братьев или детей. Бывает, что у нас оказывается даже ДНК собственно пропавшего — иногда образец остается на зубной щетке, расческе или резинке для волос, если на ней есть волоски с клетками кожи. В Великобритании мы можем получить доступ к карточкам Гатри, хранящимся в учреждениях здравоохранения. На них находятся крошечные капельки крови, которые берут, начиная с 1950-х, у каждого новорожденного в Соединенном Королевстве из пятки, промокают бумагой и используют для проверки на различные генетические заболевания, включая серповидноклеточную анемию, фенилкетонурию, гипотиреоз и кистозный фиброз. Использование этих данных для опознания тела иногда представляет проблему, поскольку берутся они не для этого. Однако именно по карте Гутри был опознан как минимум один погибший в результате цунами 2004 года, что позволило передать его останки родным. Вопрос приватности, а также того, насколько положительные или отрицательные результаты сличения оправдывают отсутствие согласия на него, активно обсуждается в юридической среде.
База данных ДНК, учрежденная в 1995 году Британской государственной следовательской службой, является самой крупной в мире. В ней хранится более 6 миллионов образцов, представляющих около 10 % населения страны. Около 80 % из них принадлежат мужчинам. По последним сведениям эта база помогает выявлять подозреваемых примерно в 60 % случаев. Полная база ДНК всех жителей Великобритании, собрать которую не составляет труда, позволила бы значительно сократить количество неопознанных трупов и нераскрытых преступлений. Однако общественное мнение по этому вопросу разделилось: ведутся активные споры о том, перевесят ли эти преимущества право на личную свободу и анонимность. Поскольку тема непростая, я боюсь, что эти споры будут продолжаться еще очень долго.
Иногда, особенно что касается «висяков», по образцу ДНК какого-то случайного человека удается привлечь к суду преступника, связанного с ним родством. Так вышло, к примеру, с «туфельщиком», насильником, жертвами которого в 1980-х стали как минимум четыре женщины на юге Йоркшира, и еще двое подверглись попытке изнасилования. У всех них он обязательно отбирал туфли. Спустя двадцать лет образец ДНК женщины, осужденной за вождение в нетрезвом виде, попал в базу данных, и тут выяснилось его сходство с образцом насильника. Дама оказалась его сестрой. При обыске на работе у подозреваемого полиция обнаружила больше сотни пар женских туфель, включая те, что принадлежали жертвам изнасилования. Его приговорили к пожизненному заключению, причем судья отдельно оговорил, что досрочное освобождение возможно не раньше, чем через пятнадцать лет.
Хотя централизованной базы данных по стоматологическим картам не существует, большинство граждан Великобритании время от времени посещает дантиста. Если мы замечаем какие-то следы его вмешательств, то можем по ним опознать тело — но для этого потребуется отыскать карту. У многих британцев таких карт несколько. Не все ходят к одному и тому же врачу, а в случаях, когда необходимая процедура не оплачивается страховкой, пациент обращается к частному дантисту — то есть не к тому, к которому официально приписан. Все большее число пациентов предпочитает ездить за границу, где лучше — и уж точно дешевле — производят косметические процедуры, причем не обязательно все в одной стране. Отследить подобные вмешательства, конечно, крайне затруднительно. С учетом того, что большинство дантистов хранит документацию исключительно с налоговыми целями, информацию, содержащуюся в ней, порой бывает сложно сопоставить с реальным ртом, обладателя которого требуется опознать.
Дополнительные проблемы создают нам, как ни удивительно, последние достижения стоматологии. Как многие другие представители моего поколения, я хожу с настоящим частоколом вместо челюстей. Они имеют характерное строение для европеоидной популяции, то есть недостаточно широки для всех моих зубов, поэтому те растут вкривь и вкось, напоминая покосившиеся памятники на переполненном кладбище. К тому же, годам к четырнадцати, практически во всех моих зубах уже стояли пломбы. Боюсь, уровень серебра, ртути, жести и меди у меня в организме гораздо выше нормы. За это следует благодарить нашу добрую старую шотландскую кухню и отсутствие в воде фтора. В результате, хотя мой рот и выглядит так себе, он точно не похож ни на чей другой, особенно после чистки каналов, установки виниров и удаления зубов мудрости. Если мое тело придется опознавать, наш дантист сможет со стопроцентной уверенностью сказать, что это я.
У современных тинейджеров, наоборот, идеальные зубы. С помощью скобок их выравнивают, так что те могут сверкать выбеленными голливудскими улыбками (кстати, от природы зубы должны быть желтоватыми, а не белоснежными), а если им ставят пломбы, то те тоже белые и практически неотличимы от эмали. Поэтому установление личности моих дочерей по их ротовой полости станет для нашего дантиста серьезной проблемой.
В Великобритании отпечатки пальцев снимают у всех, кто подвергается аресту или задержанию по подозрению в совершении правонарушения. Identl, база данных отпечатков пальцев и ладоней, содержит более 7 миллионов десятеричных образцов (с отпечатками каждого из десяти пальцев), и по ней в год устанавливают личность примерно 85 000 человек в связи с криминальными деяниями. Эта же система используется при пограничном контроле, который в неделю проходит более 40 000 человек, одновременно подвергающихся проверке в визовых и миграционных службах.
Когда у нас имеются биологические параметры и предполагаемая идентичность, один из трех утвержденных Интерполом методов обычно позволяет опознать останки. Даже если первичные классификаторы не помогают, вторичные признаки — шрамы, татуировки, одежда, фотографии или другие личные вещи, помогают нам с достаточной степенью достоверности определить личность покойного.
Тела, оставшиеся неопознанными — как и заявления о пропаже, тела по которым так и не были найдены — это самый страшный кошмар для судебных антропологов. Для меня таким кошмаром является тело молодого мужчины, найденное в Балморе, в Восточном Данбартоншире. Подробную информацию о нем вы найдете в конце книги. Я без всякого стеснения прошу здесь о помощи и хочу вам его описать в надежде, что найдется кто-то, кто поможет нам все-таки установить его личность и передать останки семье.
Все началось с того, что в январе 2013 года к моим сотрудникам в Университете Данди обратились по поводу сильно разложившихся человеческих останков, найденных висящими на дереве в глухом уголке Балмора. Они провисели там от шести до девяти месяцев и были обнаружены 16 октября 2011 года. Проверки по спискам пропавших и образцам ДНК совпадений не выявили. По личным вещам, найденным рядом с останками, личность также установить не удалось. Прокурор пришел к выводу, что смерть не вызывает подозрений — покойный совершил самоубийство, — но постановил сделать еще одну, последнюю попытку опознания, прежде чем тело будет похоронено как «неизвестный». Нас просили обследовать скелетные останки с целью составления биологического профиля (доктор Крейг Каннингем), реконструкции лица (доктор Крис Ринн) и изучения личных вещей, найденных рядом с останками (доктор Иен Биккер).
Череп, а также кости таза и конечностей говорили о том, что перед нами мужчина. Возраст мы установили в пределах от двадцати пяти до тридцати четырех: о нем свидетельствовала, в частности, некоторая изношенность реберных хрящей (мягкой ткани, которая крепит конец ребра к грудине), лобкового симфиза (соединения между правой и левой половинами таза спереди, за лобком) и соединения первого и второго крестцовых позвонков (в основании позвоночника). Он принадлежал, по всей видимости, к европейской популяции; частично сохранившиеся волосы были тонкими и светлыми. Его рост составлял от 1,75 м до 1,85 м, телосложение — хрупкое. Снять отпечатки пальцев нам не удалось. Зубы подвергались вмешательствам стоматолога, но опознать останки по дентальной карте, не зная предположительно имени человека, мы не могли.
Больше всего шансов на опознание давали его прошлые травмы. Из-за сросшегося перелома носовой кости слева его нос при жизни должен был выглядеть асимметричным. Сломана была и кость в основании черепа, так называемая боковая пластинка крыловидного отростка; обе травмы он мог получить одновременно, за несколько месяцев до смерти. Возможно, он попал в аварию или стал жертвой тяжелого избиения.
При первичном посмертном осмотре был пропущен перелом челюсти слева: он не сросся до конца, но мог произойти вместе с первыми двумя. Такие травмы лечат в больнице, накладывают пластины и закрепляют их винтами, но в данном случае ничего подобного не делалось, и мужчина должен был испытывать мучительные боли всякий раз, когда пытался жевать. Что если невыносимые страдания заставили его совершить суицид?
Его коленные чашечки находились не в лучшем состоянии, что довольно необычно у людей его возраста, так что ходить ему тоже было больно, и он, возможно, хромал. Левый резец оказался сломан, видимо, в результате того же инцидента, когда пострадало его лицо и голова, и сломанный зуб был виден, когда он открывал рот.
Он был одет в светло-голубую футболку с треугольным вырезом, с надписью и рисунком на груди; в темно-синий спортивный свитер на молнии; джинсы на пуговицах и серо-черные кроссовки на шнурках с красной подошвой. Длина джинсов соответствовала установленному нами росту, а размер — размерам футболки и свитера. Описание одежды никого вам не напомнило? Пожалуйста, просмотрите внимательно последние страницы книги: там вы найдете все подробности, включая марки, логотипы и точные размеры его вещей.
Кем был этот человек? Одно время предполагали, что это бездомный, обитавший в лесах на окраине Бальмора. Он подходил под описание и его там давно не видели, так что этот вариант нельзя сбрасывать со счетов. Однако установить его имя полиции не удалось, и след заглох.
Возможно, мужчина из Бальмора не хотел, чтобы его нашли. Возможно, он чего-то боялся и хотел скрыться. Кто мог сломать ему челюсть? Почему он предпочел мучиться от боли, вместо того чтобы обратиться за медицинской помощью? Почему он лишил себя жизни? Вообще, это звучит странно: что значит «лишил»? Когда дело касается смерти, наша речь становится неуверенной и туманной. Смерть ставит столько вопросов, что иногда мы просто не в силах найти на все ответ.
Я считаю, что раз у нас есть право быть собой при жизни, то есть и право остаться собой после смерти. И даже если кто-то решает отказаться от этого права, у живущих после него имеется возможность вернуть человеку имя, которое он сам у себя отнял. Время здесь ничего не решает. И пускай задача эта не из простых, но случаи, как с Александром Фэллоном, опознанным спустя шестнадцать лет после гибели в пожаре на Кингс-Кросс в 1987 году, подтверждают, что это возможно.
Где-то в мире должна быть семья, разыскивающая мужчину из Бальмора. И мы сделаем все возможное, чтобы ей его вернуть.
Глава 9 Расчлененные останки
«Огонь и крест, толпы зверей, рассечения, расторжения, раздробления костей, отсечение членов… придут на меня»
Игнатий Антиохийский, священномученик (ок. 35-107)Акт разделения тела на части в процессе жертвоприношения или казни до некоторой степени присутствует практически во всех культурах. Гравюры на дереве с изображениями зверств испанцев в Новом Свете или сатирические рисунки анатома Уильяма Хантера, изображавшего Судный день, свидетельствуют о принятии человечеством практики нарушения телесной целостности. Действительно, она существовала в разных видах практически во всех обществах на разных стадиях их истории и объяснялась разнообразными культурными, религиозными и ритуальными мотивами. И только в относительно недавнем прошлом расчленение человеческого тела стало считаться отвратительным и ассоциироваться с преступлением — обычно с убийством.
Конечно, не все расчленения имеют криминальную природу. Несчастный случай на производстве или в ходе спортивной тренировки может привести к потере конечности, а суицид с прыжком на рельсы заканчивается обычно не только расчленением, но и разбрасыванием останков в разные стороны, как и при авиакатастрофах, когда разрозненные части тел приходится специально искать.
Из 500–600 убийств в год, случающихся на территории Великобритании — менее 1 на каждые 100 000 населения, — примерно три связаны с преступным расчленением тела, так что происходит оно нечасто. Однако если уж происходит, то воспламеняет воображение общественности, а СМИ освещают его в разы шире, чем любые другие преступления, предоставляя тем самым источник вдохновения авторам детективных романов, телесериалов и фильмов ужасов.
А как в реальном мире избавиться от тела, чтобы его никто не нашел? Многие считают, что знают ответ на этот вопрос (большинство основывается на сериале Декстер, который идет по телевидению), входящий в общую концепцию идеального убийства. Однако, конечно же, если убийство идеальное, то тело никогда не будет найдено, а убийца — наказан, поэтому все преступления, о которых мы узнаем — уже не идеальны. Если убийце удается выйти сухим из воды, что, безусловно, время от времени случается, он не просвещает других насчет того, как это сделать. Даже когда тела нет, расследование все равно может продолжаться, просто преступление будет сложнее доказать.
Тело — очень неудобный в обращении объект; его размеры, вес и нежелание подчиняться делают попытки от него избавиться крайне сложными для того, кто пытается что-то скрыть. За исключением случаев, когда труп оставляют там же, где наступила смерть (мы обнаруживали тела под кроватями, в комодах и гардеробах, за декоративными панелями в ванной, на чердаках, в подвалах, в садах, в сараях и гаражах, в каминных трубах и под новыми террасами и дорожками), его требуется куда-то перенести. Обычно удалить труп с места преступления необходимо немедленно, поскольку убийца стремится оказаться от него как можно дальше.
Однако здесь он сталкивается с кое-какими проблемами. Как перемещать тело — целиком? Если нет, то где его расчленять? И чем? Во что заворачивать куски? А ведь из них кровь льется рекой — уж вы мне поверьте. Куда их все сложить? Когда перевозить? Что если кто-то увидит? Сейчас кругом камеры наблюдения, да и случайные пешеходы тоже на каждом шагу. Куда их везти? Какое транспортное средство использовать? Где его раздобыть? Как выбрасывать останки, добравшись до места? Как справиться со всем самому?
Если убийство планировалось заранее, преступник обычно представляет себе, что делать с телом, но большинство убийств происходит непреднамеренно, без предварительного обдумывания. Поняв, что убил свою жертву — намеренно или нет, — убийца немедленно сталкивается со всеми этими вопросами, которые лавиной обрушиваются на его пребывающий в панике мозг. В результате он принимает поспешное решение, которое тут же и осуществляет. Очень мало людей оказывается в подобной ситуации. Для многих это первый и единственный раз, когда они кого-то убивают и расчленяют тело, поэтому они неизбежно оставляют улики — след для полиции и судмедэкспертов.
Предумышленность убийства важна в том смысле, что является отягчающим фактором в случае подтверждения обвинения, равно как и намеренное расчленение тела. Убийство и так считается, пожалуй, самым тяжким из преступлений, поэтому намеренное расчленение останков рассматривается как переход всех границ, свойственных человеку. Доказанное расчленение тела поэтому признается отягчающим фактором при убийстве и наказывается соответственно. Тот факт, что все, кто отбывает в тюрьмах Великобритании пожизненный срок, несут наказание за убийство и убийство с отягчающими обстоятельствами, наглядно демонстрирует, насколько серьезно общество воспринимает данный тип преступлений.
Поскольку преступления с расчленением тела совершаются нечасто, полицейский за весь срок службы может никогда с ними не столкнуться. Поэтому полиция обращается за помощью к другим профессионалам, в том числе судебным патологам и антропологам, имеющим больше опыта в данной сфере. Моя команда в Данди регулярно работает с подобным типом преступлений и имеет статус национальных экспертов, сотрудничающих с Государственной следственной службой.
Существует пять основных типов криминального расчленения тела, классифицированных в основном по намерениям преступника. Расчленение в целях защиты (дефензивное) встречается чаще всего — в 85 % случаев. Этот странный термин отражает практическую необходимость избавиться от тела как можно быстрей и как можно чище. Мотивом здесь является устранение улики и сокрытие правонарушения — обычно, но не всегда, это убийство. Иными словами, оно является средством, а не целью, в отличие от исходного преступления. Для преступника выглядит логичным разделить труп на части подъемных размеров, чтобы убрать их с места преступления и избавиться от тела, не привлекая к себе внимания.
Статистика говорит, что большинство убийц и расчленителей знакомы со своими жертвами, а убийства совершаются дома у тех или у других. Расчленение обычно происходит на месте убийства, с использованием инструментов из домашнего обихода — из кухонь, гаражей и сараев. Неудивительно, что ванные — приспособленные вмещать большие объемы жидкости и удобные в уборке — выбираются для этого чаще всего, ведь ванна или душевая кабина — лучшие контейнеры, специально построенные с учетом размеров и формы человеческого тела. Поэтому если у полиции имеются подозрения на то, что останки были расчленены, судмедэксперты всегда начинают обследование с ванной.
Разрубать или распиливать тело в ограниченном пространстве ванной или душа, согнувшись в три погибели, достаточно тяжело, так что брызги крови и ошметки тканей летят во все стороны; как бы тщательно преступник не убирал потом за собой, мазки, взятые со стен, кранов и пола зачастую выявляют следы крови. Тщательно исследуется содержимое сифона, а все поверхности проверяются на сколы от пилы или топора. Невозможно расчленить тело, нигде не оставив зарубок.
Расчленение в целях защиты обычно характеризуется анатомическим подходом к процессу, поскольку с телом легче всего обращаться, разделив его на шесть частей: голову, корпус, две верхних и две нижних конечности. Целый корпус все равно остается довольно громоздким, однако его редко режут еще напополам из-за неудобств при вскрытии брюшной полости. Резать через кости тоже тяжело — они устроены так, чтобы день за днем выдерживать вес тела, амортизировать все удары и толчки. Ножом тут не обойтись. Приходится прибегать к более мощным инструментам: пилам, топорам и даже садовым секаторам.
Обычно первыми отрезают конечности. Поскольку они крепятся к телу только с одного конца, то сильно мешают преступнику, а без них управляться с телом становится легче. Традиционно преступники режут через бедренную кость (нога) и плечевую кость (рука), отделяя конечности от остального тела.
Голову трупу отрезать проблематично, так как наша шея состоит из целого набора перекрывающихся и пересекающихся костей, наподобие детского конструктора, так что чистого среза добиться очень нелегко. Ко всему этому прибавляется еще психологический фактор. Большинство преступников отрезают голову, положив тело лицом вниз, а не вверх, опасаясь, что, заглянув в глаза жертвы, на это уже не решатся.
С практической точки зрения они могут думать, что отделить голову проще, начиная с затылка, но на самом деле, если знать, как действовать, ее гораздо легче отделить спереди. Многим перспектива отрезания головы кажется такой страшной, что они начинают рассматривать вариант с разделением корпуса, каким бы тяжелым и неприятным он не представлялся, и в конце концов склоняются к нему. Это тоже большая ошибка, так как улики после него практически невозможно скрыть. Пока корпус цел, все органы находятся внутри, но стоит его расчленить, как они вываливаются наружу и распространяют отвратительнейший запах.
Если расчлененные останки не предполагается хранить прямо в доме, их надо вынести из ванной и куда-то увезти. Большинство преступников заворачивают фрагменты тела в пластиковые мешки, пакеты для мусора или пищевую пленку, а также в любые домашние целлофановые или тканевые полотнища, будь то шторки для душа, полотенца или простыни. В процессе они стараются не допускать протечек крови из свертков и мешков, в которых переносят тело. Однако мешки для мусора может прорвать, например, осколок кости, а полотенца быстро пропитываются вытекающей из останков кровью.
Завернутыми в ковры трупы перевозят разве что в старых кинокомедиях — сейчас их транспортируют преимущественно в рюкзаках и чемоданах на колесиках. Никто не станет с подозрением присматриваться к человеку, который грузит чемодан в багажник машины или такси, либо катит за собой по тротуару.
Защитным расчленение считается также в случаях, когда применялось с целью препятствовать опознанию трупа. Обычно преступники уродуют лицо (препятствуя визуальному опознанию), зубы (чтобы их нельзя было сравнить с дентальной картой) и руки (избавляясь от отпечатков пальцев). Иногда с жертв срезают кожу, удаляя татуировки, и те части тела, на которых присутствует пирсинг.
К счастью, эти меры редко приводят к успеху. Убийца думает, что знает, по каким приметам опознают останки, но достижения современной науки куда серьезней, чем он может себе представить. Как мы уже видели, практически любая часть тела помогает тем или иным образом опознать труп. В последние десятилетия рост популярности разнообразных экспериментов над собственной внешностью обеспечил криминологам новые возможности для поиска. Все больше людей делают татуировки, пирсинг и ставят силиконовые имплантаты — в грудь, ягодицы и даже икроножные мышцы, — что заметно помогает при опознании, если только свидетельства этих вмешательств доходят до экспертов.
Конечно, больше всего шансов опознать труп, если он найден целиком, но иногда удается идентифицировать даже сильно разложившиеся или расчлененные останки. Бывает, что преступник вынимает серьгу, но пирсинг все равно заметен на коже, что помогает при опознании. Силиконовые имплантаты — на которых, если повезет, удается обнаружить и расшифровать серийные номера, — позволяют отследить, где была выполнена операция и, соответственно, кому. От татуировки можно избавиться, срезав кожу или расчленив тело, но если вы представляете себе, как она выполняется, то достаточно даже минимальных познаний в анатомии, чтобы обнаружить ее следы.
Кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы. Внешний слой, эпидермис (тот, который мы видим), состоит из отмерших клеток, которые постепенно отпадают — по 40 000 клеток в день. Поэтому чернила, попав туда, быстро выцветут и исчезнут, как и происходит с временными татуировками, например хной. Под эпидермисом находится дерма, слой, до которого прокалывает кожу татуировщик своей иглой. В нем много нервных окончаний, но нет кровеносных сосудов, поэтому делать татуировку больно, но кровь при этом не идет. Вспомните, как можно порезаться листом бумаги — вроде бы, крови нет, но чертовски больно. Это потому, что порез прошел через эпидермис до дермы, богатой нервными окончаниями, но не дошел до гиподермы с кровеносными сосудами.
Татуировать гиподерму бессмысленно, так как кровеносная система быстро удалит чернила как отходы жизнедеятельности и выведет их из организма. Молекулы краски для татуировки крупные и инертные, поэтому не разлагаются в организме, не взаимодействуют с иммунной системой и могут успешно задерживаться в дерме — между эпидермисом и гиподермой, — как сыр в сандвиче. Однако часть их будет проникать в кровь (татуировки со временем выцветают) и окажется в лимфатической системе, выводящей из тела отходы.
Каждый лимфатический сосуд в дерме приходит к лимфатическому узлу; узлы разбросаны по всему телу, но больше всего их в местах присоединения конечностей, в паху и в подмышках. Эти крупные узлы действуют наподобие сифона под душем, где скапливаются волосы: поскольку молекулы чернил слишком велики, чтобы просочиться через узлы, краска накапливается в них. Вот почему у людей с татуировками узлы обычно принимают ту же окраску, что и чернила.
Я давно знала об этой, в целом безопасной, анатомической особенности: препарируя в студенчестве подмышку Генри, моего молчаливого учителя, у которого на обоих предплечьях красовались старомодные синие якоря, я обратила внимание, что его лимфатические узлы окрасились в синий, с вкраплениями красного — от подписей под татуировками. Сегодня, когда татуировки стали чуть ли не необходимым модным атрибутом (в Великобритании около 40 % молодежи в возрасте от 20 до 30 лет делает себе как минимум одну), мы гораздо чаще наблюдаем такой феномен, причем самых разных цветов, какие только используют татуировщики — лимфатические узлы у современных модников бывают всех цветов радуги.
Представьте, что был найден корпус без конечностей — если плоти на нем сохранилось достаточно, мы можем изучить лимфатические узлы в подмышках, проанализировать обнаруженные там краски и сказать, имелись ли у покойного татуировки на одной или обеих руках, и каких они были цветов. К сожалению, мы не скажем, был у него нарисован дельфин, колючая проволока или просто слово «МАМА». Однако и это уже неплохо — для начала.
К моему большому огорчению, у одной из моих дочерей имеется три татуировки (насчет которых я в курсе), пирсинг и, скорее всего, еще какие-то модификации, о которых матери лучше не знать. Даже я подумываю когда-нибудь сделать небольшую татуировочку, исключительно из практических соображений. Я хотела бы написать «UK, Black» и номер моего социального страхования на запястье, чтобы татуировка пряталась под ремешком часов, как у леди Рэндольф Черчиль, имевшей, якобы, на этом месте татуировку со змеей. Тогда, если я погибну в какой-то катастрофе, или мои останки не найдут вскоре после смерти, эта полоска кожи поможет команде судмедэкспертов и немного облегчит им работу.
Правда, достаточно мужества я пока не набралась. Памятуя о том, как в полуобморочном состоянии явилась в день своего пятнадцатилетия в лавку ювелира в Инвернессе, чтобы проколоть себе уши — я сказала, что не надо назначать мне визит на следующие дни, иначе я никогда не приду, надо колоть сейчас и все тут, — я вообще сомневаюсь, что когда-нибудь решусь.
Некоторые расчленители пытаются полностью разрушить останки, например, растворить в химикатах или сжечь. Но растворить тело не так просто, как многие считают. Насыщенные кислоты и щелочи опасны в работе и получить их в достаточном количестве, не вызвав подозрений, практически невозможно. Да и контейнер, который они в процессе не повредят, раздобыть нелегко.
Однажды я работала над делом жителя Северной Ирландии, который сознался в том, что убил тещу и избавился от останков. Он утверждал, что растворил ее в ванне с уксусом и каустической содой, а раствор спустил в канализацию, что выдавало его крайне отдаленное знакомство с химией. Поскольку уксус — это кислота, а сода — щелочь, они нейтрализуют друг друга. Более того, нет таких химикатов, которые продавались бы в магазине, чтобы растворить в них тело взрослого человека с костями, зубами и хрящами до состояния жидкости, которую можно спустить в слив. Кислота должна быть максимально насыщенной, и шансы, что домашняя сантехника ее выдержит, равны нулю.
Даже если получено признание, иногда улики, представленные предполагаемым преступником, не выдерживают никакой критики из-за их наивности. Тот мужчина позднее сообщил, что разрубил тело тещи, а куски разбросал по мусорным контейнерам по всему городу. Нам никаких фрагментов тела обнаружить не удалось, равно как и свидетельств ходивших по городу слухов, что теща закончила свои дни сырьем для кебабов, которыми зять торговал у себя в лавке.
Второй по распространенности вид расчленений — агрессивное, иногда называемое также «сверхубийством». Оно является отражением крайней ярости, охватывающей убийцу в момент совершения преступления, которое далее переходит в расчленение и жестокое уродование тела. Для него характерен некоординированный, нелогичный порядок действий. Расчленение зачастую начинается еще до смерти жертвы и может в некоторых случаях стать ее причиной. Чтобы отнести расчленение к этому типу, проводится анализ паттерна причинения увечий — он в целом повторяет modus operandi самого известного в Англии серийного убийцы, пресловутого Джека Потрошителя, который убил как минимум пять женщин, а возможно и более одиннадцати, на улицах Уайтчепела в викторианском Лондоне.
В совершении этих преступлений подозревалось около ста человек, но до сих пор неизвестно, кто из них действительно являлся Джеком Потрошителем. К сожалению, нет уверенности даже насчет кандидатуры Уильяма Бери, последнего преступника, повешенного в Данди, которого казнили за убийство и расчленение жены Элен и который жил в Боу, близ Уайтчепела, в период, когда происходили убийства. Однако если все-таки это был он, то я могу похвастаться, что шейный позвонок самого Джека Потрошителя лежит у меня на полке в рабочем кабинете.
Оффензивное расчленение, третий тип, зачастую следует за убийством на сексуальной почве и совершается из садистического удовольствия либо от причинения боли живому человеку, либо от уродования трупа. Такой тип расчленения часто включает нанесение увечий в области половых органов и может являться исходной целью убийства. К счастью, встречается подобное очень редко.
Некроманическое расчленение, самое редкое из всех, незаслуженно привлекает к себе повышенное внимание благодаря фильмам и романам, в которых муссируются самые мрачные и отвратительные акты насилия и жестокости. Мотивацией для такого расчленения может быть попытка завладеть определенной частью тела в качестве фетиша или трофея. Каннибализм также подпадает под эту категорию. Следует отметить, что некроманическому расчленению не обязательно предшествует убийство: оно может происходить, например, когда у преступника появляется доступ к мертвому телу, или включать эксгумацию и вскрытие трупов. Из соображений гуманности и религиозных верований, мы стараемся обеспечить человеческим останкам мирное упокоение на веки веков, и если общество еще может согласиться потревожить их покой в ходе необходимых мероприятий судебного порядка, то с кощунственными действиями в отношении трупов оно мириться не станет.
Наконец, существует демонстративное расчленение, зачастую применяемое бандами или противоборствующими группировками в качестве угрозы своим врагам, которые должны воздержаться от каких-то действий, или аргумента убеждения за присоединение к ним, а не к их соперникам. Смысл его абсолютно ясен: если вы не сделаете того, что мы хотим, вот что с вами произойдет.
В Косово, где я провела большую часть 1999 и 2000 годов в составе британской команды судмедэкспертов, действовавшей по запросу Международного трибунала по бывшей Югославии, мы не раз сталкивались с примерами подобных «демонстраций». Молодого человека, обычно этнического албанца, похищали, убивали и разрубали на мелкие кусочки. Эти кусочки затем подбрасывали к дверям домов других молодых людей, тем самым запрещая им вступать в Армию освобождения Косова, албанскую военизированную организацию. В некоторых случаях послание достигало нужного эффекта. В других, наоборот, лишь усиливало националистические настроения, заставляя людей вступать в партизанскую войну против сербов.
В качестве национальных экспертов, избранных властями Великобритании, члены моей команды часто подключаются к расследованиям случаев расчленения, и, надо сказать, работать над ними непросто, даже если останки не разбросаны по двум разным округам, как случилось в одном из дел от 2009 года.
Первый сигнал поступил в полицию, когда на обочине проселочной дороги в Хартфордшире была обнаружена нога, завернутая в пластиковый пакет. Останки оказались свежими и были отделены от корпуса по тазобедренному суставу тем же способом, который применяется при медицинских ампутациях. Полицейские проверили все местные больницы, чтобы убедиться, что там не было происшествий с кремацией останков, но везде персонал клялся, что нога точно не от них. Поиски по базе данных ДНК совпадений не выявили. Ясно было, что нога принадлежала взрослому мужчине европеоидной расы. Его рост приблизительно вычислили по длине кости, но с учетом специфики полученных данных, основанных на обследовании только одной конечности, под описания людей, пропавших в данной местности, либо под кандидатуры, зафиксированные Бюро розыска пропавших, данный случай не подпадал.
Через семь дней левая рука с отрезанной кистью, также в пластиковом мешке, была обнаружена в канаве рядом с другой дорогой, примерно в двадцати милях от места, где выбросили левую ногу. ДНК совпадала с ногой. Еще через два дня перепуганный фермер из Лестершира наткнулся на человеческую голову, валявшуюся на выгоне для коров. Поскольку заявление он подал в другом округе, связь с совпавшими ранее ногой и рукой выявили не сразу. Лестерская полиция в то время разыскивала недавно пропавшую женщину и предполагала, что голова может принадлежать ей — хотя останки и были свежими, опознание по лицу не представлялось возможным, потому что на черепе отсутствовала кожа и мягкие ткани. Судмедэксперты приписали это действиям животных. Однако наше исследование показало, что останки, скорее всего, мужские, а сличение черепа с фотографией пропавшей женщины дало отрицательный результат.
Полиция Лестера потратила несколько дней на безуспешные поиски по базам данных ДНК, и какое-то время полицейские разных округов независимо друг от друга искали недостающие части тела на своих территориях. На следующей неделе, опять в Хартфорде, правая нога, разрезанная пополам в колене и завернутая в пластиковые пакеты, была обнаружена на другом проселке. Наконец, спустя четыре дня, нашелся торс с правой рукой, от которой по запястью отрезали ладонь, и с левым плечом, все еще остававшимся на месте. Торс был завернут в полотенца и спрятан в чемодан, который затем бросили в ирригационной канаве в сельской местности, снова в Хартфордшире.
Общность ДНК у всех разрозненных останков была, наконец, подтверждена, но совпадений по базе данных так и не нашлось, поэтому личность жертвы установить не удавалось. Расследование обстоятельств смерти и поиск убийцы, или убийц, значительно осложнялись. Хотя на нижних конечностях стопы сохранились, обе ладони были отрезаны и пропали, так что расчленение не соответствовало традиционному «шестеричному» паттерну. Разброс фрагментов, однако, соответствовал наиболее популярному мотиву для расчленения: избавление от останков. Отсутствие ладоней и лица указывало на попытку сокрытия улик путем затруднения опознания жертвы.
То, что останки разбросали по такой большой территории, вызвало некоторую бюрократическую суматоху. Кто будет вести расследование? Отдел, в который попала голова? Отдел, который первым получил ногу? Тот, у кого больше фрагментов тела? Непростая задача — управлять расследованием тяжелого преступления, в котором задействована полиция сразу двух округов, особенно с учетом бюджета и загруженности персонала. Однако в тот раз все прошло как по маслу — это было самое профессиональное сотрудничество между двумя полицейскими службами, которое нам когда-нибудь приходилось наблюдать.
Мы с доктором Люсиной Хакмен отправились на юг, на помощь. Долгая дорога давала нам время как следует поговорить — если бы разговоры были олимпийским видом спорта, мы с ней давно получили бы по золотой медали. Хотя по пути мы немного задержались, чтобы помочь в другом деле, связанном с наркотическими войнами и телом без лица на севере Англии, в основном мы только и говорили, что о случае с расчленением. У нас имелась гипотеза, не совпадавшая с теориями полицейских, и за эти семь часов в машине мы подробно ее обдумали и обсудили. Если мы ошибались, то проявили бы себя как две самых глупых курицы по эту сторону реки Твид. Но если были правы, то задали бы жару полицейским и в Хартфорде, и в Лестершире.
Мы не были согласны с предполагаемым modus operandi этого расчленения. Пара деталей не вписывалась в общую картину, и пара въедливых дамочек собиралась ими заняться вплотную. Первая проблема заключалась в расположении разрезов. Да, схема казалась почти классической, но способ, которым они выполнялись, был необычный. Те, кто никогда до этого не расчленял человеческое тело — а к таким, как ни крути, относится большинство населения, — постарался бы отпилить конечности по длинным костям, плечевой и бедренной. Исследования, проведенные нашим центром, показывали, что при столкновении с необходимостью избавиться от трупа, люди обычно хватаются за кухонный нож, и только осознав, что он прорезает мягкие ткани кожи и мышц, но не справляется с костями, идут в сарай или в гараж за пилой или ножовкой. Те, кто привык готовить, могут воспользоваться рубящим инструментом, например, топориком для мяса или колуном для дров. Однако это тело выглядело так, словно его «разобрали», а не просто распилили на части, а подобное встречается крайне редко. Собственно, мы с таким столкнулись в первый раз. Нам надо было поближе изучить поверхности костей, чтобы определить, какой тип инструментов использовал преступник, потому что там явно таилось нечто необычное.
Во-вторых, голову отделили от тела нетрадиционным образом. Для начала, ее нашли в другом округе. Она не была ни во что обернута и единственная из всех фрагментов лишилась мягких тканей. Нас не убедила теория судмедэксперта о том, что лицо съели животные, поскольку на черепе не имелось характерных следов зубов, которые они оставляют — и дикие, и домашние.
Анализ следов орудия, по крайней мере, в теории, достаточно прост. Если два предмета вступают в контакт, тот, что тверже, оставляет следы на том, что мягче. Если, к примеру, вы порежете головку сыра зубчатым хлебным ножом, то нож, более твердый объект, оставит маленькие бороздки на более мягком сыре. То же самое происходит с костью. Если она вступает в контакт с острым предметом, таким как нож, пила или зубы животных, на ней появляются следы, и по ним можно установить, какое орудие их оставило. Соответственно, если исчезновение мягких тканей с головы покойного было результатом вмешательства животных, в чем мы сильно сомневались, на черепе должны были остаться характерные отметки их зубов.
На голове не сохранилось ни кожи, ни мышц. Не было ни глаз, ни языка, ни содержимого ротовой полости, ни ушей. Никакое животное не нанесло бы такого ущерба, совсем не оставив следов. Мы были убеждены, что найдем, скорее, следы порезов, сделанных наточенным лезвием, в зонах, где мышцы крепятся к кости. В этом случае, если, конечно, отбросить возможность внезапного эволюционного скачка у местного бобра, который вдруг научился пользоваться скальпелем, оставался лишь один вариант — мягкие ткани с лица срезал человек, и тут требовались кое-какие объяснения. Голову очень чисто отделили от тела, между третьим и четвертым шейными позвонками, а это также довольно необычно с точки зрения статистики расчленений.
Мы старались держать свои соображения при себе, пока не сможем подробно изучить череп. На планерке мы любезно выслушали сообщение о предполагаемом вмешательстве животных. В подобных обстоятельствах мы с Люсиной всегда следим за своими бровями. Они у нас, видите ли, очень выразительные — о чем нам неоднократно говорили, — и если мы с чем-то не согласны, так и ездят вверх-вниз. Однажды мы с ней выступали в качестве экспертов со стороны защиты в суде, где обвинение представило столь смехотворные доказательства, что мы были вынуждены изо всех сил держать свои брови в узде, отчего к концу заседания у обеих страшно болела голова. В общем, за покер нам лучше не садиться.
На планерке мы старались молчать и максимально держать брови под контролем, пока не окажемся в морге, где сможем поближе рассмотреть останки. Голова действительно была лишена всех мягких тканей, и мы обнаружили следы ножа именно там, где и ожидали — на затылке и сбоку, под челюстью. С черепа в буквальном смысле слова срезали лицо.
Но на этом странности не заканчивались. Обследовав другие фрагменты тела, мы обратили внимание, что отделение ладоней выполнялось идеально точными одинарными разрезами поперек суставов, между запястной костью и нижним концом длинных костей предплечья, лучевой и локтевой. Ноги отняли по тазобедренным суставам, вытащив головку бедренной кости из вертлужной впадины, а уровень мастерства, с которым «разобрали» локтевой сустав левой руки, явственно говорил о том, что этим занимался знаток анатомии. И не какой-нибудь, а человеческой. И он явно уже проделывал такое раньше.
Очень редко нам случается видеть, чтобы расчленение выполнялось без пилы или топора, но в данном случае каждый фрагмент свидетельствовал о том, что к нему не применялись никакие тяжелые или зазубренные орудия, только острый нож. А для этого требуется подлинное мастерство. Даже голову отделили, не отрубив и не отпилив. На самом деле, именно так отделяют голову анатомы, техники в моргах и хирурги, чтобы выполнить процедуру максимально чисто и почти без усилий. Уж простите, но подробности я все же оставлю в секрете.
Мы с Люсиной устроили небольшое конспиративное совещание, заключавшееся преимущественно в тыканье пальцем и поднимании бровей. Полицейские поняли, что происходит нечто важное, и, понимая их обеспокоенность, мы с Люсиной, придя к согласию, немедленно созвали совещание и сообщили всем свою новость. Как обычно, они поначалу возражали (но судмедэксперт же сказал…), но далее, столкнувшись с неопровержимыми уликами, уступили и бросились звонить по мобильным телефонам.
Мы начали выдвигать разные версии относительно профессии преступника. Ветеринар? Мясник? Хирург? Лесничий? Патологоанатом? А что если, как мы, судебный антрополог?
Кто бы это ни был, с расчленением тела он справился куда лучше, чем с сокрытием останков: все они, за исключением ладоней (которые так никогда не нашлись), были обнаружены достаточно быстро.
Причина смерти была очевидна: жертву дважды ударили в спину четырехдюймовым лезвием. Один удар причинил проникающее ранение легкого, после которого человек еще какое-то время оставался жив. По оценке патологоанатома расчленение заняло около двенадцати часов, но здесь мы с ним снова не согласились. С учетом мастерства преступника, он мог управиться меньше чем за час, ну и еще час ему потребовался, чтобы упаковать все фрагменты и прибраться на месте преступления.
После того как экспертиза проведена, фотографии сделаны, а отчет написан, мы больше не участвуем в расследовании, а о его результатах можем узнать разве что из газет. Поскольку мы работаем по всей стране, то находимся с полицией отнюдь не в таких тесных отношениях, как показывают в детективных сериалах, и иногда, как в том случае, вообще ничего не знаем о ходе дела, пока не получаем вызов в суд. Мы не знаем, что полиция нашла, не знаем, чем закончилось расследование, и потому идем в суд только со своими заключениями, порой даже не представляя контекста.
Я ненавижу выступать в суде. Действовать в непривычной обстановке — для ученого страшный стресс. Здесь не мы устанавливаем правила, и нас редко ставят в курс общей стратегии. В нашей судебной системе за вас борются две стороны — одна стремится доказать, что вы главный эксперт во всем мире, а вторая — что вы безнадежный идиот. Я бывала в обеих ролях, ну и где-то посередине.
Пресса окрестила то дело «убийством с лобзиком». После анализа всех обнаруженных фрагментов тела, полицейские смогли установить личность жертвы — это был пропавший мужчина из северного Лондона, что подтверждали дентальные карты. Его кровь была обнаружена в спальне и в ванной в его квартире, а также в багажнике его автомобиля, но только крошечные пятнышки. Убийца и его соучастница — обвиняемых было двое, мужчина и женщина, — хорошо прибрали за собой.
Пару обвиняли в убийстве, ограблении и мошенничестве. Двое обвиняемых — значит, три круга опросов адвокатами, а потом, возможно, повторный опрос прокурором. Четыре круга опросов, к которым надо быть готовой, — ничего себе задачка! Выступать в незнакомом зале суда в незнакомом городе, по делу, над которым работала почти год назад, занятие не из приятных, и нет ничего удивительно, что я сильно нервничала. Если вас приглашают в качестве свидетеля, значит, предполагают, что вы можете сказать нечто важное, но вы не представляете, что это может быть, и в каком направлении вопросы могут вас увести.
Первой меня всегда опрашивает сторона, обратившаяся за экспертизой — в данном случае это было обвинение. Такой опрос проводится очень мягко, но я вечно запинаюсь, когда надо сказать свой возраст. Не то чтобы я его не признавала, но для меня возраст настолько не принципиален, что мне приходится задуматься, чтобы его вспомнить, отчего по залу неизменно пробегает смешок. Я замолкаю лишь на долю секунды, но этого достаточно, чтобы выбить меня из колеи. Каждый раз, когда такое происходит, я клянусь себе перед следующим заседанием специально вспомнить, сколько мне лет, но потом, конечно, забываю. С учетом обстоятельств, отнюдь не это занимает мои мысли.
Обвинение спросило меня о моей профессиональной квалификации, а затем об уликах; опрос шел гладко, но занял практически все утро, а затем судья объявил перерыв на ланч — это означало, что мне придется удалиться из зала суда и целый час нервничать в ожидании перекрестного допроса защитниками подсудимых. Здесь в дело вступает соперничество, так что ты никогда не знаешь, с чем можешь столкнуться. Мои мучения на свидетельском месте могли затянуться еще на один день, что гораздо тяжелее, поскольку в промежутке между заседаниями ты не имеешь права ни с кем обсуждать процесс.
Первый адвокат лучился обаянием, что всегда является тревожным сигналом. Одобрив мою квалификацию, он предложил обсудить наше утверждение о том, что преступник хорошо разбирался в анатомии. Он уведомил меня, что его клиент — персональный тренер и бывший вышибала в ночном клубе. Он никогда не изучал анатомию и никогда не работал в мясной лавке, не жил за городом и не занимался фермерством или охотой. Он точно не являлся хирургом или ветеринаром, и тем более анатомом или судебным антропологом. Каким же образом он мог выполнить процедуры, для которых, по моим словам, требовалось обладать специальными навыками?
В такие моменты у меня по спине всегда начинает бежать холодный пот. Неужели я так ошиблась с выводами? Я спрашивала себя об этом снова и снова, но не могла прийти ни к какому другому разумному заключению. Далее адвокат коснулся вопроса орудий преступления. Конечно же, разливался он, для расчленения требовались специальные инструменты. На это я ответила, что преступник мог обойтись простым кухонным ножом, поскольку отлично знал, что делает.
— Но ножей такой остроты, думается, не найти на обычной домашней кухне?
Уже произнося свой ответ, я понимала, что он приведет к неприятностям.
— При всем уважении, сэр, на моей кухне ножи достаточно острые, чтобы это проделать. Адвокат тут же отреагировал:
— О, тогда, пожалуй, мне не стоит являться к вам на ужин.
Зал разразился хохотом, а я замерла на месте. Раньше при мне в зале суда никто не шутил, тем более в ходе процесса об убийстве и расчленении тела. Возможно, мне не следовало так удивляться. В конце концов, смерть и юмор всегда идут рука об руку, и, возможно, после нескольких весьма тягостных дней, присутствовавшие в зале были только рады, что кто-то немного разрядил обстановку. Меня так и подпирало ответить злорадным выпадом, но я предпочла сдержаться. Не стоит тягаться в остроумии с опытным адвокатом, если не хочешь выставить себя дурой. Поэтому я смолчала — и, думаю, правильно сделала.
И тут внезапно все закончилось. Никакого перекрестного допроса или повторного опроса обвинением. Я готовилась к худшему, но процесс завершился в мгновение ока. Никогда нельзя знать заранее, что произойдет в зале суда, особенно если ты не в курсе тактик, выбранных обвинением и защитой.
До процесса и в ходе него подсудимый и его сообщница утверждали, что невиновны, а потом, без предупреждения, внезапно признали свою вину. Мужчина сознался в убийстве, а женщина — в пособничестве и лжесвидетельстве перед судом. Пожизненный срок, присужденный убийце, был продлен с учетом отягчающих обстоятельств, а именно расчленения, и за добровольное признание его почти не скостили, потому что оно прозвучало, когда процесс шел к завершению, а также из-за тяжести преступления. Ему предстояло провести в тюрьме не менее тридцати шести лет.
Вскоре после вынесения приговора преступник сознался, через своего потрясенного адвоката, в том, что расчленил еще как минимум четырех разных мужчин. Это стало полнейшей неожиданностью для полиции, однако он отказался сотрудничать и не сообщил ни имен жертв, ни мест их захоронения.
Он действительно одно время работал вышибалой в ночном клубе, но также являлся штатным «мясником» известной лондонской банды. Если они убивали информатора или кого-то еще, кто мог им причинить неприятности, то доставляли тело к задним дверям клуба посреди ночи. «Мясник» расчленял труп и передавал по частям «мусорщику», который должен был от него избавиться, обычно, закопав в лесу Эппинг, где наш убийца, по его словам, спрятал ладони жертвы.
Он побывал в подмастерьях у опытного «мясника» и научился максимально эффективной тактике «разделывания» трупов. Тот факт, что за сокрытие расчлененных останков отвечали представители другой «специальности», объяснял его полнейшую беспомощность в этой сфере, в сочетании с отточенным «мясницким» мастерством.
Оказывается, это тоже может быть работой: только представьте, как она будет смотреться в резюме!
Я испытала громадное облегчение, осознав, что мы с Люсиной оказались правы. Ткани лица удалили, чтобы запутать следствие. Изначально обвиняемые валили вину в убийстве друг на друга, причем указывали разные методы. Только исследование лица и мягких тканей головы могло подтвердить, кто из них говорит правду, поэтому его удаление было своего рода страховкой на случай, если они попадутся. Они считали, что если мы не сможем установить, кто из них лжет, то суд не придет к однозначным выводам. Почему они изменили тактику и сознались, так и осталось неизвестным.
Их мотивы были исключительно финансовыми. Они продали имущество жертвы и опустошили его банковские счета. Это был ни в чем не повинный человек, который дал крышу над головой двум приятелям в нужде, а они ему отплатили, убив и разрезав на куски.
В суде я никогда не позволяю себе отвлекаться на других присутствующих в зале. В зрительный контакт я вступаю только с адвокатами и судьей. Я никогда, ни в коем случае, не смотрю на обвиняемого. Если я встречусь с ним на улице, я не хочу его узнать. Я редко смотрю и на лица присяжных, разве что в случаях, когда меня просят им что-то объяснить, потому что не хочу, чтобы чья-то мимика отвлекла меня от заданного вопроса. Обычно я стараюсь смотреть на плечо присяжного, сидящего прямо по центру. Я не обвожу взглядом зал, потому что эмоции сидящих там родственников могут пошатнуть мою сосредоточенность. Я поражаюсь их стоицизму, особенно на процессах по делам об убийстве. То, что им приходится выслушивать, порой настолько интимно и жестоко, что я невольно задаюсь вопросом, каково им присутствовать на открытом заседании, когда журналисты записывают каждую жуткую деталь, чтобы немедленно опубликовать онлайн, а на следующий день еще и в газетах. Семьи — тоже жертвы, и их терзания порой видны невооруженным взглядом.
У СМИ есть право сообщать об убийствах, но они настолько их смакуют и придумывают такие кошмарные заголовки, что все вместе выглядит просто отвратительно. Чем извращенней убийство, тем лучше продаются газеты. Я уверена, что они не вели бы себя так хищнически, как стервятники, окажись затронуты их семьи, но пока людей интересуют мерзкие подробности, будет существовать и беспринципная пресса.
Я не уверена, что смогла бы выдержать, коснись дело моей семьи — особенно если бы мою дочь убили, а преступником оказался мой сын. Именно так произошло в 2012 году в деле, попавшем в объектив журналистов из-за того, что жертвой оказалась актриса, недавно снявшаяся в популярном телесериале.
Об исчезновении Джеммы Маккласки сообщил ее брат Тони через день после того, как ее в последний раз видели живой. Он заявил, что надеется на ее возвращение и присоединился к поисковой партии, разыскивавшей ее. И все это время он отлично знал, где его сестра.
Джемму зафиксировали камеры наружного наблюдения, когда она входила в дом в восточном Лондоне, где жила вместе с братом; оттуда же был совершен последний звонок с ее мобильного телефона. Пять дней спустя, в Риджентс-Канал, в миле оттуда, был найден чемодан. В чемодане оказался торс молодой девушки с отрезанными конечностями. Опознание по татуировке и последующий анализ ДНК подтвердили, что это Джемма.
Неделю спустя ее руки и ноги, завернутые в полиэтиленовые пакеты, были найдены там же, в канале. Голову нашли только спустя полгода, выше по течению, тоже в черном пластиковом мешке. И только тогда выяснилась причина смерти.
Брат Джеммы, страдавший наркозависимостью, был арестован по обвинению в убийстве. Он славился своим непредсказуемым, порой жестоким нравом, и Джемма, по словам свидетелей, начинала возмущаться его безответственностью и возраставшей тягой к наркотикам. Он признался, что они поругались из-за того, что он оставил открытым кран и устроил в ванной потоп. Брат утверждал, что действительно вышел из себя, но не помнит, чтобы бил ее, убивал или расчленял.
Причиной смерти стал удар тупым предметом по голове. Обстоятельства убийства и последовавшего за ним расчленения говорили о характерном дефензивном паттерне: яростная ссора в состоянии наркотического опьянения; убийца и жертва хорошо знают друг друга; смерть наступает в доме жертвы; расчленение производится без соответствующей подготовки и планирования; тело разделяют на шесть частей, оборачивают их в пакеты и переносят в чемодане, а затем выбрасывают в водный массив, ближайший к месту убийства и легко достижимый. Первые попытки расчленения не удались, и преступнику пришлось сменить орудие; в обоих случаях он пользовался обычными домашними инструментами, ножом и топориком. Все это указывало на человека, не имевшего опыта подобных преступлений, и подозрение неизбежно падало на Тони Маккласки.
Поскольку он продолжал утверждать, что не помнит, что произошло, картина преступления составилась отчасти из фактов, а отчасти из предположений. Доподлинно известно, что Эмма получила как минимум один смертельный удар по голове тяжелым предметом, который не удалось ни установить, ни обнаружить. Вероятно, она скончалась на том же месте, где упала. Когда Маккласки, находившийся, вероятно, под действием наркотиков и сильно возбужденный, понял, что убил ее, то сразу запаниковал и, вместо того чтобы взять на себя ответственность за преступление, предпочел избавиться от тела и притвориться, что ничего не знает.
Дом был маленький и прятать тело, когда полиция приедет искать Джемму, было негде. Поэтому он решил, что его надо унести. Он знал, что незаметно вынести труп из дома можно только в расчлененном виде. Куда он ее положил, чтобы разделать на куски? Этого мы не знаем. В ванной, наиболее подходящей для данных целей, не было найдено никаких следов крови — мало того, там лежал нетронутый слой пыли. Возможно, он разложил ее на полу, накрытом целлофановой пленкой, а кровь промокал полотенцами. Как бы то ни было, о чистоте он позаботился.
В какой-то момент он раздел ее до нижнего белья. Ему предстояло разрезать тело, и он не знал, как к этому подступиться. Причем разделывать надо было не кого-то, а родную сестру! Кошмарная перспектива для человека в здравом уме; думается, он пошел на нее из чистого отчаяния. Возможно, он поискал в кухне, увидел подставку с ножами и решил начать с них — одного ножа на подставке не хватало.
Он попытался отрезать правую ногу, используя зазубренное лезвие, которым прорезал мягкие ткани в верхней трети бедра. Естественно, попытка провалилась, но он сделал около пятидесяти шести надрезов, прежде чем признать поражение. Далее он нашел что-то посерьезнее, видимо, топорик для мяса, и, сообразив, что с ним все получается, довершил остальное. То, что злополучным ножом он пытался отделить только одну конечность, свидетельствовало, что Маккласки учился непосредственно в процессе. Всего он совершил как минимум девяносто пять разрезов, тридцать девять из которых — более тяжелым инструментом, поверх пятидесяти шести, нанесенных зазубренным ножом.
Дальше он затолкал ее торс в чемодан на колесиках. Камеры наблюдения зафиксировали, как Маккласки грузил тяжелый чемодан в багажник такси. Когда нашли водителя, тот подтвердил, что его попросили доехать до ближайшего канала, и опознал в обвиняемом своего пассажира.
Маккласки, вероятно, потом вернулся с конечностями и головой, которые сбросил в воду на том же месте, хотя записей с камер наблюдения, подтверждающих это, нет. Вероятно, такси он больше не вызывал, так как отдельные части тела нести было легче.
Я получила вызов на свидетельствование в процессе. Не уверена, что мое выступление пролило дополнительный свет на обстоятельства преступления; скорее, обвинение сочло подробный, изобилующий научными терминами доклад о процессе расчленения и количестве разрезов, сделанных при удалении каждой конечности, подтверждением того, сколько сил и времени преступник потратил, чтобы избавиться от тела. В подобных обстоятельствах приходится аккуратно подбирать слова, памятуя о том, что родственники жертвы присутствуют в зале. Я всегда боюсь усилить их и без того чудовищные страдания и скорбь. Мы стараемся выражаться максимально отстраненно, однако не существует мягких терминов, в которых можно описать такое страшное преступление, как расчленение тела.
Мне пришлось в точности рассказать, что сделали с телом Джеммы, описать порядок, в котором от него отделили конечности и голову, и в какой позиции она при этом находилась — вверх лицом или вниз. Очень непросто было говорить все это в присутствии ее семьи, слыша всхлипы и стоны. Я испытала облегчение, когда адвокат обвиняемого согласился с моим свидетельством и не запросил перекрестный допрос, избавив тем самым родных от необходимости снова выслушивать подробности случившегося.
Мое выступление заняло около часа, и когда я уже собиралась уходить из здания суда, представитель по связям с членами семьи остановил меня и спросил, не соглашусь ли я повидаться с отцом Джеммы. Он лично переговорил и поблагодарил всех, кто участвовал в расследовании дела его дочери и хотел встретиться со мной тоже.
В своей сфере мы стараемся держать дистанцию и не соприкасаться с тягостными эмоциями, которые испытывают родственники жертв. Если в зарубежных командировках я соглашалась на подобные контакты, то на территории Великобритании — ни разу, и уж тем более с отцом, который только что выслушал мое выступление в суде относительно убийства и расчленения тела одного его ребенка другим. Я сильно нервничала. Что, черт побери, говорят в подобных случаях? Что тут вообще можно сказать? Я не могла — и ни за что не хотела бы, — испытать такую же боль, и не знала слов, которыми могла бы облегчить его страдания. Однако он, как выяснилось, ничего от меня не ждал. Отец девушки просто хотел до конца исполнить задачу, которую сам перед собой поставил.
Дожидаясь в комнате свидетелей, пока представитель по связям приведет мистера Маккласки, я сидела ни жива, ни мертва. Потом дверь тихонько приоткрылась, и коренастый, полноватый мужчина уверенно вошел внутрь. Именно таким представляешь себе завсегдатая бара в Ист-Энде — наверняка при других обстоятельствах этот человек был душой компании. Он пожал мне руку и сел, не говоря ни слова. Было видно, что он полностью сломлен: от него веяло трагедией и в глазах застыло неизбывное горе. Он исполнял последний долг в отношении своей дочери: благодарил людей, которые помогли правде выйти наружу, в результате чего его сын получил приговор. Проявив невероятную стойкость, он поблагодарил всех, от водолазов, доставших ее останки со дна канала, до полицейских следователей, а теперь вот говорил с судебным антропологом. На фоне его громадного человеческого достоинства, уважительности и чувства долга мои слова казались пустыми и неубедительными.
На всю жизнь я запомнила этого человека, его любовь к дочери — и, что немаловажно, к сыну, — как пример того, что человечность и сострадание торжествуют даже над самыми мрачными преступлениями.
Глава 10 Косово
«Человечество совершило больше преступлений против гуманизма, чем любые силы природы»
Барон Самуэль фон Пуфендорф, политический философ (1632–1694)С каждым днем наш мир как будто становится меньше. Постоянная потребность в свежей информации о событиях, происходящих на планете, поддерживается быстрым развитием технологий, ее поставляющих. Те дни, когда мы получали новости из утренних газет, радиопередач и телевизионных программ, в запланированное время, давно миновали; события, некогда казавшиеся глобальными, теперь имеют практически местный масштаб.
Первыми на такую 24-часовую зависимость от информации нас подсадили кабельные сети. Легкость, с которой телевидение транслировало передачи с места событий, спустя каких-то несколько минут после катастрофы, подкрепляла нарастающую потребность в свежих новостях. В 2014 изображения дымящихся обломков малазийского Боинга, сбитого над Украиной, облетели весь мир еще до того, как семьи пассажиров и экипажа узнали о том, что случилось с их родными. Я еще помню времена, когда таким новостям предшествовал стук в дверь, обычно поздно вечером: за дверью обычно стоял полицейский с каменным лицом и фуражкой, зажатой под мышкой.
В XXI веке нам не хватает даже 24-часового новостного вещания. Бесконечно повторяющиеся сообщения не содержат нового материала, хотя мы пытаемся выжать из них все, что только можно. Теперь социальные сети и мобильные телефоны стали главным источником информации, так что нам не надо сидеть перед телевизором, держа руку на пульте, чтобы быть в курсе последних событий.
Конечно, перемены неизбежны, и в основном они к лучшему, ведь новые технологии облегчают нашу жизнь, но иногда я не могу не вспомнить одну шотландскую старуху, которая давным-давно возмутилась, узнав, что теперь почта будет доставлять ей корреспонденцию ежедневно, по рабочим дням.
— Разве мало того, что я узнаю плохие новости каждую неделю? — стенала она. — Теперь вы хотите мне их сообщать ежедневно!
Иногда мы забываем, что у простой жизни есть свои преимущества. Многие новости, за которыми мы следим, в действительности нас не особенно интересуют и никак не влияют на нашу повседневную жизнь, однако мы все равно хотим знать о них все в деталях. Мы глотаем их пассивно, даже равнодушно, и я боюсь, что перегруженность информацией может привести к тому, что ничто в мире не сможет нас удивить.
Смерть всегда на главных ролях в новостном вещании, вне зависимости от того, имеет она крупные масштабы и малую детализацию — в результате войн, голода, природных или гуманитарных катастроф, — или касается кого-то одного, но особенно значимого и выдающегося. Особенно много внимания прессы она привлекла к себе в 2016-м, когда у людей начало складываться чувство, что умирает слишком много тех, кого все хорошо знают, хотя фактически роста смертности в этом году по сравнению с прочими отнюдь не наблюдалось. Как только подобная идея укореняется у нас в мозгу, мы начинаем рассматривать последующие схожие события как аргументы в пользу своей ошибочной теории — пример хорошо известной судебным органам проблемы под названием «работа на подтверждение», то есть тенденции сосредотачиваться на доказательствах, подтверждающих выработанную гипотезу.
В 2017 году смерть как будто витала над Великобританией, напоминая о себе терактами, которые теперь исполнялись в соответствии с последней мировой тенденцией: для них выбирались примитивные, простые в планировании и осуществлении методы убийства мирных граждан. Давить пешеходов грузовиками и нападать на них с ножами, как в Вестминстере и на Лондонском мосту, или при шокирующем убийстве пулеметчика Ли Ригби в 2013-м, это такой вид терактов, который трудней всего предсказать, а соответственно, и предупредить. Терроризм направлен на то, чтобы внушать людям страх. Наша реакция, например, установка заградительных барьеров на мостах, конечно, дает некоторые результаты, но те, кто устраивает теракты, просто корректируют свои методы и придумывают новые. Все, что мы можем, это не сдаваться под их напором и стараться идти на шаг впереди этих варваров.
В общем и целом, если новости не имеют к нам прямого отношения, то смерть, показанная в них, оказывает мало влияния на нашу повседневную жизнь. Война в какой-то далекой стране или преступления военного режима, занимавшего наше внимание на прошлой неделе, пропадают из заголовков, как только мы, потребители новостей, переключаемся на разоблачение какой-нибудь звезды, скандал на реалити-шоу или политическую склоку. До тех пор пока не произойдет нечто, что скажется лично на нас. Внезапно какая-то история превращается для нас в реальность, и, порой еще до того, как мы о ней узнаем, меняет весь ход нашей жизни.
Для меня такой момент настал, когда как-то вечером, в июне 1999-м, мне позвонил профессор Питер Ванезис, в то время главный патолог университета Глазго, где я числилась консультантом по судебной антропологии. Я знала Питера уже много лет, и поэтому его звонок не стал для меня сюрпризом. Когда он спросил, что я делаю в выходные, я ответила, опрометчиво рассчитывая на приглашение поужинать, что ничем не занята.
— Отлично, — сказал он. — Тогда вы едете в Косово.
С этого момента я отслеживала все новости, касавшиеся кризиса в Косово, прислушивалась к каждому слову репортеров и пыталась запомнить как можно больше сведений об этой стране, которую, как ни стыдно признаваться, мне пришлось пойти и поискать на карте.
В 1990-х я, как и все вокруг, следила за военными действиями в Боснии и была потрясена тем, что в наши дни подобные вещи могут происходить прямо у порога Европы. Я также понимала, что новости, доходившие до нас, намеренно смягчают, чтобы не шокировать неподготовленного зрителя. Если даже то, что нам показывали, наводило ужас, то что должно было твориться там на самом деле! Но все равно это происходило «где-то там», на чужой земле, и кто-то этим уже занимался.
По сегодняшним стандартам подробная и достоверная информация поступала достаточно медленно, и только когда стали появляться по-настоящему страшные картины, мы начали осознавать подлинные масштабы зверств, чинимых над мирными людьми. Ничего подобного в Европе не случалось со времен Второй мировой.
Судебные антропологи редко могут предвидеть, где при международных кризисах может потребоваться их вмешательство, если потребуется вообще, а если да, то на какой срок. Памятуя о знаменитом рекламном слогане Мартини — «в любое время, в любом месте, повсюду», — мою команду прозвали «девушками Мартини» (правда, чтобы понять юмор, надо быть достаточно старым и помнить ту убогую рекламу).
По мере углубления кризиса мы старались изыскивать подробную информацию, слушать проверенных корреспондентов и шерстить интернет — просто на всякий случай. Мы знали, что единственное предсказуемое свойство массовых смертей — это их непредсказуемость.
К 1998 году из новостей, поступающих из Косова, стало ясно, что гуманитарная ситуация там обострилась до крайней степени. ООН обсуждала с сербским президентом Слободаном Милошевичем и его правительством возможность выведения оттуда войск и вооруженных группировок. ОБСЕ сообщала о гуманитарных преступлениях беспрецедентного масштаба, на гражданское население совершались вооруженные нападения, в ходе которых гибли старики, женщины и дети. Хотя дипломатические и политические переговоры могут казаться ужасно скучными и медленными для всего окружающего мира, на самом деле это захватывающий процесс, когда ты начинаешь понимать, где, когда, как и почему происходят разные события, и уже видишь собственное, пусть и крошечное, место в этой истории.
Миротворческие войска стояли на границе Косова и знали об убийствах, изнасилованиях и пытках, творившихся там, но ждали сигнала к действию. Они не могли ничего предпринять, пока ООН не решит, что все попытки мирного урегулирования не принесли результата. Следовало соблюсти международный протокол, и, хотя на то имелись веские причины, трудно было мириться с подобным бездействием, когда каждый день невинных людей истязали и выгоняли из их домов. Пока вооруженные группировки боролись между собой, а партизанское движение набирало ход, мирное население просто старалось выжить. Ситуация была крайне сложной, и решить ее в один день не представлялось возможным.
Балканский регион издавна являлся зоной конфликтов. Политическая и религиозная напряженность отмечалась там с 1389 году, то есть с битвы при Косовом Поле и кровавой победы Оттоманской империи над средневековым сербским государством, за которой последовали десятилетия ожесточенной вражды. В результате сформировалась взаимная ненависть и ощущение несправедливости такой глубины, что на протяжении веков в регионе регулярно возникали жестокие конфликты.
Вдохновленные своими успехами, оттоманы стали захватывать в свои руки христианские сербские территории, включая Косово, которое с тех самых пор стало яблоком раздора. С середины XX века в регионе сохранялся шаткий мир — все благодаря активному подавлению националистических настроений во время долгого правления Иосипа Тито, президента Социалистической Республики Югославия.
Однако националистический пыл с обеих сторон не угас. То, что ненависть таких масштабов таилась под спудом у двух народов в течение многих веков, указывает на почти генетический характер враждебности, с которой обе группы относились друг к другу. Силу сербского национализма и убежденность в том, что Косово принадлежит сербам по праву, наглядно демонстрирует текст клятвы на монументе в память битвы при Косово, текст которой приписывается средневековому предводителю сербов, князю Лазарю — обратите внимание, что именно его выбрали для мемориала, построенного совсем недавно, в 1953 году.
Кто есть серб, и сербского кто рода. Кто от сербской крови и колена. И на поле Косово не выйдет Пусть вовек не знает он потомства. Женского потомства и мужского! Пусть ничто ему не уродится Ни вино, ни белая пшеница, Пусть погибнет все его колено!По югославской конституции 1974 года Косово получило статус автономии и управлялось преимущественно мусульманским албанским населением, потомками оттоманов. Сербские христиане были недовольны таким контролем над территорией, которую они считали своей духовной вотчиной, и рассматривали присутствие и власть мусульман как оскорбление в свой адрес.
После смерти Тито в 1980 году хрупкий мир в регионе оказался под угрозой. В 1989-м Слободан Милошевич провел закон, лишивший части прав Косовскую автономию. Жестокое подавление мартовской демонстрации того года стало первым признаком надвигающейся катастрофы, а на праздновании 600-летней годовщины битвы при Косовом Поле Милошевич упомянул о возможности «вооруженных столкновений» в ходе будущего становления Сербии. Вскоре после этого Республика Югославия начала распадаться.
Планировала ли каждая из сторон массовые убийства с самого начала, или варварство просто нарастало по мере развития конфликта? Как бы то ни было, сербы считали своей миссией изгнать из своих священных земель «подонков» (я цитирую то слово, которое слышала сама), которые незаконно ими завладели. Иными словами, речь шла о геноциде. О милосердии никто и не вспоминал; пожар, тлевший столетиями, постепенно разгорался, пока не превратился в адское пламя.
Первые стычки в Косово начались в 1995 году, а в 1998-м в регионе вспыхнул вооруженный конфликт, отчасти в результате волнений 1997-го в Албании, после которых в оборот поступило около 700 000 единиц стрелкового оружия. Значительная его часть оказалась в руках молодых албанцев, сформировавших самопровозглашенную Армию Освобождения Косова, которая начала партизанскую войну против югославских войск на своей территории. Регулярные войска получили подкрепление с целью поддержания порядка, а затем начали ответную кампанию против АОК и ее политических сторонников, что привело к гибели около 2000 косовских албанцев.
В марте этого же года в лагере предводителя АОК произошла перестрелка, в ходе которой шестьдесят албанцев, из них восемнадцать женщин и десять детей, были убиты антитеррористическим подразделением сербских войск. Мировое сообщество осудило их действия, и осенью Совет Безопасности ООН выразил серьезную обеспокоенность начавшейся миграцией беженцев. Попытки разрешить кризис дипломатическим путем продолжались, и из опасений, что с приходом зимы значительная часть беженцев может остаться без крова, НАТО получил разрешение на удар с воздуха и начал кампанию в Косово с целью добиться прекращения огня. По договору вывод сербских войск должен был начаться в конце октября, но операция с самого начала провалилась, и перемирие не продлилось больше месяца.
В первые три месяца 1999 года продолжались бомбардировки, обстрелы и убийства беженцев, пытавшихся пересечь границу и укрыться в Албании. 15 января, после сообщения о том, что сорок пять албанских фермеров из Косова были расстреляны в деревне Рачак, в центральном Косове, международным наблюдателям перекрыли доступ в регион. Убийство в Рачаке стало последней каплей для НАТО. Альянс перешел к авиаударам, которые, однако, только усилили агрессию в отношении косовских албанцев. Воздушные обстрелы продолжались, практически не стихая, почти два месяца, пока Милошевич под давлением международного сообщества не согласился на мирный план.
В течение нескольких дней после прекращения огня миротворческий контингент ООН вошел в регион, и Луиза Арбур, главный обвинитель Международного трибунала по бывшей Югославии, потребовала, чтобы все страны-члены НАТО предоставили для работы свои команды судмедэкспертов. Внезапно, вместо того чтобы пассивно наблюдать за развитием событий по теленовостям, я должна была оказаться в самом их эпицентре.
Отвечая на звонок Питера Ванезиса, я даже не представляла, какое влияние он окажет на мою дальнейшую жизнь. На тот момент я еще ни разу не работала как судебный антрополог за пределами Великобритании и понятия не имела о том, как проводятся полевые операции подобного рода. Я знала, что где-то есть большая куча тел, которые надо исследовать и опознать, но не представляла, какая роль отводится мне, как я туда попаду, сколько пробуду в отъезде, и что вообще все это означает. Однако даже сейчас, когда я все это знаю, я, не моргнув глазом, дала бы свое согласие.
Мне и в голову не пришло сказать нет. Мой муж Том настаивал, что я должна ехать. Он — удивительный человек, и мне очень повезло, что когда-то в школе мы познакомились с ним. Он поразительно справился с переменами в нашей семейной жизни. Бет на тот момент было десять, Грейс только-только исполнилось четыре, а Анне — два с половиной года. Мы наняли няню на лето, и я начала готовиться к работе всей моей жизни, не особо представляя, в чем именно она будет заключаться. И уж точно я не догадывалась о том, какое влияние она окажет на всех нас.
Питер и другие члены британской команды судмедэкспертов въехали в Косово первыми, 19 июня. Я должна была присоединиться к ним шесть дней спустя. Все, что я знала, это то, что лечу из Лондона в аэропорт Скопье в Македонии, где меня кто-то встретит и повезет куда-то в отель. На следующий день меня заберут — где-то еще — представители ООН и сопроводят через границу в Косово, все еще находившееся под строгим контролем военных. Там мне предстоит пробыть около шести недель. Примерно так выглядел исходный план.
В зал прибытий аэропорта Скопье я вышла, совершенно не подготовленная к удушливой жаре, шуму и целому морю людей, которые изо всех сил пытались привлечь к себе внимание, разыскивали приезжающих и предлагали услуги такси. Поскольку я не представляла, кто должен меня встретить и куда мы поедем, то сильно нервничала. Я стояла, оглядывая лес белых бумажек с именами пассажиров, надеясь, что на какой-нибудь разгляжу и мое. Я начинала понимать — с некоторой обеспокоенностью, — что нахожусь в чужой стране, не знаю местного языка и не могу пользоваться мобильным телефоном, который здесь не работает. Я не представляла, что буду делать, если никто не явится меня забрать, как какой-нибудь несчастный потерянный чемодан. Если бы моя мама знала, где я нахожусь, она бы меня убила. Мы не говорили ей, куда я еду, пока я не добралась до места, а тогда ей ничего не оставалось, кроме как плакать и волноваться, что она и делала все шесть недель.
Наконец, я увидела белый листок с одним-единственным английским словом, выведенным маркером. Слово было знакомое: «Black». Я подошла к мужчине, державшему листок, и попыталась с ним заговорить. К сожалению, его английский был примерно на уровне моего македонского — ну или любого другого славянского языка. Французский не помог, и, поняв, что мой последний вариант — шотландский гаэльский, я оставила свои надежды и перешла на жесты, раз уж словами мы объясниться не могли. Мужчина показал, чтобы я следовала за ним, и мне на память тут же пришли с детства усвоенные инструкции никогда не садиться в машину к незнакомцам. Тревога переросла в панику: все внутри меня кричало, что я совершаю самую большую глупость в своей жизни. Если меня убьют и ограбят, а то и чего похуже, где-нибудь на глухом македонском проселке, останется винить только себя.
Мужчина усадил меня в ржавое такси с кашляющим мотором, вонючий выхлоп от которого шел прямо в салон. Окна он держал закрытыми, видимо, из-за уличного дыма, однако вряд ли воздух снаружи мог быть хуже, особенно с учетом того, что водитель курил сигарету за сигаретой. Ощущение было такое, будто меня одновременно поджаривают в духовке и травят в газовой камере. В полном молчании мы ехали километр за километром; город остался позади, и мы начали карабкаться в горы по проселочным дорогам, поднимая целые тучи пыли. Я прикидывала в голове, насколько сильно пострадаю, если выпрыгну из движущейся машины (наличие паспорта у меня в сумочке, которую я крепко сжимала в руках, отчасти успокаивало — по крайней мере, он останется при мне), когда мы сделали крутой поворот, и перед нами возникла копия мотеля Бейтс спустя лет десять со времен расцвета.
Его окна покрывала копоть и грязь, а на крыше местами не хватало черепицы. Тощая собачонка была привязана к дереву у входной двери, которая хлопала от порывов ветра. Не сказав ни слова, водитель, теперь прочно утвердившийся в моей картине мира как мой будущий убийца, вылез из машины, помахал мне, чтобы сидела внутри, и скрылся внутри здания. Сейчас или никогда! Я уже решилась бежать, но надо было еще достать из багажника чемоданы, и, кроме того, следить за тем, чтобы водитель не вернулся.
Стоило мне прикоснуться к дверной ручке, как я услышала стук в стекло и сразу же громкий вскрик — наверное, это кричала я, ведь больше никого в машине не было. Я выглянула в окно и увидела две улыбающихся физиономии. С характерными интонациями сотрудников Министерства иностранных дел они спросили, не я ли буду Сью Блэк? Потом сказали, что работают в британском посольстве и предложили пересесть к ним в машину. По их мнению, этот отель мне не подходил, и я, должна признаться, была с ними согласна.
Мужчина пошел переговорить с моим водителем, а я занялась багажом и только тут подумала, что бросаюсь из огня да в полымя, а еще точнее, в фильм про Джеймса Бонда из фильма про Пилу. Все, что мне было известно о моих новых спутниках, я знала только с их слов, и они до сих пор не сказали, куда мы, собственно, поедем. Однако даже если они собирались меня убить, то сделали бы это, говоря по-английски. Уже прогресс.
К счастью, они оказались не маньяками-убийцами, а очень приятной супружеской парой и отвезли меня в симпатичный отель в Скопье (рядом с аэропортом, откуда началось мое путешествие четыре часа назад). После вкусного ужина в приятной компании я немного расслабилась и спала в ту ночь как дитя, слишком усталая, чтобы и дальше бояться. Все следующее утро прошло в бюрократических формальностях и подготовке к пересечению границы, которое отняло у нас кучу времени, с контрольно-пропускными пунктами, длинными колоннами грузовиков, двигавшихся в одном направлении с нами, и не менее длинными военными конвоями, покидающими Косово.
Поскольку раньше я в подобных местах не бывала, то во время той длинной поездки чувствовала себя не в своей тарелке. Границы охранялись военными, въезд и выезд осуществлялись по пропускам, и нас предупредили, что в регионе до сих пор попадаются снайперы, не говоря уже о самодельных взрывных устройствах, заложенных специально для нас. Мы въехали из Македонии в Косово через пропускной пункт Хан-Элез и двинулись на юго-запад, через величественные горные перевалы, к городу Призрен.
Движение по территории Косова было медленным и опасным из-за состояния дорог — выбоины на них напоминали лунные кратеры. Водители были вооружены, радио работало с перебоями, поговаривали, что кое-где еще сохранялись очаги сопротивления. Один раз, чересчур разогнавшись для таких дорожных условий, наш шофер сделал крутой поворот и чуть не врезался сзади в танк. Кажется, я вскрикнула — опять! Никогда не думала, что могу пищать, как девчонка, но, похоже, Косово открыло это во мне. Наверное, это прозвучит глупо, но, боже мой, танки вблизи просто огромные и очень, очень страшные. Мое сердце заколотилось, как сумасшедшее, но тут я увидела знакомый красно-бело-синий флаг на зеленом камуфляже.
Волна облегчения прокатилась по моему телу с головы до ног. Танк был «наш». Будучи гордой шотландкой, я раньше не воспринимала британский флаг как символ своего народа, но я никогда не забуду, что почувствовала, увидев его в тот день на танке, на фоне негостеприимного пейзажа. В этот момент — и я признаю это радостно и гордо — он дал мне чувство защищенности и безопасности, утишив нарастающий страх.
Высаживать меня у отведенного нам жилья не было времени: пришлось сразу ехать на «место происшествия», где уже дожидались остальные члены команды. Первое, что я увидела в конце пыльной дороги, служившей границей внешнего периметра безопасности, был еще один танк, на этот раз германский. Солдаты вели себя очень профессионально и очень вежливо; они рисковали жизнью, чтобы мы могли спокойно выполнять свою работу. За кордоном, вдоль дороги, стояло несколько машин: самые стойкие и упорные журналисты ездили за нами, как поклонники за звездой. Вход и выход в периметр были помечены заградительной лентой, а наша штаб-квартира располагалась в стандартном тенте, которым накрывают место преступления, вне зоны досягаемости корреспондентских фотокамер. Все выглядело, как обычно, когда расследуется дело, и знакомая обстановка немного успокаивала.
В палатке мы облачились в наши традиционные белые защитные костюмы, двойные латексные перчатки и прочные резиновые сапоги — и это при 38-градусной жаре. Полицейскую поддержку оказывала полиция Лондона, а советниками по безопасности были сотрудники антитеррористической службы — SO 13, как их называли в то время. Странно вспоминать, что тогда о них мало кто слышал — видимо, из-за передышки между волнениями в Северной Ирландии и подъемом Аль-Каеды и так называемого Исламского Государства.
История, которая произошла на том месте, была трагической. 25 марта, в день начала натовских бомбардировок, подразделение сербского спецназа захватило деревню Велика-Круша, близ Призреня, который является вторым по величине городом в Косове и последним крупным центром перед албанской границей. Жители деревни укрылись в ближайшем лесу и видели, как грабят и жгут их дома. Единственное, что им оставалось — идти вместе с беженцами в Албанию, хотя там их могли ждать пытки, изнасилования и убийства. Группу остановили вооруженные люди, отделили мужчин и мальчиков от их семей и согнали в заброшенный дом с двумя комнатами. В дверях каждой комнаты встало по автоматчику; они расстреляли мужчин огнем из Калашниковых. Далее их сообщники набросали в окна соломы, намоченной бензином, и подожгли дом. Говорили, что в ту ночь там погибло более сорока человек. Точной информации о том, что случилось с женщинами и детьми, не было: скорее всего, они тоже погибли.
Удивительно, но одному из мужчин удалось выжить, и он стал важнейшим свидетелем на международном трибунале; благодаря полученным от него сведениям сгоревший дом стал объектом проведения судебно-медицинской экспертизы. Главным критерием ее назначения являлось наличие конкретной информации, желательно от очевидца, с указанием времени и точного места происшествия, демографической принадлежности участников и предположительной версии событий. Судебно-медицинским командам дали распоряжение собирать все потенциальные улики, фиксировать их, анализировать и вносить в отчет. Если они подтверждали версию свидетеля, инцидент имел приоритет как доказательство военных преступлений, в которых обвинялись Милошевич и его сторонники.
Я тогда еще не знала, что Питер Ванезис успел побывать в Велика-Круше, прежде чем позвонить мне. Думается, посмотрев на картину, открывшуюся перед ним, он любезно сообщил, что сам этим заняться не может, но знает того, кто все сделает. Конечно, это была я.
Мало кому понравится работать в белом защитном костюме, черных резиновых сапогах на три размера больше, в маске и двойных латексных перчатках под палящим зноем. Нарядившись как положено, я подошла к дверям сгоревшего дома и, заглянув внутрь, увидела сцену, которую сложно адекватно описать. Центральные двери вели в короткий коридор, откуда открывались две комнаты. В одной было, по меньшей мере, тридцать трупов, а в другой — еще дюжина или больше, сваленных друг на друга в углу, диагонально противоположном входу, сильно обгоревших, сильно разложившихся и частично засыпанных черепицей с обвалившейся крыши.
Они пролежали там три месяца на жаре, открытые для насекомых, грызунов и стай одичавших собак. Трупы кишели червями, некоторые растащили на части и обглодали животные. Единственным способом расчистить пространство было надеть наколенники, встать на четвереньки и медленно продвигаться от входа внутрь, поднимая и изучая абсолютно все, что лежало на полу. Помимо восстановления тел по фрагментам и сбора личных вещей — предметов одежды, документов, украшений и прочего, что могло помочь при опознании, — нам предстояло заняться сбором улик, относящихся к преступлению, в том числе пуль и гильз, которые затем можно было связать с оружием, а дальше — с человеком, который из него стрелял и его командующим. Так собирается «цепь доказательств», а прочность цепи, как известно, определяется самым слабым звеном. И мы не хотели, чтобы улики, собранные нашей командой, им оказались.
Для такой работы не годятся толстые резиновые перчатки, потому что в них вы не можете на ощупь отыскать то, чего не видите глазами. Кость на ощупь — как кость, она не похожа ни на что другое, а мы должны были с первого момента различить в улике часть тела и действовать в соответствии с процедурой. Мы расчищали территорию, примерно повторяя форму человеческого тела, чтобы исследовать один труп за раз, хоть это было и проблематично с учетом обстоятельств. Жара стояла невыносимая, вонь — тоже, пот ручьями катился по спине, стекая в перчатки, и по лбу, прямо в глаза, которые страшно щипало, так что процесс был неприятный до невозможности.
Нас предупредили о самодельных взрывных устройствах, которые нередко попадались в подобных местах — одно из них обнаружили незадолго до моего приезда. От него через дорожку была протянута тонкая проволока; устройство предназначалось не для того, чтобы убивать, а чтобы калечить. Я ни разу в жизни не видела бомбы и не узнала бы ее, окажись она даже у меня в тарелке с овсянкой. Своими опасениями я поделилась с нашим экспертом из S013, который был потрясающим профессионалом. Он сказал: лучшее, что я могу сделать, наткнувшись на нечто подозрительное, это подняться, отойти назад и покинуть здание. Туда пойдет специалист и все проверит. Он также посоветовал не совать руки в карманы одежды погибших, так как в них часто подкладывали лезвия и иглы от шприцев — опять же, чтобы ранить, а не убить. Он посмотрел мне в глаза и произнес, очень медленно и четко: «Главное, никогда не перерезайте синий проводок». Его слова прямо-таки отпечатались у меня в мозгу. Вообще, я и не думала о том, чтобы что-то резать: я была слишком перепугана.
И вот представьте себе такую сцену: я, вся в поту, стекающем по лицу и по рукам в латексные перчатки, на четвереньках пробиваюсь через мусор к куче трупов, кишащих червями и воняющих сгнившей плотью, и тут вдруг замечаю какой-то металлический блеск. Как думаете, я себя повела, мужественно? Естественно, нет! Чувствуя, как пот побежал с меня с удвоенной силой, я объявила о своей находке, мы покинули помещение, а саперы надели специальную амуницию и пошли внутрь. Мне показалось, они провели там часа четыре. Мы дожидались их, стоя поодаль; когда саперы вернулись, лица у них были мрачные. Они сняли бронежилеты, и их командир отвел меня в сторонку. Он подошел поближе и, почти касаясь губами моего уха, прошептал, очень отчетливо, без всякого сочувствия: «Вы даже не представляете, как вам повезло, что вы до сих пор живы, леди!» А потом поднял руку и показал мне блестящую столовую ложку.
Ну и как я могла догадаться? Естественно, в последующие дни вся наша команда только и делала, что подшучивала надо мной. Если к обеду привозили суп, мне клали сразу четыре ложки. Я обнаруживала ложки среди моих инструментов, даже у себя в постели! Я стала косовской королевой ложек. Я сносила насмешки стоически, поскольку они означали, что меня приняли в коллектив. Меня окружали приятные, симпатичные люди, и если они над кем-то шутили, то этот человек им нравился.
На тот момент я была в команде единственной женщиной, что, с учетом обстоятельств, могло кому-то другому показаться проблемой, но мне — точно нет. Будучи матерью троих детей, я привыкла заботиться о других. Поэтому я выслушивала все жалобы, отправляла спать тех, кто перебрал со спиртным, давала советы и ко всем относилась по-доброму. У каждого из нас была кличка — Джона Банна называли «Липучкой», Пола Слопера «Слипом», — и я бы не отказалась, например, от Курицы или Наседки, ну или вроде того. Однако, к несчастью, я заслужила куда менее добродушное прозвище, и все потому, что как всегда не вовремя открыла свой болтливый рот. Да уж, ничего необычного.
После того как мы расчистили первую комнату и собирались приступать ко второй, была назначен «день прессы». Министры иностранных дел разных стран, включая британского, Робина Кука, собирались свалиться на нашу голову, чтобы посмотреть, где мы работаем. Мистер Кук со свитой прибыл на вертолете и немедленно облачился в белый костюм, собираясь зайти в сгоревший дом. Я уже решила, что он точно мне не понравится — хотя бы потому, что он был политиком. Я искренне не ожидала, что проникнусь к нему симпатией, и уж тем более буду им восхищаться. Он некоторое время, как положено, позировал для прессы, но когда съемка закончилась и с него сняли микрофон, мистер Кук подошел ко мне и встал рядом, в проеме двери, рассматривая вторую комнату. Увиденное его явно потрясло; совершенно точно, он представил себе тот ужас, который испытали убитые мужчины и мальчики несколько месяцев назад. Он сказал мне: «Стоит закрыть глаза, как я слышу их крики и чувствую их боль. Как такое могло произойти?» Он делал именно то, чего мы себе не позволяем: сопереживал, — и я уважала его за честность и гуманизм.
Когда мы вышли из дома и двинулись по тропинке к пункту обеззараживания, то увидели за кордонами длинные ряды нацеленных на нас объективов. И тут я обернулась к моему сопровождающему, одному из высоких чинов лондонской полиции, и выдала комментарий, благодаря которому ко мне и прилипла кличка, преследующая меня по сей день. Стаскивая с себя защитный костюм, я объявила, что, будучи единственной женщиной в команде, выгляжу в глазах репортеров как лагерная шлюха. С этого момента во всех рождественских открытках и телефонных переговорах он только так меня и называет. Мой муж в ужасе от этой клички. Однако подобные дурачества и держат нас на плаву, особенно в тяжелые моменты. Когда постоянно сталкиваешься со смертью, черный юмор помогает разрядить обстановку. В конце концов, могло быть и хуже. Одну из наших патологов, приехавших позднее, имя которой я, пожалуй, указывать не стану, за глаза прозвали «Баскервилыней» — она выглядела такой злобной, что, казалось, вот-вот залает.
Мы расчистили обе комнаты в доме в Велика-Круше и собрали как можно больше свидетельств биологической идентичности в отношении каждого тела, фиксируя все индивидуальные характеристики. Во всех случаях, когда удавалось установить причину смерти, она подтверждала свидетельства очевидца; преобладающей являлось огнестрельное ранение. Самому пожилому погибшему было около восьмидесяти лет, самому младшему около пятнадцати — для убийц уже не мальчик, а мужчина, которого необходимо уничтожить, прежде чем он с оружием в руках поднимется против них.
Каждому мешку с телом присвоили собственный номер, все личные вещи собрали, образцы костей отправили на анализ ДНК. Для опознания требовалось время, и не только потому, что тела сильно разложились и обгорели, но также потому, что сербские военные забрали у большинства жертв документы. Мы сохранили личные вещи и одежду и немного почистили их, чтобы предъявить родственникам. По ним можно было провести предварительное опознание, которое затем подтверждалось анализом ДНК, но пока что телам просто присвоили номера и выдали семьям для захоронения.
У нас имелась одна палатка, выделенная под морг, где стоял секционный стол из нержавеющий стали, но первоначальный осмотр останков проводился во дворе сгоревшего дома и там же фиксировались все улики. Мы положили две длинных доски между колодцем и задним бампером трактора, и использовали их как стол. Там не было ни электричества, ни водопровода, ни освещения, ни туалетов и комнат отдыха. Работа в полях обычно сопряжена с бытовыми трудностями, но в то же время она поистине захватывающая. Если бы можно было выбирать, я предпочла бы делать свою работу в проблемных условиях, чем в комфорте, но при полной секретности. На первом плане для нас стояла единственная задача — качественный сбор улик. И я должна с гордостью отметить, что данные судебно-медицинской экспертизы, выполненной британской командой, ни разу не ставились под сомнение в ходе Международного трибунала по бывшей Югославии.
Хотя качество улик являлось для нас главным, не менее важно было соблюсти достоинство погибших и уважение к живым. Этот принцип встал во главу угла, когда мы начали использовать заброшенный амбар в Ксерксе, к северо-западу от Призреня, в качестве временного морга. На ранних стадиях нашей деятельностью практически никто не интересовался, но когда беженцы начали возвращаться из Албании, оградить нас от настойчивого внимания стало сложнее. Команду пришлось разбить на две: одна доставляла тела, а вторая работала в морге, в закрытом помещении. До этого они вместе обследовали трупы на месте преступления.
Мы обзавелись рентгеновским аппаратом, у нас появилась крыша над головой, вода из садового шланга и электричество от весьма темпераментного генератора, пожалуй, самого шумного из всех существующих на земле.
Тела, доставленные к нам, дожидались в очереди на вскрытие; процедура их обследований напоминала конвейер. Нам поставили жесткие сроки, поскольку уже была назначена дата массовых похорон. Мы работали днем и ночью, чтобы закончить к субботе, на которую приходилась церемония — первая в Косово, — и хотя знали, что она превратится в очередную заварушку из-за вторжения СМИ, не были готовы к тому колоссальному наплыву журналистов, окруживших наш маленький морг и расположившихся на ночь в своих машинах. Они отчаянно желали сделать фото и получить комментарии относительно предстоящего события, так что напряженность, витавшая в жарком летнем воздухе, нарастала с каждой минутой. Подумав, что к женщине они отнесутся снисходительней, меня избрали на роль жертвенного агнца, отправив переговорить с ними и снабдить некоторой информацией, чтобы немного разрядить обстановку.
Тела должны были забрать и увезти из морга родственники погибших. Большинство из них собиралось приехать на грузовичках или мини-тракторах, напоминающих моторизованные газонокосилки. Процессия должна была подняться по холму на кладбище в Бела-Червка. С учетом количества тел, день обещал стать очень, очень долгим. Безопасность в Ксерксе обеспечивали голландские солдаты, раскинувшие лагерь неподалеку, в старой винодельне в Раховече, но нашествие журналистов обеспокоило нас настолько, что они отправили к нам наряд на ночное дежурство, в поддержку к местным волонтерам. Прежде чем прибыла первая семья, я успела дать несколько интервью и была потрясена, если не сказать напугана, жестокостью вопросов и агрессией в адрес нашей команды.
Один из репортеров в какой-то момент выкрикнул:
— Дети там есть?
— Да, — ответила я.
Дальше он спросил, известно ли мне, где именно в морге они лежат. Ответ снова был утвердительный. И тут репортер потребовал показать ему тела. Я вежливо, но решительно отклонила его требование, на что он во весь голос обозвал меня и предложил выполнить с самой собой некий сексуальный акт. Сказать, что к тому моменту я потеряла всякое уважение или симпатию к журналистской братии, значит сильно преуменьшить мои чувства. Я была полна решимости соблюсти достоинство покойных и не допустить его оскорбления посторонними.
Чтобы добиться поставленной цели, я, признаюсь, нарушила границу между профессиональным и личным. Возможно, я поступила неправильно, но я бы сделала это снова. Я ни за что не допустила бы, чтобы эти стервятники заполучили фотографии детских трупов, когда их будут выносить из морга. Через наших местных знакомых мы сообщили семьям, которые должны были забирать детей для похорон, что у нас творится, объяснили ситуацию и спросили, не согласятся ли они приехать за телами ближе к вечеру. Они охотно согласились. Это означало, что останки детей мы выдадим, когда основная толпа соберется на холме, возле кладбища. Журналисты оказывались перед дилеммой: если и дальше слоняться вокруг морга в надежде сфотографировать маленькие гробы, которые выносят безутешные родители, можно пропустить церемонию на кладбище. Те, кто все-таки остался, в результате ничего не выиграл. Детей мы положили в точно такие же взрослые гробы, как остальных, и только семьи знали, кто находится внутри. Они последними покинули стены морга. В тот день на кладбище было сделано немало снимков, но ни на одном не видно, что некоторые из жертв — дети. Пиррова победа, согласна, но для меня она имела громадное значение.
Семьи были нам так благодарны, что почтили нас приглашением присоединиться к траурной процессии. Тронутая до глубины души, я шла следом за последним катафалком, проникаясь коллективным горем этих людей. По дороге женщины угощали нас водой и чаем. Чай мы могли принять, поскольку воду для него кипятили, но некипяченую не пили — в большинство колодцев в регионе сбрасывали трупы, и вода могла быть заражена. Наша команда, и без того немногочисленная, не имела права рисковать своими сотрудниками, но в то же время мы очень боялись обидеть местных жителей. Они предлагали нам последнее, что у них оставалось.
Мы присутствовали на подобных массовых похоронах еще не раз в следующие два года и работали в разных частях Косова, но ни одна церемония не тронула меня так, как та первая, в Бела-Червка.
Я еще два раза ездила в Косово в 1999 году, на шесть и на восемь недель, и четыре раза в 2000-м. Мне повезло быть в составе первой международной команды, приступившей к работе в Косове, и последней, уехавшей оттуда. Мы работали по двенадцать-шестнадцать часов в день, нередко семь дней в неделю, и к концу шестинедельной смены мечтали поехать домой — а если нет, это был верный знак, что ехать точно пора.
Довольно странный и отрезвляющий опыт — оказаться отрезанной от всего мира; для тех, кто был не очень доволен своей работой или личной жизнью, это было своего рода отдушиной. Мы не представляли, что творится на планете, кто недавно умер, какие фильмы идут в кино, какой оборот принял новый звездный скандал. К концу командировки я только и мечтала, что поехать к себе, повидаться с семьей и вернуться к нормальной жизни.
Время от времени у нас появлялся доступ к спутниковому телефону, благодаря чему мы не лишались рассудка, поскольку все-таки имели возможность переговорить с родными. Помню, как-то ночью я почувствовала страшную тоску и позвонила Тому пожаловаться на то, что забралась так далеко от него и от девочек. Он спросил, какая у нас ночь, и я ответила, что ночь прекрасная, небо чистое, и ярко светит луна. Он сказал, что сидит на лавочке возле нашего дома в Стоунхейвене, смотрит на небо и на ту же самую луну. Получалось, что мы не так уж и далеко. Я люблю полную луну и очень люблю моего мужа.
Ситуации, в которых мы оказывались, бывали разными. Хотя везде приходилось следовать общему протоколу, каждый день ставил перед нами новые задачи или удивлял чем-то непредсказуемым. Хотя у нас появился нормальный морг, с крышей, не каждое вскрытие проводилось в нем. Нам частенько приходилось шагать пешком, чтобы добраться до какого-нибудь глухого уголка, где было совершено военное преступление, и куда наш транспорт ехать не мог. Если мы не могли доставить тела в морг, то морг сам приходил к ним, то есть нам приходилось работать прямо под открытым небом.
Однажды нас привели в настоящую глушь, примерно в часе ходьбы от ближайшей проселочной дороги, на небольшую лужайку между холмов. Там, как нам сообщили, стариков, женщин и детей отделили от мужчин, шедших с ними, в составе конвоя беженцев, и отправили куда-то еще. Потом детей отвели на другую сторону луга и сказали бежать назад, к матерям. Они бросились вперед, поскольку были сильно напуганы. И в этот момент, на глазах у потрясенных матерей, бабушек и дедушек, налетчики начали стрелять в ребятишек. Когда они все погибли, те нацелили автоматы на женщин и стариков.
Не знаю, какими словами можно передать жестокость, бесчеловечность, мучительность подобных хладнокровных убийств невинных людей. Мы знали, что расследование будет тяжелым для всех, и, по мере приближения к месту, настроение у команды становилось все более мрачным. Иногда какая-нибудь шутка бывает очень кстати в трагической атмосфере, однако в тот день никто даже не пытался шутить. Это было страшное место, где совершилось страшное преступление. Такое могли сделать только настоящие варвары.
Мы разложили на земле полиэтиленовую пленку и по одному стали эксгумировать тела из общей могилы. Останки, похороненные в земле, лучше сохраняются по двум причинам: температура под землей ниже, отчего уменьшается активность насекомых и замедляется разложение, и у животных нет доступа к трупам. Однако иногда из-за их сохранности работа осложняется, теперь уже по другой причине: тела остаются более узнаваемыми, отчего нашим сотрудникам тяжелее добиться необходимой отстраненности, в которой должен пребывать их ум.
В какой-то момент на пленку передо мной лег труп двухлетней девочки, все еще одетой в пижамку и красные резиновые сапожки. Мне надо было ее раздеть, передать одежду полиции в качестве улики, а затем сделать анатомическое обследование, зафиксировав все пулевые ранения, растерзавшие ее крошечное тельце.
Внезапно я ощутила, как вокруг что-то изменилось. Мы все вели себя очень тихо в тот день, но тут совсем другое молчание, словно тяжелое одеяло, накрыло всю поляну. Я подняла глаза и увидела перед собой длинный ряд полицейских черных сапог с белыми защитными костюмами над ними. Мгновение я не могла понять, почему все выстроились передо мной, перегораживая обзор. И только поднявшись на ноги, увидела причину. Один наш сотрудник сделал самую тяжелую ошибку: представил лицо своей дочери на месте личика покойной и не смог справиться с увиденной картиной. Единственное, что мои коллеги-мужчины могли сделать, чтобы ему помочь, это закрыть его от трупа ребенка, давая время прийти в себя.
Я, мамаша всей нашей команды, не могла оставить дело так. Поэтому, не сказав ни слова, стянула перчатки, спустила до пояса защитный костюм, прошла через кордон, обняла беднягу и держала в объятиях, пока он заходился рыданиями. Думаю, в тот момент все присутствовавшие мужчины поняли, что им не обязательно всегда оставаться сильными. Иногда, особенно если дело касается смерти невинных, кто-то должен пролить по ним слезы, и этим кем-то вполне можем быть мы. То, что твоя броня проницаема, не значит, что ты слабый. Просто ты человек.
В конце нашей последней, и очень долгой, командировки в 2000-м, полицейские отправили нам команду психологов. К тому моменту мы пробыли в Косово восемь полных недель. Живя бок о бок с коллегами такое долгое время, ты узнаешь их очень хорошо, а команда становится твоей второй семьей. Сплотившиеся в единый организм с общей целью и задачей, мы поддерживали друг друга в пору нужды, и вмешательство посторонних, хоть и с добрыми намерениями, встретили в штыки.
Психологи собрали нас всех в какой-то унылой комнате и усадили в круг. Они попросили, чтобы мы прикололи карточки с именами, чтобы «не испытывать неловкости». Мы все прекрасно знали, как кого зовут, так что это делалось только для их удобства, что всем было ясно. Они не представляли, кто мы такие, и не понимали, через что нам пришлось пройти.
Мы жили вместе, ругались между собой и плакали друг у друга на плече; вместе выпивали и работали до изнеможения. Однако мы постарались выполнить то, чего от нас ожидали — ну, по крайней мере, большинство из нас, — и покорно расселись кружком, с карточками на груди.
Психологи начали спрашивать, что мы чувствуем. А что, черт побери, мы могли чувствовать? Мы страшно устали и хотели скорее домой. Мы два месяца копались в останках мужчин, женщин и детей и не собирались церемониться с чужаками, пытавшимися пролезть нам в головы и оживить старые кошмары.
Наш техник морга, Стив, уроженец Глазго, оказался в центре особого внимания. У всех на карточках были фамилии, а у него надпись «Гад», что вызвало у нас приглушенные смешки. Стив, понимаете ли, любил над кем-нибудь подшутить, и большинство из нас побывало жертвами его розыгрышей. Один из них заключался в том, что он где-то раздобыл ярко-розовый будильник в виде мечети, который, вместо того чтобы пикать, начинал завывать голосом муэдзина, собирающего мусульман на молитву, и подбросил его под кровать одного из полицейских, выставив время на четыре утра. Услышав у себя под кроватью клич муэдзина, Мик так и взвился из-под одеяла и, споткнувшись о сапоги, растянулся на полу, поклявшись отомстить. Похоже, час мести настал — именно Мик подписывал карточки с именами. Так что «Гад», как вы догадались, не было фамилией. Буря хохота, поднимавшаяся всякий раз, когда бедняга психолог спрашивал, «и что же, мистер Гад, как вы от этого себя чувствуете», могла, таким образом, считаться достойным и заслуженным отмщением. Нет нужды говорить, что психологи выбились из сил, урезонивая этих съехавших с катушек судмедэкспертов.
Подобные моменты немного скрашивали наши мрачные будни, и именно они запомнились мне больше всего. Моменты, когда мы говорили на языке товарищества, который никто, кроме нас, не понимал. Да, это было тяжелое, но в то же время бесценное время, и опыт, который я не променяю ни на какой другой. Там я поняла, насколько сильна по-настоящему, и теперь, когда мне приходится полагаться на саму себя, знаю, как далеко могу зайти. Я завела там друзей, с которыми поддерживаю отношения вот уже двадцать лет. И сколько бы времени не прошло, неписаное правило нашей команды остается в силе: если коллега по Косово просит о помощи, ты откликаешься.
События, подобные войне на Балканах, меняют всю вашу жизнь, если внезапно вторгаются в нее. Вы можете начать больше ценить то, что имеете, можете уйти в политику, можете с головой погрузиться в новую культуру — в любом случае, одно можно сказать точно: вы никогда не будете тем же человеком, каким были раньше. Да, я многое хотела бы изменить в том периоде своей жизни, но все равно бы ни на что его не променяла. Я очень много узнала о жизни, смерти, своей профессии и о самой себе. И усвоила один жизненно важный урок, который ни за что не забуду: «Никогда, НИКОГДА не перерезать синий проводок».
Глава 11 Когда случилась катастрофа
«Покажите мне, как народ обращается со своими покойниками, и я с математической точностью смогу определить степень его благородства, уважения к законам природы и верности высшим идеалам».
Приписывается Уильяму Ю. Гладстону, премьер-министру Великобритании (1809–1898)26 декабря 2004 года люди по всему миру в ужасе наблюдали за цунами, опустошившим прибрежные регионы Таиланда, Индонезии, Шри-Ланки и Индии. И если раньше нам редко выпадал повод использовать это слово, цунами (или «волна в бухте»), то с тех пор оно упоминалось в каждом разговоре еще много месяцев, пока на побережье Индийского океана ликвидировали последствия одной из самых разрушительных природных катастроф в истории человечества.
Ни одна страна в мире не застрахована от массовой гибели людей в результате катастрофы, причиной которой может быть, помимо стихии, еще и случайность, — чья-то ошибка, происшествие на производстве — или намеренный террористический акт. Из соображений гуманности и законности трупы необходимо опознавать, для чего существует давно отработанный процесс идентификации жертв катастроф — ИЖК. Чтобы ИЖК прошла успешно, требуется хорошая подготовка, действующая коммуникационная сеть, междисциплинарное сотрудничество, кризисное управление, быстрое внедрение разработанных планов и оперативное реагирование со стороны специально обученного персонала. Тот неоспоримый факт, что с массовой гибелью людей нельзя разобраться быстро, легко и экономно, следует принять любому правительству, на территории которого она произошла. История показывает, что если мы не уделяем покойным должного уважения, рано или поздно нас призовут к ответу — а это порой ведет к падению действующей власти. В общем, дело серьезное.
В результате массовой гибели людей зачастую возникают ситуации, когда, с учетом количества раненых и погибших, местные власти не могут справиться сами. Критерии тут гибкие — речь не о подсчете жертв, а о том, что у некоторых регионов ресурсов больше, чем у других, и они могут действовать самостоятельно, одновременно удовлетворяя и текущие потребности населения. В Великобритании подобные события тоже случались, и хотя количество жертв — к счастью — позволяло нам справляться самим, бывало, что одновременно лишались жизни более ста человек. В числе подобных происшествий можно упомянуть взрыв на шахте в Гресфорде, на северо-востоке Уэльса, при котором погибло 266 мужчин и мальчиков; возгорание топлива на борту авианосца Дэшер в Ферт-оф-Клайде, в 1943 году, унесшего жизни 379 человек, причины которого до сих пор не выяснены; и трагедия в Аберфане, где в результате обрушения породного отвала на угольных разработках оползень сошел на здание начальной школы. Из ста сорока четырех погибших сто шестнадцать были маленькими детьми. В 1988-м в Шотландии случилось две крупные катастрофы: взрыв нефти и газа на платформе Пайпер Альфа в Северном море, когда погибло 167 человек; и падение самолета компании Панамерикен, борт 103, на Локерби в результате теракта — в чемодане, находившемся в багажном отсеке, сработало взрывное устройство, унеся 270 жизней.
С учетом многонациональности нашего современного мира, не бывает так, чтобы массовая гибель людей в какой-нибудь стране не затронула граждан других. Достаточно вспомнить страшный пожар в Гренфелле в 2017-м. Вот почему мы должны мыслить глобально и развивать международное партнерство. Страна, где произошла катастрофа, обычно берет на себя руководящую роль, а те, кто прибывает на помощь, должны тщательно соблюдать принятые там юридические и культурные нормы. Судмедэксперты, как правило, готовы немедленно засучить рукава и взяться за работу — на которую мало кто в здравом уме согласился бы, — но сколь бы ни было сильно их желание скорей отыскать и вернуть семьям тела соотечественников, погибших на чужой территории, существуют дипломатические, правительственные и юридические формальности, которыми приходится заниматься в первую очередь. Как я обнаружила, работая в Косово, не везде руководство работает так быстро, как нам мы хотелось, и это порой очень сильно раздражает.
Самое разрушительное цунами в истории было спровоцировано подводным землетрясением у берегов Суматры — вторым по силе за всю историю наблюдений. Гигантские океанские волны, возникшие в результате толчков, принесли смерть и разрушения в четырнадцать стран на побережье Индийского океана. Сказать, что они не были к ним подготовлены, значит не сказать ничего. Поскольку природные катастрофы подобного рода происходят в Индийском океане крайне редко, там нет системы раннего предупреждения, как в Тихом, где вероятность извержений вулканов и возникновения цунами считается более высокой. Погибло более 250 000 человек, еще 40 000 пропало без вести, и миллионы остались без крова. Более половины жертв приходилось на Индонезию, а большинство европейцев погибло в Таиланде, где как раз был в разгаре новогодний курортный сезон.
Когда мы с Томом впервые увидели в новостях сообщение о цунами, на следующий день после Рождества, он сразу же сказал: «Пакуй чемоданы — сама знаешь, скоро придется ехать». Оказалось, не скоро. По всей Великобритании судмедэксперты ждали звонка с вызовом, готовые применить свои навыки и опыт в зоне бедствия и согласные хоть сейчас же прыгнуть в самолет. Однако правительство хранило молчание. Разве что в прессе появилось краткое сообщение о том, лондонская полиция выслала в Таиланд нескольких специалистов по снятию отпечатков пальцев. Что?
Тот пресс-релиз переполнил чашу моего терпения. Я, «вспыльчивая шотландская дама средних лет с рыжими волосами», села и написала письмо Тони Блэру, напоминая ему о том, что судмедэксперты и полиция неоднократно давали властям понять, насколько важно создать собственное подразделение ИЖК, идентификации жертв катастроф, и не потому, что оно «может» понадобиться, а потому что понадобится непременно! Было жизненно необходимо, чтобы Британия могла реагировать в самый момент, когда происходит бедствие. А теперь правительство отправляет в регион какую-то жалкую кучку полицейских, когда на самом деле там требуется полноценное представительство, как четыре года назад в Косово. По моему скромному мнению, нам следовало постыдиться перед другими странами!
Я сообщила мистеру Блэру, что считаю создание национальной службы вопросом такой срочности, что, если в ближайшее время власти никак не отреагируют, напишу то же самое главам двух других ведущих политических партий. Молчание продолжалось. Я сдержала слово и отправила копии письма Майклу Говарду и Пэдди Эшдауну, на тот момент возглавлявшим консерваторов и либеральных демократов соответственно. Естественно, содержание письма просочилось в прессу, и начался настоящий ад — как раз в тот момент, когда мне предстояло уехать из страны. Устав дожидаться звонка из правительства, я приняла предложение Кенион Интернешнл, частной компании по опознанию жертв, и летела в Таиланд. Пришлось бедняге Тому разбираться с прессой и телеканалами.
Новый год я встретила где-то над Швейцарией. Практически все пассажиры летели в Бангкок по причинам, связанным с катастрофой, многие — чтобы разыскивать пропавших членов семьи, и атмосфера на борту была печальной. Перед наступлением 2005-го пилот, отлично понимавший, почему на рейс не осталось ни одного билета, обратился по громкой связи к пассажирам и сказал, что в обычных обстоятельствах произнес бы тост с поздравлениями, но в этот Новый год просто хочет нас попросить поднять бокалы в молчании, в честь всех погибших, всех, кто потерял своих родных, и тех, кто ехал на помощь. Для всех нас это был очень эмоциональный момент.
В Таиланде царил полнейший хаос. Журналисты и родные пропавших наводнили пострадавшие регионы, и местная инфраструктура едва выдерживала нагрузку. Часть ее сохранилась нетронутой: на фоне тотальных разрушений кое-где попадались совершенно целые участки. Какой-нибудь отель мог возвышаться над грудами мусора и развалинами зданий, некогда окружавших его. Обычно, работая в зоне катастрофы, мы спим на раскладушках в военных бараках, а то и в палатках, поэтому очень странно было, проведя целый день в хаосе и отчаянии временного морга возвращаться вечером в роскошный отель с ресторанами, барами и плавательным бассейном. Это казалось неправильным. Когда в отеле мне предложили воспользоваться услугами прачечной, я поинтересовалась, не излишняя ли такая роскошь в данных обстоятельствах; в ответ мне напомнили, что страна по-прежнему нуждалась в доходах от практически парализованного туристического сектора. И мы были ближе всего к туристам из всех, кто мог в ближайшее время приехать в Таиланд.
Я только-только распаковала чемодан, когда зазвонил телефон. Это был мой старый приятель, высокий полицейский чин, с которым мы познакомились в Косово. «Ну что, лагерная шлюшка, все шумишь?», — поинтересовался он.
— Вообще, да.
Он сказал, не скрывая веселья, что ему официально велели связаться со мной, чтобы уточнить, действительно ли я так радею за создание службы ИЖК в Британии, или просто хотела выпустить пар. Собственно, он даже не дал мне ответить, предупредив вместо этого, что через несколько минут со мной свяжется секретарь премьер-министра.
И действительно, телефон снова зазвонил: меня приглашали на закрытое совещание по вопросу создания британского подразделения ИЖК. Представитель Даунинг-стрит любезно меня уверил, что дату запланируют с учетом моего графика. Это же надо! Я вовсе не собиралась становиться для властей головной болью, и уж тем более занозой в заднице, и прекрасно понимала, что любое неверное движение может мне здорово аукнуться. Я написала то письмо просто чтобы выразить свою твердую убежденность: долг всех людей, имеющих специальные навыки по работе с жертвами массовых катастроф, объединиться и помочь другой стране, где в них возникает нужда. В мире, где аварии, стихии и враждебные намерения могут в мгновение ока лишить жизни близких нам людей, мы должны быть готовы реагировать сразу после катастрофы, быстро и профессионально. Разногласия и личные амбиции надо отставить в сторону и всем объединиться ради общего блага.
Должна признать, жара и влажность в Таиланде были просто убийственные. Оставалось только мечтать в другой раз оказаться в какой-нибудь холодной стране, больше подходящей для рыжеволосых. Грэхем Уокер, впоследствии назначенный первым начальником подразделения ИЖК Великобритании, как-то сказал мне, что наша работа просто сумасшедшая, раз мы считаем абсолютно нормальным, что время от времени кто-нибудь из коллег теряет сознание от жары и переутомления. Как мы поступаем в таких случаях?
Просто прислоняем его к стене, даем водички и, как только ему становится лучше, советуем возвращаться к работе. Сумасшедшие люди, сумасшедшие обстоятельства…
Главной помехой идентификации жертв в жарком и влажном климате является быстрое разложение. Поэтому немедленное реагирование и меры по сохранению останков должны стоять в приоритете. Очень помогают записи о том, где именно было обнаружено каждое тело, особенно если человек умирает там, где ему и следовало находиться в данное время, например, у себя дома или в отеле, где остановился. Однако в Таиланде все оказалось сложнее — по обоим факторам.
Тела в каждом городке свозили к местному храму. Когда мы прибыли в первый храм, на Кхао-Лак, то увидели поистине кошмарную картину. В попытке помочь, люди, у которых имелся автомобиль, собирали тела по всей округе и привозили к дверям храма. Не было никаких указаний на то, где обнаружено тело или кто его нашел — трупы просто наваливали в кузов грузовичка, а потом разгружали на храмовой территории, чтобы родные когда-нибудь их отыскали и забрали. Когда тело попадало к храму, его фотографировали; фотографии лиц погибших сохраняли в компьютере. С учетом того, что с момента катастрофы прошла уже неделя, степень вздутости, изменения окраски и разложения была весьма значительной.
Семьи, в отчаянии разыскивавшие родственников, сначала сами вывешивали фото пропавшего на стене, сопроводив подписью с просьбой ко всем, кто мог его видеть, связаться с ними, в надежде, что тот может лежать где-нибудь в госпитале. Далее родные обходили храмы, где сидели у компьютеров и просматривали сотни фотографий изуродованных разлагающихся тел, пытаясь высмотреть на них лицо сына, дочери, матери, отца, жены или мужа. Процесс был неорганизованный, крайне тягостный и, главное, неэффективный. В первые дни тела выдавали людям на одном том основании, что те их опознали по фотографии. Неудивительно, что после более детального научного исследования вскрылась масса ошибок: неверно опознанные тела пришлось отзывать назад. А такого, естественно, следует любой ценой избегать.
Добравшись до храмов, мы немедленно сделали три вещи. Во-первых, заказали грузовики-рефрижераторы, чтобы переложить в них тела и замедлить разложение. Во-вторых, запретили просмотр родственниками фотографий изуродованных трупов. В-третьих, приостановили выдачу тел до тех пор, пока опознание не будет выполнено на научных основаниях.
Прежде чем «холодильники» — грузовики-рефрижераторы — прибыли, тела просто лежали рядами во дворах храмов. Местные команды делали попытки натянуть тенты, чтобы укрыть их от прямых солнечных лучей. В какой-то момент они пробовали использовать сухой лед, чтобы снизить окружающую температуру, но это не помогло, потому что тела, лежавшие по краям, пострадали от холодовых ожогов, равно как и сотрудники, которые пытались их передвигать. Вонь стояла просто неописуемая. Время шло, тела продолжали разлагаться, и в результате тургора и накопления жидкостей их конечности постепенно поднимались вверх. Окидывая взглядом ряды трупов, можно было заметить, как некоторые из них словно протягивают к вам руки, пытаясь привлечь внимание. Водопровод работал еле-еле, солнце нещадно палило, а насекомые и грызуны прямо-таки сходили с ума. Подобие Дантова ада на земле — ну или очень, очень близко к нему.
Винить в этом было некого. Первые дни после катастрофы — самые тяжелые и сумасшедшие, а с учетом масштабов цунами трудности, связанные с ним, были особенно велики. Первыми к нам на помощь пришли норвежцы, предложившие построить централизованный временный морг. На его возведение, однако, тоже требовалось время; мы же пока должны были обходиться скудными ресурсами, имевшимися в нашем распоряжении, проявляя максимальную изобретательность и смекалку. Но, какими бы тяжелыми ни были те дни, именно первая стадия процесса всегда меня захватывала больше всего: накал событий, когда бюрократия и политика еще не вступили в свои права, а на первом плане — наш профессиональный опыт и мастерство. Это время, когда ты ощущаешь, что твой вклад по-настоящему ценен. Я обожаю налаживать работу и устанавливать ее порядок. Как только процесс организован, мне становится скучно. Я считаю, что в те первые дни после цунами в Таиланде мы сделали все, что могли.
Команды из Великобритании и других стран оставались в зоне бедствия около года, занимаясь опознанием погибших. Многие тела удалось вернуть родным, но оставались и такие, опознать которые никак не получалось. Только в Таиланде погибло около 5400 человек, и зачастую это были целые семьи, о пропаже которых некому было заявить, и некому было предоставить сведения для опознания. Местами целые деревни смывало с лица земли, вместе с документацией об их населении, которое никто не оплакивал и не хоронил. В память о погибших в Таиланде построили мемориальную стену, и для некоторых она стала единственным памятником. Для ИЖК это была важнейшая операция, показавшая, чего можно достичь, объединив усилия иностранных команд и правительств.
Вернувшись в Великобританию, я получила приглашение на совещание по созданию подразделения ИЖК, которое должно было пройти в Старом Адмиралтействе. Немного задержавшись из-за лондонских пробок, я явилась последней — не самое лучшее начало. Меня дожидались высшие правительственные функционеры, полицейские чины и светила науки. Некоторые лица оказались знакомыми; были и те, кто смотрел с плохо скрытым недовольством. В общем, я выглядела примерно как носорог, затесавшийся среди обитателей контактного зоопарка. Было ясно, что во мне видели возмутительницу спокойствия, и чиновники получили распоряжение меня утихомирить. Однако присутствовал и мой старый приятель-полицейский, ободряюще улыбнувшийся своей «ЛШ», так что я знала, что у меня имеется, по крайней мере, один искренний сторонник. На самом деле, заседание прошло в весьма позитивном ключе. Все были согласны, что учредить подразделение оперативного реагирования совершенно необходимо и что в его состав должны входить представители полиции, правительства и ученых. Все также соглашались, что вопрос в том, когда его придется мобилизовать, а не в том, придется ли. Наконец-то!
Если по последнему пункту требовались какие-то доказательства, они не заставили себя ждать. Наша встреча состоялась как нельзя вовремя. Она прошла в феврале 2005-м, в год, обеспечивший нас такой занятостью и у себя в стране, и по всему миру, какой мы и предсказать не могли. За терактом в лондонском метро 7 июля в час пик, поставившим город на колени, последовал обстрел египетского курорта Шарм-эль-Шейх. Ураган Катрина, обрушившийся на побережье США в августе, и землетрясение в Пакистане в октябре случились, когда мы еще не закончили работу в Таиланде. Этот год стал критическим для ИЖК, и не только в Великобритании, но и вообще на планете.
Наконец, в 2006-м, была сформирована команда судмедэкспертов, полицейских, офицеров разведки, представителей по связям с родственниками и других специалистов ИЖК под командованием детектива-суперинтенданта Грэхема Уокера, основной задачей которой было координирование и реализация проектов по опознанию британских граждан, ставших жертвами катастроф у себя в стране и за рубежом. Для успешного функционирования команды требовалась собственная обучающая программа, чтобы полицейский из Девона на юге Англии следовал тем же протоколам и процедурам, что и офицер из Кейтнесса на севере Шотландии. Вроде бы, ничего сложного, но, как заметил один офицер, «мы в полиции насчет формы-то договориться не можем, не говоря уже о работе». Однако нам в Университете Данди удалось организовать для полицейских обучающую программу по ИЖК, и в период с 2007 по 2009 год более 550 офицеров из разных отделений по всей стране приезжали к нам изучать процедурные и научные особенности идентификации жертв катастроф.
Идентификация жертв катастроф — это не космическое ракетостроение и не нейрохирургия. В принципе, это всего лишь процесс последовательного сопоставления. Люди обращаются по телефону горячей линии, организованной правительством, и сообщают, почему, как им кажется, кто-то из их близких мог пострадать в данном происшествии. Далее дело классифицируют в соответствии с вероятностью того, мог ли человек там действительно находиться. В Таиланде, например, тот, кто остановился в отеле, снесенном цунами, считался более вероятной потенциальной жертвой, чем тот, кто уехал в кругосветное путешествие и, в принципе, мог оказаться в стране, или тот, кто просто не звонил родным или друзьям в течение нескольких дней.
Категории приоритетности имеют важное значение. Полицейские не могут одновременно заниматься всеми жертвами, поэтому те, кто пострадал вероятнее всего, ставятся в начало списка. В наше время, когда у каждого есть мобильный телефон, полиция и другие власти получают массу звонков с самых первых моментов катастрофы. После взрывов в Лондоне в 2005-м на горячую линию звонили тысячи человек. После цунами в Индийском океане родные и близкие разыскивали там около 22 000 предполагаемых пострадавших из числа британских граждан. В действительности британцев там погибло 149.
Офицер по связям с семьями, прошедший специальную подготовку по ИЖК, отправляется к родственникам и друзьям наиболее вероятных потенциальных жертв и собирает о них как можно больше информации — рост, вес, цвет волос, цвет глаз, шрамы, татуировки, пирсинг, подробности о здоровье и состоянии зубов и так далее. В доме пропавшего он снимает отпечатки пальцев, организует взятие образцов ДНК у матери, отца, братьев и сестер или других генетических родственников, а также, по возможности, ДНК самого пропавшего с его личных вещей. Для семьи это нелегкий процесс, поэтому офицеры стараются собрать все по максимуму за один визит, чтобы не возвращаться еще раз и не причинять родственникам новую боль, ведь это может ослабить их доверие к властям и желание взаимодействовать.
Все собранные данные вносятся в желтую карту AM (antemortem — то есть прижизненные сведения). Если катастрофа произошла за границей, карту вместе с образцами ДНК, отпечатками пальцев и стоматологическим профилем отправляют тамошней команде судмедэкспертов. Они собирают в своих моргах ту же информацию о жертвах и записывают ее в розовой карте PM (postmortem — посмертные сведения). Помню, во время тренинга какой-то умник спросил меня, не надо ли заполнять желтые карты по утрам, раз на них написано AM, а розовые после обеда. Да, нелегок преподавательский труд!
В координационном центре команды сопоставляют данные из обеих карт. В идеале должны совпасть первичные идентификаторы, но вторичные тоже очень часто идут в ход, если идентификация по ДНК, отпечаткам пальцев или стоматологическому профилю невозможна, так как данных нет или они не окончательные. Процесс это медленный, и контроль здесь играет главенствующую роль. Если мы допустим ошибку, то две семьи лишатся любимого человека. Лучше потратить время и все сделать правильно, пусть даже нас и будут критиковать за медлительность.
Тренинги в Данди для своего времени были уникальны. Подписав контракт на их проведение в январе 2007 года, мы поняли, что должны составить для них учебник, и как можно скорее.
К Пасхе у нас уже было пособие из двадцати одной главы, опубликованное Данди Юниверсити Пресс (спасибо за это Анне Дэй), экземпляр которого получал каждый учащийся. Сейчас, во времена расцвета онлайн-курсов с неограниченным числом слушателей, оно кажется немного устаревшим, но тогда было просто сверхсовременным. Офицеры получали доступ к программе через свои компьютеры, из любого места и в любое время, когда им было удобно. Как и в учебнике, там был двадцать один раздел, и каждый следовало изучить, прежде чем открывался следующий. Проработав раздел, офицер должен был пройти онлайн-тест («угадайку», как говорили наши ученики). Если он набирал больше 70 % правильных ответов, то шел дальше, если нет — мог выполнить тест еще раз (уже другой), и так далее. Добравшись до конца, он выполнял финальный тест, по материалам всего курса. Обычно к тому времени вся нужная информация была настолько вбита нашим ученикам в голову, что финальный тест они сдавали с первого раза. Удивительно, насколько эффективным может быть «усиленное обучение»!
Когда офицеры заканчивали теоретическую часть, то приезжали к нам, на практическую, которая длилась неделю, и где мы воссоздавали для них сцену катастрофы с человеческими жертвами. Обычно это был круизный лайнер, на котором отдыхали пенсионеры, наткнувшийся в шторм на скалу у побережья Гебридских островов. У нас было разрешение от государственного инспектора и от завещателей тел на использование трупов из анатомического театра в ходе обучающей программы. Впервые в мире мы обучали команду ИЖК на настоящих человеческих телах, и для многих офицеров это становилось совершенно неожиданным опытом. Они восхищались нашими донорами, а некоторые потом попросили разрешения прийти на мемориальную службу, которую мы проводим ежегодно. Помню, все явились при полной выкладке — в парадной полицейской форме.
Офицеры учились, как доставать тело из холодильника и перекладывать на стол в морге, как его фотографировать, как записывать основные параметры, как проводить осмотр (в том числе личных вещей), как снимать отпечатки и отслеживать другую информацию, которая может помочь при опознании. Они по очереди выступали в роли судмедэкспертов, антропологов, одонтологов и рентгенологов. Они заполняли все разделы розовой карты РМ по образцу Интерпола и просматривали горы желтых AM карт — их заполнили мы, — в поисках совпадений. Далее их просили представить случай перед настоящим коронером или прокурором, как будто в ходе следствия, и подтвердить степень уверенности в выполненном опознании.
На курсах царил дух товарищества, и в процессе обучения офицеров из разных подразделений у нас случалась масса запоминающихся моментов — от трогательных до смешных. На очной неделе мы проводили испытания, после которых каждая команда оценивалась по нескольким критериям. Некоторым группам, к примеру, мы подбрасывали мобильные телефоны, которые вдруг начинали издавать ужасно громкие и раздражающие сигналы, например мелодию на волынке. Реакцией любого нормального англичанина было бы скорее выключить телефон, однако от них в данном случае требовалось быстро его найти и постараться записать номер звонившего. Дальше ему надо было перезвонить и спросить имя человека, с которым тот пытался связаться, — это давало подсказку при опознании тела.
Офицерам не разрешалось брать телефон в руки, пока его не осмотрел судмедэксперт, поэтому мы их дразнили: набирали номер, а потом сбрасывали звонок, стоило им добраться до трезвонящего аппарата. Дальше мы дожидались, пока его сложат в мешок с уликами, и звонили опять. Мы потешались, наблюдая, как офицеры впопыхах стараются нацарапать номер на бумажке, пока он не пропал. Их это могло раздражать, но такая тренировка здорово повышала готовность к нестандартным ситуациям.
Мы могли подкладывать в карманы жертвы неожиданные предметы, которые вряд ли ей принадлежали — например, подбрасывали в карман мужчине губную помаду или расческу — лысому. Со временем офицеры начали пересказывать наши хитрости коллегам, которые должны были учиться после них, так что нам приходилось напрягать фантазию и придумывать еще более замысловатые ловушки. Мы не могли застраховать их от неожиданностей в процессе работы, но собирались к ним подготовить.
Одной группе мы подбросили в мешок с уликами копию ручной гранаты. С учетом того, что катастрофа произошла якобы на круизном лайнере со старичками, такой сценарий был маловероятен, но это не имело значения: цель упражнения заключалась в реагировании на неожиданную ситуацию. Мы отошли в сторонку и стали ждать. Когда они обнаружили гранату и сообщили нам, мы подняли тревогу и немедленно скомандовали эвакуировать морг. Поначалу они восприняли это равнодушно и слонялись вокруг морга в своих белых защитных костюмах, вроде как дожидаясь «минеров». Но мы уже поднаторели в разработке хитроумных сценариев: время шло, ученики продолжали ждать и постепенно осознавали, что их лимит времени на задание истекает. Они знали, что должны непременно закончить работу, иначе не получат финальную оценку. Теперь они все сильней волновались, поглядывая на часы и стирая со лба пот.
Когда мы решили, что протомили их достаточно долго, то объявили, что в морге все чисто, и они могут вернуться в здание. Стеная и возмущаясь, они бегом бросились внутрь, чтобы скорей закончить работу и уложиться в срок. Былую расслабленность как ветром сдуло: все нервничали и торопились. Пора было дать им еще один урок. Майк, наш распорядитель морга, остановил их на входе и поинтересовался, куда это они так спешат.
— Назад, работать, — хором воскликнули они.
— Это вряд ли, — ответил он. — Вы же в зараженных костюмах! Их надо снять перед карантинной зоной.
Послышались возгласы протеста («да у меня под костюмом одни трусы!»). Прекрасно! С довольными улыбками мы наблюдали, как сорок полицейских офицеров, еще недавно таких самодовольных, вбегали в здание в трусах и футболках (по счастью, на голое тело комбинезон никто не надел, а то пришлось бы что-нибудь придумать, чтобы избежать неловкости — не только с их, но и с нашей стороны). Теперь они поняли, что нас не следует недооценивать. А мы лишний раз напомнили им: в условиях катастрофы единственное, что можно предсказать — это непредсказуемость. Им предстояло опознавать жертв при падении самолетов, в поездах, сошедших с рельсов, после терактов и природных катаклизмов, и они должны были работать эффективно и профессионально, наблюдая ужасные, трагические картины. Тот эпизод, кстати, завершился к всеобщему удовольствию — вечером мы пригласили офицеров в бар и угостили пивом.
Третья часть курса, после которой они получали диплом о дополнительной квалификации, состояла в написании доклада о любой катастрофе в истории человечества, на их выбор. Они должны были изучить все обстоятельства и прокомментировать, какие методы ИЖК сработали в том случае, а какие нет, и что в процессе можно было улучшить. Слышали бы вы, какой они подняли крик! С какой стати им писать доклад? Они что, опять в школе? Однако впоследствии учащиеся признали, что это задание им очень помогло. Им представилась возможность обобщить всю информацию из теоретического и практического курса, да еще и получить диплом по предмету, который их теперь очень интересовал. Учеба была увлекательная, и большинство из них вспоминало о наших курсах с большой теплотой.
Некоторые написали такие подробные доклады, что мы решили их использовать во втором учебнике: Идентификация жертв катастроф: практический опыт, а гонорары за него перечислить в благотворительный полицейский фонд в пользу пострадавших на службе. Мы с Марком Линчем из полиции Южного Уэльса написали статью о катастрофе в Аберфане в 1966. Эта трагедия, наряду с Пайпер-Альфа и Маркизой, затонувшей в Темзе, чаще всего встречалась в докладах наших учеников (один, между прочим, написал про извержение Везувия — хотя в смысле идентификации жертв там особо не было где разгуляться).
Аберфан выбирали особенно часто не только потому, что там операция проводилась по образцовым для своего времени стандартам, но еще и потому, что тот случай отлично иллюстрировал, как можно делать свою работу даже в отсутствие хитроумных инструментов и технологий. Он установил планку, которая высока даже по сегодняшним меркам. Авария, случившаяся в Аберфане, глубоко тронула всех, кто о ней писал, особенно офицеров из шахтерских поселков. Тот случай напоминал, что ИЖК — процесс не новый; что мы идем по стопам тех, кто занимались идентификацией до нас, людей, которые справились с кошмарной задачей, поставленной перед ними, методично, скрупулезно и с состраданием к жертвам.
Катастрофу вызвало обрушение отвала угольных шлаков на склоне холма над небольшой шахтерской деревушкой Аберфан в южном Уэльсе. «Номер 7», состоявший преимущественно из пыли и мелких частиц, остающихся после фильтрации, располагался на неудачном месте, над подземным родником. Утром 21 октября 1966 года, когда родник вспучился из-за затяжных дождей, более 150 000 кубических метров шлака обрушилось со склона и понеслось вместе с водой вниз, к деревне, со скоростью 50 миль в час. В 9:15, когда ученики и учителя в начальной школе Пэнтглас приступали к урокам в последний день перед осенними каникулами, оползень стер здание с лица земли, похоронив под девятиметровым слоем угля.
Полицейские и спасатели прибыли к школе в 10 утра; все шахтеры в округе, предупрежденные сиренами, похватали свои инструменты и бросились на помощь. Жители деревни, у многих из которых дети находились внутри, пытались откапывать завалы голыми руками, чтобы добраться до них. Это была первая катастрофа с человеческими жертвами, снятая на пленку в реальном времени: к 10:30 ВВС уже вела прямую трансляцию с места событий, подъезжали журналисты. Один из спасателей вспоминал: «Я помогал откапывать детей, и тут фотограф сказал какому-то мальчику поплакать по своим друзьям, чтобы получился хороший снимок. Я решил, что слова с ними не скажу». Перечитывая это, я вспоминала свой опыт в Косово.
Полиция из Мерфир-Тайдфила немедленно приступила к операции поиска и спасения. На этой стадии в живые ставятся в приоритет над мертвыми, и она может занять минуты, часы или дни — в зависимости от катастрофы. На второй стадии, когда извлекаются трупы жертв, в дело вступают судебные антропологи.
В Аберфане передвижной госпиталь развернули в часовне Вифания, в 250 ярдах от школы. Однако живым никого не нашли, и после 11 часов часовню превратили во временный морг. В цоколе устроили базу для волонтеров и координационный центр, а также разместили 200 гробов. Посмертное вскрытие не требовалось, поскольку причина смерти и так была ясна, однако совершенно необходимо было опознать все тела. Коронер и его помощник работали вместе с двумя местными докторами, устанавливая факт смерти, и в сотрудничестве с учителями школы, оставшимися в живых, составляли списки учеников, которые должны были находиться внутри.
Каждое тело, откопанное из завала, на носилках переносили в часовню, помещали во временный морг и присваивали ему уникальный идентификационный номер, который прикалывали к одежде. Этот номер вносили в карточный каталог, вместе с общими сведениями: женского или мужского пола труп, взрослый это или ребенок. 116 мертвых детей лежали на столах, накрытые одеялами, — мальчики с одной стороны, девочки с другой. Трое учителей помогали с предварительным опознанием, а ассистент морга умывал лица погибших, чтобы облегчить визуальную идентификацию. Родные терпеливо дожидались в очереди перед часовней, пока им разрешат войти внутрь, по одной семье за раз, чтобы забрать тело. Когда личность подтверждалась, труп отвозили в другое место, кальвинистскую методистскую церковь, где оно лежало до похорон. Только в пятнадцати случаях опознание было затруднено по причине сильных увечий. Этих жертв идентифицировали по стоматологическим картам.
Сразу после катастрофы все действия сосредотачиваются сначала на выживших, потом на опознании тел, потом на предупреждении дальнейших жертв. Однако в долгосрочной перспективе ее последствия сохраняются, пока живы пострадавшие или пока общество помнит о ней. Спустя пятьдесят лет после Аберфана, многие из тех, кто потерял там близких, до сих пор хранят горькие воспоминания. В те времена стоические принципы представителей рабочего класса призывали «просто жить дальше». Теперь, в эпоху, признающую ценность консультирования и психотерапии, мы понимаем, что подобное подавление травмирующих переживаний может негативно сказаться на здоровье и благополучии человека. Те, кто занимается ИЖК, обязательно помнят, что их задача — ни в коем случае не причинять лишней боли выжившим и родственникам погибших.
Этот императив утвердился после катастрофы с прогулочным судном Маркиза, затонувшим в 1989 году на Темзе, по инициативе судьи Кеннета Кларка, возглавлявшего расследование обстоятельств происшествия и процедуры опознания тел. Его отчет, опубликованный в 2001-м, содержал тридцать шесть рекомендаций и предложений по усовершенствованию данного процесса и привел к пересмотру устаревшей судебно-медицинской процедуры. Главное новшество состояло в учреждении должности руководителя процесса опознания, на которого ложилась вся ответственность за идентификацию жертв.
Жертвами той трагедии стали гости, собравшиеся на свадьбу на речной трамвайчик Маркиза, катавший их по Темзе. Маркиза столкнулась с драгой Боубелл и от удара ушла под воду. У тех, кто находился внутри, практически не было шансов спастись.
Два дня ушло на извлечение тел из воды и из корабля. Сначала их перевозили в полицейский участок, где двадцать пять выдали семьям после опознания родственниками и друзьями. Коронер распорядился, чтобы семьям не показывали тела, дольше остальных пролежавшие в воде, из-за сильного разложения. Их следовало опознать по отпечаткам пальцев (идентификация по ДНК тогда, к сожалению, еще находилась в зародыше), стоматологическим картам, одежде, украшениям и физическим характеристикам. Все они подверглись вскрытию. Сейчас мы не стали бы этого делать, поскольку, как и в случае с жертвами из Аберфана, причина смерти была ясна.
Чтобы облегчить идентификацию по отпечаткам пальцев, коронер Вестминстера дал разрешение в случае необходимости отрезать жертвам руки. Это решение судья Кларк сурово раскритиковал, но оно, к сожалению, было краеугольным камнем процедуры идентификации. Разрешение на него давал коронер по той причине, что по действовавшему законодательству только он имел право распоряжаться трупом. Руки отняли у двадцати пяти из пятидесяти одного погибшего. Только когда тела окончательно опознали, что заняло почти три недели, останки выдали родным. Многие выражали свое возмущение тем, что им не дают увидеть тела близких. Это не только добавило им переживаний, но и поставило под вопрос точность опознания, а также лишило доверия к властям. Семьи активно настаивали на публичном расследовании, и в 2000 году — через одиннадцать лет после катастрофы, — добились своего.
Многие из важных рекомендаций, вытекавших из того расследования, были связаны с отрезанием рук и с нежеланием властей позволить родным самим решать, хотят ли они видеть останки. В трех случаях руки семьям так и не вернули. Одну пару нашли в заморозке морга в 1993-м, спустя четыре года после катастрофы, и кремировали, не уведомляя и не запрашивая разрешения у родственников. Поскольку семьи не видели тел, многие из них не знали о проведенном вскрытии. Позднее эта новость стала для них настоящим шоком.
Лорд-судья Кларк в своем послании говорил, что семьи должны получать самую точную и достоверную информацию, причем регулярно и в кратчайшие сроки. Чарльз Хэдцон-Кейв, представлявший комитет активистов Маркизы, сказал: «Большая часть процесса, по понятным причинам, проходит за закрытыми дверями. Вот почему на тех, кому доверено осуществлять эту работу, и на власти, которые за ней наблюдают, ложится особая ответственность — следить за тем, чтобы с телами обращались с максимальным уважением. На это имеют право рассчитывать их родственники и друзья, и этого требует все наше общество».
Наш тренинг по ИЖК предоставил нам возможность обсудить с офицерами полиции, чему нас учит прошлое, какие хорошие (и не очень) приемы следует применять в каких обстоятельствах, и что в современных условиях можно улучшить. Если Альберфан был образцом отличной работы, то катастрофа с Маркизой, в особенности отрезание жертвам рук, явно призывала к пересмотру многих процедур и усвоению уроков прошлого. Из всех заявлений судьи Кларка самым принципиальным для дальнейшего развития ИЖК стало следующее: «Надо добиться того, чтобы методы, используемые для опознания жертв, не причиняли дальнейшего ущерба и не влекли новых увечий, а части тела не отрезались в целях идентификации за исключением случаев, когда этого никак нельзя избежать».
Судмедэксперты всегда стараются действовать из лучших побуждений и порой желают оградить родных от страшного зрелища трупа. Если тело начало разлагаться, обгорело или разлетелось на куски в результате взрыва, в прошлом мы настаивали, чтобы родственники не смотрели на него. Однако сейчас мы не имеем права принимать за них решения, не говоря уже о том, чтобы что-то запрещать. Тело нам не принадлежит. В любом случае, мы не знаем, как семья или друзья отреагируют при виде мертвой оболочки того, кого они любили, вне зависимости от ее состояния. Поэтому если мать хочет увидеть своего мертвого ребенка и взять его за руку, если муж хочет поцеловать на прощание жену или брат хочет провести несколько минут в тишине наедине с братом, мы можем только подготовить их к тому, что они увидят, и быть неподалеку, чтобы помочь.
Катастрофа в Аберфане была так называемого закрытого типа, когда имена погибших были известны, и опознать удалось всех. С Маркизой обстояло по-другому: ее классифицировали как «открытый» инцидент, при котором требуется более сложный процесс ИЖК, а им, соответственно, сложнее управлять. В таких ситуациях нельзя знать заранее, кто там погиб и сколько точно людей могло погибнуть или пострадать — выжившие порой тоже оказываются в таком тяжелом состоянии, что им тоже требуется опознание. Списка пассажиров на Маркизе не было, и количество пострадавших изначально оставалось неясным.
Когда «открытый» инцидент является результатом теракта, приоритеты могут смещаться. Сама процедура ИЖК остается такой же, но процесс извлечения тел и сбора улик проводится по-другому. При терактах в лондонском транспорте в июле 2005 года смертники взорвали три бомбы в поездах подземки в разных частях города и четвертую в двухэтажном автобусе. Погибло пятьдесят шесть человек, включая четырех террористов, 784 получили ранения. Конечно, опознание жертв проводилось в срочном порядке, но приоритетом было все-таки спасение выживших и выявление преступников.
В процессе реагирования на первый в Великобритании так называемый исламистский теракт власти использовали стандартный протокол массовой гибели людей в результате действий террористов. Здесь очень важно установить, погибли преступники или нет, и проследить всю их сеть, чтобы предупредить другие теракты, возможно, связанные с первым, то есть принять все меры по предотвращению новых жертв. Лондонские взрывы оказались скоординированной атакой, но произошли почти одновременно, так что ни одного предупредить не удалось.
В 2005-м в Великобритании практически не существовало централизованной службы ИЖК, а к 2009-му мы в этой сфере опередили весь мир. Я никогда не думала, что мой чересчур эмоциональный выпад в сторону правительства после цунами в Индийском океане будет иметь такие последствия, или что он сыграет решающую роль в создании нашего ИЖК-подразделения. Я очень горжусь потрясающей работой, которую оно делает, и тем, каких высоких придерживается стандартов.
Я никогда не устану повторять то, в чем убеждена до глубины души: никогда нельзя забывать, что с катастрофой вопрос заключается не в «если», а в «когда». Жизненно необходимо, чтобы, когда нагрянет следующая, мы были готовы отреагировать максимально эффективным образом. В нашем мире с учащающимися актами бессмысленной жестокости, напоминает руководитель британского подразделения ИЖК Грэхем Уокер, террористам нужна удача всего на один раз, чтобы исполнить задуманное, в то время как силы сопротивления не могут полагаться на удачу — они должны побеждать раз за разом, чтобы обеспечивать нам безопасность. Как бы они к этому не стремились, это нереалистично, поэтому нам следует тренироваться и готовиться к любым неожиданностям, продолжая при этом молиться, чтобы тренировки никогда не пригодились. Однако если катастрофа случается, наша реакция должна демонстрировать, что гуманизм превыше любой жестокости, на которую способны природа и человеческий род.
Глава 12 Судьба, страх и фобии
«Люди боятся смерти, как дети боятся темноты»
Фрэнсис Бэкон, философ и ученый (1561–1626)Мое увлечение идентификацией человеческих останков разделяет со мной лучший друг и наставник Луиза Шейер, благодаря которой я получила свою первую настоящую работу в госпитале Сент-Томас в Лондоне. Когда я дописывала диссертацию, Луиза позвонила мне сказать, что в Сент-Томасе появилась вакансия преподавателя анатомии, и, по ее мнению, я могла на нее претендовать.
Думаю, я удивилась больше всех, когда получила эту работу. Председатель комиссии, знаменитый профессор неврологии, непременно хотел кого-нибудь со степенью по биохимии, и очень пренебрежительно отзывался о «всяких недоученных антропологах».
Дело решил последний вопрос, заданный профессором Майклом Деем, руководителем отдела. Он спросил, смогу ли я сегодня во второй половине дня прийти в анатомический театр и провести занятия по анатомии плечевого сплетения. Я сказала, что безусловно смогу — и работа досталась мне. Я сама с тех пор неоднократно использовала этот прием на собеседованиях, но, наученная собственным опытом, шла немного дальше. Я задавала кандидатам тот же вопрос, а когда они отвечали, что, конечно же, готовы провести занятие по плечевому сплетению, просила его нарисовать. Плечевое сплетение — если кому интересно, — это сеть нервов, расположенная между шеей и подмышкой, которая напоминает тарелку спагетти. Коварно, да ведь? Я рада, что Майкл не предложил этого мне, ведь тогда меня бы точно не взяли. Теперь-то я могу его нарисовать, но тогда ни за что не смогла бы.
Человек, который счел меня недостаточно квалифицированной, в результате оказался моим начальником, когда кафедры в Гае и Сент-Томасе объединились несколько лет спустя. Мне нравилось преподавать анатомию под его началом, но он, кажется, ко мне так и не потеплел, потому что благодаря меня за проделанную работу перед моим уходом в 1992 году, назвал почему-то Сарой. Определенно я не произвела на него особого впечатления. Однако в Сент-Томасе я познакомилась с целой группой очаровательных коллег, с которыми дружу по сей день. И, что еще более важно, это стало началом долгого и продуктивного сотрудничества с дамой, которая забыла об анатомии больше, чем я когда-нибудь буду знать, и которая была моим другом, моим источником вдохновения и моим учителем более тридцати лет.
Когда мы с Луизой в 1986-м начали организовывать первую в Великобритании образовательную программу по судебной антропологии, она постоянно жаловалась на одно неудобство. Всякий раз, когда надо было проводить осмотр скелетных останков ребенка, она говорила: «И почему только нет учебника, где можно посмотреть!» На это я отвечала, что она могла бы сама его написать, а Луиза мне советовала придержать язык. Она отлично умела говорить, как гувернантка с непослушным ребенком («Ох, боже мой, умоляю!»). Спустя года четыре подобных препирательств, я решила устроить революцию — сменить сценарий. «Почему бы нам не написать его вместе», — предложила я.
И так начался наш грандиозный писательский проект. Мы хотели выпустить учебник по развитию человеческого скелета, где описывалась бы каждая косточка с момента ее формирования до полноценного взрослого состояния. Мы не надеялись, что он попадет в список бестселлеров Sunday Times, но считали, что просто обязаны заполнить зияющий пробел в академическом арсенале судебной антропологии. Поскольку других книг, описывающих развитие детского скелета на нужном нам уровне, не существовало, мы начинали, по сути, с чистого листа.
Работа заняла у нас почти десять лет. Сначала надо было изучить все, что писалось и издавалось по этой теме в последние три столетия или около того. Дальше требовалось найти образцы, чтобы проиллюстрировать то, что мы хотели показать, а там, где оставались пробелы, провести собственные исследования. Очень быстро мы поняли, почему никто не взялся за это раньше: такой труд можно было осилить только от большой охоты, и за очень долгое время. По сути, он доминировал в наших жизнях весь этот срок.
Книга вышла в 2000 году. Детская остеология в развитии — очень, очень толстый том, который не отличается особой увлекательностью. Нам пришлось описать более двухсот костей, но работа была по-настоящему увлекательная и благодарная, и она очень сказалась на нашей профессиональной карьере. Я обожала моменты, когда Луиза в полном восторге звонила мне и говорила «ты можешь себе представить…» или «я наконец-то поняла, почему…». Мы с ней совершили немало разных любопытных открытий, часть которых подрывала наши собственные теории, но мы учились на них, и медленно, очень медленно увязывали все вместе в одном «опус магнум», которым обе страшно гордились.
К 1999 году, когда я заканчивала первый год в Косово, а рукопись была практически готова, мы отчаянно пытались разыскать один крайне необходимый образец — лопаточную кость, на которой был бы виден центр роста.
Должна признаться, что однажды воспользовалась своим правом на драгоценный звонок по спутниковой связи из Косова, чтобы связаться с Луизой, а не с Томом или с девочками. Во временном морге в Велика-Круша я обнаружила именно тот образец, который нам был нужен. Мы обе были до смешного счастливы. Я получила разрешение сфотографировать его для книги, но, к сожалению, не подумала в тот момент, что на всех остальных иллюстрациях у нас чистые, сухие кости, а на этой еще остается мышечная ткань. Хорошо, что иллюстрации были черно-белые, иначе этот образец выделялся бы своим пугающим видом. Однако с образовательной точки зрения снимок был просто бесценным.
К моменту, когда книга была закончена, я вернулась в Шотландию, Луиза ушла на пенсию, а мне предстояла новая командировка в Косово. Мы с ней, кажется, знали о детском скелете больше, чем кто-либо на всей земле. Моя бабушка, передавшая мне свой фатализм, говорила, что всегда есть веская причина, почему мы оказываемся в определенном месте в определенное время, и она не обязательно связана с нашими собственными планами, предпочтениями и мечтами. Мы тут, потому что так решила судьба, возможно — чтобы помочь кому-то еще. То, что я оказалась в Косово именно в тот момент своей жизни, обладая всеми накопленными знаниями, было, думается, предопределено свыше.
Одно из мест преступления, на котором в 2000 году было решено провести экспертизу, содержало останки практически целой семьи. Во время войны с сербами косовские албанцы, жившие вне городов и деревень, пытались оставаться на своих фермах, держась подальше от военных, которые в основном действовали в густонаселенных районов. Мартовским утром 1999-го семья поехала с такой фермы в ближайшую деревню, чтобы запастись продуктами; отец вел трактор, а все остальные сидели в старом деревянном прицепе за ним. Без предупреждения по трактору выстрелили из гранатомета с ближайшего холма. Гранатой его разнесло на куски. Погибло одиннадцать человек: жена водителя, его сестра, их престарелая мать и восемь детей — от младенца до четырнадцатилетних близнецов. Отец, единственный, выжил.
Пока мужчина выбирался из кабины, снайпер ранил его в ногу. Истекая кровью, он все-таки смог забраться в ближайшие кусты и укрыться там. Он перетянул ногу ремнем, чтобы остановить кровотечение, и, понимая, что его родные мертвы, стал ждать вечера, надеясь, что снайперы, даже если останутся на месте, в сумерках не смогут его разглядеть. Он понимал, что если не соберет останки своих близких, их растащат одичавшие собаки, и не мог этого допустить.
Когда мужчина решил, что может безопасно выбраться из зарослей, то начал собирать останки родных. От взрыва гранаты их всех разорвало на куски, за исключением младенца, который остался целым. О силе взрыва и ужасе этих поисков говорило то, что он смог собрать не все: он сказал, что от тела жены нашел только правую половину, а от двенадцатилетней дочери — нижнюю часть. Мой муж, узнав об этом, сказал, что не представляет, как можно было при этом остаться в здравом рассудке и довести дело до конца. Где найти столько мужества, силы и преданности своим родным? Сам Том, по его словам, решил бы, что такое ему не по силам, и прямо там покончил бы с собой. Но тот человек этого не сделал. В меркнущем закатном свете он разыскивал окровавленные тела, не обращая внимания на то, что сам истекает кровью.
Когда он собрал все, что смог, то похоронил останки, выкопав яму лопатой, оставшейся в тракторе. Он расположил ее у приметного дерева, чтобы запомнить, где находится могила, и потом ее отыскать. Последним несчастный отец положил тельце своего маленького сына поверх изуродованных трупов остальных родных, засыпал землей и произнес молитву об упокоении их душ.
Год спустя следователи Международного трибунала по бывшей Югославии классифицировали эту могилу как объект для судебно-медицинской экспертизы по делу против Слободана Милошевича и его военачальников. Они считали, что это нападение — чистейший геноцид, так как обстрел мирной семьи никак не относился к военным действиям. Отец, которому удалось выжить, привел следователей к дереву, где похоронил родных, и дал разрешение на эксгумацию тел. Он не только хотел справедливости для своей семьи и других косовских албанцев, но также боялся, что, поскольку все останки перемешались, Бог не сможет их различить, чтобы спасти души. Мужчина говорил, что не успокоится, пока у каждого из членов семьи не будет собственной могилы с именем, чтобы их души обрели спасение от жестокостей этого мира.
Я не присутствовала при эксгумации, но знала о масштабах задачи, стоявшей перед нашей командой. Мы должны были идентифицировать и разделить перемешанные останки одиннадцати фрагментированных и сильно разложившихся тел, восемь из которых принадлежали детям, в соответствии с международными стандартами пригодности в качестве улик, не забывая в то же время о чувствах и желаниях мужественного человека, лишившегося всей своей семьи.
В морге мы ожидали прибытия одиннадцати мешков, но останков хватило только на полтора. Это было все, что мужчине удалось собрать и похоронить в тот страшный день. Останки сильно разложились, и хотя часть мягких тканей сохранилась, в основном они представляли собой полужидкую массу с костями внутри. Разбирать их было проблематично и очень, очень неприятно. Не имело смысла держать на месте всю команду, которая просто стояла бы и смотрела, поэтому мы решили дать сотрудникам долгожданный выходной, а я осталась с нашим техником морга, фотографом и рентгенологом и принялась за дело.
Мы разложили на полу двенадцать белых простыней — по одной на каждого погибшего, помеченной соответствующим возрастом, и еще одну для останков, которые мы не сможем с уверенностью отнести ни к одному телу. Даже анализ ДНК в данном случае ничем бы не помог, потому что все они были родственниками, а образцов для сравнения не имелось. Собственно, даже будь они у нас, из-за кросс-контаминации тел, похороненных вместе, шансы получить достоверные пробы стремились к нулю. Оставался только старый добрый процесс анатомической идентификации, а поскольку речь шла о детях, на тот момент мы с Луизой были, пожалуй, самыми опытными судебными антропологами, способными справиться с задачей. Я находилась в Косово, а Луиза — в Лондоне, но я могла в любой момент ей позвонить, что добавляло мне уверенности.
Мы начали с рентгеновских снимков обоих мешков — надо было убедиться, что в них нет никаких неожиданных включений. Снимки выглядели печально: с тенями разрозненных частей тела, которые мне предстояло сложить, как жуткий человеческий паззл. Первый мешок открыли: сверху, все еще в голубом костюмчике, лежал младенец. Хотя тело заметно разложилось, оно хотя бы осталось целым, и мы поместили его на отдельную простыню, будучи полностью уверены, что перед нами младенец шести месяцев от роду.
С остальными пришлось разбираться кость за костью: счищать остатки разложившейся плоти, идентифицировать кости, оценивать их возраст и выкладывать на простыни с соответствующими пометками. Мы отделили останки женщин. Бабушку легко было отличить по отсутствию зубов, артриту и остеопорозу. С двумя другими, более молодыми, пришлось повозиться, но от одной, старшей из двоих, осталась только правая половина тела, что соответствовало утверждению выжившего. Получается, это была его жена.
Детей мы различали по возрасту — кроме четырнадцатилетних близнецов, все они родились в разные годы. Нижнюю половину тела двенадцатилетней девочки удалось идентифицировать относительно легко. Останки младших, в возрасте трех, пяти, шести и восьми лет, были представлены скудно, но их хватало, чтобы выделить каждого из общей массы.
Теперь на всех простынях у нас имелись кости; оставалось разобраться с близнецами. Все, что от них сохранилось — два изувеченных корпуса и верхние конечности от плеча до локтя. Мы знали, что эти части тел принадлежали близнецам, потому что только они соответствовали их возрасту — но кому какие? На одном наборе останков был надет свитер с Микки Маусом, поэтому мы попросили полицейского с переводчиком поговорить с отцом и узнать, кто из детей его носил. Мы специально не говорили, что речь о близнецах, не указали даже, что это мальчик. Отец ответил, что один из близнецов обожал Микки Мауса, что позволило нам ориентировочно рассортировать останки.
Это был долгий день, двенадцать часов непрерывной работы, но к концу мы идентифицировали и распределили по простыням практически весь материал, и на всех одиннадцати лежали останки конкретных жертв. Мы получили список имен с указанием возраста каждого от главы семьи, и начали упаковывать останки в отдельные мешки. Власти сначала запретили нам выдавать останки близнецов с указанием имен, но тут мой ассистент, Стив Уоттс, пошел в атаку. Мы объяснили, что разделили их с максимальной долей вероятности, какой могли добиться, изложили свою точку зрения и уговорили выдать тела.
Это означало, что отцу вернули останки в запечатанных мешках, и переводчик при передаче называл всех по именам. Переводчики вообще играли огромную роль в нашем взаимодействии с местным населением и делали по-настоящему важную работу. Они говорили с семьями, собирали данные, объясняли родственникам, что мы нашли, и должны были при этом стараться не погрузиться в тот ужас, который выслушивали день за днем, работая в Косово.
Я давно постановила для себя не воспринимать свою работу эмоционально — иначе я просто не смогла бы ее выполнять, — но в вопросе с близнецами мы, хоть и на волосок, но перешли границу. Однако мы чувствовали особую ответственность за это опознание, вероятно, отчасти потому, что жертвами были дети, а отчасти из-за страданий, выпавших на долю их отца, который вынес все с невероятной стойкостью и достоинством. Это было единственное утешение, которое мы могли ему предложить, и никакие самые современные научные исследования ничего не добавили бы к нашим заключениям.
Тем не менее нам все равно пришлось через переводчика объяснить, мягко, но честно, что мешки не полные и почему остался двенадцатый, со смешанными останками. Он воспринял это удивительно: спокойно и с пониманием. День оказался крайне сложным, мы были вымотаны физически и эмоционально. Когда он пожал нам всем руки и поблагодарил, мы просто не понимали, как этот человек может испытывать благодарность за нашу работу. Однако, как говорила моя бабушка, судьба дана не для удобства.
Мы все сожалели, что не смогли передать ему одиннадцать аккуратных мешков, которые показывали бы, что задача выполнена на сто процентов. Однако это была не гуманитарная миссия, а судебно-медицинская экспертиза в ходе расследования военного преступления, и если бы мы попытались идентифицировать остальные фрагменты тел из соображений аккуратности или просто сочувствия, то допустили бы профессиональную халатность. Мы должны были быть уверены, что если эти останки проверят снова, то принадлежность каждого фрагмента конкретному человеку подтвердится.
Я никогда не добилась бы таких результатов, если бы не знания и опыт работы с детскими скелетами, приобретенные в процессе работы над книгой. В тот день я применила на практике все, что мы с Луизой изучали почти десять лет, и внезапно осознала, почему этот проект имел для нас обеих такую важность. Да, в Косово в тот день я была одна, но Луиза сидела у меня голове, напоминая проверить и перепроверить каждую деталь, все тщательно записать, составить список и убедиться, что я полностью уверена в своих выводах, прежде чем ставить подпись на заключении.
Задача, поставленная передо мной в Косово, была крайне ответственной, но в то же время я получила от нее громадное удовлетворение. Каковы были шансы, что мне попадется именно этот случай? Думается, моя бабушка была права: нет никаких случайностей и все в моей жизни — переход в Сент-Томас, знакомство с Луизой, работа над книгой — вело к этому моменту. Надеюсь, в будущем наша книга позволит и другим специалистам справиться с какой-нибудь сложной ситуацией. Но даже если она больше вообще никогда и никому не пригодится, ее стоило написать хотя бы ради того опознания в Приштине в 2000-м, в год ее опубликования. Каждый раз, листая книгу и натыкаясь на фотографию лопаточной кости, я вспоминаю отца тех детей, и наш труд кажется мне мемориалом в их честь.
Один из вопросов, который мне чаще всего задают как судебному антропологу: как мы справляемся с тем, что вынуждены видеть и делать. В ответ я обычно шучу, что для этого требуется приличный запас алкоголя и запрещенных веществ, но на самом деле я, кажется, ни разу в жизни ничего такого не принимала, да и с алкоголем не особенно дружу — могу разве что изредка пропустить пару стопок «Джека». Просыпаюсь ли я по ночам в холодном поту? Тяжело ли мне засыпать? Не встают ли сцены с работы у меня перед глазами? Ответ на все эти вопросы довольно скучный и приземленный — нет. Для особо интересующихся у меня есть отработанные фразы о необходимости сохранять профессионализм и критический подход, сосредотачиваться на деталях, а не на личных или эмоциональных переживаниях и так далее, но, если честно, мертвецы меня никогда не пугали. По-настоящему я боюсь живых. Мертвые куда более предсказуемы и снисходительны.
Недавно коллега из немного другой сферы недоверчивым тоном заметил в мой адрес: «Ты говоришь об этих вещах, будто они абсолютно нормальные. Но для всех остальных это просто ужас!» На это можно ответить разве что старой пословицей про «мертвому — мир, лекарю — пир». Наверное, судебные антропологи — современная версия «пожирателей грехов», которые берут на себя самую неприятную и отталкивающую работу, чтобы освободить от нее других. Но это отнюдь не означает, что у нас нет своих слабостей.
Страхи есть у всех — в конце концов, это одна из наших самых древних и сильных эмоций, — и все мы чего-то боимся. В процессе работы мне порой случается сталкиваться с моей единственной полноценной неизлечимой фобией. Она преследует меня с детства, и хотя я приложила массу усилий, чтобы избавиться от нее, они ни к чему не привели. Думаю, настоящее знание себя зачастую заключается в том, чтобы смириться со своими страхами и недостатками, признав их за собой. Итак, я панически, до ужаса, смертельно боюсь грызунов. Любых: мышей, крыс, хомяков, песчанок, капибар — вообще всех.
Недавно местное благотворительное общество, поддерживающее нашу анатомическую службу, сделало нам драгоценный рождественский подарок: лабораторную крысу. Чуа (дааа, у него есть имя!) весит полтора килограмма, относится к виду гамбийских сумчатых крыс и зарабатывает на жизнь тем, что «вынюхивает» туберкулез, как собака — наркотики в аэропорту. Он настоящий герой и спас жизнь четырем десяткам человек. Конечно, он заслуживает всяческого восхищения, но, сколько бы я себе об этом не напоминала, все равно — он крыса!
Наверное, это странно для судебного антрополога, каждый день имеющего дело с мертвецами, расчлененными трупами и разлагающимися останками, от которых любого другого просто бы стошнило, страдать от такой иррациональной фобии. Я согласна, но это понимание не облегчает моих страданий и не делает грызунов привлекательнее в моих глазах. Я их боюсь всю сознательную жизнь, и этот страх, в каком-то смысле, повлиял на мой выбор будущей профессии.
Все началось на идиллических берегах Локкарона, близ западного побережья Шотландии, где родители управляли отелем «Стромферри», пока мне не исполнилось одиннадцать и мы не перебрались назад в Инвернесс. Как-то летом мусорщики («скаффи», как их называют в Шотландии) устроили забастовку, и на заднем дворе отеля начали скапливаться черные мешки с отходами. С учетом летней жары и количества мусора — из всех тридцати номеров, — запах не заставил себя долго ждать, а для наших пушистых друзей он означал источник роскошного подгнившего пропитания. Мне было девять, и я прекрасно помню, как погожим деньком зашла с отцом за угол отеля, и он спокойно попросил передать ему метлу, прислоненную к стене. Я без задней мысли ее взяла и протянула ему.
Отец всегда утверждал, что ничего такого не было, но, поверьте мне, было — совершенно точно, потому что это зрелище преследует меня с тех самых пор и каждый раз встает перед глазами, стоит мне столкнуться с любым представителем семейства грызунов. Отец увидел крысу и метлой загнал ее в угол, прижав к стене. Я была в ужасе: крыса показалась мне огромной, она шипела и готовилась к борьбе. Даже сейчас я прекрасно помню ее горящие красные глаза, оскаленные желтые зубы и извивающийся хвост. Клянусь, я слышала, как крыса рычала! Застыв на месте, я смотрела, как она мечется из стороны в сторону, пытаясь ускользнуть, а отец бьет ее древком метлы, боясь, что она прыгнет на меня и укусит. Он лупил крысу, пока цементная стена не стала красной от ее крови, и она не прекратила шевелиться. Не помню, чтобы отец ее поднимал или выбрасывал труп в помойку. Наверное, я чересчур перепугалась. Однако я больше никогда не ходила одна на задний двор и с того момента у меня развился нездоровый, глубоко укоренившийся страх и отвращение к любым — абсолютно любым! — грызунам.
Эта фобия переросла в проблему, когда мы вернулись в Инвернесс и поселились на ферме. Наш старый дом с толстыми стенами окружали гарь с одной стороны и поле — с другой. Это означало, что зимой отвратительные зубастые твари со всей округи прибегали к нам спасаться от холода и расхищать продовольственные запасы. Вечерами я с разбегу запрыгивала в кровать, боясь, что крыса выскочит из-под нее и схватит меня за ногу. Лежа под одеялом, я слышала, как они бегают по чердачным балкам у меня над головой.
Временами какая-нибудь падала и проваливалась в промежуток между полом и стеной. Убежденная в том, что она вот-вот вылезет у меня в комнате, я укрывалась с головой и подтыкала одеяло по краям, чтобы не осталось ни одной дырочки, куда она могла бы пролезть.
Из спальни в ванную приходилось по ночам добираться босиком и в кромешной тьме. Представьте, как я испугалась, когда однажды, поднимаясь по лестнице, наступила на что-то пушистое, а оно затрепыхалось и запищало у меня под ногой. После этого я несколько месяцев не выходила из своей комнаты ночью, как бы силен не был зов природы.
В студенчестве я столкнулась с крысами на зоологии: их было целое ведро, мертвых, и нам предстояло их препарировать. Я могла разрезать кого угодно, но ни за что не согласилась бы прикоснуться к дохлой крысе, не говоря уже о том, чтобы вытащить ее из ведра. Я призвала моего напарника, Грэма: он вытащил для меня крысу и разложил на специальной доске. Я попросила его накрыть ей голову и пасть с отвратительными острыми зубками бумажным полотенцем, а вторым завернуть хвост, потому что на него мне тоже было противно смотреть. Только после этого я могла вскрывать ей грудную клетку или брюшную полость, копаться во внутренностях и искать печень, желудок или почки.
Когда пришло время избавиться от трупа, Грэм его отколол с доски и выбросил в ведро (вот что значит настоящий друг!). Нечего и говорить, что я никогда не стала бы зоологом, ну или вообще лабораторным ученым. Как я уже говорила раньше, когда дело дошло до исследовательского проекта, я предпочла заняться человеческими останками, лишь бы избежать перспективы еще раз столкнуться с грызунами.
С учетом положения госпиталя Сент-Томас, на южном берегу Темзы, проблема, конечно же, возникла снова. Когда в первый день я вошла в свой кабинет и увидела там мышеловки и кучки яда вдоль стен, то поняла, что мне придется нелегко. Рано или поздно мне предстояло встретиться с зубастой гадиной лицом к лицу. Это произошло поутру, когда я вошла к себе, встала у стола, перед окном, и, оглянувшись, увидела гигантское дохлое чудовище, валявшееся на полу. На самом деле, оно было сантиметров десять, не больше, но мне показалось размером с Чуа.
Я позвонила нашему технику, Джону, и, рыдая, попросила срочно бежать ко мне на помощь. Он — добрая душа — бросился наверх, решив, наверное, что на меня напали, и обнаружил преподавательницу анатомии, сидящую с ногами на столе, трясущуюся от страха и заливающуюся слезами. Я ткнула пальцем в дохлую мышь и сказала, что ни за что не слезу со стола, пока ее не унесут из комнаты. Она держала меня в плену. Джон мог бы поднять меня на смех, но он был такой добряк, что просто тихонько вынес крысу и никогда мне о ней не напоминал. Он никому, насколько мне известно, не рассказал о том случае. Я думаю даже, что с тех пор он стал регулярно проверять мой кабинет, потому что больше мышей мне не попадалось. Неловко, конечно, но фобия к тому времени у меня окончательно укоренилась.
А потом случилось Косово. Наш морг в Ксерксе, где раньше находился амбар, манил грызунов как магнитом — их были там целые толпы. По утрам я любезно просила наших телохранителей из голландской воинской части открыть мне амбар и зайти внутрь, производя при этом как можно больше шума, чтобы разогнать крыс и мышей. Я ни за что не переступила бы порога, зная, что они там. Я слышала, как они скребутся и пищат, недовольные тем, что их потревожили. Солдаты относились ко мне снисходительно и никогда не шутили над моими страхами. Возможно, видя, какую работу я делаю, они понимали, что я не просто сумасшедшая и что мой страх совершенно реален, хоть и нелогичен.
Самое худшее же случилось в Подуево, на северо-востоке Приштины, где в 1999 году «Скорпионы», сербский спецназ, предположительно убили четырнадцать косовских албанцев, в основном женщин и детей. Нам сообщили, что тела похоронены под бывшим мясным рынком. Трупы вообще часто закапывают вместе с мертвыми коровами или лошадьми, предполагая, что если эксперты начнут копать и наткнутся на останки животного, то не станут разбираться дальше.
День, когда нам предстояло раскопать мясной рынок, выдался страшно жаркий. У нас был небольшой экскаватор, который снимал верхний слой почвы, пока один из специалистов не заметил что-то в яме. Я стояла в стороне, в тени от нашего микроавтобуса, когда услышала какой-то шум. Я решила пойти посмотреть, что происходит, но тут один из солдат выкрикнул мое имя, заставив остановиться и перевести взгляд на него. Завладев моим вниманием, он закричал: «Стойте! Не смотрите!» Я сделала, как было велено.
Оказалось, что ковш экскаватора добрался до первого лошадиного скелета, но в процессе потревожил крысиное гнездо, обитатели которого питались останками. Когда ковш его задел, крысы бросились врассыпную, спасаясь от надвигающейся опасности. Только после того, как они все скрылись, солдат махнул мне рукой, разрешая смотреть, улыбнулся и сказал: «Ну все, дамочка, теперь полезайте в яму». Да, там жутко воняло. Да, я была по локоть в гниющих лошадиных кишках. Зато там не было крыс — а что еще девушке нужно!
Солдаты присматривали за мной и оберегали — я не против джентльменского отношения, ни в коем случае, — но они никогда не поддразнивали меня и не считали неженкой, за что я была им признательна. Неженкам в нашей команде вряд ли было бы уютно: духи «Дохлая лошадь» не назовешь парфюмерным бестселлером, а вонь, которая там стояла, превосходила все, с чем мне когда-нибудь приходилось сталкиваться, уж поверьте. Во время обеда меня вежливо, но настойчиво попросили присесть где-нибудь в сторонке, одной. Чертовский удар по самолюбию!
С учетом экстремального характера нашей работы и условий жизни в Косово, наши страхи и слабые места рано или поздно выходили наружу. У всех нас случались моменты, когда мы не справлялись. Главным было то, что мы, когда такое происходило, всегда заботились друг о друге.
Любое соприкосновение с катастрофами или терактами оставляет неизгладимый отпечаток на нашей жизни. Я участвовала во многих публичных мероприятиях вместе с Вэл Макдермид, автором детективных бестселлеров, и мы стали с ней добрыми подругами. Вэл — очень умная и чуткая женщина, и она мне сказала, что обычно на таких мероприятиях я неотразима: заставляю зрителей смеяться, собственно, просто покатываться от хохота, — но как только речь заходит о Косово, я словно закрываюсь, отстраняюсь от всех. Она говорит, моя речь становится задумчивой, и в аудитории повисает печаль. Сама я этого не замечала, но ее слова меня не удивляют.
Это подсознательная реакция, возникающая, думаю, из необходимости сохранять здравый взгляд на вещи. «Компартментализация», или раздельное мышление, это своего рода когнитивный выбор, к которому надо себя приучить. Я не считаю себя равнодушной и холодной, я просто здравомыслящая. На работе я намеренно становлюсь жесткой, прилагая все усилия, чтобы свести эмоциональную реакцию и вовлеченность до минимума: для этого я открываю воображаемую дверь в отдельную, профессиональную «комнату» у себя в голове. Если бы судмедэксперты позволяли себе погружаться в пучины человеческой боли или проживали в голове страшные эпизоды, с которыми нам приходится сталкиваться, они не смогли бы принести никакой пользы как ученые. Мы не можем переживать за мертвецов. Это не наша работа, а если мы не сделаем свою работу, то никому не поможем.
Актер и сторонник коммуникативной теории Алан Алда утверждает, что великие вещи происходят, когда мы переступаем порог — именно так, переступая порог, я у себя в голове переключаюсь с одного подхода на другой. У меня в голове несколько отдельных «комнат», как я их называю, которые я знаю настолько хорошо, что автоматически выбираю ту, которая лучше всего подходит для текущей работы.
Если я изучаю разлагающиеся человеческие останки, то захожу в комнату, где не ощущается запах. Если работаю с убийствами, расчленениями или травмами, то выбираю ту, где царит спокойствие и безопасность. Если исследую образцы, связанные с преступлениями против несовершеннолетних, то ухожу в дальний конец комнаты, чтобы устраниться от сенсорной информации и не переносить то, что я вижу и слышу, из этого чуждого мне пространства немыслимой жестокости в свою реальную жизнь. В этих комнатах я стараюсь быть просто сторонним наблюдателем, применяющим на практике свои научные познания, а не участником событий, вовлеченным эмоционально. Настоящая «я» остаюсь вне комнаты, огражденная и защищенная от той психологической бомбардировки, которая происходит внутри.
Когда я все изучила, осмотрела, записала, пришла к заключению и закончила свою работу, мне достаточно открыть дверь из комнаты, снова сделать шаг через порог, запереть замок и вернуться к обычной жизни. Теперь я могу ехать домой и быть, как всегда, женой, матерью, бабушкой — нормальным человеком. Я могу смотреть фильмы, ходить по магазинам, пропалывать клумбу перед домом или печь пироги. Главное, чтобы дверь оставалась закрытой, и поэтому я не позволяю никому другому крутиться возле нее или заглядывать внутрь, чтобы не возникло утечек. Две мои жизни должны оставаться полностью изолированными друг от друга, и каждую я стараюсь защищать изо всех сил.
Только я знаю код доступа двери; только я знаю, что находится в каждой комнате, и какие демоны могут обитать внутри, пытаясь заглянуть мне через плечо в процессе работы. Я могу спокойно с ними сосуществовать в своем профессиональном мире, но когда я из него выхожу, они должны оставаться под замком. Я ни за что не выпущу их наружу. Я не чувствую потребности «разобраться» с ними или обсудить с психологом. Большинство из них я не описываю на бумаге и вообще никак не затрагиваю, разве что в рабочих материалах. В некоторых случаях я связана требованиями конфиденциальности, но даже если нет, я ощущаю на себе ответственность за чувства других людей, живых и мертвых, и не собираюсь выдавать их секреты. Я видела и делала такие вещи, о которых моей семье и друзьям лучше не знать — и они не узнают. Все случаи, описанные в этой книге, уже освещались в прессе. Остальные же так и останутся запертыми в тех комнатах.
Таким образом я заодно защищаю и себя. Для моей работы лучше позаботиться о том, чтобы ящик Пандоры никогда не открылся. Если дверь не запереть, позволив кому-то проникнуть внутрь без приглашения, демоны могут вырваться на свободу. К счастью, до сих пор мне удавалось успешно отделять личную жизнь от профессиональной. Если когда-нибудь они соприкоснутся, и я стану жертвой пост-травматического стрессового расстройства, то откажусь от своей работы, потому что больше не смогу быть сторонним наблюдателем.
Мы должны помнить о потенциальном влиянии нашей работы на личность и учитывать возможность возникновения такого расстройства, которое начинается внезапно, и от которого никто не застрахован. Его может спровоцировать какой-нибудь инцидент, крупный или мелкий, непредвиденно вторгшийся в нашу жизнь. Мне случалось наблюдать разрушительный эффект пост-травматического стресса на коллег, которые страдали от него настолько, что не могли дальше работать — болезнь разрушала их жизнь, отношения и карьеру. Психологическое здоровье требует внимания к себе, поэтому мы должны сохранять бдительность и тщательно следить за своими демонами. Но если им все-таки удается ускользнуть, то хаос, который они устраивают, нельзя ставить человеку в вину.
Поскольку я убеждена, что смерти, как таковой, бояться нет смысла, то мои демоны преимущественно связаны с преступлениями, совершаемыми живыми людьми. Только раз я почувствовала, что моя работа угрожает вторгнуться в мою частную жизнь, и триггером стало, в действительности, подсознательное влияние на мою психику тех ужасных вещей, которые люди могут проделывать с другими людьми, а вовсе не призраки мертвецов.
Это случилось, когда нашу младшую дочь Анну мальчик пригласил на школьный бал. Она потрясающе выглядела в длинном платье и со «взрослой» прической. Мы с Томом тоже присутствовали на балу в качестве сопровождающих, наблюдая за тем, чтобы соблюдались приличия, никто потихоньку не употреблял алкоголь, а дым шел исключительно от барбекю. В какой-то момент, оглядывая танцпол в поисках Анны, я увидела, что она танцует со взрослым мужчиной, которого я не знала. Школа у нас маленькая, в основном все со всеми знакомы. Никто не мог мне сказать, кто это был.
Я почувствовала, как у меня участилось сердцебиение, и кровь прилила к лицу. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не броситься на танцпол и не спросить мужчину напрямую, кто он такой и почему танцует с моей дочерью. Заставляя себя стоять в стороне, я следила за каждым их шагом. Я смотрела, куда он кладет руки, когда кружит ее в вальсе, высматривала, насколько близко он держится, подмечала малейшие детали их общения, пока они болтали и смеялись. Бедняга не сделал ни одного неверного шага, но сигнал тревоги у меня в голове гремел не умолкая.
Понимая, что моя реакция переходит все границы, тем более, что такое для меня в целом нехарактерно, я постепенно уговорила себя успокоиться и убедила в том, что ситуация совершенно нормальна, хотя сердце продолжало биться учащенно. Я себе напомнила, что мы на специально организованном школьном празднике, что повсюду родители и учителя, что я стою всего в паре шагов от дочери, и нет никаких признаков того, что ей грозит опасность. Это мне, однако, не помешало после танца к ней подойти и спросить, с наигранной легкостью, все ли ей нравится и с кем это, кстати, она сейчас танцевала. Оказалось, это был отец мальчика, который ее пригласил. Я почувствовала себя полной дурой, но хотя бы немного успокоилась.
Интересно, именно так проявляется пост-травматический стресс? Не знаю, но такой паники и тревоги я не испытывала никогда раньше и, слава богу, после того. Можно, конечно, списать все на преувеличенную материнскую заботу, но я совершенно уверена, что та реакция была для меня ненормальна. Безумный момент — но тот факт, что я его отследила и сразу поняла, с чем он связан, убедил меня в том, что если у меня действительно разовьется пост-травматическое расстройство, я, скорее всего, смогу его распознать.
На той неделе мы расследовали четыре случая нападений педофилов, чем, видимо, и объяснялась моя нехарактерная реакция. Хотя в основном я работаю, естественно, с трупами, судебная антропология в наше время помогает также опознавать живых. Одна важная инновация, которой занимается моя команда в Данди, особенно эффективна при расследовании преступлений против несовершеннолетних. А наткнулись мы на нее, когда пытались ответить на вопрос, вставший в ходе конкретного следствия.
Такие вопросы, возникающие у следственных органов, нередко открывают для нас новые возможности, поскольку за ними может таиться целый спектр разных вариантов. Видите ли, большинство приемов идентификации используется уже больше ста лет, поэтому подобные открытия случаются редко и всегда кажутся настоящим чудом. Примером такой находки может служить идентификация по ДНК, разработанная сэром Алеком Джеффри из Университета Лестера, нашедшая международное применение и полностью изменившая следственный процесс — настолько, что мы нередко забываем, что анализ ДНК вошел в судебную практику только в 1980-х.
Для меня такая новая дорога открылась, когда полицейские обратились к нам по поводу одного запутанного дела. Хотя ни методология, ни научные принципы, к которым мы обратились, не были новыми, мы нашли оригинальный способ их применения. Иногда изменение социальных условий приводит к возрождению забытого искусства или подсказывает новый подход к нему, и именно это с нами произошло.
В 2006 году ко мне обратился Ник Марш, глава фотографической лаборатории полиции Лондона, с которым я сотрудничала в Косово. Он работал над непростым случаем, с которым не знал, как поступить, и решил, что я смогу помочь. Полиция расследовала дело о развратных действиях отца против дочери-тинейджера, выдвинувшей обвинение. У них были фотографии, которые могли считаться уликой, но они не знали, как их лучше применить — честно говоря, на тот момент мы не знали этого тоже.
Девочка утверждала, что отец заходил в ее комнату по ночам и трогал ее — неподобающим образом, — пока она спала. Она говорила матери, но та не поверила и отмахнулась от обвинений, сочтя их попыткой привлечь к себе внимание. Однако эта сообразительная и храбрая юная леди, задавшаяся целью доказать, что говорит правду, включила камеру в компьютере на всю ночь. В 4:30 утра камера зарегистрировала картинку: правая рука взрослого мужчины, прикасавшаяся к ней во сне — все, как та говорила.
В темноте камера переключилась на инфракрасный режим, поэтому картинка была черно-белой. Когда таким образом снимают части тела живого человека, остальной спектр поглощается венозной кровью, лишенной кислорода, в поверхностных сосудах. В результате вены на руке отлично просматривались и выглядели, как карта с черными линиями маршрутов. Вопрос стоял так: можно ли опознать человека по рисунку вен на тыльной стороне руки и предплечья? Ответ был: понятия не имеем, но подумаем, что можно сделать, и посмотрим литературу — вдруг там что-то найдется.
Количество публикаций, связанных с вариативностью человеческой анатомии, поистине огромно. Помимо важности для медицины, хирургии, стоматологии, они имеют большое значение и в судебно-медицинской экспертизе. Еще Везалий в 1543-м писал, что вены на конечностях сильно различаются по расположению и рисунку, и что, ища вену на руке, мы знаем о ней только то, что она находится где-то между локтем и кончиками пальцев — ничего более. 350 лет спустя, на заре XX века, профессор судебной медицины из университета Падуи, Арриго Тамассия, опубликовал работу, в которой утверждал, что узор вен на тыльной стороне кисти является индивидуальным признаком и не повторяется у разных людей.
Тамассия критиковал систему антропометрии Бертильона, которая в то время набирала ход: она включала в себя записи о физических параметрах и внешности преступника.
Бертильонаж, в тандеме с отпечатками пальцев, доминировал на тот момент в криминалистике. На основании того, что рисунок вен нельзя скрыть, что он не меняется с возрастом, и его невозможно уничтожить, Тамассия делал вывод, что его следует включить в критерии идентификации преступников. Мало того, если для снятия отпечатков пальцев требовалось специальное обучение, то анализ рисунка вен с его шестью основными видами и дальнейшими многочисленными вариациями, можно было отследить по фотографии или зарисовать на бумаге, что облегчало полицейским задачу.
Новую технику Тамассии подхватили в США. В 1909 году в газетах и журналах, в том числе Victoria Colonist, The New York Times и Scientific American, выходили статьи, называвшие ее революционной.
Тамассия, немного самонадеянно, называл рисунок вен «неизменным, неопровержимым и неразрушимым». Возможно, его заключения были поспешны, но их немедленно повторил в своем романе Артур Б. Рив, автор знаменитых детективов про профессора Крейга Кеннеди, которого называли «американским Шерлоком Холмсом». В «Отравленном пере» (1911) Кеннеди обращается к преступнику со словами: «Вы, вероятно, не в курсе, но узор вен на тыльной стороне кисти абсолютно индивидуален — он неизменен, неопровержим и неразрушим, как отпечатки пальцев или форма ушей».
Наука, однако, довольно быстро забросила этот метод, и слава его померкла. Тем не менее, как и многие удачные идеи, он не исчез полностью, а просто ушел в тень, дожидаясь, пока в нем снова возникнет нужда. В начале 1980-х Джо Райс, инженер по автоматизированным системам управления английского подразделения Кодак «изобрел» метод идентификации человека по венам на руке. На самом деле, изобретение было, конечно, не его, поскольку Везалий и Тамассия уже проложили к нему путь. В действительности, Райс изобрел, с использованием инфракрасных технологий, биометрический сосудистый считыватель, наподобие считывателей штрих-кодов, который позволял фиксировать рисунок вен на кисти. Идея пришла к Райсу после того, как у него украли банковскую карту и удостоверение личности: он разработал метод идентификации, который считал более надежным, чем ПИН-код.
Райс запатентовал свою систему «Вейн-чек», но по всему миру предпочтение по-прежнему отдавалось отпечаткам пальцев, поэтому его изобретение, как и предложение Тамассии до него, не нашло широкого применения. К новому тысячелетию, однако, биометрию и системы безопасности охватил настоящий бум. После того как срок действия патента Райса истек, Хитачи и Фуджитсу запустили собственные продукты с использованием биометрии по венам, провозгласив рисунок вен самым постоянным, достоверным и точным из биометрических параметров. Современные эксперты по безопасности считают распознавание по рисунку вен ценным методом идентификации, так как его, по их словам, невозможно фальсифицировать, и он не меняется с возрастом. Звучит знакомо, не правда ли?
Чтобы рисунок вен можно было использовать для идентификации, сначала его надо снять и внести в базу данных. Когда человек подставляет руку под инфракрасный сканер, информация автоматически сопоставляется со всеми профилями в базе, и по ней устанавливается владелец. Нет никакого риска для здоровья, а поскольку руки у нас всегда на виду, человек не испытывает неудобств, представляя эту часть тела для сканирования.
Чтобы убедиться в неповторимости рисунка вен в человеческом теле, попробуйте рассмотреть вены у себя на левой руке, сравнить их с венами на правой, а потом с руками кого-нибудь еще. Если ваши руки слишком волосатые или пухлые, можно изучить рисунок вен на внутренней стороне запястья, где они обычно хорошо видны. Все они разные, даже у однояйцевых близнецов, потому что вены формируются еще до рождения, и, соответственно, уникальны. Кровеносные сосуды плода формируются из небольших изолированных скоплений кровяных телец. Когда сердце начинает биться, эти скопления объединяются в артерии и вены. Расположение и рисунок артерий достаточно постоянны; вены различаются больше, и чем дальше они от сердца, тем разнообразнее варианты. Вот почему, как отмечал Везалий, вены на стопах и кистях по рисунку различаются сильнее, чем на голенях и предплечьях.
В 2006 году у нас была возможность изучить все накопившиеся материалы по данной теме, от Везалия (по анатомическим образцам) и Тамассии (по судебным материалам) до Райса, Хитачи и Фуджитсу (биометрия). Теперь требовалось превратить их в технику, которая позволит ответить на вопрос, поставленный полицией, касательно конкретного случая сексуальных домогательств.
Чего у нас не было, так это возможности сопоставить рисунок вен с фотографии, с помощью математического алгоритма, с образцами из базы данных. Нам предстояло сравнить снимок, сделанный камерой компьютера в комнате девочки, с фотографией руки ее отца, которую предоставило следствие. В этом смысле наш метод больше опирался на технику Тамассии, чем на техники его последователей. Окажись рисунки различными, мы могли бы с уверенностью сказать, что руки на снимках принадлежат разным людям, и, соответственно, снять подозрения с отца. Но если рисунок был тот же, это не давало оснований с такой же уверенностью утверждать, что рука принадлежит отцу, потому что наука не накопила достаточно статистической информации о вариативности венозного рисунка и о том, может ли он повторяться у разных людей. Ни с Везалием, умершим пять веков назад, ни с Тамассией, которого не было на свете больше ста лет, мы посоветоваться не могли — могли только сказать, подозревать отца дальше или нет. Кстати, интересно — Тамассия или Везалий знали бы ответ? Порой мне кажется, что со временем человечество больше забывает анатомию, чем открывает что-то новое в ней.
Для судебной медицины очень важно не переоценивать возможности конкретного метода. Обвинять кого-то — не наша задача; мы должны исследовать улики максимально объективно и давать свое профессиональное заключение, ясное и прозрачное, в том числе и о надежности, точности и достоверности использованных методов и техник.
Сравнив рисунок вен на правой руке преступника и руке человека, являвшегося биологическим отцом девочки, мы пришли в суд с данными и выводами, которые получили. Поскольку подобное исследование впервые применялось в качестве улики в ходе суда в Великобритании, судья долго обсуждал с обеими сторонами его приемлемость. Присяжных попросили удалиться из зала, чтобы в их отсутствие провести предварительный опрос свидетеля судьей и представителями сторон, также для оценки приемлемости данных. Наконец, судья решил, что раз исследование рисунка вен базируется на достоверных анатомических источниках и существовавших ранее, хотя и немногочисленных, случаях применения в биометрии, наши выводы можно заслушать в суде, и заседание продолжилось. Мы изложили свои заключения. Со стороны защиты последовал перекрестный допрос, но не слишком суровый.
Когда присяжные вынесли оправдательный приговор, мы были, мягко говоря, удивлены. Какова вероятность того, что чужой человек — рисунок вен которого полностью совпадает с рукой отца, — окажется в комнате у несовершеннолетней в половине пятого утра? Однако на суде мы выступали свидетелями и не могли переубеждать присяжных или оспаривать их решение: они выслушивают всех и окончательный приговор зависит только от них — ну и от судьи.
Зато мы могли — и попробовали — спросить адвоката, в чем было дело: в недоверии к науке или к тому, как я изложила полученные данные. Возможно, я не смогла достаточно убедительно донести информацию до присяжных? Оказалось — довольно неожиданно, — что, по мнению адвоката, мое выступление не имело для присяжных решающей роли. Ей показалось, что присяжные просто не поверили девочке. Вероятно, она не производила впечатления достаточно потрясенной, и ее поведение посеяло сомнение в том, что обвинение правдиво. В результате отец, как ни в чем не бывало, вернулся домой — туда, где собственный ребенок обвинил его в домогательствах.
Я не знаю, что стало с девочкой дальше, однако меня до сих пор преследует мысль, что мы могли больше сделать для нее. Существует только один способ повысить значимость свидетельских показаний для вынесения приговора — сделать научные данные более широкими и вескими, чем мы и решили заняться. Безусловно, исходные посылки Тамассии имели определенную ценность, и мы хотели возродить их в современном мире, например, для раскрытия дел с непристойными фото детей.
Помимо того, что это варварское предательство по отношению к ребенку, доверяющему взрослым, такие фото представляют собой преступление, активно набирающее ход в новом тысячелетии. Мы решили пойти по стопам Везалия и Тамассии и для начала изучить вариативность анатомии вен на тыльной стороне руки. Это та часть тела преступника, которая чаще всего появляется на подобных снимках. Благодаря нашему курсу по идентификации жертв катастроф в период с 2007 по 2009 год в Университете Данди побывало более 550 офицеров полиции; ко всем мы обращались с просьбой помочь в создании базы данных с целью изучения анатомической вариативности, и практически все они согласились.
Мы смотрели не только на вены: учитывались также шрамы, расположение родинок и веснушек, складки на суставах пальцев — так называемые вторичные биометрические показатели. Мы обнаружили, что при сочетанном анализе эти независимые переменные имеют огромное значение для обоснования идентификации. Мы фотографировали каждого офицера при обычном и инфракрасном свете: их кисти и предплечья, стопы, голени и бедра. В результате у нас возникла уникальная база данных, которая представляла огромную ценность для валидации наших исследований.
Мы получили несколько грантов, провели огромную работу, написали массу документов и уже помогли полиции в раскрытии более ста преступлений против детей на сексуальной почве, как оправдав невиновных, так и подтвердив обвинение. Мы сотрудничали с большинством полицейских отделений по всей Великобритании, Европе и даже Австралии и США. Обычно, когда дело поступает к нам, у полиции уже имеются и подозреваемый, и достаточное количество улик для передачи дела в суд. Однако во многих случаях подозреваемый не признает свою вину или, по совету адвоката, отказывается давать показания. В тех делах, за которые мы брались, более 82 % обвиняемых впоследствии признавали свою вину, ознакомившись с информацией, которую мы предоставили.
Это очень важно, поскольку означает, что дальше суд не продолжается — таким образом, экономятся деньги налогоплательщиков, и, что еще более ценно, пострадавшим не приходится свидетельствовать против обвиняемого, который может быть их отцом, бойфрендом матери или кем-то из знакомых. С большим удовлетворением могу сказать, что мы сыграли немалую роль в делах, на которых суд выносил приговоры с очень длительным сроком, вплоть до пожизненного, тем, кто совершил самые отвратительные и кошмарные преступления против наиболее незащищенных представителей человеческого общества. Ни один взрослый не имеет права посягать на невинность ребенка.
Такого успеха мы достигли во многом благодаря анатомии, в которой мертвые учат живых — не только завещая нам свои тела, но и, как Везалий и Тамассия, передавая накопленные научные данные.
Глава 13 Идеальный раствор
«Я заявляю, что изучал и преподавал анатомию не по книгам, а по вскрытиям, следуя не рассуждениям философов, а ткани самой природы»
Уильям Харви, врач, De Motu Cordis (1628)Мертвые должны где-то покоиться до тех пор, пока не обретут свое последнее пристанище, и те, кто завещает свои тела нашему отделению анатомии, выбирают в этом качестве отличную комнату ожидания, полную по-настоящему неравнодушных людей. Чтобы показать свою веру в нашу работу, многие сотрудники кафедры анатомии подписывают завещательные формы, чтобы, когда придет их час — надеюсь, после долгих и счастливых лет на пенсии, — они вернутся на свои рабочие места, чтобы продолжить преподавание. В каком-то смысле они выбирают дисциплину, которой посвятили всю жизнь, своей работой даже после смерти.
Договор, который при этом заключается, многим может показаться пугающим, но на самом деле в нем ничего такого нет. Наши доноры частенько отличаются прекрасным чувством юмора. Один престарелый джентльмен заявил мне, к примеру, что ему очень льстит тот факт, что «молоденькая дамочка вроде вас интересуется моим престарелым телом». Многие убеждены в том, что их останки должны послужить для пользы других людей. Позвольте мне процитировать здесь слова Тессы Данлоп из письма, посвященного ее отцу, прямодушному пертскому фермеру.
Мой отец, Дональд, четыре года болел раком костного мозга в последней стадии, и его тело из большого и сильного превратилось в развалину. Я ни за что бы не подумала, что оно пригодится для науки. Собственно, я вообще не знала, что тела еще нужны. Никогда не слышала, чтобы говорили, будто их не хватает. Разве трупы еще не заменили компьютерами? Но отец настаивал. «Мертвое тело — вещь страшно непривлекательная. Ты же не хочешь, чтобы мое валялось тут поблизости? Похороны я просто не переношу! Уверен, медицинская школа меня возьмет». Пара бланков, подпись свидетеля и через неделю он получил тот самый ответ, на который рассчитывал. Университет Данди… принял его «щедрый дар». Он тогда улыбался от уха до уха.
Мистер Данлоп трудился всю свою жизнь — неудивительно, что он собрался потрудиться и после смерти. Однако, хотя наши доноры уверены в своем решении, их родным порой непросто с этим смириться. Вдова, муж которой завещал свое тело моей кафедре, попросила меня «позаботиться» о нем — похоже, она не совсем понимала его решение и его желания.
Передать останки человека, которого любил всю свою жизнь, какому-то незнакомцу бывает очень непросто, поэтому мы крайне серьезно относимся к своим обязанностям. Поскольку человеческая анатомия и внутреннее строение находятся в центре всей нашей работы, мы тщательно защищаем и оберегаем тех, кто решил после смерти послужить обществу и позволить нам больше узнать о человеческом теле. Та вдова, кстати, настолько прониклась нашей работой, что на поминальной службе по ее мужу тоже подписала форму, завещав нам свое тело. И такое происходит достаточно часто.
Я согласилась занять свой пост в Университете Данди при условии, что всем студентам будет гарантировано полное анатомирование человеческого тела. В глазах большинства руководителей университетов, анатомия — мертвый предмет, от которого нельзя ожидать финансовых поступлений, а потому это избыточная роскошь. В результате медицинские факультеты начали на ней экономить. Управленцев впечатляют современные технологии и виртуальная реальность, которые, по их мнению, лучше вписываются в нынешнюю концепцию образования. Однако утверждать, что в анатомии не может быть ничего нового и что с ее помощью нельзя совершенствовать оперативные процессы, значит недооценивать ее значение для огромного количества других дисциплин. В нашем ленивом мире гораздо проще объявить предмет мертвым, чем посмотреть, как его можно оживить и углубить.
Никакой компьютер, учебник, модель или симуляция никогда не заменят мультисенсорный опыт, получаемый при обучении по «золотому стандарту». Идти по пути упрощения, как поступают многие кафедры анатомии, и лишать студентов возможности изучить реальное человеческое тело, означает, на мой взгляд, снижать качество университетского образования и создавать массу проблем для будущих врачей, стоматологов и ученых, которые, собираясь стать экспертами в своей области, безусловно заслуживают обучения на высшем уровне. Важнейший факт, который студент постигает в анатомическом театре, заключается в том, что анатомически все тела уникальны. Существует масса возможных вариантов, и если их не освоить и не изучить, пострадают ничего не подозревающие пациенты этих будущих практиков. Примерно 10 % дел по обвинению в хирургической ошибке проистекают именно из незнания анатомической вариативности.
Анатомия подчинялась Парламентскому Акту с 1832 года. Первый закон по этому поводу был принят правительством вигов под руководством графа Грея в ответ на убийства Берка и Хэра в округе Вестпорт в Эдинбурге. В попытке положить конец незаконной торговле трупами и поднять этические стандарты профессии закон позволял преподавателям анатомии препарировать тела преступников и невостребованные трупы бедняков, а также принимать их по завещанию.
До последней редакции Анатомического Акта — в 2004 году в Англии и в 2006-м в Шотландии, — оставалось в действии старое уложение, по которому — парадоксально! — считалось преступлением, если хирург отрабатывал или опробовал процедуры на мертвом теле. Хирургам разрешалось входить в секционную, разрезать кожу трупа, передвигать мышцы или распиливать суставы, но они не могли, например, заменить кость протезом, потому что это уже считалось «процедурой». Это ограничение, просуществовавшее много десятилетий, напоминало о неоднозначных исторических взаимоотношениях между хирургами и анатомами. В общем, во всем следовало винить Берка и Хэра.
Многие анатомы, хирурги и врачи свидетельствовали перед правительственными комиссиями, заверяя, что гнусные коммерческие сделки, из-за которых 170 лет назад был принят тот закон, давно канули в лету — хирургам можно доверять, и лучше разрешить им практиковаться на трупах, чем на незадачливых пациентах. Вековое партнерство хирургии и анатомии могло бы возродиться, но сначала требовалось решить одну небольшую проблему. Достаточно скоро после изменения закона хирурги отвернулись от анатомии, поскольку обнаружили, что формалин, применяющийся для бальзамирования трупов, делал тела слишком ригидными и жесткими для их целей. Они хотели чего-то более близкого на ощупь к живому телу и решили, что лучше будут тренироваться на «свежезамороженных» трупах.
Я не одобряю такой путь развития анатомии — и это еще мягко говоря. Позвольте объяснить. Чтобы труп стал таким, как требуют хирурги, его надо свежим доставить из хосписа, больницы или другого места, где скончался завещатель, и разрезать на части (верхний плечевой пояс, голова, конечности и т. д.), что мало отличается от расчленения, которое закон рассматривает как дальнейший ущерб телу. Дальше эти части замораживаются и, когда в них возникает нужда в ходе практических занятий, извлекаются из морозильника, размораживаются и передаются студентам, хирургам-практикантам и прочим группам. После размораживания они, конечно, «свежие», но через пару дней начинают пахнуть совсем по-другому, а повторную заморозку и оттаивание, как любая органика, переносят не очень хорошо. Поэтому, когда первая группа с ними закончит, для обучения других студентов они — за редким исключением, уже не пригодятся. Более того, многие патогены, как известно, выживают при замораживании и могут активироваться, когда ткань станет нагреваться. Это может привести к переносу инфекции или заражению, поэтому в процессе обучения следует принимать максимальные меры предосторожности, чтобы студенты не порезались, и заранее делать им необходимые прививки.
Изменение в законе также допускает импортировать части тел в Великобританию из-за рубежа. Это меня откровенно возмущает. Только представьте, вы можете отправить какой-то американской компании заказ, к примеру, на восемь ног в хорошем состоянии — это уже звучит жутко! Мало того, после использования эти останки сжигаются как больничные отходы, что я нахожу крайне неуважительным и неприемлемым. Выходит, что с останками обращаются как с расходными материалами, не принимая в расчет, что это люди, которые умерли.
Поэтому для меня использование «свежезамороженных» трупов, как его видят в некоторых учебных заведениях, является не просто расходованием драгоценного ресурса, но также нарушением моральных норм. Точно так же я не готова рисковать ничьим здоровьем и безопасностью. Я хорошо представляю себе последствия: если хирург или студент порежется и чем-нибудь заразится, против нас немедленно возбудят дело, утверждая, что травма положила конец его медицинской карьере. Наш университет провел исследование рисков, в котором приняли участие представители руководства, и я с радостью и облегчением узнала, что в Данди «свежезамороженные» трупы использоваться не будут. Окажись решение другим, мне пришлось бы уйти.
Тем не менее было ясно, что дальнейшее использование формалина тоже ставит перед нами проблемы. И первая из них — стоимость. Мы и сами понимали, что забальзамированное в формалине тело подходит не для всех процедур, которые должны отрабатывать студенты-хирурги. Кроме того, мы высоко ставим здоровье и безопасность учащихся и сотрудников, так как от них в том числе зависит репутация университета. Очень важно, чтобы труп был стерильным, и по этому критерию формалин нас более-менее удовлетворял, но в высокой концентрации он становится канцерогенным. Во многих странах нормы его использования уже пересмотрели, а после принятия в 2007 году закона Евросоюза о снижении допустимой концентрации раствора применение формалина вообще резко снизилось. Если нормы станут еще жестче, использование формалина в анатомии сойдет на нет. Пришло время нам взять дело в свои трудовые руки и найти решение, которое удовлетворит всем требованиям.
Я припомнила, что слышала когда-то о технике, использовавшейся в Австрии, — ее разработал один обаятельный и вдохновенный анатом по имени Вальтер Тиль, и подумала, не подойдет ли она для наших целей. Профессор Тиль, глава Института анатомии Граца, изучал медицину в Праге, но тут началась Вторая мировая война, и его призвали в действующую армию. Он получил тяжелое ранение в лицо, стал инвалидом, но сумел вернуться к учебе.
После войны он пятьдесят лет проработал в институте Граца. Столкнувшись в начале 1960-х с той же проблемой, что и мы сейчас, он решил посвятить себя ее решению.
Целью Тиля было найти удобный метод консервации тел, при котором ткани останутся упругими, а долговечность материала не пострадает, и который одновременно обеспечит безопасность анатомов и студентов. Он обратил внимание на сырокопченую ветчину в лавке у местного мясника — ее качество было куда выше, чем у конечного продукта, который он получал из своей бальзамировочной. Ветчина сохраняла и цвет, и упругость, если ее вымачивали в солевом растворе. Тиль подумал, что, возможно, анатомии есть чему поучиться у пищевой индустрии.
Мясник мог использовать в своем производстве только химикаты, подходящие для пищевого употребления, чтобы не отравить покупателей. Вальтер Тиль был свободен от таких ограничений. Он не собирался поставлять свой продукт в магазины. Поэтому он начал, методом проб и ошибок, искать состав раствора — по сути, маринада, — с использованием воды, спирта, нитратов аммония и калия (чтобы законсервировать ткани), борной кислоты (для антисептики), этиленгликоля (для повышения пластичности) и небольшого количества формалина в качестве фунгицида.
Начав испытания с говядины из той самой мясной лавки, он постепенно перешел на туши целиком. Тиль понял, что недостаточно просто закачать раствор в сосуды — надо погрузить в него все тело, причем на достаточно долгое время, чтобы оно пропиталось снаружи и изнутри. Тогда ткани оставались сохранными, не теряли упругость и цвет, и их не надо было замораживать. Что немаловажно, в них отсутствовали бактерии, грибки или другие патогены. Понадобилось тридцать лет и более тысячи трупов, чтобы получить формулу, которая его, наконец, удовлетворила и которая позволяла сохранять тело на весь период подробного препарирования. Его последний, самый лучший, раствор был практически стерильным, практически бесцветным и почти без запаха. Он удовлетворял всем требованиям и недорого стоил в производстве.
Девиз, которым руководствовался Вальтер Тиль — «соглашаться только на лучшее», — его заразительный оптимизм и несгибаемый дух — все отразилось в его решимости внести свой вклад в выбранную науку. Свой метод он не запатентовал — к большому, как мне думается, сожалению его университета. Так проявилась его щедрость и твердая убежденность в необходимости сотрудничества в науке. Тиль опубликовал свое открытие, подарив его всему миру, поскольку считал, что научные достижения должны быть известны всем, а не использоваться для получения выгоды и не становиться конкурентным преимуществом одного учебного заведения перед остальными. Его этика во многом соответствовала нашей.
Все это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Однако иногда бывает очень полезно самим немного поучиться. Кто-то до вас уже мог все открыть, а вам остается только приспособить его находку к своим требованиям и развить дальше — как мы сделали с гипотезой Тамассии об идентификации по венозному рисунку. Не всем обязательно быть гениями — науке нужны и те, кто применит их открытия на практике. Главное здесь не приписывать себе идеи, которые вам не принадлежат.
Я отправила двоих наших сотрудников, Роджера и Руза, в Грац, чтобы они подробнее ознакомились с техникой Тиля. Они вернулись в полном восторге от возможностей, которые она открывала. Оба твердили о фантастической упругости трупов, длительности хранения, отсутствии — наконец-то! — запаха формалина, которым провоняли все британские анатомические театры, и устойчивости бальзамирующей жидкости к формированию культур бактерий, плесени и грибка. По их словам, она была безупречна, и даже стоила не дороже, чем формалин. Была разве что одна маленькая… прямо-таки крошечная загвоздка. Для ее применения требовалось совершенно другое оборудование, чем у нас, а это означало серьезные расходы: именно те, на которые университеты не хотят идти ради анатомии, которую считают мертвой — ну, или умирающей.
Надо было срочно что-то придумать. Для начала мы убедили сэра Алана Лэнгландса, ректора нашего университета, выделить небольшую сумму, около 3000 фунтов, на исследования и разработки, чтобы собрать собственную «доказательную базу». Мы решили испытать технику бальзамирования по Тилю на двух трупах, мужском и женском, которых в своем кругу окрестили Генри и Флорой (интересно, почему я всегда называю мужские трупы этим именем? Наверное, из-за Анатомии Грея, которая сидит у меня в спинном мозгу). Поскольку необходимого оборудования у нас не было, для испытаний нам предстояло самим его соорудить. Будучи представительницей поколения, прилипавшего к телеэкранам, когда там показывали «Синего Питера» и «Папашину армию», я с гордостью заявляю, что могу построить практически что угодно из пустых пластиковых бутылок, картонных трубочек от туалетной бумаги и клейкой ленты. Чего мы не могли сделать сами, то выпрашивали и занимали у других (но не воровали, упаси бог!).
Мы отыскали гигантский старый аквариум, выброшенный из старого корпуса зоологического факультета, и превратили его в погружную емкость, где могло поместиться, лежа на боку, два наших трупа. Натащили в лабораторию трубок и шлангов. Сделали крышки из старых дверей. Освежили свои познания в области базовой химии. Пришлось, между прочим, оправдываться перед местной полицией: мол, соли нам нужны вовсе не для самодельных взрывных устройств — мы просто будем замачивать в них мертвецов.
Генри первый испытал на себе бальзамирование по Тилю. Мы аккуратно закачали жидкость ему в вену в области паха и через маленький разрез на макушке, где находятся венозные синусы, выводящие кровь из мозга. Весь процесс занял не более часа. Дальше мы погрузили его в емкость, где через несколько дней к нему присоединилась Флора. Им предстояло там пролежать два месяца. Мы ежедневно их проверяли и переворачивали, чтобы жидкость распределялась равномерно. Мы отслеживали любые признаки разложения или вздутия, но никаких тревожных сигналов не замечали. Зато всякий раз, переворачивая их, мы обращали внимание на то, что они по-прежнему упругие и их трудно ухватить — как мокрую рыбу в бочонке. Это был отличный знак.
Постепенно розовый цвет кожи побледнел, а мертвые клетки с ее поверхности отпали, равно как волосы и ногти. Удивительно, но кожа немного натянулась, морщины стали разглаживаться, и Генри с Флорой выглядели теперь заметно моложе. К сожалению, не могу сказать, что мы наткнулись на эликсир молодости — наши химикаты слишком опасны, да и лежать в аквариуме целых два месяца может быть слегка неудобно. Пролетала неделя за неделей, а у нас все шло как по маслу. Правда, мы все равно держали пальцы крестом.
Мы написали всем хирургам в Данди и Тейсайде, приглашая их опробовать разные хирургические процедуры на трупах, бальзамированных по Тилю, и заполнить оценочные формы — что получилось, а что нет, с их точки зрения. Все они согласились уделить нам время и высказать свое мнение. Роджер и Руз составляли планы операций, словно готовились к военной кампании, следя за тем, чтобы наименее инвазивные выполнялись первыми, а высоко инвазивные потом — так Генри и Флора максимально послужили бы науке. Все хирурги сообщили, что ткани, бальзамированные по Тилю, по качеству значительно выше бальзамированных в формалине, и с ними гораздо приятнее работать, чем со свежезамороженными, а преимущества в точности те же. С их точки зрения единственная разница между трупом по Тилю и живым пациентом состояла в том, что труп был холодный и у него не прощупывался пульс. Похоже, это был намек.
Хотя мы мало что могли сделать, чтобы поднять температуру у трупа, пульс, хотя бы на время практических занятий, имитировать у нас получилось. Если зажать один участок артериальной системы, залить туда жидкость той же консистенции, что и кровь, и подключить к насосу, у трупа появится кровоток и, соответственно, пульс. Далее можно имитировать кровотечение и поставить таймер, чтобы отсчитывать секунды, которые у хирурга будут в реальной ситуации, прежде чем пациент умрет. Так студент получает потрясающий опыт, имеющий прямое и непосредственное значение для выживания пациента и совершенствования профессиональных навыков, особенно в экстренной хирургии, где время решает все. Мы также обнаружили, что можем подключать трупы к аппарату искусственного дыхания и имитировать вдох и выдох. «Операция» при этом выглядит максимально реалистично, но, должна признать, что даже я немного нервничала при виде трупа, который вдруг «задышал».
Мы добились безусловного успеха. Вальтеру Тилю, к тому времени уже весьма пожилому, мы написали письмо, чтобы сообщить, что повторили его фантастические достижения. И снова мы не создали ничего нового: просто просмотрели старые записи и подхватили их нить. Меня пригласили на собрание руководства университета, чтобы отчитаться о результатах испытаний. Все единогласно высказались за полный переход на технику Тиля, как только это станет технически возможно. Полумеры нас бы не удовлетворили: университету Данди предстояло стать первым и единственным в Великобритании, где анатомический факультет работал исключительно с телами, бальзамированными по Тилю. Это означало — лидером в своей области.
Когда решение было принято, мы открыли руководству свой маленький секрет: нынешний морг для этих целей не подходит, и вообще он слишком мал. Он и сейчас не отвечает своим задачам, не говоря уже о том, что мы запланировали на будущее. Прекращать прием тел на время реконструкции никак нельзя — надо строить новый. Тем временем к делу подключился государственный инспектор в области анатомической науки. Наши нынешние мощности, был его вердикт, нуждаются в немедленном обновлении, так что университету придется поставить их в приоритет, если мы хотим и дальше преподавать в Данди анатомию на настоящих трупах. С нашей стороны такой ход был, чего уж греха таить, немного коварным, но университету предстояло принять серьезное решение, а вмешательство инспектора — к которому мы, признаться, приложили руку, — заставило руководство пошевеливаться. Итак, собирается университет продолжать учить студентов на трупах? Если да, то надо ли переоборудовать старый морг и дальше работать с формалином, как все остальные, или все-таки стоит повязать на шею суперменский плащ, натянуть трусы поверх трико и раскошелиться наконец на нужное оборудование, воспользовавшись возможностью стать лидерами в сфере анатомии на территории Соединенного Королевства? Естественно, они приняли верное решение.
Новое здание должно было обойтись в два миллиона фунтов. Университет согласился компенсировать половину расходов, однако нам предстояло где-то отыскать остальное. Но где, черт побери, найти деньги на строительство морга? Упаковывая мешки в супермаркете или побираясь на вокзале, мы вряд ли столько собрали бы, так что, приходилось признать, без хорошо спланированной кампании призыв скинуться на морг вряд ли задел бы чувствительные струны в душах щедрых и сочувственных местных жителей до такой степени, что они отдали бы ему предпочтение перед прочими благотворительными сборами, с которыми нам предстояло конкурировать. Надо было применить творческий подход, чтобы заставить публику раскошелиться.
Я обратилась к моей хорошей подруге, Клер Лекки, обладающей большим опытом сбора средств. Она предложила составить список людей, которые обращались ко мне за помощью, и напомнить, что долг платежом красен. Кто, к примеру, раньше консультировался со мной и мог бы теперь быть нам полезен? Перебирая имена, я поняла, что список получается длинный, но одна кандидатура сразу выделялась: знаменитой писательницы и автора детективов Вэл Макдермид.
Мы с Вэл познакомились на радиопередаче лет десять назад: она при этом находилась в Манчестере, а я в Абердине. Дожидаясь, пока начнется эфир, мы с ней принялись болтать, и я внезапно — как со мной частенько бывает, — ей сказала: «Кстати, если понадобится совет судмедэксперта, звоните, не стесняйтесь». Она и правда позвонила, причем не раз, и так между нами завязалась искренняя дружба, которой я от души рада. Я поняла, что если и есть человек достаточно храбрый — и достаточно сумасшедший, — чтобы поддержать мое начинание, то это Вэл.
Мы вместе сели и разработали концепцию компании «Миллион для морга». Новый морг надо будет назвать в честь кого-то — естественно, известного, чтобы пробудить интерес публики и СМИ. Олимпийскому чемпиону по велогонкам или художнику польстило бы, если бы в их честь назвали велодром или художественную галерею, но кто обрадуется моргу? Ответ был очевиден — автор детективов. Так почему бы не воспользоваться необходимостью выбрать кандидата, чтобы привлечь внимание к кампании и повысить ее ставки, предложив публике самой проголосовать, кому достанется эта сомнительная честь?
Вэл убедила несколько своих великодушных коллег-детективщиков нас поддержать: в их числе были Стюарт Макбрайд, Джеффри Дивер, Тесс Герритсен, Ли Чайлд, Джефф Линдсей, Питер Джеймс, Кэти Райх, Марк Биллингем и Харлан Кобен. Мы организовали онлайн-голосование: поклонники детективного жанра могли выбрать имя автора, в честь которого мы назовем новый морг, в обмен на небольшое пожертвование. Мы сами здорово повеселились, а щедрость и изобретательность наших писателей просто не знала границ.
Джеффри Дивер, к примеру, призывал читателей голосовать за него на том основании, что из всех кандидатов он больше всего похож на труп. Свое мнение я оставлю при себе, но никто не оспорил этого утверждения. Талантливый музыкант, он передал нам диск со своими песнями для продажи с аукциона. Единственное, что нас немного беспокоило, это имя Ли Чайлда — если он наберет большинство голосов, морг придется называть «Моргом Чайлда» (child англ. — «ребенок»), и это может быть воспринято неправильно. Ли, как настоящий джентльмен, пришел к нам на помощь, заявив, что в случае победы предпочтет, чтобы морг назвали в честь Джека Ричера — его самого известного персонажа. Я еще не стала проводить параллель с Томом Крузом: решила приберечь на потом.
Великая придумщица Кэро Рамзи составила «кулинарную книгу убийцы» из рецептов, предоставленных авторами детективов, прибыль от которой пошла в помощь моргу. Никогда раньше кулинария не оказывалась в столь тесном соседстве с анатомией — по вполне понятным причинам. С рекламой пришлось повозиться, но, в конце концов, книга имела большой успех. Мы проводили дегустации и кулинарные мастер-классы по всей стране, и она даже вошла в шорт-лист Мировой премии кулинарных книг 2013 года.
Другие авторы выставили на аукцион персонажей своих будущих произведений. Покупатель лота мог стать барменом или, к примеру, ничего не подозревающим прохожим, в следующем творении любимого автора. Стюарт Макбрайд проводил экскурсии по Абердину с посещением локаций, описанных в его книгах про Логана Макрая. Стюарт также передал нам права на Полные приключения Скелета Боба, сборника из трех детских повестей, которые он написал и проиллюстрировал для своего племянника, Логана, и где рассказывалось о скелете с розовой вязаной кожей, который попадает в разные переделки с участием ведьм и его мамаши, Смерти с косой. Мы были очень тронуты его подарком и тем, что он разрешил нам их опубликовать, а гонорар забрать в пользу кампании.
Целых полтора года мы трудились не покладая рук, собирая деньги на морг. Мы участвовали в фестивалях детективной литературы по всей стране, от Харрогейта до Стерлинга. Мы читали лекции и давали интервью, рассказывали о своем проекте по телевидению и в газетах. Мы организовывали публичные дискуссии и участвовали в них. И у нас получилось. Мы набрали нужную сумму, чтобы покрыть разницу и построить новый морг, где будет использоваться исключительно метод Тиля.
Полностью сосредоточившись на строительстве и обустройстве морга, мы с удивлением узнали о неожиданном побочном эффекте нашей кампании. Вив, наша менеджер по работе с завещателями, после одного из мероприятий пожаловалась, что каждый раз, когда мы где-то участвуем, начинается целый шквал звонков от людей, которые, до того как услышать о «Миллионе для морга», даже не знали, что кафедрам анатомии до сих пор требуются трупы для учебных и исследовательских целей. Они спешили подписать завещательные формы — и не только в Данди, но и в других медицинских колледжах по всей стране.
Мы никогда не рассматривали свою кампанию как призыв рекрутов в анатомические театры, однако были рады такому ее побочному воздействию. Сбор средств давно завершился, а интерес к нам не угасает. Теперь в год мы принимаем тела более ста завещателей, обычно из Данди и Тейсайда, а это означает, что люди нам доверяют.
Мы не просили ничего, кроме небольших пожертвований, чтобы построить новый морг, но, возможно, мы могли говорить более откровенно. Почему мы вечно считаем, что с людьми не стоит беседовать о смерти и что они сами этого не захотят? Все, кто нам звонили, были рады возможности обсудить смерть без экивоков и рассмотреть третий вариант, помимо похорон или кремации, решая, что случится с их останками после кончины. Они нисколько не противились таким разговорам, задавали прямые вопросы и получали прямые ответы.
Одна очаровательная дама, решившая передать свое тело Университету Данди, позвонила из Брайтона, на южном побережье Англии. Вив, как того требует профессиональный этикет, справедливо указала ей на то, что есть и другие медицинские факультеты, расположенные куда ближе к ее месту жительства, чем наш. Конечно, мы с радостью примем ее дар, но расходы на перевозку придется тоже включить в завещание. Дама сказала, что ее это не смущает. Она не хочет в местную медицинскую школу, потому что мечтает стать не простым трупом, а настоящим «произведением искусства» — то есть хочет, чтобы ее «тилифицировали». Вальтер, скончавшийся в 2012 году, и потому не заставший открытия нашего нового морга, наверняка был бы польщен и очень бы развеселился, узнав, что превратился в глагол.
На одном из благотворительных ужинов с участием авторов детективов мы познакомились с одной очень расстроенной дамой. Она была смертельно больна и хотела завещать свое тело науке, но ее муж был категорически против. Она не собиралась его расстраивать, но желала, чтобы он уважал ее решение и обещал его соблюсти. В ходе нашей долгой беседы стало ясно, что именно сопротивление мужа расстраивает ее больше всего. Он, по вполне понятным причинам, боялся, что в анатомическом театре с трупами проделывают всякие непочтительные вещи, и чувствовал свою ответственность за ее честь и достоинство в смерти. Она спросила, не соглашусь ли я ей написать и изложить на бумаге, что мы делаем и зачем, в надежде, что такое письмо немного понизит градус их с мужем дискуссий.
Письмо отняло много времени и далось мне нелегко, но ответ стал для меня лучшей наградой. Женщина написала, что ее муж «теперь все уяснил» и, хотя по-прежнему «не одобрял» этот поступок, согласился с ее решением. Оставалось лишь надеяться, что он действительно его исполнил, что ее тело какое-то время послужило в анатомическом театре где-то в центральной полосе Шотландии и что ее мужу послужил утешением тот факт, что знания, полученные с ее помощью новым поколением студентов, будут служить больным и умирающим дольше, чем она могла вообразить.
Будь то доноры из Данди, чьи тела поступают к нам, или люди, которых мы направляем в другие анатомические театры с их завещаниями, это большая честь и привилегия — помогать им в осуществлении планов на «после смерти». Неважно, кем они работают и как живут, в бедности или богатстве, какой у них рост и вес, изуродует их болезнь или они умрут при полном параде, с прической и маникюром, случится это преждевременно, в молодости, или в преклонных годах — всех их объединяет желание сделать так, чтобы их останки послужили науке и образованию.
Мы, будучи дипломированными специалистами по анатомии, считаем своим долгом говорить от их лица, отстаивать принципы, которых они придерживались, и не допускать посягательств на их достоинство. К счастью, давно канули в прошлое «черные» комедии, в которых трупы заталкивали в такси, прислоняли к стенам, подбрасывали отрезанные пальцы кому-нибудь в тарелку или отдавали на растерзание недоученным студентам-медикам. Я не допускаю неуважительного поведения в моей секционной — это может подтвердить и государственный инспектор в области анатомической науки. Нарушение Анатомического Акта влечет за собой уголовное преследование. И это справедливо, с учетом того, насколько завещатели доверяют нам и нашим студентам.
Именно это чувство ответственности определяет мое отношение к публичной демонстрации трупов, которая не оправдывается образовательными целями и превращается в отвратительный вуайеризм. Выставки, на которых люди платят большие деньги за входной билет, чтобы полюбоваться на трупы, играющие в шахматы или катающиеся на велосипедах, или на вскрытый живот женщины с трехмесячным плодом внутри, по-моему, не имеют с образованием ничего общего. Элемент шоу в них кажется мне отталкивающим, и я не могу себе представить обстоятельств, при которых поддержала бы такое коммерческое предприятие. С разрешения нашего инспектора мы время от времени выставляем бальзамированные образцы — в стеклянных или пластиковых емкостях — на специальных экспозициях в научных центрах и других подобных местах, где не взимается плата за вход и где они действительно служат для просвещения. Отчасти еще и поэтому сбор средств на анатомию всегда представляет сложную задачу.
Для нас наша наука отнюдь не мертва и не умирает. Она жива и продолжает жить в разных точках по всему миру, где у анатомии есть сторонники, готовые бороться за ее выживание и рост — и уж точно у нас в Данди. Я очень горжусь нашими завещателями, нашими сотрудниками, студентами и многочисленными сторонниками, которые сделали это уникальное образовательное и исследовательское учреждение одним из лучших в мире. В 2013 году мы получили награду — редкую и драгоценную Королевскую Юбилейную премию в области высшего и дополнительного образования за свои исследования в области человеческой анатомии и судебной антропологии. Но мы не собираемся на этом останавливаться. Пока писалась эта книга, мы готовились к празднованию 130-летней годовщины преподавания анатомии в Данди, в 2018 году, и продумывали новую кампанию по сбору средств на строительство общественного центра.
А как же наш новый морг? Он открылся в 2014-м и — конечно же, — получил имя Вэл Макдермид. Никто и не сомневался, с учетом того, как она нам помогала и сколько времени и сил вложила в сбор средств, что Вэл выиграет состязание. Также благодаря активному участию — Скелет Боб сыграл тут немалую роль, — и второму месту в голосовании, в честь Стюарта Макбрайда мы называли секционную.
В благодарность другим писателям, уделившим свое время и оказавшим помощь кампании, мы решили назвать каждую из емкостей Тиля в честь девяти остальных победителей.
Десятая носит имя моего бывшего главного анатома, Роджера Сомза, который много участвовал в проекте и вообще во всем, что мы делали в Данди. Вскоре после открытия морга он ушел на пенсию, поэтому посвящение ему емкости стало нашим прощальным подарком. Когда люди видят на ней его имя, то решают, что это он в ней и лежит. Но это не так. Роджер жив-здоров, счастлив на пенсии, но кто знает, возможно, однажды мой любимый анатом и близкий друг вернется, чтобы дальше учить студентов. Если это произойдет, мы будем рады, но, я надеюсь, что такое случится еще очень и очень нескоро.
Всего у нас одиннадцать емкостей. И я частенько представляю себе, как буду, когда наступит мой час, мирно покачиваться в «емкости Блэк». Звучит заманчиво, правда?
Эпилог
«Умереть — вот это настоящее приключение»
Дж. М. Барри, Питер ПэнТеперь, узнав о том, с каких сторон мне пришлось повидать смерть, надеюсь, вы поняли, что у нас с ней давно установились доверительные товарищеские отношения.
Не будучи поклонницей танатологии — науки о смерти, — я, думается, достаточно с ней соприкасалась, чтобы составить реалистическое представление о том, что меня ждет впереди. Однако я не берусь с уверенностью предсказывать, как буду вести себя при нашей встрече. Подозреваю, что человек, много и часто размышляющий о собственной смерти, и он же, встречающий ее, наконец, лицом к лицу, сильно отличаются друг от друга. Элемент неизвестности толкает нас к такому философствованию тем сильнее, чем быстрей проносятся годы и чем ближе становится могильная черта. Поскольку никто еще не возвратился, чтобы рассказать нам, на что в действительности похожа смерть, никакое планирование и подготовка не гарантируют нам плавного перехода. Единственное, в чем можно быть уверенным — рано или поздно он предстоит всем. И хотя другие могут проделать рядом с нами часть этого пути, дальше нашим единственным спутником будет она — смерть.
Для каждого момент, в который прекращается жизнь и начинается смерть, будет своим. Для многих просто не быть мертвым уже означает жить. Существуют ли способы заставить ее подождать? Я бы сказала, до некоторой степени смерть согласна идти на уступки. С ней, похоже, можно торговаться и договариваться, главное — представить убедительные аргументы, подкрепленные искренними чувствами. Ведь нередко приходится слышать о смертельно больных пациентах, твердо решивших дожить до Рождества, свадьбы кого-то из детей или другого важного события, которые опровергают прогнозы врачей, чтобы сбылось их желание, и умирают спустя буквально несколько дней. Проблема с прогнозами — которые, в общем-то, всего лишь предположительные — заключается в том, что они могут превратиться в «самосбывающееся пророчество». Прогноз может лишить нас желания бороться, когда подходит назначенный срок, и мы теряем веру, перестаем жить и начинаем умирать. Или же мы растрачиваем последние силы, чтобы до него дотянуть, и на этом все кончается.
Альтернативой может стать решение неустанно бороться со смертью, не концентрируясь на особой дате. Примером такой борьбы является Норман Казенс, американский журналист, которому в 1964 году поставили диагноз — анкилозирующий спондилит, при котором шанс на выздоровление составляет 1 из 500. Уверенный в том, что положительные эмоции помогают человеку справляться с болезнями, он начал принимать высокие дозы витамина С, переехал в отель и купил кинопроектор. Норман обнаружил, что если от души посмеяться над комедиями братьев Маркс, то два часа ночного сна без болей ему обеспечено.
Через шесть месяцев он снова встал на ноги, а через два года вернулся к полноценной работе. Казенс умер от сердечной недостаточности спустя двадцать шесть лет после того диагноза — и спустя тридцать шесть лет после того, как узнал, что у него больное сердце. Он просто отказывался умирать, хотя доктора говорили, что придется, а лучшим лечением считал смех. Нет ничего плохого в том, чтобы перестать бороться, если это ваше сознательное решение, однако его пример может послужить уроком тем, кто к этому еще не готов.
Существует масса хорошо известных факторов, которые могут оказывать положительный или отрицательный эффект на продолжительность нашей жизни. Если вы правильно питаетесь и достаточно двигаетесь, состоите в браке и относитесь к женскому полу, у вас больше шансов на долголетие. Женщины живут примерно на 5 % дольше мужчин — этот факт подтверждался во всех странах, где проводились исследования. Выдвигалось предположение, что дело в Х-хромосомах, которых у них две, а мужчин всего одна: у женщины как бы есть запасная, на случай поломки. Идея, конечно, любопытная, но меньшая продолжительность жизни у мужчин связана в основном с негативными побочными эффектами тестостерона.
Изучение евнухов при императорском дворе династии Чосон (1392–1910) в Корее показало, что они жили в среднем на двадцать лет дольше, чем некастрированные мужчины.
Интересно, что это касалось только тех, кому удалили яички в возрасте до пятнадцати лет. У тех, кого стерилизовали после наступления пубертата, когда биохимическое воздействие тестостерона уже начало проявляться, продолжительность жизни увеличивалась лишь незначительно. Однако было бы чересчур экстремально, не говоря уже о губительных последствиях для всего человеческого рода, если бы мужчины начали отвоевывать себе дополнительные двадцать лет жизни путем кастрации.
Обычно мы измеряем свою жизнь — и составляющие ее части — в днях, месяцах или годах. Однако гораздо интереснее, на мой взгляд, измерять ее в рисках. Существует дебит и кредит, влияющие на ее продолжительность, а они определяются нашим выбором.
В 1978 году, в сборнике Оценка социальных рисков: насколько безопасна безопасность? Рональд Э. Говард из Стэнфорда предложил оценивать риск смерти в единицах, равных вероятности 1 на 100.000, которые назвал «микросмерть». Принцип очень прост: чем выше цена в микросмертях у какого-то вида деятельности, тем он опасней, и тем больше вероятность, что он приведет к катастрофическим последствиям. Концепция Говарда применима и к повседневной активности, и к единичным опасным действиям, а также к тем, которые представляют непосредственную или кумулятивную угрозу. К примеру, одна микросмерть равна поездке на шесть миль на мотоцикле или шесть тысяч миль на поезде — поскольку, как вид транспорта, поезд в тысячу раз безопаснее мотоцикла. Такая единица измерения позволяет нам сравнивать риски, связанные с разными действиями, и может, в некоторых случаях, заставить нас как следует подумать, действительно ли овчинка стоит выделки. Операция под общим наркозом оценивается приблизительно в десять микросмертей, скайдайвинг — в восемь на один прыжок, а марафон — в семь за забег. Настоящие любители риска, например, альпинисты, могут набрать и куда больше — одно восхождение означает сорок тысяч микросмертей!
Все это единичные действия, чреватые внезапной смертью: их профессор Говард назвал «острыми рисками». Действия с кумулятивным эффектом, для которых требуется время, чтобы превратиться в настоящий фактор риска, он назвал «хроническими рисками». К этой категории относится, например, употребление половины литра вина или два месяца совместной жизни с курильщиком, что оценивается в одну микросмерть.
С другой стороны, мы можем выкупить обратно наше драгоценное время, заплатив «микрожизнями». Микрожизнь — единица, описанная сэром Дэвидом Шпигельгальтером из Кембриджского университета, которая означает, что за день мы прибавили к своей жизни тридцать минут. Все мы имеем представление о том, ценой каких действий покупаются микрожизни, и, если честно, они редко доставляют удовольствие. Четыре микрожизни для мужчин и три для женщин обеспечивают ежедневные пять порция свежих овощей и фруктов. Да-да, снова брокколи на обед!
Мне думается, давно пора разработать новую меру рисков: микросчастье. Наша жизнь будет куда увлекательнее, вне зависимости от продолжительности, если мы станем оценивать ее в радости, смехе и веселых безумствах. Микрожизни копятся, микросмерти тоже, а вот микросчастье — бесценно. Уверена, Норман Казенс бы со мной согласился.
Так что насчет моего собственного умирания, смерти и пребывания мертвой?
Насчет смерти и всего последующего я на данный момент практически не беспокоюсь — бояться тут нечего, и, могу сказать, меня даже интригует то, что ждет впереди. Я знаю слабые и сильные стороны своего организма, и мне будет интересно посмотреть, как он себя поведет перед тем, как отключиться навсегда. Однако я совсем не герой и, как большинство людей, предпочту, чтобы этап «умирания» был как можно короче. В каком-то смысле меня очень интересует порог, отделяющий умирание от собственно смерти, и я хотела бы осознанно его перешагнуть, когда придет мой час. Главное, чтобы этот момент не слишком затянулся. Как сказал древнеримский философ Сенека, «мудрец живет столько, сколько должен, а не столько, сколько может».
Я не хочу дожить до глубокой старости, если это означает растрачивать ресурсы, необходимые молодым, особенно если не смогу больше ничего им дать и стану обузой на шее тех, кого люблю. Я хочу быть независимой и самостоятельно передвигаться до последнего дня и ради этого охотно пожертвую количеством в пользу качества. Хочу, чтобы моя смерть была как взрыв, не как угасание. Я готова терпеть некоторый телесный дискомфорт, связанный со старостью, но только, пожалуйста, пусть у меня останется здравый рассудок! Не хочу доживать свой век в инвалидном доме или больнице. Не хочу, чтобы старческое слабоумие украло у меня мою жизнь и мои воспоминания. Не хочу закончить, как мой отец.
Меня не раз спрашивали, почему я решила написать эту книгу, и почему именно сейчас. Правда в том, что это для меня возможность записать свои истории для дочек, чтобы они их узнали с моих слов. Мой отец был великолепным рассказчиком, и я в детстве обожала слушать его истории. Недавно мне попалось письмо, которое Грейс и Анна ему написали в 1997 году. На Рождество они подарили ему книгу для записей и ручку, а в письме просили записать для них свои истории, чтобы те сохранились надолго. К сожалению, он этого не сделал, и большинство из них умерли вместе с ним. Еще несколько умрет, когда не станет меня. Вот почему я надеюсь, что эта книга поможет Бет, Грейс и Анне, а также их потомкам немного лучше понять меня и мою жизнь.
Мой муж и дети крайне недовольны тем, что в последний раз я обращалась к врачу лет двадцать назад — когда рожала Анну. Я не принимаю на постоянной основе никаких лекарств, хотя подозреваю, что, стоит сделать анализы, мне немедленно выпишут какие-нибудь таблетки от моего давления, моего холестерина, моего сахара или моего чего-нибудь еще. Скользкая дорожка, встав на которую неизбежно покатишься вниз.
В свой пятидесятый день рождения на коврике у двери вместе с почтой я обнаружила листовку с «выгодным» предложением на колоноскопию — ничего себе поздравленьице! Конечно, я понимаю, что превентивная медицина спасает жизни, и многие воспользовались бы им с радостью, но, к счастью, у всех у нас есть выбор. Лично я не вижу смысла идти к врачу, чтобы тот проверил, все ли со мной в порядке, пока не ощущаю никакого дискомфорта. Да, у меня побаливает то тут, то там, соответственно возрасту, но это не повод обращаться к терапевту для подробного — минут на шесть — осмотра, чтобы услышать, что у меня лишний вес и я должна больше двигаться. Муж каждый день дает мне таблетку аспирина, я ее выпиваю, и все, вопрос закрыт.
Моя бабушка всегда говорила, что от врачей надо держаться подальше. По ее мнению, попадание в госпиталь только увеличивает шансы уехать оттуда ногами вперед в деревянном костюме. Я не хочу, чтобы на мою жизнь влияли какие-то диагнозы и прогнозы, чтобы она крутилась вокруг болезни и стала частью медицинской статистики. Только судьба решает, сколько мне жить и когда умереть. Я не собираюсь оттягивать свою смерть. У всех у нас разные мнения и разные характеры, и каждый сам решает, до какой степени готов бороться за жизнь. Я, скорее всего, предпочту тянуть до момента, когда мое состояние станет критическим. Не хочу встретить смерть под воздействием медикаментов.
Я живу полной жизнью. У меня всегда есть цель. Я отлично провожу время. Я встречаюсь с чудесными людьми. Мой муж — мой лучший друг. У нас прекрасные дети и внуки. Я пережила своих родителей. Даже если моя исходная, более консервативная, оценка примерного срока жизни окажется верной, у меня еще есть лет семнадцать, но, честно говоря, уже сейчас я каждый день воспринимаю как приятный бонус. Конечно, мне бы хотелось, чтобы так продолжалось как можно дольше, но главное, чего я жду от смерти, это чтобы она произошла в свой черед — то есть, чтобы я умерла раньше моих детей и внуков. Навидавшись страданий родителей, лишившихся ребенка, я никому такого не пожелаю.
Теперь, когда впереди у меня времени меньше, чем позади, я все чаще задумываюсь о том пороге, который мне предстоит перешагнуть в ближайшие тридцать лет. Я не боюсь сделать этот шаг в одиночестве. На самом деле, я даже предпочла бы скончаться одной — спокойно, на моих условиях и в собственном темпе. Я не хочу отвлекаться на переживания моих родных.
Я бы предпочла заранее все уладить — не люблю перекладывать свои заботы на других. Пускай смерть станет следующим, четким и логичным этапом в моей жизни. Не хотелось бы никого ею обременять.
Какой смерти я бы себе пожелала? Я бы не хотела повторить последние годы моего отца, но с радостью согласилась бы на такую же смерть: просто, когда наступит момент, отвернуться лицом к стене. Вряд ли у меня хватит мужества пойти на самоубийство, поэтому придется набраться терпения и дожидаться, пока смерть явится за мной. Воспользовалась бы я таблеткой для ассистированного самоубийства, будь у меня такая возможность? Не исключено, при определенных обстоятельствах, но у меня точно нет такого самообладания, как у Артура, моего «будущего трупа». Я очень надеюсь, что до того, как придет мой черед, наше государство разрешит человеку самому планировать свою смерть, а не тянуть до нее под опекой медицинского персонала. Хочу, чтобы моя смерть была естественной: никаких пересадок, реанимационных мероприятий, кормления через зонд или, в последние мгновения, укола опиатов. Конечно, я могу заблуждаться: не исключено, что при первом же приступе боли я сама взмолюсь о морфине. И все-таки, это маловероятно. Мне не нравится лишаться чувства контроля. И у меня всегда был высокий болевой порог (трое детей, без анестезии). Только время покажет, права я или нет. Когда смерть придет за мной, я хочу быть еще достаточно жива, чтобы встретиться с ней лично, без медикаментозного посредничества.
Смерть дяди Вилли была безболезненной, но, на мой взгляд, слишком скорой. Точно так же, я не хочу скончаться во сне. Я рассматриваю смерть как последнее мое приключение и не хочу пропустить ни секунды. В конце концов, она случается лишь однажды. Я хочу распознать ее приближение, услышать ее шаги, увидеть ее, ощутить, попробовать на запах и на вкус; пережить всеми своими чувствами и, в последний момент, осознать ее со всей полнотой, какая доступна человеку. Это событие, к которому вела вся моя жизнь, и я не собираюсь упускать ценные впечатления, сидя где-то на заднем ряду.
Возможно, мне даже повезет умереть как сэр Томас Уркхарт, знаменитый ученый и переводчик XVII века из Кромарти на северо-востоке Шотландии, которого Парламент объявил изменником за участие в роялистском восстании в Инвернессе. Никаким особо тяжким гонениям он не подвергся, но позднее оказался в заключении в лондонском Тауэре и в Виндзоре, за то, что сражался на стороне роялистов в битве при Вустере. Уркхарт славился своей эксцентричностью: он, в частности, утверждал, что его бабка в 109-м колене была той самой женщиной, что обнаружила Моисея в камышовых зарослях, а бабка в 87-м колене — царицей Савской. Освобожденный из тюрьмы Оливером Кромвелем, он уехал на континент. Говорили, что, узнав о возвращении короля Карла II на престол, Уркхарт так расхохотался, что умер. Микросмерти, суммированные с микросчастьем — вот это конец!
Я не уверена, что мне выпадет та же участь, и весьма об этом сожалею. Однако кое-что все-таки попытаюсь предсказать. Думаю, я умру до семидесяти пяти лет. Подозреваю, что от сердечного приступа, а поскольку пик таких смертей приходится на понедельник, 11 утра, то свою бронирую на среду, около полудня.
Естественно, я не знаю, как правильно умирать, поскольку раньше этим не занималась. Однако вряд ли это особенно сложно: все, кто умирал до меня, в целом справлялись, не считая разве что плохо подготовившихся неудачливых самоубийц. Я не могу порепетировать или спросить совета у тех, кто уже умер. Получается, что и волноваться незачем. В любом случае, я не останусь одна. Вне зависимости от присутствия людей, смерть точно будет со мной, а у нее больше опыта, чем у кого-либо, и, я уверена, она покажет, что мне делать.
Я представляю себе смерть как подобие общего наркоза. Все становится черным, ты отключаешься, и все — ты мертв. Если за смертным порогом нас ждет одна темнота, то, хоть я и не смогу ее запомнить, мне будет довольно обидно. Но смерть может оказаться и совсем другой: яркой вспышкой, которая венчает прожитую жизнь — точкой в конце повествования.
Однако на «после смерти» у меня есть вполне конкретные планы. Я хочу, чтобы мое тело использовали в научных целях, для обучения и исследований, поэтому завещаю свои останки анатомическому департаменту Шотландии. Будь у меня выбор, я бы предпочла, чтобы меня препарировали студенты-анатомы, а не медики или стоматологи, поскольку я избегаю докторов, а к зубным вообще никто ходить не любит, правда же? Став следующей «Генриеттой» для студента-анатома, я завершу свой жизненный круг. Пока что у меня подписано согласие на использование моих органов для донорства в случае внезапной смерти, а завещательную форму я планирую оформить после шестидесяти пяти, если, конечно, доживу. В этом возрасте вероятность того, что органы, которыми я пользовалась так долго, пригодятся кому-нибудь еще, практически сойдет на нет.
Том недоволен. Он не хочет, чтобы меня резали. Будучи сам анатомом, он тем не менее чарующе старомоден: мой муж предпочел бы устроить мне торжественные похороны, а потом положить в могилу, где наши дочери, если им захочется, смогут меня навещать. Если я умру первой, он, возможно, возьмет верх, ибо я ни за что не стану принуждать мужа к тому, что его огорчит. Однако, если первым будет Том, я скрупулезно выполню все его распоряжения относительно останков, а дальше прослежу, чтобы подробно и доходчиво изложить свои.
В идеале я бы хотела, чтобы меня анатомировали в моей собственной секционной, однако понимаю, что это не совсем честно по отношению к сотрудникам — заставлять их проводить бальзамирование. Они, безусловно, профессионалы и отлично справятся, если я так распоряжусь, но мне совсем не хочется их расстраивать. Однако я определенно желаю, чтобы мое тело бальзамировали по Тилю, а на данный момент наш центр в Данди — единственное место, где это возможно. Стать формалиновой мумией мне претит, и уж точно я отказываюсь от заморозки. Мне нравится, что благодаря раствору Тиля моим конечностям возвратится подвижность — может, они будут гнуться даже лучше, чем сейчас, — и у меня разгладятся морщины. И вообще здорово будет отдохнуть пару месяцев в темной прохладной глубине погружной емкости после всей этой суматохи со смертью. Остается только гадать, не проклянут ли меня какие-нибудь студенты за ужасно нескладную анатомию, и буду ли я для них таким же хорошим учителем, каким стал для меня Генри.
Дальше я хочу, чтобы мой скелет подвергли мацерации (то есть обработали при высокой температуре, чтобы отделить от костей мягкие ткани и жир). Мягкие ткани и органы можно будет кремировать, хотя праха для моих детей от них останется совсем мало. Но на кости у меня свои планы. Я хочу, чтобы они хранились в коробке в учебном собрании скелетов в Университете Данди. Я приложу к ним полный перечень особых примет — следов травм, патологий и так далее, — которые студенты смогут потом отследить. Я буду очень рада, если мой скелет соберут и повесят как образец в секционной, в нашей лаборатории судебной антропологии, чтобы я продолжала учить и после смерти. Поскольку кости хранятся очень долго, я буду висеть там сотни лет — нравится это студентам или нет.
Если все выйдет, как я планирую, то я, по сути, и не умру, потому что продолжу жить в тех, кто изучает анатомию и кого покоряет ее логика и красота — как когда-то меня. Это именно то бессмертие, к которому все мы стремимся, каждый в собственной сфере. Я не хотела бы вечной жизни в своем телесном обличье, даже будь такое возможно.
Некоторые предпочитают отрицать неизбежность полного умирания. Многие убеждены, что их душа, дух или что-то в этом роде продолжит существовать, на земле или на небе, каким они его себе представляют, несмотря на гибель тела. Кто-то думает, что его душа однажды вернется в телесную оболочку. Кто-то собирается переродиться, в своем теле или в чужом. Есть даже такие, кто планирует заморозить свое тело в криогенной камере, чтобы потом, когда наука достигнет небывалых высот, его смогли вернуть к жизни в прежнем виде. Мне все это ни к чему.
Есть ли жизнь после смерти? Кто знает. А привидения — они существуют? Моя суеверная бабка наверняка бы сказала, что да, но я, проработав с покойниками столько времени, категорически утверждаю, что ни один из них ни разу не причинил мне никаких неудобств.
Они не то чтобы совсем покладистые, но в целом очень вежливые и деликатные. Никто из них не восставал из мертвых у меня в морге и уж точно не навещал меня во сне. В целом с мертвецами гораздо меньше проблем, чем с живыми. Есть только один способ узнать правду об умирании, смерти и пребывании мертвым — пройти через них самому, что со всеми нами рано или поздно случится. Остается надеяться, что смерть я встречу, будучи к ней готовой — как к новому грандиозному приключению.
Что, в моем представлении, рай? Только без херувимов с арфами — представьте, как они раздражают! Мой рай — это мир, тишина, воспоминания и тепло.
А ад? Юристы, крысы и синие проводки.
МУЖЧИНА ИЗ БАЛЬМОРА
Пожалуйста, свяжитесь с Бюро по розыску пропавших missinpersonsbureau@nca.x.gsi.gov.uk, если считаете, что обладаете информацией, которая могла бы помочь идентифицировать останки мужчины, чью историю я рассказала в главе 8. Его дело также излагается на -007783
ОПИСАНИЕ ОСТАНКОВ
Останки обнаружены: 16 октября 2011 года. Вероятно, находились на месте от 6 до 9 месяцев
Место обнаружения: Лес, прилегающий к Голф-Кост-Роуд, Балмор, Восточный Данбартоншир
Пол: мужской
Возраст: между 25 и 34
Расовая принадлежность: северный европеец; волосы светлые Рост: от 1,77 м до 1,83 м (5 футов 8 дюймов и 6 футов)
Сложение: хрупкое
Особые приметы: на внешности могли сказаться травмы — сломанный нос, который должен был выглядеть скошенным; частично сросшийся тяжелый перелом челюсти; сломанный передний верхний зуб. Возможно, затруднения при ходьбе
ОДЕЖДА
Рубашка-поло: Светло-голубая, с короткими рукавами, треугольный вырез. Белые узоры с текстом и штампами спереди. Диагональная полоса темного цвета слева направо.
Бренд: Topman. Продается на территории Великобритании.
Размер: S, европейский размер 48; размер по обхвату груди 35-37
Ткань: 100 % хлопок
Производство и другие отметки: Сделано на Маврикии. На этикетке имеются две последовательности цифр 2224278117026 и 71J27MBLE
Кардиган: Темно-синий, с длинными рукавами, круглый ворот, на молнии спереди, карманы по бокам. Две горизонтальные полоски на вороте и карманах. Слева на груди вышивка «Southern Creek Pennsylvania» над белой короной, львом и буквами G и J. Ниже логотип «Riviera Adventure»
Бренд: Мах. Продается только на Ближнем Востоке Размер: S
Производство: Сделано в Бангладеш Джинсы: Деним, застежка на пуговицах
Бренд: Petroleum. Выпускает «основную линию» (Petroleum’68) и молодежную одежду (Petroleum’79), продается по доступным ценам в Великобритании. На территории Великобритании в продаже только в магазинах Officers Club, Petroleum и онлайн
Размер: 30L
Материал: 78 % хлопок, 22 % полиэстер
Прочие этикетки: Petroleum, «Don’t blame me I only work here»
Трусы: Разноцветные, модель шорты, красная эластичная резинка с надписью «Urban Spirit»
Бренд: Urban Spirit, марка среднего ценового сегмента, широко продается в Великобритании
Кроссовки: На шнурках, черные с серым, красная подошва. Сбоку надпись «Shock X». На подошве надписи «Rubber grip», «Flex Area», «Performance» и «Brake»
Бренд: В ходе расследования выяснено, что логотип принадлежит немецкому бренду Crivit Sports, продается в сети Lidl и других бюджетных магазинах
Размер: 45/11
Материал: 100 % полиэстер
Носки: без указания производителя, темного цвета
Благодарности
Вспоминая события целой жизни, всегда рискуешь упустить кого-нибудь важного, тем самым ненамеренно сильно его обидев. Поэтому я просто поблагодарю всех драгоценных спутников, с которыми разделила эту дорогу. Некоторые были со мной недолго, с другими мы вместе шли от начала и до конца. И что это было за путешествие! Я не стану перечислять имена, потому что вы и так знаете, о ком я говорю, и сознаете в своих сердцах, насколько дороги для меня. Я очень ценю ваше общество, вашу дружбу, вашу мудрость и доброту.
Если я что-то позабыла или рассказала не так, как вам запомнилось, простите меня. И если события, в которых мы принимали участие вместе, не появились на этих страницах, то, скорее всего, по той лишь причине, что я сочла их слишком личными или решила, что о них невозможно рассказать вкратце. Ответственность целиком и полностью на мне.
Жизнь продолжается, но работа над книгой закончена, поэтому я хочу поблагодарить тех, кто был со мной терпелив, а в нужные моменты честен, кто меня поддерживал и одобрял.
Это, в первую очередь, Майкл Алкок, чье терпение достойно разве что святого. Впервые услышавший о моей задумке лет двадцать назад, он теперь увидит ее напечатанной. Мне очень повезло, что мы с ним встретились, и я его искренне обожаю.
Кэролайн Норт Макилванни знает лучше, чем кто бы то ни было, что у меня не хватит слов поблагодарить ее за те геркулесовы задачи, которые она на себя взвалила и которые исполняла так тонко и деликатно.
Сюзанна Уодсон проявила редкое мужество, взявшись за писательницу-любителя, с которой познакомилась на конференции. Она стала для меня самым вдохновляющим, подбадривающим, убеждающим и настойчивым проводником в нашем совместном приключении. Без нее наш проект никогда бы не дал результатов, а моя семья многим ей обязана за то, что эти истории, наконец, появятся на бумаге. Она просто выдающийся человек.
Я искренне благодарю также Пэтси Ирвин (директора по рекламе), Джеральдин Эллисон (менеджера по печати), Фила Лорда (дизайн страниц) и Ричарда Шайлера (дизайн обложки).
Наконец, мне хотелось бы выразить свою глубокую признательность неизвестному мужчине, украсившему собой лицевую сторону обложки книги. У него нет имени, поэтому что он — плод богатой художественной фантазии Ричарда. Однако и его можно идентифицировать — хотя бы частично. Я с уверенностью утверждаю, что это мужчина, судя по острому углу его лобковой вогнутости, форме тазового входа, соотношению размеров крыльев и крестца, треугольной форме лобковой кости и выраженной морфологии седалищной вырезки. Ему больше двадцати пяти лет, потому что S1 и S2 уже срослись, как и подвздошный гребень. В то же время ему меньше тридцати пяти, так как отсутствуют метки на внутренних краях поясничных позвонков и нет признаков кальцификации на хрящевых тканях.
Да-да, я тоже люблю похвастаться.



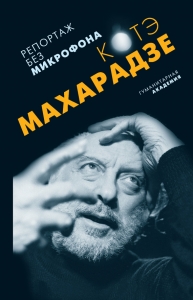



Комментарии к книге «Всё, что осталось», Сью Блэк
Всего 0 комментариев