Степан Шутов КРАСНЫЕ СТРЕЛЫ
МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ
1
Взгляните на карту Белоруссии. В нижней части ее увидите тоненькую синюю извивающуюся ниточку. Это река Птичь, левый приток Припяти.
Здесь, на Птичи, у отлогого ее берега, прошло мое детство. Сверстники резвились, развлекались. Я же был не по возрасту замкнутым, раздражительным. Отец, веселый по характеру человек, кивая на меня, как-то сказал матери:
— Степа наш, не иначе, волком будет. Скоро на людей станет кидаться.
— Не понимаешь ты его, — ответила мать. — Нервный он, впечатлительный. А подрастет — и все приложится. Зато постоять за себя сумеет…
Я тянулся к людям добрым, отзывчивым. Но таких почему-то видел мало. Дядюшка Егор, Матвей Николаевич Бузак, Михаил Иванович Синкевич, Митя Градюшко, Любаша — девочка с белыми, тоненькими, как веточка вербы, косичками — вот и все. А в общем, клочок земли, на котором я жил, казался мне неприглядным.
Может быть, на мой характер повлияло и то, что я всегда был голодным, оборванным, что в шесть лет на моей спине уже появились отметины помещичьего кнута.
У отца нас было одиннадцать — пять сыновей и шесть дочерей. Все мы вместе с родителями от зари до зари гнули спины на помещика. Избы своей не имели, тем более земли. Жили в старом, прогнившем сарайчике на территории имения Дворец.
Имение принадлежало Жилинскому, второму после Радзивилла богачу в Белоруссии. У него имелось более двадцати таких имений и столько же поместий, а всего — сто тысяч гектаров земли. Трудились на него десятки тысяч крестьян, батраков.
Имением, в котором мы жили, управлял Журавский, низенький толстяк с круглой головой и заплывшими жиром маленькими подстерегающими глазками. Служил он помещику верой и правдой. В издевательствах над батраками превзошел даже самого хозяина.
Однажды, помню, мы с отцом несли на длинных шестах два больших ушата. Я сгибался под их тяжестью, а когда ноги окончательно отказали, споткнулся и упал. Тут же, словно из-под земли, вырос Журавский. Он свирепо набросился на меня. Бил до тех пор, пока я не потерял сознания. А отец? Он молчал. Заступиться за меня было бы слишком большим риском для всей семьи…
Когда исполнилось семь лет, меня отправили в соседнюю деревню Заполье к учителю Полевому — «ума набираться». Мать дала две копейки на тетради и, глубоко вздохнув, сказала:
— А на букварь, сынок, денег у нас нет.
— Как же без букваря-то?
— Да ведь не помещики мы. Другие без него обходятся, и ты обойдешься.
Старый залатанный отцовский полушубок по самые щиколотки, рваная овчинная шапка, лыковые лапти, которые сам сплел, — в таком облачении явился я к Полевому. Тот оказался на редкость сердечным человеком. У него учились и другие дети бедняков, не имевшие возможности ходить в школу.
За три зимы я кое-что постиг. Взрослые стали относиться ко мне с уважением, за руку здоровались. Шутка ли — грамотный!
А потом с учебой пришлось расстаться и снова началась тяжелая работа на скотном дворе. Чуть светало, мы с отцом уже на ногах. Направляемся на гумно молотить. Оттуда возвращаемся — корм на сто коров готовим. Три раза в день их накормить надо, два раза напоить.
Наверное, повторяю, все это на мой характер и повлияло. Но не только это. Ведь в такой нищете, как мы, жили, за редким исключением, все белорусские крестьяне, такое страшное детство было у всех моих сверстников.
Летом мне приходилось пасти скот. Часто оставаясь один на лугу, я задумывался о несправедливости окружавшего меня мира. Задавал себе тысячу вопросов, и все они оставались без ответа.
Мой ограниченный детский ум не мог постичь, например, почему белорусы обвиняют в своих несчастьях инородцев — «хохлов» да «кацапов». Но я понимал, что обида наша к русским и украинцам неосновательная, ведь бедствовали они не меньше нашего. Помещик Жилинский поляк. Но над польскими батраками он издевался так же, как над белорусами.
Разобраться кое в чем помог мне дядюшка Егор, герой и инвалид русско-японской войны. Любил он детей и часто приходил к нам, пастушатам, на луг. А мы всегда рады этому. Заслышим постукивание его деревяшки и спешим к нему послушать, о чем-то он сегодня интересном расскажет.
Дядюшке Егору было не больше сорока лет, но выглядел он куда старше. Седой, сгорбленный, заросший. Народ его уважал. О фронтовых подвигах старого солдата неоднократно писали столичные газеты. Об одном из его боевых дел я помню и сейчас.
Как-то солдат Егор получил приказ ночью отправиться к противнику за «языком».
— Без пленного не приходи, — предупредил полковой командир.
Дело предстояло сложное. До Егора в разведку многие ходили, да все неудачно. Японцы очень осторожными стали. Все же наш земляк не сплошал. Он привел пленного. Не простого: повара вместе с дымящейся походной кухней.
Однажды кто-то спросил:
— Дядюшка Егор, — его дядюшкой и взрослые звали, — а чем тебя за того повара наградили?
Бывший солдат ухмыльнулся:
— Странный вопрос. Будто не знаете, как у нас бывает. Кому почетная булава, а кому деревянная нога.
Много повидал солдат на своем веку, много наслышался разных разностей. Мы любили его рассказы о полководцах Румянцеве, Суворове, Кутузове, о далеких странах и мореплавателях. Но охотнее всего говорил он о восстании крестьян во главе с выдающимся белорусским революционером-демократом Кастусем Калиновским. Начинал он обычно так:
— Про Кастуся, Константина Семеновича, слышали? Нет! Боже ж мой, какие вы олухи! Будь бунт этот годиков на четыре-пять раньше, дед мой покойный, Егорий, царство ему небесное, не погиб бы так глупо.
Понятно, что о самом восстании 1863 года мы знали меньше, чем о том, при каких обстоятельствах погиб дед дядюшки Егора. Случилось это вблизи поместья Заволочицы, Глусского уезда, Бобруйской губернии. В день рождения помещицы состоялся бал. Гости съезжались со всей Минской губернии. Причем каждый пытался перещеголять другого в «оригинальности». Один, несмотря на летнее время, приехал в санях, другой — верхом на волах, третий явился на гигантских ходулях. Но пальму первенства завоевал помещик Гемба: он запряг в роскошный фаэтон батраков и заставил их бежать свыше тридцати километров. В числе «скакунов» был и батрак Егорий. Сердце его не вынесло нагрузки, он упал. А фаэтон не остановился…
Рассказав нам, ребятам, эту историю, дядюшка Егор закурил, сделал глубокую затяжку и задумчиво произнес:
— Эх, дали бы мне роту солдат, я бы всех буржуев до одного перевешал, всяких жилинских, радзивиллов, панасюков, петровых и куперманов.
Вспомнив случайно услышанные слова Михаила Синкевича, о котором у нас говорили, что он большевик, я осторожно вставил:
— Рота ничего не сделает. Надо, чтобы народ поднялся…
Дядюшка Егор покосился на меня:
— Глупость говоришь! Народ — он размазня. Солдаты, вот кто может все вверх дном перевернуть. — Выпустил несколько колечек дыма и добавил: — Ну, конечно, и человек с умной головой нужен, чтобы солдату объяснил, где правда лежит, а где кривда. Только нету сейчас такого человека. Нету, Степа!
— Есть, — возразил я. — А Ленин? Михаил Синкевич говорил…
— Тс-с, бестолковая твоя башка! — сердито оборвал меня дядюшка Егор. — Зачем человека выдаешь?! Держи язык за зубами, а то оторву, видать, он у тебя лишний.
Я смутился. А дядюшка Егор продолжал, будто ничего не произошло:
— Вчера, сказывали, из Бобруйска опять двоих на каторгу отправили. Мутят, дескать, народ. Жаль мне их: напрасно пострадали. Все равно без солдат ничего не будет…
2
Птичь по-прежнему мерно, не спеша катила свои воды на юг. В ней, словно в зеркале, отражались прибрежные кустарники и березовые рощи, жаркое солнце и кудрявые облака, холодная луна и мерцающие звезды. На рассвете и по вечерам на берегу плавал пьянящий аромат цветов. По реке лениво скользили рыбацкие лодки…
Все это сегодня такое же, как всегда, как вчера, или год назад, или в прошлом столетии. И том не менее во всем чувствовалась гнетущая сдержанная тревога. Шла война. Страшная, кровопролитная. Ежечасно пожирающая тысячи жизней. Молодые парни из имения Жилинского и прилегающих деревень в письмах с фронта проклинали ее. Появились уже первые калеки, которых, как ненужный хлам, выбрасывали из госпиталей. Дядюшка Егор почем зря ругал русское командование за неповоротливость, за каждое неудачное наступление и отход.
— Союзникам свою кровь отдаем, а немцам территорию, — сетовал он, и на его скулах вздувались желваки. — Батюшка-царь долго молчать не будет…
В те дни я как бы повзрослел. Может быть, потому, что отец умер и мне вскоре пришлось стать главным кормильцем.
Надо сказать, я вымахал в довольно рослого, крепкого парня. С ровесниками справлялся легко. Однажды схватился бороться со своим старшим братом и победил. А ведь его даже взрослые побаивались и величали «грозой морей». После этого мой авторитет сразу повысился. Даже у Журавского.
Помню, на следующий же день он подошел ко мне, положил жирную тяжелую руку на мое плечо:
— Степа, тебе сколько лет?
— Четырнадцать скоро. А что?
Он смерил меня оценивающим взглядом, словно хотел убедиться, не обманываю ли. Потом улыбнулся:
— Из тебя выйдет крепкий воин. Но это когда-то. А пока мы должны заботиться о наших братьях-солдатиках: без хлеба они в окопах с голоду подохнут. Коров теперь будут пасти ваши девки, а ты выходи в поле на косовицу. Гляди, может, и самого Петра Радкевича за пояс заткнешь. А?
С Радкевичем у меня были личные счеты. Журавский знал об этом и теперь подбирался к моему сердцу лисьей тропой. Не долго думая, я утвердительно кивнул головой:
— Заткну!
— Не надорвешься, Степа? — хитро сощурил глаза Журавский.
— Заткну! — твердо повторил я…
Косарь Радкевич и пятеро его сыновей имели слабость к водке. Журавский намотал это себе на ус и втихомолку стал подпаивать их. Те не оставались в. долгу — на панских сенокосах сами работали до одурения и других батраков подгоняли.
Я как-то упрекнул дочь Радкевича Любашу, мол, отец ее и братья стали панскими холуями, продали свою батрацкую совесть за водку. Девушка побежала на сенокос, со слезами на глазах крикнула отцу:
— Эх ты, холуй, пьяница несчастный!
Вечером меня дважды драли за уши. Сначала Журавский, потом мать.
Любаше Радкевич запретил дружить со мной, и это было самое неприятное. Когда я теперь подходил к ней, бедняжка бледнела, пугливо оглядывалась.
Я решил отомстить Радкевичу. Батраки обещали меня поддержать. И вот «сражение» началось.
Петро, как всегда, шел впереди. Мы наступали ему на пятки. Один за другим отставали сыновья Радкевича. Но сам он продолжал упорствовать. Лишь на пятые сутки сдался. Вечером, сурово насупив брови и лихорадочно блестя глазами, спросил:
— Откуда у тебя сила такая, змееныш?..
После этого вожаком стал я. Сразу же завел другой порядок. Разок туда-обратно пройдемся — и перекур, отдых. Журавский недовольно ворчал:
— Опять отдыхаете! Хлеб сгорит.
— Уходите, — отвечал я ему угрожающе. — Не то совсем все это к чертовой матери бросим.
Он уходил, затаив злобу.
Тот вечер победы над Радкевичем мне запомнился на всю жизнь. Несмотря на усталость, я отправился купаться.
Над лесом медленно выплыла круглолицая луна. Птичь засверкала красным расплавленным золотом. Прохладная вода постепенно возвращала моему телу утраченные силы.
На средине реки вдруг раздался всплеск воды, и я увидел приближающуюся лодку. «Неужели Синкевич?» — подумал, зная, что Михаил Иванович страстно любит греблю. Действительно он! А кто это с ним? Слышу знакомый девичий смех. Любаша?! Странно! Каким образом она очутилась в лодке Синкевича? Неужели Любаша знакома с ним, только искусно скрывала. Если так, она молодец. Дядюшка Егор прав: язык надо уметь держать за зубами.
Пока я одевался, лодка причалила. Синкевич подошел ко мне:
— Тебя, Степа, можно поздравить с победой? Любаша мне все рассказала. Молодец, доказал свое. А теперь хватит… — Он помолчал, видно подбирая слова. — А то и тебя назовут панским холуем. Журавский хитер, у него к каждому свой подход.
Я опустил голову. От стыда готов был провалиться сквозь землю. В самом деле, Журавский нащупал мою слабую струнку и сумел нажать на нее.
Синкевич заметил мое смущение.
— Ладно, — сказал тепло, по-отечески, — не огорчайся. Ты завоевал авторитет у ребят. Теперь они пойдут за тобой…
Я не дал ему договорить:
— Завтра Журавскому морду расквашу, увидите!
Синкевич недовольно покачал головой:
— Горячий ты, хлопец, слишком горячий. И сил у тебя хоть отбавляй. Но их беречь надо. На рожон не лезь. Для начала я дам тебе небольшое задание.
Я приготовился слушать.
— Любаша, — обернулся он к девушке, — ну-ка прочти стихи. Только тихо.
Любаша продекламировала:
А кто там идет по болотам и лесам Огромной такою толпой? — Белорусы. А что они несут на худых плечах, Что подняли они на худых руках? — Свою кривду. А куда они несут эту кривду всю, А кому они несут напоказ свою? — На свет божий. А кто же это их — не один миллион — Кривду несть научил, разбудил их сон? — Нужда, горе. А чего ж теперь захотелось им, Угнетенным века, им, слепым и глухим? — Людьми зваться.— Это стихотворение написал наш земляк Янка Купала, а на русский язык перевел великий писатель Максим Горький, друг Ленина, — объяснил Синкевич. — Выучи его и прочти косарям…
3
Мать пришла домой раньше обычного, до сумерек. Мы встревожились, не случилось ли беды? Более десяти лет была она дояркой в имении. Неужели ее выставили на улицу? Однако что это? Усталое худое лицо матери светилось от счастья. В уголках губ блуждала веселая загадочная улыбка. В руке мать держала большой бумажный пакет.
— Степа, — обратилась она ко мне, прижимая к груди пакет, — завтра мы с тобой едем царя встречать.
— Царя?! — вырвалось у меня.
— Да. Вместе с Журавским.
Мать развернула пакет. В нем оказались новые черные брюки, вышитая рубашка, носки синие в красную полоску и… кожаные ботинки. Нет, это положительно сон! Кожаные ботинки! Да кожаную обувь у нас носил только Журавский! Все остальные летом ходили босиком, а зимой в лыковых лаптях.
— Степа, примерь. Это все Журавский тебе дал…
Встречать царя… Странно, почему Журавский избрал для этого нас с матерью? Невольно вспоминаю слова Синкевича: «Журавский хитер, у него к каждому свой подход». Михаила Ивановича незадолго до того царская охранка бросила в тюрьму. А как он сейчас нужен! Он бы подсказал, как быть…
В руке у меня тоненькая, зачитанная до дыр брошюра о первом съезде РСДРП, состоявшемся в 1898 году в Минске. Я только что прочитал ее и знаю, кто такой Ленин, чего хотят большевики. Выучил наизусть «Интернационал». И вдруг — встречать царя! Идти на поклон к тому, кого уже начал презирать за бездарность, из-за него ведь бои теперь шли под Барановичами, а ночью, в тихую погоду, и мы слышали артиллерийскую канонаду.
В избу, наклонив голову, чтобы не зацепить притолоку, вошел Журавский. Быстрым взглядом окинул комнату, посмотрел на стол, повернулся ко мне:
— Мерил?
— И не собираюсь.
— Почему?
— Так. Я не поеду.
Журавский закусил нижнюю губу, но тут же деланно рассмеялся:
— Зачем стесняться? Царя-батюшку в Могилеве будут встречать хлебом-солью тысячи белорусов. От имени Жилинского — мы трое. Ты хоть и лоботряс, но работать умеешь, как твой покойный отец, как и твоя мать. Поэтому тебе и оказана честь встречать царя, правую руку бога! За счастье бы посчитать должен, благодарить меня, а ты еще куражишься. Выпадет ли еще такое — повидать самодержца Николая Второго Александровича, императора Всероссийского, Московского, Киевского, Владимирского, Новгородского, царя Казанского, Астраханского, Польского, Сибирского, Грузинского, государя Псковского, великого князя Смоленского, Литовского, Волынского, Подольского и Финляндского, князя Эстляндского, Лифляндского, Курляндского и Семигальского, Белостокского, Kaрельского, Тверского, Пермского, Вятского, Балкарского, — выпалил он не переводя дыхания.
Мы глядели на управляющего, как на чудо при роды. Откуда ему все это известно? Ведь он неграмотный мужик, читать-писать не может. Но почести кому надо отдать умеет, тут у него природный талант!
Уходя, Журавский заявил, что заедет за нами в полночь:
— Ночью ехать придется, чтобы вовремя добраться до станции.
Остались считанные часы. Кто посоветует мне, как поступить? Могу, конечно, наотрез отказаться, жандарма Журавский не вызовет. Но я помню слова Синкевича «на рожон не лезь».
Решил сходить к Мите Градюшко, умнице, моему лучшему другу. Митя украинец, из Киева. Нужда за ставила смуглого, черноглазого паренька скитаться по стране в поисках куска хлеба, пока он не застрял у помещика Жилинского. Много времени прошло с тех пор, но Украину он любил с прежней страстью. Часто тоску свою выражал в нежно-мелодичных, печальных напевах, которых знал очень много. Слушая его песни, я, бывало, переносился мысленно в неведомые бескрайние степи, к могучему седому Днепру, видел крытые соломой хатки, утопающие в белой кипени цветущих садов, красавец Киев с золочеными куполами церквей. Но всю эту дивную красоту омрачал пронзительный свист нагайки. И уже тогда я понял, что хлыст помещика и дубинка жандарма бьют одинаково больно и в Белоруссии и на Украине.
…Митя выслушал меня внимательно, не перебивая. Задумался. Потом заговорил, как всегда путая русские и украинские слова:
— Бачишь, тут дило мудреное. Паны решили спектакль показать. Нехай, мол, царь думает, будто народ его почитает…
— Это мне понятно, — перебил я его. — А ты скажи, идти мне или не идти.
— Я так разумию, что идти тебе надо. Откажешься — Журавский прогонит, чем тогда детвору кормить станешь?.. Только ручек царю не целуй. А подсунет — плюнь в рожу.
Мы оба засмеялись.
— Однако любопытно побачить, який он царь, — сказал немного погодя Митя.
Меня тоже, конечно, любопытство разбирало. У нас в имении говорили о царе с благоговейным почтением: «царь-батюшка». Почти в каждой избе висел его портрет.
Помню, зашел я однажды по какому-то делу к соседу, старому батраку Жуковцу. Сел на лавку под изображением царя, а шапку снять забыл. Жуковец тут же наградил меня пощечиной:
— Уважение к царю надо иметь, — кричит. — Царь наш защитник от всяких лиходеев и разбойников…
Журавский, как и обещал, заехал в полночь. Он выбрился так, что щеки отливали синевой. Короткий чуб начесал тщательно, волосок к волоску. Черный с лаковым козырьком картуз держал двумя пальцами. То и дело поворачивал шарообразную голову в мою сторону, давал наставления:
— А вдруг царь соизволит поинтересоваться, как живешь, что будешь отвечать?
Молчу.
— Хорошо живу, ваше величество, скажешь. Мы любим вас, ваше величество. Народ — тело, царь — голова…
На станцию, где находилась ставка верховного главнокомандующего, мы прибыли рано, до рассвета. Но здесь уже собралась огромная толпа. Жандармы и казаки старались оттеснить ее от вокзала.
Журавский подал матери знак. Она достала из корзины большую ковригу хлеба и вышитое полотенце. Управляющий, по замыслу которою хлеб и полотенце должны были послужить нам пропуском, стал пробиваться через оцепление. Куда там! Усатый краснолицый жандарм так саданул его кованым сапогом в живот, что Журавский тут же скрючился и упал.
— Вы что делаете?! — возмутилась мать. — Это управляющий Жилинского!
— Пошла вон, — выругался жандарм. А один из казаков стал наезжать на нее конем.
…Прошло несколько часов. Солнце начало припекать, воздух накалился. Нам, стиснутым со всех сторон, трудно стало дышать. А того, кого ждут, все еще нет.
По толпе побежал шепот:
— Царь давно приехал. Он только боится показываться, напугали его.
Журавский куда-то пропал.
— Мама, уйдемте, — предложил я.
Она посмотрела на меня так, будто я был ненормальным:
— Ты что, царя ждать не хочешь? Погляди, сколько людей ждут.
Опять стоим, обливаемся потом. Вдруг кто-то тихо щелкает меня сзади по уху. Оглядываюсь и глазам своим не верю: передо мной знакомый студент Николай Наревский из Городища. Но как он попал сюда? И почему в очках? А Николай, заговорщически подмигнув, спрашивает:
— Государя-императора встречаем?
— Встречаем, — отвел я глаза в сторону.
— Так он, пока его ищейки не завершат работу, не покажется, — шепнул Николай, наклонившись ко мне.
— Разве царь действительно здесь?
— Давно. Он в вагоне закрылся…
Толпа заволновалась. Ее опять оттиснули назад. Я поднялся на носки, чтобы увидеть площадку у центрального входа в вокзал. Там было пусто. Только стояли застывшие шеренги солдат.
Вдруг стало тихо так, что слышен был шелест листьев на деревьях. Открылась дверь вокзала, и оттуда шаркающей походкой вышел невысокий, плюгавый, рыжебородый человек. За ним потянулись генералы, полковники, адъютанты, штатские, расфуфыренные дамы. Загремел оркестр, в воздухе разнеслось многоголосое «ура».
Так вот он какой, государь: лицо с сероватым нездоровым оттенком, взгляд робкий. Выставил вперед правый сапог и приветствует толпу, машинально помахивая рукой.
Моя мать тихо, испуганно шептала:
— Боже мой, царь! Боже мой, батюшка!
Она была бледна и все время крестилась. Вдруг рванула меня за рукав, подалась с хлебом на полотенце к кордону казаков.
— Назад! — угрожающе заревел жандарм. — Назад!
В это время несколько голосов выкрикнули хором:
— Долой самодержавие! Долой войну!
— Да здравствует мир! — поддержали их в другом конце толпы.
— Долой большевиков, они продались немцам! — в истерике завопила женщина. — Арестуйте их!
И тут же совсем близко, почти рядом со мной, молодой голос запел «Интернационал». Я по сей день уверен, что пел это Николай Наревский, студент из Городища:
Вставай, проклятьем заклейменный, Весь мир голодных и рабов!..Я машинально подхватил:
Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем…Казацкая нагайка опустилась на мою спину.
4
Журавский, пострадавший от жандарма, три дня отлеживался. Многие радовались: наконец-то панский холуй образумится. Оказалось, он ничуть не изменился. Напротив, стал злее. За малейшую провинность избивал людей в кровь.
Первомай в шестнадцатом году мы, молодежь, решили отпраздновать как следует. Договорились на работу не выходить, а устроить в лесу митинг. Но как быть с Журавским? Ведь он поднимет шум на всю губернию и жандармов может вызвать.
Когда обсуждали этот вопрос, много предложений было. Наиболее горячие головы, вроде Мити Градюшко, требовали даже утопить управляющего или повесить. Может быть, мы и решились бы на это, да удерживало одно — боялись, что следствие начнется, многие невинные пострадают.
После долгих споров договорились накануне праздника устроить управляющему «темную», да так «обработать» его, чтобы он неделю на улицу не показывался. Выполнить «задачу» взялись мы с Митей и с честью с ней справились. Даже немного перестарались.
Первомайский праздник прошел удачно. На митинге присутствовало много батраков и бедных крестьян. С речью выступил учитель Николай Сергейчик.
В тот день я впервые увидел портрет Ленина. Слегка прищуренные умные глаза смотрели на меня вопросительно. Они будто спрашивали: «Как же дальше, товарищ Шутов, жить будем?» «По-новому, Владимир Ильич», — хотелось ответить ему.
Журавский выздоровел и сразу же выгнал меня и Митю из имения.
Нас провожали, как героев, почти все жители Дворца. Мать, когда я стал с ней прощаться, вытерла слезу и ободряюще заявила:
— Ничего, Степа, как-нибудь устроишься. О нас не беспокойся. Чует мое сердце — мучениям нашим скоро конец наступит.
Любаша перевезла нас на ту сторону речки. На берегу Митя обнял ее и хотел поцеловать. Девушка решительно высвободилась из его рук:
— И придумал же!
— А что особенного? — удивился Митя. — Я маю серьезные к тебе чувства…
Любаша прикрыла Мите рот.
— Это еще ничего не значит. Во-первых, ты еще слишком молод…
— Молод? Да я старше тебя.
— А во-вторых, — не слушая его, продолжала девушка, — настоящие революционеры не целуются.
— Невже так? — серьезно спросил Митя.
— Точно, — подтвердила Любаша. — Вот Синкевич, Разумов уже взрослые, а не женаты.
Любашу мы считали «теоретически подкованной» и спорить с ней не стали.
Нам с Митей повезло. Устроились чернорабочими на стекольный завод. Но что это была за работа! Настоящая каторга. Тяжелый труд доводил стеклодувов до крайней степени изнурения. Желтые, бледные, с впалыми щеками, они скорее напоминали трупы, чем живых людей. Возле дышащей жаром печи суетились оголенные до пояса скелеты.
Хозяином предприятия был еврей Вульф, которого рабочие прозвали Волком. Это был полный, упитанный человек. На короткой его шее помещалась круглая голова, под мясистым, лоснящимся носом топорщился кустик рыжих волос. Глаза — стеклянные пуговички.
Волк постоянно бывал в цехах. Внешне вел себя корректно, всегда улыбался. Не бранил никого, ни на кого не повышал голоса. С рабочими разговаривал почти заискивающе. Но за этой маской добряка скрывался холодный убийца.
Позже из рассказов рабочих мне стало известно, что в минувшее лето на заводе трагически погиб мой знакомый еврейский мальчик Элек Шамис. Когда он пришел наниматься на работу, хозяин сразу сообразил, что парень слишком набедовался и согласится на любые условия.
— Что ж, беру тебя, — сказал Волк ласково. — Оденешься, сытым будешь. А захочешь, в будущем хозяином этого завода станешь. Детей у меня нет, а я уже немолод.
Мягко стелил хозяин, да жестко было спать. Элека поставили к печи. Двенадцать часов непосильного труда. И по-прежнему голодный, оборванный. «Будущему наследнику» Волк жалованья не платил.
За три месяца мальчик измотался окончательно. Как-то он, выбившись из сил, присел к печи и задремал. Его случайно облили расплавленным стеклом, и он умер мучительной смертью.
Теперь на этом заводе трудились мы с Митей. Одно нам здесь нравилось: рабочие жили дружной семьей. Если хозяин прижимал с зарплатой, они объявляли забастовку и часто побеждали. Волк всячески стремился подчеркнуть, что поощряет свободомыслие. Но от двух активных забастовщиков он постарался избавиться, одного отправил на каторгу, другого — на фронт.
Шел семнадцатый год. Первого мая наш хозяин явился на завод с красным бантом в петлице и заявил, что вместе с рабочими пойдет на демонстрацию. Но с ним пошла лишь горстка людей. Большинство рабочих направились за большевиком Соколовым по другой улице. Мы с Митей, конечно, были в первых рядах.
Волк не мог простить этого. Четвертого мая Виктора Михайловича Соколова, Митю и меня выставили за ворота.
Было раннее утро. Восточную часть неба прорезала широкая красная полоса. В воздухе носился пряный аромат цветущей сирени. По веткам деревьев скакали пичужки, яростно щебеча и распевая. Просыпающаяся природа радовалась и ликовала. И только мы втроем стояли у проходной и не знали, что делать.
Митя был старше меня. Поэтому при разговоре собеседники чаще всего обращались к нему. Вот и сейчас Виктор Михайлович тронул его за руку:
— В другое время я бы вас к себе взял, а сейчас не могу. Жена должна родить, а комнатушка у меня маленькая.
При этих словах Митя бросил на меня быстрый взгляд и недоуменно пожал плечами. Это не укрылось от Соколова:
— Может быть, хлопцы, обижаетесь?
— Ни-ни, что вы, — поспешил ответить мой друг. — Просто ваши слова удивили. Мы слышали, будто большевики не женятся.
Доброе, открытое лицо Виктора Михайловича расплылось в улыбке:
— Кто вам такую глупость сказал?
— Один человек, — ответил Митя и, обращаясь ко мне, добавил — Выходит, Любаша брехуха!
По просьбе Соколова мы рассказали, кто такая Любаша.
— Ну что ж, она, по всему видно, девушка не глупая, — резюмировал Виктор Михайлович. — Просто не хотела, чтобы твои мысли, Митя, были слишком заняты разлукой…
5
Конец октября. Мы с Митей работаем в деревне Заполье у кулака Марина. К нам примчалась запыхавшаяся, вся сияющая Любаша. Нашла нас в поле. Тут же находился хозяин.
— Бросайте работу! — крикнула еще на ходу. — Хватит!
Мы оторопели.
— Революция, — держась рукой за сердце, объяснила Любаша, — в Петрограде, Москве, Минске… Есть декрет: землю у помещиков отобрать и раздать беднякам… Ну, чего стоите?
Мы растерялись. Я посмотрел на Марина. У него был вид человека, упавшего в холодную воду. Только в зрачках вспыхивали колючие искорки.
— Вы свободны, — сказал с насмешливым вызовом, сделав над собой усилие. — Хватайте чужую землю, хватайте, пока по рукам не дали… Ох и плакать же будете, слезки горькие потекут!
Митя кинулся к Марину, но мы с Любашей преградили ему путь.
— Обожди, собака, доберемся до тебя, — бросил Митя кулаку на прощание.
В селении Дворец все клокотало. Журавский бежал. Никто, конечно, не работал. Усадьба горела.
Из Городища на взмыленном коне прискакал Матвей Бузак, сочувствовавший большевикам.
— Идиоты, что делаете? — закричал он не своим голосом. — Свое же добро переводите. Тушите огонь!
— Пусть горит, — настаивал дядюшка Егор. — Панское добро не жалейте. Сегодня мы хозяева, завтра опять Жилинский заявится.
Трудно было убедить старого солдата, что земля и хозяйство помещика отныне и навечно без выкупа переходят к беднякам. Только когда ему показали напечатанный на желтой оберточной бумаге декрет о земле, он сдался:
— Приказ есть приказ. Я за солдатскую дисциплину стою.
Дядюшку Егора ввели потом в состав комиссии по разделу земли…
Вскоре, однако, наше ликование омрачилось тревожными вестями: контрреволюционные войска захватили Минск. В Слуцке начались повальные аресты. Кто-то пустил слух, будто во Дворец приезжает сам Жилинский наказывать «бунтовщиков».
К счастью, в Городище возвратился Синкевич. Митя, Любаша и я сразу же отправились к нему. Он нас успокоил:
— У врагов революции оказался временный перевес сил. Но в ближайшие дни их выбросят из Минска.
Он оказался прав. Военные большевистские организации Западного фронта выслали в город бронепоезд имени В. И. Ленина и батальон пехоты. Столица Белоруссии была очищена от контрреволюционеров.
Генерал Духонин, возглавлявший Ставку, пытался перебросить с Западного фронта к Петрограду и Москве белогвардейские части Корнилова. Но рабочие крупнейших железнодорожных узлов Белоруссии, руководимые большевиками, задержали передвижение этих «надежных» войск.
Помню, поблизости от нашего селения остановился такой задержанный взвод. Синкевич дал нам с Митей и Любашей пачку листовок с Декретом о мире и велел распространить среди солдат.
— Только будьте осторожны, — предупредил он. — Опасайтесь офицеров.
Пришли мы к «надежным». Стоим невдалеке вместе с малышами, прикидываясь ротозеями. Наблюдаем такую картину: прапорщик с плоским, усеянным крупными веснушками лицом отчитывает солдата. Тот молчит, только испуганно моргает.
— Сто шагов бегом туда и назад, потом — на кучу, марш! — кричит прапорщик, указывая на горку навоза вблизи картофельного поля.
Солдат бежит. Взбирается на навозную кучу, хочет прыгнуть с нее, но его задерживает окрик:
— Стой!
Солдат щелкает каблуками. Приставляет приклад к ноге и стоит как пригвожденный.
— Двадцать, нет — тридцать раз присесть с винтовкой на вытянутых руках! Начали, раз… два… три…
Презрение, говорят, проникает даже сквозь панцирь черепахи. В солдате закипает ярость. Я жду, когда он набросится на своего истязателя. У него дрожат руки, подергиваются щеки, на лбу выступают капельки холодного пота. Но приказ он выполняет.
— Четырнадцать… пятнадцать… шестнадцать… — небрежно с легкой скукой считает прапорщик. — Семнадцать… Выше руки, выше!
Митя сжимает кулаки. Любаша до крови покусывает губу.
— Двадцать восемь… двадцать девять… тридцать… Ко мне!
Солдат стоит перед прапорщиком, с трудом держась на ногах.
— Так кто, по-твоему, Ленин?
— Вождь, господин прапорщик, — отвечает солдат тихим, смиренным голосом. — Наш, крестьянский вождь.
— Мол-чать! Опять за свое?! Запомни: Ленин — немецкий шпион. — И снова командует: — Кру-гом! Бегом на навозную кучу, марш!
Солдат повинуется.
— Стоять до обеда! — бросает прапорщик и уходит.
Когда он скрывается за домами, Митя оглядывается. Видит, никого нет, предлагает:
— С него и начнем.
— Слушай, товарищ, сходи с кучи, — обращается к солдату Любаша.
— Ты сам откуда? — спрашиваю его.
— Из Сибири.
Митя подходит к солдату. Сует в руку несколько листовок:
— Спрячь. Потом почитаешь.
— Неграмотный я. Про что тут написано?
— Про мир. Товарищам покажи — почитают.
— А про землю нет? Правда, что Ленин приказ дал бедным крестьянам землю раздать?
— Правда. У нас уже разделили землю помещика.
— Что же это будет? Пока я в окопах прохлаждаюсь, в Сибири всю землю раздадут…
Вечером малыши рассказывали, как солдаты закололи прапорщика, того, с веснушками. Мы доложили об этом Синкевичу.
— Очень хорошо, — обрадовался тот. — Скоро вся армия пойдет за большевиками. — Повернувшись к Мите, Михаил Иванович вдруг спросил — А ты, молодец, что буйну голову повесил?
В последнее время я тоже заметил, что мой друг загрустил. Сейчас он сидел задумчивый, уставившись в землю немигающим взглядом. Услышав обращенный к нему вопрос, вздрогнул, поднял на Синкевича глаза:
— Дюже тяжко, Михайло Иваныч. Пийду-ка я, пожалуй, до хаты, на Вкраину. Всюду Советска власть, а в Киеве ее нема. И мать жалко, одна она там…
— Что мать жалко — согласен, — ответил Синкевич. — Но сейчас идти в Киев не резон, пропадешь ни за понюшку табаку. Подожди, пока освободим твою Украину. А сейчас иди лучше к нам. Мы как раз отряд Красной гвардии комплектуем.
6
Штаб Городковского красногвардейского отряда. В перекошенной и почерневшей от времени избе за дубовым выщербленным столом сидит командир. Молодой, почти наш ровесник. Черты лица девичьи, голос тоненький:
— Вы к кому?
— Нас прислал товарищ Синкевич.
— Ясно. Записаться хотите?
— Конечно.
— А оружие ваше где?
Митя смотрит на меня, я на него. Стоим хлопаем глазами. Никак не думали, что в армию только со своим оружием берут.
— До свидания, — говорит командир. — Занят во как, — он проводит рукой по горлу. — Раздобудете винтовки — приходите, потолкуем.
Раздобыли. В тот же день. Их не слоя: но было достать у дезертиров.
Снова являемся в штаб. Теперь командир без лишних разговоров приказывает зачислить нас красногвардейцами.
Через неделю меня и моих товарищей перевели в Осиповичский отряд, который действовал против польского корпуса. Корпус этот сформирован был при Временном правительстве из военнопленных поляков — солдат немецкой армии. В нем насчитывалось более 25 тысяч легионеров. Командовал корпусом генерал Довбор-Мусницкий.
Вскоре же нам пришлось участвовать в жарком бою. Отряд действовал совместно с двумя регулярными полками. Несколько раз атаковали, и все неудачно. Потом обошли врага, и он начал отступать. Польские солдаты, против воли втянутые в контрреволюционную авантюру, целыми группами сдавались в плен.
Все шло хорошо, пока нас не обстреляла неприятельская артиллерия. Тут соседние полки дрогнули и побежали. Только наши добровольцы проявили стойкость и отбивали атаки белополяков, пока не подошел Городковский красногвардейский отряд.
Мы с Митей держались вместе. Во время вражеского артобстрела он вдруг упал. Сердце у меня дрогнуло. Подбежал к нему, вижу — гимнастерка его в крови. Он с трудом открыл глаза.
— Степа, — слабо улыбнувшись, прошептал. — Прошу тебя… В Киеве мамо… — И голова его бессильно упала.
В нескольких боях революционные войска нанесли корпусу Довбор-Мусницкого тяжелое поражение. Только бегство на территорию, занятую немцами, спасло его от полного разгрома.
С ликвидацией последнего очага контрреволюции в Белоруссии для нашего отряда наступили мирные будни. А страна продолжала тяжелые бои. Все мы, молодые добровольцы, считали, что наше место на передовой.
Как раз в это время к нам прибыл один из руководителей большевистской организации Минска. Выступая с речью, сообщил, что Ленин подписал декрет о создании массовой регулярной Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
— Сознательность сознательностью, — заявил он, — но без крепкой дисциплины нельзя…
Я решил пойти в новую армию добровольцем. Написал об этом письмо Любаше. Множество раз исправлял его, переписывал, вставляя схваченные на лету чужие слова, мысли. Хотелось написать необычно «умно и красиво». А получилось совсем не то:
«Красная гвардия, должен тебе сообщить, товарищ Любаша, обессмертила себя своими подвигами в веках. Теперь Владимир Ильич Ленин говорит, что революции нужны регулярная Красная Армия и Красный Флот. Я решил добровольно записаться в эту новую армию и отомстить за смерть Мити Градюшко. Кланяйся всем нашим.
Красногвардеец Степан Шутов».
Почта работала из рук вон плохо. Письмо прибыло во Дворец одновременно со мной. А я до этого уже успел схватить брюшной тиф и проваляться две недели в отрядном госпитале. Только выздоровел, меня стали домой отправлять.
Неужели рухнула надежда попасть в Красную Армию? Я пытался протестовать. Зашел к командиру, стал жаловаться на врача, вгорячах назвав его контрой. Командир отряда только улыбался. Когда я исчерпал запас своего красноречия, он попросил:
— Ну-ка пройдись от стола к двери и обратно.
Я понимал, что меня испытывают, и старался не подкачать. Но ноги подвели.
— Вот что, Степан, сейчас отправляйся домой, — по-дружески сказал командир. — А подкрепишься — возвращайся. С радостью примем в полк.
Я не уходил.
— Хочешь еще что сказать?
— Не знаете, как дела под Киевом?
— У тебя разве родственники там?
— Мать.
— Тогда вдвойне радуйся. На днях Киев очищен от петлюровцев.
— Неужели! — воскликнул я, не в силах скрыть волнения. — Спасибо за добрую весть…
Покидая часть, захватил с собой и Митин вещевой мешок. В дороге, сев на него, услышал сухой хруст. Заглянул внутрь — оказывается, раздавил фанерную коробку. А в ней лежали две фотографии: Любаши и женщины средних лет с улыбающимися глазами — Марии Филипповны, матери Мити Градюшко.
7
И вот я снова дома. Смотрю на десяток убогих избушек, на каменную усадьбу, несколько хозяйственных помещений, составляющих селение, и думаю: какой насмешник окрестил его громким, звучным именем Дворец?
Новая жизнь докатилась и сюда. Люди часто собираются на митинги, собрания. Те, кого я знал раньше как «темных», необразованных, стали активными, боевыми. Дети учатся. Пожилые мужчины и женщины тоже зубрят алфавит.
Шесть парней было отправлено из Дворца на русско-германскую войну. Вернулся только Юрий Метельский. Теперь он обучает подростков стрельбе.
Каждый из односельчан считал своим долгом навестить меня. Я еще не здоров, больше лежу. Когда заходят очередные гости, ищу глазами Любашу. Но ее все нет.
Позже мать объяснила:
— Стесняется, вот и не идет.
— Как стесняется? Почему?
— Да так. Радкевич снюхался с кулаком Маричем. Вместе в лес подались, бандитами стали. Кто за Советскую власть, тех убивают. Марич у них главный, Радкевич и старший сын его, Ленька, вроде помощники… А остальные братья Любаши в Красной гвардии. Михаил под Бобруйском погиб, Александр ранен.
«Как все перемешалось, — подумал я. — Отец против сыновей идет».
Мать продолжала сыпать соль на мою рану:
— Петро запретил Любаше бывать в Городище у большевиков. Грозился задушить, если ослушается.
Я стиснул зубы, встал, взял палку и направился к двери.
— Куда? — испугалась мать. — Лежи, слаб ты еще.
Я ничего не ответил. Хлопнул дверью.
Мороз стоял сильный. Гулко трещал лед на реке, потрескивали деревья. На западе опускалось к горизонту красное, холодное солнце. На березовой арке у входа в усадьбу лениво шевелилось на ветру покрытое толстым слоем инея Красное знамя. Мне было известно, что принесла его из Бобруйска Любаша.
Анисья Степановна открыла дверь и, испуганная, застыла на пороге.
— Любаша дома?
Она отрицательно покачала головой.
— Где же?
— Не знаю.
Мы стояли в сенях. Из хаты послышались сдержанный говор, тихий звон посуды, бульканье.
— У вас гости?
Анисья Степановна нервно передернула плечами, быстро замотала головой.
«Петро пришел. И не один», — мелькнула у меня мысль. Действительно, послышался пьяный голос Радкевича:
— Анют-а-а, чего застряла?
Анисья Степановна приложила палец к губам:
— Уходи, Степа, скорее. Они убьют тебя…
Мне стало не по себе. Сердце неприятно защемило. Надо бы бежать, но постеснялся.
— Уходи…
Договорить она не успела. Открылась дверь, и на пороге показался Радкевич. Его помутневшие глаза округлились:
— Здравствуй, Степан. Заходи, комиссар, гостем будешь.
— Отвяжись от него, треклятый, — обругала Петра жена. — А ты, Степа, иди домой. Любаша в Бобруйск уехала.
— Постай, браток! — обеими руками вцепился в меня пьяный Радкевич. — Или испугался?
Ложный стыд… Как часто он подводит, особенно не искушенных жизнью юнцов! Движением плеча я оттолкнул Петра и вызывающе бросил ему в лицо:
— Не боюсь я вас. Могу зайти.
В избе за столом сидели еще два полупьяных врага — Марич и Ленька. Я чувствовал, что Радкевич из-за моей спины подает собутыльникам немые знаки. Те в ответ понимающе кивали.
— Почему шапку не снимаешь, коль в избу зашел? — грубо спросил Ленька, оценивая меня долгим пренебрежительным взглядом.
— Жидам продался, потому и не снимает, — заметил Марич, скривив губы.
На скамейке рядом с Маричем лежал обрез. Вот бы завладеть им!
— Ленька, налей ему большую, — буркнул Радкевич.
Ленька протянул мне кружку с самогоном.
«Что будет, то будет, — решил я, — но трусить не стану» — и грубо отстранил руку пьяницы.
— Отказываешься?! — чуть не задохнувшись от злости, спросил Марич. Он поднялся, выпятил грудь. — Отказываешься, сволочь? — переспросил он еще строже. — А ну-ка скажи.
— Отказываюсь, — ответил я твердо, стараясь показать, что не боюсь их. Это мне показалось недостаточным, и, задрав голову, я бросил: — С бандитами пить не буду!
Первый удар получил от Леньки. Размахнулся, чтобы ответить, но не успел: Марич стукнул меня обрезом по голове. Я упал и уже словно сквозь сон слышал, что происходило вокруг.
— Пристрелить его, что ли?
Анисья Степановна вскрикнула.
— Тсс, стерва! — заорал на нее Марич.
— Уходи, пьяная рожа! Я тебя ненавижу, ненавижу! — закричала женщина в истерике. Затем бросилась к мужу: — Петро, чего молчишь? В твоем доме человека убивают, ребенка еще, сироту…
— Хватит, Анюта, — оборвал ее Петро. — Не убьют! Но надо проучить, чтобы не лез. — Он подошел ко мне, нагнулся. — Слышишь, вставай!
Я не шевельнулся. Мне было хорошо, будто погрузился в теплую мягкую перину.
— Запомни, — услышал я грозный, предостерегающий голос Марича. — Расскажешь, где был, — каюк! Хату сожжем, семью перестреляем…
Сильные руки подняли меня. В нос ударил запах махорки и самогонного перегара. Скрипнула дверь. Залаяла собака. Потом снег оказался в ушах, во рту, в ноздрях. Стало необыкновенно тихо… Открыл глаза: надо мной темное небо, ни одной звездочки. «Потеплеет», — обрадовался я.
Хочется спать, а меня тормошат. Пришел фельдшер. Я его знаю, это друг Синкевича. Они вместе отбывали ссылку.
— Как поживает Михаил Иванович? — спрашиваю.
Фельдшер смотрит в сторону, кому-то улыбается.
Подходит Синкевич. Он, как никогда, серьезен, озабочен.
— Кто это тебя так разделал? — спрашивает.
— Марич, Радкевич, Ленька…
— Я так и думал, — говорит он фельдшеру и снова обращается ко мне: — Скорее выздоравливай, Степа, важные дела ждут.
8
Ночью бандиты подожгли нашу хату. В борьбу с огнем вступили все соседи. Командовал людьми Юрий Метельский. В потрепанной, видавшей виды солдатской шинели, без головного убора, в серых с темными заплатами валенках, он указывает, какой именно очаг нужно в первую очередь ликвидировать. Распоряжения его четки, ровны, спокойны.
Юрий Метельский был на несколько лет старше меня, дружил с моим братом Сергеем, тем, которого называли грозой морей. В двенадцать лет он потерял отца, в шестнадцать — мать. На его попечении остались братишка и две сестренки. Работал он много, но по ночам ухитрялся еще читать запрещенные книжки, которые кто-то, может быть Синкевич, ему доставал.
У нас Юрий бывал редко, разве только в праздники, — у него просто не было свободного времени. Но когда приходил, то казалось, в доме становилось светлее и теплее. И сам он был веселый, жизнерадостный. Не сломили парня ни нужда, ни тяжкий труд.
Моя мать хвалила его:
— Юра, гляжу я на тебя и думаю: больше всех ты мучаешься, а нос не вешаешь. Молодец, и только.
— А зачем плакать, разве слезами горю поможешь? Я верю, придет солнце и к нашим оконцам. Не будет жилинских, журавских и прочих эксплуататоров.
— Думою камня с пути не своротишь.
— Тот камень не думою, а руками, грудью столкнем с дороги…
Когда началась война, Юрия призвали в армию. А через два года его судил трибунал за антивоенную пропаганду. Юрий знал, что его ожидает смерть, но вел себя на процессе очень смело.
— Солдат Метельский, — спросил председатель суда, — что вы можете сказать в свое оправдание?
— Мне оправдываться нечего. Только за лето, да будет вам известно, господин председатель, наша армия потеряла шестьсот тысяч убитыми и ранеными. Пусть оправдываются те, кто повинны в этом.
Судья снял пенсне, протер платком, и, снова водрузив на место, пристально посмотрел на стоявшего перед ним солдата.
— Так-с, — протянул он, покачав головой. — Вы для армии опасный человек.
Приговор был короток:
«За большевистскую агитацию среди солдат в военное время, за призывы к неповиновению Метельского Юрия Матвеевича расстрелять. Но, принимая во внимание боевые заслуги подсудимого, смертную казнь заменить направлением в штрафной батальон».
…Осень шестнадцатого года. На скамейке минского городского парка под стройной елью сидят двое. Рядом с Метельским — круглолицый молодой человек с темно-карими глазами.
— Скоро произойдет революция, — тихо говорит собеседник Метельского, пощипывая свою реденькую бородку. — Война, начатая правительством, будет закончена народами. Лишь в этом случае наступит справедливый, демократический мир. Лозунг большевиков: «Долой империалистическую войну! Да здравствует война гражданская!» Вы меня поняли?
— Очень хорошо понял, товарищ Михайлов, — отвечает Юрий.
Прощаются. Расходятся в разные стороны. Метельский вдруг останавливается и провожает коренастого подтянутого военного, с которым только что беседовал, долгим, внимательным взглядом.
— Будет революция, — шепчут его губы.
Я не собираюсь интриговать читателя, поэтому сразу скажу, что под именем Михайлова был не кто иной, как Михаил Васильевич Фрунзе. Он служил в штабе Десятой армии и по заданию партии большевиков сколачивал нелегальную военную революционную организацию.
Замечательный это был человек. Я позволю себе еще рассказать о нем, причем уже не со слов Метельского. Мне самому выпало счастье видеть его и разговаривать с ним, но об этом позже.
А сейчас о Метельском. Уже через год он становится одним из вожаков 623-го полка. Того самого, который совместно с красногвардейцами закрепился в Орше, парализовал действия Кубанской казачьей дивизии и не пропустил на Петроград и Москву ни одного контрреволюционного эшелона.
После изгнания из Белоруссии корпуса Довбор-Мусницкого Юрий возвращается домой…
Наконец огонь побежден. У нашего дома сгорели только крыша и одна стена. Народ постепенно расходится.
Я еще слаб, ничем помочь не могу. Чтобы не путаться под ногами, прислонился к забору соседнего дома.
Слышу шаги. Подходит Метельский. Я пожимаю ему руку:
— Спасибо.
— Не за что, — отвечает он. — Если бандитов не переловим, завтра мою хату тушить будешь. Надо в центр ехать, посоветоваться там, как быть.
Вскоре Метельский сколотил молодежный отряд для борьбы с бандитами. В него вошли юноши и девушки Дворца, деревни Заполья, местечка Городище. Но враг в Синем Бору был сильнее нас, лучше вооружен, Три раза пытались мы наступать, и все безуспешно.
Тогда Юрий решил применить хитрость. Часть отряда оставил на опушке леса. А с остальными бойцами переправился на противоположный берег реки, чтобы ударить по банде с тыла, откуда она меньше всего ждала нападения.
Мне с двумя парнями приказал наблюдать за домом Радкевича и распорядился:
— Если кто из семьи Петра в лес направится, не задерживайте, но следуйте за ним.
Стали наблюдать. Проходит час, другой. В хате Радкевича будто вымерло все. Но вдруг дверь открывается и на пороге появляется Любаша! С корзинкой. Заметила нас, на меня взглянула так, будто впервые видит, и, обогнув соседнюю избу, направилась по дороге в лес.
Что же это такое? Неужели Любаша заодно с бандитами? Можно было допустить, что она перестала помогать большевикам. Такое еще понятно: Синкевич мог просто не доверять дочери бандита. Но помогать врагам Советской власти, это уж слишком! И корзина. В ней, очевидно, продукты. Не помня себя, я поднял винтовку.
— Ты с ума сошел! — удержал меня парень из Заполья.
— Убью!
— Приказ забыл?
Начинаю рассуждать: если убью Любашу, то нарушу приказ командира, этого, знаю, делать нельзя. Но гнев ищет выхода. А если… если дать ей пощечину? Бросаюсь вдогонку. Любаша ускоряет шаги.
— Стой, — кричу, прикладывая винтовку к плечу. — Стой, стрелять буду!
Девушка останавливается. Ждет, пока подойду.
— Чего тебе? — спрашивает с легкой иронией.
Ворочаю челюстями, скриплю зубами, а язык не слушается. Синие глаза Любаши начинают излучать знакомый мне теплый мягкий свет.
— Стреляй, если у тебя право на это есть. Только, по-моему, приказа задерживать меня не было.
Сбитый с толку, я не знаю, что предпринять, гляжу на нее выжидающе.
— Дурачок, — показывает она кончик языка и уходит.
Мне вдруг все стало ясно. Любаша вошла в доверие банды и помогает нам.
Группой, оставшейся на этом берегу, командовал фельдшер, тот самый друг Синкевича, который лечил меня. Предупрежденный нами, он подал знак, и все вслед за Любашей бесшумно углубились в лес. Пересекли небольшую поляну с низким кустарником, обошли высохший пруд. Любаша остановилась. Поставила корзину и, заложив четыре пальца в рот, лихо несколько раз свистнула. Ей ответил свист из лесу.
— Ложись! — тихо скомандовал фельдшер.
Мы залегли недалеко от Любаши и видели ее хорошо. Она кого-то ждала. Спустя минут пять показался человек. Он фамильярно ущипнул девушку за щеку и поинтересовался новостями.
— Новости плохие, — ответила она. — Из Дворца сюда движутся войска с пушками…
— С пушками? — вытянулось лицо бандита. — Ты точно знаешь, что у них пушки?
— Сама видела. Шесть штук. Мама послала меня предупредить вас.
— Тогда скорее идем! — сказал бандит и, повернувшись, побежал назад, видимо, к своему лагерю.
Фельдшер снова подал команду, и мы ускоренным шагом двинулись за ним.
Вышли к открытой поляне. Видим, бандиты туда-сюда мечутся, как табун диких лошадей, застигнутых в степи грозой. Сбились в кучу.
— Огонь!
Дружно стреляем. С противоположной стороны поляны в бой вступает группа Метельского. Бандиты отстреливаются вяло.
Любаша вдруг появляется на коне в гуще мечущихся врагов. Серик — лошадь Марича — взвивается под девушкой на дыбы, круто поворачивается на задних ногах.
— Быстрей, быстрей, — кричит она бандитам. — Подходит полк красногвардейцев, — и размахивает наганом.
У меня сперло дыхание: они же убьют ее!
Марич устанавливает пулемет. Ему помогает Радкевич. Целюсь в них, но сразу не попадаю. Пулемет дает две короткие очереди, потом захлебывается. Марич комично подымает вверх руки и, перед тем как уткнуться лицом в траву, почему-то отбегает в сторону.
К пулемету подскакивает Любаша.
— Не трогать! — выкрикивает она, наставив дуло на обернувшегося к ней отца.
Одно мгновение девушка борется с собой. Одно мгновение. Я вижу презрение в ее устремленных на Радкевича синих глазах. Звучит выстрел — и Петро падает.
…Банда разгромлена. Лес покидаем с песнями. Впереди колонны идут Метельский и Любаша. Издали наблюдаю за ними. Задаю себе вопрос: мог бы я совершить такой самоотверженный поступок, как Любаша? Хватило бы у меня самообладания и воли, если бы потребовалось убить предателя-отца?
Метельский подзывает к себе фельдшера. Тот достает из санитарной сумки пузырек, подает Любаше. Она нюхает.
Когда моя шеренга проходит мимо них, Юрий кивает мне. Выхожу из строя.
— Степа, — говорит Метельский, — отведи Любашу домой. Ей плохо.
У девушки измученное лицо, болезненный вид. Она дрожит мелкой дрожью, так что зубы выбивают беспрерывную дробь.
— Домой? — переспрашиваю.
— Ну да, домой. К себе домой, — объясняет Метельский. — Вечером я отвезу ее в Бобруйск. Здесь ей оставаться опасно.
Колонна уходит. Мы остаемся вдвоем. Я вскидываю винтовку на плечо и беру Любашу под руку.
— Пошли, — говорю как можно ласковее. Для утешения ничего подходящего подобрать не могу, кроме довольно неудачной стереотипной фразы: — Не расстраивайся, всякое в жизни бывает.
Девушка освобождает свою руку, останавливается, глядит на меня в упор:
— Что бывает?
— Всякое…
По ее дрожащим губам пробегает улыбка:
— Чудак!
Понимаю, она смеется надо мной. Ну и пусть! Только бы отвлеклась от мыслей о случившемся в лесу.
Шагаем молча. Вдруг Любаша спрашивает:
— Думаешь, каюсь, что убила отца? Нисколько. Только мать жаль. Она не поймет. А мне, Степа, очень обидно было: с кем он связался? С кулаком Маричем! Против кого пошел? Против таких же, как сам, батраков, против революции. Кого защищал? Помещика Жилинского!..
Я невольно замечаю, что Любаша стала говорить, как Метельский: ставит вопросы и сама отвечает на них.
— Степа, а ты будешь приезжать ко мне в Бобруйск?
— Конечно.
— Метельский тоже обещал. А правда, Степа, он хороший человек? — И, не ожидая моего ответа, продолжает: — Умный, настоящий большевик. Про него Синкевич говорит: «Гордость нашей партии»…
Вечером я проводил Любашу с Метельскпм до Заполья. На обратном пути решил проведать Михася Горошка, с которым в свое время работал у Марича. Тогда мы с Митей Градюшко недолюбливали его. Он был старше нас всего лет на пять-шесть, но разговаривал тоном наставника. И жизненное кредо его: «Без хитрости и обмана не проживешь» — нам претило. Твердо придерживаясь этого правила, он избежал мобилизации на германский фронт и во время войны обзавелся небольшим хозяйством. Хотелось узнать, как он теперь живет, не стал ли сознательнее.
Еще в сенях почувствовал, что в доме веселье, оттуда слышались голоса, смех, звон посуды. Открываю дверь и подаюсь назад — комната полна народу. Оказывается, здесь свадьба. Михась женится. Он увидел меня, подскочил. Сразу окружили гости, усадили за стол. Чарку наливают. Отказываюсь. Как неприятно: вокруг кровь льется, а тут пьянствуют!
— Не обижай невесту, — просит подвыпивший жених и чуть не плачет.
Гости поддерживают его:
— Милый, быть на свадьбе да не выпить — грешно…
— Пей, чтобы курочки велись, чтобы пирожки пеклись.
От одного запаха водки у меня кружится голова.
— За жениха и невесту!..
Невеста мне нравится. Интересная. Она берет меня за локоть, заглядывает в глаза и обращается на «вы»:
— Выпейте, вы уже взрослый!
За это я готов был ее расцеловать. Взрослый! Конечно, мне без малого семнадцать!..
Беру из ее рук стакан, выливаю в рот содержимое. С непривычки обжигает горло, печет в груди. Но мне хочется выглядеть старше. Подносят второй стакан, выпиваю и его.
Конечно, быстро захмелел. Невеста пригласила танцевать. Отказался:
— При оружии нельзя.
— Так бросьте винтовку.
Бросить винтовку?! Ишь чего захотела. Меня взорвало. Этим людям все одно: есть революция, нет революции. Стукнул кулаком по столу:
— Граждане, вы… сволочи! И я тоже!.. Люди за Советскую власть жизни свои отдают, а мы тут гуляем… Позор!
— Заберите у дурака оружие! — советует кто-то жениху.
— Разой-дись! — срываю винтовку с плеча, — разойдись, стрелять буду!
Поднялся визг, гвалт. Все шарахнулись кто куда. Я победным шагом, пошатываясь, направился к выходу.
От Заполья до Дворца километра два. Первую часть пути до бугра, где Птичь делает крутой поворот, я шел довольно медленно. И голова отяжелела, и одеревеневшие ноги плохо слушались. Но только поднялся на бугор, хмель с меня сразу сошел: со стороны имения услышал истерические женские крики, одиночные хлопки выстрелов. Я кинулся туда сломя голову.
Прибежал и увидел жуткую картину. Враги жестоко отомстили Метельскому за разгром банды. Дом его догорает. Но этого кулачью казалось мало. Они открыли стрельбу, не позволяя родным Юрия вырваться из горящего дома. Милиционерам удалось отогнать бандитов, но злодейство уже было совершено. В пламени пожарища сгорели брат и сестра Метельского.
Юрий вернулся через день. Я и поныне вижу его убитое горем лицо, слышу его слова:
— Ты считаешь себя виновным, Степа? Может быть, в некоторой степени ты действительно виноват. Но главную ответственность я должен взять на себя… Партия большевиков с первого дня революции призывает нас к бдительности. Враг, говорит она, хитер, коварен. Сам он никогда не сдается и будет мстить до последнего вздоха. Запомни это, Степа!
9
Проснулся я почему-то позже обычного. Дома никого не было, а с улицы доносились взволнованные голоса. Что бы это могло значить?
Быстро оделся, вышел. У соседней избы, смотрю, собралось все население Дворца — и стар и млад. Шум, гам стоит немыслимый. Несколько человек говорят одновременно, отчаянно жестикулируя, перебивая друг друга. По отдельным словам, которые удалось разобрать, понимаю: случилось что-то страшное!
На стене избы замечаю белый листок. Направляюсь к нему и еще издали читаю слова, набранные крупным шрифтом: «Социалистическое отечество в опасности!».
Вот, оказывается, в чем дело! Германское правительство не желает мира, немецкие генералы собираются задушить нашу революцию и снова посадить нам на шею разных жилинских да Журавских. Думают, раз царская армия больше не существует, а советская еще не создана, значит, нас можно взять голыми руками. Дудки! Не выйдет! Мы уже сами научились оружие в руках держать!
Пока я читаю листовку и размышляю, в толпе понемногу наступает тишина. Тут же слышится, как всегда, спокойный, тягучий голос дядюшки Егора:
— Граждане-товарищи! Тут вот Юра… товарищ Метельский, правду говорил, что все мы супротив злодеев пойдем. И я тоже. А почему? Потому что не за царя, а за свою народную власть. Раньше царь Николай от народа правду скрывал? Скрывал. А Ленин от нас секретов не секретничает. Он прямо, по-военному, говорит, что к чему. Вот и выходит, граждане-товарищи, должны мы сказать товарищу Ленину: «Дорогой наш советский начальник, командуй нами, а мы за тобой в огонь и воду пойдем!»
Дядюшка Егор перевел дыхание, оглядел односельчан и продолжал:
— Я, граждане-товарищи, сам почитай что с Лениным разговаривал. Прихожу, значит, к тому ходоку, что из-под Слуцка. Спрашиваю…
— Хватит, Егор, сколько можно! — широко зевает подкулачник Бантыш.
Дядюшка Егор смотрит на него осуждающим взглядом, качает головой:
— Тот, кто про Ленина слушать не хочет, тот самая настоящая контра, и больше ничего. Да, — поворачивается он опять к сходу, — так вот, прихожу я к нему, к ходоку, и задаю такой вопрос: «Скажи мне, человек, ты на самом деле Ленина видел или брешешь, брешешь да не поперхнешься?» Он крестится: «Видал, говорит, ей-богу, даже разговаривал с ним. Ленин, говорит, сильно простой. Про семью выспрашивал, про детей, корову имею ли». — «А может, я это снова ему, то был не Ленин?» Ходок обратно крестится: «Провалиться мне на месте. Беспременно он!» Граждане-товарищи! Кто за Ленина, прошу голосовать. — Перед лесом поднятых рук дядюшка Егор довольно улыбается: — Вот какое оно дело.
Было это 22 февраля восемнадцатого года…
Вскоре немецкие части вступили на территорию Белоруссии.
В Городище сформировался партизанский отряд. Командиром его стал Юрий Метельский.
Мы двинулись навстречу врагу.
На одном из участков фронта действовал немецкий бронепоезд. Нам поручили уничтожить его.
В тыл противника по разным дорогам Метельский решил направить несколько мелких групп. Он построил отряд и предложил выйти вперед тем, кто работал на железной дороге. Вышли пять пожилых железнодорожников и шестой — партизан Машера.
— Разве вы, товарищ Машера, на дороге служили? — Метельский пристально посмотрел на бывшего солдата.
Тот потупил глаза:
— Не служил, товарищ командир.
— Зачем же из строя вышли?
— Хочу бронепоезд взорвать.
— Это похвально, — заметил Метельский. — Однако командира обманывать не следует. Операция, товарищ Машера, предстоит рискованная.
— Потому и прошусь. Я уже имел дело с бронепоездом.
— Когда?
Вместо ответа Машера присел, скинул правый сапог, быстрым движением сорвал портянку: на ноге было всего два пальца.
— Самострел, товарищ командир. В шестнадцатом году меня против немецкого бронепоезда посылали…
— Так вы что, струсили?
Машера энергично замотал головой:
— Ничего подобного. Не струсил. Но за царя умирать не хотел. Другое дело сейчас…
Я попал в ту группу, что и Машера. Командовал нами пожилой железнодорожник с вздутой от зубной боли щекой. В течение всего пути он ни слова не произнес. Приказы отдавал взглядом.
— Болит? — каждый раз участливо спрашивал Машера. — У меня проволока есть, давайте выдерну.
Железнодорожник не отзывался.
— Зря мучается, — глубоко вздыхал Машера. Вид у него был такой, словно его самого беспокоила зубная боль. Я невольно подумал: «Добряк. Мягкосердечный человек. Такой и врага не убьет, пожалеет». Спрашиваю:
— Машера, ты на фронте стрелял?
— Как это на фронте быть и не стрелять? Все время на позиции торчал. Больше года.
— Сколько же ты немцев убил?
Наверняка он не знал. Может, много, а может, и ни одного. Не до того было, чтобы по пальцам считать: все время пришлось, как раку, назад пятиться.
— Скорее всего, ни одного, — замечаю я, довольный тем, что могу разбираться в людях.
— Одного-то на тот свет точно отправил, правда, не немца, — улыбается он.
— Кого же?
— Своего командира взвода. Паршивый офицеришка был. Нашего брата солдата «скотиной» обзывал. Как-то поездом ехали, так ночью я его за ноги и в окно…
В полдень добрались до насыпи недалеко от маленькой станции. На путях никаких признаков жизни. Только поземка крутит. Но вскоре появляется старичок в кожухе с поднятым воротником. В руках у него флажки — стрелочник. Командир приказывает нам залечь. Сам направляется к старичку. Наблюдаем за ними. Видим, закуривают. О чем-то говорят, стрелочник рукой показывает на юго-запад. Командир подзывает нас:
— Товарищ железнодорожник заверяет, что бронепоезд скоро ожидается. — Командир говорит тихо, преодолевая боль. Рукой держится за щеку. Потом обводит группу глазами, останавливает взгляд на мне. — Шутов, ваша задача захватить станцию. С вами пойдут Горобчик, Машера, Ваксман…
Станцией овладеваем без единого выстрела. Врываемся внутрь, открываем одну дверь за другой — в помещениях ни живой души. Но вот слышу зычный крик Машеры:
— Руки вверх!
Бросаюсь на голос. В крохотной комнатушке у телеграфного аппарата застаю испуганную девушку с поднятыми руками.
— Кто такая? — спрашиваю у нее с напускной строгостью.
— Лида, — отвечает она тихо, боясь шевельнуться.
— «Лида» — это не ответ.
— Говори как полагается, иначе застрелю, — кричит Машера. — Докладывай, где немцы?
— Не знаю, — расплакалась девушка. — Они сюда не заходили.
— Можете опустить руки.
Машера косо посмотрел на меня, но винтовку убрал.
Из короткого допроса узнаем, что девушка не местная. Немцы из озорства насильно привезли ее сюда из Белостока. У нее здесь нет ни родных, ни знакомых, и ей приходится жить прямо на станции.
— Вы партизаны? — спрашивает она. — Возьмите меня с собой.
Я ничего обещать не могу. Оставил ее с Горобчиком, сам с остальными возвратился к группе. Наши уже успели у двух рельсов вытащить костыли и затаились недалеко от насыпи.
Небо неожиданно потемнело. Разыгрался страшный буран. Вокруг нас слышались вой, рычание, визг. Казалось, к станции собрались все звери мира и терзают друг друга.
— Лезь сюда, — дернул меня кто-то за рукав.
Оглядываюсь — стрелочник приглашает под свой кожух.
«Молодец, — похвалил я про себя старика, — на нашу сторону перешел». Однако не упрекнуть его не могу, такой уж у меня характер:
— Ты, дед, белорус, а служишь немцам. Тебя за такое к стенке поставить надо.
Старик сердито зашипел:
— Голова без ума, что фонарь без огня! Почем знаешь, может, и я партейный!
— Как же так…
— А это не твое собачье дело! — в сердцах перебил он меня. — Ты, лоботряс, лучше вон туда гляди. Бронепоезд идет.
Я смотрю, но ничего не вижу. Только чуть слышу глухой гул рельсов. Постепенно он нарастает. Раздаются короткие, отрывистые гудки.
— Плачет. Водички просит, — объясняет стрелочник. — Пару без воды не бывает, а колеса без пара сил не имеют.
— Приготовиться! — подает голос командир.
Мы все — сплошное внимание. Сейчас паровоз наскочит на незакрепленные рельсы и свалится. Но гул почему-то медленно затихает. Неужели там обнаружили?..
Напрягаю зрение до боли в глазах и все же не вижу ни зги.
Поезд опять трогается, набирает скорость. И вдруг… скрежет, лязг железа, грохот! На нас обрушивается град щебенки и мерзлой земли. Сквозь снежную пелену замечаю, как поднявшийся на передние колеса паровоз кренится, валится набок и летит под откос, увлекая за собой бронированные площадки, вагоны, вывороченные рельсы и шпалы.
— Вперед!
Выбегаем на насыпь, открываем огонь по нескольким случайно оставшимся в живых оккупантам.
— Вперед! За Ленина! — слышу рядом с собой голос стрелочника.
Бой продолжается не больше десяти минут. И вот уже нас созывают.
Подхожу к командиру. Спрашиваю, как быть с девушкой, которая просится в отряд. Ее ведь нельзя оставить: немцы на ней выместят зло.
Командир по-прежнему держится за щеку. Но лицо его не такое мрачное.
— Так она уже здесь, — улыбается.
В отряд возвращаемся радостные. Машера, идущий впереди, запевает:
Эй, ухнем, эй, ухнем…Все подхватывают:
Еще разик, еще раз!— Прекратить песню! — кричит командир.
Машера виновато оглядывается. Ему неудобно, что нас подвел.
— Ничего не поделаешь! Зубная боль — дело неприятное, — с сочувствием произносит он едва слышно.
10
Наконец-то мирный договор с Германией подписан и военные действия на нашем фронте прекратились. Партизанский отряд возвратился в свой район, и бойцы разошлись по домам.
Здесь нас ждало много неотложных дел. Нужно было помочь бедноте сорганизоваться в коммуны, разгромить кулаков, заняться воспитанием и обучением народа, особенно молодежи. Понятно, что большая роль в этом выпала на долю комсомола. А во всем-то нашем районе было четыре комсомольца.
Помню, к нам приехал представитель уездного комитета партии старый большевик Миронов. Собрал нас в Заполье на беседу.
— Комсомол — правая рука партии, — говорит. — Вы, комсомольцы, обязаны помочь нам поднять народ на строительство новой жизни. Прежде всего нужно молодежь воодушевить, повести за собой. Но сейчас вас пока мало, а надо, чтобы комсомольская ячейка была в каждом селении.
Миронов рассказал нам, как оформить ячейки, с чего начать воспитание молодежи. Советовал ликбезом заняться, организовать самодеятельность, проводить молодежные вечера.
— Понятно, товарищи, какая ответственность легла на вас? — спросил он в заключение.
— Понятно, — с жаром ответили мы.
Каждый из нас, я это чувствовал по себе, рвался побыстрее взяться за работу.
За три дня у меня записалось восемь ребят и ни одной девушки. В чем дело? Я говорил с ними, рассказывал о задачах комсомола. Они поддакивали, соглашались, но, как только дело до записи доходило, наотрез отказывались. Некоторые даже прятались от меня. В том числе и Лена Заболотная.
А я на нее так надеялся! Знал ее еще с тех пор, когда она носила обеды отцу, работавшему у кулака Марича. Боевая такая была, энергичная. Знал: вступи она в комсомол, за нею потянутся и другие девушки.
Решил пойти к ней. Вызываю на улицу. Садимся на завалинке. К удивлению моему, долго агитировать ее не пришлось.
— Я согласна, — запальчиво заявляет Лена.
— Очень хорошо. Так я записываю тебя.
— Нет, не надо. Завтра запишешь. Приходи пораньше.
На следующий день являюсь к Заболотным чуть свет. Встречает меня мать Лены. Глядит так, будто я наставил на нее дуло нагана:
— Дочь ушла, и не скоро будет.
Странно! Закрываю за собой калитку, случайно бросаю взгляд на поле. Вижу Лену! Она бежит со всех ног. Понятно: от меня скрывается.
Бросаюсь вдогонку.
— Лена, Лена, остановись!
Не останавливается. А когда догоняю, плачет.
— Чего разревелась? Не хочешь в комсомол вступать — не надо. Насильно не тянем.
Девушка понемногу успокаивается. Рассказывает, что накануне в церкви поп объявил: все поддерживающие Советскую власть будут преданы анафеме.
— И ты испугалась? — спрашиваю смеясь.
— Не я — мама. Она грозится выгнать из дому, если вступлю в комсомол.
Ссылается на запрет матери и другая девушка. Она еще добавляет:
— В комсомоле, говорят, будут учить ребят и девчат спать под одним одеялом.
Во мне закипает злоба. Враги распоясались!
Дома тоже неприятность. К моей матери, оказывается, приходили посланцы из разных сел — от кулаков и попов. Уйми, говорят, своего сына. Если бог не накажет его за «порчу» наших детей, найдутся на земле исполнители его воли. Так и знай: будет мутить людей — живым ему не ходить. Мать была религиозной. Угроза тоже повлияла. Словом, только я переступил порог, она кинулась ко мне со слезами.
— Степа, зачем бога гневишь? Он накажет тебя, сыночек, непременно накажет. — И раздраженно добавила: — Я запрещаю! Не нужен мне комсомол!
— Мама, я не маленький и буду делать то, что мне подсказывает совесть!
— Не посмеешь!
— Что ж, тогда прощайте. Придется уйти из дому.
Это подействовало! Она взяла «грех» на себя, лишь бы остался…
Первые собрания ячейки проходили в нашей хате. Помню, мать и любопытная соседка часами, затаив дыхание, простаивали у дверей, прислушиваясь к нашим разговорам.
Может быть, благодаря этому мать уяснила наши задачи и не чинила препятствий, когда позже в комсомол вступали мои младшие сестры.
Наша ячейка постепенно росла. Однажды на собрание пришла Лена Заболотная, робко спросила:
— Можно мне побыть?
— Можно.
— Но я не комсомолка.
— А у нас разговоры не секретные, — ответил я ей.
Девушка поблагодарила и села в сторонке. Молча просидела до конца. После подошла ко мне:
— Я тоже хочу вступить в комсомол.
— Матери не боишься? — спрашиваю ее. — Она ведь тебя из дому выгонит.
Девушка застенчиво улыбнулась, опустила голову:
— Ничего, не выгонит!
А как Лена волновалась, когда рассматривали ее заявление! Она до того растерялась, что собрание разрешило ей говорить сидя.
Зато потом боевой и активной комсомолкой стала, хорошим агитатором. Причем боролась за Советскую власть не только словом, но и оружием. Когда в двадцатом году белополяки пришли в Белоруссию, Лена добровольно вступила в Рудобельскнй партизанский отряд. Ее тогда включили в группу девушек-разведчиц, возглавляемую молодой коммунисткой Любашей.
11
Июль двадцатого года. Войска панской Польши хозяйничают на значительной территории Белоруссии и правобережной Украины. Правда, они уже почувствовали на себе силу июньского удара Красной Армии. Тогда контрнаступление проводили войска Юго-Западного фронта. Теперь к активным действиям готовится и Западный фронт, возглавляет который молодой командующий М. Н. Тухачевский.
Я тоже становлюсь бойцом Красной Армии. Не красногвардейцем, не партизаном, а красноармейцем! Впервые получаю военную форму. Не могу налюбоваться фуражкой со звездой. Примеряю ее, снимаю и снова надеваю. Бывалые бойцы подтрунивают:
— Усы бы, Шутов, отпустил, что ли, для солидности. А то какой ты красноармеец! Так — мальчишка!
Шутки незлобивые, дружелюбные, но я краснею и злюсь…
— Смирно! — подают вдруг команду.
Все вскочили. Оглядываюсь: приближается высокий блондин в очках. На гимнастерке алеет нагрудный знак командира Красной Армии. Мы уже знаем, что в нашей дивизии все командиры знаки носят — таков приказ. Пока разглядываю, он подходит к нам, новичкам, говорит:
— Здравствуйте, товарищи! Будем знакомы, я комиссар полка. Фамилия моя Леонов. А вы — белорусы?
— Белорусы.
Комиссар обращается к ближайшему (а ближайшим оказался я):
— Комсомолец?
— Так точно, — отвечаю.
— Откуда родом?
— Из Дворца.
Я думал, это всем понятно. А комиссар — москвич. Белоруссию плохо знает. Лицо его выражает крайнюю степень удивления:
— Как из дворца?! У ваших родителей собственное поместье?
Остряки не замедлили воспользоваться удобным моментом. Посыпались шутки:
— Сразу видать, что из буржуев.
— Он, товарищ комиссар, приспособленец…
Комиссар сразу все раскусил, улыбается. А я спешу объяснить:
— «Дворец» — это так селение называется, бывшее имение помещика Жилинского. Мой отец у него батраком был.
Леонов обращается к другим, заботливо расспрашивает, кто откуда, чем до армии занимался. Интересуется, как мы понимаем обязанности бойца Красной Армии. Потом обращается к старослужащему красноармейцу:
— Товарищ Марченко, расскажите им о своей службе, о нашей части.
— Есть, рассказать, — отчеканивает боец и отзывает нас в сторону. Садимся на траву. Вокруг собираются все свободные от службы бойцы. Они помогают Марченко «наставить нас на путь истинный»…
С малых лет любил я лошадей и верховую езду. Еще работая у Жилинского, часто забегал в конюшню. Мне нравилось, когда лошади при моем появлении поворачивали головы, фыркали и прядали ушами. Нравился запах сухого сена. Даже пот и тепло, исходившие от лошадиных тел.
Поэтому не трудно представить мое состояние, когда командир разведки Коваленко, молодой человек с густыми, как у Буденного, усами, в торжественной обстановке вручил мне боевого коня. Высокого, стройного. С блестящей, каштанового цвета, шелковистой шерстью, с быстрым взглядом.
— Теперь он твой, — заявил Коваленко. — Зовут Каштаном. Береги его.
Беру из рук командира повод. Пытаюсь ласково похлопать коня по крупу. Куда там! Каштан встает на дыбы, глаза его мечут молнии.
— Не беспокойся, подружите, — успокаивает Коваленко и приказывает: — Садись!
Каштан норовит сбросить меня. Становится на задние ноги, а передние вскидывает…
Кто служил в кавалерии, знает, когда начинается и когда кончается у конника день. На отдыхе, в походе, на марше лошадь всегда должна быть чистой, сытой и, если можно так сказать о ней, в полной боевой готовности. Это в мирное время. А на фронте, да еще когда ты почти все ночи проводишь в разведке, тебе вообще ни до сна, ни до еды. И время и пищу отдаешь своему другу. Бывало, с седла слезть ты не в силах, а если слез — накорми коня, напои, почисти. Но как ни тяжело нам было, никто не роптал. А я так и по нынешний день горжусь тем, что служил в кавалерийской части, и службу эту поминаю добрым словом.
Конница наша настолько прославилась своими дерзкими рейдами и внезапными налетами, что одно имя Буденного наводило на врагов ужас.
Помню, наши войска уже вышли на подступы к Висле. Мы, как всегда, вели разведку. Светало. Поднялись на возвышенность, а у подножия ее населенный пункт раскинулся. Розовое марево расползается, из него выступает костел, ручей, деревянный мостик, высокий каменный забор. За забором в густой зелени виднеется большой дом с остроконечной крышей и башенками.
«Помещик, — думаю я. — Наверное, Радзивилл в таком же замке жил». На память почему-то приходит рассказ отца о самодурстве князя Радзивилла.
Летом, в июле месяце, князь решил на розвальнях прокатиться. По его распоряжению вместо снега работники вдоль дороги соль рассыпали. Уйму соли! Слой — в три пальца толщиной. Это, когда соль ценилась чуть ли не на вес золота!..
Населенный пункт начинает просыпаться. Петухи поют, собаки лают, коровы мычат. А лошадей не видно и не слышно, — значит, делаем вывод, военных нет. Беремся за повода и собираемся следовать дальше. Но наши кони начали вдруг нервничать, бить копытами.
— В укрытие! — командует Коваленко.
Только успели спешиться и отвести коней в зелень, как внизу появляются конные белополяки. Пересекают ручей, заезжают в помещичью усадьбу.
— Не больше полсотни, — успевает подсчитать командир взвода, разглядывая всадников в бинокль. — Сейчас у нас будет «язык».
Белополяки расходятся. Трое остановились на мостике. Их догнали еще двое. Хохочут так громко, что нам слышно.
— Омельчук, Лукин, Шутов, взять «языка»! — приказывает Коваленко.
Идти туда — большой риск. Но ничего не поделаешь. Всю ночь мы мотались в поисках пленного и не встретили ни одного вражеского солдата. Теперь надо использовать момент.
Коваленко объясняет, как лучше выполнить задачу. Поляки разбредутся по избам. В одну из них надо незаметно проникнуть и тихо захватить «языка». Если враг обнаружит нас, дать два выстрела. По этому сигналу командир с ребятами придет на выручку.
Незаметно, переползая от укрытия к укрытию, спускаемся по глинистому склону к огороду, посреди которого стоит перекошенная изба. Замечаем направляющегося к избе ляха. Омельчук не может не сострить:
— Сознательная рыба и без приманки на крючок идет.
Подсолнух, высокие стебли кукурузы, вьющийся на тонких длинных шестах хмель позволяют нам приблизиться к хате. Несколько шагов остается до нее, как вдруг слышим испуганный возглас:
— Езус Мария!..
Перед нами стоит старый поляк из местных жителей. Дрожит. Открыл рот и не может закрыть.
— Цыц! — подносит Лукин палец к губам, а потом показывает на винтовку. — Пискнешь — и конец тебе.
— Езус Мария!..
Омельчук подносит старику под нос кулак:
— Молчи!
Разглядев на наших головных уборах красные звездочки, поляк вдруг протягивает к нам руки:
— Красноармейцы! Вот хорошо. Мы вас давно ждем…
Из избы вырывается пронзительный крик женщины и детский плач. Омельчук остается со стариком. Мы с Лукиным бежим в избу.
Словами трудно описать ужасное зрелище, которое предстало нам. Пьяный пилсудчик размахивает наганом перед лицом молодой женщины. У нее окровавлен рот, разорвано платье. Двое малышей, уцепившись за юбку матери, заливаются горькими слезами.
Миг — и молодчик в наших руках. Засовываем ему тряпку в рот, связываем. Пришедшая в себя женщина без колебаний срывает с кровати самотканое рядно, бросает нам:
— Заверните эту свинью.
Вынести белополяка не удается. На шум сбежались его друзья.
Отстреливаемся. Позиция наша более выгодна, мы находимся в укрытии. Но число врагов растет.
Даем условные два выстрела подряд. И тут же слышим близкий топот копыт. Неужели наши так быстро? Нет — поляки!
Чтобы не пострадали женщина и дети, мы перебегаем в огород. Отсюда, скрываясь за кучей хвороста, бьет Омельчук. Старый поляк тоже стреляет по своим солдатам.
— Невестку изнасиловать хотели, псякревы!.. Невестку мою изнасиловать хотели! — повторяет он после каждого выстрела.
Кольцо врагов неумолимо сжимается. Поляки не торопятся. Они уверены, что нам не выскользнуть.
Но слышится приближающееся русское «ура».
У Коваленко всего одиннадцать человек — и такой мощный крик!
Поляки, окружившие нас, разбегаются. Мы их преследуем.
А в стороне от речки польские всадники несутся на сближение с нашими разведчиками. В воздухе с обеих сторон взвиваются, сверкают клинки. И вот конники уже сшиблись, начали рубиться. Поляков значительно больше, они теснят разведчиков.
Все это происходит рядом, но мы не можем прийти на помощь Коваленко: у нас иссякли патроны, к тому же разбежавшиеся было враги опомнились и начали возвращаться.
Положение становится угрожающим. Но тут вдруг польские кавалеристы поворачивают коней и во весь опор улепетывают назад. Слышны только ругательства да панические выкрики:
— Пся крев! Буденный!
— Тикай, Буденный!
Мы оглядываемся, ищем глазами Семена Михайловича, но его, конечно, нет. Оказывается, поляков ввели в заблуждение пышные усы Коваленко. Это и спасло нас.
12
Из дому пришло письмо. В конверте коротенькая печальная записка от Любаши.
«Степа, — пишет она, — не могу от тебя скрыть: в прошлом месяце в боях с белополяками погиб мой муж и твой старший товарищ комиссар кавалерийского эскадрона Юрий Метельский. Командир части, который известил меня об этом, сообщил, что Юра был хорошим комиссаром и честным коммунистом.
Степа, я жду ребенка. Хочу сына и мечтаю, чтобы он вырос большевиком, таким же, как его отец.
Громи пилсудчиков.
Метельская».
С презрением относился я к тем, у кого глаза «на мокром месте». А тут сам крепился, крепился, и заплакал. Коваленко заметил это, но виду не подал. Только вечером, выбрав время, когда мы остались одни, спросил, что случилось.
Показываю письмо Любаши. Он несколько раз перечитывает его, возвращает мне и, не сказав ни слова, уходит.
Я не обиделся. Командир полковой разведки был отважным воином, хорошим, чутким товарищем, мог как следует выругать провинившегося подчиненного, но запасом ласковых слов, способных утешить, не располагал. «Ладно уж», скажет, или «Чудило» — и все.
Через полчаса меня вызвал комиссар полка. Вид у него усталый. Под глазами темные круги. Голова забинтована. На марле пятна просочившейся крови. Он указывает на стул и сам садится. Спрашивает:
— Письмо, которое вы показывали Коваленко, при вас?
— При мне, товарищ комиссар.
— Покажите.
Читает. Слежу за выражением его лица. Оно непроницаемое. Никаких признаков волнения. Лишь когда поднимает голову, я вижу в глазах комиссара горечь.
— За последние три дня, — говорит он, — в нашем полку восемьдесят убитых и раненых. Из них пятьдесят два большевика… А членов партии у нас, должен вам сказать, гораздо меньше, чем сочувствующих. Почему же, товарищ Шутов, получается так, что больше всего мы теряем партийных?
Я пожимаю плечами. Начинаю говорить что-то невразумительное.
— Так вот знайте, — выслушав меня, заметил он, — коммунисты погибают чаще, потому что в бою идут всегда впереди. Ваш друг, Метельский, был настоящим большевиком. Вы гордиться можете знакомством с ним. Наша партия сильна именно такими верными сынами.
Подперев забинтованный лоб рукой, комиссар говорит тихо, не торопясь. Его ждет много важных дел, но беседу с рядовым бойцом он считает делом не менее важным.
— Вот недавно пулеметчик, раненный в ноги, выполз из окружения и вынес пулемет. Он потерял много крови и умер в лазарете. Думаете, кто это был? Коммунист! Или еще. Сын киргизского народа ведет неравный бой против нескольких польских всадников. Юноша ранен, но нашел в себе силы выбить из руки шляхтича клинок, поймать его на лету и рубить врагов двумя саблями. Этот смельчак тоже коммунист!
— А разведчица Катя Бельская, — продолжал комиссар после небольшой паузы. — Она попала в руки белополяков. Ее пытали, раскаленными докрасна шомполами выжгли на ее теле звезду. Девушка умерла мучительной смертью, но враги так ничего и не могли узнать от нее. Вы, конечно, понимаете, что Катя Бельская была большевичкой. Тысячи, десятки тысяч коммунистов отдали, не задумываясь, свою жизнь за то, чтобы остальным жить стало лучше. Но партия не слабеет, а даже укрепляется, ее ряды непрерывно пополняются. Вот так-то, товарищ Шутов.
Я вскочил. Стал руки по швам, неожиданно для себя выпалил:
— Товарищ комиссар, разрешите мне вступить в партию большевиков.
Леонов улыбнулся:
— В таком деле разрешения не требуется. Это личное дело ваше и тех, кто вас будет принимать. Что касается меня, то я считаю вас достойным и желаю успеха.
Поняв, что разговор окончен, я попросил разрешения идти. Комиссар согласно кивнул, но тут же задержал меня:
— Вы ответили Метельской?
— Не успел, товарищ комиссар.
— Постарайтесь сегодня же ответить, — посоветовал он. — Напишите, что в полку знают о ее горе и клянутся отомстить врагу за смерть Метельского…
Сутки идет проливной дождь. Речки разбухли, вышли из берегов. Мы промокли до нитки. От лошадей валит пар. Чтобы дать им хоть немного отдохнуть, спешиваемся, устало месим грязь, иногда бредем прямо по воде.
Мои товарищи почем зря клянут Пилсудского, всех буржуев на свете, вспоминают бога. Только я ничего не вижу, ничего не чувствую. Я на седьмом небе от счастья — сегодня меня приняли в партию.
К вечеру натолкнулись на новые позиции противника. Дождь наконец прекратился. Ветер разогнал тучи. Выглянуло долгожданное солнце!
Полк привел себя в порядок после похода и атаковал поляков. Слова комиссара Леонова о месте коммуниста запали мне в душу, и я все время старался поспеть туда, где сеча жарче. Ребята потом хвалили меня. Но самым приятным было то, что Коваленко, обычно скупой на похвалы, шутливо заметил:
— Ты, куманек, сегодня много капусты нарубил…
Ночью, чуть только вздремнул, вызвали в штаб.
Командир полка уже все знает, пожимает мне руку. Говорит:
— Молодец. Объявляю тебе благодарность. А сегодня ночью в разведку не пойдешь. Останешься на проводы комиссара. Он убит, и тело его мы отправляем на родину.
Слушаю командира, а смысла сказанного не пойму. Комиссара убили? Товарища Леонова? Не верится!..
И вот мы на станции. Товарный поезд. Духовой оркестр. На открытой платформе, украшенной полевыми цветами, обтянутый красным гроб. Короткие речи.
— Товарищ Шутов, ты самый молодой коммунист, выступи, — советует командир полка.
Послушно поднимаюсь на платформу, подхожу к гробу. Многое хочется сказать, но сердце щемит и дыхание захватывает.
— Клянемся тебе, товарищ комиссар, что большевики полка теснее сомкнут ряды! — голос звучит глухо, будто не мой. — Клянемся, что всегда будем на правом фланге борцов за Родину!..
13
Кончилась гражданская война. Изгнаны с советской территории войска оккупантов. Наша страна приступила к мирному социалистическому труду.
В один прекрасный день поступил приказ: меня увольняют из армии. Почему? Мой год, оказывается, еще не подлежит призыву.
Расставание трогательное. Своего боевого друга Каштана передаю молодому красноармейцу, парню из Вологды. Гляжу на него с затаенной завистью. Даю ему повод уздечки, а Каштан, нервно пританцовывая тонкими ногами, отфыркиваясь горячим паром, сует морду мне под руку.
После торжественной передачи коня Коваленко отводит меня в лесок. В глаза не смотрит, будто провинился передо мной.
— Ладно уж, не хнычь! — произносит после долгого молчания. У него морщится лоб. Говорит медленно, подбирая слова. — Мне тоже, того… трудно с тобой распрощаться. Все-таки вместе, того… сам знаешь, шляхту рубили.
— Спасибо!
Пожимаю его большую, крепкую ладонь, а перед взором встает комиссар полка Леонов. Мне кажется, что и он со мной прощается. Из-под толстых стекол ласково улыбаются синие, васильковые глаза. Они как бы спрашивают: «Так как же, товарищ Шутов, насчет фланга?» Отвечаю: «Клянусь, товарищ комиссар, и на гражданке всегда буду на правом фланге…»
Таких, как я, уволенных в запас, довольно много. До ближайшей станции нас провожают с музыкой. Коваленко шагает рядом со мной. Все время молчит. Но когда уже слышно отдаленное шипение маневровых паровозов, он, подкручивая усы, нерешительно заговаривает:
— Степа, понимаешь, просьба к тебе…
Командир рассказывает, что у него под Киевом есть девушка. В селе Бортничи. Одна осталась. Мать умерла, отца петлюровцы расстреляли. Красивая. Частенько пишет ему, интересуется «насчет любви». Он не отвечает. Почему?! Неудобно про любовь писать. Домой вернешься — еще на смех поднимут.
— Тебя, — протестую, — героя гражданской войны, на смех?! Тебя, которого сам Тухачевский за храбрость отметил в приказе?! Чудишь, Коля, чудишь!
Коваленко смущенно молчит.
— Напиши ей письмо, — просит он, глядя в сторону. — Напиши, что я человек дисциплинированный и с девицами посторонними не вожусь. А про героизм, про командующего — не надо…
Поезд, еще до нашего прихода набитый битком, должен был уйти в одиннадцать утра. Двинулся же только на следующее утро. И то хорошо! Счастливчики, которые заранее захватили полки, загромоздили мешками, узлами и чемоданами проходы, потеснились, освободив места и для тех, кто «проливал кровь».
Я втиснулся между пожилым мужчиной в форменной фуражке инженера-путейца и молодой женщиной, от холода закутавшейся в розовое бумажное одеяло с голубыми полосами.
У путейца красные влажные веки, большой рот. При разговоре у него обнажаются бледные десны. У соседки — темные печальные глаза. Они, казалось, вобрали в себя все страдания, перенесенные за последние годы нашим народом.
На скамейке против сидели пять пассажиров. Особенно запомнился матрос исполинского роста, светловолосый, с большими карими глазами. Скуластое лицо и тяжелый подбородок говорили о сильной воле. Одежду матроса составляли черный бушлат, брюки клеш. Но в руке вместо бескозырки он держал скомканный шлем.
У нас было тихо. А из других купе доносились голоса, иногда слышались брань, выкрики. Сначала я улавливал только отдельные слова, обрывки фраз. Потом за стеной кто-то злобно забасил:
— Ленин что — он не русский. Татарин вроде. Глаза у него какие? Узкие, азиатские…
От этих слов я вздрогнул. Посмотрел на матроса. Тот взглянул на меня, предостерегающе поднял руку: подожди, мол, не торопись!
Бас между тем продолжал:
— Ленин хитрый. Понял, что рабочий да мужик полками командовать не способные. Бывает, конечно, что и курица петухом поет… хи-хи-хи! Но если бы не царские генералы, нипочем бы Ленину не удержаться… Ленин их золотом приманил. Хитрый.
Матроса взорвало. Он вскочил, громко крикнул:
— Эй, контра, спусти воду! Не то я спущу!
В соседнем купе засмеялись. Путеец кашлянул в кулак. Глаза моей соседки одобрительно улыбнулись.
Бас откликнулся:
— Не стращай, не таких видали! Ишь какой командир нашелся!
Матрос локтями стал пробивать себе дорогу в сосед нее купе. Я хотел было двинуться за ним, но он легким движением руки посадил меня на место: один, мол, справлюсь.
— Контрреволюцию, гад, разводишь? — послышался голос матроса из-за перегородки.
— Сам ты гад! — огрызнулся бас. — Рот мне не закроешь. Теперь свобода. Что хочу, то и говорю.
— Правду говори. Будешь брехать про Ленина, дух из тебя вышибу. Понял?
— А что я брешу? — возмутился бас. — Мало в Красной Армии генералов? Ну скажи: мало?
— Не об этом речь, — парировал матрос. — Генералы и офицеры, которые в Красной Армии, сами к Ленину пришли. Он их не приманивал…
— Это все агитация.
— Нет не агитация! А что касается того, будто рабочий и крестьянин не могут полками командовать, так и здесь брехня. Сколько солдат армиями да дивизиями командовали, а ты— «не могут»!.. Возьмите, граждане, — обратился матрос уже ко всем пассажирам, — хотя бы Чапаева или Щорса. Какие же они генералы?
В вагоне послышался одобрительный гул. Моя соседка тоже оживилась:
— Правильно матрос говорит. Муж у меня батраком был. А теперь — командир Красной Армии. Главный начальник у него Блюхер. А сам Блюхер до войны на Мытищинском заводе вместе с моим братом работал.
Путеец кашлянул в кулак, потом спрашивает:
— Буденный, говорят, тоже будто из простых, казак с Дона.
По всему вагону слышатся голоса:
— Фрунзе кто? Сын фельдшера.
— У Щорса отец машинист.
— Егоров сам кузнецом был…
14
— В отпуск приехал? — спрашивает радостная мать. — На сколько?
Такой же вопрос задают при встрече товарищи, знакомые жители Дворца, Заполья, Городища.
— Насовсем, — отвечаю всем одинаково и от неловкости смущаюсь. — Отчислили. Молод, говорят, мой год еще не призывается.
В голосе матери улавливаю скрытое огорчение:
— Я думала, в отпуск. Считала, послужишь малость, потом в военную школу пошлют, красным командиром станешь. Как Настин сын…
Прямо удивительно, как быстро завоевала уважение Красная Армия!
…Внешне наш Дворец ничем не изменился. Те же убогие избы с прогнившими крышами, те же разбитые дороги, лучины, твердые, как камень, и черные, как земля, коржи из отрубей, лыковые лапти.
А люди изменились! Буквально на каждом шагу чувствовалось, что живут они по-новому, дышат свободнее, ходят смелее, смотрят на мир прямо, открыто, уверенно. И все дело в том, что это уже не батраки, не рабы помещика. Хозяйство Жилинского перешло в руки народа.
Сестра рассказала мне о знакомых.
— А Любаша как живет? — спрашиваю.
— У Любаши мальчик. Весь в отца — такие же нос, губы, густые брови. Хороший малыш… Тогда тетя Анисья забрала Любашу из Бобруйска. «Пусть, — говорила, — рожает дома». А теперь Любаша жалеет, что согласилась. Не может Анисья простить ей убийство Петра. Все время укоряет. И ребенка не любит. Прямо на людях говорит: «Комиссаренок Любкин спать мне не дает, так и хочется задушить».
Только подумал о том, как бы поговорить с Любашей, она сама заходит с ребенком. Я даже растерялся немного.
Любаша шутит:
— Как живем, товарищ командарм?
— Да как видишь: жив, здоров. — Стараясь скрыть волнение, неудачно шучу: —Проходи, садись, гостьей будешь.
Мальчик в самом деле поразительно похож на Юрия. Беру его ручонку:
— Какая малюсенькая!
Любаша смеется:
— Не хочешь ли, чтобы у него была такая же лапища, как у тебя?
Разговор явно не клеится. Сжимаю виски руками, молчу, Чувствую на себе вопросительный взгляд. Голову поднять не могу.
Скрипит табурет, Любаша встает:
— Надо идти. Юру кормить пора.
— Сына назвала Юрием?
— Да.
Она произносит это спокойно, но в голосе столько чувства! В нем материнская любовь, нежность к ребенку и такая же любовь, нежность к тому, чье имя он носит.
У порога Любаша останавливается. Спрашивает, вступил ли я в партию. Получив утвердительный ответ, заявляет:
— Теперь во Дворце будет два коммуниста.
Она советует мне побывать в городке у руководителя уездной организации и встать на учет.
Председателем укома оказался тот самый Миронов, который в свое время поручил мне организовать комсомольскую ячейку. У него сохранилась старая привычка слушать собеседника, прикрыв глаза ладонями.
Разговор с ним был короткий. Два-три вопроса, ответы, и Миронов говорит:
— Работать пойдешь на пилораму. Нам нужен строительный материал, доски.
— Когда выходить?
— Если не устал с дороги, то завтра. Наведи порядок. Есть подозрение, что там кое у кого руки липкие к государственному добру. Поймаешь таких — безжалостно выгоняй. На их место комсомольцев хороших подбери. Лес нам нужен до зарезу.
— Понятно.
— И еще, — продолжал он, — это уже партийное поручение: как бывшего фронтовика, назначаю тебя начальником взвода ЧОН[1]. Пусть молодежь будет готова в любой момент помочь районной власти…
Прошла неделя, как я стал работать на пилораме. К нам явился Миронов. Сначала выругал всех за то, что в «такое время» бесхозяйственно относимся к горбылю. Потом отошел, спросил, сможем ли по-комсомольски нажать и увеличить выработку лесоматериалов.
— Не горячитесь, все взвесьте, — отвел Миронов руку от глаз. — Вы и так работаете сверх всяких возможностей. А сделать немного материала дополнительно все-таки надо. Решено во Дворце построить силами общественности один дом.
Я посмотрел на него.
— Не догадываешься, Степан, для кого? — спросил он улыбаясь. — Для Любаши Метельской, для нашего женорга. Совхоз выделил подводу. Комсомольцы уже поехали за лесом.
Дом семье погибшего комиссара в свободное от работы время строили не только жители Дворца, но и крестьяне прилегающих сел. Самым активным строителем был, конечно, дядюшка Егор. Окончание стройки приурочили к празднику четвертой годовщины Великого Октября. В этот день дедушка Егор в торжественной обстановке вручил счастливой Любаше ключ от нового, просторного, с деревянными полами дома.
15
Мы создавали новую жизнь и боролись с теми, кто нам мешал. А враги объединялись в банды и мстили активистам кровавой местью.
Вначале, как начальнику взвода ЧОН, затем, как добровольцу политбойцу 30-го кавалерийского полка имени Степана Разина, мне довелось участвовать в разгроме крупных националистических банд под Шкловом и Могилевом. Тогда-то, в кавалерийском полку, окончательно решилась моя судьба.
Помню, вызвали меня в штаб. Иду, удивляюсь: кому и что от меня потребовалось? Дежурный штаба показывает на дверь комиссара:
— Заходи.
В кабинете и командир полка. Комиссар предлагает:
— Садитесь, товарищ Шутов. Нужно поговорить. В боях вы проявили себя неплохо. И коммунист сознательный. А вот политбоец из вас слабый. — Помолчал немного, потом спрашивает: — Вы рассказывали на днях красноармейцам о бое советских эсминцев «Спартак» и «Автроил» с английской эскадрой в Финском заливе?
— Так точно, рассказывал, товарищ комиссар, — ответил я и подумал: «Кажется, все было правильно».
— Ну да, рассказывать рассказывали. Но на вопросы красноармейцев ответить не смогли.
Мое самолюбие было уязвлено:
— Ответил, товарищ комиссар. Вам неправильно доложили. Это кто-то подкапывается под меня. Сразу видно, человек не наш, раз нашептывает.
Комиссар покосился на командира полка. А тот говорит:
— Это я рассказал комиссару о той беседе. Выходит, я и есть не наш человек.
«Вот так влип, — подумал я. — И дернуло же меня за язык. Теперь жди головомойки».
А командир между тем продолжал:
— Нельзя, товарищ Шутов, не проверив, сразу людям ярлыки клеить. Вспомните-ка, как вы на вопросы отвечали. У вас спросили: «В честь кого эсминец назван был „Спартаком“?» А вы что ответили? «В честь героя русско-турецкой войны».
Я сидел потупив взгляд. Лицо у меня горело. Только и нашелся ответить:
— Виноват. Всего три зимы учился…
— Это не вина ваша, а беда, — отозвался комиссар. — При царе у трудовых людей не было возможности университеты посещать. Лишь теперь перед ними открылись двери учебных заведений. Только учись. — Комиссар пристально посмотрел на меня: — Мы тут с командиром посоветовались и решили, что подучиться вам в самый раз. Думаем направить вас в Москву, в Объединенную военную школу имени ВЦИК.
Командир полка добавил:
— На кавалерийское отделение. В Кремле будете учиться!
С трудом верю свалившемуся счастью. Я буду в Кремле! В столице нашей Родины!
Комиссар разрешает:
— Можете идти.
А я стою, не в силах осмыслить происходящее…
Первые часы в Кремле. Совершаем экскурсию. Осматриваем древние зубчатые стены. Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы. Башни Спасская, Никольская, Троицкая, Боровицкая… Меня сейчас мало интересует, какие цари тут жили, каких послов принимали. Мысли заняты другим: сейчас здесь, рядом с нами, помещается правительство — мозг страны. Отсюда тянутся незримые нити к народу.
Экскурсовод — преподаватель военной школы — показывает: по этой дорожке совсем недавно ходил в свой служебный кабинет Владимир Ильич Ленин. А вот там, на плацу у Боровицких ворот, состоялся знаменитый субботник, в котором он участвовал. Представляю себе, как Ленин, чуть-чуть нагнув голову, нес с курсантом тяжелый кряж…
Спасские ворота. Отсюда Ленин выходил на Красную площадь выступать с пламенными речами перед отправляющимися на фронт красноармейцами…
С двумя из будущих однокашников я уже успел познакомиться. Одного зовут Володей. Фамилия его Глухов. Он из-под Воронежа. Другой — грузин, однофамилец героя гражданской войны Киквидзе.
— Интересно, — обращается ко мне Саша Киквидзе, — о чем ты сейчас думаешь?
— О Ленине.
— И я, — говорит Володя.
— Я тоже.
— И я…
Оказывается, вся группа, осматривая Кремль, думает о вожде революции. Всего несколько месяцев назад он еще жил, работал, бывал здесь и, возможно, стоял на том же самом месте, где стоим сейчас мы.
— Если бы нас немного раньше прислали, то мы увидели бы его, — вздохнул Киквидзе.
— Товарищи, — предложил кто-то из ребят, — давайте будем учиться так, как завещал Ильич!..
Вступительные экзамены. Для меня это вообще первые экзамены, и я их побаивался. Строевая подготовка, чтение, даже чистописание пугали не так, как география и арифметика. На подготовку всего четыре дня. Боюсь, что этого слишком мало. А если провалюсь, придется в часть возвращаться. Тогда — позор! Стыдно будет товарищам в глаза смотреть.
От учебника меня отрывает вдруг вспыхнувший смех. В казарме кого-то качают. Подхожу ближе: на руках у ребят Глухов! Оказывается, он уже сдал арифметику. Это никого не удивило. Глухов назубок знал таблицу умножения, быстро решал задачи с дробями.
— Не в тот огород ты, Володя, попал, — шутит кто-то. — Твое место в бухгалтерии.
Я подошел к Глухову, честно признался:
— Спасай, дружище. Боюсь, что на арифметике срежусь.
— Не волнуйся, — успокоил он. — Я помогу. Садись, давай заниматься.
По географии взялся помочь Иван Кузовков. Но оказалось, он сам имеет о предмете смутное представление. Знал Иван названия четырех морей и трех государств, да и те показать на карте не смог. Пришлось просить помощи у других.
Итак, по ночам я занимался с «репетиторами», а днем сидел в классе, где сдавали экзамены товарищи. Последнее принесло большую пользу. Преподаватели задавали вопросы, ребята отвечали, а я, как говорится, наматывал на ус. Одним словом, экзамены сдал. Несколько позже у меня состоялся любопытный разговор с преподавателем.
— Не думайте, что вы меня обманули, — заметил он. — Все четыре дня я следил за вами и понял, что знания у вас слабые. Но меня подкупили ваши настойчивость и желание учиться. Поэтому вопросы вам я подобрал полегче…
С первых дней учебы курсанты объявили войну отметке «неудовлетворительно». Ее у нас почему-то назвали «крысой». Даже оценки «удовлетворительно» и «хорошо» имели презрительные клички «черепаха» и «лягушка».
Долгое время, несмотря на помощь подготовленных товарищей, я носил с собой короб всяких «тварей». Но мало-помалу подтянулся.
Учиться плохо никто не мог. Сознание, что живешь в Кремле, рядом с выдающимися деятелями партии и государства, невольно подтягивало. Был и еще один фактор, оказывавший влияние на нашу боевую и политическую подготовку, — это несение караульной службы в Мавзолее Ленина. На пост назначали только отличников учебы в качестве поощрения.
16
Ленин лежит, сложив руки на френче. Стою против него вытянувшись, приставив винтовку к ноге.
На груди у Владимира Ильича орден Красного Знамени. Всероссийский староста Михаил Иванович Калинин прикрепил его к френчу, когда Ленин уже лежал на смертном одре. Каким скромным был этот великий человек! Он основал Коммунистическую партию, создал первое в мире Советское государство, отстоял его в схватке с врагами и считал, что награды не заслужил!
По ту сторону саркофага лицом ко мне стоит стройный, невысокого роста курсант Иван Кузовков (в настоящее время Герой Советского Союза, генерал-лейтенант).
Мимо нас задумчиво, сдержанным шагом проходят люди. Рабочие, красноармейцы, крестьяне, студенты, служащие, домашние хозяйки, дети. Представители разных национальностей: русские, украинцы, армяне, белорусы, узбеки, евреи, таджики…
У саркофага на мгновение задерживается полный человек в очках с золотой оправой. Иностранец. Лицо его непроницаемо, надменно. В уголках тонких сжатых губ кривая улыбка. Кто он? Журналист, профессор, министр? Может быть, враг? Если так, пусть не радуется. На ум приходят слова Маяковского, которые утром учили всей группой:
Ленин и теперь живее всех живых. Наше знанье, сила и оружие.Доступ в Мавзолей прекращается. Появляется начальник караула. Делает короткий, предостерегающий знак: внимание! И уходит. За ним показывается комендант Кремля. С минуту стоит молча и тоже уходит.
Снова тишина. Я думаю о матери, о Синкевиче, Миронове, Метельском, о Любаше, ее сыне, который, как мне писали, уже говорит: «Дедуска Ленин, я любу тебя». Очень хочется, чтобы они сейчас стояли рядом со мной.
Но вот опять шаги. Это Надежда Константиновна Крупская, Мария Ильинична Ульянова, Феликс Эдмундович Дзержинский. Каждого из них я знаю в лицо. Но кто такой этот военный, с четырьмя орденами Красного Знамени на груди? Молодой еще. Плотный. Густые, черные брови. Под ними — серые внимательные глаза. Темные, коротко остриженные усы. Он, видно, впервые здесь. Его бритая голова опущена, ноги плотно сдвинуты, руки по швам…
Посетители уходят, и через несколько минут нас сменяют.
— Ваня, — спрашиваю у Кузовкова, выходя из караульного помещения, — не знаешь, что это за военный приходил в Мавзолей? С четырьмя орденами Красного Знамени.
— Не узнал? — удивляется Кузовков. — У нас в классе его портрет висит.
— Неужто Блюхер?
— Конечно! Василий Константинович! Он сейчас в Китае, главный военный советник у Сунь Ят-сена…
На следующий день в зале школы состоялась встреча курсантов с Блюхером. До этого мы уже кое-что слышали о его жизни и полководческой деятельности. Знаем, что родился Василий Константинович в 1889 году в глухой деревушке Барщинке, Ярославской области, в бедной крестьянской семье. После революции нерусская его фамилия вызывала массу толков и пересудов. Белогвардейцы, например, утверждали, что Блюхер — немецкий генерал, продавшийся большевикам за деньги. Этим они хотели бросить тень на военачальника, которого ненавидели и побаивались. Побаивались не зря. Партизанские отряды и войска под водительством Василия Константиновича били врагов на Урале, в Сибири, у Каховки, Перекопа, у знаменитой Волочаевки, под Спасском.
Но кончилась гражданская война в России, и на юге Китая в Национальной революционной армии появляется молодой талантливый генерал Га-лин. Вездесущие корреспонденты, для которых, как известно, тайн не существует, вскоре уже знали, что Га-лин — это китайское имя Блюхера. Революционное правительство Сунь Ят-сена пригласило советского полководца главным военным советником…
Василий Константинович покорил нас простотой и скромностью. Просим его рассказать о своих походах, о боевых делах. Улыбается:
— Похвастать нечем. Вам скучно будет.
Ничего себе скучно! Мы знаем, что человек он необыкновенной храбрости, и вдруг — «скучно будет!» Начинаем настойчиво просить. Его черные брови сдвигаются, он говорит серьезно, без всякой рисовки:
— Я солдат. Обыкновенный солдат Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Если же о боевых подвигах желаете, то надо рассказывать о бойцах, моих товарищах. О Волочаевке? Что ж, можно и о Волочаевке.
Блюхер на мгновение задумался, собираясь с мыслями. Потом продолжал:
— Вблизи станции Волочаевка белые сильно укрепились. Они вроде бы создали своеобразный дальневосточный Перекоп. Высокую сопку Карамм опутали колючей проволокой, всю изрыли окопами. Но этого мало. Враг превосходил нас в артиллерии, танках, к тому же его поддерживали бронепоезда. Нельзя не сказать и о том, что вражеские солдаты имели теплую одежду и находились в хорошо оборудованных землянках. У нас же был один-единственный старый танк. Люди наши плохо обуты и одеты. А морозы стояли сорок — сорок пять градусов. И, несмотря ни на что, мы победили. Хотите знать почему? Да потому, что красноармеец воевал за лучшую жизнь. За счастье, свободу он жизни своей не жалел…
17
Ходынка. Историческое место. Знаменито оно не только катастрофой, разыгравшейся здесь во время коронации Николая II. 2 августа 1918 года на Ходынке выступил с речью перед отправляющимися на фронт красноармейцами Владимир Ильич Ленин.
Именно отсюда прозвучали его пророческие слова: «Российская революция указала всему миру пути к социализму и показала буржуазии, что близится конец ее торжества…»
Летом школа выезжала в Ходынские лагеря. Здесь занимались много, старательно, не ограничивались боевой практической учебой. В свободное время, если оно выдавалось, «вне программы» изучали историю, литературу. Наши любимые преподаватели Найденов и Кузьмин часто наезжали в лагеря. Помню, как-то прибыл Найденов и собрались мы на свежем воздухе на дополнительное занятие по истории. Все шло хорошо, пока преподаватель не вызвал курсанта Федченко.
— Расскажите, — спрашивает, — что вы знаете о Спартаке?
— Спартак был вождем крупнейшего восстания рабов, которое вспыхнуло в Италии в первом веке до нашей эры. Оказался талантливым полководцем. Создал сильную армию и одержал ряд побед над римскими военачальниками в Средней и Северной Италии. Угрожал Риму…
Федченко рассказывает, а меня душит смех. Закрываю лицо руками, держусь изо всех сил, но чувствую, вот-вот прысну. Найденов заметил это, нахмурился, жестом останавливает Федченко и строго спрашивает меня:
— Товарищ курсант, объясните свое поведение.
Встаю, одергиваю гимнастерку. Хочу рот раскрыть и боюсь. Курсанты удивленно смотрят на меня, а это подливает масла в огонь.
— Курсант Шутов, — подходит ко мне преподаватель, — можете сказать, что с вами? — и награждает холодным взглядом.
Беру себя в руки и рассказываю, как однажды, беседуя с красноармейцами, назвал Спартака героем русско-турецкой войны.
Все смеются. Улыбается и Найденов.
— Теперь-то, надеюсь, не попадете впросак? — спрашивает. — Что вы еще знаете о Спартаке? Можете дополнить сказанное Федченко?
— Конечно могу. — Обвожу еще не успокоившиеся лица товарищей торжествующим взглядом. — Армия восставших рабов была разбита войсками римского полководца Красса. Спартак пал в битве. Но восстание, несмотря на поражение, нанесло сильный удар по рабовладельческому строю в Италии. Владимир Ильич говорил, что Спартак был одним из самых выдающихся героев одного из самых крупных восстаний рабов…
Перед концом лагерного сбора нас посетил Народный комиссар по военным и морским делам М. В. Фрунзе.
Мы стоим у палаток. Видим, Михаил Васильевич с группой военных идет по дорожке, посыпанной свежим желтым песком. Иногда останавливается, внимательно осматривает палатки, читает лозунги, проверяет бачки с питьевой водой.
— Не протекает? — спрашивает, заглядывая в кружку, и сам отвечает: —Все в порядке.
Вот он задерживается вблизи нас. Наклоняется и поднимает лежащий рядом с урной окурок. По спине моей пробегают холодные мурашки. Позор! Такого у нас ни разу не случалось.
Нарком супит брови. Понятно, сейчас будет разнос. Но, рассмотрев окурок, он вдруг шутливо замечает:
— Тот, кто бросил его, видно, очень торопился. Или он просто плохой стрелок, — и идет дальше.
Когда проходил мимо нас, мы, как полагается, приветствовали. А Саша Киквидзе вдруг останавливает его нерешительным хриплым голосом:
— Товарищ Наркомвоенмор, разрешите обратиться!
Михаил Васильевич кивает головой:
— Слушаю.
— Окурок бросил я.
Глаза Фрунзе округляются. Некоторое время он внимательно рассматривает курсанта.
— Ваша фамилия?
— Киквидзе, товарищ Наркомвоенмор, — отчеканивает Саша, бледнея.
Один из сопровождающих Фрунзе открывает блокнот, что-то записывает.
«Пропал наш весельчак, — подумал я. — Жаль парня. И учится хорошо».
— Киквидзе? — переспросил, наклонив голову, Фрунзе. — Вы случайно не родственник покойного начдива Васо Киквидзе?
— Однофамилец, товарищ Наркомвоенмор.
По окаменелому лицу Саши пробегает тень радостного волнения. Мы тоже облегченно вздыхаем. Тон у Фрунзе не такой уж строгий, может, как говорят, пронесет.
— Рассказывают, что начдив Киквидзе был честным, прямым и… — Фрунзе посмотрел на Сашу, — аккуратным. Вот так-то. — Потом спохватился: — Товарищи, почему же мы стоим? Присядем, пожалуй.
Садится. Мы располагаемся вокруг него. Михаил Васильевич расспрашивает нас об учебе, о быте. Потом говорит о том, каким, по его мнению, должен быть командир новой Красной Армии. Среди других требований называет и аккуратность. По этому поводу рассказывает любопытный эпизод.
…Шли бои с колчаковцами на Урале. Фрунзе находился в 25-й дивизии, когда на нее налетели два вражеских самолета, обстреляли, сбросили несколько бомб.
Но вот самолеты улетели, и пыль, вызванная бомбежкой, осела. И тогда Михаил Васильевич заметил на гимнастерке Чапаева кровь.
— Царапнули, сволочи, — выругался начдив.
Как назло, санитаров поблизости не оказалось.
Фрунзе достал из кармана носовой платок, протянул Чапаеву:
— Прижмите рану, Василий Иванович.
Чапаев улыбнулся рассеянной улыбкой:
— Не обижайте, Михаил Васильевич! Это у меня тоже есть. — И извлек из кармана белый, как первый снег, носовой платок. — Мой комиссар говорит, что аккуратность прежде всего проявляется в мелочах…
Заканчивая беседу с нами, Михаил Васильевич заметил:
— Нам, товарищи курсанты, нужен такой командир, который бы не только умел руководить подразделением, но мог и воспитывать бойцов. Он должен быть грамотным, культурным, начитанным, тогда красноармейцы будут уважать его и станут подражать ему, как любимому учителю. Надо иметь в виду, что боец Красной Армии — боец совершенно нового типа.
Раньше говорили: «Солдат спит — служба идет». Про нашего бойца так не скажешь. Красноармеец стал пытливым, старательным, он тянется к науке, знаниям. Поэтому обучать такого бойца не простое дело…
Спустя несколько месяцев, 31 октября 1925 года, после тяжелой операции перестало биться сердце неутомимого борца-коммуниста, замечательного советского полководца — Михаила Васильевича Фрунзе.
Мы участвовали в похоронах. В школе состоялся траурный митинг. Владимир Глухов, выступивший на нем, выразил мысли всех, заявив: «Для нас Фрунзе не умер».
Гроб с телом Михаила Васильевича установили в Колонном зале Дома Союзов. В первой четверке курсантов, стоявших в почетном карауле, были Нерченко, Кронин, Кузовков и я. Тут же в почетном карауле стояли его близкие, товарищи по партии — Калинин, Дзержинский, Ворошилов, Буденный, Фабрициус, Якир.
Запомнился мне и маленький Тимур — сын Фрунзе. Ему тогда было не более двух лет. Он стоял с матерью, держал ее за руку и задумчиво смотрел на проходящих мимо людей, пришедших отдать славному советскому полководцу последний долг.
18
Выпал снег. Ударили морозы. Курсанты залили на территории Кремля каток. Почти каждый день здесь устраивались конькобежные состязания.
Я всячески избегал появляться там, и по весьма простой причине: не умел кататься на коньках.
Однажды Саша Киквидзе буквально силой затащил меня на каток.
— Хоть посмотри, как другие катаются. И сам попробуй. Наука тут не мудреная, — соблазнял он. — Не медведь же ты, а кремлевский курсант!..
Думаю: «Почему бы мне в самом деле не рискнуть. Ведь другие же катаются. Чем я хуже?»
И вот я на коньках. Поднялся со скамейки — ничего, стою! Вступил на лед, сделал осторожный шаг и… грохнулся. Курсанты хохочут. Хочется показать им, что смеются напрасно. Встаю, делаю более резкий толчок ногой, мне кажется, что так лучше, но снова падаю. Опять гомерический хохот, шутки, остроты. А я лежу. На этот раз без посторонней помощи подняться не могу.
Выручила незнакомая девушка. Подъехала, протянула мне руку и, как ребенка, усадила на скамейку.
— Ушиблись? — спросила участливо.
Девушка меня жалеет! Этого еще не хватало! Превозмогая боль, я стараюсь казаться спокойным:
— Для кавалериста такое — сущий пустяк! Мы ведь не слабого пола.
— Ну, разумеется, кавалеристу падать не привыкать, — девушка улыбается. — Но одно дело падать с коня, другое дело — на ровном месте.
— Не остроумно, барышня, — буркнул я вызывающе и решил подняться.
Куда там! Приходится снова опуститься на скамейку. Девушка помогла мне встать и, взяв за руку, повела к себе:
— Мы здесь живем, в Кремле. Посидите у нас, отогреетесь, и все пройдет.
Как слепой за поводырем, следую я, прихрамывая, за незнакомкой. Входим в дом. Девушка усаживает меня за стол, а сама исчезает.
Осматриваю комнату. Обыкновенная. Четыре окна. Небольшой письменный стол, несколько стульев. Лампа с зеленым абажуром. На стене фотография — Ленин в рабочем кабинете.
Девушка возвращается. Угощает меня чаем, расспрашивает, кто я, откуда. Во время разговора открывается дверь, в комнату входит человек в очках. Я настолько растерялся, что поперхнулся чаем и закашлялся.
— Знакомься, папа, это курсант, — говорит незнакомка. Бросает на меня быстрый взгляд, уголками губ улыбается, добавляет: —Конькобежец, специалист по сальто-мортале на льду.
Человек в очках заразительно смеется, протягивает мне большую рабочую руку:
— Калинин.
Я и без того узнал его. Вытянулся по команде «Смирно», отрапортовал:
— Шутов, курсант Объединенной военной школы имени ВЦИК, товарищ председатель Всесоюзного Центрального…
Михаил Иванович протестующе замахал руками:
— Пожалуйста, садитесь, садитесь. Чувствуйте себя как дома.
Ему тоже налили чай. Он взял стакан, отпил два глотка, повернулся ко мне:
— Стало быть, учитесь на кавалерийском отделении?
Я опять вскочил:
— Так точно, товарищ председатель Всесоюзного Центрального…
— Вот зарядил, — перебил меня Калинин. — Вас, наверное, с детства муштровали? Из дворян, поди?
Я видел, что Михаил Иванович шутит, даже заметил, как он подмигнул дочери, но ответил серьезно:
— Батрак я, из Белоруссии. У помещика работал.
Калинин придвинулся ближе к столу, спросил:
— И как же вам жилось у помещика? Деревня ваша большая?
Много слышали мы в школе о «всероссийском старосте». О его простоте, о том, что сам он из крестьянской семьи, а работал токарем и что после смерти Свердлова лично Владимир Ильич предложил избрать его председателем ВЦИК. Но, признаюсь, никак не думал, что его, такого занятого государственными делами, могла интересовать судьба какой-то маленькой деревушки…
Прошел с того вечера месяц. И вот я стою на посту у главного здания, куда входят только по специальным пропускам. Подходит Калинин. Роется в карманах, ищет пропуск и не находит.
— Забыл, — смущенно улыбается, поглаживая бородку.
Разговаривать на посту нельзя. Но знаки делать не воспрещается. Показываю на дверь: проходите, мол, я вас знаю.
А он рассердился:
— Нарушать устав, товарищ курсант, не советую.
И пошел домой за пропуском…
Вскоре мы закончили школу. На выпускном вечере был Михаил Иванович, поздравлял каждого с присвоением звания.
Увидев меня, вспомнил историю с пропуском. Обнял за плечи и тепло, по-отцовски, сказал:
— Вы знаете, я тогда чуть на совещание не опоздал. Но все обошлось хорошо. А главное — вас не подвел и сам не согрешил…
Спустя четверть века мне еще довелось встретиться с Михаилом Ивановичем, когда он вручал мне вторую Звезду Героя. Удивила его феноменальная память. Я был уверен, что Калинин не помнит меня. А он поздравляет с наградой и неожиданно говорит:
— Рад за вас. Значит, не зря вы тогда в школе ВЦИК время провели.
СОЛДАТ НЕ СПИТ
1
Итак, я командир. С бьющимся сердцем иду принимать учебный взвод. В голове рой мыслей. Смогу ли как полагается руководить людьми, учить их, воспитывать? Найду ли ключ к душе каждого? Удастся ли завоевать авторитет?
Сорок два человека стоят по команде «Смирно». Они тоже только сегодня прибыли сюда. Люди разных профессий, разного характера, разного воспитания. Но все напряженно, изучающе глядят мне в глаза. Знаю: каждый хочет понять меня и вынести первый приговор — мол, «командир у нас так себе» или «парень вроде ничего»…
Делаю перекличку. Изучающе всматриваюсь в лицо каждого. «Ребята, пожалуй, хорошие, — думаю, — здоровые, жизнерадостные. Много украинцев, русских, есть азербайджанцы, башкиры, белорусы — интернациональный взвод!»
— Габидов!
— Я!
У молодого таджика не глаза — угли. По всему видно — он счастлив тем, что попал в кавалерию.
— Коня любите?
— Ошень, — отвечает.
— Это хорошо. Для кавалериста конь — первый друг.
— Разрешите, товарищ командир, — обращается краснощекий, чернобровый парень.
— Слушаю вас.
— Карнаух моя фамилия. Я — парикмахер. Привез с собой инструменты…
Взвод сдержанно улыбается.
— Понятно. Хотите работать по своей гражданской специальности?
— Так точно, товарищ командир взвода.
— Не возражаю. Только… в свободное от занятий время.
Карнауху мой ответ явно не по душе.
— Я в конницу по ошибке попал, — заявляет он вполголоса.
Меня это задевает.
— Товарищ Карнаух огорчен тем, что его направили в кавалерию. Есть еще недовольные?
Никто не отвечает. Я торжествую. Рассказываю бойцам о славных традициях русской и советской конницы, о ее боевом пути и предупреждаю, что служба в кавалерии нелегкая. Уход за конем, забота о его здоровье, о его обучении…
Бойцы удивленно смотрят на меня: не оговорился ли?
— Да, да, — подтверждаю, — об обучении. Конь должен пройти большую школу, прежде чем стать в строй. Вам, Карнаух, будет трудно служить, но уверен, что из вас выйдет настоящий кавалерист. Габидов вам поможет. Поможете, товарищ Габидов?
— Я из Карнауха джигита буду делать, — отвечает энергичный таджик.
За короткое время взвод стал дружной, спаянной семьей. Бойцы берегли его честь. Неудача одного беспокоила всех, удача одного воспринималась как успех коллектива. Лучшие кавалеристы Габидов, Малиновский, Сирик и Шумов не покидали манежа, пока не подтянули отстающих.
Как-то из Москвы приехал корреспондент. Два дня пробыл в нашем взводе. Исписал блокнот, сделал много снимков. Перед отъездом ознакомил меня с некоторыми своими заметками.
Беседовал он с Виктором Карнаухом. Говорит ему:
— Лошади у вас какие-то нелюдимые. Вот, помню, в местечке, где я жил, была лошадь у водовоза. Смирная, спокойная. Мальчишки на ней верхом ездили. А к вашим не подойдешь: того и гляди затопчут или загрызут.
Карнаух усмехнулся:
— На лошади вашего водовоза, товарищ корреспондент, в атаку не пойдешь. А возьмите моего коня — огонь! На нем птиц ловить можно. Умный, быстрый, послушный. Но не думайте, что этого так легко добиться. Пока научишь его армейской премудрости — ого! — не один раз на гимнастерке соль выступит! Я сам обедать не сяду, пока его не накормлю, не напою, пока не почищу его. Вот за любовь конь и платит любовью. Упадешь в бою — три, пять дней будет возле тебя… Голос твой знает, мысли твои, честное слово, угадать может.
Корреспондент спросил:
— Товарищ красноармеец, вы, видно, всегда к лошадям были неравнодушны?
— С малых лет!
Услышав это, я не мог сдержаться и рассмеялся. Корреспондент посмотрел на меня с удивлением:
— Разве здесь что-то не так? Или Карнаух плохой кавалерист?
— Кавалерист он хороший. Его успехи недавно отмечены в приказе…
— Так в чем же дело? Что вам показалось смешным?
— Видите ли, — ответил я, — не знаю почему, но Карнаух сказал неправду. Он только в армии лошадь-то и увидел. — И рассказал корреспонденту, как Карнаух просился в парикмахеры. — Лошади он боялся, — заметил я в заключение, — красноармеец Габидов помог ему стать кавалеристом.
— Отлично! — сказал корреспондент. — Напишу и об этом…
Вскоре со взводом пришлось расстаться: в 1929 году меня снова направили на учебу в Москву. Теперь на военно-политические курсы имени Ленина.
Здесь часто бывал Семен Михайлович Буденный. Он постоянно следил за успехами кавалерийских частей и кавалеристов.
Однажды в разговора я назвал имя Карнауха.
— Как же, читал о нем, — заметил Семен Михайлович, — Судя по корреспонденции, парень это хороший. Кстати, где он сейчас?
— Учится. Будет командиром взвода.
— Очень хорошо! — обрадовался Семен Михайлович. — Я уверен, что при таком отношении к службе Карнаух толковым командиром станет. Ему, я читал, на манеже красноармеец-таджик помогал. Это верно? Я не ошибся?
— Точно, Семен Михайлович. Таджик Габидов.
— А он сейчас где?
— Тоже учится. Вместе с Карнаухом.
— Великолепно! Это наши кадры, наш золотой фонд. Надо больше выдвигать на учебу способных красноармейцев.
2
В 1931 году, после окончания военно-политических курсов, я командовал эскадроном в 1-м Запасном Кавалерийском полку МВО. Работал с новыми силами. Да и дел было много. Боевой подготовкой занимались не только днем. Часто и ночью совершали походы, проводили учения.
В то утро тоже возвращались с ночных занятий. Кони устали, и мы шли медленно. Поднялись на возвышенность и остановились. Вдали виднелось селение.
— Писковатка, — произнес кто-то.
Знакомая, почти родная каждому нашему бойцу деревня. Здесь мы помогали создавать колхоз, много поработали, чтобы убедить крестьян в преимуществе кооперативного хозяйства. Это далось нелегко. Кулаки шантажировали и запугивали народ, зверски расправлялись с активистами. Более того, недалеко отсюда, на Дону, они даже пробовали подбить крестьян на восстание против Советской власти.
Мы не могли стоять в стороне от решающей борьбы на селе. В Писковатке и соседних с нею деревнях бойцы эскадрона в свободное от занятий время помогали сеять, косить, убирать хлеб, копать картофель. Одновременно наши кавалеристы разъясняли крестьянам политику партии. И постепенно, шаг за шагом, люди потянулись друг к другу, начали объединяться в сельскохозяйственную артель.
Сейчас, остановившись на высотке, мы любовались знакомым пейзажем. Деревня уже просыпалась, там и сям над крышами вился дымок.
Но что это? До слуха донеслись громкие голоса, плач детей, лай собак. Не пожар ли?
— В Писковатке что-то неладное, — предположил мой коновод. — Там даже стреляют!
Теперь и я слышу хлопки выстрелов.
— По коням! — подаю команду.
Влетаем в деревню. Навстречу бегут люди. Старая женщина с заплаканным лицом и разметавшимися седыми волосами в отчаянии протянула к нам руки.
— Сыночки милые, что же это делается? Убили моего Федю!
— Кого? — переспросил я, сдерживая нетерпеливого коня.
— Сына моего, Федю Матвеева.
Вот как! Убит председатель только что созданного колхоза.
Совсем недавно, буквально несколько дней назад, я присутствовал здесь на организационном собрании колхозников. Тогда-то Матвеева и избрали председателем.
Подкулачники решительно выступали против его кандидатуры. Один из них, повторяя явно чужие слова, заявил:
— Федя, конечно, парень хороший. И заслуги перед Советской властью у него большие: партизаном был, на Деникина ходил, ранение получил. Но председателем — молод еще, да и с грамотой у него не очень… Человек я прямой, вы меня знаете. Я так разумею: тут человек опытный нужен, с хозяйственным глазом. Не знаем еще, что и как в колхозе получится, — дай бог, чтобы ладно было. А если неладно? Федя что теряет? Ничего: пять кур да козу дохлую? Председателем нужно такого, у которого добро есть. Одно его неспокойствие, братцы, нам на пользу пойдет.
— Кого, Ефим, предлагаешь? — спросила женщина из президиума. — Случайно, не Макаровича, Малину?
— Его. Он богатый человек, братцы, это правда. Зато за Советскую власть стоит и с понятием человек, хозяйственный.
Поднялся шум. Люди требовали удалить подкулачника с собрания и голосовать. Матвеева избрали председателем.
И вот молодой председатель зверски убит выстрелом в голову. Его тело лежит в сельсовете на длинном обтянутом красной материей столе. Убийца, кулак Малина, пойман и сидит в соседней комнате. Лицо бандита неподвижно, будто окаменело. Только короткие, согнутые на жилете пальцы дрожат и беспрестанно теребят пуговицу.
— Товарищ командир, я не виноват, — то и дело обращается ко мне Малина. — Федя вырос на моих глазах, разве я стал бы…
— Из района приедут — разберутся.
— Товарищ командир, я не виноват. Стрелял другой…
— А карабин у тебя нашли?
— Подбросили…
— Потерпите. Разберутся. Не виноват — отпустят.
— Товарищ командир, я честный труженик, никого пальцем не тронул. Спросите у людей…
Поворачиваюсь к окну. Собравшаяся у сельсовета толпа гневно шумит. Многие требуют выдать им кулака. Слышатся возгласы:
— Повесить Малину!..
— Смерть злодею!..
— Товарищ командир, — просовывает в окно голову пожилой крестьянин, — отдайте его нам. Мы сами будем судить.
— Нельзя, — объясняю. — Самосуд запрещен.
Толпа напирает. Вдребезги разлетается прогнившая рама.
— Стойте! — кричу толпе. — Отойдите, иначе прикажу стрелять!
Никакого внимания. Тогда красноармейцы направляют в окно дула винтовок. Это уже действует отрезвляюще.
Но тут я слышу провокационный выкрик:
— Чего, дурачье, стоите? Красная Армия в своих не стреляет.
Узнаю голос подкулачника Ефима. Подлец! Он хорошо понимает, что мы не можем разрешить самосуда, и надеется столкнуть нас с колхозниками.
Подхожу к окну:
— Ефим, иди-ка сюда! На минутку…
В толпе образуется живой коридор. Все поворачивают голову назад. Ждут. Но подкулачник не показывается.
— Утек, — заявляет кто-то сзади.
Как раз прибыли представители из района. Эскадрон строится.
Только собрался дать команду «Марш», подходит группа ребят и девушек.
— Товарищ командир, — обращается один из парней, — мы, комсомольцы, заверяем Красную Армию, что сделаем наш колхоз хорошим. Вы и дальше будете нам помогать?
— А как же!
3
Меня вдруг сильно потянуло в Белоруссию. Тоска по родным местам долго терзала, и я рассказал об этом командиру полка.
— Тебе надо съездить домой, — заключил он. — Десять дней хватит?
В поезде я перечитал все полученные мною письма. Старшие сестры трудятся в совхозе. Младшая работает в Минске, в ЦК комсомола. У нее чуткий, добрый муж… В Городке построили электростанцию… В ближайших деревнях созданы колхозы. У одних дела идут хорошо, у других неважно… В Городище открыли библиотеку. В Заполье — магазин. Но в нем орудует жулик, обвешивает покупателей… Миронова снова избрали секретарем райкома партии. Бедняга сильно болен, тюрьмы да ссылки дают о себе знать… Любаша работает заместителем председателя райисполкома. Анисья перешла к ней. Юра вырос, стал смышленым мальчиком. Учится лучше сверстников. В общем, я знаю все, что делается дома, так же как земляки в курсе моих дел.
Приезжаю домой и первое, о чем спрашиваю:
— Не стряслось ли чего?
На меня смотрят с удивлением:
— Разве обязательно должно что-то случиться?
— Нет конечно. Я очень рад! Значит, все здоровы?
— Здоровы. А ты?
— Как видите.
В дом влетела ватага шустрых мальчишек в красных галстуках. Они пришли посмотреть на земляка-командира. Засыпали меня вопросами. И не на все я мог ответить. Ребята читали пионерские газеты, слушали радио. От меня теперь требовали подробных сведений о ходе строительства Харьковского тракторного завода, московского метро, Кузнецкстроя…
— Хлопцы, — обращается моя сестра к маленьким гостям, — когда пойдете домой, пришлите Юру Метельского. Скажите, что дядя Степан хочет его видеть.
Провожаю пионеров на улицу. Они берут с меня «честное партийное», что на следующий день приду к ним в школу на сбор отряда.
— Вот какие любознательные ребята пошли, — говорю сестре. — Разве мы такими были?
Распахивается дверь.
— Товарищ командир, я — Юрий Метельский, — не то всерьез, не то шутя рапортует краснощекий крепыш.
Мальчик — вылитый отец! Под густыми бровями темно-серые глаза. Подбородок с ямочкой посередине.
— Вольно, — говорю, не в силах сдержать улыбку. — Садись, Юрко. Ты меня знаешь?
— Знаю. Вы мамин товарищ.
— Правильно.
— Мама мне и про вашего друга Митю Градюшко говорила. — Юра смотрит на меня в упор. — Мама бывает у нас только по выходным.
— Жаль, а я хотел бы ее повидать.
— Так поезжайте в райисполком.
Я спрашиваю, какие у него успехи в школе.
— Как у всех, — отвечает смутившись.
— Юра, — вмешивается в разговор моя сестра, — не скромничай, ты ведь лучше других учишься!
— Так я же председатель отряда!
«Скромный, как покойный отец», — с удовольствием заключаю про себя. Интересуюсь, кем он мечтает быть, и жду, что скажет — кавалеристом.
— Танкистом, — не задумываясь отвечает паренек.
— Танкистом? Почему танкистом?
— Там интересней всего. — И чтобы не обидеть меня, поспешно добавляет: — Конечно, в кавалерии тоже интересно…
— Как бабушка живет? — перевожу разговор на другую тему.
— Бабушка сознательной стала, — не без гордости заявляет Юра. — В совхозной стенгазете все время о ней пишут. Она теперь старшая доярка! А у речки вы уже были?
— Не был. Я ведь только что приехал.
Юра предлагает сходить к Птичи. Одеваюсь, и мы шагаем к реке.
— После школы пойду в военное училище, — делится своими планами мальчик. — А мама скоро закончит институт.
— Разве она учится?
— Учится. Сама… На будущий год в Минск поедет экзамены сдавать.
Птичь стала совсем узкой, но мне она дорога, как прежде.
4
Райисполком и райком партии размещены в одном здании. Решаю сначала проведать Миронова. Захожу в приемную, но она пуста. Естественно. Я рано явился, сейчас всего восемь часов. На всякий случай пробую заглянуть в кабинет.
— Входите, товарищ военный, не стесняйтесь… Оказывается, секретарь уже на месте. Он в очках.
Просматривает какие-то бумаги. Миронов заметно сдал, и я его с трудом узнаю. Стал седым, под глазами тяжелые мешки. Глаза усталые. Но когда взглянул на меня, в них вдруг загорелись знакомые огоньки.
— Степа, черт побери! — выкрикивает он, упирается обеими руками в подлокотники кресла и рвется мне навстречу. Обнимает, крепко прижимает к груди.
Садимся на диван.
— В отпуск или совсем? — спрашивает Миронов, как и прежде прикрывая глаза ладонью. — Работенка есть для тебя. Председателем колхоза пойдешь?
— Всего на десять дней приехал…
Миронов разводит руками:
— Я-то думал… Здоровье как? Не жалуешься?
— У меня в порядке. А ваше?
— Сердце пошаливает. Но пока терпимо…
На столе звонит телефон. Миронов снимает трубку.
— Слушаю. Ах, это ты! Так, так. Правильно!.. Складки и морщинки с лица секретаря райкома исчезают. Кажется, он стал куда моложе, чем даже тогда, когда беседовал с нами, первыми комсомольцами. Он продолжает разговор с невидимым собеседником:
— Сколько? Пятьсот пудов зерна? Сверх плана?
Молодцы. А колосьев на поле много осталось? Пионеры решили собрать? Очень хорошо. Но надо, чтобы правление раскошелилось. Неплохо бы отряду новый барабан, фанфары купить… — На лице Миронова снова появляются морщины — Ни в коем случае! — кричит он в трубку. — Оставаться на ночь в колхозе запрещаю. Не уговаривай: за-пре-ща-ю! Непременно приезжай. Все!
Секретарь райкома кладет трубку на рычаг, возвращается ко мне. Потом вдруг хватается за голову:
— Ай-яй-яй. Забыл ей сказать, что ты тут сидишь. Это ведь Любаша звонила. Ну ничего. Вечером все равно будет здесь.
— Как она работает? — спрашиваю. — Справляется?
— О, Любаша замечательный работник. У нас в районе ее знают, любят, ценят. Ею ЦК республики заинтересовался, забрать, видно, в аппарат хотят…
Вечером, когда стемнело, я зашел в райисполком. Застал одну уборщицу, пожилую женщину.
— Товарищ военный, вы по какому делу? — спрашивает она. — У нас сейчас никого нет. Все разъехались на хлебозаготовки, а сам председатель в Минске.
Объясняю, что мне нужна товарищ Метельская. В райкоме сообщили: она вот-вот должна вернуться.
— А вы кто ей будете? — интересуется, упирая руки в бока.
— Знакомый, товарищ детства.
Женщина понимающе кивает головой:
— Давно не виделись?
— Давненько.
— Вы теперь ее не узнаете. Расцвела. Мужчины на нее заглядываются, а она — ноль внимания. Работы много, учится. Сколько раз утром придешь ее кабинет убирать, а у нее голова на книге — спит… А вот и она идет, — прикладывает палец к губам уборщица. — По походке узнаю.
В приемную действительно входит Любаша. Она пополнела, но фигура по-прежнему стройная, гибкая.
На бронзовом от загара и обветренном лице выразительные синие глаза выделяются еще резче. Золотистые, коротко остриженные волосы выглядывают из-под красной косынки. На Любаше старый жакет, вышитая белая блуза. В руке желтый чемодан-бочонок.
— Добрый вечер, тетя Клава, — здоровается она с уборщицей, не замечая меня.
— Добрый вечер, — отвечает уборщица и кивает в мою сторону. — К вам, Любовь Петровна.
Встаю. Одергиваю гимнастерку.
— Степа, ты?
Подхожу к ней. Протягиваю руки, чтобы обнять, но, заметив посторонний глаз, опускаю их.
— Пламенный красноармейский привет зампреду райисполкома, — пытаюсь, шутя, выбраться из неудобного положения.
— Премного благодарна, — отвечает она тоже шутливым тоном и оборачивается к уборщице: — Тетя Клава, это мой друг. Семь лет не виделись, а он, понимаете, боится поцеловать меня. Военный, и такой стеснительный…
— Разрешите исправить ошибку, товарищ зампред.
— Попробуйте, — отзывается Любаша смеясь.
Заходим в кабинет. Любаша опускается на стул, рывком срывает с головы косынку.
— Вымоталась я, Степа. Очень! — произносит усталым голосом. — Но работа мне по душе. Занимаюсь таким делом, от которого нельзя отказываться и которое нельзя не любить.
Вспоминаю Чехова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Такой мне кажется Любаша. В ней действительно все прекрасно.
— Как живешь? — спрашивает она меня.
— Хорошо. По уставу.
— У Миронова был?
— Утром, когда ты ему звонила.
Разговаривая, Любаша открывает дорожный чемодан, начинает выкладывать на стол его содержимое. Блокнот. Общая тетрадь в зеленой клеенчатой обложке. Книга, газета. Машинально достает зеркальце и… фотографию. Посмотрела на нее, протягивает мне. На фото Юрий Метельский в форме комиссара кавалерийского эскадрона.
— Ее мне недавно прислал профессор из Москвы. Когда воевал вместе с Юрой, он еще студентом был. Все годы после войны разыскивал меня. — В ее глазах появляются слезы. Неожиданно спрашивает: — Сына моего видел?
— Говорил с ним. Славный малый. Уверяет, что танкистом будет.
— И будет, — мокрыми от слез глазами улыбается Любаша. — Он упрямый. Книжку про танкистов достал, теперь штудирует…
5
— Как съездил? — спрашивает командир полка, когда я явился к нему с рапортом о возвращении из отпуска. — Дома все в порядке?
— В порядке.
— Ну что ж, рад за тебя. А теперь собирайся в новую поездку.
— Куда? — удивился я.
— Пришла пора нам попрощаться.
Я выдавил из себя улыбку, а сам почувствовал какую-то слабость, опустошенность. Счел необходимым спросить:
— Чем это вызвано? Или я провинился?
Командир встал, подошел ко мне:
— Переводят по службе не только провинившихся. Просто поступил приказ пересадить тебя на другого коня. На стального. Поедешь в Ленинград, на бронетанковые курсы.
Я был ошарашен: мне, коннику, — и на бронетанковые курсы?! Не произошла ли ошибка? Вспомнил слова маленького Юры из Дворца: «Там интереснее». Нет, конницу променять не могу.
— Надеюсь, доверие оправдаешь?
— Постараюсь. Но жаль уходить, — признался я. — Если не поздно, нельзя ли изменить решение?
Командир сочувственно взглянул на меня. Старый кавалерист великолепно понимал мое состояние.
— Хорошо усвой, товарищ Шутов, — заметил он, — для коммуниста не важно, где служить Родине, а важно, как служить. Военная техника развивается, поэтому армии нужны знающие командиры, имеющие боевой опыт…
Прощаюсь с эскадроном. В последний раз прихожу на манеж. Стою с чемоданом в руке и никак не могу уйти. На душе тяжело-тяжело и грустно. Неужели я больше никогда сюда не вернусь? Сколько раз приходилось уезжать из части в командировки, даже на учебу, но я всегда знал, в свой полк не попаду, все равно кавалеристом останусь! Я — конник, буденновец, и этим все сказано. Теперь, впервые за службу в Красной Армии, мне, точно допризывнику, приходилось вступить в новый, неведомый мир.
О Ленинграде я слышал много. Даже мечтал побывать там. Когда же дошло до осуществления мечты: робость взяла: как-то он меня встретит?
А приехал — вижу, волновался напрасно. Чудесный это город!
С вокзала — сразу на курсы. Явился к начальнику; представился. Тот направил меня в общежитие курсантов.
И вот большой двор. Незнакомые возбужденные лица. В меня впиваются сотни глаз. Прохожу мимо веселой, шумливой группы.
— Шутов!
Останавливаюсь. Ищу глазами того, кто окликнул. Ни одного знакомого лица. Возможно, ошибся? Опять тот же голос:
— Спартак!
Странно! «Спартаком» меня прозвали в школе имени ВЦИК. Группа расступается, и передо мной вырастает Саша Киквидзе.
— А, Окурок! — смеюсь. — Здорово, старина! Тебя тоже сняли с седла?..
Это хорошо, что я не один. К исходу дня у меня уже много товарищей. Вместе гуляем по двору, вместе курим, вместе идем ужинать. Договариваемся стараться «как-нибудь» попасть в одну учебную группу.
Ночью на мою койку перебирается Саша. Оттесняет меня к стене, вытягивается, подкладывает руки под голову и долго молчит. Наконец из груди его вырывается глубокий вздох.
— Что такое танк? Бездушная телега, холодная машина, скелет из железок, — вполголоса рассуждает он. — Ты над ним не хозяин. Он тебя не понимает… Разве танк может сравниться с конем — живым, умным существом? В общем, я решил: завтра подаю рапорт.
— Не торопись. Надо присмотреться…
— Чего тут присматриваться! — перебивает меня Киквидзе. — Пиши рапорт, и баста! Откажут — жаловаться надо.
Я пытался успокоить горячего парня. Но нельзя сказать, что мне это удалось. Слова мои звучали не очень-то убедительно, я ведь и сам не прочь был вернуться в кавалерию.
На следующее утро нас собрали в большой зал на обстоятельную лекцию по истории танков.
Первая боевая гусеничная машина, оказывается, появилась у англичан и названа английским словом «tank». Но первым такую машину изобрел русский. Еще в 1911 году сын прославленного ученого Менделеева инженер Петербургского судостроительного завода Василий Дмитриевич Менделеев представил правительству проект гусеничного вездехода. Его проект, однако, из-за косности царских чиновников осуществлен не был.
Лишь девять лет спустя, в августе 1920 года, из ворот завода «Красное Сормово» вышел первый русский, советский танк, изготовленный по совету Владимира Ильича Ленина. Рабочие выполняли почетный заказ в исключительно тяжелых условиях. Не было опыта. Не было оборудования, и сложные детали делались вручную. Донимал голод, холод. Но танк родился. Ему дали название «Борец за свободу товарищ Ленин». Вслед за этой машиной было выпущено еще четырнадцать. И все они были гораздо лучше иностранных.
Лектор сумел заинтересовать нас. Даже Саша Киквидзе «забыл» проситься назад в кавалерию.
Началась учеба. Мы занимались, как говорится, до седьмого пота. Каждую свободную минуту старались использовать с толком.
Бывало, наступит выходной день. Хочется выйти в город, посмотреть новый фильм, побывать в музеях, в Эрмитаже, забраться на Исаакиевский собор или просто побродить вдоль набережной Невы. А идешь в танковый парк. Залезаешь в машину и снова, в который раз, изучаешь механизмы, проверяешь прочность усвоенного.
С какой завистью смотрели мы на счастливчиков, которые уже раскатывали по танкодрому! Хотелось самому сесть за рычаги, но нас пока допускали только до тренажера.
На тренажере сидишь, а он качается, и впечатление такое, будто находишься на боевой машине. Тут мы учились действовать рычагами и педалями так, как это делает танкист.
Позже нам доверили руль трактора и лишь потом — танк. День первого выезда на танке стал для нас праздником.
Изучение техники, тактики танковых подразделений, напряженные тренировки на спортивных снарядах требовали много сил и времени. Один из курсантов, тоже бывший конник, все же не выдержал. Мы его отговаривали, особенно Саша Киквидзе, но он добился отчисления.
— Все равно танкистом не стану, — уверял он.
После курсов меня назначили командиром учебно-танковой роты. Снова напряженная работа в будни и по праздникам.
Часть наша стояла в Белоруссии, в нескольких десятках километров от моего родного Дворца. А я все не могу выбрать времени съездить домой, повидать родных, знакомых.
Однажды к нам прибыла делегация колхозников. Среди них были и мои односельчане. Возглавляла делегацию Любаша Метельская.
Гости привезли бойцам подарки, выступали перед танкистами с рассказами о своем труде.
Воспользовавшись торжественной суетой, я отозвал Любашу, спросил, почему она не взяла с собой Юру.
— Боялась, что он заставит тебя при всех краснеть, — ответила она смеясь. — Ты же уверял, будто ни за что не променяешь службу в кавалерии.
— Да, Любаша, пришлось пересесть на танк.
— Жалеешь об этом?
— Ничуть.
6
Весна 1936 года. Я получаю назначение в Киев.
Украина встречает запахом полей, лесов, цветов. Поезд покидает Дарницу. Перед взором мелькают лесистые холмы, кустарники, пески. Вспоминаю Митю Градюшко. Его мать по-прежнему живет в Киеве. Я с ней переписываюсь.
— Далеко еще до Днепра?
— Сейчас увидим его, товарищ старший лейтенант, — отзывается сосед по купе. — Днепр разлился, наводнение в нынешнем году.
Поезд замедляет ход. Зеленовато-желтая вода прорывается между тяжелыми быками моста. Тут и там по зеркалу реки скользят лодки.
Днепр… Как много чудесных песен сложено о нем! На берегу Птичи я старательно повторял за Митей: «Реве та стогне Днiпр широкий…» Митя, Митя, не дожил ты до этого счастливого часа! Взглянул бы, мой друг, на свой родной Киев.
Внизу, вдоль гранитной набережной, мчатся машины. Поспешает по своему пути новенький трамвай. У причалов собрались белые, гордые, как лебеди, пароходы.
Поезд врезается в город. Обратно, в сторону Днепра, проплывает небольшая гора, покрытая бело-розовым пледом цветущих фруктовых деревьев. Домишки. У одного из них замечаю пожилую женщину с садовой лейкой. Свободной рукой она машет пассажирам. Не Мария ли Филипповна это? Сегодня я должен ее повидать!
— Вон тот деревянный домик, — указывает мне прохожий.
Открываю калитку. Сразу же обрывается детский смех. Мальчик и две девочки изучающе смотрят на меня. Догадываюсь, кто они. Это их Мария Филипповна взяла из детского дома на воспитание. Мальчика она назвала Митей, а девочек Валей и Соней — именами сына и дочерей, погибших в годы гражданской войны.
— Митя, Валя, Соня, — обращаюсь к детям, — мама дома?
Дети переглядываются: откуда я их знаю?
— А вы кто будете, товарищ старший лейтенант? — спрашивает Митя. — Мы вас не знаем.
У одной из девочек вдруг загораются глаза:
— Вы дядя Степан?
— Ты угадала.
— Ма-ма, дядя Степан приехал! — выкрикивают дети хором и убегают.
Я полагал, что встречу старую, подавленную горем женщину, но Мария Филипповна выглядит довольно молодо. Она обнимает меня, как родного, благодарит за то, что не забываю ее, и тут же принимается накрывать на стол.
— Зеленый борщ любишь? — спрашивает она. — Со сметаной?..
После обеда Мария Филипповна отправляет детей гулять, а сама подсаживается ко мне.
— Теперь рассказывай о сыне.
Сообщаю о нашей с ним дружбе, о его героической смерти. Она вздыхает. Потом тихо говорит:
— Спасибо за хорошее слово о Мите… Отец его тоже погиб, еще в девятьсот пятом. Оставил меня тогда с тремя детьми на руках. Сначала думала — конец пришел. Впору хоть в Днепр броситься… А потом ничего. Спасибо, люди помогли… — Мария Филипповна помолчала, справилась с охватившим ее волнением, неожиданно спросила: — Видал, какие у меня сейчас дети? Будь спокоен, они вырастут такими же, как Митя, как мой муж, как мои дочери — железными. Буря их не свалит, волна не унесет…
Я смотрю на эту слабую на вид женщину и удивляюсь ее внутренней цельности и стойкости. Потом, когда самому бывало трудно, образ ее всегда возникал перед моими глазами.
Я посещал курсы усовершенствования командного состава при Киевском доме Красной Армии. С утра до вечера находился в части, с вечера до полуночи — на курсах.
С курсов, бывало, придешь — в голове шум, ноги держать отказываются. Только бы до подушки добраться. Думать ни о чем не хочется. А спать нельзя! Еще нужно к занятиям с танкистами подготовиться, свои уроки выполнить. И так каждый день.
Иногда раскисать начинал. Но вспоминал слова Марии Филипповны: «Человек крепче железа…» — и сразу брал себя в руки…
Осенью состоялись окружные маневры. На них участвовала и наша рота.
Помню, остановились мы на опушке леса, вблизи села Бортничи. Обедаем, расположившись прямо на земле. Вдруг к нам направляется легковая машина.
У нас, конечно, волнение: раз легковая, — значит, начальство. Действительно, из машины выходит командующий Киевским военным округом И. Э. Якир. О прославленном герое гражданской войны, замечательном советском полководце я много читал, еще больше слышал из уст товарищей, знавших его лично.
— Рота, смирно!
Докладываю командующему, что в таких случаях полагается. Он глядит на меня пытливо, внимательно и в то же время удивительно ласково, по-отечески. «Так может смотреть только чуткий человек», — подумал я, и робость сразу пропала.
— Как дела, товарищи? — обращается Иона Эммануилович к танкистам. — Чем вас сегодня кормят? О, догадываюсь! — восклицает он весело. — На первое дежурный борщ, на второе — каша с мясом. Угадал?
Бойцы переглянулись, заулыбались. Между ними и командующим сразу же установились непринужденные отношения.
— Борщ, конечно, есть. Только зеленый, со сметаной. На второе котлеты, — докладываю. — И холодный квас.
— Холодный квас? — с удивлением переспрашивает Якир. — Чудесно! В такую жару хороший квас весьма кстати.
Командир взвода Алексей Царев глядит на меня вопросительно. Отвечаю ему кивком головы.
Командующему подносят большую кружку. Он выпивает одним залпом и, крякнув от удовольствия, благодарит. Тут же спрашивает, как это мы в сложной обстановке учений умудрились наварить квасу.
— Мы тут ни при чем, — улыбается Царев. — Колхозники целую бочку квасу в подарок нам привезли.
— Это показательно, — Якир оживился. — Вот как, товарищи, народ заботится о своей родной армии.
Механик-водитель Лимарченко достает из кармана гимнастерки свернутый пополам конверт, показывая его Ионе Эммануиловичу, говорит:
— Товарищ командующий, интересное письмо вчера получил.
— Ну и что же вам пишут? Почитайте, пожалуйста, если можно.
Якир опускается на траву рядом с бойцами. Подогнув ногу и обхватив колено руками, внимательно слушает.
— К нам в Чернобыль приехал на побывку дружок мой, на флоте сейчас служит, — начал рассказывать танкист, разворачивая письмо. — Во время отпуска с ним приключилась беда, попал в аварию. В больницу его взяли в тяжелом состоянии. Доктор посмотрел, говорит: нужна кровь для переливания. — Лимарченко разгладил на колене смятое письмо. — Так вот что отец по этому поводу пишет: «Узнали у нас на селе, что кровь матросу нужна, и все пошли в больницу. Не знаем, может, много ее нужно. Я тоже пошел, и сестра твоя Леся. Приходим, а у больницы полно людей. Доктор вышел на крыльцо, говорит: „Спасибо, товарищи, но ничего больше не требуется, кровь матросу дала наша медсестра“».
— Действительно интересное письмо, — согласился Якир. — Здесь, как видите, другая форма проявления любви народа. Мы, воины, на заботу трудящихся должны ответить отличной боевой готовностью. На западе сгущаются тучи войны. И наша задача — крепить бдительность, быть готовыми обеспечить мирный труд советских людей. — Командующий встал: — Посмотрим, готовы ли вы к этому…
В небо взвилась ракета. Танки роты пошли в «бой». Из моей машины И. Э. Якир наблюдал, как танкисты умеют водить, стрелять, взаимодействовать между собой, преодолевать препятствия. Он и сам садился на место механика-водителя, исполнял обязанности командира танка.
Прощаясь с нами, командующий сказал:
— Я доволен. Благодарю за хорошую службу, товарищи.
Могли ли мы в те минуты думать, что вскоре этот простой, душевный человек, один из крупных полководцев Красной Армии, будет объявлен изменником Родины? Лишь много лет спустя справедливость восторжествовала и мы узнали правду: Иона Эммануилович Якир оказался жертвой культа личности.
7
В конце тридцать девятого года белофинны спровоцировали войну. Я подал рапорт с просьбой направить меня на фронт. Получив вызов в Москву, тотчас же поехал прощаться с Марией Филлиповной.
Мы с ней сидим за столом, разговариваем, шутим. Я пока молчу об отъезде. Но на лице ее вдруг появляется рассеянное выражение.
— На фронт уезжаешь, Степа? — спрашивает.
— Почему вы так думаете?
Она грустно улыбается:
— На то я мать. Мать все видит.
Пришлось признаться.
— Отправляют или сам, добровольно идешь?
— Добровольно.
Крепилась женщина, крепилась, виду не подавала, что волнуется, но, когда стали прощаться, заплакала:
— Увидимся ли еще?
— Увидимся. Непременно, — утешаю ее.
Мария Филипповна и ребята провожали меня до трамвайной остановки.
— Обязательно пиши, — попросила она. — Чаще пиши.
— Каждый день буду писать, — ответил я торопливо, уже с подножки трамвая.
— И береги себя! Береги-и-и!..
Тяжело отдуваясь и выпуская белые клубы пара, локомотив медленно втягивал вагоны под стеклянную крышу вокзала. Я, не в силах дождаться остановки, выскочил на ходу. Спешил, надеясь в тот же день попасть в отправляющийся на фронт эшелон.
На привокзальной площади сел в такси:
— Браток, нажми, пожалуйста. Срочное дело.
Шофер понимающе кивнул головой и рванул с места.
Через полчаса, запыхавшись, вытирая платком вспотевший лоб, я уже стоял перед начальником, вызвавшим меня в Москву.
— Товарищ капитан, поедете в Среднеазиатский военный округ. Вы назначены командиром батальона в отдельную танковую бригаду, — сообщил он сухо, по-деловому. — Бригада стоит в городе Мары…
— Как же так? Разве вы не получали моего рапорта?
— Получил. Но вам, однако, придется выбыть к новому месту назначения. Так нужно. Понятно?
Понятно! Мне понятно, что напрасно я прыгал на ходу из вагона, напрасно шофер такси бешено гнал машину!
Не спеша направляюсь в кассу за билетом. Поезд отходит ночью. Куда деть свободное время?
Мары… Что это за город? Какой Колумб открыл его? Надо порыться в энциклопедии. Может, там есть справка о нем.
В библиотеке Дома Красной Армии беру тридцать седьмой том энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Он сообщает, что Мары «довольно благоустроенный город». В нем более шести тысяч жителей. Несколько церквей, молитвенных домов. Один врач, два фельдшера и акушерка. Ничего себе благоустроенный город, да еще после Киева!
— Дайте, пожалуйста, Большую Советскую, — прошу библиотекаршу, но тут же отказываюсь: — Хотя не надо. На месте выясню. Том издан несколько лет назад, а наши города меняют свой облик чуть ли не каждый час…
Против ожидания, Мары оказался красивым. Здесь узловая железнодорожная станция. Аэропорт. Завод. Электростанция. Четыре школы. Техникум. Парк культуры и отдыха. Две библиотеки. Больница, детские сады, ясли. Два кинотеатра…
Уже скоро я привык и полюбил городок, его жителей. И объяснить это не сложно: куда бы ни забросила тебя судьба, в каком бы краю Родины ты ни оказался, — всюду ты дома, всюду ты среди своих.
В Мары мне сразу бросилось в глаза гостеприимство жителей, чувство признательности, любви к русским. Бойцы и командиры части отвечали им тем же. У нас часто проходили встречи бойцов с молодежью, совместные концерты самодеятельности. Нам нравились задушевные песни туркменов.
Словом, все хорошо, кроме одного. Я не мог свыкнуться с местным климатом и с трудом переносил жару.
Летом в песках, на барханах занятия для меня превращались в настоящую пытку. Да и всем приходилось трудно. Часто жара достигала 50–60 градусов. Броня танков нагревалась так, что к ней нельзя было прикоснуться.
Но и это еще полбеды. Самым страшным испытанием были ветры. Необыкновенные, порывистые. Они поднимали тучи раскаленного песка, катили их по степи, швыряли из стороны в сторону. Во время такого ветра казалось, будто земля уплывает из-под ног и ты проваливаешься в бездонную пропасть. Горячая песчаная пыль запорашивала глаза, забивала уши, набиралась в нос и рот. Ветер обычно свирепствовал недолго, зато успевал натворить много. Танки, например, после песчаных бурь оказывались засыпанными, и их потом откапывали.
Но в Краской Армии действовал принцип «Трудно в учении, легко в бою».
Часто у нас проводились и ночные занятия. Тогда было прохладнее. Но темнота вызывала другое неудобство — появлялась опасность нападения скорпионов, фаланг.
Помню, как-то вечером в моей палатке шло совещание командиров. Все было спокойно. Вдруг вскакивает командир роты старший лейтенант Овчаренко и кричит:
— Ой, лишеньки! Ой, укусила! Правый бок отнимается.
Все бросились к пострадавшему. Один из командиров заметил фалангу.
Мне уже приходилось видеть, как поступали жители в таких случаях. Поэтому, недолго думая, в месте укуса я сделал бритвой два разреза крестом и выдавил кровь. Потом прижег рану спиртом.
Позже «встречи» со скорпионами стали довольно частыми, и многие поневоле сделались «хирургами».
Однажды к нам в лагерь пришел старый туркмен. Сказал, что хочет видеть командира. Я вышел на плац, где он стоял в окружении танкистов.
— Товарищ командир, — туркмен приложил обе руки к сердцу и отвесил поклон. — Я кольхос, болшая кольхос — понимай?
— Понимаю.
Туркмен сообщил, что его прислали односельчане. В песках водятся ядовитые, очень опасные змеи, и колхозники сочли нужным предупредить нас.
— Смотри, — он вытянул из-под халата убитую змею. — Надо покажи фсем, фсем, — обвел он вокруг себя рукой.
— Спасибо, — крепко жму руку старику. — Передайте колхозникам нашу горячую благодарность.
Туркмен обещает передать мои слова, но не уходит. С минуту молчит. Затем, испытующе взглянув на меня, быстро машет руками и принимается жужжать.
— Самолет, что ли?
— Нет. Ожидай ветер, — говорит старик. — Больно шибко…
— Знаем, — отвечаю ему. — Нам сообщили сводку погоды. Мы не боимся ветра. Танкисты учатся воевать в любых, самых трудных условиях.
— Корош, — соглашается туркмен. И, приложив руку к сердцу, откланивается.
8
Не было ни гроша — и вдруг алтын! Около месяца не получал писем, а тут неожиданно приносят целых три. Все приятные.
Директор совхоза из Дворца приглашает «хоть на денек» навестить сестру и заодно посмотреть его хозяйство. Пишет, что урожай ожидается хороший, удой молока рекордный и приплод высокий. Хозяйство соревнуется за республиканское переходящее Красное знамя.
Мария Филипповна зовет к себе. Просит: «Обязательно приезжай».
Из Молдавии пришла весточка от Саши Киквидзе. Его танковый батальон стоит у самого Днестра. Река ему нравится, но Кура все-таки лучше и больше. На целых сто четыре километра длиннее! «Голубоглазый эскулап», так он называет свою жену-врача, подарила ему маленькую грузинку.
Киквидзе заканчивает письмо тоже приглашением: «Отпуск бери и со всей семьей валяй к нам».
Зашел к врачу. Показываю ему письма:
— Как думаешь, — спрашиваю, — чье предложение принять?
— Чепуха! — машет он рукой. — Лучше на курорт езжай. В Сочи или Ялту. Полтора года ты у нас, а еще ни разу как следует не отдыхал!..
— За своим здоровьем лучше следи, — отшутился я. — Рабочий день давно кончился, домой пора, нечего тут штаны протирать. И не забудь: завтра воскресенье, после обеда жду на партию в шахматы…
Время позднее, а уходить из части не хотелось. По пути к дому я много раз останавливался.
На нашем стадионе заядлые футболисты гоняли мяч. Возле умывальника кто-то усердно занимался туалетом, наглаживал гимнастерки, пришивал воротнички. На эстраде собрались хористы и под аккомпанемент баяна разучивали новую песню. На лужайке, под деревом, группа танкистов смеялась над свежим номером «Крокодила».
Свернул на дорожку, ведущую к воротам. Впереди, понурив голову, руки за спину, прогуливался плечистый танкист. Я попытался со спины угадать, кто это. Иванов? Нет. Тот меньше ростом и уже в плечах. Может быть, Костомаров? Но Сергей не любит одиночества. Неужели он собирается «улизнуть» без увольнительной? Я тут же отогнал это нелепое обвинение. Наш батальон передовой и по успеваемости в учебе и по дисциплине. У нас вообще не было ни одного случая нарушения установленного порядка, тем более самовольной отлучки.
А пока я размышлял, танкист повернулся и все так же — взор в землю — пошел мне навстречу. Алмазов! Как же я не узнал одного из лучших механиков-водителей?
— Что-нибудь случилось?
Танкист вздрогнул от неожиданности, поднял глаза, сразу подтянулся:
— Ничего не случилось, товарищ капитан. Просто задумался.
— О чем же? Может, посвятите меня, если это не секрет, если здесь не замешана девушка.
Танкист слабо улыбнулся, отрицательно покачал головой:
— Какие у меня секреты, товарищ капитан! Просто после сегодняшних занятий по тактике не все в голове уложилось.
— А что такое? Ну-ка давайте присядем, — указал я на ближайшую скамейку.
Алмазов опустился рядом со мной и задумался, собираясь с мыслями. Потом поднял голову:
— Вот вы сегодня, товарищ капитан, рассказывали нам насчет форсирования реки. Когда я слушал вас, все было ясно, и пример привели понятный, ничего не скажешь. А уже после занятия я подумал: не всегда же будут благоприятные условия. Ну, а если, допустим, не окажется ни табельных переправочных средств, ни подручных? Что тогда? Значит, наступление сорвется?
Я слушаю и радуюсь. Приятно сознавать, что бойцы наши воспринимают изучаемый материал неформально, а творчески. Такие станут отличными специалистами.
Пока я беседую с Алмазовым, рассказываю о возможных неожиданностях в бою и инициативе танкиста, то и дело слышно:
— Разрешите присутствовать.
К нам подсаживаются новые и новые бойцы, в беседу включаются новые голоса. Оглянулся: собралось уже человек тридцать…
Домой я пришел далеко за полночь. Устал, но был счастлив.
Хотя и воскресенье, я встал рано. Побрился, надел форму и вышел посмотреть, как начался выходной в части.
День был солнечный. В небе ни облачка. Жара уже давала себя знать.
Соседи мои были чем-то встревожены. Особенно это заметно было по жене секретаря партбюро Кошелева. Всегда аккуратная, следившая за собой, сейчас она стояла в старом халатике, заспанная, непричесанная.
— Мария Никитична, добрый день, — поздоровался я. — Кошелев не собирается в часть?
— Его уже вызвали, — она подошла ко мне и тихо, полушепотом добавила — Война, говорят, началась…
Я поспешил в батальон.
Дневальный докладывает:
— Все в порядке. За ночь никаких происшествий не случилось. — И тоже по секрету: — Слухи ходят про войну, товарищ капитан. Но я думаю: провокация это! Сами знаете, всякие тут шаманы…
Со всех ног несусь в штаб. Дежурный срывающимся от волнения голосом сообщает горькую правду:
— Фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на нашу Родину. На рассвете гитлеровские самолеты бомбили Минск, Киев, Севастополь.
Уши слышат, сердце не верит. Неужели война? Какие только меры не предпринимали наша партия, правительство, чтобы избежать кровопролитной войны! А она все-таки вспыхнула…
Минск бомбили!.. Родной мой город. И Киев! Как-то там Мария Филипповна? Сколько горя принесет ей война! В Киеве и моя семья. Жена, дети. Галя все собиралась переехать ко мне, но из-за болезни матери так и не смогла выбраться…
Горькие мысли прерывает Кошелев. Он подходит и говорит с деланным спокойствием:
— Надо созвать митинг, — голос, однако, выдает волнение секретаря.
— Правильно, — поддерживаю его. — Всех собирай. И семьи…
Радио передает заявление правительства. В нем звучит твердая уверенность в победе.
У репродукторов весь батальон. Я смотрю на бойцов. Постепенно их лица светлеют. Они понимают: предстоит трудная борьба, враг силен, но победим мы.
Митинг был коротким. На трибуну один за другим поднимались рядовые, командиры. Вот выступает жена ротного Аня Овчаренко. Глаза ее воспалены от слез.
— Товарищи! Мы, женщины, просим, чтобы и нас, способных держать оружие, призвали в армию. — Она протягивает секретарю партбюро Кошелеву тетрадный лист: — Тут список пожелавших добровольно идти на фронт. Мы заявляем Гитлеру: «Настал твой черный день. Ты посеял ветер — пожнешь бурю!»
Эту молодую, внешне довольно интересную женщину многие у нас недолюбливали. Она всегда держалась особняком. Отказывалась от общественной работы, не посещала собраний жен командного состава, устраивала мужу скандалы из-за того, что тот «пропадает на службе больше положенного». Охотнее всего она говорила о модах, о танцах, о старых бульварных романах. Овчаренко, способный командир, честный коммунист, не раз жаловался:
— Люблю я жену, но тяжело с ней. Она по уши мещанка. И исправлению не поддается.
А вот теперь Аня просит отправить ее на фронт, произносит толковую речь! Удивлены ли мы? Нет. Угроза, нависшая над Родиной, пробудила в ней чувство патриотизма и ответственности…
9
Поступил приказ подготовиться в путь. Взять с собой разрешается самое необходимое.
В батальоне, конечно, все возбуждены. Танкисты радуются: едем на фронт!..
Накануне выступления произошел инцидент. Ко мне в кабинет врывается механик-водитель Ермолаев. В… трусах и майке. Сам раскрасневшийся, глаза горят.
— Товарищ капитан, — просит умоляющим голосом, — возьмите меня с собой. Не оставляйте здесь.
— Ничего не пойму, — отвечаю. — Что у вас за вид? И почему вы думаете, что вас оставят?
— Я из санчасти, — поясняет Ермолаев. — Доктор меня не берет.
Попросил врача к себе. Тот удивляется, увидев у меня своего пациента:
— Как вы здесь оказались, кто вам позволил удрать из лазарета? — И, повернувшись ко мне, говорит: — Температура у него. С эшелоном ему ехать нельзя.
— Да здоров я, вполне здоров, — горячо доказывает Ермолаев. — Разрешите сесть в танк, сразу докажу.
— Нет, товарищ Ермолаев, придется остаться, — строго говорю ему. — Выздоровеете, тогда и догоните нас.
— Как же догоню? Где я вас найду? Лучше я с вами поеду.
Кстати заходит Овчаренко. Ермолаев из его роты. Объясняю, в чем дело. Доктор пытается повлиять, видя, что я начинаю колебаться. Но Овчаренко назидательно говорит:
— И думать нечего. На войну едем, не на гулянки. Там не будет времени всякий раз температуру мерить. Там, товарищ доктор, даже убить могут.
Врач промолчал, только поморщился.
Я подумал, что разговор принял нежелательное направление. Нехорошо, что командиры в присутствии подчиненного пикируются.
— Ладно, — говорю Ермолаеву. — Сейчас идите в лазарет. Врач решит. Если можно будет, он позволит вам ехать с эшелоном.
Когда дверь за ним закрылась, доктор посмотрел на меня:
— Я все понял, товарищ капитан. Ермолаев поедет с батальоном…
Во время погрузки я увидел Ермолаева, работающего вместе со всеми. Подошел к нему:
— Как себя чувствуете? Температура держится?
— Никак нет, — ответил он бодро. — Температура в лазарете осталась.
Погрузка заканчивается. Подъезжает последняя машина с сухарями, концентратами. С горы мешков и фанерных ящиков спрыгивает молодой, высокого роста политрук с глубоким, недавно зарубцевавшимся шрамом на виске. На груди поблескивает орден Красной Звезды.
— Политрук Загорулько, — представляется он. — Назначен вашим заместителем по политчасти.
Пожимаю ему руку. Произношу то, что обычно говорят в таких случаях: «Рад», «Будем работать вместе», «Хорошо, что вас прислали» и прочее в том же духе. А про себя рассуждаю: «Не подеремся ли с ним? Найдем ли общий язык?»
Гляжу на него в упор. Простое, открытое лицо, которое не может не понравиться. Глаза мутно-зеленые с золотой россыпью. Но внешний вид иногда бывает обманчив.
— Вы, вижу, обстрелянный?
— Немного, — скромно отвечает Загорулько.
Рассказывает, что участвовал в финской войне командиром танка. Награжден за выполнение боевого задания. Бывал в переделках, горел, тяжело раненный, в машине. Долго лечился. Из госпиталя пошел на курсы политсостава…
Уже при первой встрече я заметил, что замполит немногословен. Потом этот вывод подтвердился. Политрук не любил громких фраз, с подчиненными разговаривал просто, как с товарищами. Говорил негромко, но как-то так убежденно, что сразу умел завладеть вниманием слушателей. Бывало, спор идет, танкисты шумят, друг друга перебивают, а послышится спокойный голос Загорулько — сразу все затихают. Это умение заместителя покорить слушателей, заставить слушать себя, признаюсь, вызывало у меня некоторую зависть, желание подражать ему.
Как-то, еще когда ехали на запад, я застал Загорулько в окружении танкистов. Тоже присел послушать, о чем речь идет. А беседа по тому времени оказалась довольно острой.
Говорил танкист Воскобойников, но при моем приближении вдруг смутился и замолчал.
— Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь, — поддержал бойца замполит. — У вас не должно быть неясных вопросов. Выкладывайте все, что волнует.
— Непонятно мне, товарищ политрук, — приободрился Воскобойников. — Нам все говорили: Красная Армия непобедима, в случае войны будем бить врага на его территории. А что получается? Фашист на нашу землю пришел. Теперь говорят: Гитлер напал на нас внезапно. Ну хорошо, внезапно, это верно, на то он и фашист. Но почему мы все отступаем и отступаем? Сколько можно?
Смотрю на бойцов. Глаза всех устремлены на политрука. Чувствуется, каждого задел за живое вопрос Воскобойникова. Наш уполномоченный особого отдела называет такие разговоры «пораженческими» — слово-то какое придумал! — и требует расстреливать тех, кто их ведет. Если он узнает о теперешней беседе, пожалуй, и Загорулько обвинит в подстрекательстве. Может, заодно и меня. А мне действительно многое из того, что происходит на фронте, непонятно. Мне тоже не безразлично, когда наши остановят врага.
Жду, что скажет Загорулько. А тот молчит. Задумался. Смотрит через головы танкистов в раскрытую дверь вагона, словно через пространство хочет разглядеть, что происходит там, на Западе, где идут тяжелые, кровопролитные бои.
Стоит неловкая тишина. Слышны шаги за вагоном. Издали доносится шипение паровоза, звон буферов.
Политрук наконец встряхивает головой, приглаживает сбившиеся набок волосы:
— Да, товарищ Воскобойников, вы вправе сейчас обвинять нас, ваших непосредственных начальников, и тех, кто выше, кто, например, первым пустил по свету фразу о чужой территории. Сердце болит не только у вас, но и у меня, надеюсь, у Филимонова, Алмазова, Грицюка, Алиханяна, у всех бойцов и командиров батальона.
Я поражаюсь: скольких танкистов знает уже мой заместитель!
— Вы правы, — продолжает между тем Загорулько, — когда ищете причины наших неудач не только во внезапности нападения фашистов. Да и сама внезапность, почему она оказалась возможной? Значит, проглядел что-то тот, кто обязан был заметить подготовку Германии к нападению на нас. Ведь если, например, военная часть на поле боя будет неожиданно атакована, как это следует понимать? А так: командир либо не сумел разведку организовать, либо неправильно оценил обстановку. Так и здесь. Кое-кто у нас оказался загипнотизированным подписью фашистов под договором о ненападении Германии на СССР.
Откровенно говоря, слова Загорулько вызвали у меня противоречивые чувства. Прозрачный намек на ошибки командования Красной Армии воспринимались как святотатство. До сих пор я привык верить в непогрешимость военного руководства. Внушил себе, что раз оборону страны возглавляет Сталин, значит, ошибок быть не может: он все знает, все видит, все предусмотрит. Даже если подчиненный проглядит что, Сталин непременно это обнаружит и поправит. В то же время смелые слова замполита и понятный мне пример из тактики посеяли некоторые семена сомнения.
Раздумывая, я все время прислушивался к разговору в вагоне.
— Товарищ политрук, а правду говорят, что перед войной Гитлер подтянул к нашим границам двести дивизий? Неужели в Москве об этом не знали? — спрашивает Ермолаев.
— Как не знать, обязательно знали. Только думали, будто немцы оттягивают войска с Западного фронта на отдых. В общем, Гитлер перехитрил нас.
Опять неловкое молчание.
Загорулько оглядел всех, улыбнулся:
— Все же носы вешать незачем. Правда, враг имеет сейчас преимущество и успех. А вспомните, как в гражданскую войну и во время интервенции четырнадцать государств на нас шло. В том числе и Англия, Америка. Тогда Красная Армия, молодая еще, тоже вначале отступала, а потом собралась с силой и разгромила врага. Теперь Красная Армия лучше вооружена и организована. Так что фашисты тоже будут биты…
Слова политрука доходят. Я вижу, как лица бойцов светлеют. Старшина Дорянский затянулся папиросой, пустил дым кольцами, глядя на них, задумчиво сказал:
— Русского расшевелить нужно, а там только держись! Ничего, братцы, мы фашистам еще покажем! Они Минск мой бомбили. Так что у меня с Гитлером личные счеты…
Когда мы с Загорулько переходим в свой вагон, в тамбуре он останавливает меня:
— Как вы думаете: должен доктор говорить больному правду о грозящей ему опасности или лучше скрыть это?
— Смотря какому больному.
— Вот именно: смотря какому больному! Наш боец сильный духом. Вот почему я считаю, что бойцу надо говорить только правду. Это позволит ему лучше морально и физически подготовиться к борьбе.
10
На одной из стоянок к нашему вагону подошли два пожилых узбека, просят:
— Пожалуйста, возьмите нас с собой.
Спрашиваю:
— Куда вас взять и зачем?
— Мы знаем, что вы на фронт едете, — говорит один из них. — У нас сыновья тоже воюют. На войне чем больше людей, тем лучше. — И опять просит: — Пожалуйста, возьмите. Заслуги у нас есть, вот медали за строительство Ферганского канала.
Долго пришлось доказывать, что вопрос о направлении их в армию решает местный военкомат. Если в них будет нужда, вызовут.
— Вы лучше побольше хлопка давайте, — говорит Загорулько. — Этим поможете фронтовикам бить фашистов…
В тот же вечер, когда мы стояли на небольшой станции между Ташкентом и Бухарой, прямо к эшелону подкатил грузовик. Из кабины выскочил шустрый человек.
— Подарочек вам, товарищи, от колхоза имени Буденного! Два десятка баранов привез.
— Спасибо, — отвечаю ему, — но нам ничего не надо. И вообще, по какому праву вы разбазариваете общественное стадо?
Собеседник обиделся. Бросил на меня возмущенный взгляд:
— Вы меня, наверное, не за того приняли. Я — председатель колхоза. А на передачу Красной Армии баранов есть специальное постановление правления. Пожалуйста, — протягивает мне бумагу с печатью.
Читаю:
«Постановление правления колхоза имени Буденного.
Выделить для отправляющихся на фронт частей нашей любимой Красной Армии (не в счет государственного плана) безвозмездно сто голов баранов».
— Понятно? — кинул на меня торжествующий взгляд председатель. — То-то. Надо сначала узнать, а потом обвинять. Ну берите быстрее.
— Зачем нам ваши бараны? Нас хорошо кормят. Так что спасибо, не возьмем.
Туркмены перехитрили нас. Пока мы толковали с председателем, его люди погрузили на одну из платформ два десятка жирных баранов с кормом на дорогу. После над старшиной Десятниковым, разрешившим погрузить баранов на свою платформу, танкисты подтрунивали:
— Теперь у тебя, Десятников, машина на четыреста лошадиных сил плюс двадцать бараньих…
Когда стали приближаться к Москве, мы почувствовали дыхание фронта.
На одной из станций паровозы набирали воду. Была объявлена часовая остановка. Рядом стал прибывший с запада поезд с детьми. Из разговоров с молодой учительницей, сопровождавшей малышей, мы узнали, что едут они из Львова.
— За нашим эшелоном до самого Тернополя гнался фашистский самолет, — рассказывала она. — Бомбил, обстреливал и в конце концов поджег три вагона. Погибло много ребят.
Танкисты, слушавшие ее, негодовали.
Постепенно у эшелона с детьми собралась большая толпа. Пришло много местных жителей. И вдруг радостный голос:
— Лена!
Старший сержант Игнатов, наш боец, разглядел в массе людей свою жену.
Чего не случится во время войны! Оказывается, Игнатова жила в приграничной зоне. В начале войны эвакуировалась и задержалась как раз на этой станции. Теперь она работала стрелочницей, и ее дежурство совпало с временем стоянки нашего эшелона. Не виделись супруги давно, было у них о чем поговорить, но оба растерялись от радости и стояли друг против друга, словно немые. Первым пришел в себя старший сержант.
— Лена, — говорит он и кивает на окно вагона, из которого глядят двое малышей, — возьми их к себе. Пусть растут будто наши дети…
— Хорошо, — быстро отвечает женщина. — Я возьму их ради тебя. Возвращайся, Гриша, с победой.
Примеру Игнатовой последовали другие женщины поселка. Я видел, как многие с материнской любовью брали на руки детишек и уносили домой.
А где мои ребята? Может, и они находятся сейчас в таком же эшелоне? Я отвернулся, чтобы подчиненные не заметили моей слабости…
— По вагонам! — звучит команда.
И снова мчимся на запад. Куда? Точно никто из нас не знает.
В Брянске все пути забиты эшелонами. На платформах — танки, пушки, понтонные лодки, железные пролеты сборных мостов. Много составов, груженных заводским оборудованием. Наш поезд загоняют в самый дальний тупик.
Овчаренко по этому поводу острит:
— Хотят познакомить с «мессершмиттами».
Направляюсь к военному коменданту станции. Зал, где он сидит, набит военными. Узнаю, что многие торчат здесь вторые сутки.
Комендант — грузный, рыжеволосый майор с ястребиным носом на плоском лице. Он разговаривает по телефону и одновременно усталым, охрипшим голосом отвечает наседающим на него людям.
Одному полковнику посчастливилось. Называет свою часть и тотчас получает маршрут.
— До свидания, товарищи! — кричит он, убегая.
Подходит моя очередь. Докладываю.
— Очень хорошо, — отвечает комендант, рассматривая меня воспаленными от бессонницы глазами. — Ваш эшелон готов к отправке? Прекрасно! Возьмем на карандаш, запишем, сообщим.
— Записывайте, сообщайте — это ваше дело. А мне, товарищ майор, дальше двигаться надо.
— Надо, — согласился он. — Воем надо. Я сам с удовольствием поехал бы с вами, да нельзя! И вам пока придется обождать.
— Почему?
Звонит телефон. Комендант с кем-то ругается. Слушает и снова ругается:
— Под суд отдам, слышите? Под суд! — швыряет трубку на рычаг и тем же рассерженным голосом отвечает на мой вопрос: — Потому, что война не игра в шахматы, понимать надо!
— Я не шахматист, товарищ комендант. Мне на фронт надо!
— Ничего не будет, — уже успокоившись, говорит майор. — Вот сейчас запишу, доложу о вас и буду ждать указаний. Прикажут отправить, ни на минуту не задержу.
Его спокойствие начинает меня раздражать.
— Хорошо, звоните. Сообщите, что прибыли танки. Танки! Понимаете — танки!
— Следующий, — дает он понять, что разговор окончен, но продолжает выговаривать мне: —Ну и народ эти танкисты! Упрямые. Это не так уж плохо, однако надо меру знать. — Снова поворачивается ко мне: — Идите отдыхать, товарищ капитан, вместо себя пришлите связного.
— Связной со мной. Лейтенант Козлов.
— Прекрасно! — подает мне комендант руку, а другой берет телефонную трубку. — Алло! Слушаю. Есть. Слушаю. Будет выполнено. — Руку мою не отпускает до тех пор, пока не кончается разговор по телефону. — Берегите, капитан, нервы. Они пригодятся для более серьезной атаки, чем на коменданта станции.
Оставляю лейтенанта Козлова связным, а сам возвращаюсь к эшелону. Огибаю один состав, другой и наталкиваюсь на майора Михайлова. Это мой друг, командир батальона нашей же бригады. Его поезд прибыл вслед за нашим. Обнимаемся, целуемся, словно не виделись целый век, а в действительности расстались всего девять дней назад.
11
Четвертые сутки стоим в тупике. Бойцы недовольны. Брюзжат: «Другие прибыли позже нас и уже поехали, а мы все стоим».
Трижды в день хожу к коменданту. Уже не спорю. Надоело. Да и майор начинает мне нравиться. За эти дни он еще больше осунулся. Глаза у него совсем красные, голос охрип и напоминает шипение гусака. Но майор выдержан, спокойно переносит бесконечные шумливые наскоки начальников эшелонов. Даже находит силы шутить.
— А, Шутов! — встречает он меня каждый раз. — Здравия желаю! Выспался? Завидую. Мне, знаешь, все некогда. Начальство говорит: «Выспишься, когда будешь комендантом Берлина». Не верю: комендантом Берлина меня не назначат.
Украдкой наблюдаю за ним и думаю: «Сколько оптимизма в человеке. Что в Берлине будет советский комендант, он уверен. Сомневается только, назначат ли его на эту должность…»
Хорошо, что немецкая авиация не навещает Брянска. Правда, разведчик как-то появлялся вблизи станции, но не успел развернуться — зенитчики его сбили.
— То, что фашисты не бомбят эту важную узловую станцию, говорит о многом, — с удовольствием отмечает Загорулько. — План «блицкриг» начинает давать осечки.
Не согласиться с этим нельзя. Авиация Гитлера понемногу начинает выдыхаться. Правда, танковые армады еще пробивают наши заслоны, отбрасывают их и идут все дальше и дальше на восток.
В сводках Совинформбюро появилось новое направление — смоленское. «На смоленском направлении наши части отбили новую атаку противника», — сообщило радио. Туманно! Где это — западнее Смоленска или восточнее?
Мой заместитель по политчасти любит ставить точки над «и»:
— Если бы бои шли западнее, это было бы указано…
У нас с Загорулько произошла стычка. Началась она, как часто бывает, с мелочи. Политрук не курит. Я заинтересовался, курил ли он когда-нибудь.
— Еще как. Двух пачек папирос не хватало. Тюрьма заставила бросить.
— Как тюрьма? — удивился я.
— Да так, — сказал он отрывисто и криво улыбнулся.
— Два года просидел, с тридцать седьмого по тридцать девятый… Как враг народа.
— Почему же скрыли это от меня? — резко бросил я.
Загорулько перешел на официальный тон.
— Товарищ капитан, я полностью реабилитирован. Партия доверила мне политработу в армии. Скрывать что-либо от вас поэтому нет никакой необходимости.
— Понимаю, — ответил я примирительно. — Но рассказать-то по крайней мере могли.
— Зачем? Если вы думаете, что это воспоминание приятно, то глубоко ошибаетесь.
— На финский фронт пошли добровольно?
— Добровольно. До ареста командовал танковой ротой. Пока сидел, техника шагнула вперед, и я отстал. Пришлось переучиваться. Словом, на финской воевал простым танкистом.
— Что ж, всевали не плохо, — я взглянул на его правый висок, затем на орден. — Доказали свою верность Родине.
— Я, товарищ капитан, на фронт пошел не верность доказывать, — вспыхнул опять Загорулько. — Кому я должен был ее доказать? Партии? Она не сомневалась в моей преданности. Ежову? Его уже не было…
Подошел майор Михайлов и прервал его объяснение. Пожаловался:
— Странно, едем и не знаем, на какое направление. Кто говорит — на киевское, кто — на смоленское.
— Неважно куда, важно, что вместе, — заметил я. — В бою всегда приятно чувствовать локоть друга.
Стоим мы втроем у вагона и тихо разговариваем. Мимо проходит старшина Ковальчук. Приветствует. Шагает до хвоста эшелона, поворачивается и идет назад. Вижу, у него к нам дело, но подойти не решается. Подзываю:
— Что случилось, старшина?
Ковальчук мнется, потом говорит:
— У меня вопрос к товарищу политруку…
Загорулько и старшина отходят. Немного погодя подхожу к ним. Меня интересует, чем Ковальчук встревожен. Тот, не видя меня, продолжает рассказывать:
— Так вот, не подчинился я ему, да еще разозлился, говорю: «Вы идите к себе и своими командуйте!»
— Кому он не подчинился? — обращаюсь к Загорулько.
— Старшему лейтенанту Вейсу.
«За неподчинение и оскорбление командира старшину надо бы немедленно арестовать», — решаю про себя, но жду, что скажет замполит. А он спрашивает у Ковальчука:
— Мне все же непонятно, почему вы отказались выполнить приказ. Приказ правильный. В чем же дело?
— Приказ-то правильный, — соглашается Ковальчук. — Только старший лейтенант ведь немец!
— Ну и что из того? Старший лейтенант Вейс — советский гражданин, коммунист, хороший командир.
— Сейчас это понятно. А тогда словно разум помутился. Подумал: «Вейс — немец. Немцы наших детей с самолетов расстреливают, города жгут, добро уничтожают…»
— Ах, вот в чем дело, — улыбнулся Загорулько. — Но вы, старшина, забываете, что не все немцы фашисты. Есть и антифашисты, которые томятся в концентрационных лагерях. Тех, кто пришел к нам с оружием, надо истреблять. К ним у нас жалости не будет. Ну, а кончится война, фашистские полчища будут разбиты, войдем в Германию — неужели примемся уничтожать и мирное население, детей?
— Что вы, товарищ политрук, — замахал руками Ковальчук, — как можно детей!
— Вот именно, — продолжал замполит, — как можно убивать беззащитных? Еще Суворов говорил: «Солдат — не разбойник». Наш же воин принесет немецкому народу свободу, а не смерть. Так-то, товарищ старшина. Мы будем истреблять врага не потому, что он немец по национальности, а потому, что он фашист, оккупант, потому, что сеет смерть… Что же касается вашего проступка, то вас следовало бы отдать под суд. Но, учитывая ваше состояние и то, что вы сами искренне осознали свою ошибку, полагаю возможным ограничиться этим разговором. — И добавил: — А перед старшим лейтенантом надо извиниться.
— Будет исполнено, товарищ политрук, — отчеканивает Ковальчук. — Стыдно, что свою ненависть к врагу не туда направил…
Когда остаемся вдвоем, Загорулько говорит:
— Трудно бойцу, на глазах которого льется кровь его народа, разобраться, какой немец хороший, а какой плохой. Вейс человек неглупый и поймет Ковальчука, так же как мы с вами. И все-таки надо потолковать с ним. У каждого есть самолюбие.
Вспоминаю нашу стычку.
— Загорулько, еще продолжаешь дуться на меня? — спрашиваю его, в первый раз обращаясь на «ты».
— За что? Ах, ты вот о чем! — смеется он. — Я придерживаюсь правила: отрезал — забыл. Гляди, лейтенант Козлов бежит.
Наш связной издали делает нам какие-то знаки. Подбегает, восторженно докладывает:
— Отправляемся! Михайлов следует за нами.
— По ва-го-о-нам! — командуют дневальные.
Танкисты прощаются с красноармейцами других эшелонов, с которыми успели уже подружиться. Из-под соседнего вагона вылезает усатый железнодорожник с молотком, достает из кармана серебряный портсигар, протягивает сержанту Зыкову:
— От меня, сынок.
— Вы что! За какие заслуги?!
— За те, что будут, — отвечает железнодорожник, пряча в усы улыбку. — Только береги. Мне его знаешь кто подарил? Щорс! Сам Микола Щорс!..
Весело стучат колеса. Поезд торопится. Кажется, он хочет нагнать упущенное время.
Почти во всех вагонах поют одну и ту же песню: «Бывайте здоровы, живите богато».
Куда нас везут? Присматриваемся к названиям станций, мимо которых проносимся.
— По-моему, в сторону Ельни, — высказывает предположение старший лейтенант Овчаренко. — В прошлом году вроде проезжали эту местность, когда ехали с Аней к ее родным.
— Во всяком случае, не в тыл, а на фронт, — заявляет Вейс.
12
В конце июля батальон вступил в бой.
В районе Рославля, в пятидесяти километрах от нас, противник высадил крупный десант. Нам приказали его уничтожить.
Каждая минута дорога. Нельзя допустить, чтобы захватчики закрепились. И все же мы решили поговорить с бойцами. Перед строем с короткой напутственной речью выступил Загорулько. Потом я дал команду, и батальон, вытянувшись в походную колонну, устремился к Рославлю.
Меня волновал предстоящий бой. Как-то поведут себя наши еще не обстрелянные танкисты? Правда, на учебных занятиях они действовали смело, энергично. Но ведь там не было опасности. А тут за каждым деревом подстерегает пушка, под каждой кочкой — мина.
Сомнения мои оказались напрасными. Бой был скоротечным и, против ожидания, легким. Мы внезапно налетели на вражеских десантников и буквально расколошматили их. Гитлеровцы потеряли что-нибудь около тысячи человек, а у нас оказались только два легкораненых. Да и ранены они были случайно, уже совсем к концу боя.
Большая часть десанта была уничтожена. Сопротивлялась лишь противотанковая артбатарея. Несколько танков обстреляли ее и выскочили на опушку леса, где она стояла. Миг — и гусеницы раздавили орудия вместе с прислугой.
Танк Овчаренко погнался за удиравшим офицером. Но, видя, что две другие машины отрезали ему путь отступления и немцу теперь не удрать, механик-водитель решил взять его живым. Он остановил танк, выскочил из люка и побежал за фашистом.
Гитлеровский офицер, у которого перекосилось от страха лицо, поднял руки. Но в это время раздался выстрел из кустов, и танкист упал. На помощь ему уже спешил товарищ. Пуля из кустов свалила и его. Только тогда в кустах обнаружили и застрелили другого фашиста.
Пленный оказался майором Шнерке, командиром десанта. Он был молод, высок, строен, плечист. На груди его сверкал Рыцарский крест.
— За что награда? — поинтересовался я.
Когда старший лейтенант Вейс перевел вопрос, майор высокомерно посмотрел на меня:
— Я имел удовольствие участвовать в Голландской и Бельгийской операциях.
— На Западе вам сопутствовал успех, а на Востоке звезда ваша закатилась, — заметил Загорулько.
— Если иметь в виду лично мою звезду, это действительно так, — ответил немец. — Война как лотерея. Вытащишь выигрышный номер, получишь славу, богатство. Что поделать? На этот раз мой номер оказался пустым. Но звезда рейха только разгорается. Ничто не может остановить армию фюрера. Скоро Россия будет повержена. И это несмотря на то, что вы тщательно готовились к войне, в чем я сейчас особенно убедился.
— Что именно заставило вас прийти к такому выводу? — спросил Вейс.
— То, что вы так блестяще владеете немецким языком.
— Откройте ему, кто вы по национальности, — посоветовал я старшему лейтенанту.
— Вы немец? — удивился Шнерке. — Чистокровный?
Вейс развел руками:
— Относительно чистоты крови затрудняюсь сказать. Знаю только, что родители моих дедов из Германии. Потом они жили у Волги и вместе с русскими бурлаками тянули суда…
Шнерке уголком глаза покосился в мою сторону.
— Он понимает наш разговор?
— Нет. Вы же видите, что я перевожу.
— Тогда… То, что скажу, имеет большое значение для вас лично. От этого будет зависеть ваша судьба… Господин старший лейтенант, по всей вероятности, большевик, раз он офицер Красной Армии? Еще месяц, и Германия установит в России новый порядок. Все коммунисты и сочувствующие им будут истреблены. Господину старшему лейтенанту сама судьба предоставила возможность избежать такой участи.
— Каким образом?
— Мы должны вместе уйти к нашим.
Вейс расхохотался:
— Неужели Гитлер награждает рыцарским крестом не храбрых, а глупых?
После этого Шнерке наотрез отказался отвечать на вопросы. Мы отправили его в штаб бригады.
13
Нашу отдельную бригаду переформировали в 104-ю танковую дивизию. Командует ею полковник Рудков.
Поступил его приказ: заправиться и выступить на уничтожение второго десанта, высадившегося в Ельне. Падение города создавало угрозу Вязьме и непосредственно Москве, поэтому мы тронулись сразу, даже не отдохнув.
В пути получили радиограмму. Командир дивизии сообщал, что, как удалось установить, Ельню захватил не десант, а части наступавшего из Починок 48-го механизированного корпуса врага. Нам комдив предложил выйти к юго-восточной окраине города и ждать указаний.
Прибыли в назначенное место. С опушки леса, в котором укрылись машины, видно, что город невелик и совсем неприметен. Бросалась в глаза лишь пятиглавая церковь, возвышавшаяся над постройками, словно наседка над цыплятами. Частые вспышки на колокольне показывали, что там засел вражеский пулеметчик.
По частой трескотне выстрелов можно понять — на подступах к городу идет горячий огневой бой. Ближайшие к нам дома объяты пламенем. Мы видим, как то здесь, то там встают поднятые снарядами фонтаны земли, и только потом уже, с запозданием, слух воспринимает тяжелые удары разрывов.
Подошел Загорулько. У него, как всегда, чисто выбриты щеки, свежий подворотничок. Гимнастерка тоже чистая. Когда он все успевает?
— Что нового? — спрашиваю. — Из дивизии не звонили?
— Только что звонил полковник Рудков. Приказал атаковать немцев в Ельне. Требует уничтожить пулемет и наблюдательный пункт на церкви.
— Ну что же, — отвечаю. — Сейчас организуем разведку.
— Времени на разведку нет. Пехота одна сделать ничего не может, только несет потери. Комдив приказал действовать немедля.
Странно! Как можно наступать без разведки? Ведь мы не знаем вражеской противотанковой обороны. Хорошо еще, если немцы не успели заминировать подходы к городу. Но делать нечего, приказ надо выполнять. Я знаю Рудкова как опытного, серьезного командира. Без крайней нужды он такое не прикажет.
— Пойдем к экипажам, — говорю Загорулько. — Надо хоть коротко поговорить с людьми.
Шагаем, занятые каждый своими мыслями. Политрук вдруг прерывает молчание:
— Степан… Людей поведу я!
От неожиданности останавливаюсь:
— Почему ты? Разве я уже не командую батальоном?
Загорулько глядит на меня в упор. В его взоре легко прочесть упрек. Но говорит он спокойно:
— Сейчас не время считаться. Хотя, если уж говорить правду, опыта у меня больше. На финском приходилось действовать в не менее трудной обстановке. — Видимо, он чувствует, что я начинаю колебаться, и, улыбаясь, заканчивает — Словом, решено. Засекай время, через тридцать минут немцев на церкви не будет!
Я все еще стою в нерешительности. Риск велик. Местность перед городом открыта. Правильно ли посылать в бой заместителя?
Если что случится, будет ли спокойна моя совесть? Я не верю предчувствиям. Но сейчас почему-то волнуюсь. Поднимаю руку, чтобы протянуть Загорулько, и тотчас опускаю. Хорошо, что он не заметил моей минутной слабости.
— Желаю успеха, — говорю ему. — Только будь осторожен.
— Не беспокойся. Засеки время. Ровно через тридцать минут!..
Вслед за группой политрука уходят танки старшего лейтенанта Вейса и старшины Ковальчука.
Чтобы отвлечь внимание противника, приказываю трем машинам демонстрировать атаку в километре правее основных сил батальона. Перехитрить противника не удается, у него достаточно сил. Большая часть его артиллерии бьет по танкам Загорулько.
Вскоре получаю неприятное сообщение от Ковальчука: машина Вейса горит. Со своего наблюдательного пункта вижу, как старшина поворачивает на помощь старшему лейтенанту. Но тут же вспыхивает и его танк. «Тридцатьчетверка» Ковальчука делает еще несколько выстрелов. А люки ее все не открываются. «Наверное, заклинило», — решаю я.
На центральную улицу выскакивает наша головная машина. Она вырвалась из-под обстрела, но по броне ее бегают багровые язычки пламени.
В бинокль видны цифры на борту, по ним узнаю танк Загорулько. На максимальной скорости, стреляя на ходу, он несется к центру города. Несколько снарядов попадают в церковь, колокольню застилает пыль, оттуда сыплются куски кирпича, обломки досок. От прямого попадания осыпалась часть купола, обнажив железные ребра арматуры.
Вымахнув на площадь, танк Загорулько резко развернулся и врезался в церковь. Над нею поднялись тучи дыма и пыли. Вражеское пулеметное гнездо и наблюдательный пункт прекратили свое существование.
Прежде чем доложить командиру дивизии о выполнении его приказа, невольно смотрю на часы. С начала атаки прошло меньше тридцати минут. Передо мной встает образ замечательного патриота, политрука Ивана Загорулько, совершившего подвиг. Мне показалось, что я слышу его последние слова: «Засеки время…».
Вспомнился последний разговор с политруком. Он рассказывал о семье, делился планами послевоенной жизни.
— Разобьем фашистов, Степан, и придется нам с тобой расстаться, — мечтательно говорил он. — Ты, конечно, в армии останешься, а я уйду. Нам после войны много строить придется. Поеду в Сибирь или лучше в Среднюю Азию, поставлю металлургический завод, а потом буду там инженером. Ты ко мне в отпуск приезжай. Нет, правда. У меня жена хорошая, гостей любит…
Большим жизнелюбом был Иван Загорулько. А потребовалось — и отдал жизнь не задумываясь. И этого человека, честного коммуниста, считали врагом, два года томили за колючей проволокой!..
К вечеру танки собрались в лесу. Но не все. Не вернулись кроме Загорулько машины Вейса, Ковальчука, Воскобойникова, Овчаренко.
Только сели закусить, заявился сержант с полевой почты. В руках у него перевязанная бечевкой пачка конвертов.
— Братцы, получай письма, — улыбается сержант.
Еда, конечно, забыта. Танкисты тесным кольцом окружили почтальона. Стоят и те, которые заранее знают, что никто им не напишет, чьи близкие находятся на оккупированной территории.
— Сомов!
Сомов тут же, рядом, но каждый старается его обрадовать:
— Тебе, Сомов, письмо!
— Сержант, дай, я передам Сомову.
— Алмазов! Получай два письма.
— Вейс! Старший лейтенант Вейс!..
Молчание. Почтальон переводит взгляд с одного лица на другое, прикусывает нижнюю губу. Теперь ему остается отнести корреспонденцию обратно на полевую почту. Да и не мало других писем после сегодняшнего боя пойдут в обратный путь.
Еще утром Вейс рассказывал мне о своей дочурке Клаве. Девочка увлекается живописью, не плохо рисует акварелью. Особенно удаются ей весенние пейзажи на Волге.
— Дайте мне письмо Вейса, я отвечу.
Сержант протягивает мне голубой конверт. Адрес старательно написан детской рукой.
Я невольно представил себе тщедушную, худенькую, белокурую девочку Клаву, и сердце мое сжалось от боли. Она не знает, что сегодня стала сиротой. И долго еще не будет знать. Ждет, наверное, не дождется весточки от любимого папочки. А сколько слез прольет, когда почта принесет до обидного сухие слова официального извещения: «Старший лейтенант Вейс погиб смертью храбрых…».
— Ермолаев! Раз, два… Ого, тебе четыре письма.
Тот, кто был на фронте, знает, какое чувство испытывает воин, получив весточку из дому.
— Овчаренко! Старший лейтенант Овчаренко!
Опять молчание. Говорю почтальону:
— Сержант, дайте мне. Я и на это письмо отвечу.
В конверте что-то плотное. Распечатываю и нахожу там исписанный листок почтовой бумаги и маленькую фотографию. Аня. Знакомые черты лица — тонкие, как стрелы, брови, ровный нос, маленькие детские губы, ямочки на щеках. Только выражение глаз другое. Сосредоточенное, задумчивое. Одета в военную гимнастерку. На голове уже не затейливая шляпка, а темный берет. В письме Аня коротко рассказывает о своей жизни. Учится на курсах радисток. После окончания их постарается получить назначение на тот участок фронта, на котором будет муж. Заканчивает: «Целую. Твой боевой друг Аня».
Аня — боевой друг! Как дико звучало бы это совсем недавно. Война — самая лучшая проверка качеств человека. Саша Овчаренко погиб. Вместо него в строй становится его жена.
14
Бои под Ельней были тяжелыми и кровопролитными. Захватив город, враг торжествовал победу. В одном из своих хвастливых выступлений по радио Геббельс прямо заявил: «Вчера войска германского рейха вошли в Ельню — завтра они будут в Москве».
Этому не суждено было сбыться. Левофланговые соединения 24-й армии генерала К.И. Ракутина сорвали планы немецкого командования прорваться от Ельни к Москве. Враг бросал в бой все новые части, но, не в силах сломить сопротивление советских воинов, топтался на месте, теряя драгоценное время.
В течение трех последних суток наш батальон не выходил из боя. Мы действуем совместно со стрелковым подразделением, то отбиваем атаки противника, то контратакуем сами.
Люди устали до предела. Если выдается свободная минута, валятся прямо на землю, тут же у танков, и засыпают мертвым сном.
Я завидую им. Мне тоже страшно хочется спать, глаза режет, словно под веками песчинки, но держусь. Для отдыха нет времени. Даже в коротких перерывах между боями нужно позаботиться о подвозе горючего, боеприпасов, заправке танков, о восстановлении подбитых машин. Их ремонтировали тут же, в полевых условиях под бомбами и снарядами…
Только отбили очередной натиск противника, как поступает приказ произвести контратаку.
Быстро ставлю экипажам задачи и направляюсь к своему танку. Уже опускаюсь в отверстие люка, когда слышу резкий окрик:
— Капитан, отставить!
Оглядываюсь. Подходит командир дивизии.
Выскакиваю, подбегаю к нему, докладываю:
— Батальон готов ударить по врагу!
— Очень хорошо. — Рудков внимательно разглядывает мое лицо. Мягко, по-отцовски спрашивает:
— Устал, Шутов?
— Ничего, товарищ полковник, — я стараюсь показать себя бодрым, веселым. — Вот сейчас прощупаем фрицев, пощекочем им нервы, тогда и отдохнуть можно.
Командир дивизии на минуту задумался, потом спрашивает:
— В батальоне сколько исправных машин?
— Одиннадцать.
— Отлично!
— В бой их пусть поведет ваш помпотех, а мы пройдем на ваш энпе.
Танки устремляются на позиции противника. Мы с комдивом наблюдаем, как три машины вырываются вперед. И тут же замечаем, что из залесенной балки во фланг им двинулись танки противника. Их много.
— Два, три, — считает полковник, — четыре, пять… А вот еще семь… и еще… Всего двадцать шесть. Странно. У немцев здесь не было таких сил. Видимо, новые подкрепления. Предупредите своих, товарищ Шутов, об опасности.
— Они уже заметили. Видите — стреляют!
В самом деле «тридцатьчетверки» повели огонь с коротких остановок. И тут же две вражеские машины окутались черными клубами дыма, сквозь который с трудом пробивались багровые отсветы пламени.
Но и у нас уже потери. Одна машина горит, другая беспомощно завертелась на месте с перебитой гусеницей. Теперь дерутся девять танков против двадцати четырех. К тому же по нашим ведет огонь вражеская артиллерия.
Рудков говорит:
— Прикажите танкам зайти левее. По своим немцы стрелять не будут.
Через некоторое время наши вынуждены отойти. А три вырвавшиеся вперед и подбитые машины остаются в логове врага.
В бинокль видно, как на них забираются вражеские солдаты, стучат по броне прикладами, безуспешно пытаются открыть люки.
Опять потери! Не вернутся к нам старшины Бандура, Валуйко, сержанты Степанков, Мартиросян…
Но что это? Немцы вдруг забегали, начали подносить к танку Валуйко траву, бумагу, щепки. А потом подожгли.
— Смотри, товарищ Шутов, — с дрожью в голосе говорит комдив, — фашисты сжигают живьем твоих танкистов. Если бы экипаж погиб, они не подожгли бы танк. От злобы это: видно, бойцы отказались выйти и сдаться в плен, вот немцы и решили выкурить их.
Еще сильнее прижимаю бинокль к глазам, смотрю и жду. Огонь разгорается, охватывает всю машину, а люки так и остаются закрытыми. Сколько мужества, силы нужно иметь, чтобы вынести такую пытку огнем и все-таки не сдаться врагу!
15
Я стряхнул с себя дрему и открыл глаза. Сквозь купол листвы, нависшей над головой, весело подмигивали уже тускнеющие звезды. Было темно. Луна зашла, а проглянувшая на востоке полоса зари пока не в силах разогнать ночной мрак.
Прошло еще двое тяжелых суток. Враг не прекращает атак. На флангах стрелкового полка, который батальон поддерживает, ему удалось потеснить наших соседей и выйти нам в тыл. Полку пришлось задействовать резерв и занять круговую оборону.
Накануне вечером я прошелся по окопам стрелковых подразделений — в них осталось совсем мало бойцов. Вышло из строя большинство командиров.
По ожесточенной стрельбе на востоке мы чувствуем, что наши близко. Но если сегодня они не прорвут кольцо окружения, то нам трудно будет продержаться.
Обуреваемый тяжелыми раздумьями, направляюсь к ручью, чтобы холодной водой окончательно прогнать усталость. На полпути меня догоняет связной ст командира стрелковой части младший лейтенант Нечаев.
— Товарищ капитан, командир полка просит помощи. Фашисты опять зашевелились. Надо ждать очередной атаки.
— Хорошо. Передайте, через пять минут будем.
Нечаев не понимает меня. Объясняю, что все танки наши подбиты и мы можем помочь только карабинами.
Возвращаюсь к себе. Приказываю всем, не занятым на ремонте машин, взять побольше патронов, гранат и отправляться в окопы.
Так танкисты становятся пехотинцами!
Немцы не заставили себя ждать. Уверенные в своих силах, они действовали размеренно, с пунктуальной точностью. Без пятнадцати семь послышался прерывистый гул и над нашими головами нависли бомбардировщики. А ровно в семь ноль-ноль в атаку двинулась пехота. Впереди вражеской цепи, словно сказочные чудища, изрыгающие пламя, неслись танки.
Оглядываюсь на своих бойцов. Лица у всех суровые, сосредоточенные. Но ни один не смотрит назад. Что значит народ обстрелянный — этих не запугаешь!
Против танков у нас имеются только гранаты. Человек пять истребителей, вооруженных связками, затаились впереди стрелковых окопов. И вот уже под вырвавшейся вперед вражеской машиной мелькнул всполох взрыва. Дернувшись, она замерла на месте. Над ней закурился дым, потом показался огонь.
Беспомощно завертелась на месте и вторая машина. Но остальные несутся к нам.
Должен сказать, неприятное это ощущение, когда на тебя мчится стальная громадина. Еще немного — и раздавит, а ты ничего сделать не можешь. Бежать тоже смысла нет, далеко не уйдешь.
Когда уже казалось, все было кончено, позади нас сквозь грохот боя послышались приближающийся рокот моторов и орудийные выстрелы. Теперь уже вообще надеяться не на что. По-видимому, к нам в тыл прервались новые силы врага.
Но что это? Оглядываюсь и вижу краснозвездные «тридцатьчетверки». Их много, они мчатся навстречу противнику.
Позже оказалось — это прорвался к нам на выручку танковый полк майора Копылова.
— Ура! — Наши бойцы тоже заметили помощь. В едином порыве все встают и бегут вслед повернувшему вспять и удирающему врагу.
Вот уже и немецкие позиции.
Безжизненными стоят три наших танка, в том числе и сгоревшая машина Валуйко. Она теперь негодна, а две другие еще можно восстановить.
Словно подслушав мои мысли, несколько танкистов подбегают к машинам. И тут случилось непостижимое.
У одной из машин стал медленно открываться люк. Потом из него показалась голова старшины Мазурука. Когда он встал, мы увидели, что танкист без гимнастерки.
— Ребята, помогите!
Мазурук снова скрылся и появился уже с Бурлыкиным на руках. Механик-водитель был тяжело ранен и едва дышал. Придя в сознание, сказал:
— Спасибо Саше. Он настоящий друг. Сам два дня ничего не ел, а мне единственный сухарь отдал.
А Мазурук объяснил, как им удалось спастись. Вначале немцы требовали выйти и сдаться в плен. Когда угрозы не помогли, для острастки подожгли танк Валуйко. Потом надумали, видимо, взять измором, а может, решили, что экипаж погиб. Словом, их оставили в покое, пока не подоспела помощь танкистов Копылова.
На память пришло, как необычно оформился этот экипаж. Помню, пришли ко мне Мазурук с Бурлыкиным, просят разрешения служить вместе, на танке Овчаренко. Происходило это как раз в день гибели старшего лейтенанта.
Характерами просители были разные. Мазурук высокий, смуглый, старше товарища года на три. Разговаривал обычно назидательным тоном, любил поучать, подтрунивать над другими. За это в батальоне его прозвали «язвой», и, конечно, мало кто с ним дружил. У Бурлыкина характер совсем другой. Мягкий, чуткий, отзывчивый.
— А вы с ним уживетесь? — спрашиваю у механика-водителя.
Танкисты поняли меня, переглянулись улыбаясь.
— Мы, конечно, иногда спорим между собой, но это ничего не значит, — заявил Мазурук и шутливо закончил: — По принципиальным вопросам у нас расхождений нет.
— Ладно, так и быть, — согласился я, — в один экипаж определить вас могу, только не на машину Овчаренко. Она подбита и осталась на поле боя.
— Это мы знаем и потому обращаемся к вам, — Бурлыкин просительно смотрит мне в глаза. — Разрешите, мы с Сашей вытащим ее.
Я еще колебался, опасаясь за жизнь бойцов, а они принялись убеждать меня в том, что нельзя оставлять танк врагу.
— Если не мы, немцы его отремонтируют и нас же будут бить потом, — «пугал» меня Мазурук. — Ведь в машине только гусеница перебита. Разрешите, мы ночью траки заменим и выведем ее.
— Ну хорошо, — согласился я. — Можете идти.
Только посоветуйтесь с лейтенантом Северовым. Да будьте осторожными…
В ту ночь я не мог уснуть. Беспокоила судьба смельчаков. Немцы периодически освещали местность ракетами, и тогда я старался разглядеть, что происходит на ничейной полосе, где стояло несколько подбитых наших и вражеских танков.
Все вроде спокойно. Только под утро противник всполошился, открыл беспорядочную стрельбу. Но было уже поздно. Исправленная «тридцатьчетверка» на полном газу мчалась к нам.
На этой добытой таким способом «своей» машине Мазурук и Бурлыкин воевали.
16
Позвонил мой непосредственный начальник — командир 208-го танкового полка полковник Сахаров:
— Товарищ Шутов, присылай людей получать новые танки. Прямо с конвейера, еще краской пахнут.
— Слушаюсь, товарищ полковник.
— Да, еще вот что. Поговори со своими, скажи: партия, советский народ в трудных условиях обеспечивают армию техникой, вооружением и вообще всем необходимым. Пусть всегда помнят об этом и воюют так, чтобы оправдать доверие…
Вместе с танками пришли письма. Я обратил внимание: написаны карандашом, — значит, прямо у станков, на которых создавались машины. Письма разные, но общее для них — своеобразная клятва перед армейцами.
«Товарищ, верь, — писала женщина, мать четырех детей, — мы ничего не пожалеем, но армию родную снабдим всем, что требуется для победы. Мы сами решили давать но две нормы и работать по 14 часов. Если понадобится, будем работать и больше… А вы, армейцы, сильней бейте захватчиков, не давайте им спуску ни днем ни ночью».
Комсомольцы завода сообщали, что они систематически вырабатывают по два с половиной сменных задания. Но это не предел. Скоро они будут давать три и даже четыре нормы. В свою очередь комсомольцы наказывали танкистам: «Каждый присланный нами танк должен уничтожить не менее пяти вражеских машин, восьми пушек и раздавить хотя бы одну роту фашистов».
Мазуруку досталось письмо заводских девушек. Они просят, чтобы после первого же боя им написали о том, как вели себя новые машины. И вообще чтобы установилась переписка танкистов с работницами.
— Саше везет, — смеется Бурлыкин. — У него целых десять невест. Поделился бы, что ли.
— Еще неизвестно, станут ли они тебе писать, — отшучивается командир танка. — Надо сначала их спросить.
А вот письмо от бывшего киевлянина. Мне оно показалось особенно близким, ибо напомнило о родных.
Автор письма в начале войны уехал на Урал и теперь работает на оборонном заводе. Несмотря на преклонный возраст, «утирает нос» многим молодым токарям. Он мечтает, чтобы танки, в создании которых он участвует, скорее освободили Киев…
Киев! Его улицы топчут кованые сапоги оккупантов. А ведь в городе осталась моя семья. Как-то там жена, дети, живы ли?
Через день приезжает Сахаров. Мы с ним прошлись по экипажам. Командир полка хорошо знает люден, многих называет по именам. Танкистам приятно это, и они всячески стремятся показать уважение к полковнику.
Возвращаемся на НП батальона. Сахаров спрашивает:
— Ну как танки, Степан Федорович? Хороши?
— Еще бы, — отвечаю ему, а сам думаю: «Неспроста полковник по имени меня назвал. Наверное, что-то замышляет».
Он говорит:
— Только не знаю, придется ли тебе повоевать на них. Словом, отправляйся в штаб дивизии, тебя комдив вызывает.
— Как же так? — вырвалось у меня. — Не хочется, товарищ полковник, уходить из своего подразделения.
— У нас, дорогой, все подразделения свои…
— Что с вами, капитан? Не больны ли? — встретил меня полковник Рудков.
— Вполне здоров.
— А почему вид такой?
Сказал ему то, что и полковнику Сахарову:
— Хотелось бы воевать со своим батальоном.
Комдив улыбнулся:
— Сахаров не точно информирован. С батальоном вас разлучать никто не собирается. А вот с нами, со мной и с Сахаровым, вы действительно расстанетесь. Ваш батальон перебрасывается под Каширу. Сниметесь незаметно, когда стемнеет…
17
Сложная обстановка сложилась во второй половике ноября 1941 года на Западном фронте. Враг предпринял новое наступление, и ему удалось выйти на ближние подступы к Москве. На южном крыле фронта, где мне довелось участвовать в боях, 2-я немецкая танковая армия Гудериана развивала наступление на Каширу и Коломну, в обход Тулы с востока.
Потерять Каширу означало потерять одну из крупнейших по тому времени электростанций страны, снабжавших электроэнергией промышленность столицы. Поэтому к обороне города привлекли значительные силы: 173-ю стрелковую дивизию и нашу 9-ю танковую бригаду. Когда обнаружилась опасность прорыва танковых сил противника от Венева к Кашире, на помощь нам поспешил 2-й кавалерийский корпус.
Электростанция стоит на северо-западном берегу Оки в нескольких километрах от Каширы. Мы прибыли туда, когда население было эвакуировано, мосты заминированы и подготовлены к взрыву.
Новокаширск — поселок при электростанции — напоминал человека, у которого только что перестало биться сердце. Окна домов закрыты ставнями или наглухо заколочены, а ворота дворов распахнуты. По узеньким улочкам бродят бездомные собаки.
Вместе с комиссаром батальона Дедковым обходим роты, проверяем состояние машин после марша. Вдруг он останавливается:
— Мосты заминировали, — значит, поселок решили сдавать. Я считаю это преступлением.
После Загорулько я никак не могу привыкнуть к его преемнику. Он хороший человек, знающий танкист. Умеет организовать политическую работу, подойти к бойцу. Часто помогает мне в тактических вопросах, поддерживает мой авторитет. А я отношусь к нему с холодком. Дедков чувствует мое состояние, но виду не подает и ревности к погибшему политруку не проявляет. Напротив, он часто говорит о нем, призывает танкистов быть мужественными и любить свою Родину так, как любил ее павший смертью храбрых Загорулько.
Отвечаю комиссару резко:
— Никто не собирается сдавать Каширу. Мосты заминированы на случай, если не сдержим врага.
— Да, но этим мы морально готовим бойцов к дальнейшему отступлению. А отступать некуда — позади Москва.
— Согласен, что сдавать Москву нельзя и ее мы не сдадим; порукой этому уже то, что продвигаются фашисты все медленнее и медленнее. Скоро мы их совсем остановим. Но на отдельных участках они еще могут наступать, и к этому надо готовиться…
Неподалеку от нашего КП за невысокой оградой маленький деревянный домик. В отличие от других, его окна широко раскрыты. Изнутри доносятся звуки радио. Сильный мужской голос поет любимую песню фронтовиков. Неожиданно к нему пристраивается детский голосок:
Пусть ярость благородная Вскипает, как волна! Идет война народная, Священная война…— В доме кто-то есть, — замечает Дедков. Он направляется к раскрытому окну и, поднимаясь на носки, пытается заглянуть в комнату.
— Эй, кто там, покажись!
Никто не отзывается. И детского голоса больше не слышно.
— Эй, кто в доме! — повторяет комиссар. — Мы свои, русские!
В открытом окне сначала показывается кустик льняных взлохмаченных волос, затем голубые крупные глаза и, наконец, веснушчатое лицо с коротким носом. Обладателем всего этого великолепия оказался мальчишка лет семи. Он смотрит на нас и застенчиво улыбается.
— Кто еще в доме? — спрашиваю мальчугана.
— Я один, — отвечает. — Бабушка ива… иваку-ри-ровалась.
— Как же ты от нее отстал?
— Спрятался, и все. Меня тоже ива… ива-ку-ри-ро-вать хотели.
— Почему же ты не уехал? Сюда немцы могут прийти. Как будешь один жить? Да и вообще…
Мальчик объясняет, что хочет воевать. Винтовку он не поднимет? Это неважно. У него есть другое оружие.
Мальчик исчезает, но скоро возвращается с двумя бутылками.
— Тут знаете что? — глазенки паренька задорно сверкают. — Керосин!
Мы не задавали вопросов. Ждали, чтобы он сам рассказал.
— Ванька, сосед, он большой уже, говорил, что бутылками можно фашистов жечь. Я как подкрадусь к дому, где фрицы, ка-ак брошу бутылку, потом ка-ак подожгу спичкой!..
С трудом убедили мы Федю — так звали этого маленького «вояку» — отправиться в тыл, к бабушке. Вначале он плакал, грозил жаловаться «большому» командиру и только после долгих уговоров согласился с тем, что Москву смогут отстоять без него…
Наш батальон, входящий теперь в 9-ю танковую бригаду, поддерживает стрелковый полк 193-й дивизии. Оборона полка проходит по южной окраине Новокаширска. Танки рассредоточены по всему участку, укрыты и готовы огнем встретить противника, если он прорвется к городу. Одну танковую роту я выделил в резерв на случай маневра или контратаки.
25 ноября появилась первая ласточка: на нас выскочили несколько танков противника, — по-видимому, разведка. Теперь надо ждать атаки главных сил.
Вечером стал накрапывать дождь. Ночью он усилился. К утру дороги размыло, грязь стала непролазной. Но для танка грязь не помеха.
Я нахожусь на наблюдательном пункте командира стрелкового полка майора Школьника. Отсюда хорошо видны подступы к городу. У противника все тихо, спокойно. Но нам ясно, что это — затишье перед бурей. Действительно, наблюдатель докладывает комбату:
— Товарищ майор, немцы!
Школьник направляется к амбразуре. Я — за ним.
Глазам нашим открывается грозна?! картина. Более двадцати вражеских Т-III и T-IV размеренно, как на параде, двинулись к нашим окопам. За ними темные, чуть пригнувшиеся фигурки автоматчиков.
Оборона замерла. Бойцы, разумеется, видят противника, но не стреляют — без сигнала нельзя.
Оглядываюсь на Школьника. До противника метров восемьсот, пора открывать огонь, а он по-прежнему невозмутимо смотрит в бинокль. Наконец поворачивается к командиру артиллерийской противотанковой батареи, коротко бросает:
— Давай!
Лейтенант подает команду в телефонную трубку, и минуты через две около вражеских машин снаряды начинают выворачивать землю.
Стреляют и мои танкисты. Мы видим, имеются и попадания, но большого вреда врагу не причиняют. У противника лишь строй нарушился.
Командир полка посмотрел на меня:
— Выручай, товарищ капитан. Надо остановить!
Я дал по радио приказ командиру резерва контратаковать. И опять наблюдаю за полем боя.
Пока говорил, артиллеристы успели подбить два танка противника. Немцы приблизились до полкилометра. Наш огонь стал более действенным. На моих глазах за какую-нибудь минуту вспыхнула еще пятерка машин. Под пулеметным и стрелковым огнем залегли и автоматчики.
Оставшиеся десятка полтора танков замешкались, потом стали поворачивать назад. Но уйти им не дала резервная рота. Она отрезала им путь отступления и заставила вступить в огневой бой. Фашисты несли потери, но шли в лоб, иного выхода у них не было. Все же несколько машин вырвались.
Конечно, досталось и нашим. Сгорела «тридцатьчетверка» старшины Николая Бондарчука. В танк, на котором механиком-водителем был Алмазов, тоже угодил снаряд. Сразу погибли командир и стрелок-радист. Сам Алмазов, отделавшийся испугом, выскочил из машины и начал сбивать грязью забегавшие по броне алые язычки пламени. На помощь ему поспел только что лишившийся «боевого коня» Бондарчук. Рискуя жизнью, потому что танк мог взорваться, они забросали жидкой грязью моторное отделение и победили огонь.
Прошедший бой, потеря экипажа и танка потрясли Бондарчука. На следующий день начальник штаба батальона В. М. Копчик рассказал, что Бондарчук заходил к нему и закатил истерику. На правах земляков, а старшина с начальником штаба были с Харьковщины, они не раз встречались, вспоминали знакомых, мечтали, как после войны вместе отправятся домой поездом Шепетовка — Баку. На этот раз Бондарчук заявил Копчику:
— Арестуйте меня, товарищ старший лейтенант.
Тот удивился:
— За что?
— Машину не сберег. Алмазов спас свою, а я даже не попытался. Люди там, в тылу, сколько сил отдали, чтобы изготовить танк, надеялись, что их труд не пропадет. Одним словом, Виктор Михайлович, оказался я самой последней дрянью. Стыдно мне теперь смотреть в глаза товарищам.
— Успокойся, Миколо, — как можно более ласково сказал Копчик. — По-разному горят машины. II обстоятельства бывают разные. Зря грызешь себя…
Когда начштаба кончил свой рассказ, Дедков предложил организовать беседу Алмазова и Бондарчука о том, как они спасли горящий танк. Мне идея комиссара пришлась по душе. Пусть танкисты перенимают опыт и учатся прямо на поле боя.
К Кашире подошел 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерала П.А. Белова. Теперь только и разговоров о скором разгроме наседающей на нас 17-й гитлеровской танковой дивизии.
Как-то мне позвонил командир бригады:
— Товарищ Шутов, приезжай, есть новости.
Передаю трубку телефонисту. Тот широко улыбается.
— В чем дело, Козырев? Чему смеетесь?
— Ясно, товарищ капитан, зачем вас вызывают. Наступление должно быть, не иначе.
Сержант Козырев — москвич. До войны работал на строительстве метрополитена. На фронт пошел добровольно, оставив дома жену и сынишку. Мы все их хорошо знаем, особенно я. Не лично, а по письмам.
Козырев получает их чаще других. Дает нам читать, и меня, у которого вообще переписки нет, его письма согревают. Для меня жена и сын Козырева стали вроде родными, я беспокоюсь о них, жду очередных писем.
— Что-то из дому вам давно ничего нет? — спрашиваю у телефониста.
— Сам удивляюсь, — опускает он голову. — Не случилось ли чего?
Я знаю, как Козырев любит семью. Чтобы утешить его, говорю:
— Ничего. Вот прогоним немцев от Каширы, отпущу вас на денек в Москву повидаться с женой и сыном. Только с условием, что привет от нас передадите.
Козырев сразу посветлел:
— Большое спасибо, товарищ капитан… Обязательно передам…
Совещание у комбрига короткое. Посвящено оно действительно предстоящему наступлению. Бригаду придают 2-му гвардейскому кавкорпусу, которому предстоит ударить на юг в направлении Венева.
Шестого декабря войска Калининского, Западного и нашего фронтов перешли в контрнаступление. Уже восьмого 2-й гвардейский корпус освободил Мордвес.
Нам приказано прорваться в тыл вражеской группировки, на ее коммуникации.
…Без двадцати шесть утра. Сильный ветер раскачивает кроны деревьев. Снежные хлопья гулко падают с веток на замерзшую землю.
Слышны голоса:
— Морозец, будь здоров! Градусов на тридцать с гаком.
— На печи бы сейчас сидеть да блины есть.
— Блины? Хорошо! Помнишь Пушкина: «У них на масленице жирной водились русские блины…»
Любителю блинов не дают закончить:
— Тихо, капитан идет!
Отдаю последние распоряжения и направляюсь к своей машине. Но ко мне бежит дежурный по штабу и еще издали кричит:
— Товарищ капитан, на проводе Москва! Вас вызывает генерал Федоренко.
— Федоренко?! Командующий бронетанковыми войсками Красной Армии?
— Он самый!
Не иду, а бегу к аппарату.
— Капитан Шутов? — спрашивает далекий голос. — Здравствуйте. Сдавайте батальон и срочно явитесь в Управление.
— Товарищ генерал-полковник, сейчас батальону предстоит сложная операция. Разрешите прибыть к вам после нее.
В голосе на другом конце провода слышатся металлические нотки:
— Я был о вас лучшего мнения, товарищ Шутов…
До Москвы всего езды несколько десятков километров. В обычное время на это нужно час-полтора. Но сейчас машина ползет как черепаха. Дороги забиты войсками, техникой. Все движется в одном направлении — к фронту. Только однажды мы перегнали попутчиков — колонну военнопленных. Вид у гитлеровских молодчиков жалкий: ноги обернуты тряпьем, головы закутаны полотенцами, платками, одеялами, на озябших телах тонкие цвета плесени шинели. Еще накануне, возможно даже сегодня утром, они мечтали о скором вступлении в Москву. А теперь идут скрюченные, съежившиеся, с втянутыми в поднятые воротники головами.
Гляжу на них и думаю: нет, не такой они представляли себе дорогу в Москву! Вон тот, который натянул поверх шинели клетчатую дамскую накидку, наверное, собирался первым ворваться в Москву и за это получить Железный крест из рук самого фюрера, а этот, что едва тянет обмороженные ноги, вероятно, мечтал открыть в центре города пивную…
Мы обогнали пленных, и, когда шоссе впереди сказалось совершенно свободным, машина вдруг остановилась.
— Что случилось? — удивился я.
— Простите. Одну минуту.
Шофер вышел из кабины, снял шапку и подошел к занесенной снегом одинокой могиле у обочины дороги. Поправил покосившийся столбик, на котором была прибита дощечка с надписью. Постоял немного и вернулся назад.
— Он был моим другом, — будто оправдываясь, сказал шофер. — Месяц назад погиб. Командира спасал… — После небольшой паузы продолжал: — Весь наш десятый класс на фронт добровольно пошел. Погибших я в блокноте отмечаю. После войны, если останусь жив, родителей их разыщу, расскажу, как и что. Пусть гордятся…
Сидим в приемной генерала Федоренко. Вызова ожидают еще пятнадцать-двадцать генералов, полковников, подполковников. Ни одного майора, и только я один — капитан. Все — фронтовики, а разговоры о делах мирных, о Москве. Никто как следует разглядеть ее не успел. Однако достаточно было проехать но улицам, увидеть железные рогатки, мешки с песком, закрытые досками памятники, витрины магазинов, чтобы убедиться в мужестве и стойкости ее жителей…
Из кабинета командующего вышел полковник. Попросил подождать еще.
— Генерал докладывает Верховному Главнокомандующему, — объяснил он.
Я задумался. Вспомнил первую встречу с Федоренко. Это было в конце 1939 года. Шла война с Финляндией, и я подал рапорт с просьбой отправить на фронт. Вызвал меня Федоренко — тогда заместитель командующего округом.
Чтобы я чувствовал себя свободнее, он сел рядом. Положил руку мне на колено и заявил, что мой рапорт ему не нравится. Потом взял его и начал читать: «Партийная совесть не позволяет мне почивать на лаврах в то время, когда мои друзья танкисты ломают линию Маннергейма…» — прервав чтение, спросил: — Ну как, вам понятна тенденциозность заявления?
Я пожал плечами:
— Никак нет.
Федоренко посмотрел на меня, с напускной строгостью сказал:
— Разве не ясно, что вы бросаете вызов всем, кто сейчас не на фронте? Выходит, у вас есть партийная совесть, а другие бессовестные?..
— Плохо написано, — признался я, — необдуманно. Я просто хотел сказать, что желаю поехать на фронт.
— Вот это другое дело. — Заместитель командующего засмеялся и «по секрету» признался, что сам тоже написал рапорт, но подать его не решился.
Меня он согласился отпустить; только попал я тогда, как помнит читатель, не на фронт, а в Среднюю Азию…
Раздумья прервал адъютант, снова вышедший от Федоренко. На этот раз он пригласил нас в кабинет командующего.
Яков Николаевич бодрой походкой вышел из-за стола, с каждым поздоровался. Наблюдая за ним, я отметил, что за два года он здорово изменился. Постарел, осунулся. Кожа его приятного, открытого лица приобрела желтоватый оттенок, вокруг вечно живых глаз образовалась сетка глубоких морщин. Пожимая мне руку, генерал улыбнулся:
— Здравствуйте, майор Шутов. Что ж это вы не по форме одеты?
— Простите, товарищ генерал. Я вас не понимаю. Пока я капитан.
— Майор, — возразил он. — Вам присвоено это звание. Вероятно, не успели сообщить.
Обращаясь ко всем, Федоренко заявил:
— Товарищи, сегодня Верховный Главнокомандующий принимать вас не будет. Так что до завтра вы свободны. Отдыхайте. А утром прошу ко мне…
В гардеробной меня догнал капитан:
— Товарищ майор, не одевайтесь. Вас вызывает командующий.
Возвращаюсь, мучаясь в догадках. Снова вхожу в кабинет.
Генерал достает из папки конверт и, показывая его, говорит:
— Совсем забыл. Один танкист, земляк ваш, из госпиталя пишет, что прочитал в газете о награждении вас орденом, и после выздоровления просит направить его к вам. Я лично не возражаю… — Протягивает мне письмо — Вот, пожалуйста. Решайте и завтра дадите ответ.
В коридоре разворачиваю конверт, читаю: «Младший лейтенант Юрий Юрьевич Метельский», и строчки начинают плыть перед глазами. Все-таки Юра молодец! Мечтал быть танкистом и стал им!
Письмо написано дипломатично:
«Надеюсь, товарищ генерал, Вы правильно меня поймете: я не ищу протекции у капитана Шутова. Просто хочется служить под началом человека, который вместе с моим отцом воевал против врагов нашей Родины еще в годы гражданской войны».
По адресу видно, что военный госпиталь, в котором находится Юра, расположен в Москве. Решаю побывать у него.
18
Мороз разукрасил стекла машины тонкими, полупрозрачными узорами. Пальцем выскабливаю «глазок» и через него осматриваю проносящиеся мимо улицы. Столица выглядит строго, я бы даже сказал, угрюмо.
Военные. На каждом шагу военные. А вот тягачи, яростно грохоча, тянут пушки. Строем идет группа рабочих с винтовками. Спешит куда-то старая женщина с красным крестом на рукаве. И только равнодушно спокойны длинные очереди у магазинов.
Шофер оказался словоохотливым. Спрашивает:
— Раньше бывать в Москве доводилось, товарищ майор? Не узнаете? Ничего, скоро она сбросит свой военный наряд. Станет еще лучше!
С благодарностью гляжу на него. Шофер вслух высказал мою мысль, мое желание, мою мечту.
— Ему только подняться не дать.
— Кому? — спрашиваю.
— Гитлеру, конечно. Сейчас он на карачках ползет, а его надо лишить и этого удовольствия… Ну вот и прибыли, товарищ майор, — вдруг заявляет он, резко тормозя.
Госпиталь разместился в новом четырехэтажном школьном здании. Открываю дверь. Меня останавливает невысокая энергичная сестра:
— Вы к кому, товарищ?
— К младшему лейтенанту Метельскому.
— Сейчас нельзя. Приходите послезавтра, а еще лучше — субботу.
— Я с фронта. Через час опять уезжаю, — пытаясь ее разжалобить, сгущаю краски. — Специально племянника повидать приехал…
Глаза у девушки округлились:
— Вы его дядя?!
— Точно. Брат матери.
— А сестру свою вы сейчас встретили?
— Нет.
— Ну как же, она тоже заходила. Перед вами минуты за две-три ушла. Говорила, куда-то надолго уезжает…
Жаль. Значит, Любаша была здесь, и мы с ней разминулись! Приехал бы чуть раньше… Может, та женщина, капитан, которая приветствовала меня, когда я открывал дверцу машины, и была Любаша? Она как раз вышла из госпиталя…
— Она в форме? — спрашиваю девушку.
— Конечно! Пехотный капитан.
— Значит, я ее видел и не узнал. Какая досада!
Девушка посмотрела на меня с состраданием и вздохнула. Покровительственным тоном сказала:
— Ладно, идемте. Я вас проведу черным ходом. Только, пожалуйста, не подведите меня. Если главврач вас застанет у Юры, скажите, что зашли сами…
Пока мы поднимались по лестнице, она взяла под защиту свое начальство. Не такие уж черствые, бездушные они, как некоторые думают. Но ведь иначе нельзя. Визиты родственников чаще всего расстраивают больных.
— Главврач нипочем не пустил бы вас, будь вы хоть маршалом. Особенно к младшему лейтенанту Метельскому.
— Неужели он так плох?
— Нет, что вы!
— Так в чем же дело?
— Расстроился он сильно за мать. Говорю ему: «Юра, будь мужчиной», а он обиделся, заявил: «Ничего ты, Катя, не понимаешь».
— Ай-яй-яй, как же так можно! — в шутку посочувствовал я.
Девушка с признательностью посмотрела на меня.
Постепенно я понял, что она знала о Юре все. И откуда он родом, и кем был его отец, и где работала до войны Любаша, и даже о рапорте на имя генерала Федоренко.
— Вы, конечно, тоже знаете капитана Шутова, к которому Юра просится? — спросила она вдруг.
— Знаю. Как не знать — земляк наш.
— А он что, ничего человек?
Я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться:
— Как сказать? Вообще-то, характер у неге неважный. Иногда бывает ну просто зверь-зверем…
— Правда? — Катя побледнела, стала просить меня, чтобы я уговорил Юру не идти к Шутову. Тут же она чистосердечно призналась, что ей это небезразлично.
Мы остановились в длинном коридоре.
— Подождите минутку, — попросила Катя и скрылась за дверью одной из палат. Тут же появилась снова с халатом в руках: —Надевайте.
Младший лейтенант Метельский, приподнявшись на локте, смотрел с ожиданием на открывающуюся дверь.
— Степан Федорович! — воскликнул он в смятении. — Это вы? А Катюша удивила, говорит, к тебе дядя. Что, думаю, за родственник у меня обнаружился? Никак вас не ожидал увидеть.
Он подал мне левую руку. Голова и правая рука его были перебинтованы.
Катя принесла стул, поставила вблизи кровати:
— Не больше десяти минут, товарищ… «дядя», — сказала обиженным тоном и вышла.
— Хорошая девушка, — кивнул я на дверь. — Обидчивая только.
Юра переглянулся с товарищем, лежавшим напротив, и, смутившись, опустил глаза.
Я посмотрел на него. Совсем взрослый парень. Крепкий, мускулистый. Лицо только худое да щеки впалые. Поверх одеяла лежала бледная, почти прозрачная рука.
— Мама приходила, Степан Федорович, — задергались уголки его рта.
— Знаю, мне Катя говорила. Очень жалею, что не удалось увидеться. Она в армии?
— Была. — Понизив голос, он заключил — А теперь домой возвращается.
Я дал ему понять, что догадываюсь о причине ее возвращения на оккупированную территорию. В сводках Совинформбюро все чаще и чаще упоминалось о действиях белорусских партизан.
Это-то Юру и беспокоило. Он хорошо понимал, с каким риском связана деятельность партизана. Я пытался его утешить. Говорил, что должен гордиться: ведь его мать будет помогать Красной Армии.
Чтобы переменить тему разговора, спрашиваю:
— Давно ранен?
— Да уже порядочно. В танковую атаку ходили. Удачно все было. Много фашистов подбили, а потом и наш танк загорелся…
Скрипнула дверь.
— Десять минут прошло, — сообщила Катя.
Я показал пять пальцев:
— Еще пять минут можно, а?
— Ладно. Вы только насчет Шутова не забудьте сказать.
— Насчет кого? — повернулся к ней Юра.
— Товарищ майор говорит, что твой Шутов — зверь. Понял?
Мы с Юрой переглянулись и расхохотались.
19
Лежу на верхней полке темного, плохо отапливаемого вагона. На оконном стекле изморось в палец толщиной.
Против меня на полке маленьким рубином мерцает папироса соседа. Я уже все знаю о нем. Он рабочий, мастер. Старый, с дореволюционным стажем, член партии. В Москву ездил по специальному заданию, теперь возвращается на свой завод. На тот самый, где я, как уполномоченный Ставки, буду следить за выполнением плана выпуска боевых машин. Кажется, мы уже успели обо всем поговорить, но старик не дает мне скучать и на все лады расхваливает свой город.
Поезд, глотая километры, увозит меня все дальше и дальше от фронта. В вагоне почти сплошь военные, и, надо думать, все они, как и я, испытывают мучительную неловкость. Вспоминаю недавний неприятный разговор. На остановке я вышел на перрон. Две женщины, которых встретил, посмотрели на меня холодным, осуждающим взглядом. Одна нарочно громко, чтобы я слышал, сказала:
— Такая здоровенная дубина, а не воюет! Ищет теплое местечко.
Хотелось остановиться, объяснить им, что я всего три дня как с передовой. Но не решился: они могут не поверить. Только и сделал, что побыстрее убрался с платформы.
— Вы не спите, товарищ майор? — опять спросил сосед.
— Нет, Василий Васильевич.
— Наверное, всякие думы мучат? Ведь правда, я угадал?
— Угадали.
Василий Васильевич начинает убеждать меня, что нужно всегда быть оптимистом. Ведь вот до революции, когда он сидел в одиночной камере, то думал лишь о хорошем. Рисовал себе такие светлые картины, будто, скажем, рабочий стал хозяином завода или дети тружеников учатся в университетах.
— Советский человек, тем более командир, не имеет права унывать, — заключил старик поучительным тоном.
«Старая революционная закваска», — подумал я и вспомнил Синкевича. Тот тоже всегда был бодр. Потом на память пришли Миронов, Метельский, его сын Юра. У младшего лейтенанта еще раны не затянулись, а он уже рвется в бой, пишет рапорт. А Катюша? Она его, видно, любит…
Под эти мысли я незаметно уснул. Разбудил меня сильный толчок. Поезд резко остановился: налетела вражеская авиация. Не в силах прорваться к Москве, немцы начали бомбить дороги к промышленным центрам, снабжавшим фронт.
Одна бомба упала на пути впереди состава. Пассажиры бросились помогать железнодорожникам. Уже часа через два мы снова двигались на восток.
— Видели того мальчишку, что воронку засыпал? — спросил у меня Василий Васильевич, когда мы снова улеглись на свои полки.
— Это которому лет четырнадцать? Славный малыш. Он все время нас подгонял: «Живее! Живее, товарищи военные!»
Старый рабочий улыбнулся:
— Не правда ли, хороший малец? У меня таких полный цех. Отцы и братья на фронте, а они оружие куют!..
К исходу второго дня добрались до завода. Василий Васильевич представил меня директору:
— Майор Шутов. Прямо с фронта.
Директор познакомил меня с графиком выполнения правительственного заказа. В заключение разговора посоветовал установить непосредственный контакт с рабочими.
— Выступите перед ними, расскажите о фронтовых делах, о том, как зарекомендовали себя машины, которые они тут собирают.
Пошел третий месяц, как я на заводе. Здесь встретился с героями тыла, от которых во многом зависела победа над врагом. Перед моими глазами и сейчас стоят эти мужественные люди.
Вот цех, где обрабатывались крупные детали танков. А работали здесь в основном худенькие, бледнолицые подростки да пожилые женщины, измученные горем и непосильным трудом. Выполняли по две-три нормы, рассчитанные на мужскую силу.
У одного станка работал пятнадцатилетний паренек Ваня Кислица. Перед тем как представить его мне, Василий Васильевич рассказал:
— Наш комсорг, гордость цеха. Обращаются к нему только по имени и отчеству: «Иван Иваныч». Часто работает по две и три смены подряд. Отец его тоже наш заводской, литейщик. Воевал и погиб. Мать Ванюшина добровольно ушла на фронт. Была тяжело ранена, и после этого о ней ничего не слышно. Теперь Иван Иванович с бабушкой. Веселый был парнишка, да ушел в себя.
Знакомлюсь с Ваней. Он протягивает худенькую, по уже натруженную руку.
— С фронта? — спрашивает.
— Из-под Москвы, Иван Иваныч.
Ваня косится на мастера:
— Васильич, это вы объявили, что я Иваныч? И про отца, про маму рассказали?
— Рассказал, — отозвался Василий Васильевич.
— Что ж тут такого? — заступился я за мастера.
— Не хочу, чтобы меня жалели, — ответил Ваня и ребром руки откинул с вспотевшего лба прядь волос. — Все равно от этого легче не станет.
Мне сразу приглянулся этот не но годам серьезный паренек. А со временем я убедился, что его уважает в цехе не только молодежь.
По долгу службы приходилось бывать на комсомольских собраниях. Иван Иванович проводил их тут же, у станков. Обычно присутствовали на собраниях все рабочие.
После информации начальника цеха о выполнении плана за неделю Кислица вызывал по имени комсомольцев, а те коротко рапортовали.
— Миша!
— Двести тринадцать.
— Хорошо, подтянулся малость, — подбадривал его комсорг. — Однако надо еще добавить… Женя!
— Двести сорок два.
— Молодец!.. Саша!
Подросток отрицательно качает головой, прячет глаза, словно его уличили в каком-то неблаговидном поступке.
— Он наш цех подводит, — бросает девушка. — Всего сто шестьдесят процентов! Позор!
Секретарь комсомольской организации продолжает:
— Тезка!
— Двести пятьдесят один.
— Люба!
Девушка краснеет, кокетливо улыбается.
— К тремстам подходит, — отвечает кто-то за нее. — Юра!
— Триста шесть.
По лицу Ивана Ивановича пробегает радостное волнение:
— Чудесно! Так держать, Юра!..
Протоколов на собраниях не велось. Взысканий никому не записывалось. Для тех, кто не выполнял обязательства, было самым тяжелым наказанием осуждение коллектива…
20
В городе из добровольцев формировалась танковая бригада. Меня, как имеющего боевой опыт, привлекли к подготовке личного состава.
На вооружение бригады прибыло несколько английских «матильд» с целой армией техников и инструкторов.
Английские танки, рассчитанные в основном на ведение колониальных войн в жарких странах, к действиям в суровых условиях русской зимы оказались мало пригодными. И вообще в любое время наш) «тридцатьчетверка» была проще в эксплуатации, удобнее, выносливее и менее капризной.
С неохотой пересаживались танкисты с отечественных машин на английские. Особенно беспокоила их так называемая «трубка Черчилля». Так у нас в шутку называли проходивший под днищем танка патрубок для отвода испаряющейся воды. В Африке, возможно, он был необходим. У нас же зимой случались неприятности. Вода в патрубках замерзала и разрывала их.
Можно было просто отрезать их или заглушить. Но делать это самовольно, без совета с «хозяевами» танков, мы посчитали нетактичным. Словом, в дипломатичном порядке поставили этот вопрос перед английскими инструкторами.
— Да, конечно. Тут надо кое-что изменить, — согласились они. — Все будет в порядке.
«Союзники» долго копались в моторах, чертили какие-то схемы и… пришли к выводу, что следует запросить мнение конструкторов завода, выпускающего «матильды». Послали запрос. А ответа нет и нет…
У нас лопнуло терпение, и мы решили действовать. Чтобы придать видимость коллегиальности, созвали техническую конференцию с участием наших танкистов и английских специалистов.
Мнения разделились. Англичане энергично требовали ждать ответа конструкторов. Наши настаивали убрать «трубку Черчилля».
В конце концов «союзников» убедили, что бригаду со дня на день могут направить в бой. Они вынуждены были уступить.
После деловой части состоялся завтрак с гостями. Я бы не стал говорить о нем, если бы случайно не выяснилась интересная деталь.
Английский сержант-инструктор, перебрав водки, подсел к танкисту Ермакову, выступавшему на конференции с содержательной речью, и принялся трясти его руку.
— Я есть механик. Рабочий. — Он покосился на своего начальника. — Я согласен с вами: трубку надо снять.
— Почему же вы не сказали этого своему майору?
Англичанин иронически улыбнулся:
— Говорил, много раз, а он слушать не хочет. Грозит отправить меня в Англию и отдать под суд. Все они мерзавцы. К танкам не имеют никакого отношения. Шпионить приехали. Ненавижу продажных людей.
Об этом разговоре на следующий день мне рассказал сержант Ермаков. И мне многое стало ясно в поведении «союзников».
В МОСКВЕ ВЕСНА…
1
За два с лишним месяца, что я здесь не был, столица значительно изменилась. Убраны ежи, мешки с песком. Памятники стоят открытыми. Улицы чистые. Еще есть очереди за хлебом, за продуктами, в аптеках не хватает медикаментов, обыкновенную кастрюльку без «нагрузки», флакона духов, не купишь. Но по всему чувствуется — весна пришла. Столица расправила плечи после кошмарной зимы.
На улице Горького продают душистые фиалки. За самый крохотный букетик запрашивают неслыханную цену.
— Позвольте, это же разбой! — возмущается средних лет любитель цветов. — Раньше за такие деньги корову можно было купить!
Продавщица фиалок отворачивается: сейчас ее товар ходкий!
— Ладно, — соглашается покупатель. — Дайте два букета.
Я тоже покупаю букетик. Для Катюши.
Перед отъездом на фронт решил позвонить в госпиталь и справиться о здоровье Юры. Дежурный врач сообщил, что младшего лейтенанта Метельского эвакуировали в Энгельс, но если интересуюсь подробностями, то он может пригласить к телефону более сведущего человека. Более сведущего? Кого же это?..
— Алло, сестра Коваль слушает. Алло! — мембрана дрожит от звонкого голоса.
— Сестра Коваль? Это вы, Катюша?
— Я. Кто у телефона? А, товарищ «дядя»! — восклицает она весело. — Здравия желаем! Вы опять в Москве? Один или с танками?
Делаю ей замечание: разве о таких вещах по телефону говорят? Спрашиваю о Юре. Да, они переписываются, и она желает поговорить со мной с глазу на глаз. Уславливаемся встретиться на площади Свердлова.
Катюша приходит без опоздания. На ней старая шинелька, много раз стиранная пилотка. Но военная форма ей к лицу. От моего подарка она в восторге. Цветы такие нежные, красивые и душистые!
— В Москве продают фиалки! Понимаете, что это значит? — спрашиваю у нее.
— Понимаю, — глаза девушки блестят. — В Москву пришла весна.
Катюша рассказывает о письмах Метельского. Он сообщает, что поправляется. Недели через две его, очевидно, выпишут.
— Очень боится потерять с вами связь и жалуется, что на последние письма вы не ответили.
Мой ответ где-то затерялся. Решаем, что в дальнейшем переписка между мной и Юрой будет идти через ее госпиталь. Чтобы окончательно успокоить девушку, говорю:
— А как только выздоровеет, немедленно заберу его к себе.
Реакция обратная ожидаемой. Катюша бледнеет.
— Хотите, чтобы он остался в тылу?
— Нет, — девушка смотрит на меня задумчивым, невидящим взглядом. — Хочу, чтобы с ним ничего не случилось.
Ее неожиданно начинают душить слезы.
Она по-настоящему любит молодого танкиста!
До отхода поезда остается еще несколько часов, и мне хочется провести их с Катюшей. К счастью, у нес тоже есть свободное время. Решаем прогуляться по улицам.
Идем. Я смотрю на хрупкую фигурку попутчицы и удивляюсь: как такая могла воевать, даже награду имеет. Видимо, подвиг совершила.
— Кстати, — спрашиваю, — Катюша, расскажите, как вы медаль заслужили.
— Пустяки, — девушка краснеет. — Боюсь, вам это будет неинтересно.
— Отчего же?
После долгих уговоров все же соглашается поведать о своих фронтовых делах.
Полк, в котором она служила, попал в окружение.
Одиннадцать дней отражал атаки превосходящего противника. Большинство бойцов погибли, в строю остались единицы. Убиты командир полка, комиссар, начальник штаба, врач медсанбата. Старший лейтенант, командовавший остатками полка, Катюшу все в тыл прогонял.
— Тыл, — грустно усмехнулась девушка. — А где он тыл, когда и спереди, и сзади, и с боков стрельба идет, со всех сторон немцы наседают?
На одиннадцатые сутки на горстку измученных боями и голодом людей навалились танки.
Катюша чудом спаслась, только потеряла сознание. Пришла в себя поздно ночью. Стояла жуткая тишина. Вокруг мертвые лежат.
Хотела встать — левая нога побаливает. Сняла сапог, а в нем кровь. Ранение, правда, легкое, пуля задела икру, но крови потеряла много.
— Перевязала себе рану и поднялась. А куда идти, понятия не имею, — призналась Катюша. — Темень такая, ну прямо хоть глаз выколи.
В общем, забралась она под кузов разбитого грузовика и решила дождаться утра. На рассвете услышала стон. Оказалось, жив еще молоденький танкист, который в день окружения, раненный, приполз к нашим окопам и потом находился в медпункте. Когда девушка нашла его, он открыл глаза, улыбнулся:
— Жива, сестра?
Катюша помогла танкисту встать, и они направились в открытое поле к стогу сена. Здесь пролежали до вечера. Когда стемнело, двинулись на восток. Шли несколько ночей. Танкист был очень плох. Иногда его приходилось просто тащить на спине. Словом, иной раз за ночь, хотя ночи стали уже достаточно долгими, они проходили по пяти — семи километров.
Двигались, конечно, вдали от дорог, чтобы не встретить немцев. Если поблизости оказывалась деревня, Катюша осторожно пробиралась туда и доставала немного съестного.
Под конец парень совсем занемог. У него поднялась температура, началась рвота. С трудом расстегнув кобуру, он достал пистолет. Долго возился, пытаясь взвести курок, но так и не смог. Протягивая пистолет девушке, сказал:
— Все равно на этом свете я уже не жилец: облегчи мои страдания. Нет сил больше мучиться. Да и ты без меня, возможно, спасешься.
— Замолчи! — прикрикнула на него Катюша. — Не говори глупостей. Или вместе спасемся, или вместе погибнем.
Может быть, и действительно не видать бы им своих, девушка ведь тоже теряла все больше сил, да услыхали они как-то гул артиллерийской стрельбы. Это прибавило бодрости, — значит, близко фронт.
Добрались до реки. Она хоть и не очень широкая, зато быстрая. Переплыть будет не просто, особенно с лейтенантом. К тому же он температурит и в студеной воде наверняка получит воспаление легких.
Сидела она так в кустах у берега и думала. Хотелось, чтобы появился добрый старик на лодке и перевез их. Но чудес не бывает!
В полночь взошла луна, осветила реку, противоположный берег. И девушка решилась. Сняла ремень, привязала к себе танкиста, вошла в воду.
— Вы, конечно, догадались, кто был тот танкист? — спросила Катюша, подняв глаза.
— Догадываюсь. Младший лейтенант Метельский?
— Он…
На рассвете я уехал в действующую армию заместителем командира 36-й танковой бригады Западного фронта.
2
После того как наши войска разгромили немцев под Москвой, положение на фронте несколько стабилизировалось. Враг занимался тем, что перебрасывал из Западной Европы на восток новые дивизии. Он хорошо знал, что союзники не торопятся открывать обещанный второй фронт. Советская Армия тоже накапливала силы, готовясь к предстоящим боям.
Наступил тот период, когда сводки Совинформбюро сообщали: «На фронте ничего существенного не произошло». Ничего существенного! Только участник тех боев может знать, сколько кровавых дел и драматических событий скрывалось за этой сухой, лаконичной фразой.
…Брянские леса. Маленький сонный ручей, приток Болвы, восточнее Людинова. Хорошо разбежавшись, его без малого если не перепрыгнешь. И мелкий — про такой говорят: курица перейдет, ноги не замочит. А берега болотистые. Не меньше чем на километр по ту и другую сторону ручья тянется непроходимая топь.
Фашисты на западном берегу ручья. В тихую погоду оттуда доносится звон лопат, пение пил, рев грузовиков. Там строится оборонительный рубеж с дотами, дзотами и еще бог знает с чем.
Чтобы помешать работе, наша артиллерия бросает туда десятки «чемоданов», но стрельба по площадям без корректировщиков малоэффективна. Мы это чувствуем по тому, что работа там даже во время обстрелов почти не прекращается.
По указанию комбрига я побывал в стрелковых частях на передовой, походил по траншеям, познакомился с местностью. Возвратившись, захожу к командиру. Он оживился:
— Хорошо, что ты прибыл, Степан Федорович. Приказ получен. Нам предложено выделить танковую роту, которая бы прорвалась на тот берег, навела там панику, по возможности разрушила то, что немцам удалось возвести.
В блиндаже комбрига комиссар, начальники штаба и оперативной части. Склонились над картой, разложенной на столе.
— Давай поближе, — предлагает мне комбриг. — Ты теперь местность знаешь. Где тут лучше проскочить?
Подхожу к столу, показываю на правом фланге участок:
— Думаю, дамба и мост — самый удобный маршрут. Мост новый, добротный, наши машины выдержит. Но противник пристрелял его и, возможно, заминировал. Значит, надо разведать мост и просить артиллеристов подавить находящиеся в засаде орудия немцев.
Все соглашаются с этим. Возникает вопрос, какую роту выделить для операции.
— Думаю, что следует послать роту Староверова, — предлагает комиссар бригады. — Я говорил с комбатом Кокаревым, он очень хвалит лейтенанта. Мне Староверов тоже симпатичен. Честный, скромный. Как-то спрашиваю у него: «Почему в партию не вступаете?»— «Не достоин еще, — отвечает. — Надо сначала в бою себя показать».
Я хоть в бригаде и новый, лейтенанта Староверова уже знаю. Его зовут «счастливчиком». И не без основания. Войну он начал от границы. За десять месяцев участвовал во многих боях, попадал в сложные переплеты, горел в четырех танках, и каждый раз все для него кончалось благополучно. Ни одного ранения, ни одной контузии!
Комбригу предложение комиссара тоже нравится.
— Итак, решено, посылаем роту Староверова, — заявляет он. — А пока начштаба будет приказ оформлять, ты, Степан Федорович, дуй-ка в первый батальон, помоги там Староверову подготовиться. Пусть хорошо разведает путь…
Первым батальоном командует капитан Кокорев, опытный, боевой танкист. Вместе направляемся в роту к Староверову.
Лейтенант с интересом выслушал задачу. Потом говорит:
— Не беспокойтесь, товарищ майор, через мост проскочим и такую веселую жизнь фрицам устроим!..
— Только без лихачества, — предупредил я его. — Все надо тщательно подготовить.
Ночью опять приезжаю к Староверову. Рота готова к выступлению, но командира нет. Говорят: лейтенант со своим механиком-водителем отправился к мосту.
Скоро он вернулся, докладывает:
— Мост не заминирован, сам проверял.
Я считал, что командиру роты без нужды рисковать не следует. Хотел выговорить Староверову, да удержался. Спросил только, не заметили ли его немцы, что-то часто они осветительные ракеты над мостом зажигают.
Лейтенант заверил, что на этот счет моя тревога напрасна.
В условленное время наши артиллеристы накрыли огнем пристрелявшие мост орудия противника. И тут же танки Староверова тронулись.
На освещенной ракетами дамбе мне видно все как днем. К сожалению, полностью подавить вражескую огневую систему нам не удалось. Первая машина командира роты с ходу проскочила. Но вторую — старшины Степанченко — немцы обстреляли. Мост вспыхнул, загорелся и танк. Я уже думал, что операция сорвется: ведь растеряйся экипаж Степанченко, оставь машину на мосту, и она загородила бы путь другим. Но, рискуя жизнью, танкисты отвели ее на противоположный берег ручья.
По горящему мосту на помощь командиру роты прорываются еще несколько танков, а за ними батальон стрелков.
После танкисты Староверова рассказывали, как они налетели на автоколонну противника и расколошматили ее. Командир роты был, как всегда, немногословен. А подчиненные его поведали, что он один принял бой против трех вражеских танков и уничтожил их. Его машина тоже пострадала, а он и на этот раз даже царапины не получил.
На следующий день сводка Совинформбюро сообщала: «На фронте ничего существенного не произошло».
3
Саперы быстро соорудили прочный настил вместо сгоревшего, и наша бригада перешла на западный берег ручья. К утру мы освободили несколько населенных пунктов. Все они были сильно разрушены. Больше всего пострадала деревня Рубашевка. Немцы сожгли ее дотла, а жителей уничтожили.
Нам удалось выяснить судьбу Рубашевки. Вблизи нее партизаны взорвали склад горючего и перебили охрану. После этого в деревню прибыл карательный отряд. Жителей согнали в овраг, расстреляли, а потом облили бензином и подожгли. Это произошло перед прорывом Староверова.
Мы с комиссаром пошли к оврагу. Взорам нашим предстали груды обугленных трупов! Тут были старики, женщины, дети.
— Обязательно нужно танкистам это показать, — заметил комиссар. — Злее драться будут.
Уже собрались уходить, когда вдруг заметили, в кустах что-то шевелится. Присмотрелись — человек.
— Это свой, — сказал комиссар. — Принял нас за немцев и боится выходить. Товарищ, не бойтесь, — крикнул он.
Зашевелились кусты. Из них выбралась старушка, маленькая, сгорбленная.
— Наши! Слава тебе господи, — всплеснула руками, и слезы заблестели на ее глазах.
Подходим к тому месту, где она стоит. Глядим сверху вниз и глазам своим не верим: в кустах, видим, лежит немецкий солдат с забинтованной головой. Странное дело.
Спускаемся в овраг. Успокаиваем старушку.
— Мамаша, а это что за человек? — спрашиваю я, кивая на немца. Тот уже поднялся и стоит перед нами с разбитым лицом.
Старушка вышла вперед, раскинула руки, как мать, заступающаяся за сына, и отрицательно покачала головой:
— Не трогайте его. Он супротив своих пошел и тоже пострадал.
«Истинно русский характер, — подумал я о старушке. — На глазах у нее расстреляли родных и знакомых, сама только чудом осталась в живых, а за немца заступается!»
Наш врач осмотрел женщину и немца. У старушки он обнаружил тяжелые ожоги, у солдата — легкое ранение. Перед отправкой их в медсанбат переводчик успел задать немцу несколько вопросов и выяснить трагедию Рубашевки.
Эсэсовцы прибыли в Рубашевку на четырех машинах под брезентовыми тентами, пятая привезла бочки с бензином. Командовавший карателями оберет приказал собрать народ к оврагу.
— Привести всех, — предупредил он. — Того, кто не сможет идти, пусть несут.
Согнали более двухсот человек, не пожалели даже больных, женщин с грудными малышами. Оберст обратился с речью, требуя, чтобы ему выдали партизан.
Толпа молчала.
— Даю минуту на размышление, — предупредил он и стал следить за секундной стрелкой часов.
Прошла минута. Толпа молчала.
— Туда всех! — оберет махнул рукой в сторону оврага.
Автоматчики согнали обреченных людей в кучу и открыли огонь.
Шофер Август Мильраут видел это и не мог понять, почему потребовалось убивать стариков и детей. Задумавшись, он не слышал, как к нему подбежал обер-фельдфебель Бергман и потребовал подвезти бочки с бензином поближе к оврагу.
— Шевелись быстрее! — заревел он, выходя из себя. — Да проснись же ты наконец.
Шофер поднял глаза.
— Ты, Ганс, скотина, — процедил сквозь зубы. — Я не поеду!
— Что-о?! — Бергман задохнулся от злобы. — Еще одно слово, и я убью тебя.
— Не поеду!
Бергман ударил шофера кулаком в подбородок, выволок из кабины и сам повел машину. А когда в овраге все было кончено, он вспомнил об Августе и доложил оберсту. Тот подошел к сидевшему на земле шоферу. Мильраут встал, подтянулся.
— Социалист? — оберст смерил Августа презрительным взглядом.
— Беспартийный.
— Все равно. — Оберст криво улыбнулся, доставая из кобуры пистолет. — Русских жалеешь? — и выстрелил.
Рассказ немца дополнила старушка. По счастливой случайности пули автоматчиков миновали ее, и во время суматохи она укрылась в кустах. Отсюда видела, как эсэсовцы раскачали Мильраута и сбросили в овраг на кучу трупов. Когда немцы отправились жечь деревню, старая женщина выбралась посмотреть, не спасся ли кто, как и она. Живым оказался только немец. Старушка поняла, что он пострадал за жалость к людям, и решила помочь ему.
4
В первой половине августа, стремясь ослабить активность советских войск на ржевском направлении, противник перешел в наступление против левого крыла Западного фронта на участке Козельск — Сухиничи. И опять главной ударной силой у него были танковые соединения. Наибольший успех немцы имели в районе Алешкино, где им удалось переправиться через реку Жиздру.
Получаю приказ: 167-й танковой бригаде контратаковать прорвавшуюся колонну противника во фланг. В приказе указывается направление, время, поддерживающие артчасти.
Я командую бригадой совсем недавно. Плохо знаю людей. Выручает начальник штаба Дмитрий Васильевич Хромов, боевой, опытный командир, хороший товарищ.
В нем мне особенно нравится прямота, смелые суждения. Он может любому сказать в глаза все, что о нем думает. В работе деловит, энергичен. А внешность его обманчива: бесцветные глаза на маловыразительном веснушчатом лице, острый приподнятый нос, толстые, мясистые губы.
Дмитрий Васильевич воюет от самой границы. Побывал в разных переделках. В конце ноября сорок первого года, раненный, попал в окружение. Прежде чем выйти оттуда, ему пришлось отмерить шагами сотни километров. Голод и крепнущие морозы подорвали силы. Вывали минуты такой слабости, что он даже терял веру в возможность спасения.
Однажды, вот так же измученный, лежал в лесу и думал, сможет ли дальше идти. Под утро вздремнул. И вдруг сквозь сон женский стон слышит. Прислушался — снова, да только не стон, а крик женщины. Что такое? Откуда в лесу женщина? Почему кричит?
Хромов взвел пистолет, стал осторожно приближаться к месту, откуда слышался голос. А когда раздвинул кусты, глазам своим не поверил: лежит на снегу женщина с крошечным ребенком. Мать закутала малыша в рваную клетчатую шаль, а сама, полураздетая, посиневшая, обессилевшая, лежала на снегу.
— Кто вы и почему здесь? — обратился к ней старший лейтенант.
Женщина с трудом подняла голову, в ее глазах появился страх. Это и не удивительно. В изодранной за долгие дни скитаний одежде Хромов вполне походил на лесного бродягу.
— Не бойтесь меня. Я русский боец, — как можно ласковее сказал он.
Чтобы согреть женщину, танкист накинул на нее свою кожаную куртку и гимнастерку. Отдал ей оставленный себе на завтрак кусок хлеба. Затем он направился искать деревню, надеясь устроить там женщину. Деревни не нашел. А когда вернулся в лес, мать умерла. В ее застывших руках копошился закутанный в тряпье ребенок. С ним Хромов вскоре и вышел из окружения.
Эту историю мы, возможно, и не узнали бы, не заметь кто-то случайно, что у нашего начштаба ампутирована левая стопа. Наши расспросы заставили Хромова рассказать, как он пробирался с ребенком на руках по тылам врага, как вынужден был сменять сапоги на кусок хлеба, а идти в портянках, подвязанных обрывками проволоки. Ребенка потом Хромов устроил в детдом…
Выступила бригада двумя колоннами. Под гусеницами машин заклубились грязные облака пыли. Пыль затрудняла наблюдение, мешала дыханию, забивалась в глаза, уши, скрипела на зубах. Но она оказалась и добротным маскировочным средством, в чем мы убедились, когда в воздухе появилась стая «юнкерсов». Самолеты засыпали нас бомбами, но те рвались по сторонам, не причиняя вреда.
Танковый бой завязался под вечер, часам к пяти. Наш внезапный удар во фланг привел противника в замешательство. Уже после первого натиска его «Т-III» и «Т-IV» стали поворачивать назад. А нам этого только и надо: ведь корма танка более уязвима.
К сожалению, преследовать противника не позволили пикировщики. Они налетели, как коршуны, и теперь уже нам пришлось спасаться.
Все же победа за нами. Поэтому, когда докладываю командиру корпуса о результатах боя, не могу сдержать радости:
— Уничтожено двадцать восемь вражеских танков, захвачено двадцать два совершенно исправных.
Генерал П.А. Курочкин тоже доволен.
— Молодцы, — гремит в трубке его голос, — поработали на славу. Только не зазнавайтесь и не забудьте, что не позже чем завтра враг снова попытается наступать…
Действительно, следующее утро началось с мощной артиллерийской канонады. На этот раз немцы попытались ударить правее нас, в полосе 90-й танковой дивизии.
Позвонил командир правофлангового батальона, доложил, что на соседа наседают вражеские танки и пехота.
У нас спокойно. Мы сидели на НП, прислушиваясь к голосу боя. Молчание нарушил комиссар бригады Захарченко:
— Да, жарко, должно быть, приходится Банникову. Надо бы связаться с ним, узнать, как там дела.
— Правильно, — я кивнул Хромову на телефон, — давай-ка, Дмитрий Васильевич, позвони соседу!
Минут через пять начштаба зовет меня:
— Полковник хочет с вами поговорить. Немцы на него нажимают.
Беру трубку. Знаю: положение у Банникова тяжелое, но голос его спокоен. Позвал меня, чтобы просить о помощи, говорит же совсем о другом:
— Здорово, Шутов. Как дела? У тебя вроде тихо?
— Пока тихо, — отвечаю.
— Не удивительно. Ты им вчера всыпал, так они теперь на мне злость вымещают. Прямо за горло берут.
— Держись, старина, — говорю ему, — постарайся ударить своим резервом справа, а я стукну слева…
— Конечно, надо бы на помощь Банникову батальон послать. Но оголять фронт опасно. Думаю, товарищ майор, это дело следует поручить первой роте. Ока у нас правофланговая, и ей развернуться проще всего, кроме того, во вчерашнем бою первая рота потерь не имела и сейчас наиболее боеспособна.
Рассуждения начальника штаба логичны. Мы с комиссаром соглашаемся.
Скоро шум боя усилился, а потом стал отдаляться.
Опять позвонил Банников. Поблагодарил, сообщил, что совместным ударом противник отброшен и положение восстановлено.
В течение дня фашисты еще несколько раз пытались атаковать 90-ю танковую дивизию, но успеха так и не достигли.
Для нашей бригады день прошел более или менее спокойно. Вечером ко мне зашел командир батальона Лукащук. Доложил, что восстановлены все подбитые накануне «тридцатьчетверки». Одновременно сообщил, что взвод Метельского просит разрешения в очередном бою использовать немецкие танки.
Это меня удивило. Я знал, что ни один нормальный танкист не согласился бы пересесть с «тридцатьчетверки» на «Т-III» или «Т-IV». В чем же дело? Кажется, парень что-то затеял.
Я тут же отправился к Метельскому. Застал его самого и танкистов изучающими трофейные машины.
— Ты что придумал? — спрашиваю у него. — Действительно тебе больше нравятся эти коробки?
— Что вы? — искренне удивился он. — Как можно такое подумать! Я просто хочу одурачить фашистов. В бою появлюсь на этих, как вы их называете, коробках и введу их в заблуждение. Вот увидите, как хорошо все получится.
— Если так, желаю успеха.
Командир взвода посмотрел на меня и облегченно вздохнул:
— Откровенно говоря, Степан Федорович, я опасался, что вы не разрешите.
— Почему? Ведь ты знаешь, Юра, я против слюнявой жалости…
Не добившись успеха в атаках против Банникова, на следующий день фашисты насели на нас. С утра появились десятка три бомбардировщиков и бомбили, бомбили, бомбили. Такое впечатление, словно они решили перепахать все поле. Близкий разрыв качнул и мой танк. Механик-водитель выскочил на минуту, опять возвратился, докладывает:
— Разбит каток, порвана гусеница.
— Хорошо, хоть орудие цело. Можно с места стрелять.
В шлемофоне голоса. Радио работает без умолку. То один, то другой комбаты докладывают о потерях.
Самолеты уходят. Наблюдая в смотровую щель, я вижу, как с опушки далекого леса в нашу сторону двинулись угловатые машины с черно-белыми крестами на башнях. Их много, во всяком случае, больше пятидесяти.
Передаю приказ: без сигнала огня не открывать. Подпустить немцев метров на шестьсот.
Левее основной лавины противника из-за высотки показываются еще семь машин. Идут на сближение.
Догадываюсь: это Юрий Метельский со своими ребятами. Так и есть! Семерка заходит во фланг, разворачивается и начинает бить в упор «по своим». Несколько машин вспыхивают сразу.
Тут открываем огонь и мы. Совместными усилиями уничтожаем большую часть наступающих танков. Остальные, отстреливаясь, обращаются в бегство.
И снова «юнкерсы» обрушиваются на наших, не позволяя преследовать и завершить разгром всей вражеской танковой части. Все же, получив основательную встряску, противник «успокоился» и на время снизил активность.
5
Как-то, это было в конце августа, штаб корпуса передал приказ фронта: в двадцать три часа двадцать минут ночная авиация будет бомбить лес, где концентрируются фашистские танки. Для ориентировки летчиков и обозначения своего переднего края нам предлагалось подготовить и за десять минут до налета зажечь костры.
Отлично! Не часто наша авиация балует нас своей поддержкой. Поэтому понятно, с каким нетерпением ждали все обещанного удара. Хвороста для костров не пожалели.
В условленное время пламя озарило передовую.
Гляжу на часы: 23.25… Авиации нет. 23.30… Где же она? Проходит еще полчаса. В небе по-прежнему тихо.
Наконец из штаба фронта передают: налет отменяется, костры не разжигать.
Вспомнили!
— Интересное дело, — замечает Хромов. — Неделями работали, старались замаскироваться, скрыть начертание переднего края, а тут за каких-нибудь полчаса сами все немцу показали.
— Дурак он будет, если завтра же не воспользуется нашей любезностью и не долбанет нас с воздуха и с земли, — добавляет комиссар.
Я полностью согласен с боевыми друзьями. Однако сетовать мало, надо что-то предпринимать. Решаем выслать разведку, чтобы установить, как ведет себя противник.
Уже часа через полтора разведчики возвращаются. Доклад их неожидан: противник поспешно отходит за реку Жиздру. Неисправную технику взрывает.
Костры, оказывается, произвели на немцев впечатление. Звоню командиру корпуса. Тот смеется:
— Ну вот видишь, как все хорошо получилось! А ты, наверное, думал, зачем, мол, зря иллюминацию устроили?
Я понимаю, что генерал сам себя успокаивает, но молчу. Он заканчивает уже серьезно:
— Ты вот что, Шутов, ударь-ка по отходящим немцам. Я сейчас Банникову позвоню, пусть и он поработает.
К утру на восточном берегу Жиздры не осталось ни одного живого гитлеровца. Враг потерял выгодный плацдарм.
Недавно мне довелось читать статью о военно-стратегических планах западногерманских реваншистов. На убедительных примерах автор показал, что немецкая военщина в плоть и кровь свою впитала мысль, будто их страна без войн существовать не может. Эта «идея» передается из поколения в поколение и с настойчивостью, достойной другого применения, внушается молодежи.
Читая статью, я невольно вспомнил розовощекого гитлеровского майора, взятого нами в плен в тех боях на берегу Жиздры. Он являлся типичным представителем военной касты завоевателей. Прадед, дед его и отец в свое время тоже занимали места в генеральном штабе и по мере сил корпели над проектами планов завоевания Европы.
Майор оказался на диво словоохотливым. Он без стеснения хвастался личными военными «заслугами» в истреблении людей, превозносил до небес немецкую военную школу, с благоговейным уважением говорил о своих идолах: Мольтке, Шлиффене, Гинденбурге, Гудериане, Кейтеле, Браухиче, и, разумеется, преклонялся перед фюрером.
— Господин майор, а не помните ли, кому принадлежат слова о том, что ради господства над Европой можно пожертвовать всей немецкой молодежью? — спросил полковой комиссар Захарченко.
— Политика меня не интересует. Я — военный, — ответил гитлеровец с деланным спокойствием.
— А кто сказал, что, если германский народ не готов рискнуть собой, пусть он исчезнет?
— То и другое сказал Гитлер, — признал без тени смущения генштабист. Он засунул два пальца под воротник кителя, который почему-то вдруг стал ему тесен. — Но эти заявления не имеют никакого отношения к работе генштаба…
— Напрасно так говорите, — прервал его комиссар. — Все ваши планы, господин майор, основаны на этих заявлениях. Кстати, скольких миллионов немецких жизней уже стоит Германии «поход на Восток»?
— На ваш вопрос исчерпывающе ответил Гитлер. Армию великого рейха ничто остановить не может. Даже собственные потери.
— У безумия есть своя логика…
Не знаю, где сейчас этот майор, фамилию которого я давно забыл, может, он и не жив. Но знаю, что многие уцелевшие идеологи войны окопались в Западной Германии и опять склоняются над картой Европы, собираясь прокладывать себе дорогу через хаос разрушений и море крови. Что для них человеческие жизни? Эти вояки снова готовы рискнуть судьбой своего народа.
Но они забывают, что сейчас не те времена. Силы мира имеют все возможное, чтобы обуздать военных маньяков.
В октябре с бригадой и Брянскими лесами пришлось расстаться. Под Ленинградом, на Волховском фронте, куда мы с Хромовым и Метельским приехали, сосредоточиваются войска. По всему видно, готовится большое дело.
Я принял 50-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва 2-й ударной армии. Дмитрий Васильевич возглавил штаб полка, а Юра стал командиром роты тяжелых танков.
Между прочим, по приезде на новое место с некоторых пор замечаю, Метельский стал избегать оставаться со мной наедине. Всегда бодрый, веселый, он вдруг замкнулся, ушел в себя.
— Что с Юрием? — спрашиваю капитана Белобородова, с которым Метельский подружился.
— У него горе, товарищ подполковник. Его мать, партизанку, гестаповцы расстреляли.
— Что-о? Не может быть! Откуда это известно?
Белобородов, удивленный моим неожиданным интересом, рассказывает, что Юра получил письмо от знакомой девушки Катюши. Та узнала о несчастье от одного из руководителей партизанского движения. Мать Метельского была комиссаром партизанского отряда. Во время столкновения с карателями ее, тяжело раненную, схватили эсэсовцы…
После разговора с Белобородовым стало понятно, почему Метельский избегает интимных разговоров: он хочет до поры скрыть от меня случившееся, чтобы не расстраивать…
Войска тщательно готовятся к предстоящему наступлению. Всем ясно: бои предстоят тяжелые. За пятнадцать месяцев враг создал глубокую, прочную оборону. На высотках и более или менее сухих местах настроил дотов, дзотов, наставил бронеколпаков, прикрыл их минными полями, завалами, различными препятствиями.
Действовавшая здесь 18-я немецкая армия имеет в своем составе свыше 25 дивизий. Особенно сильная группировка на сравнительно небольшом Шлиссельбургско-Синявинском выступе между железной дорогой Волхов — Ленинград и Ладожским озером. Здесь всего двенадцать — пятнадцать километров отделяют войска Волховского фронта от Ленинградского, но преодолеть их будет нелегко.
327-я стрелковая дивизия, которую нам предстоит поддерживать, устроила у себя в тылу учебный городок с обороной — точной копией переднего края противника. И ежедневно подолгу подразделения штурмовали ее. В занятиях участвовали артиллерия, саперы, подразделения нашего полка.
Надо сказать, что такие тренировки проводились во всех частях Волховского фронта. Им предшествовало двухдневное штабное учение, которым руководил сам командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант В.3. Романовский.
В полночь 5 января по плану армии все соединения и части проводили разведку. Делалось это для того, чтобы противник не мог догадаться, где у нас планируется главный удар.
Мы выделили в разведку тяжелый танк старшего сержанта Ивана Шилова, невысокого, худощавого юноши с угольками в узеньких прорезях глаз. Экипажу предстояла опасная вылазка в опорный пункт противника, условно названный нами «Роща Круглая». Шилов и его товарищи отдавали себе отчет в том, что там их ждет противотанковый огонь, различные инженерные сооружения, минные поля, болота Синявинских торфоразработок, изрезанные глубокими непреодолимыми канавами, и еще много таких же неожиданных и поэтому более опасных сюрпризов.
Радиосвязь с машиной разведчиков оборвалась примерно через час после ее выхода.
На рассвете вернулись из вражеского тыла разведчики 327-й стрелковой. Мне тут же позвонил командир дивизии полковник Н.А. Поляков.
— Степан Федорович, твои посыльные не вернулись?
— Пока нет.
— Плохо их дело. Мои ребята издали видели горевший танк. Видимо, это твой. Стрельбы не было, — значит, на мину наскочил.
Николай Александрович был прав. Машина не возвратилась ни в этот день, ни на следующий. Жаль, погиб боевой экипаж. Но что поделаешь? Война есть война.
К нам приехали проверить готовность командующий фронтом генерал армии К.А. Мерецков и командующий армией генерал-лейтенант В.3. Романовский. Они присутствовали на очередной совместной атаке пехоты и танков.
Занятие подходило к концу, когда ко мне подошел сияющий Хромов:
— Товарищ полковник, Шилов вернулся.
— Шилов?! Не может быть!
— Верно. Жив и невредим. Сведения принес интересные.
Генерал Мерецков поворачивается к нам, шутит:
— О чем это вы там шепчетесь? Какие могут быть секреты в компании?
— Разведчик, — говорю, — которого мы не чаяли видеть, возвратился. Трое суток по тылам немцев ходил.
— Любопытно. А можно с ним поговорить?
Минут через пять сержант рассказывал командующему о своих приключениях:
— Понимаете, сначала все шло хорошо. Мы по фрицевской обороне проскочили, разглядели, где у них какие орудия, где пулеметы. Назад решили вертаться. Только вдруг снизу треск раздался, и машину толкнуло. «Ну, думаю, не иначе на мину наскочили». И в самом деле начался пожар. Кричу ребятам: «Давай выскакивай». Да где там, поздно! Боекомплект уже рвется.
Старший сержант попросил разрешения закурить. Затянувшись дымом, продолжал:
— Не знаю, как получилось, но пришел в себя в канаве, засыпанный снегом. Лежу и ничего не понимаю. Темно, — значит, еще ночь. Слышу хохот. Понял я, что фрицы осматривают мой танк. Потом все ушли, и я было хотел пробираться в часть. Но сразу передумал: решил воспользоваться тем, что к немцам в тыл попал.
— Вот, товарищ командующий, — Хромов положил перед Мерецковым несколько смятых листков из блокнота. — Шилов сутки ползал вдоль переднего края противника и начертил схему его огня и заграждений.
Все стали разглядывать листки. Да, немцы зря времени не теряли. Оборону свою они насытили орудиями и пулеметами, создали сплошную сеть проволочных заграждений, минных полей, возвели два дерево-земляных обледенелых вала высотой в полтора и шириной в два метра…
Наверное, многое из того, что Шилов нарисовал, командующему фронтом было известно, но не так конкретно. Во всяком случае, он обнял старшего сержанта, поблагодарил и тут же при нас прикрепил к его гимнастерке орден Ленина.
На глазах танкиста заблестели слезы радости, и он не стыдился их…
Утром 12 января авиация и артиллерия Волховского, Ленинградского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота обрушили на фашистов массу стали и огня. А потом, вслед за огневым валом, двинулись войска 2-й ударной армии. Навстречу нам пробивалась 67-я армия.
К сожалению, в болотах мощные тяжелые танки потеряли одно из главных своих достоинств — маневренность и оказались довольно-таки удобной мишенью для артиллерии противника.
В тех условиях наступление невольно расчленилось на серию отдельных боев за господствующие высоты. Все протекало до обидного однообразно. Перед атакой опорного пункта целую ночь приходилось прокладывать из бревен и валежника пути для танков. Понятно, что работы шли под непрерывным освещением ракетами и обстрелом.
На следующий день мы наступали, занимали высоту. А дальше высилась очередная, окруженная непроходимой топью, и все повторялось сначала.
Все же к исходу третьего дня нас отделяло от войск Ленинградского фронта только два — три километра.
Несколько наших машин вырвалось вперед и застряло в болотистой лощине. Над лощиной все время висит густая сеть золотых пунктиров. Отстреливаемся вяло, бережем боеприпасы.
Артиллерийский налет прекращается, и на нас с разных сторон, как саранча, набрасывается гитлеровская пехота. Жаль, что болото не позволяет двинуться ей навстречу и давить, давить, давить гусеницами. Пушки же против пехоты много ли сделают? Немцы пользуются этим, подбегают к машинам, карабкаются на броню, грохочут по башням коваными сапогами и автоматами.
Говорят, что в минуты переживаний внимание обостряется и часто останавливается на маловажных деталях. У меня в памяти тоже почему-то осталась долговязая фигура фашиста. Как сейчас, вижу блондина с горбатым носом, бессмысленным взглядом. Не добежав нескольких метров до моей машины, он начинает размахивать руками и надрывает глотку. Через отверстие для стрельбы из пистолета беру его на мушку. Падая, он продолжает комически жестикулировать.
Число гитлеровцев растет. Они угрожающе орут, подкладывают под днище танков материалы для костров. А мы беспомощны.
И вдруг голос в шлемофоне:
— Шестой, шестой, говорит четвертый. — Шестой — это мои позывные, четвертый — Метельского. — Шестой, предлагаю вызвать на себя огонь нашей артиллерии.
— Четвертый, я — шестой. Слышу вас и понимаю.
Вызвать на себя огонь — это реальная опасность погибнуть вместе с фашистами. От такой мысли у меня мурашки бегут по спине. Вспоминаю детей, жену, мать. Неужели я больше никогда не увижу их, не прижму к своей груди? Не увижу чистого неба, золотистого восхода солнца и багрового заката? Нет, что ни говори, умирать не хочется.
Я уверен, что и Юра жаждет жить не меньше чем я. Его ведь ждет молодая красивая подруга Катюша. И все же он первый предложил вызвать на себя огонь артиллерии. Да, надо уметь побороть страх, чтобы и умереть мужчиной.
Вызываю по радио Хромова: сейчас мне особенно хочется услышать его хрипловатый, простуженный голос.
— Одиннадцатый, одиннадцатый, одиннадцатый. Говорит шестой, говорит шестой.
— Одиннадцатый слушает.
Сообщаю свои координаты и прошу быстрее передать их артиллеристам.
Начштаба молчит. Потом глухо говорит:
— Приказание будет выполнено…
Артиллеристы не жалеют снарядов. Частые разрывы разметали врагов. От своих снарядов пострадали и танки. Но некоторые отделались небольшими повреждениями, в том числе и мой.
Ночью, при свете вражеских осветительных ракет, ремонтируем машины и благополучно возвращаемся к своим.
Вскоре решительный штурм дает свои плоды: войска Волховского и Ленинградского фронтов соединились. Блокада города-героя на Неве прорвана.
На некоторое время на нашем участке опять наступает затишье.
В конце апреля в бригаде снова побывал генерал К.А. Мерецков.
Расспросил о делах. Прошелся по экипажам, проверяя готовность людей, потом вдруг спрашивает:
— А где Шилов? Что-то я его не вижу?
Меня вопрос командующего удивил. Ведь он так занят, со столькими людьми ежедневно встречается и все же не забыл танкиста.
— Старший сержант Шилов ранен, товарищ генерал, — докладываю ему. — Находится в госпитале.
— Серьезно ранен?
— Повреждена нога.
— Хороший парнишка. Надо будет проведать его. И было бы неплохо привести к нему на свидание мать, — обратился генерал к одному из сопровождавших его офицеров.
Честно говоря, я думал, что генерал сказал это под впечатлением. Но оказалось, он побывал в госпитале у Шилова в тот же самый день. Об этом потом писала наша красноармейская газета.
В предмайские дни в гостях у нас побывал Леонид Утесов со своими «мальчиками». С первой минуты между артистами и танкистами завязались теплые отношения.
Нас заранее о приезде оркестра не предупредили, и я вначале растерялся.
— Сцены у нас, товарищ Утесов, нет. Надо бы соорудить хоть примитивную эстрадную площадку.
Утесов меня успокаивает. Он и его товарищи хорошо научились приспосабливаться к фронтовой обстановке. Под эстраду можно приспособить платформу грузовика.
— Это можно, — соглашаюсь я.
Подкатывает большой автомобиль, откидываем его борта — и эстрада готова.
— А машина нас выдержит, таких тяжеловесов? — шутит Утесов, обращаясь к окружившим «эстраду» танкистам.
— Выдержит, выдержит, — отвечают ему улыбающиеся воины.
— Ну, раз вы ручаетесь, тогда другое дело. — Утесов вдруг напускает на себя суровый вид, насупливает брови, с ног до головы меряет взглядом своих «подчиненных» и вдруг командует: — Десант, в ружье!
В руках артистов моментально появляются музыкальные инструменты.
— В атаку, марш!
Мы поражены: артисты ловко, прыжками взбираются на импровизированную эстраду. Награждаем их аплодисментами.
В сопровождении оркестра Утесов исполняет несколько веселых, бодрых песенок. Но вот он начинает петь об одессите Мишке, и глаза механика-водителя Скляренко, рослого, крепкого парня, увлажняются.
Мне понятно его состояние. В Одессе у него остались мать и младшая сестренка… Кто знает, живы ли они сейчас?
— Пожалуйста, товарищ Утесов, спойте еще раз, — просит он повторить песенку об одессите.
Заканчивается концерт. Утесов прыгает с машины и подходит к Скляренко.
— Вы одессит?
— Ваш земляк, товарищ Утесов.
— Очень приятно. Но расслабляться-то зачем? — спрашивает Утесов, дружески похлопывая старшину по могучей спине и перефразируя песню, поет:
Ты одессит, Мишка, А это значит, Что не страшны тебе ни горе, ни беда…Теперь уже все, и танкисты и артисты, подхватывают:
Ты ж одессит, Мишка, А он не плачет И не теряет бодрость духа никогда!..6
И опять дорога. На этот раз еду под Курск командиром бригады в 5-й гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта А.Г. Кравченко.
С новым начальником я встречался еще в грозную осень сорок первого года под Каширой. Бригада Андрея Григорьевича действовала по соседству с нашей. Вот почему теперь, когда я явился под Курск, он встретил меня как старого знакомого.
— Садись, Степан Федорович, — предложил генерал. — Разглагольствовать долго некогда. Имей в виду, двадцатая гвардейская бригада, которую принимаешь, — гордость корпуса. Она первой замкнула кольцо окружения на Волге! И тут дралась храбро. Теперь побывала на отдыхе, получила пополнение. Впереди ее ожидают большие дела. Кстати, ты о «тиграх» что-нибудь слышал? — неожиданно спросил генерал, — о «пантерах»?
— Слыхать приходилось, но, честно говоря, с трудом отличаю в этих слухах правду от выдумки. Я, Андрей Григорьевич, поверю, когда сам этих зверей пощупаю.
— Посмотрим, — неопределенно заметил Кравченко. — Но я предпочел бы, чтобы и ты заранее был готов к встрече с ними, и твои подчиненные. Машины эти намного сильнее известных нам «Тэ-три» и «Тэ-четыре». Оружие лучше. Броня толще. Словом, шапками их не закидаешь. Однако и паниковать не следует. Если бить в борт или корму, «тридцатьчетверка» наша вполне может с «тиграми» справиться…
Снова пришлось знакомиться с людьми, заниматься обороной, учить экипажи. Много внимания уделялось изучению сильных и слабых сторон новых тяжелых танков и самоходных орудий противника, на которые, как теперь известно, немецкое командование делало главную ставку в летней кампании 1943 года.
В первых числах июля нас предупредили о необходимости повысить бдительность и боевую готовность. Советскому командованию удалось установить, что немецко-фашистские войска на Курской дуге готовы начать наступление. И они не заставили себя ждать.
В ночь на 5 июля крупная группировка противника нанесла удар на южном фасе Курского выступа, в полосе Воронежского фронта. Через сутки наш 5-й и 2-й гвардейские танковые корпуса были выдвинуты из резерва фронта для прикрытия обоянского направления, где наносили главный удар танковые дивизии СС «Райх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова». Здесь против каждой нашей машины у немцев было не меньше трех-четырех.
Бой на подступах к Обояни разгорался и вскоре приобрел характер крупного танкового сражения. Против вражеских бронированных машин совместно действовали наши танки, артиллерия, в том числе и зенитная, авиация.
К тому времени наша авиация успешно вела борьбу за господство в воздухе. Мы были свидетелями многих воздушных боев, в которых советские летчики проявляли героизм, мастерство и чаще оказывались победителями.
Я с гордостью вспоминаю подвиг земляка замечательного летчика-истребителя Александра Константиновича Горовца.
Незадолго до этого я получил от него письмо. Узнав из газет о награждении меня орденом Красного Знамени, Горовец писал:
«Товарищ Шутов! Я горжусь тем, что и сыны белорусского народа в схватке с ненавистным врагом находятся на переднем крае. Я летчик. Недавно мне доверили новую боевую машину. На ней мне хочется показать, как любит свою Родину советский человек».
А вскоре Александру представилась возможность выполнить свое обещание…
Эскадрилья истребителей после боя возвращается на аэродром. Горовец идет замыкающим и вдруг замечает новую большую группу вражеских бомбардировщиков. Сообщить об этом командиру не может — отказала рация. Тогда он один разворачивается и бросается в атаку. Первой же очередью сбивает флагмана. Тут же падают еще три самолета. Бомбардировщики рассредоточиваются, огрызаясь. Но советский пилот атакует их то слева, то справа, то снизу. Девять машин сбивает Горовец и этим устанавливает своеобразный рекорд. Он оказался единственным летчиком в мире, сбившим в одном бою девять самолетов!
На обратном пути его неожиданно атакуют четыре вражеских истребителя. Он принимает бой. Но силы слишком неравны, и, охваченный пламенем, самолет врезается в землю. Указом Президиума Верховного Совета СССР летчику Горовцу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Так храбро дрались советские летчики-истребители. Завоевав господство в воздухе, они позволили бомбардировщикам 2-й и 17-й воздушных армий с большей уверенностью истреблять немецкие танки.
Противник несет потери, но во что бы то ни стало пытается расширить прорыв в сторону Обояни. Чтобы замедлить его продвижение, нашему корпусу приказано нанести контрудар из района северо-западнее Тамаровки.
Перед началом боя в корпус приехал член Военного совета фронта Н. С. Хрущев. Побывал он и в нашей двадцатой гвардейской.
Никита Сергеевич интересовался обстановкой, проверял, насколько хорошо знаком личный состав с боевой задачей, обеспечены ли танкисты питанием, боеприпасами, горючим. В заключение дал ряд советов, как лучше бороться с немецкими тяжелыми танками. Он рассказал об опыте лейтенанта Бессарабова, «тридцатьчетверка» которого за один день уничтожила три «тигра».
— В первый день боя Бессарабов не смог поджечь ни одного танка, — говорил Никита Сергеевич. — А почему? Да потому, что стрелял по лобовой части, а она выдерживает удары бронебойных снарядов. На следующий день Бессарабов учел это и стал бить тяжелые танки противника сбоку по борту. Вот тогда-то дело и пошло на лад.
Вообще я заметил, что член Военного совета фронта очень интересуется новыми приемами, используемыми в войсках, и стремится детальнее познакомиться с ними.
С моего НП он наблюдал за поединком танков батальона Топоркова против группы «тигров». Советские танкисты применили тактику сосредоточенного огня: несколько «тридцатьчетверок» стреляли по одной вражеской машине.
— Умно, — не отрываясь от бинокля, одобрительно отозвался Никита Сергеевич.
Я обратил внимание Н. С. Хрущева на левый фланг, где находился взвод лейтенанта Казака. Между небольшой высоткой и стеной созревших хлебов видны были башни наступающих «тигров». Над некоторыми из них уже поднимались черные клубы дыма. Низко, почти над самой землей, к танкам тянулись частые пунктиры трассирующих снарядов.
— Странно! Наших я почему-то не замечаю, — удивился Никита Сергеевич. — Стреляют, а не видны. Где же они?
Я не успел ответить, как он сам разглядел прятавшиеся за укрытия машины. С интересом стал следить, как они по очереди выскакивали, делали выстрел и задним ходом скатывались за бугор.
— Кто командует ими? — спросил Никита Сергеевич.
— Командир взвода лейтенант Казак.
— Казак? Любопытно, — задумчиво произнес он. И еще раз повторил: — Любопытно.
Затем заговорил оживленно:
— А вы понимаете, почему Казак так действует?
Очень просто! Наши танки легче и быстрее немецких, а «тигры» неразворотливы. Если не медлить, всегда можно после выстрела успеть скрыться от них. — Никита Сергеевич опустил бинокль и, взглянув на меня, добавил: — Умно ваши танкисты воюют. Передайте им мои поздравления и привет!..
Бои идут не прекращаясь. Противник не может достичь серьезного успеха, но, словно азартный игрок, снова и снова идет на нас танковой атакой.
Наши воины проявляли в этих боях чудеса храбрости и стойкости. Я видел несколько раз, как в пылу сражения танкисты не покидали горящих машин и, жертвуя жизнью, продолжали бороться.
Каждое боевое задание люди выполняли старательно, с выдумкой, применяя военную хитрость и смекалку. Помню, как-то разведка донесла, что немцы сосредоточили на нашем участке крупные силы и намерены атаковать. Мы решили встретить их огнем танковой и истребительной артиллерии, а чтобы сковать маневр врага, заминировать подступы к нашей обороне. Когда я ставил задачу саперам, младший лейтенант С. Зимогляд, командир взвода, пожаловался, что мин мало.
— Подумай, как лучше сделать, — попросил я его.
Сергей подумал и применил хитрость. Ночью его люди заминировали одни танкоопасные направления, а на рассвете, когда немцы могли наблюдать, сделали вид, что минируют совсем другие.
Естественно, враг во время атаки опасался участков ложного минирования и угодил на действительные минные поля.
Наблюдая за боем, я от души радовался. Да, мы научились воевать. Военная хитрость, солдатская сметка и находчивость стали могучим оружием.
7
5 августа Москва дала первый салют по случаю освобождения Орла и Белгорода. На Курском выступе советские войска разгромили тридцать дивизий врага из семидесяти, участвовавших в наступлении. Эта победа явилась важным событием, началом могучего наступления советских войск на широком фронте от Невеля до Азовского моря. К тому же она еще раз поставила в смешное положение гитлеровскую пропаганду, утверждавшую, будто летом наша армия наступать неспособна.
Еще как способна! Мы неудержимо, будто лавина, катимся к Днепру. Враг пытается цепляться за выгодные рубежи, контратаковать, но тщетно.
Пятый гвардейский танковый корпус, действующий впереди главных сил Воронежского фронта, часто наталкивается на засады. Иногда это всего-навсего одиночные танки или орудия. Они маскируются на опушках лесов, в хуторах, небольших перелесках. Большого вреда принести не могут, но нет-нет да и выведут из строя машину-другую.
Цель таких засад проста: заставить нас опасаться, задерживаться перед участками возможных засад. Противнику нужно выгадать время для отвода за Днепр своих поколоченных сил, а мы должны стремительно преследовать их, настигать и истреблять.
Бригада была на подступах к Лебедину, когда меня вызвал к себе генерал Кравченко.
— Предстоит жаркое дело, — предупредил он. — Имеются сведения, что у предместий Лебедина остановилась на дневку вражеская танковая часть. Хорошо бы ночью ее и растребушить.
Генерал развернул карту:
— Вот смотри, где у них охрана и засады: вдоль дороги. А ты постарайся ударить отсюда, чтобы миновать их и на главные силы напасть внезапно. Сумеешь ошеломить, победишь без большой крови. Ну да что тебя учить, сам знаешь…
К вечеру, соблюдая меры предосторожности, мы сосредоточились в лесу северо-восточнее Лебедина. Отсюда, как только стемнело, и рванули. На предельной скорости, без единого выстрела, обошли засады и выскочили к рощице, в которую немцы загнали на ночь свои машины. Враг не ждал нас так быстро, он не маскировался, танкисты разожгли костры и закусывали около них. Наши открыли огонь почти в упор.
Услышав шум моторов и выстрелы, гитлеровцы в панике стали разбегаться. Лишь немногие из них успели залезть в свои машины и начали сопротивляться. Не прошло и часа, как танковая часть врага была уничтожена.
Успешно действовал в ночном бою экипаж лейтенанта Якушева, в упор расстрелявший три танка. О Якушеве и его товарищах следует рассказать подробнее. У нас их после одного случая в шутку прозвали «ночными специалистами».
Это было незадолго до Лебедина. Подбитый в бою танк Якушева остался на ничейной земле, но экипаж не покинул его, ожидая, что с наступлением темноты друзья вытянут их на буксире. По радио мы с ним об этом условились.
Но только начали спускаться сумерки, как в направлении подбитой «тридцатьчетверки» двинулись несколько фашистских танков. Мы их еще не видели, а Якушев уже разглядел и вступил с ними в неравную схватку.
— Сережа, бронебойные! — приказал командир.
— Готово!
Подпустили поближе, и безмолвная до того машина внезапно ожила. Первый снаряд поджег головной танк врага. Тот вспыхнул, как сухой сноп соломы. Из пламени выскочили танкисты, бросились бежать. По ним дал несколько очередей пулемет Глухова.
Вражеские танки ответили огнем. Один снаряд заставил «тридцатьчетверку» вздрогнуть.
— А ну, хлопцы, вдарьте по тому, що злива, — попросил раненый механик-водитель. — Это вин, сучий сын, кусается.
Лейтенант Якушев назвал прицел и дистанцию. Танк, на который указал Гнатюк, неуклюже ткнулся носом, дернулся и остановился. Из моторной части его потянулся дым.
Механик-водитель торжествовал:
— Молодцы! Были бы у меня гроши, я б вам по порции мороженого купив. Жарко щось становится… — скорчившись от боли, поддерживая руками раненый живот, Гнатюк старался подбодрить товарищей — Снарядов у нас досыть, не жалейте. Дуйте, хлопцы, от того, що лизэ…
Когда на помощь экипажу Якушева подоспели наши танкисты, он уже подбил пять вражеских машин.
Отступая под ударами советских войск, враг неистовствует. Бессильную злобу свою он вымещает на мирных жителях, беззащитных военнопленных. На своем пути мы всюду встречаем сожженные, изуродованные села и города, трупы замученных людей. Лишь стремительность передовых отрядов заставляет фашистов спешить, отказываться от черных дел.
На короткий отдых бригада остановилась в населенном пункте Лебедин. Где-то поблизости родное село лейтенанта Казака. Лейтенант подходит, застенчиво улыбается:
— Товарищ подполковник, разрешите на часик отлучиться. Старики мои тут в трех километрах живут. А то неизвестно, придется ли еще свидеться.
Разве мог я отказать мужественному танкисту, участвовавшему в освобождении родного села?.. Казак ждал моего решения. Стоявшие тут же танкисты смотрели на него сочувственно, на меня — выжидающе.
— Даю вам два часа. Но не опаздывайте. Иначе можете не застать нас…
Лейтенант пересек дорогу, выбрался напрямик в степь и побежал.
Неподалеку, у плетеной изгороди, опершись на палку, стоял, прислушиваясь к разговору, седовласый старик. Он переступал с ноги на ногу, потом, видимо решившись, спросил:
— Товарищ начальник, а можно вопрос у тебя спросить?
Я направился к деду, но он замахал руками: не надо, не надо, сам подойду, не барин!
— Слушаю, дедушка.
Старик посмотрел в ту сторону, куда направился лейтенант.
— Фамилия тому хлопцу не Казак будет?
— Казак. А что?
— Молодое деревцо быстро растет. Пять лет минуло, как Федя в солдаты ушел, а не узнать его. К своим отпросился?
— Да, решил повидать их, пока близко. Неизвестно ведь, куда завтра война забросит.
Старик вздохнул, опустил голову:
— Не повидает. Его родителей только недавно комендант немецкий дозволил снять с дерева. Всю зиму висели…
По телу моему пробежали мурашки:
— За что их повесили?
— Женщину прятали. Должно, важная какая была, немцы ее долго искали. Денег сулили, если кто про нее скажет. Нашелся один такой, продал.
Пока мы беседовали с дедом, подошли женщины. Дополняя рассказчика, они помогли узнать подробности разыгравшейся в селе жуткой драмы.
В конце ноября сорок второго года в район нагрянула свора фашистских мотоциклистов. Окружила лес, искала там парашютиста. День и ночь шарила по домам, чердакам и погребам. Ничего не найдя, так же стремительно уехала.
Потом явился комендант. Собрал жителей и предупредил, что, если кто приютит парашютиста, будет повешен, а в каждом доме будет расстреляно по одному человеку.
Несмотря на угрозу, в ту же ночь многие отправились в лес. Забрались в самую глушь, куда немцы боялись заходить, и нашли. Только это был не парашютист, а парашютистка с радиостанцией. Молодая, красивая. В момент приземления она ногу сломала.
Женщину забрал к себе отец лейтенанта Казака — Николай Николаевич.
— У меня ей будет спокойнее, — сказал. — Хата моя в стороне от села.
Немцы не унимались. Еще не раз заезжали в село, допытывались о парашютисте, но никто не проговорился.
Тогда в Степановку пожаловал на вид несчастный человек. Сказал, будто бежал из плена. Назвался Юхимчуком. Кто знает, может, и фамилия надуманная!
Хитер был. К людям подход имел, ласковые слова дарил. Вошел в доверие. Тут кто-то про парашютистку, видно, и проболтался.
Юхимчук сразу пропал. А на следующий день гитлеровцы влетели в Степановку. И этот предатель с ними.
Кое-кто бросился было Казака предупредить, но немцы не пустили, стали стрелять.
Николай Николаевич, услышав стрельбу, схватил больную на руки и отнес в сугроб за плетнем. Снег заровнял. Потом побежал за радиопередатчиком. Спрятать не успел, фашисты наставили на него автоматы.
— Это что такое? — ехидно улыбаясь, спросил комендант. — Откуда у тебя такая игрушка?
— В лесу этот чемодан попался, когда по дрова ходил, — схитрил старик.
— Может, ты в лесу кроме чемодана и человека встретил?
Николай Николаевич повел плечами:
— Не понимаю, о каком человеке речь.
Немец скривился, ударил Казака и заорал:
— Я тебя научу понимать, русская свинья. Отвечай, где разведчица, которую ты прятал? Мне все известно, и что нога у нее сломана. Имей в виду, правду скажешь, жизнь себе и людям спасешь.
Не стал Казак выдавать парашютистку. Но она, лежа неподалеку в снегу, слышала, что из-за нее комендант грозил расстрелять по человеку из каждого дома. Не могла она допустить гибели стольких спасавших ее безвинных людей и решила пожертвовать собой.
Выбравшись из сугроба, женщина закричала:
— Стойте, не убивайте их. Я здесь.
— Она! — радостно блеснул глазами Юхимчук и впереди коменданта кинулся на голос.
Вскоре оттуда послышалось несколько сухих щелчков. Это радистка выстрелами из маленького пистолета убила провокатора, одного солдата, а последней пулей покончила с собой.
— Да, это настоящая героиня, — задумчиво молвил один из танкистов, выслушав рассказ очевидцев.
— А откуда была радистка? Как ее фамилия?
К сожалению, это знали только дед Казак и его жена.
— У меня есть ее фотография, — сообщил шустрый паренек. — Нашел в доме Казаков. Только на ней никакой надписи нет.
— А ну, ступай принеси фотографию, — попросила мальчика женщина, по-видимому его мать. — Да скорей.
Мальчуган быстро вернулся. Я взял из его рук фотокарточку и остолбенел: на меня смотрели красивые глаза Ани Овчаренко, жены покойного командира роты.
— Это действительно та парашютистка? — спрашиваю.
— А как же, — отвечает паренек, — я был у деда, видел ее. Она и есть.
8
Как-то, перед началом битвы под Курском, к нам в корпус прибыли для вручения Гвардейского знамени командующий фронтом Николай Федорович Ватутин и член Военного совета Никита Сергеевич Хрущев. После торжественного митинга Никита Сергеевич намекнул генералу Кравченко, что корпусу, очевидно, придется первым начать бои за освобождение столицы Украины.
— Для нас это будет величайшим счастьем, — взволнованно ответил Андрей Григорьевич. — Доверие ваше, Никита Сергеевич, оправдаем.
И вот корпус приближается к Днепру, к Киеву.
Врываемся в село Журавлевку. Навстречу нам с радостными криками бегут люди. Мы уже привыкли к таким восторженным приветствиям. Но что это за сооружение, прикрытое ветками, они тащат? Громадное, чуть меньше хаты. Сначала подумал, не танк ли. Но тут же отогнал эту дикую мысль. Танк на руках не потащишь, да он и меньше.
Подле нас останавливается группа подростков. Спрашиваю у них:
— Что это ваши тащат?
— Молотилку, дядя военный, — выпаливает маленькая черноглазая девочка.
Подходят ближе, и я вижу — действительно молотилка.
— Зачем вы ее ветками закрыли?
Отвечают десятки голосов разом. Фашисты увозили из села все, что под руку попадалось, даже металлические ручки. О машинах и говорить не приходится. А если бы они молотилку увезли, чем бы тогда колхозный хлеб молотить? Вот и спрятали ее в роще.
В разговор вмешивается та же черноокая девчушка:
— Мы, дядя военный, каждый день на нее свежие листья набрасывали.
Начальник политотдела бригады подполковник Маляров похвалил колхозников за находчивость. Начал расспрашивать, попадали ли к ним советские газеты, листовки, приходилось ли слушать радиопередачи Москвы.
За всех ответил старик с длинной, до пояса, темной цыганской бородой:
— Газет, откуда их взять, радио тоже не слушали, а главную правду всю как есть знали…
— Интересно, — спросил Маляров, — что же это за большая правда и кто был вашим информатором?
— Шоссе, сынку, — наша газета. Оно не Геббельс, брехать не может, — глубокомысленно заключил старик и разъяснил: — Мы так понимали, раз нимцы на восток прут, да тянут за собой девок из дойшланта, значит, плохи наши дела. А как начали они драпать, рушить все по дороге, чуем, их дела никудышные, скоро им капут!
— Да, — согласился начальник политотдела, — пожалуй, ваша информация действительно без обмана.
— А что я тебе говорю, — с сознанием своего превосходства заключил старик.
В это время инструктор политотдела принес пачку свежих газет и стал раздавать их колхозникам. Люди набросились на них, как голодные на хлеб.
— Это вам, товарищ гвардии полковник, — подал мне инструктор нашу армейскую газету.
Занятый своими мыслями, я тогда не придал этому значения, просто поблагодарил майора и, машинально сложив газету, сунул в карман. Потом за работой и вовсе о ней забыл. Только ночью, когда снова встретились с Маляровым во время проверки машин к предстоящему бою, он напомнил о ней:
— Читал, Степан Федорович, про земляка?
— Нет. А ты о ком? — насторожился я.
— Ну вот тебе раз, — с укоризной бросил начальник политотдела. — Да ты хоть видел сегодняшнюю армейскую газету? Там о том парне, Метельском, о котором ты мне рассказывал, сообщается. Что-то замечаю, товарищ комбриг, ты в последнее время, как тот дед, новости на шоссе узнаешь.
— Ладно, ладно, будет тебе агитировать, — отшутился я. — Сейчас же постараюсь выполнить твое указание.
Зашел в хату, где расположились танкисты взвода Никифора Шолуденко, подсел к столу, придвинул к себе лампу и развернул газету. На первой странице ее был помещен большой портрет Юрия Метельского. Такое родное, знакомое лицо, только взгляд стал немного суровее, да брови чуть-чуть насуплены. Рот полуоткрыт, видно, во время съемки он что-то рассказывал корреспонденту. Под портретом шла короткая подтекстовка: «Капитан Метельский. О подвиге танкиста читайте на третьей странице очерк „Прыжок через смерть“».
«…Противник заминировал и подготовил к взрыву мост через реку П. Если бы ему удалось осуществить свой замысел, это могло задержать наступление наших частей на участке.
Гитлеровские саперы закончили свое черное дело и стали поспешно отходить в лес. Они торопились: на противоположном берегу показались советские танки.
Вот-вот произойдет взрыв. Остаются считанные минуты. Медлить нельзя.
Командир танковой роты капитан Метельский принимает решение опередить саперов. Он отдает по радио двум следующим за ним экипажам короткий приказ:
— Через мост, на предельной скорости, вперед!
И сразу же другой:
— По саперам, осколочным!
Фашистские молодчики бросают инструменты и разбегаются. Только два офицера продолжают бежать туда, где стоит адская машина, соединенная шнуром с взрывчаткой под сваями моста.
Рывок — и советские машины на вражеском берегу. В шлемофонах командиров машин слышны короткие приказы Метельского:
— Ступаков, налево, на батарею!
— Марков, направо!
Сам капитан бьет по петляющим между деревьями офицерам. Один уже замедляет бег, потом становится на колени, будто на молитву, и падает лицом вниз. Другой на мгновение исчезает из виду. Но механик-водитель Богацкий тут же замечает его:
— Ах вот где ты, подлюка! Смотрите, залег и рачком ползет, все туда, к оврагу. Там, стало быть, этот включатель и стоит…
Три советских танка под руководством отважного командира Метельского не только с ходу захватили заминированный, подготовленный к взрыву мост. Проскочив его, они навели панику в ближних вражеских тылах, решив, по сути дела, судьбу чуть ли не всего сильно укрепленного опорного пункта».
Очерк «Прыжок через смерть» я, сам того не замечая, прочел вслух. Все находившиеся в хате притихли и слушали с большим интересом, хотя до этого уже успели его прочитать.
— Товарищ гвардии полковник, начальник политотдела говорил, что Метельский воевал вместе с вами под Ленинградом и будто вы с ним земляки, — спросил кто-то из танкистов.
— Да, это так. Мы с ним из одного села и вместе воевали.
Я рассказал не только все, что знал о капитане Метельском, но и о его отце, комиссаре кавалерийского эскадрона, о матери-коммунистке, замученной в застенках гестапо, о девушке Катюше.
Потом разговор перешел на наши дела, коснулся предстоящих боев за Киев.
— Знаете, какая у меня мечта? — спросил Шолуденко.
— Скажи, все будем знать, — ответил я.
— Хочется мне первым со своим взводом ворваться в Киев да с Красным знаменем выйти на Крещатик.
— Ничего нет невозможного, — улыбаясь, заметил незаметно появившийся в избе начальник политотдела. — До осуществления вашей мечты не так уж далеко. Только спешить надо, многие желали бы вступить в Киев первыми…
9
Большие надежды возлагал Гитлер на «Восточный вал», как он назвал подготовленную оборону по правому, высокому берегу Днепра. Подбросив сюда новые пехотные, танковые дивизии, авиацию, он надеялся отсидеться, перезимовать за широкой водной преградой и прочными укреплениями, а летом 1944 года вновь наступать.
Но советские войска не намерены были упускать инициативу. Стремительно продвигаясь, передовые части вышли к Днепру и на плечах врага переправились через реку в двух местах: южнее Киева — у Букрина и севернее — у Лютежа. Букринский плацдарм оказался больше размерами и удобнее. Тут скоро были наведены переправы, и войска устремились на правый берег.
Враг тоже понял, что Букринский плацдарм у нас — главный. Здесь он сосредоточил свои основные силы. Начались жестокие бои.
Советские части пытались расширить отвоеванную территорию, немцы контратаковали, намереваясь сбросить их в реку. Успехов добились наши, но весьма незначительных. Стало ясно, что отсюда, с юга, пробиться к Киеву будет нелегко. И тогда командование решило, продолжая демонстрацию наступления на южном плацдарме, скрытно перебросить войска к Лютежу и оттуда нанести главный удар.
5-й гвардейский танковый корпус тоже направляется к северу. Идем только ночами, днем тщательно укрываемся, чтобы не попасться на глаза воздушному разведчику врага.
А вот и водная преграда. Но это еще не Днепр, а его приток Десна. Красивая река, широкая многоводная. В другое время покупаться бы здесь, понежиться на солнышке или на лодке покататься, порыбачить…
Генерал Кравченко, заложив руки за спину, подавшись туловищем вперед, изучающе осматривает реку.
Ее пологие берега, тут и там поросшие ивняком, удобны для постройки моста. Но сейчас и времени для этого нет, и привлекать внимание немцев не следует.
Я стою рядом с командиром корпуса, стараюсь прочитать на его насупленном строгом лице мысли и жду указаний. Андрей Григорьевич долго молчит. Наконец поднимает голову:
— Твоя бригада головной будет. Первым начнешь форсировать Десну. Ясно?
— Понятно, товарищ генерал-лейтенант.
— Вот и хорошо, а я беспокоился, вдруг не поймешь, — коротко засмеялся он. — А то, что у нас переправочных средств нет, тебе тоже понятно?
— Надо что-то придумать, — неуверенно ответил я.
— Вот именно, придумать, — вздохнул генерал. — Нелегкая задача! Вот если бы наши машины плавать могли!..
Мы долго советовались, прикидывали и в конце концов решили, что идти надо по дну реки, «собственными пятками», как сказал генерал. Для этого предстояло разведать глубину, найти твердое дно.
— Только получше люки да щели законопатьте и замажьте, — посоветовал Кравченко.
Перед вечером в реку вошли пять отличных пловцов — разведчики. Установили, что грунт подходящий, но глубина до четырех метров. Это превышает технические нормы. Но что делать? Война не раз требовала пересмотра различных теоретических и практических нормативов.
Придется рисковать и нам.
Командир корпуса не уходит из моей бригады. Работать, распоряжаться мне не мешает, но ко всему присматривается, сам проверяет подготовку машин. По всему видно, генерал здорово волнуется, хотя виду и не подает. Перед самым выходом спрашивает у меня.
— Какой танк думаешь первым пустить?
— Комсомольский экипаж Шапошника. Вчера младшего лейтенанта в партию приняли. На партийном бюро он попросил в первом же деле поручить ему самое опасное задание.
Шапошник уже забирается на башню танка. Он так и переправится стоя на танке. Механик-водитель, когда машина в воду погрузится, видимость потеряет, вот командир через танкофон и будет ему команды подавать.
Генерал молча кивает головой: можно!
— Вперед! — показываю я на противоположный берег.
— Вперед! — передает Шапошник по танкофону механику-водителю.
Машина медленно, словно ощупью, трогается с места, спускается с пологого берега. Еще не полностью стемнело, и мы видим, как командир погружается в воду. Сначала по пояс, потом по грудь. На этом уровне вода держится некоторое время, а затем начинает отступать. Комсомольский экипаж благополучно преодолевает реку.
— Вперед!
В путь отправляется очередная машина.
На лбу командира корпуса собрались глубокие складки. На переносице подергивается черточка. Он волнуется, не знает, что делать с руками. То сложит за спиной, то опустит в карманы, то начинает вдруг обдирать кожицу с ивового прута. Я курю папиросу за папиросой…
Ночь на исходе. На востоке алеет заря. Пенистые гребни волн окрашиваются нежно-розовыми тонами. А танки все идут по дну. Командиры коротко сигналят: «Правее!», «Так держать!», «Не торопись!..»
Кравченко бросает взгляд на всплывающее над горизонтом солнце, вокруг которого образовалась золотистая корона из легких прозрачных облачков, и снова, не отрываясь, впивается в реку.
Проходит еще тридцать минут, и вся 20-я гвардейская оказывается на том берегу.
Генерал-лейтенант облегченно вздыхает, улыбается:
— А ты говоришь — преграда! Понадобится, так наши танки и море вброд перейдут…
К вечеру весь корпус сосредоточивается у Днепра. О, эта преграда посложнее Десны!
Разведка узнает от жителей, что утром, уходя за реку, гитлеровцы потопили поблизости два буксира.
Приказываю поднять их. Помогают нам в этом местные жители.
Я стою у реки, разглядываю лесистый противоположный берег и думаю: что ждет нас там, какие сюрпризы подготовил противник?
Мимо проходит молодой боец из мотобатальона. В левой руке его котелок с водой.
— Откуда вода? — спрашиваю.
— Днепровская, товарищ гвардии полковник. Ребята говорят, надо хотя бы по глотку выпить, авось на душе легче станет. Киев рядом. Печерская лавра. А мы тут застряли, не двигаемся…
Интересная логика у солдата. Только утром переправился через Десну, а теперь уже в Киеве хочет быть. Не удивительно! В последнее время все привыкли только вперед идти. Малейшая задержка — и уже недовольны: «Застряли, не двигаемся…».
В землянке одного из взводов мотострелкового батальона веселое оживление.
— Ну скажи, дорогой, какой из тебя гвардеец, — слышался откуда-то из глубины помещения басовитый голос. — Тебя, поди, и в армию-то по ошибке призвали, забыли, что ты несовершеннолетний.
Последние слова насмешника покрывает раскатистый хохот бойцов.
Мне ясно: подтрунивают над молоденьким стрелком Довженко, прозванным мизинцем. Он действительно маленький, щупленький и немного смешной. Но прозвище ему приклеили вовсе не за рост. В пути на фронт маршевая команда, с которой он следовал, попала под артиллерийский обстрел. Васе Довженко, сидевшему по нужде за кустами, осколок попал в левую руку и оторвал мизинец. С тех пор прозвище закрепилось за ним.
Вообще Вася боец не робкого десятка, за смелость и находчивость в бою товарищи уважали его. Но это не мешало им при каждом удобном случае разыгрывать паренька. А он нервничал, горячился, лез в драку, и это еще больше подогревало остряков.
Наконец нас заметили.
— Смирно! Товарищ генерал армии, первый взвод мотобатальона двадцатой гвардейской танковой бригады находится на отдыхе! Докладывает дневальный гвардии рядовой Довженко.
— Вольно! Садитесь, товарищи.
По землянке проносится едва уловимый шепот: «Ватутин… Командующий фронтом».
Дневальный продолжает стоять. Он бледен. На его лбу выступают капли пота.
— Так вы — Довженко? — переспрашивает командующий. — Василий Довженко?
— Я, товарищ генерал!
Ватутин задумывается:
— Фамилия что-то знакомая. Скажите, это не про вас писала недавно фронтовая газета?
Кровь ударяет в лицо бойца. Щеки становятся пунцовыми.
— Про меня, — смущенно опустив глаза, докладывает он.
— Это под Ромнами было, — подсказывает кто-то. — Василий там фашистскую пушку подбил и расчет уничтожил.
— Правильно, правильно, — оживляется командующий. Он подходит к Довженко, пожимает ему руку: — Рад с вами познакомиться. — Обращаясь уже ко всем бойцам, говорит: — Ваш боевой товарищ проявил в бою незаурядную храбрость, находчивость и сноровку. Эти солдатские качества всегда достойны уважения.
Командующий снова усаживается на нары между двумя солдатами:
— Теперь, товарищи, я хочу посоветоваться с вами, как нам быстрее и с меньшими потерями переправиться на правый берег Днепра…
Мне известно, что план форсирования уже утвержден Ставкой. У меня есть приказ, где указано место и точное время наступления. Бригада переправляется одновременно с 240-й стрелковой дивизией Героя Советского Союза полковника Уманского. А командующий фронтом, талантливый полководец, пришел к бойцам советоваться! И в этом сила нашей армии. Для советского генерала солдат не пушечное мясо, не «скотина в серой шинели», а боевой товарищ…
Пока я размышляю, Ватутин продолжает развивать свою мысль:
— Надо прямо сказать, переправочных средств у нас очень и очень мало. И готовить их времени нет: каждый час отсрочки форсирования на руку врагу. Значит, идти надо сейчас же, использовать для переправы все, что попадет под руку: доски, бревна, пустые бочки, конечно лодки, если бы их удалось отыскать…
— А что, если сено использовать? — спрашивает один из бойцов. Он рассказывает, как однажды на его глазах разведчик переплыл реку на плащ-палатке, набитой сеном.
Ватутин оглядывается на меня:
— Товарищ полковник, пошлите машину за сеном или соломой. Опыт разведчика нам пригодится.
Командующий встает, благодарит бойцов за беседу. Уходя говорит:
— Я не прощаюсь. Сегодня еще встретимся на берегу.
Наблюдательный пункт командующего фронтом всегда вблизи переднего края. Через несколько дней, после форсирования Днепра, его также перенесли на плацдарм севернее Киева, в село Ново-Петровцы, по существу, в боевые порядки войск. Постоянное присутствие в войсках Николая Федоровича Ватутина и Никиты Сергеевича Хрущева воодушевляло всех нас — бойцов и командиров, в трудные минуты придавало сил и уверенности.
Темно. Днепр не виден, но мы слышим его дыхание, легкие всплески волн. За той чернеющей горой Киев. Там живет моя семья: жена, два сына — Вова и Толик. Хотя живет ли? Два с лишним года в городе хозяйничают оккупанты!..
Мотобатальон построился у реки, ждет команды. К нему подходят командующий фронтом и член Военного совета.
Никита Сергеевич произносит короткую речь. Заканчивает ее словами:
— Вам выпало счастье, товарищи, быть первыми среди первых героев Днепра. Родина не забудет вашего героического подвига.
— Вперед, товарищи! — подает команду генерал Ватутин.
Некоторые бросаются вплавь. Остальные — кто на чем: на плащ-палатках и на мешках, набитых сеном, на досках и бревнах. Станковые пулеметы, минометы, противотанковые ружья переправляют на единственной надувной лодке.
В другом месте под сильным артиллерийским огнем из поднятых буксиров и подвезенных понтонов составляем паром для переправы танков. Никита Сергеевич Хрущев пришел сюда после начала переправы и не отлучается ни на минуту. Во время сбора парома он дает советы, но делает это деликатно, чтобы не звучало приказом. Не желает навязывать свою волю.
Снаряд разрывается почти у самого берега. Столб воды окатывает нас.
— Ого, кажется, начинается зыбь, — шутит Никита Сергеевич.
Бойцы смеются. Работа продолжается.
— Скажи, чтобы Никита Сергеевич ушел в укрытие, — с тревогой в голосе советует мне подполковник Маляров. — Не ровен час…
— А ты думаешь, не говорили? Ему ведь не прикажешь!
— К сожалению, это так, — соглашается начальник политотдела…
Паром готов. Благополучно переправляем первый танк. Но только погрузился второй, снаряд перебивает буксирный трос, и быстрое течение несет «тридцатьчетверку» вниз по реке.
— Тихо, товарищи, без паники, — слышится ровный голос Никиты Сергеевича.
Это действует успокаивающе. Люди работают увереннее. Паром ловят, подгоняют к берегу.
Скоро части 5-го гвардейского танкового корпуса переправляются на правый берег реки и совместно со стрелковыми и артиллерийскими войсками с боем расширяют Лютежский плацдарм до 16 километров по фронту и до 10 — в глубину. К двенадцати часам ночи наша бригада подходит к реке Ирпени, и я по радио докладываю командованию:
— Задача выполнена!
10
Получил письмо от Вани Кислицы. Паренек пишет лаконично: «Жив, здоров. Работаем лучше, чем раньше. Вы, очевидно, это чувствуете».
Еще как чувствуем! Танков получаем все больше. И качество лучше: увеличен калибр орудий, повышена начальная скорость снаряда, а вместе с тем и пробивная способность.
«Вы тоже сильней бейте фашистов, — просит Иван Иванович. — Быстрей освобождайте Киев. Напишите о фронтовых делах. Ваше письмо мы будем читать на комсомольском собрании».
Что ответить юному герою труда? Если сообщить, что мы форсировали Днепр, но на Киев пока не идем, накапливаем силы, — как он это поймет?
— Напиши правду, — советует подполковник Маляров. — Зверь поджал хвост, но зубы у него еще остры. Шутить с ним нельзя.
Как четко эта фраза выражала положение дел. Да, зубы у зверя еще действительно остры. Перед войсками 1-го Украинского фронта[2] враг имел только в первой линии обороны 27 дивизий. Из них пять танковых и одну моторизованную. Кроме того, в резерве 4-й танковой армии находились две танковые дивизии, одна моторизованная и одна охранная.
Чтобы поднять боевой дух войск, Гитлер обещал солдатам и офицерам, которые отличатся при ликвидации советских плацдармов на правом берегу Днепра, шестимесячный отпуск в Германию и в награду Железный крест. Однако понимая, что этого может оказаться недостаточно, немецкое военное командование дало приказ эсэсовцам расстреливать каждого, кто отступит.
Наши 20, 6, 22-я танковые бригады и механизированное соединение полковника Неверова остановились у реки Ирпени. Думалось, после таких преград, как Десна и особенно Днепр, это для нас не препятствие. Но получилось иначе: преодолеть Ирпень оказалось не просто. И не только потому, что она быстрая и глубокая. Главное — берега ее, торфяные, заболоченные, для танков оказались непроходимыми. Пришлось под огнем противника настилать гати из бревен.
Наконец поступил приказ форсировать Ирпень. Наша задача — вместе с 22-й танковой бригадой и мотострелковым соединением выйти на шоссе Киев — Житомир и отрезать противнику путь отступления.
22-я танковая бригада полковника Кошелева к началу форсирования опоздала. Поэтому первой на противоположный берег двинулась 6-я. Наши «тридцатьчетверки» поддерживали ее огнем. К концу переправы подошли машины Кошелева. Надо было пропустить и их. Но, к сожалению, экипажи в 22-й бригаде оказались неопытными. Первые же машины соскользнули с гати и загрузли, загородив путь.
А время шло. Стало светать. Скоро должна была появиться вражеская авиация.
Генерал Кравченко вызвал меня к себе. Сидит мрачный, разгневанный.
— Что там у вас на переправе? — спрашивает недовольным тоном. — Почему приказ не выполнен?
Докладываю все как есть. Его, конечно, мои оправдания удовлетворить не могут. Машет рукой:
— Идите. Видеть вас на этом берегу больше не намерен. Если будем встречаться, то только на той стороне.
Мне все ясно. Бегу к гати и злополучным кошелевским машинам. Там уже собралось много людей, подсовывают под гусеницы поленья. Подходит танк с тросами для буксировки.
Подбегаю ближе, смотрю, командует «спасательными работами» комсорг первого нашего батальона Медовик. «Молодец Алексей, спасибо тебе», — мысленно благодарю его.
«Юнкерсы» уже нависли. Когда бомбы свистят уж слишком близко, Медовик командует:
— Ложись!
Потом опять все встают и горячо принимаются за работу.
Танк механика-водителя Сухинина берет на буксир застрявшую машину и, страшно ревя мотором, помогает ей выбраться на сухое место. Несколько человек сразу отцепляют тросы. Сухинин идет за второй…
Через несколько минут путь свободен. А еще часа через два не только наши, но и кошелевские танки были на той стороне и атаковали врага в населенном пункте Ракова. Немцы яростно сопротивлялись. Пока мы прошли пятнадцать километров, они предприняли шесть контратак. Но в конце концов сила взяла верх и гитлеровцы побежали, бросая оружие, технику, автомашины.
Уже видна северо-западная окраина Киева. Скоро выйдем на указанный нам рубеж. И вдруг по радио нас вызывает штаб корпуса. Поступает лаконичный приказ: повернуть на сто восемьдесят градусов и возвращаться назад. Такой же приказ получают остальные бригады.
И это после того, как столько достигнуто! Я не знаю, как объяснить подчиненным причины такого маневра, чем смягчить их боль и возмущение.
Останавливаю бригаду. Объявляю сбор командиров.
Маляров явился раньше других. Спрашивает, чем я возбужден. Узнав, начинает успокаивать:
— Без причины не отзовут. Видно, обстановка изменилась. И танкисты понять должны. А тому, кто не поймет, разъясним.
— Прежде чем бойцу разъяснять, я, командир бригады, сам должен свой маневр понять. Мне его разъясни. Ты это можешь?..
Я понимаю, спор у нас никчемный. Начальник политотдела и мой заместитель по политической части Маляров, конечно, прав. И вообще, приказы не положено обсуждать. Но мне жаль добровольно уступать завоеванное кровью. Поэтому и горячусь…
Очень кстати прибыл представитель штаба фронта полковник Фадеев. Он-то разъяснит причину изменения первоначального плана.
— Почему отходим? — Чувствую, мой вопрос тоже застал Фадеева врасплох. Он говорит первую попавшуюся казенную фразу — Значит, нужно, товарищ Шутов.
Уж эти мне поборники устава! Сказал бы просто: «Не знаю!» А то начинает крутить, прикрывать общими фразами свою неосведомленность. Меня прорвало:
— Сидите там, во фронте, за бумажками ничего не видите. Киев рядом, и путь к нему открыт. Вперед идти надо, а не назад! Понимаете вы это или нет?
Я и сам чувствовал, что наговорил лишнего. Полковник нахохлился:
— Ну вот что. Этот митинг заканчиваем. Мне поручено проследить за выполнением приказа, и я прошу доложить, когда будете готовы к маршу. — Потом, смягчившись, добавил: — Горячишься, товарищ Шутов. Ненависть к врагу не должна ослеплять человека. Пойми, командованию виднее. Ты ведь смотришь только со своей маленькой колокольни. А есть повыше твоей…
На обратном пути получили еще одну телеграмму. Комкор сообщил, что немцы предприняли наступление вдоль Днепра на Лютежский плацдарм, стремясь отрезать войска от реки. Поэтому-то нас и вернули. 20-й и 22-й бригадам комкор предложил «пройтись» по тылам фашистов и вернуться на плацдарм.
Ирпень переходили опять с боем. Немцы успели разбить переправу, и нам пришлось строить новую.
11
Пять дней и пять ночей шли непрерывные бои. Немцы яростно контратаковали, стремясь пробиться к своим окруженным в районе Лютеж — Старые Петровцы частям. На шестую ночь притихли. Видимо, смирились. Да и окруженные уже уничтожены, выручать некого.
Мы с моим ординарцем Сергеем Борисовым обходим оборону. Где-то далеко равномерно ухают орудия. На правом фланге, у соседа, слышен ленивый треск винтовочных выстрелов. Иногда в него вплетаются короткие очереди пулеметной дроби. Если внимательно присмотреться, в той стороне можно увидеть отдельные пунктиры трассирующих пуль.
— Из Валок фрица выбивают, — категорически заявляет Сергей. Он всегда говорит таким тоном, словно находится в курсе всех фронтовых дел.
Смотрю на часы: начало двенадцатого. Как бы хорошо сейчас часок-другой прикорнуть. За истекшие пять суток ни разу как следует поспать не удалось. От таких мыслей я еще больше расслабился, ноги стали тяжелыми, в теле почувствовалась ломота.
— Отдохнем, что ли? — обращаюсь к спутнику и опускаюсь на завалинку полуразрушенной хаты.
— Отчего не отдохнуть, — соглашается Борисов, садясь рядом со мной. — Люблю повеселиться, особенно поспать. Только на войне разве выспишься?
Сквозь дрему я еще слышу болтовню ординарца. Сережа вообще отменный балагур, он сам признается, что «почесать язычок» любит.
Проваливаясь в небытие, вижу вдруг выплывающую из золотистого тумана нашу хату во Дворце. Я маленький, лежу на своей кроватке, мне страшно хочется спать. Рядом сидит мать, уткнувшись лицом в ладони. Она говорит, но голос ее очень напоминает голос моего ординарца Борисова. Ее слова, словно молот, больно стучат по голове. Я прошу мать позволить мне уснуть.
— Что вы сказали, товарищ гвардии полковник?
Странно! Почему она так обращается ко мне. Открываю глаза, над собой вижу бездонное темное небо с мириадами светленьких точек. Рядом Сергей, возится с вещевым мешком:
— Вы мне что-то сказали? — переспрашивает.
— Нет, это я так.
— Может, закусите? С утра ведь ничего не ели.
Сон уже все равно- перебит. А в желудке действительно пусто.
— Давай, что у тебя там есть.
Раскладывая на газете свои скромные припасы, Сережа говорит:
— Ветерок подул. Потом всплеск весел, — значит, лодка.
— О чем это ты?
— Да я ж вам рассказываю, как меня, раненного, киевляне спасли. Или вы не слушали?
— Слушал, слушал. Продолжай.
— Ну вот, значит, лодка ударилась в песок. Потом осторожные шаги. Подходят двое… Один говорит: «Не поймешь, живой или нет». Хочу сказать, что живой, и не могу, язык одеревенел, будто фанерка шершавая во рту. А в голове словно гвоздем ковыряют. Человек наклоняется ко мне, слушает. «Дышит», — говорит.
Дальше Сергей рассказывает, как его осторожно положили на дно лодки и повезли. Потом вынесли на берег.
Несли долго. Подъем был высокий и крутой. Теперь он чувствовал, что в мозг его врезаются зубья пилы и рвут, рвут, рвут.
Шепот:
— Тихо! Немцы!
Останавливаются. Совсем близко шаги, пьяный разговор.
И вот уже скрип калитки. Три условных щелчка в окно. Дверь открывает женщина.
— Кто тут?
— Спасай, Анна Ивановна, — говорит один из мужчин, — наш человек, раненый.
— Живее давайте сюда, — засуетилась хозяйка. — Кладите на кровать — и за доктором. За Фролом Корнеевичем.
— А пойдет?
— Пойдет. Скажите, что я прошу.
Приходит доктор. Шумный. Звенит инструментами. Ощупывает голову, командует:
— Воду, горячую!
— Неужели оперировать придется, Фрол Корнеевич?
— Непременно и безотлагательно. Пуля у него застряла.
Работая, доктор насвистывает песенку из оперетты Оффенбаха.
После операции боль понемногу утихает. На Борисова сваливается сон. Долгий, тяжелый. Когда открывает глаза, через щели в забитом досками окне широкими полосами струится дневной свет. Подле кровати, на стуле, уронив на грудь седую голову, дремлет пожилая женщина. Золотистый луч дрожит на ее впалой щеке. Борисов знает, что ее зовут Анной Ивановной, хочет окликнуть, но язык по-прежнему не подчиняется.
Два месяца Сережа был в тяжелом состоянии. Доктор навещал его. Ночами, разумеется. Это был старичок с морщинистым лицом и коротеньким носом. Он шутил, насвистывал любимую песенку из оперетты Оффенбаха, а когда уходил и прощался, всегда задавал Анне Ивановне один и тот же вопрос:
— Как думаете, встретимся еще?
Однажды доктор явился с радостной вестью: немецкие войска под Москвой разгромлены.
— Это, Анна Ивановна, начало великих начал, — воскликнул он с пафосом. — Ну, а как наш больной?
— Плохо, Фрол Корнеевич. — Понимать будто все понимает, а не говорит.
— Будет говорить, не беспокойтесь, — заверил доктор. Он подошел к Сергею, проверил пульс, послушал сердце, потом говорит: — Думал как-нибудь обойтись, но вижу, посоветоваться со специалистом необходимо.
— Кто такой? Вы ему доверяете? — с тревогой в голосе спросила женщина.
— Это врач, слуга самой гуманной профессии. Не думаю, чтобы он выдал. Все же о больном и о доме, где он находится, я ему не скажу.
После этого доктор больше ни разу не являлся. Видимо, напрасно положился на гуманность коллеги.
Прошел год. Анне Ивановне удалось связаться с подпольной организацией и через нее отправить Сергея к партизанам. Там-то, под постоянным присмотром специалиста, к нему наконец вернулась речь.
— А когда я поправился, — продолжал Борисов, — решил навестить свою спасительницу — Анну Ивановну. Только повидать не довелось. На том месте, где стоял ее дом, оказалось большое пепелище. От соседей узнал, что это было делом немцев. А самое Анну Ивановну забрали гестаповцы…
Сережа уже закончил свой рассказ, а я все сижу и раздумываю над печальной судьбой старой женщины.
12
38-я армия и наш корпус ведут бои за расширение плацдарма. 20-й гвардейской приказано внезапным ударом освободить станцию Буча. Пока танкисты готовят машины, в разведку уходит группа под командованием старшего сержанта Василия Причепы.
Причепа интересный человек. В бою горяч, прямо огонь. А в мирной обстановке — тихий, спокойный, я бы сказал, с лирическими наклонностями. Песни любил. Прекрасно исполнял их на губной гармонике. В короткие минуты затишья мы, бывало, заслушивались его игрой.
Иногда гармоника Василия надолго умолкала. Это когда после очередного ранения разведчик попадал в госпиталь. Я не знал ни одного солдата, который столько раз был ранен и столько раз возвращался в свою часть.
Мы с подполковником Маляровым и майором Хромовым — его опять назначили к нам начальником штаба — беседуем с танкистами.
Всех интересует предстоящая задача, положение на фронтах. В разгаре беседы раздается взрыв хохота.
— Смотрите, Причепа баб ведет! — показывает кто-то и покатывается со смеху.
Оборачиваюсь. Вижу, по шоссе к нам движется человек десять: наши разведчики и несколько крестьянок.
— Что за шутки, — недовольно качает головой Хромов. — Зачем ему потребовалось тащить женщин в расположение части?
Маляров возразил:
— Не торопитесь, товарищ майор. Причепа зря задерживать не будет.
Только когда подошли ближе, мы смогли разглядеть, что лица у колхозниц мужеподобные.
— Что я вам говорил, — улыбнулся Маляров Хромову. — Это переодетые немцы.
Действительно, подбегает Причепа, докладывает:
— Задержаны четыре фрица, ряженные под колхозниц. Видать, разведчики ихние…
Еще Причепа доложил, что на станцию Буча подошел бронепоезд. Два эшелона с боеприпасами стоят на запасных путях. Потом, как бы спохватившись, добавил: там один немец на губной гармошке так, подлец, наяривает, ажно мурашки по коже бегают. Музыка больно нежная, не иначе про любовь.
В словах Причепы столько неподдельного восхищения, что нельзя не улыбнуться…
Допрос пленных дал много интересного. Правда, то, что они сказались дезертирами, было малоправдоподобным. Но дальнейшие показания сомнений не вызывали. Они сообщили, что в Киеве царит паника. Среди солдат ходят слухи, будто генералы день и ночь совещаются, посылают в Берлин телеграммы с просьбами о подкреплении. Население города угоняют в Германию.
Одна мысль пленных нам особенно понравилась. Оки сказали, что у них все, от солдат до офицеров, очень боятся русских танков. При этих словах подполковник Маляров посмотрел на меня. В его взгляде я прочел откровенную радость. Советские танки пользовались такой славой, и это при условии, что у немцев под Киевом танков больше.
Все готово.
— По танкам! Вперед!
Мчимся к станции. Бронепоезд еще издали встречает огнем.
От наших выстрелов загораются эшелоны. Начинают рваться боеприпасы. Над станцией поднимается дым, из него проглядывают багровые языки пламени.
Бронепоезд, отстреливаясь, отходит на запад. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее.
Я знаю, что командир батальона майор Биневский еще перед атакой поручил трем экипажам обойти станцию и подорвать путь. Но кто же думал, что бронепоезд так сразу начнет удирать. Теперь не ясно, успеют ли танкисты выполнить задание.
В наушниках слышу, как Биневский вызывает командира высланной группы. Отвечает другой голос:
— Тридцать седьмой! Я сорок первый. Подорвать путь не успели. Две машины горят. Я иду на таран!
Сорок первый? Это комсомольский экипаж младшего лейтенанта Митрофанова! Они решили пойти на таран. Но ведь это верная смерть!
Только вчера мы с подполковником Маляровым проверяли машину Митрофанова. Разговорились с экипажем. Ребята хоть с разных мест, а дружные, интересные.
— После войны решили тоже сообща жить, — говорил Митрофанов, — Пойдем все в пединститут, а потом в одной школе будем работать…
Теперь, кажется, не сбыться вашей мечте, ребята, думаю я. Мысленно вижу, как «тридцатьчетверка» под номером 41, грохоча по шпалам широкими гусеницами, мчится навстречу поезду. Расстояние тает и тает.
Бронепоезд резко тормозит. Хочет попятиться назад, но не успевает. Машина врезается в его бронеплощадку. Поезд вздрагивает, кренится на развороченных рельсах и катится с насыпи вниз.
На западе, примерно в двух километрах от станции, раздается мощный взрыв. В небо медленно поднимается облако черного дыма.
Вечером, после того как станция была полностью освобождена, мы с Маляровым, не сговариваясь, отправились к тому месту, где лежит свалившийся набок состав бронепоезда. Откровенно говоря, где-то в глубине души у меня теплилась надежда найти трупы героев, чтобы с почестями похоронить их. Надежда оказалась тщетной. Искореженная ударом и взрывом, обгорелая машина лежала вверх гусеницами. Сорванная с нее башня валялась далеко в стороне.
— Герои, — промолвил, видимо отвечая своим мыслям, подполковник. — Их подвиг всем нам будет примером…
13
Наконец-то дождались! На Лютежский плацдарм подтянулись необходимые силы. Сосредоточение войск проходило скрытно, только ночами, и это, понятно, потребовало больше времени.
В ночь на 3 ноября объявили приказ Военного совета 1-го Украинского фронта. В нем отмечалось, что на долю воинов выпала великая честь: освободить от оккупантов столицу Украины.
Нашему корпусу по-прежнему предстоит действовать с 38-й армией. Для отвлечения внимания и сил противника с южного, Букринского плацдарма вспомогательные удары нанесут 27-я и 40-я армии.
На всю операцию отводилось только четыре дня. 5–6 ноября Киев должен стать советским!
— Великолепно, — заметил Хромов, ознакомившись с приказом, — значит, есть возможность отметить ноябрьские дни в городе, в культурной обстановке.
— Что касается меня, — возразил Маляров, — то я предпочитаю провести этот день в походе, только бы быстрее идти на запад.
Начальник штаба широко улыбнулся:
— Ну, это само собой. Был бы выбор, я присоединился бы к вашему предложению…
Тут же, ночью, провели митинг. Настроение танкистов приподнятое, поистине праздничное. Людям явно не терпится выступать.
Утром авиация и артиллерия основательно обработали вражескую оборону. После этого в атаку пошли танки с пехотой.
Противник упорно сопротивляется. Каждую траншею, каждую позицию приходится брать с боем.
Много неприятностей причиняют нам фаустпатронщики и отдельные орудия, действующие из засад. Уже несколько наших машин подбиты или сгорели. Но батальоны неудержимо рвутся на юг.
Примерно к полудню войска заканчивали прорыв первой линии обороны. И тогда противник бросил в контратаку против нашей ударной группировки моторизованную дивизию.
Из-за высотки прямо из машины наблюдаю за боем, разгоревшимся на небольшом поле. Образно говоря, возникла рукопашная схватка. Танки шли друг на друга, сшибались лбами, стреляли в упор.
Все перемешалось. Дым от горящих машин мешал разглядеть, где свои, а где чужие.
Постепенно, когда несколько «тигров» оказались подбитыми, вражеские «Т-III» и «Т-IV», яростно отстреливаясь, начали пятиться. И тут я увидел потрясающую картину: горящая «тридцатьчетверка» на полной скорости устремилась за танками врага. Те не приняли боя, развернулись и стали откровенно удирать.
— Чья это горящая машина? — спрашиваю по радио у комбата Биневского.
— Лейтенанта Казака, — отвечает тот.
Сделав свое дело, полыхающий танк останавливается. Экипаж поспешно выбирается через нижний люк и отбегает, опасаясь взрыва.
Через несколько минут Казак стоит передо мной. На черном от копоти лице резко выделяются смеющиеся светлые глаза и ровные белые зубы.
— Что это вам взбрело в голову на горящем танке раскатывать? — с деланной строгостью спрашиваю его.
Лейтенант виновато опускает глаза.
— Извините, товарищ полковник. Обозлились мы, когда немец нас поджег. Решили на таран его взять, все равно нашу машину, думаем, не спасти.
Я протягиваю Казаку руку:
— Ладно, шутки в сторону. Действовали вы правильно, мужественно, и я благодарю вас.
Лейтенант некоторое время недоуменно смотрит на меня, потом радостно жмет протянутую руку и говорит:
— Служу Советскому Союзу!..
Путь к Киеву открыт.
Танкисты берут десантом на броню автоматчиков мотобатальона, и бригада устремляется на юг.
Несколько раз налетают пикировщики. Мы не сбавляем скорости, только увеличиваем интервалы.
К вечеру пересекаем железную дорогу и подходим к аэродрому. Овладеть им — наша задача дня.
На аэродроме паника. На взлетной полосе находится транспортный самолет. Моторы его запущены.
По всему видно, самолет должен увезти раненых. Но, увидев танки, экипаж не ждет конца посадки и начинает разбег. Ковыляющие люди пытаются зацепиться за что-нибудь, облепляют шасси, держатся за крылья. Но самолет отрывается от земли, и раненые начинают падать. Жуткая картина!..
Закрепляемся на достигнутом рубеже. Мы знаем, перед Киевом у врага подготовлен еще один оборонительный рубеж. Завтра тоже предстоит боевой день.
Подходят остальные части корпуса и Первая отдельная чехословацкая бригада полковника Людвика Свободы.
14
Прохожу перед строем, смотрю в знакомые мужественные, опаленные солнцем, обветренные лица танкистов. Во взгляде каждого надежда: может быть, счастье улыбнется ему!
— Капитан Шолуденко!
Ко мне подходит статный, широкоплечий молодой человек. Стараюсь говорить громко, чтобы услышали все:
— Вы мечтали первым ворваться в Киев. Вам, товарищ капитан, все мы оказываем большое доверие. Примите это Красное знамя и установите его в центре города.
Шолуденко приникает губами к полотнищу. Вид у него строгий и торжественный, когда он говорит:
— Спасибо за доверие! От своего имени и от имени товарищей заявляю, что жизней своих не пожалеем, но задание выполним!..
Моторы заведены. Держа в одной руке знамя, а другой придерживаясь за скобу башни, Шолуденко ждет команды.
— Вперед, товарищи!
Головная машина с ходу набирает скорость.
Со стороны Днепра лениво поднимается луна. Все вокруг — лесные посадки, каменная лента асфальта, домики, заборы — окрашивается в цвет меди, а затем постепенно приобретает серебристый оттенок.
Справа, между двумя кручами, стоит здание церквушки с обвалившимся куполом. По этой дороге, кажется, совсем недавно Никифор Шолуденко ездил на четвертую просеку, в пионерлагерь имени Павлика Морозова. Из лагеря — на экскурсию в Печерскую лавру.
— Виктор, ты бывал в Печерской лавре? — спрашивает он по танкофону у механика-водителя.
— С какой стати? Я безбожник, — шутит младший лейтенант Хомов. И тут же спохватывается: — Фрицы. Левее, двадцать пять…
Замаскированная противотанковая батарея открывает огонь.
— Уничтожить! — приказывает командир взвода.
Танки, не останавливаясь, разворачиваются, охватывают позиции артиллеристов. Гитлеровцы бросают пушки, разбегаются. Кто не успевает, поднимает руки.
Овраги, овраги, овраги. Огороды, домишки с низенькими дощатыми заборами. Корпуса завода. Видно, «Большевик». Борщаговская…
Опять батарея… Толчок. Шолуденко ударяется затылком о броню. Хотя шлем и толстый, перед глазами возникает рой золотых мушек.
— Все в порядке, — докладывает механик-водитель, — повреждений нет.
Танк делает резкий разворот и подминает под гусеницы вражеское орудие. С другими расправляются танки, следующие за командирским.
Чем дальше, тем плотнее огонь противника. Из скверов, из-за каждого поворота и угла улицы раздаются выстрелы.
Снаряд попадает в укладку снарядов машины лейтенанта Цилина. Раздается сильный грохот. Взрыв сносит башню.
— Прибавить скорость, — командует Шолуденко.
Он знает одно: останавливаться нельзя. Так же, как его взвод, подразделения бригады, корпуса, других бригад и корпусов штурмуют с разных направлений обороняющегося в Киеве врага. Малейший успех взвода — это помощь другим, так же как задержка взвода может затормозить наступление. И еще он знает, что через несколько часов командование фронта должно докладывать в Ставку об освобождении Киева.
…Бульвар Шевченко. Перепуганные фашисты мечутся по улице, падают на колени, подымают руки. Что-то кричат, но их не слышно из-за рева моторов и грохота выстрелов.
А вот и Крещатик. Что сделали с ним гитлеровские бандиты! Вместо домов — руины…
Площадь Калинина. Со всех сторон стреляют противотанковые пушки. С Институтской, с улицы Карла Маркса, с Мало-Житомирской и Костельной…
— Товарищ капитан, закройте люк! — кричит механик-водитель.
Никифор Шолуденко не слышит. Развевающееся на ветру красное шелковое полотнище ласково касается его щек. Счастливее его сейчас никого на свете нет.
Взвод вступает в бой, а командир, отдав по радио необходимые приказания, спрыгивает на землю.
Несколько гитлеровских молодчиков, укрывшись за руинами бывшего Главпочтамта, стреляют из автоматов.
У Никифора Шолуденко две гранаты. Он бросает их на звук выстрелов. Фашисты умолкают.
Капитан хочет укрепить знамя на полуразрушенной стене, но короткая очередь уцелевшего фашиста ранит его. Шолуденко хватается за стену, чтобы не упасть. Знамя не выпускает из рук, пока его не подхватывают товарищи.
15
Ночью, воспользовавшись небольшой передышкой, я решил заглянуть на улицу имени Гали Тимофеевой. Маляров, чуткий, отзывчивый товарищ, поддержал меня. Он знает, что с августа сорок первого я не имел никаких известий о семье.
— Не терзай себя, поезжай, — сказал он.
И вот я еду по темной, замершей улице. Окна и двери домов заколочены крест-накрест досками, горбылем.
Трехэтажное каменное здание, опоясанное высокой железной оградой. В нем был детский садик. Я любил, бывало, постоять здесь, понаблюдать озабоченную суетню малышей в белых панамках. Теперь ворота сорваны, дом стоит без крыши, великолепные каштаны, росшие во дворе, срезаны.
Чем ближе к своему дому, тем учащеннее бьется сердце. Хочется быстрее попасть туда, и в то же время боюсь, не случилось ли с родными беды.
— Прибыли, — бросаю через плечо Борисову и выскакиваю из машины.
Калитка заперта изнутри. Не хочется подымать шум, поэтому с помощью ординарца забираюсь на шаткий забор и прыгаю вниз.
— Осторожно, — предупреждаю его, — тут должен быть злой волкодав.
Но собаки нет. Во дворе мертвая тишина. Подбегаю к знакомому парадному. Под ногами хрустит битое стекло.
Три ступеньки ведут в мою квартиру. Перевожу дыхание и тихо стучу в дверь — никто не отзывается. Нажимаю на нее плечом — не поддается.
Борисов, в прошлом разведчик, трогает меня за рукав и тихо шепчет:
— Тс-с. Больше не стучите.
Мы оба напрягаем слух, чтобы уловить хотя бы один звук.
— Ясно, — говорю. — Их нет. Наверное, угнали в Германию.
— Это легко установить, — заявляет Сергей. — Разрешите, я открою квартиру…
Он недолго ковыряется в замочной скважине. А мне кажется, что нарочно играет на моих нервах.
— Ну скоро ты? — подгоняю его. — Возишься целый час.
— Готово.
Входим в переднюю. Снопик света электрического фонаря вырывает из темноты небольшой круг. На вешалке одежды нет. Только цветистый пояс от ситцевого платья. Меня захлестывает радость. Это пояс жены.
Раньше здесь, на вешалке, я оставлял рабочую танкистскую куртку. Ее любил надевать сын Володя. Жена каждый раз бранила его, опасаясь, что испачкается.
На полу валяется кусок затоптанной газеты. Подымаю его, стираю грязь и читаю попавшийся на глаза абзац: «Колхозники с/х артели имени Петровского обязались собрать со всей посевной площади по…»
Комната тоже пуста. Обои отошли, местами порваны, на потолке глубокие трещины. На шелковом абажуре толстый слой пыли.
Ординарец внимательно обследует комнату. Находит плотную красочную обложку пионерского журнала с репродукцией «Сталин и Мамлакат», показывает мне и делает вывод:
— Немцев здесь не было.
Пожалуй, он прав. Но меня больше интересует, живы ли мои и где они сейчас.
— Ушли, — уверенно заявляет ординарец. Он утешает меня, считает, что «все в порядке». Потом вдруг спрашивает: — Скажите, а огород или садик у вас был?
Киваю на окно:
— Там жена и Володя сеяли цветы.
— Ясно. Одну минуту.
Борисов открывает окно и спрыгивает. Долго пропадает, потом возвращается с высохшей картофельной ботвой. Освещает ее фонариком.
— Ваши недавно тут были, — делает безапелляционный вывод. — Картофель убирали. Земля изрыта свежими ямками.
Это логично. А может, они и сейчас где-то поблизости?
Выбегаю во двор. Чугунная крышка водосточного колодца сдвинута. Тяжелый запах ударяет в нос.
Они там! Отбрасываю в сторону крышку.
— Есть тут кто?
В ответ журчит вода…
— Не бойтесь, мы русские.
Журчит вода…
Борисов становится на колени, наклоняется над ямой, направляет в нее луч фонарика. Тут же поднимает голову:
— Там кто-то есть.
Неужели мои? Смотрю в яму. Луч фонарика выхватывает из мрака скрюченную фигуру женщины. Она шевелится.
— Галина, Галочка, ты? Это я, Степан…
Женщина медленно, робко подымает голову. Первое, что бросается в глаза, это прядь седых волос и лицо, испещренное морщинами. Глаза прищурены от ослепительного света.
— Кто вы? — спрашиваю.
Молчание.
— Мамаша, не бойтесь, — как можно более мягко говорит Борисов, — Киев уже освобожден. Дайте руку, я помогу вам выбраться.
Вносим ослабевшую, дрожащую от холода женщину в квартиру. Борисов сбрасывает с себя стеганку, подкладывает ей под голову. И тут я узнаю соседку:
— Прасковья Тимофеевна!
Постепенно женщина приходит в себя. Спрашивает:
— А ты кто такой? Откуда меня знаешь?
— Неужели не помните, Прасковья Тимофеевна? Я — Степан Федорович. Шутов.
— Галинин муж? Помню, как не помнить!
Женщина долго покачивает головой. А я молчу, боюсь спросить о своих, и сердце у меня обливается кровью. Наконец Прасковья Тимофеевна нарушает молчание:
— А твои, слава богу, живы. Все — и Галина и дети… Правда, тяжело было, особенно меньшому. С голода пухли.
— Теперь-то где они? — спрашиваю.
— Ушли. Как греметь начало, Галина Андревна детей забрала и в село подалась…
Только спустя две недели, когда бригада находилась уже западнее Киева, мне удалось снова заскочить домой. На этот раз застал жену и младшего, трехлетнего сына. Толик родился в сорок первом году, и я его видел впервые. Несмотря на то что рос в тяжелых условиях, он оказался живым, подвижным ребенком.
— Ты мой папа? — спросил он и, гордо задрав голову, выкрикнул — Мой папа — танкист! Бей фашистов, ура!
— А где Володя?
Жена опустила голову. Сквозь слезы поведала, что старший сын еще в деревне, которая пока у немцев. Деревня несколько раз переходила из рук в руки. Как-то ночью, не выдержав, Галина схватила Толика и побежала навстречу нашим частям. Старшего в это время не было. Он так и остался на попечении знакомых стариков.
16
Киев начинает жить. Пошли трамваи. Над крышами домов появляются синие вихри дыма. Тысячи комсомольцев, вооруженных лопатами и кирками, расчищают на Крещатике развалины. Но битва за город не закончена.
Немецко-фашистское командование снова, в который уже раз, перебросило из Западной Европы на наш фронт свежие войска. Завязались тяжелые бои на шоссе Киев — Житомир. Противник, как раненый зверь, метался с одного направления на другое, пытаясь нащупать у нас слабое место. Нашим артиллеристам и танкистам приходилось совершать стремительные марши, чтобы упредить врага, встретить его на выгодных рубежах. Сдержав натиск фашистов, войска 1-го Украинского фронта снова перешли в наступление.
Как-то в эти дни в печати был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении многим бойцам и командирам звания Героя Советского Союза. Среди других я нашел свою фамилию. Боюсь верить, ведь ничего вроде особенного не совершил. Люди поздравляют, а я тайком от всех, в десятый раз, перечитываю свою фамилию в газете, чтобы убедиться, не опечатка ли. Потом решил: это мне награда не столько за сделанное, сколько за то, что предстоит сделать.
Михаил Федосеевич Маляров доволен:
— Это хорошо, что ты так думаешь, зазнаваться не будешь.
Спустя несколько дней в армейской газете появилась статья обо мне. Под ней стояла подпись: «Гвардии капитан Ю. Метельский».
Юра здесь! Оказывается, он жив и мы с ним находимся в одной армии, но после боев под Ленинградом ни разу не встретились. Позже я узнал о еще более интересном случае. Герой Советского Союза Тимофей Шашло два с лишним года воевал в одном корпусе со своим бывшим школьным учителем майором Иваном Константиновичем Белодедом, с которым не виделся почти двадцать лет. Встретились они лишь случайно, и уже после войны, в Порт-Артуре.
Я решил повидать Метельского. Кстати, нашу бригаду вывели на отдых.
В штабе корпуса узнал, что служит молодой танкист в одной из наших бригад. Командир ее встретил меня с открытой неприязнью.
Я не буду называть его фамилию. Вообще он был храбрым танкистом, способным командиром. Его бригада считалась одной из лучших в корпусе. Но свои отношения с подчиненными он строил сухо, казенно, «согласно уставу». Люди его интересовали только как исполнители приказа. Все остальное он считал лишним и вредным. Мысли, думы, радости и печали танкистов он признавал «сентиментальностью», не имеющей ничего общего с войной, с уставом. Возможно, и себя он считал простым исполнителем воли начальников, поэтому относился к каждому, кто был старше его по положению, с неестественной, угодливой почтительностью. Надо было присутствовать на его докладах генералу Кравченко. Мне думается, слишком громкие ответы, заискивающие взгляды смущали и того, к кому были обращены. Однажды я прямо высказал командиру все, что думал о нем. Он обиделся и долго не мог простить мне этого. Сейчас, когда я прибыл к нему, он криво улыбнулся:
— Какой ветер тебя занес к нам?
— Попутный. Земляка решил проведать.
— Капитана Метельского? Он мне говорил о тебе.
— Почему же ты мне ни разу не сказал, что он у тебя служит?
Полковник пожал плечами:
— А зачем? Все мы земляки. И вообще… Сентиментальные чувства на фронте плохо действуют на пищеварение.
— Все-таки я хочу его видеть.
Полковник надел фуражку и вышел со мной на улицу. Над нашими головами со специфическим шорохом проносились снаряды. Артиллерия обрабатывала оборону противника.
— Со вчерашнего дня капитан Метельский исполняет обязанности командира батальона, — сообщил мне по дороге полковник. — Толковый танкист. — Он взглянул на часы. — Через сорок две минуты впервые поведет батальон.
Капитана мы застали склонившимся над картой. Он, видно, хотел еще раз представить себе местность, где должен разыграться бой, предугадать, какие препятствия встретятся батальону, когда он углубится в оборону противника. Телефонист, сидевший за аппаратом у входа в землянку и знаком предупрежденный мною, чтобы молчал, удивленно поглядывал на командира бригады.
Рассматривая карту, Метельский машинально помешивал ложкой давно остывший чай. Наконец он поднял голову и заметил нас. Доложил командиру о готовности батальона к бою, затем ринулся ко мне.
Мы обнялись, расцеловались. Полковник опустил уголки губ: в его присутствии рушились все устои чинопочитания!
— Юра, как воюем? — спросил я.
— Не мешало бы лучше.
— Катюша пишет?
Он сообщил, что девушка по-прежнему работает в госпитале, учится заочно. Еще годик, и хирургом будет.
В свою очередь Метельский заинтересовался моей семьей. Я рассказал ему, что видел жену, младшего сына, а старшего еще надо освободить.
— Освободим, — уверенно заявил капитан и бросил короткий взгляд на часы.
Время было расставаться. Пожимаем друг другу руки. Получив разрешение выступать, капитан быстрым шагом направился к своему танку.
Я собрался уезжать, но, к моему удивлению, командир бригады предложил остаться:
— Не торопись, посмотри, как земляк воюет.
Я остался.
Батальон, выдвинув вперед фланги и оттянув назад центр, где находился сам командир, устремился вперед. За флангами и позади Метельского двигались танки других батальонов.
На переднем крае противник сопротивления почти не оказал. Но перед возвышенностью, на которой раскинулось небольшое село Ржанивка, советские танки попали под сильный огонь. Вспыхнуло несколько «тридцатьчетверок».
— Мало, очень мало сделали наши артиллеристы, — недовольно покачал головой командир бригады. — Почти вся система противотанковой обороны у противника сохранилась.
Встретив яростное сопротивление, Метельский осуществил маневр. Мы видели, как несколько левофланговых машин, используя лощины, направились в обход населенного пункта.
Скоро и все машины батальона вышли из поля зрения. Но радио каждые пять минут держало нас в курсе дела. Капитан достиг окраины села, и его танки одновременно атаковали врага с фланга и тыла.
Я покинул соседнюю бригаду, когда Ржанивка уже была взята. Полковник при мне доложил в штаб корпуса о первом успехе.
17
Позвонил генерал Кравченко:
— Что, Степан Федорович, хлопцы очень устали? Когда сможете выступить?
— К утру.
— Тогда вот что. Ваш сосед справа уходит на другое направление. Вам придется повернуть на Браженцы.
В землянке холодно, а меня бросило в жар. Браженцы! Это как раз то село, где находится мой сын.
В землянку входит раскрасневшийся от мороза и ветра Маляров. Его усы, брови, ресницы заиндевели. Сбросив шинель и потирая руки, он подсаживается к железной печурке.
— В институте я изучал закон об усталости металла, — говорит подполковник. — А наши танкисты опровергли его. Мы, Степан Федорович, перекрыли все известные до сих пор нормы эксплуатации машин. Согласно уставам всех армий мира, в том числе и нашему, после трех-, четырехсуточных танковых боев части должны выводиться на отдых. А сколько времени мы воюем без отдыха?.. — Он вдруг обрывает себя: — Слушай, а почему у тебя такой кислый вид?
Рассказываю о звонке командира корпуса и о том, что нам предстоит освобождать Браженцы.
Маляров не находит слов для утешения. Он понимает, если противник будет долго сопротивляться, то жертвы среди мирных жителей неизбежны. Возможно и другое: гитлеровцы просто угнали население на запад…
К утру из Браженцев возвратились разведчики. Василий Причепа настроен оптимистически:
— Оборона — не ахти какая. И артиллерия — в недостаточном количестве. Фрицы обмороженные все, сопротивляться много неспособные. — Он протянул мне листок бумаги: — А это схема расположения орудий.
Познакомившись со схемой, Маляров заметил:
— Южное направление более открытое. Отсюда и ударить нужно. — Немного подумав, добавил: — Я с ротой Горбунова пойду.
Утром началась пурга. Дневной свет так и не появился. О молниеносном ударе речи не могло быть. В такую погоду машину надо вести осторожно.
Снова позвонил командир корпуса:
— Идете?
— Идем.
— Погода неважная. Может, отложить?
— Все будет в порядке.
— Ну хорошо. Желаю успеха!
Я передал трубку телефонисту, посмотрел на Малярова:
— А не лучше действительно повременить? Случись что, скажут — из-за сына…
Маляров не на шутку разозлился:
— Копеечная щепетильность! Разве вчера была лучшая погода? Сейчас солнышка ждать не приходится!
Даже майор Хромов, человек осторожный, сдвинул щетки-брови, вынул изо рта трубку-коротышку и сделал протестующий жест:
— Степан Федорович, вы меня удивляете.
В смотровые щели совсем ничего не видно. Командиры танков легли сверху на броню, взмахами рук сигнализировали механикам-водителям. Машины шли осторожно, почти на ощупь.
Вой снежной бури сыграл положительную роль: противник не слышал шума моторов.
Маляров сообщает по радио, что подходит к юго-западной окраине села. Подтягиваю отстающие танки и отдаю общую для всех подразделений команду: «Атаковать!»
Разведывательные данные Василия Причепы помогли быстро уничтожить почти все противотанковые средства противника. Деревня занята без потерь.
Пурга не унимается, но жители Браженцев оставили свои убежища и выбегают к нам. Группа ребятишек, растолкав локтями взрослых, протискивается к танкам.
— Дяди военные, — тоненьким голоском обращается к нам девочка лет семи, — вы всегда-всегда будете с нами? Никуда не уйдете?
— Уйдем, — взял ее на руки командир роты Горбунов. — Вот сейчас машины свои покормим и уйдем.
— А фашисты? — испуганно посмотрела на него девочка.
— Фашистов на советской земле больше никогда не будет. Конец им, понятно?
Девочка кивнула головой, вытерла рукавом мокрое от снега лицо:
— Капут им, да? А куда вы поедете?
— В Берлин. Там главный фашист Гитлер живет.
— А меня один фашист сапогом в живот ударил. Я маме плакать помогала, когда он нашу корову забирал. Он маму ударил, потом меня.
Горбунов поцеловал девочку. Назвал ее умницей, заявил, что отомстит тому фашисту, который коров забирает и маленьких детей сапогом в животы бьет.
— Вы его знаете?
— Они все такие.
Со всех сторон посыпались жалобы на оккупантов. И вдруг сквозь толпу ребятишек пробивается запыхавшийся паренек-оборвыш. Ищет кого-то глазами, бросается ко мне:
— Папа! Мне дядя Маляров сказал, что ты здесь.
— Во-лодь-ка! Сын!
Я прижимаю его к груди. Худенькое тело мальчика дрожит.
— Ладно, Володька, успокойся. Будь мужчиной, — говорю ему, а сам креплюсь, чтобы подчиненные не заметили моей слабости. — Как же ты, растяпа, от мамы отстал?
Володька обиделся, надул губы и, осуждающе покачивая головой, ответил:
— Никакой не растяпа. Просто я прятался. Меня фрицы специально искали. Они говорили, что я сын Героя Советского Союза. Мы с дедушкой в лесу в яме прятались. Четыре месяца.
Сердце мое защемило. Что творится?! Тринадцатилетнего парнишку гитлеровцы преследовали, как преступника. Четыре месяца он находился на холоде, на дне сырой, темной ямы!
На следующий день я посадил сына в машину, идущую в Киев.
— Поезжай, сынок, домой к маме. Привет ей и Толику.
— Я на фронт хочу! Возьми меня с собой.
— Нельзя, ты еще маленький. Учиться надо, Володька. У тебя и так два года пропало.
Так мы снова расстались с сыном. Товарищи и завидовали мне и сочувствовали. Они, солдаты, знали, что такое короткая встреча и вынужденная разлука.
Я долго следил за удаляющейся машиной, пока она не скрылась за поворотом…
КРАСНЫЕ СТРЕЛЫ
1
Настал 1944 год. Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов, продвигаясь одни на юг, а другие — на запад, создали возможность окружить в районе Корсунь-Шевченковского крупную группировку противника. А немецко-фашистское командование игнорировало эту угрозу и фанатично цеплялось за правый берег Днепра. Кое-кому там еще мерещился Киев, еще чудилась возможность отрезать и разгромить наши наступавшие в направлении к Умани соединения.
Нельзя было не использовать благоприятных обстоятельств. И 1-й Украинский повернул на восток. А затем встречным ударом армии двух фронтов разрезали оборону противника и соединились под Звенигородкой. Десять вражеских дивизий, одна бригада и несколько артиллерийских, танковых и инженерных частей оказались в «котле».
В этих боях участвовал и наш корпус. Надо сказать, бои были тяжелыми. Обстановка непрерывно менялась, часто становилась запутанной, когда враг оказывался не только впереди, но и сзади, когда не ясно было, откуда ожидать его контратаки.
Штаб корпуса не всегда успевал следить за изменяющейся обстановкой и ориентировать нас. Вот тут и пришлось основательно потрудиться бригадным разведчикам.
Хорошим организатором проявил себя Хромов. Он всегда отличался необычайной работоспособностью, за что получил у нас шутливое прозвище «пятнадцатисильный». В те же горячие дни Дмитрий Васильевич, по-моему, вообще ни разу не спал. Во всяком случае, всегда, когда я его видел, он был на ногах и сосал свою неизменную трубку-коротышку, часто потухшую.
Всегда спокойный, уравновешенный, не проявляющий и тени суеты, наш начштаба успевал делать все: проинструктировать разведчиков и изучить добытые ими сведения, держать связь с батальонами и соседями, докладывать об изменении обстановки в штаб корпуса и предлагать мне варианты действий в новых условиях. Нужно сказать, что благодаря Хромову и руководимому им коллективу штабных работников мы постоянно были в курсе фронтовых дел и ни разу ни на минуту не потеряли управления батальонами, что в тех условиях было вовсе не исключено.
А какой выдержки человек был Дмитрий Васильевич! Из разговоров с ним я знал, что в оккупации, в Шполянском районе Киевщины, осталась его семья. Он много рассказывал мне о жене и сыне, и из этого легко было понять, как он любил их и как скучал.
Долгое время бригада действовала в тридцати пяти километрах от его дома, но узнать что-либо о семье Хромова не удавалось. И вот однажды, находясь в соседней бригаде у полковника Кошелева, я встретил там одного из работников Шполянской подпольной партийной организации. Он, конечно, знал и Хромова и его жену — инструктора райкома комсомола, а в оккупации — организатора молодежной подпольной группы.
Рассказывая об этом, подпольщик вздохнул:
— Да, хорошая была женщина.
— Почему «была»?
Опять вздох и большая пауза.
— Потому что нет теперь Оксаны Карачун. Гестаповцы охотились за ней. Выяснили, у кого в деревне находится ее сын. Стали следить за домом и однажды ночью схватили Оксану, пришедшую навестить малыша. Утром на виселице в Шполе повесили мать, сына и старушку, прятавшую его…
Несколько дней я ходил под впечатлением услышанного. Дмитрию Васильевичу не решался сказать. Чувствуя свою вину, не мог смотреть ему в глаза. Но когда-то он все равно должен узнать правду. Пришлось выложить все, что услышал.
Я видел, как бледнело лицо Хромова по мере моего рассказа. Потом он закрыл его руками и долго так сидел, не проронив ни слова. Уважая его горе, мы не беспокоили майора…
Во время окружения немцев в районе Корсунь-Шевченковского и меня постигло горе. Погиб мой верный товарищ, друг и помощник подполковник Михаил Федосеевич Маляров.
Мы вместе со стрелковой дивизией полковника Пузикова атаковали населенный пункт. В самый разгар боя одна из «тридцатьчетверок» неосторожно, не рассчитав крутизны, наехала на бугор и чуть не завалилась набок. При этом у нее свалилась гусеница.
К месту происшествия поспешил начальник политотдела.
— Что думаете делать? — спрашивает Маляров у танкистов.
— Придется бугор срывать, — нерешительно ответил за всех командир машины младший лейтенант Обухов. Он понимал, что, если лопатой копать, работы на многие часы хватит.
— Нет, это слишком долго. Как вы считаете, нельзя ли взорвать бугор?
— Пожалуй, можно, — улыбаясь ответил Обухов. — Вырыть ямку и заложить немного взрывчатки.
Комсомольский экипаж взялся за работу. Михаил Федосеевич помогал танкистам. Вот уже бугор поднялся в воздух и танк выровнялся. Осталось надеть гусеницу, но это уже не составляло большого труда.
Когда почти все было кончено, поблизости разорвался снаряд. Осколок его попал прямо в сердце подполковника. Он умер мгновенно, с застывшей на губах улыбкой. С такой улыбкой умирает человек с сознанием, что жизнь прожита недаром…
2
В боях невольно свыкаешься с неизбежностью потерь. Смерть людей воспринимаешь как должное. Но после гибели Михаила Федосеевича я много дней не находил себе места. Не мог представить, что вместо него придет другой человек.
И вдруг звонок. Говорит начальник политотдела армии генерал-лейтенант Зеленков.
— Товарищ Шутов, к тебе едет новый начальник политотдела. Хороший политработник.
Я горько усмехнулся про себя: «Хороший политработник. Разве сможет он заменить Малярова?»
— Ты даже не интересуешься, кто он, — упрекнул меня Зеленков. — Твоим заместителем будет майор Шашло…
Шашло?! Видеть его не видел, но слышать приходилось. О его жизни и подвигах много писали газеты.
Сын колхозника, секретарь комсомольской организации колхоза, а потом сельский учитель. Войну начал старшим сержантом, помощником командира танкового взвода.
Осенью сорок первого года уже парторг роты Тимофей Шашло повел в атаку несколько своих танков и разбил тридцать вражеских. Воодушевленная этим, наша пехота отбила у противника важный узел дорог — Штеповку…
Потом полтора года побед и поражений, радостей и огорчений. В сорок третьем, когда наши войска вступили на территорию Украины, Шашло, воевавший тогда на другом направлении, обратился к Никите Сергеевичу Хрущеву с просьбой разрешить ему участвовать в освобождении родной республики. Такую возможность ему предоставили.
Я встречал имя Шашло среди героев — освободителей Киева. Слышал по радио его голос. У памятника Тарасу Шевченко, в день освобождения столицы Украины, он поклялся от имени советских воинов до конца разгромить фашистских захватчиков, полностью освободить советскую землю…
Майор вошел ко мне спокойной, медлительной походкой, доложил:
— Прибыл на должность начальника политотдела.
Быстрым взглядом окидываю его. Плечистый, крепко сбитый. Открытое лицо, темно-серые, чуть-чуть выпуклые глаза, высокий красивый лоб. А вот движения, снова замечаю, медлительны. Это насторожило. В моем представлении политработник должен быть горячим, подвижным. До тех пор встречался только с такими.
— Рад, Тимофей Максимович, — подаю ему руку и почему-то сразу перехожу на «ты». Объяснить это и сейчас не могу. Возможно, оттого, что он на тринадцать лет моложе меня, а скорее всего потому, что много слышал о нем, читал, и он казался мне давно знакомым, близким.
Когда Шашло разделся, на гимнастерке его я увидел Золотую Звезду Героя.
Вблизи деревни Лисянки, где мы остановились, протекала речушка Гнилой Тикич. Разведчики донесли, что за нею накапливаются танки противника.
— Мабуть, штук сто, — сказал Причепа.
Мы с Шашло склонились над картой.
— Что ты думаешь по этому поводу? — спрашиваю у него. Мне интересно знать, как мой заместитель умеет оценивать обстановку.
Тимофей Максимович с ответом не торопится. Еще раз окидывает взглядом карту и лишь тогда замечает:
— Немцы рассчитывают на внезапность. Знают, что со стороны Тикича мы их не ждем. И еще хочу сказать: здесь действует полк немецкой четырнадцатой танковой дивизии. Хорошие вояки! Приходилось с ними встречаться…
Затрещал телефон.
— Вас просит командир корпуса, — передает мне трубку телефонист.
— «Днепр» слушает.
— Степан Федорович, — слышу голос нового командира корпуса генерал-майора Алексеева, — «друзья» наши опять зашевелились. Справа от тебя.
— Знаю, товарищ генерал.
— Так вот, постарайся усилить оборону на переправах, пока они не начали…
Майор внимательно следит за моими ответами, пытаясь понять суть разговора.
— Командир корпуса предупредил о том же? — спрашивает, когда я кладу трубку.
— Да.
— А сколько у нас исправных машин?
— Одиннадцать. Позже будут восстановлены еще десятка два, а пока одиннадцать.
— Прямо скажем: не много, — задумчиво произносит Шашло. — Отсюда вывод, Степан Федорович, — надо опередить немцев…
Бригада тронулась. На башне предпоследней машины — мы с Шашло.
Только выскакиваем за деревню, начинается бой. Наш замысел не удался. Противник нас опередил и захватил одну переправу. Его танки продолжают перебираться на наш берег. Две «тридцатьчетверки» уже горят.
Бросаю взгляд на начальника политотдела. Тот невозмутим. Его серые глаза изучающе осматривают поле. У нас одновременно появляется мысль отвести машины влево за высотку.
Отход наших танков противник, вероятно, принимает за хитрость, потому что не преследует. Наоборот, замедляет движение. Мы пользуемся этим и лощиной южнее Лисянки выходим к переправе.
Выстрелы из-за укрытий поджигают несколько вражеских танков и наводят на немцев панику. Подоспевший стрелковый батальон помогает нам отбить переправу и занимает оборону.
Начинает смеркаться. С высотки наблюдаем за поведением противника. Около нас окопались бойцы стрелковой части. Выясняю, что НП командира их полка и телефон в двухстах метрах сзади.
Надо доложить командиру корпуса о сложившейся обстановке.
Вместе с Шашло направляемся к НП. А когда возвращаемся, попадаем под автоматный огонь. Стреляют с высоты, к которой пробираемся и которую оставили всего минут двадцать назад.
— Немцы просочились, — приходит к выводу мой спутник.
Пришлось залечь и ползти назад.
— Встретимся после войны, обязательно напомню тебе, как ты, коммунист, гитлеровцам кланялся, да на животе перед ними ползал.
— Ползать по-пластунски меня один старшина научил. Спасибо ему, — тихо смеется Шашло. — На действительной службе мы про себя проклинали его за требовательность, а теперь, вижу, наука пригодилась.
— И все-таки своей дочери о нашем ползании не рассказывай.
— Как можно! Вдруг она неверно истолкует поведение командира танковой бригады…
Так, шутя, спасаясь от пуль, опять добираемся до НП. Связываюсь с нашей минометной батареей. Через каких-нибудь десять — пятнадцать минут мы снова смогли обосноваться на высотке.
Находящиеся в окружении войска противника испытывали большой недостаток в горючем, боеприпасах и продовольствии. Снабжение их шло по воздуху, для чего сюда было стянуто много транспортной авиации.
Нашим зенитчикам приходилось много трудиться. Успешно действовали и летчики, наносившие удары по самолетам врага как в воздухе, так и на аэродромах, посадочных площадках. А однажды отличилась даже наша «тридцатьчетверка».
Это было в первых числах февраля. Танк младшего лейтенанта Андрея Кожуха находился в разведке в тылу у немцев. Уже пробирался лесными дорогами назад, когда навстречу ему из чащобы выскочила женщина, подняла руку.
Остановились.
— В чем дело, мамаша? — спросил Кожух, выглянув из люка.
Женщина, держась рукой за сердце, несколько раз жадно глотнула воздух.
— Тут… хлопцы… фашистский аэродром… близко, — проговорила, задыхаясь. — Самолеты… только что… опустились. Продукты… видать… привезли.
— А много их?
— Три штуки.
— Спасибо, мамаша, — поблагодарил танкист. — Попробуем воспользоваться вашим рассказом.
Развернувшись, танк понесся в направлении, указанном женщиной. Налет был дерзким и неожиданным, немецкая охрана не успела даже поднять тревогу.
Под разгрузкой, действительно, стояли три транспортных самолета «Хе-177». Подле них суетились люди.
— Валяй, Сомов, на них, — крикнул младший лейтенант в танкофон. — А ты, Косарев, лупи очередями.
Сам он нажал на спусковой механизм пушки.
Давить самолеты не пришлось. Нескольких снарядов оказалось достаточно, чтобы поджечь их. Те, кто возился возле, либо были уничтожены, либо в панике разбежались.
Но скоро пришлось спасаться и танкистам. Две зенитные пушки стали бить по ним прямой наводкой. В бригаду «тридцатьчетверка» вернулась с несколькими пробоинами и вмятинами. К счастью, никто из экипажа не пострадал.
3
— Случится же такое, Степан Федорович! Только что я своего бывшего ученика встретил. — Раскрасневшийся Шашло, нагнувшись, шапкой сбивал с валенок прилипший снег.
— Кто такой? — спрашиваю.
— Да вы его наверняка знаете. Василий Млинченко, механик-водитель у Горбунова.
Еще бы не знать Васю Млинченко, молоденького танкиста! Я даже помнил кое-что из его биографии, хотя бы то, что четырнадцатилетним подростком он остался в оккупации, когда на Кировоградщину пришли фашисты. Участвовал в поджоге комендатуры. Бежал от преследования, долго скитался, в конце концов пробрался через линию фронта. Легко сказать: «пробрался», а сколько труда и опасностей пришлось преодолеть! Это понять может только тот, кто сам испытал.
Мальчуган пристал к танковой части. Подружился с разведчиками, много раз ходил в поиск. Потом его отправили в танковую школу. Оттуда он и прибыл к нам.
До прихода в бригаду майора Шашло его бывший ученик успел побывать в нескольких атаках. Младший лейтенант Горбунов хвалил его за смелость и находчивость, но отмечал излишнюю горячность.
Я сказал об этом начальнику политотдела и заметил, что, на мой взгляд, за Василием следует присмотреть.
— Правильно, — поддержал меня Шашло. — Только надо, чтобы он не замечал этого. Парень в таком возрасте, когда не терпят опекунства, в какой бы форме оно ни проявлялось.
«Сразу видно — педагог!» — подумал я и вспомнил свои разговоры с Юрой Метельским.
Враг не оставлял надежды вызволить свои окруженные соединения. На западе внешнего обвода окружения он создал на узком участке крупную группировку и предпринял несколько сильнейших атак. Одновременно навстречу этой группе действовали войска, попавшие в «котел».
Бои приняли жестокий характер. Артиллерийская канонада, бомбардировки с той и другой стороны не прекращались по целым дням. Под натиском превосходящих сил наши войска с внешней стороны кольца окружения попятились.
Но этот успех врага был временным. Подтянув сюда силы с других участков, советское командование сумело создать перелом в ходе боев.
Вскоре ударами с разных сторон окруженный противник был расчленен и уничтожен по частям.
После операции мы подводили итоги. К нам по старой памяти приехал генерал Кравченко, теперь уже командующий танковой армией.
— Хорошо действовали, гвардейцы, — похвалил он бригаду. — Степан Федорович, представляй к награде отличившихся…
Вечером к нам поступают наградные листы из подразделений. Читаем их с Шашло, подписываем.
Попадается реляция на старшего сержанта Млинченко. Командир батальона Ситников представляет его к ордену Красного Знамени.
— Земляка, Тимофей Максимович, давно не видел? — спрашиваю начальника политотдела.
— Это Василия-то? Сегодня встречал. А что?
— Интересно, как он воюет?
Шашло оживляется, встает, шагами начинает мерить землянку.
— На днях он отличился. Попал танк под огонь, гусеницу перебили. Так Вася, раненный, с поля боя не ушел, а под обстрелом исправил повреждение и снова повел машину в атаку. В бою танк Горбунова подбил два «Тэ-три» и пушку, а пехоту уже не считали.
Я не выдержал, улыбнулся:
— Значит, все знаешь о подопечном. Ну тогда на, подписывай, — и передаю ему представление на Млинченко.
Майор читает и возмущается:
— Ну что это такое? Не умеем писать, чтобы ясно, понятно и, главное, конкретно было. — Медленно читает: — «В бою проявлял героизм и самоотверженность, заботливо ухаживал за вверенной ему техникой». А другие, выходит, за техникой не следят. Значит, раз ухаживаешь за танком — вот тебе орден. Смехота, право.
Нельзя не понять реакцию Шашло. Действительно, большинство представлений поверхностны, легковесны.
— А ты, Тимофей Максимович, — советую я ему, — собрал бы комбатов да объяснил бы им, что к чему.
— Пожалуй, надо будет это сделать…
На Украине весна, а это значит — распутица. Реки, речушки, даже ручьи разбухли и разлились. Проселочные дороги размокли. Всюду грязь, грязь, грязь.
Колесная машина может идти только по шоссе. Чуть в сторону съехала — и накрепко садится в липкой жиже. Напрямик, да и то не везде, проходят лишь танки, тракторы.
В распутице немцы видели свою союзницу. Рассчитывали, что она задержит наше наступление и даст им время создать оборонительные рубежи на Буге и Днестре.
А советские войска должны были сорвать их замыслы, не давать им передышки. Армии шли вперед.
Тяжело приходилось всем, особенно артиллеристам и пехотинцам, но как-то так получилось, что уже скоро большинство бойцов стрелковых подразделений оказались верхом на лошадях. И вот эта пестрая, наполовину пехотная, наполовину кавалерийская лавина течет и течет на запад.
В условиях бездорожья для нас, танкистов, проблемой явился подвоз горючего и боеприпасов. Бойцы подразделения подвоза, возглавляемого капитаном Амелиным, сбивались с ног. Люди работали по нескольку суток без отдыха.
Во не только в этом состояли трудности. Поездки почти всегда бывали опасны, ибо дороги подвергались бомбардировкам. Нередко шоферам приходилось отбиваться и от наземного противника.
Много немецко-фашистских войск, застигнутых стремительным наступлением советских армий, оказалось в нашем тылу. Разбившись на группы, они бродили теперь по лесам. Наиболее благоразумные выходили, подняв руки, и сдавались в плен, а другие прилагали усилия, чтобы пробиться на запад. Эти были опасны. Иногда они внезапно нападали на небольшие наши подразделения.
Как-то нападению подверглась колонна автомашин Амелина. Немцы, спрятавшись в придорожных кустах, обстреляли ее. Шоферы и охрана залегли в кювете, начали отстреливаться.
Гитлеровцы, их было много больше, наседали с двух сторон. Амелин видел, что положение тяжелое, и решил пойти на хитрость.
— Хлопцы, — предложил он, — давайте поднимем руки. Фашисты решат, что мы сдаемся. А когда они подойдут поближе, забросаем их гранатами. Руки поднимайте через одного, остальные пусть готовят «малую артиллерию».
Противник попался на уловку.
Взрывы гранат быстро отрезвили его и заставили отступить. А когда вскоре появилась автоколонна с войсками и наши оцепили фашистов, тем ничего не осталось, как самим сдаться в плен.
Вечером капитан Амелин рассказал о случившемся. Доложил, что дело обошлось без потерь, только ранен шофер П.П. Свидорчук. Ранен легко и от госпиталя отказался.
Пока машины разгружались, мы с начальником политотдела решили побеседовать с шоферами, поздравить с успешным боем.
Им предстоит новый путь, поэтому они спешат заправить машины, наскоро закусить. Свидорчук, пожилой, с пышными усами и густыми, лохматыми бровями, уже покушал. Левая рука его забинтована, и он одной правой неумело свертывает «козью ножку».
Подсаживаемся к нему.
— Махорочка есть, Прокоп Прокопыч? — спрашиваю. — Соскучился по крепкому табачку.
Свидорчук протягивает кисет. Сверху в нем — аккуратно нарезанные газетные листочки. Свертываю и себе «козью ножку».
Закуриваем. Просят разрешения и усаживаются вокруг остальные водители подразделения.
— Прокоп Прокопыч, — говорит Шашло, когда шум постепенно смолкает, — а ведь с больной рукой машину вести будет трудно. Подождали бы денек-другой.
— Пустяки, товарищ майор. Разве это ранение, царапина, и все. В гражданскую, помню, одному у нас правую руку оторвало, так он левой беляков рубил. Вот это герой был, я понимаю.
— Вы разве в кавалерии служили? — спрашиваю.
— А как же, — оживился Свидорчук. — В Первой Конной. Панов польских громил. Житомир брал.
— Так, значит, мы с вами еще в двадцатом году вместе служили. Я ведь тоже буденновец.
Начинаются воспоминания. Бойцы с интересом следят за нашей беседой. Постепенно разговор перекидывается на сегодняшние дела.
— В колхоз не тянет, к лошадкам? — спрашивает Свидорчука Шашло.
— В нашем колхозе больше техники, чем коней. Перед войной я на тракторе работал. А домой тянет, это вы, товарищ подполковник, угадали. — Свидорчук опускает руку в карман. Достает что-то завернутое в тряпочку и со вздохом развязывает. — Вот она, землица-то. — Мнет ее пальцами, нюхает. — Тоскует по человеческим рукам.
— Ничего, — утешает солдата начальник политотдела, — теперь уже не долго осталось. Скоро окончательно расправимся с оккупантами, и вернетесь вы к своей земле, в колхоз.
Шашло окинул глазами слушателей:
— Только от всех нас, товарищи, зависит приблизить конец фашизма: и от танкистов и от подвозчиков снарядов. Бои еще предстоят жестокие. Враг сам не сдается, его надо силой поставить на колени. Сегодня вы все отличились. И если чего пожелать вам, то я бы сказал по-морскому: так держать!
Солдаты оживились, им, по всему видно, понравилось пожелание подполковника. А Свидорчук, перекрывая басом шум, с пафосом заявил:
— Можете на нас надеяться, товарищ подполковник. Все домой хотели бы, это уж я точно знаю, по разговорам. Но знайте и вы, никто, даже если отпустят, из части не уйдет, пока с Гитлером не разделаемся.
Бойцы снова зашумели. Слышались голоса:
— Правильно!
— Прокоп за всех сказал!..
4
Наступило лето. Дороги подсохли. Стремительно наступая, передовые отряды советских войск форсировали Днестр.
20-я гвардейская закрепилась на опушке леса. Люди приводят в порядок технику, мы с Хромовым обходим подразделения.
Вдруг сзади твердые шаги и знакомый голос:
— Товарищ полковник, разрешите обратиться!
Оборачиваюсь — передо мной лейтенант Казак. Обнимаемся, жму его руку.
— Здорово, как подлечился?
— Все в порядке. Хоть сейчас задание давайте. Где мой экипаж?
— Чего торопиться! — говорю ему. — Оглядись пока, отдохни после госпиталя.
Хромов вынул изо рта трубку:
— Степан Федорович, я вам докладывал, мне офицер в штаб нужен. Как вы смотрите, если это место товарищу Казаку предложить?
Я посмотрел на лейтенанта:
— Не возражаю. Уверен, что он с должностью справится.
Казак переводил растерянный взгляд с меня на Хромова, с Хромова опять на меня.
— Товарищ полковник, если можно, оставьте на танке, — попросил он. — Привык я к ребятам, экипаж у нас хороший.
— Так ведь у экипажа уже давно новый командир, — возразил начальник штаба. — Они сработались, и вряд ли целесообразно сейчас разрушать их коллектив.
Казак опустил глаза. Он понимал справедливость слов Хромова, но, я видел, был весьма огорчен.
— Так как же решим? — спрашиваю его. — Вообще-то, майор резонно говорит.
— Честно говоря, я хотел бы в экипаж вернуться. Ну, а раз нельзя, что делать.
— Если у него такое желание, я думаю следует с экипажем посоветоваться, — предложил Хромов.
— Правильно, — поддержал я майора. — Только давайте так, чтобы ни старого, ни нового командира машины не было. Пусть сами решают, без давления.
Механика-водителя Чугунова, стрелка-радиста Муратова и заряжающего Тарасова мы вызвали в штаб. Без лишних разговоров сообщили, что прибыл лейтенант Казак и мы не можем решить, вернуть его в старый экипаж или не стоит.
— Как не стоит? — подскочил на скамейке старшина Чугунов. — Обязательно его к нам…
— Нет, — перебил товарища старший сержант Муратов, — вы не подумайте, что нынешний командир суров, плох. Наоборот, он тоже знающий и как человек — хороший. Но… — он замялся, подбирая нужное слово, — но… лейтенант Казак роднее…
Все было ясно: место Казака в экипаже.
Уже на следующий день члены экипажа отправились в разведку и им представилась возможность доказать преданность Родине и братские чувства друг к другу.
Углубившись в тыл противника всего на пять-шесть километров, танк попал на минное поле и подорвался. Правда, повреждения небольшие. Чугунов заверил:
— Полчаса, и все будет в порядке.
— Муратов, быстро на курган, — показал Казак рукой возвышенность в трехстах метрах, — и наблюдай! А мы все — ремонтировать.
Минут через десять Муратов прибежал назад:
— Товарищ лейтенант, сюда немцы идут.
— Много?
— Человек двести.
— Жаль, работы-то осталось совсем немного, — задумчиво произнес командир. — Давайте все в машину. Может, немцы посчитают, что в ней никого нет, и пройдут. Иначе будем отбиваться. Живыми в плен не сдадимся!
Скоро вокруг танка стали падать мины. Потом по броне зацокали пули.
— Вот, гады, — выругался Чугунов, — теперь работать не дадут.
В смотровые щели видны были темные фигурки врагов, под прикрытием кустарников перебегавших поближе к танку. Минометчики, по всей вероятности, расположились за курганом.
— Ну покосим мы их десятка три-четыре, а остальные все равно подойдут, — тихо проговорил лейтенант, отвечая, должно быть, своим мыслям. Потом, обращаясь к товарищам, сказал: — Вот что, еще не поздно уйти через нижний люк. В двадцати метрах за нами густые кусты, а там и лес рядом. Если быстро идти, то через полтора часа своих достигнешь. — Лейтенант сделал паузу, потом, вздохнув, закончил: — Может, помощь и вовремя поспеет. Так кто хочет пойти?
Вначале ответом было молчание. Затем заговорил Чугунов.
— Я думаю, тебе, Володя, надо идти, — обратился он к Тарасову. — Ты молодой, тебе еще жить да жить.
— Правильно, — поддержал старшину Муратов.
— Нет, не правильно, — возразил заряжающий. — Ты, Сергей, письмо от Нюры получил? Получил! А ответил? Не ответил! Ты должен обязательно ее увидеть и, что бы с нами ни случилось, передать ей, что мы все горячо вас любим и желаем счастья.
Друзья знают о переписке Муратова с девушкой из-под Курска. Познакомился с ней Сергей после освобождения ее села от оккупантов. Молодые люда полюбили друг друга. Нюра написала, что будет ждать своего суженого до конца войны и еще сколько угодно.
Постепенно переписка захватила и членов экипажа. Писем ждали с нетерпением, читали вслух, отвечали сообща. И Нюра заочно была знакома с товарищами Муратова.
Все это моментально промелькнуло в сознании лейтенанта.
— Сережа, — сказал Казак прерывающимся от волнения голосом, — действительно идти нужно тебе. — Жестом он остановил попытавшегося было протестовать товарища. — И не возражай, не поможет! Я только вот что хотел сказать на прощание. Обманывать себя нечего, скорее всего, мы больше не увидимся. Жалко, конечно, умирать так рано и так нелепо, но что поделаешь? Передай от нас привет всем товарищам. Кланяйся Нюре, а мы желаем тебе и ей дожить до полной победы. Ну, прощай!
Лейтенант обнял Муратова, трижды поцеловал в губы.
Распрощавшись с друзьями, Сергей выскользнул под днище танка и пополз к кустам.
Оттуда выглянул. Немцы уже подобрались к «тридцатьчетверке» метров на сто пятьдесят. Строча из автоматов, они подходили все ближе и ближе.
Но ват башня пришла в движение. Пушка выплюнула снаряд, а пулемет залился длинной очередью. Несколько фашистов, подступавших от кургана, ткнулись в землю, залегли.
Но на других направлениях, где пулемет не доставал, враги ползли и перебегали. Как бы хотелось Муратову подсказать друзьям об опасности с фланга, да ведь не крикнешь, а и крикнешь — они не услышат.
«Этим не поможешь, — подумал Сергей, — надо лучше спешить к своим».
Он начал отползать, как вдруг рядом упала случайная мина. Сразу боли не почувствовал, только взрывная волна ударила в лицо. Вгорячах отполз далеко, к кустарнику, хотел уже встать, но тут-то и понял: ранен в ноги. По телу прошла острая боль, точно продели длинную-длинную, метровую иглу. Хотел ползти и не мог. При малейшем движении боль становилась невыносимой. Тело покрылось испариной.
«Все пропало, — мелькнула мысль. — Не смогу добраться до своих и привести помощь».
Не то беспокоило Сергея, что стал беспомощным, что потерял много крови и жизнь его в страшной опасности. Он думал только о товарищах, его огорчало бессилие помочь им.
Превозмогая адскую боль, перекатился в сторону, откуда хоть немного проглядывался танк. Приподнял голову и увидел, что машину облепили темные фигуры гитлеровцев. Как хозяева расхаживают сверху, стучат прикладами по башне.
Закрыл глаза. На память пришло последнее письмо Нюры. Девушка пишет, что ее избрали членом правления колхоза. Работы много. Людей не хватает. «Скорей, ребята, кончайте войну, — призывает она, — да приезжайте к нам. Большое дело предстоит нам».
Раздумье нарушил сильнейший взрыв. Муратов снова поднял голову и увидел, что «тридцатьчетверка» полыхает ярким пламенем. Много мертвых гитлеровцев валяется вокруг нее. Уцелевшие с криком разбегаются прочь.
Лейтенант Казак учил подчиненных: «Ни в коем случае в плен не сдавайтесь. Если враг окружит танк и выхода не будет, бросьте в боекомплект гранату». Значит, он сам использовал остаток снарядов и лимонку, которую на этот случай возил с собой.
Сергей хватается руками за ветки кустарника, превозмогая боль, делает рывок вперед. И тут же в мозгу вспыхивает яркое пламя. Он хорошо видит его, видит дым. Потом становится темно.
Нюра красивая девушка. Она ждет его и будет ждать. Кончится война, он поедет к ней. А потом вместе — к нему на родину. Нюра познакомится с его матерью, сестрами. Они должны друг другу понравиться…
На рассвете следующего дня наши войска идут в наступление. А когда углубляются в оборону противника, в кустах неподалеку от взорванного Т-34 находят чуть живого танкиста. В госпитале он и рассказал о подвиге боевых друзей.
5
Трое, подполковник Шашло, редактор многотиражки капитан Сухомлинов и я, сидели на краю воронки, вытянув босые ноги на свежей зеленой траве. Над молодой рощей, у которой мы находились, только что всплыло солнце и словно включило гигантский волшебный музыкальный ящик. Только специалист сумел бы разобраться в многоголосом хоре и выделить из него голоса отдельных птиц. Нам это не удавалось.
Солнечные лучи развеяли легкий туман, обволакивавший далекие горы. Они будто приблизились, оделись в позолоченный кафтан с светло-синими полосами во впадинах.
Греясь на солнышке, любуясь красотой весенней природы, мы проклинали войну, вспоминали унесенных ею товарищей. Разговор повернул в русло фронтовых будней, коснулся подвига Федора Казака.
Начальник политотдела и редактор пришли в бригаду относительно недавно, поэтому лейтенанта знали мало. Я рассказал им, как молодой танкист воевал на Курской дуге, как погибли его родители, приютившие у себя разведчицу Аню Овчаренко.
— Да, много крови пролито, — вздохнул капитан Сухомлинов. — Помолчал немного и, обращаясь больше к Шашло, сказал: — Скоро мы перейдем границу Румынии. А захотят ли русские люди проливать кровь за чужую землю? Мы, конечно, воспитаны партией в интернациональном духе, но будет ли наш солдат так же самоотверженно драться с фашистами за пределами своих рубежей?
Я взглянул на Тимофея Максимовича. А тот вместо ответа сам спрашивает:
— Товарищ капитан, вы давно разговаривали с танкистами?
Капитан развел руками. Начальник политотдела хорошо знает положение дел в редакции. Штат ее небольшой. Самому все время приходится быть в подразделениях, собирать материалы. Редактор находится в гуще бойцов.
— Значит, разговариваете?
— Беседую.
— Вот именно — беседуете, формально, — быстро произнес Шашло. — А проникнуть в душу бойца, вызвать его на откровенность еще не научились.
— Товарищ подполковник…
Шашло нетерпеливым жестом остановил Сухомлинова:
— Советский воин, дорогой товарищ, в отличие от оболваненного фашистского молодчика — человек мыслящий. Он понимает: не добей сейчас фашистского зверя, он снова отрастит клыки и будет угрожать миру. К тому же по натуре русский человек не может пройти мимо, когда обижают слабого. Фашизм угнетает народы Европы, разве мы можем равнодушно взирать на это? И еще, это вы хорошенько запомните: долг политработников, в том числе и газетчиков, не только проникать в мысли и думы солдата, но постоянно формировать их, направлять.
Редактор смутился, покраснел. А Шашло вдруг спрашивает:
— Чему вы собираетесь посвятить очередной номер?
— Взаимопомощи в бою. Несколько материалов войдет в подборку «Береги жизнь командира».
— Что же, это важные вопросы. Но я посоветовал бы вам, не откладывая, поднять тему «Красная Армия выполняет историческую миссию». Как вы на это смотрите, Степан Федорович?
— Целиком согласен, — откликнулся я и стал развивать мысль заместителя. — Пусть редакция опросит читателей: готовы ли танкисты проливать кровь за освобождение других народов от фашистского ига — и опубликует ответы. Не мешало бы также дать небольшую пропагандистскую статью, в которой рассказать о том, что русский народ не раз на протяжении своей истории протягивал руку бескорыстной помощи своим соседям. Взять хотя бы и Румынию. Живы еще в памяти воспоминания дедов наших о том, как они вместе с румынами боролись против турецких захватчиков.
У Сухомлинова заблестели глаза. Он был сугубо штатским человеком, плохо знал военную жизнь, но в нем прочно сидел хваткий журналист. Сейчас капитан был счастлив, что случайный разговор помог интересно поставить тему в газете.
— Товарищи, это же замечательная мысль! — воскликнул он и торопливо стал натягивать сапоги. — У меня на языке уже вертится шапка для полосы. А вас, товарищ полковник, я попрошу написать пропагандистскую статью, — с места в карьер заявил он мне.
— Что вы! — стал было я отнекиваться. — У меня и времени нет.
— Напишет, напишет, — успокоил Шашло редактора и протянул мне блокнот, авторучку.
— Пиши, а мы с капитаном отойдем, чтобы не мешать.
«Свободолюбивый румынский народ, — помню, начал я статью, — не хотел позорного союза с гитлеровской Германией. Его продала клика Антонеску». Я писал и видел перед собой угнетенных румын, которые с нетерпением ждали прихода Красной Армии, своей освободительницы. Я писал и слышал стоны женщин, плач детей, пулеметные очереди палачей, расстреливающих революционеров-подпольщиков…
20-я гвардейская вышла на исходные позиции, когда начали поступать свежие номера многотиражки. Я набросился на газету с нетерпением: интересовали ответы рядовых танкистов. Все они, как и полагал начальник политотдела, правильно понимали свои интернациональные задачи.
«Меня удивляет, как мог возникнуть такой вопрос, — писал Свидорчук, — но раз просят, я, так и быть, скажу. Представьте себе на минуту, что Советская Армия откажется идти дальше своих границ, что тогда получится? А то: фашизм оправится, наберет сил и снова кинется на нас.
Дальше. Под фашистским рабством стонут народы Европы. Они ждут и зовут нас. Разве мы можем отказать в защите таким же рабочим и крестьянам, как сами? Я — украинец, но крови своей не пожалею за свободу простого, честного румына».
Старший сержант Топорков вспомнил историю: «Под водительством Александра Васильевича Суворова русские громили под Фокшанами турецкий корпус Османа-паши. Многие из участников этой победоносной битвы сложили свои головы. Во имя чего? За свободу румынского народа! А разве через сто пятьдесят лет русские стали менее гуманны? Наоборот. Красная Армия — самая передовая, самая сознательная армия в мире. Мы, ее воины, — интернационалисты. Мы будем бить фашистскую армию не только для того, чтобы освободить от рабства народы Европы, но и чтобы помочь самому немецкому народу стать на путь мира».
Газета опубликовала информацию о ротном комсомольском собрании. Обсуждался тот же вопрос, и так же горячи были выступления ораторов…
6
Проделав 65-километровый ночной марш, мы перешли Прут в районе Врипешти и поднялись в горы. Тяжелый это был путь. Танки не приспособлены карабкаться по кручам, а там приходилось. Но главные трудности еще впереди, у Ясс.
Яссы — город на северо-востоке Румынии. Подходы к нему защищены естественными препятствиями. Кручи и скалы, ущелья и овраги прикрывали город, словно верные стражи. А если учесть, что нам предстояло форсировать еще реку Жижию, то станет ясно, как сложно было действовать танкам на этом театре.
Перед решающим броском на Яссы корпус занял позиции высоко над уровнем моря, по северо-восточному берегу Жижии. Между прочим, танкисты называли реку просто «Жижа». И это тогда вполне соответствовало действительности. Дожди размыли берега, сделали их малопроходимыми, а воду — мутной, желто-грязной.
Отчетливо представляя себе будущие трудности, мы тщательно готовились. Замеряли глубину реки, твердость грунта, искали наиболее проходимые берега. Разведчики изучали оборону врага, его огневую систему. Экипажи танков настойчиво тренировались в подъемах на кручи.
Последнее было очень важно. Мы знали, что враг будет занимать оборону на крутых скатах и, чтобы достать его, нам придется сходить с дороги и забираться на высоты. Известно было и то, что наши нормативы, в том числе и нормативы максимальной крутизны подъема, были несколько ниже технических возможностей. А насколько ниже? Каков, так сказать, «запас прочности»? Каковы действительные возможности наших машин? Это мы и хотели узнать.
Кроме того, нормативы танкисты знали чисто теоретически: на таком-то грунте танк преодолеет уклон в столько-то градусов, при другом — в столько-то. Но на глаз крутизну определять не умели, а измерять ее в бою некогда. Поэтому на занятиях мы преследовали также цель дать танкистам навыки отличать доступные высоты от недоступных.
Для занятий выбрали гору в тылу нашей обороны. Каждый раз я с замиранием сердца следил за карабкающимся вверх танком. Мотор работал с надрывом, выбиваясь из сил. Заглохни он, и машина покатится назад, закувыркается, ничто уже не спасет ни ее, ни экипаж.
Но вот все задания, разработанные нашим штабом, выполнены. Каждый танк по нескольку раз поднимался на гору и спускался. Преодолены высоты значительно круче нормативных, и мы теперь знаем, что наши Т-34 весьма способные скалолазы.
В подразделениях прошли итоговые разборы. Много времени они не требовали. Во всяком случае, в тех ротах, где были Хромов и я, они закончились, и мы уже давно возвратились в штаб. А Шашло все кет.
— Тимофея Максимовича, видно, медом закормили, — пошутил Хромов, раскуривая трубку. — Совсем от дома отбился.
Как раз в это время скрипнула дверь и вошел начальник политотдела.
— Легок на помине, — смеюсь я. — А мы, откровенно говоря, списывать тебя хотели. — И уже серьезно спрашиваю: — Чего задержался?
— Да видишь ли, разговор получился любопытный, горячий… Как бы это получше сказать?.. В общем, косточки нам промыли. Все люди роты Лукьянова считают, что мы с тобой и Дмитрий Васильевич, — подполковник кивнул на Хромова, — трусы. Не так, конечно, говорили, а смысл такой. «Почему, говорят, заниженные задания нам давали?» И пошли, и пошли. Тут, мол, учеба — экспериментировать можно, а в бою за нынешние промахи кровью придется платить. Ну, а в конце концов выяснилось: просят, чтобы им разрешили подняться на западный склон той самой горушки.
— Да что они, — не выдержал Дмитрий Васильевич. — Там же будет все сорок пять, а то и пятьдесят градусов. А грунт — сплошные камни, гусеницам зацепиться не за что.
— Представьте себе, я то же самое говорил. Только смеются. Так, дескать, предельщики могут рассуждать. И что интересно, ополчились на нас и молодые и опытные танкисты. Так что это не просто юношеский задор.
— Ну, а Лукьянов что? — спросил я.
— Лукьянов молчал. Но, по всему видно, сочувствует ребятам.
Наступила пауза. Первым прервал ее начальник штаба:
— Надо выбрать лучший экипаж. Обычно в таких случаях добровольцев вызывают, а тут, как видно, все добровольцы.
— Какой ты быстрый, — смотрю на Хромова, — уже все решил.
— А что я тебя не знаю, Степан Федорович? Ты же мысли свои скрывать не умеешь. По глазам видно, идея танкистов тебе нравится. Сам уже обдумываешь, как ее лучше выполнить.
Не в силах удержаться от смеха, говорю ему:
— Ты, Дмитрий Васильевич, явно по ошибке в штаб попал. Тебе бы в цирке работать, мысли на расстоянии угадывать… А насчет экипажа, я думаю, лучше всего подойдет тот, где механик-водитель опытнее. Что вы думаете насчет Зайцева?
Шашло кивнул головой:
— Кандидатура подходящая. У Зайцева все есть: и опыт, и мужество, и выдержка…
— И, если хотите, тот самый юношеский задор, — поддержал его Хромов.
— Да, и задор, — согласился подполковник. — Это тоже имеет значение.
— Ну так решено? Дмитрий Васильевич, передай Лукьянову, чтобы готовились. Первым пойдет Зайцев.
Рано утром на следующий день мы были у подножия горы. Я посмотрел на подъем, который танкистам предстояло взять, и, откровенно говоря, заколебался: слишком уж невероятно было, что танк может подняться туда. Триста метров почти отвесных скал! Да, нелегкое предстоит дело. Но отступать все равно поздно.
Захаров хлопотал у своей рокочущей на малом газу машины. Потом подошел к нам, доложил:
— К выполнению задания готов!
— Давай! — махнул я рукой.
Вначале, пока еще подъем был отлогий, танк шел скоро, но постепенно бег его замедлялся. Высота уже двести метров, но и машина ползет еле-еле. Иногда вовсе останавливается, и тогда мы видим, как гусеницы скользят по гладкой поверхности, не находя, за что зацепиться.
Сердце у меня почти останавливается. Я жду, когда танк начнет скользить вниз. А Зайцев чуть прижимает один фрикцион — рывком нельзя: от резкого поворота танк может потерять равновесие — и маленькими, еле заметными для глаза рывками, словно нехотя, машина снова начинает карабкаться вверх.
Один раз она даже скользнула назад, но тут же зацепилась за что-то и опять стала подниматься, и опять так же медленно, как черепаха.
Но вот самый крутой участок кончился. Переход к вершине был более пологим, и танк пошел быстрее. Самое опасное осталось позади.
Сразу наступила реакция. У меня такое впечатление, будто это я сам поднимался на гору. Ноги подкашивались. Хотелось присесть, расслабиться.
Кто-то рядом со мной тоже облегченно вздохнул. Оказывается, не только я так переживал. Поворачиваю голову и не верю своим глазам: рядом стоят генералы Кравченко и Алексеев. Мы были так поглощены происходившим, что не заметили, как они подъехали.
Стараясь загладить свою оплошность, кидаюсь к командарму докладывать. Он машет рукой:
— Не надо, не надо. Сам вижу, чем занимаетесь. Молодцы! А кто механик-водитель?
— Старшина Зайцев, товарищ генерал.
— Замечательно водит!
Подъем продолжался всего восемь минут. А нам казалось, что прошло несколько часов.
Потом начался спуск. Это тоже не легкое дело. Малейшая оплошность — и можно сорваться. Так же неторопливо и робко, как пешеход на льду, иногда забирая чуть вправо или влево, чтобы обойти встретившееся препятствие, машина приближалась к нам. И вот уже она внизу.
Зайцев, раскрасневшийся, весь мокрый от пота, выскочил из люка и побежал ко мне. Увидев генералов, было растерялся, но тут же твердым шагом подошел к Кравченко.
Тот не стал ждать доклада, протянул танкисту руку:
— Товарищ Зайцев, благодарю за хорошую службу! — И тут же спрашивает: —Ну как, старшина, по асфальту легче ездить?
— Легче, товарищ генерал, — ответил довольный похвалой танкист. Рядом с рослым Кравченко он выглядел почти ребенком, школьником.
— А страшно было? Только честно, положа руку на сердце.
Старшина замотал головой:
— Что вы, товарищ генерал. Чего бояться…
7
Большинство танкистов — молодые ребята. О капитализме знают только по книгам да по рассказам. А пришли в Румынию — и увидели его собственными глазами. Мне потом Шашло рассказывал о столкновении людей с буржуазной действительностью.
Калайдаров нес из батальонной кухни два котелка наваристого горохового супа для себя и товарища. Из-за куста навстречу ему выпорхнули детские фигурки в пестрых лохмотьях.
Маленькие оборвыши — девочка и мальчик — были почти одного роста. Оба смуглые, с темно-карими, широко открытыми глазами и черными спутанными волосами.
— Какие же вы худенькие! — удивился Калайдаров. — Есть хотите?
Дети ответили не по-русски. Но их голодные глаза, уставившиеся на котелки, были красноречивее всяких слов.
— Ясно, — сказал танкист. — А ну-ка, садитесь, — и знаками показал на траву.
Усадив ребят, он поставил у ног каждого котелок с супом, хлеб и опять же знаками объяснил, чтобы они кушали, пока он отлучится по делам.
На обратном пути Калайдаров догнал молодого танкиста Черноуха. Вместе подошли к тому месту, где минуту назад сидели двое ребят. Теперь тут был лишь мальчик. Придерживая обеими руками котелок и слегка откинув косматую головку, малыш жадно глотал горячую жидкость.
— Не торопись, дурачок, ешь по-человечески, — ласково говорил Калайдаров, пододвигая к малышу ложку и хлеб.
Тот не обратил внимания. Может быть, не понял.
— Оставь! Разве не видишь, ему сейчас не до этого? — удержал товарища Черноух. — Пусть ест как хочет.
Мальчик выпил жидкость, потом опустил в котелок руку, набрал горсть разваренного гороха и стал запихивать себе в рот.
Танкисты молча переглянулись.
Покончив с супом, малыш показал на хлеб и, вопросительно заглянув Калайдарову в глаза, что-то сказал.
— Бери, бери, — понял танкист, — не стесняйся… Да, а где же девочка? — спохватился он вдруг и стал показывать на место, где она сидела.
Мальчик не понимал.
— Где второй котелок? — спросил он, звякая крышкой о посудину.
Теперь мальчуган сообразил, чего от него хотят, и быстро закивал головой. Что-то проговорив, он указал рукой на домишко, приютившийся вдали между кукурузным полем и кручей.
— Видно, туда девочка твой котелок унесла, — догадался Черноух. — Сюда бы капитана Левашева. Тот по-румынски здорово понимает.
— Черт с ним, с котелком, — махнул рукой Калайдаров. — Пойдем.
Видя, что танкист идти к дому не собирается, малыш схватил его за руку и настойчиво потянул за собой.
— Благородный парнишка, — заметил Черноух. — Он теперь за твой котелок больше болеет, чем ты сам. Ладно, пойдем.
Следуя за мальчиком, танкисты направились к домику. Когда подошли поближе, их, видимо, заметили из окна. Навстречу вышел старый усатый румын, в длинной залатанной самотканой рубахе поверх узких штанов. Из-под густых, свисающих щетками бровей глядели темные тусклые глаза.
— Добрий день, господа офицери советский, — поздоровался он на ломаном русском языке. — Милости прошаю.
Вошли в дом и ужаснулись. Обстановка, как говорят, надо хуже, да некуда. Из мебели — только стол, большой, дощатый, лавки вдоль стен и несколько табуреток. В дальнем от стола углу стояла печь, а между ней и стеной — сплошная постель — нары. И все!
На земляном полу копошилась кучка полуголых детей, один другого меньше. Каждый по очереди заглядывал в давно опустевший армейский котелок и засовывал руку в надежде поймать затерявшуюся крупинку.
— Внуки, — смущаясь, объяснил старик. — Кушать хотят. Спасибо за зуп…
Теперь Калайдаров понял, куда девалась девочка. Воспользовавшись случаем, она решила поделить еду с младшими братьями и сестрами. Но где же она? Ах, вот в чем дело! Она притаилась за спиной женщины, что боязливо смотрит на бойцов из темного угла у нар.
— Не бойся, глупенькая, я тебя не трону, — подошел к ней Калайдаров. — Ты поступила очень правильно.
Старик сказал что-то по-румынски. Девочка вышла, приподняла платьице и сделала книксен.
Калайдаров ласково потрепал ее по головке, обнял за худенькие плечи, и девочка ласково прижалась к солдату.
Вышла из своего угла женщина. Тряпкой вытерла деревянную скамейку и указала на нее танкистам, приглашая сесть.
На темной от копоти стене под самым потолком висела скрипка в футляре. Старик снял ее и, подозвав к себе старшую внучку, заиграл. Девочка запела еще неокрепшим, но дивным голосом. Слова были непонятны. Мелодия нежная и простая. Казалось, что это не девочка поет, а пастушок играет на свирели о богатой, красивой стране и своей несчастной доле.
Умолкла скрипка. Девочка еще раз отвесила поклон с приседанием и опустилась на скамью рядом с матерью. А танкисты не могли прийти в себя, очарованные песней.
— Отец, — обратился наконец Черноух к старику, — как внучку зовут?
— Марианна.
— А где она петь учится? Тут поблизости вроде музыкальной школы не предвидится.
Румын горько усмехнулся: Марианне сначала грамоте надо выучиться. Десятый год пошел, а она еще и алфавита не знает. На учебу деньги нужны. А где их взять? У него есть маленькое поле. Урожая еле-еле хватает, чтобы с долгами рассчитаться. Потом опять надо помещику в ноги кланяться.
— Было плохо, будет еще хуже, — вздохнул румын. — Сам я уж стар, болею. Сноха тоже, какая работница, вон шестеро у нее, за каждым присмотреть надо. А основного кормильца — отца их, — старик кивнул на ребят, — Антонеску на фронт забрал. Там он и погиб…
8
Завтра Первое мая. Я знаю: Красная площадь Москвы оделась в праздничный наряд. Через несколько часов по ней церемониальным маршем пройдут прославленные в боях гвардейские части. В Ленинграде тоже готовятся к параду. А в киевском небе, я уверен, висит серебристый аэростат. Под ним на освещенном мощными прожекторами знамени — Герб Советского Союза. Знамя видно с любой точки города, его видят и моя жена, мои сыновья Володя и Толик. Как бы хорошо сейчас побывать в Киеве!
Я задумался, откинувшись на сиденье. По потолку и стене скользит огромная сломанная черная тень. Поднимается гигантская рука. В ней карандаш. Это Шашло знакомится с планом нашего наступления. Начальник политотдела предлагает дельные коррективы.
Майор Хромов смотрит на карту внимательно, как часовщик, разглядывающий через лупу мельчайшие детали механизма.
— Пожалуй, ты прав, — соглашается он. — Пехота и у монастыря будет нуждаться в нашей поддержке.
Бросаю взгляд на карту Хромова. Два-три синих овала, условно обозначающих вражеские опорные пункты, и столько же острых красных стрел — направлений наших ударов.
Опять обуревают мысли. В шесть часов утра, когда Левитан начнет читать первомайский приказ Верховного Главнокомандующего, мы уже будем далеко, на пути к Яссам. В этом не сомневаюсь. Но в город придут не все. Кто-то завтра в последний раз увидит майское небо…
И как сложится бой? Успеет ли вовремя обещанная командиром корпуса помощь — танковый батальон? Если бы немцы не разрушили железную дорогу, он уже давно был бы здесь. А то пришлось выгружаться на станции Христиновка и идти своим ходом. Это конец не маленький — километров триста напрямик. Батальон меня особенно волнует потому, что командует им, как мне сказал генерал Алексеев, Юра Метельский. Очень приятно снова увидеть его…
На рассвете через Жижию переправляются первые танки. Река небольшая, но быстрая, и дно неровное. Идти приходится медленно, осторожно. Тут же попадаем под артиллерийский огонь. Впереди — высоты. У противника очень выгодная позиция. Он наблюдает за нами, а мы его не видим.
В довершение всего появляется воздушный разведчик. Прошло минут пять, прилетели бомбардировщики. Не успели отбомбиться, из-за гор вышла новая группа. Бомбы переворачивали землю, падали в реку, поднимая к небу водяные столбы. А в Москве, Ленинграде, Киеве, в недавно освобожденном Дворце люди просыпаются с улыбками, глядят в окна: не будет ли дождя, не испортит ли он праздника? Не беспокойтесь, дорогие товарищи! Солнце всходит. Всходит на востоке, над нашей освобожденной землей!
Появляются краснозвездные истребители. Наконец-то! На сердце стало легче. К тому же заговорила наша артиллерия, стремясь подавить противотанковые огневые точки противника. Все же огонь фашистов еще силен.
Начальник разведки докладывает: стрелковые части перешли реку, сбили передовые отряды противника, продвинулись метров на пятьсот, теперь вынуждены залечь. Просят помощи.
— Пришли-ка ко мне трех саперов от переправы, — говорю ему. — Дороги надо разминировать. А пехоте скажи — скоро поможем.
Минут через десять подбегают трое со щупами, кошками, веревками и разными другими приспособлениями.
— Хлопцы, — говорю им, — сегодня Первое мая. Неужели в такой день подкачаем?
— Товарищ гвардии полковник, дорога будет разминирована! — торжественно, с пафосом заявляет старший группы комсомолец Савельев. — Первомайский приказ выполним!
Припадая к земле, а то и вовсе ложась, когда снаряды рвались слишком уж близко, саперы побежали к минному полю. Скоро они и вовсе скрылись из виду. А через час опять прибегает Савельев, зажимая ладонью рану на щеке, докладывает:
— Товарищ полковник, дорога разминирована. Погиб красноармеец Марков.
«Еще один человек никогда больше не будет праздновать Первое мая», — подумал я.
— Вы ранены?
Савельев машет рукой:
— Пустяки. Малюсенький осколок через щеку в рот попал. Выплюнул, и все…
Через Жижию переправилась вся бригада. Жаль, что все еще нет нового батальона. Но времени терять нельзя. У переправы Метельского подождет Шашло. А нам пора двигаться.
Трогаемся. Вначале идем по дороге. Огонь врага уже не такой сильный. Удары нашей авиации и артиллерии сделали свое дело.
На подъеме разворачиваемся в боевой порядок. Обгоняем пехоту. Она поднимается, бежит за танками.
С ходу овладеваем высотой. Пехота занимает еще две соседние. Наш правофланговый батальон громит артиллерийскую батарею. Путь на деревню Вултуру открыт! Врываемся на ее северную окраину. Но дальше пройти невозможно. Снова появляются эскадрильи бомбардировщиков. Вокруг нас земля ходит ходуном. Одна бомба падает совсем рядом, моя машина вздрагивает и начинает гореть. Мы успеваем выскочить. Пересаживаюсь на другую.
Двенадцать часов. Сейчас по Красной площади столицы движутся праздничные колонны трудящихся… А мы… Мы уже потеряли четыре танка. Десять человек убито, шесть — ранено.
У нас слишком мало сил. И почему так долго нет Метельского? По деревне проходит оборонительный рубеж противника. У него здесь танки, много противотанковых средств.
Но вот в наушниках голос начальника политотдела. Он чуть слышен:
— Я — пятнадцатый, пятнадцатый. Вызываю одиннадцатого, одиннадцатого.
— Одиннадцатый слушает, — отвечаю. Треск. Писк… — Слушаю, одиннадцатый.
Что он доложит? Может, Метельского по пути разбомбили?
— Хлопцы сено привезли. Куда его?
Тревога уступает место радостному волнению.
— Давай скорей сюда! Коням есть нечего…
9
Немецко-фашистское командование перестало доверять румынам. Начало разбавлять союзные войска своими. Румынские корпуса подчиняли немецким командирам, в состав их включали немецкие дивизии. Но это не помогало. Румынские солдаты и офицеры все чаще сдавались, переходили на нашу сторону.
Как-то бригадные разведчики привели пленного. Его задержали вблизи наших замаскированных танков.
— Спросите, кто он, из какой части, — обращаюсь к капитану Левашеву.
На вид румыну лет тридцать пять. Среднего роста, в плечах широк. Держался спокойно, на вопросы отвечал охотно.
Сообщил, что он солдат группы румынских войск «Веллер». Сам из Плоешти. До войны работал счетоводом на заводе нефтяного оборудования. Жена умерла. Детей двое, сейчас живут в деревне у родных.
— С каким заданием шел в разведку?
Левашев перевел мой вопрос. Румын отрицательно покачал головой.
— Задания не имел. Шел к русским сдаваться. Надоело воевать за Гитлера.
— Чем подтвердит это?
Пожал плечами:
— Доказательств нет. Господин офицер вправе не верить и поступать со мной, как считает нужным.
Я посмотрел на Левашева:
— Не думает ли он одурачить нас?
— Черт его знает. Говорит вроде искренне, а в душу к нему не залезешь.
На столе лежит большой клеенчатый бумажник, отобранный у пленного при обыске. В нем два письма, две фотографии. С письмами знакомится Левашев. Я рассматриваю карточки. На одной из них женщина, на другой — группа румынских солдат с застывшими, постными лицами, а посредине улыбающийся немецкий генерал в эсэсовской форме. Справа, рядом с генералом, узнаю нашего пленного.
— Нашли что-нибудь интересное? — спрашиваю капитана.
— Да, кое-что есть. Любопытно письмо женщины, по-видимому близкой ему. Вот, пожалуйста, — придвинувшись поближе к огню, Левашев переводит:
«Третьего дня в Плоешти опять расстреляли восемь человек. Нас согнали смотреть это ужасное зрелище. Мы плачем, а нам говорят: „Всех, кто будет сочувствовать русским, ждет такая же участь“. Особенно было жаль двух девушек и паренька. Такие молоденькие, а боевые. Когда их выстроили у ямы, они запели „Интернационал“. Между прочим, расстреливали наши солдаты, а наблюдали „хозяева“ (так мы про себя немцев зовем). Они теперь ничего румынам не доверяют…».
Капитан умолк, пробежал глазами конец письма, заметил:
— Дальше личное, неинтересное. — Помолчав, добавил: — По-моему, товарищ гвардии полковник, это не подделка.
— Как же тогда цензура его пропустила? — усомнился я.
Левашев спросил румына. Тот объяснил, что письмо не почтой прислано. Привез его знакомый солдат, лечившийся в плоештинском госпитале.
— Он-то и надоумил меня идти к вам, — сообщил пленный. — Вместе условились, но вчера его арестовали. Видно, гестапо о чем-то пронюхало. Я не стал ждать, когда схватят меня, и воспользовался темнотой, чтобы бежать.
— Все это звучит правдоподобно, — согласился я. — Но все же спросите, почему он фотографировался с гитлеровским генералом? И что это за генерал?
Пленный, взяв в руки карточку, сказал:
— Нас не спрашивали, желаем ли мы сниматься с генералом. Фотограф отобрал нескольких солдат и щелкнул. Потом снимок напечатали в газетах: вот, мол, смотрите, какая в армии дружба между немцами и румынами. Нам тоже прислали по снимку.
— А генерал этот — немецкий барон, наш командир дивизии, — после небольшой паузы продолжал румын. — Очень жестокий человек. Однажды румынские солдаты выразили недовольство плохим питанием. Паек наш значительно меньше, чем немецкого солдата, и хуже качеством. Так командир дивизии приказал нашему полковому командиру в наказание послать роту на минное поле. Тот отказался выполнить такой приказ. Генерал сначала избил его, потом застрелил. А когда поведением эсэсовца возмутились офицеры, было расстреляно еще шестнадцать человек.
— Почему же вы носите в кармане фотографию человека, которого, судя по вашим словам, ненавидите? — спросил Левашев.
Румын невесело улыбнулся:
— Я бы рад уничтожить ее. Да не так это просто. У нас в части много фискалов. Чуть что — сразу донесут. А там военный трибунал и расстрел за неуважение к союзному генералу…
10
Дальше Вултуры продвинуться не удается. Только несем потери.
Получаю приказ: у деревни оставить заслон, а самим сдвинуться к Ароняну. Оттуда наступать совместно с 18-й стрелковой дивизией и 6-й мотомеханизированной бригадой.
Перегруппировку совершили в ночное время незаметно для противника. Поэтому наш начальный удар оказался неожиданным. Первые опорные пункты врага заняли сравнительно быстро. А дальше пришлось остановиться. Высоты, прикрывающие Ароняну с севера, оказались сильно укрепленными и достаточно крутыми. Здесь пока будешь карабкаться, враг все танки перестреляет. Без танков одна пехота тоже подняться не смогла.
— А что, если попытаться обойти Ароняну горными тропами? — спрашиваю Хромова и Шашло. — Как думаете?
Те нагнулись над картой. Дмитрий Васильевич, зажав в кулаке трубку, говорит:
— Без проводника тут заблудишься.
— За проводником дело не станет, — отвечаю ему. — Ну-ка, срочно вызывайте Калайдарова и Черноуха.
Танкисты не заставили себя долго ждать. Говорю им:
— Хлопцы, садитесь на мою машину и мигом доставьте сюда деда-скрипача.
Ребята переглянулись.
— В случае чего, что сказать ему?
— Особо не разглагольствуйте, — предупреждаю их. — Скажите: командир, мол, просит, хочет с ним посоветоваться.
Двух часов не прошло, «виллис» возвращается. Старик вылезает из него, кланяется нам.
Я подхожу к нему, здороваюсь. Прямо спрашиваю, не знает ли он, как пройти к Ароняну, минуя эти высоты.
— Если я правильно вас понял, — говорит старик, — вы хотели бы выйти к селу с юга?
— Совершенно верно!
Румын на минуту задумался, глядя на подернутые дымкой горы. Потом повернулся ко мне:
— Тропинок несколько. Но лучше всего вам подойдет та, по которой наши в Яссы ходят. Она как раз пересекает дорогу позади Ароняну.
— Вы ее знаете?
— Кто ее не знает. Все ходят в Яссы по ней — так ближе, — объясняет старик. Тут же спохватывается: — Только сейчас вам не пройти. На перевале немцев много с пулеметами.
— А пушек, не знаете, нет там?
— Зачем им пушки? — Собеседник снисходительно улыбается моей непонятливости: — На подъеме только пулеметы и нужны.
— Ну что ж, очень хорошо, — радостно говорю ему, — по-моему, это как раз то, что нам надо. Садитесь в мой танк, дорогу покажете.
Старый румын недоверчиво смотрит на меня:
— Хотите туда на танках подняться?! Но это невозможно. И человек-то не каждый пройдет.
— Наш танк особенный, — пытаюсь его подбодрить.
Не верит. Считает: танкистов там ждет смерть. У него подергиваются щеки. Говорит, что дома больная сноха осталась, куча маленьких внуков.
— Нам, отец, тоже умирать не хочется, — не выдерживает Шашло. — Не волнуйтесь, все будет хорошо.
Старик отводит глаза.
— Ладно, поеду, — соглашается он. — Только знайте, все погибнем…
Решаем так: в обход направится все, что осталось от роты Лукьянова. Я пойду тоже. С оставшимися подразделениями, среди которых самое полнокровное — батальон Метельского, будет Шашло…
И вот шесть «тридцатьчетверок», цепляясь за невидимые выступы, медленно, метр за метром, поднимаются вверх. Противник, занятый батальоном Метельского и беспрерывными атаками пехоты, не замечает нас. Благополучно поднимаемся на вершину и скрываемся в лесной чаще.
Вызываю Шашло. Он докладывает, что их контратаковали танки противника. Метельский тяжело ранен… Связь прерывается. Уже после я узнал, что во время нашего разговора второй вражеский снаряд попал в машину командира батальона, на которой был Шашло. Подполковник выскакивает из пылающего танка, на ходу тушит загоревшийся на нем комбинезон…
Танки Лукьянова, используя лощины и вытянувшись цепочкой, направились к Ароняну. При подходе развернулись в линию и, на ходу стреляя, ворвались в деревню. Эффект удара необыкновенный. Немцы, не поняв, в чем дело, начали метаться. Артиллеристы бросили пушки и пустились наутек. Мы догоняли их, давили гусеницами, расстреливали из пулеметов. Воспользовавшись замешательством врага, в атаку бросается пехота, поддержанная подразделениями Шашло.
Ароняну взят. До Ясс остается всего шесть километров.
Старый румын вылез из танка. Вытирая раскрасневшееся мокрое от пота лицо высокой овчинной шапкой, торжествующе говорит:
— Никогда бы не подумал. Русские солдаты чудодеи! — И вдруг спрашивает: — Но почему мы остановились? Я знаю тропинку к Яссам…
11
Бригада довольно глубоко вклинилась в оборону противника. На флангах ее нависли крупные немецкие силы.
Противник беспрерывно контратакует. И без того сильно обескровленные, мы несем новые потери. Шашло лично следит за ремонтом вышедших из строя машин. Но ведь сгоревших танков не восстановишь, погибших танкистов в строй не вернешь.
По радио вызывает генерал Кравченко:
— Как дела, Степан Федорович?
Докладываю, что трудно.
— Ничего, держись, — заявляет он. — Тебе не привыкать.
К полудню следующего дня положение ухудшилось. Вражеские танки прорвались на правом фланге, отрезав в болотистом лесу пять «тридцатьчетверок» и группу автоматчиков капитана Минчина. Связь с ними прервалась.
Позже нам попался любопытный документ. Не берусь судить, заблуждался ли офицер, писавший его, или просто хотел набить себе цену, но он докладывал своему начальнику, что окружил всю нашу часть, ни больше ни меньше. Он сообщал:
«Нам удалось окружить 20-ю русскую гвардейскую танковую бригаду из армии генерала Кравченко. Известно, что эта бригада воевала под Сталинградом, Курском, Киевом, Корсунь-Шевченковским. Считаю крайне необходимым воспользоваться моментом для поднятия духа у наших танкистов. Они должны убедиться в том, что мы еще в силах окружать и уничтожать части противника. Прошу Вашего приказа об оказании мне помощи».
Тяжело пришлось пяти нашим экипажам и двадцати автоматчикам, оставшимся в окружении. Ночью в освещенном вражескими ракетами лесу парторг батальона лейтенант Куценко созвал партийно-комсомольское собрание. Капитан Минчин рассказал о положении дел. Он не стал приукрашивать действительность. Да, обстановка трудная: два танка из пяти неисправны, из сорока человек — вместе с танкистами — три тяжелораненых, шесть — легкораненых, боеприпасов мало, продуктов — всего двадцать четыре сухаря.
— Но есть и положительное, — заканчивает доклад капитан, — враг нас боится. Видите, разведку посылает, а сам сунуться не решается. Это уже хорошо! Ну и наши, конечно, помогут нам.
— Какие будут вопросы?
Ответом парторгу — тишина.
— Предложения?
— Есть, — отзывается из темноты молодой голос. — Надо связаться с командованием бригады и заверить, что будем драться до последнего вздоха.
— Чепуха! — возражает другой голос. — Командование бригады и так знает, что мы не подкачаем и ни при каких обстоятельствах не сдадимся.
— Правильно, — соглашается парторг Куценко. — Коммунисты и комсомольцы до конца останутся верными Родине и будут в бою служить примером. Мы все, как один, выполним свой долг. Есть предложение перейти ко второму вопросу — приему в партию.
Возражений нет. Лейтенант Куценко зачитывает заявление Свидорчука, рекомендации.
— Все знают Свидорчука?
Кто его не знает? Старый буденновец, хороший товарищ. В бою смел. Машину разбили, он с автоматом воюет. Свидорчука единогласно принимают кандидатом в члены партии.
После собрания небольшая группа автоматчиков, которую возглавляет молодой коммунист Свидорчук, делает вылазку. Тихо подкравшись к подбитым немецким танкам, бойцы снимают два пулемета, захватывают патроны и благополучно возвращаются.
Капитан Минчин пожимает руку Прокопу Прокоповичу:
— Очень кстати. Благодарю за хорошую службу.
Пожилой солдат откашливается. На его лице выражение спокойного достоинства.
— Служу Советскому Союзу, — отчеканивает он каждое слово…
Ветер разгоняет тучи, на горизонте появляется ярко-оранжевая полоска. На рассвете потянул ветерок, стало сыро, прохладно.
Под одной плащ-палаткой съежились Свидорчук и рядовой Махотин — пожилой кубанский колхозник с насмешливыми глазами на скуластом, обросшем бронзовой щетиной лице. Вертятся с боку на бок, толкают друг друга. Наконец Махотин тяжело вздыхает и, чувствуя, что засыпать уже все равно поздно, обращается к товарищу:
— Спишь, что ли, Прокоп?
— С тобой разве уснешь, все бока протолкал.
— Ничего, нам, видать, скоро накрепко заснуть придется. Переживем ли нынче, неизвестно.
— С такими мыслями тебе, Андрей, дома на печке сидеть, а не воевать, — рассердился Свидорчук. — Подумаешь, фрицев испугался. Мало мы их били!
Махотин привстал на локте:
— Брось ты свою агитацию. Меня уговаривать не надо, я и так назад не побегу. Увидишь, помирать буду головой к противнику. Понял? Не люблю я этого, когда меня за маленького принимают. — Немного успокоившись, продолжал: — Вот ты на Берлин собирался идти…
— И приду в Берлин, — резко перебил товарища Свидорчук, — обязательно приду. Ну, окружили нас, что из этого? Фашистам ничто уже не поможет. Или сами пробьемся, или наши выручат. А что до Берлина, так посмотри, Андрей, на военные карты и увидишь ты на них красные стрелы. Нацелены они куда? На запад, на Берлин. Подполковник Шашло говорил: два раза русские приходили в Берлин, придут и в третий. Знаешь присказку: бог троицу любит! И вот придем мы в Берлин, Гитлера прикончим и скажем: «А ну, кто еще охотник до нашего добра?»
Махотин оживился:
— А думаешь после войны будут такие желающие?
— Почему не быть? Капиталисты же пока еще останутся. Они страсть какие жадные. Только и капиталисты, пожалуй, побоятся. А пойдут войной — крышка им!
Мимо автоматчиков проходит Куценко. Он и в трудной обстановке не забыл побриться.
— О чем разговор, товарищи? — подсаживается парторг к солдатам.
Махотин краснеет, смотрит на Свидорчука. Тот понимающе наклоняет голову:
— Мы тут, товарищ лейтенант, о Берлине толкуем. Дважды русские брали его. Думаем, возьмут и в третий раз.
— Обязательно возьмем, — уверенно говорит Куценко.
Он хотел еще что-то сказать, но над лесом нависает надрывный гул самолетов. Они наугад строчат из пулеметов, наугад сбрасывают бомбы.
— По местам! — командует Куценко.
Включается артиллерия противника. Снаряды корежат деревья. Над головами людей со свистом проносятся осколки.
— Они хотят нас похоронить в лесу, — высказывает догадку Свидорчук. — Помню, под Житомиром, когда Буденный…
Махотин обрывает друга иронической улыбкой. Свидорчук смущается, отводит глаза в сторону.
В двадцати шагах от них загорается танк. Бойцы бросаются к нему, с риском для жизни помогают танкистам спасти снаряды и патроны. Боеприпасы нужны другим машинам.
Немного времени проходит, и снова появляются самолеты. Визжат бомбы, рушатся деревья, высоко вверх подымается земля.
Когда улетают, бойцы осматриваются. Там, где стояла палатка с тяжелоранеными, образовалась глубокая воронка. Тяжело ранен командир взвода автоматчиков младший лейтенант Королев.
— Свидорчук… — с трудом говорит он, — взводом командовать будете вы, — и падает.
Лейтенанту Куценко перевязывают ногу. Кровь пробивается сквозь толстый слой ваты и марли. Его уносят в глубокую щель под днище подбитого танка.
Свидорчук докладывает капитану Минчину о потерях автоматчиков:
— Два убитых, три тяжелораненых.
— Надо внимательно следить за противником, — советует капитан. — Полагаю, скоро на нас навалятся танки и пехота.
Бомбовые удары и артиллерийский обстрел чередуются до полудня. Потом наступает затишье.
— Не люблю тишину на фронте, — заявляет Махотин. — Так и жди какой-нибудь пакости.
Действительно, слышится нарастающий гул моторов. Как тараканы, ползут широкие приземистые немецкие танки. На них — автоматчики.
Три железных чудовища подходят поближе к лесу, останавливаются. На одном из них открывается верхний люк. Осторожно выглядывает танкист. Так же робко черепаха высовывает из своего панциря крошечную голову.
— Без приказа не стрелять! — предупреждает Минчин.
Подходят еще шесть танков. В лес войти боятся, открывают огонь наугад.
Теперь можно ударить. Почти в упор четыре «тридцатьчетверки» бьют болванками. Еще, еще. Пулеметы сбивают с брони десантников.
У врага хаос. Два танка сталкиваются и от удара взрываются. Бой короткий, но урон для немцев чувствительный: три подбитые машины, две сгоревшие и еще три искореженные взрывам…
Пять суток горстка танкистов и автоматчиков отбивалась от превосходящего противника. Одиннадцать бомбовых ударов, десятки массированных налетов артиллерии и столько же атак танков и пехоты.
Из пяти «тридцатьчетверок» остались только две, из сорока человек — семнадцать, считая и раненых — капитана Минчина, автоматчика Махотина, которому взрывом оторвало руку.
На шестые сутки с помощью полка самоходных орудий полковника Головина нам удалось разорвать кольцо окружения и вызволить полуживых от усталости и голода героев.
12
— Правду говорят: близок локоть, а не укусишь, — показываю я на виднеющиеся вдали окраинные домики Ясс. — Прямо удивительно, с каким упорством держатся немцы.
— Ничего удивительного, — отвечает Шашло. — Город, по сути дела, прикрывает вход в Румынию. Потеря его для немцев равносильна потере всей страны. — Начальник политотдела вопросительно поглядел на меня: — Ты понимаешь, что будет означать выход из войны Румынии?
— По-моему, с этого начнется развал фашистского блока.
— Совершенно верно. Германия потеряет остатки престижа у своих союзников. А они и без того воюют сейчас из-под палки…
И действительно, немцы оборонялись с фанатичным упорством. Больше того, во второй половине мая они даже провели несколько контратак, рассчитывая отбросить советские войска за Прут. Четырнадцатидневные бои им, однако, ничего не дали.
Бригада в этих боях не участвовала. В предвидении нового наступления ее отвели на укомплектование.
После фронтового шума и грохота для нас наступили более или менее спокойные дни, хотя и теперь для отдыха времени не было. Много забот требовало приведение в порядок техники, получение и осваивание новых машин. Но особенно трудоемкой оказалась подготовка пополнения.
Познакомившись с новичками, мы сразу поняли, что в резервных частях времени даром не тратят. За короткое время бойцов там познакомили с танками, научили сносно водить и стрелять. Но и нам предстояло сделать немало. Помимо углубления имевшихся у молодых танкистов знаний и навыков, следовало обучить их действию в составе взвода, роты, батальона, взаимодействию с пехотой, артиллерией, авиацией. Словом, занятия шли с большим напряжением.
Но это еще не все. Бойцов нового пополнения готовили к боям морально, психологически. Контроль и руководство этим взяли на себя политотдел и политработники подразделений. Каждый вечер выступали бывалые воины, знакомя новичков с боевым путем и традициями бригады, рассказывая о подвигах танкистов-героев.
Мы считали, что особенно важно подготовить молодого бойца к первому бою, к первому испытанию всех физических и моральных сил. Фронтовики специально выступали с воспоминаниями о своем первом бое, рассказывали о своих ощущениях, переживаниях. Все это позволяло новичку правильно понять, что храбрость — это прежде всего умение подчинять свою волю, побороть страх.
У наших солдат и офицеров очень быстро завязались дружеские отношения с населением. Румыны охотно посещали концерты красноармейской художественной самодеятельности. В свою очередь бойцы с удовольствием слушали задушевные румынские песни.
Как-то в село, где стоял штаб бригады, пришла румынка с воспаленными от слез глазами. Оказывается, рискуя жизнью, она пробралась из Ясс. За сочувствие русским ее мужа и сына арестовали гестаповцы. Недавно она узнала, что оба умерли в концентрационном лагере.
По нашей просьбе эта румынка выступила на митинге личного состава бригады.
— Дети, — обратилась она к танкистам. — Гитлер принес румынскому народу голод и войну, вы же несете нам мир. За это большое спасибо! Мы вас просим — быстрее освободите Румынию от фашизма!..
13
Машина скачет по ухабам, делает резкие повороты, а Хромову море по колено. Он сам себе дирижирует руками, комично закатывает глаза и поет:
Я цыганский барон, пам, пам, па-па, па-па…Мы с Тимофеем Максимовичем переглядываемся: что случилось с нашим майором? Может, «перебрал» малость? Хотя это на него не похоже. Притом на совещании у командующего Хромов все время сидел с нами.
Проезжаем «хозяйство» подполковника Иванникова. Его часть будет действовать с нами.
Завтра, 20 августа, выступаем. Три общевойсковые армии и наша 6-я танковая наносят удар по немецко-румынской группировке северо-западнее Ясс. Наступаем в направлении Яссы — Васлуй — Фэлчиу. После прорыва обороны танковым и механизированным соединениям предстоит быстрым маневром окружить вражескую группировку, а затем развивать наступление в глубь Румынии. 6-я танковая будет наносить удар через Фокшанские ворота.
Начальник штаба прерывает мои мысли:
…Я цыганский барон, Был в цыганку влюблен, Пам, пам, па-па, па-па, Пам, пам, па-па, па-па.На днях Дмитрий Васильевич получил письмо и фотографию из куйбышевского детдома. Директор сообщил, что «Александру Дмитриевичу Хромову скоро исполнится три года. Он переболел коклюшем. Сейчас ходит в синяках, так как большой драчун».
Может, воспоминания о приемном сыне и подняли настроение Хромова?
Я цыганский барон…Он обрывает самого себя. В голосе необычный пафос:
— Да, товарищи! Наша авиация произвела перспективную аэрофотосъемку всех маршрутов танковых соединений в глубине обороны противника! Здорово, а? Подумайте, как далеко мы шагнули!.. И какая силища у нас! На главном направлении по технике мы превосходим противника в шесть раз. Понимаете, в шесть раз! — И тут же, не останавливаясь:
Я цыганский барон…Мы переглянулись с Тимофеем Максимовичем и подхватили:
Был в цыганку влюблен…Сержант, шофер, надул щеки и, подражая трубачу, шумно запыхтел:
Пам, пам, па-па, па-па…Возвращаемся в бригаду. По возбужденным лицам танкистов вижу: что-то произошло.
Действительно, дежурный офицер докладывает, что в наше отсутствие противник высаживал небольшую группу парашютистов. В облаве на них участвовало вместе с войсками и население. Все лазутчики пойманы.
На допросе пленных выяснилось, что кроме других задач они должны были установить месторасположение 20-й танковой бригады.
Это сообщение любопытно! Враг потерял соприкосновение с нами и теперь нервничал.
27-я и 52-я армии, хорошо поддержанные авиацией, прорвали долговременную оборону противника. Танковые соединения вошли в прорыв и рванули на юг. На отдельных рубежах встречали сопротивление, приходилось опасаться и засад.
Вблизи железнодорожной станции Тыргу-Фрумос передовой наш отряд наткнулся на хорошо замаскированную засаду. В течение пяти-шести минут потерял четыре танка. Это, разумеется, не могло остановить наступления. Станцию мы взяли, но дорогой ценой.
Спустилась ночь. Разведка обнаружила поблизости скопление более ста танков противника. Это оказался его резерв — танковая дивизия.
Ждать утра нельзя. Надо использовать момент внезапности. На огневой рубеж выходит полк самоходной артиллерии и танковый батальон «тридцатьчетверок».
Два-три залпа, и несколько вражеских танков запылало. Пламя осветило местность, теперь противник словно на ладони. Земля содрогается от сплошного орудийного гула.
Враг ошарашен нашей дерзостью, парализован страхом. В его лагере паника. Немцы-танкисты и румыны-десантники разбегаются. Несколько человек, потеряв ориентировку, попадают к нам.
Утром подсчитываем трофеи. Победа потрясающая, неожиданная. С волнением докладываю командиру корпуса:
— Сожжено двенадцать вражеских танков. Нам достались сто шесть совершенно исправных.
Генерал хочет казаться спокойным, но у него тоже голос дрожит от возбуждения:
— Впереди еще одна укрепленная позиция. Нельзя дать врагу закрепиться на ней. Ваша атака должна быть стремительной, опережающей. Только, пожалуйста, не зарывайтесь!
Войска левого фланга нашей ударной группы уже овладели Яссами. Наш корпус и соединения 27-й армии освободили город Тыргу-Фрумос и вышли на оперативный простор. Танковые части, хлынувшие в образовавшиеся широкие бреши, перехватили важные коммуникации противника, стали громить его тылы.
Бригада только что заняла железнодорожную станцию Тудирешти, когда подъехал командующий бронетанковыми войсками 2-го Украинского фронта генерал-полковник Куркин.
— Поздравляю с успехом, — пожимая нам руки, сказал он. Потом достал из полевой сумки карту, развернул ее, начал водить карандашом, показывая пункты, которых достигли войска на других участках. Нам он поставил задачу наступать через горы в направлении Бырлад и к утру 24 августа овладеть важным узлом дорог Васлуй.
В заключение заметил:
— Друзья, надо скорее идти на юг. Нельзя допустить отхода шестой вражеской армии.
Выступили мы той же ночью. Двигались через горы, каждую минуту рискуя сорваться в пропасть.
Неожиданно колонна останавливается. Командир передового батальона Симаков передает по радио:
— Сбились с дороги. Впереди препятствие.
Подхожу к головной машине. Темнота. Людей узнаю только по голосам.
— Мы там, у большого валуна, от пути уклонились, — говорит младший лейтенант Ахметов. — Надо было взять правее.
Лучом фонарика освещаю расщелину. Ширина — метра два с половиной — три, а глубина — дна не видно.
— Эту штуку можно в два счета перепрыгнуть, — заявляет механик-водитель Млинченко.
Перепрыгнуть? В темноте? А если впереди дорога вообще окажется непроходимой? Высказываю свои сомнения.
— Что же делать? — спрашивает тот же Млинченко. — Все равно назад не развернешься, ущелье узкое.
— Если и сумеем возвратиться на дорогу, времени много потеряем, — поддерживает танкиста подошедший Шашло. — Наступит рассвет — потеряем союзника — внезапность.
Я и сам понимаю, что другого выхода нет.
— Хорошо, — говорю. — Будем прыгать!
Передний танк отходит немного назад, делает разгон и довольно легко проскакивает над пропастью. За ним следует второй, третий… И вот уже мы снова в пути.
Километров через пять выходим как раз на ту дорогу, по которой должны были идти. Даже выигрываем время за счет того, что шли напрямик, минуя объезды.
Разрывая утренний туман, спускаемся в долину Бечешти-Васлуй. Навстречу шагает румын. Глядит на нас, словно на выходцев с другой планеты.
— Вы прошли через горы? — удивляется он. — Не может быть, по той дороге днем лошадь с трудом проходит. Не может быть!
14
В двадцати километрах от Васлуя останавливаемся на заправку. На «виллисе» со стороны города к нам подъезжает полковник Головин, командир части самоходных установок. Он вырвался вперед, полагая, что Васлуй уже в руках советских войск, да нарвался на немца.
— Еду. Смотрю, навстречу мчится легковая, рассказывает полковник усмехаясь. — Подъезжает ближе — в ней, вижу, немецкий офицер. Ну, конечно, мы оба развернулись и дали стрекача. Он — обратно в Васлуй, я — сюда.
— Далеко это было? — спрашиваю.
— Да километров десять отсюда.
Значит, на ближайших десяти километрах засад не предвидится. Сажусь на «виллис» и несусь впереди бригады.
Уже вблизи от Васлуя встречаем подводу. На ней семь румынских солдат и офицер. Офицер спрыгивает, бежит ко мне, козыряет.
— Мы к вам, в плен.
— Сдать оружие! — приказываю.
Румын отдает моему шоферу пистолет. Солдаты складывают в машину винтовки. Людей лишних, чтобы конвоировать пленных, нет. Даю им записку, объясняю, как проехать в тыл бригады. Оттуда их отправят в корпус.
— Господин полковник, мой долг предупредить вас, — заявляет румынский офицер.
— В чем дело?
— Немцы ожидают вас и готовят танковую контратаку.
— Много у них танков?
Румынский офицер пожимает плечами:
— Боюсь ввести вас в заблуждение. Во всяком случае, не мало.
— Благодарю.
Действительно, со стороны Васлуя слышен нарастающий гул моторов. Приказываю своим развернуться, встретить вражеские танки огнем из-за укрытий, потом атаковать.
Вражеские бронированные чудовища уже показались. Они идут, покачиваясь, словно лодки на волне. Метрах в восьмистах от нас начинают рассредоточиваться по фронту и стрелять.
Значит, заметили. Мы пока молчим. Подпускаем до полкилометра и тогда только даем несколько залпов. Нам помогают подоспевшие артиллеристы 6-й механизированной бригады.
Противник отступает, оставляя с десяток горящих машин. Наши батальоны устремляются за ним. При подходе к городу тоже попадают под сильный огонь, теряют несколько танков и отходят. До наступления темноты пробиться в город мы так и не смогли.
На следующее утро бой разгорается с новой силой, но теперь нам легче. Подтянулись соседи, атакуем город с разных сторон.
Обедаем в Васлуе.
В тот же день в васлуйском городском парке идет совещание командиров и начальников штабов танковых частей. Его созвал генерал-лейтенант А. Г. Кравченко. Рядом с ним сидит командующий 2-м Украинским фронтом генерал армии Р.Я. Малиновский, член Военного совета генерал-лейтенант И.3. Сусайков, командующий бронетанковыми войсками фронта генерал-полковник Куркин и командир нашего корпуса генерал-лейтенант Алексеев.
Командующий армией сообщает радостную весть. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов соединились у реки Прут в районе Леово — Хуши и замкнули кольцо окружения кишиневской группировки противника. Накануне пало румынское фашистское правительство Антонеску. В связи с этим возникла благоприятная обстановка для стремительного наступления 6-й танковой армии на юго-запад, в направлении Бухареста и Плоешти…
После совещания меня и Хромова подзывает к себе генерал Алексеев.
— Как настроение людей? Устали танкисты? — ставит он вопрос напрямик.
— Устали, товарищ генерал, — тоже откровенно отвечаю ему. — Но приказ выполним.
— Обязательно, — подтверждает Хромов. — Люди прямо рвутся в бой.
— Имейте в виду, по пути на Бырлад предстоят серьезные бои. Будьте внимательны, — предупреждает генерал на прощание.
Пятидесятикилометровый марш совершаем ночью. Механики-водители сидят за рычагами и борются со сном. Отсыпаться некогда. Ночное время упускать нельзя. Ночью меньше вероятности попасть под удар авиации, нарваться на фаустпатронщиков, да и танковые, артиллерийские засады не так опасны — прицельной стрельбы вести не могут.
Шли на большой скорости. Наталкивались на засады. Враг яростно обстреливал. Не останавливаясь, мы давали по нескольку залпов и двигались дальше. Чем ближе к Бырладу, тем сильнее огрызаются фашисты.
У самого города, когда уже стало светать, попадаем под бомбежку. Особенно досталось взводу Москвина. Но потери небольшие — танкисты уже приноровились. Во-первых, при налетах рассредоточивались, а в один танк бомбой попасть не просто. Во-вторых, научились маневрировать. Только подлетает самолет — танк остановится и ждет. А оторвется бомба — он делает рывок. Разрыв происходит сзади или в стороне.
Я смотрю, как действует взвод, сам командир, и не могу нарадоваться. Как растут люди! Игорь Москвин пришел к нам недавно, в январе. Пришел из школы молодым, необстрелянным. Невольно вспоминаю, как тяжело он перенес тогда первую бомбежку. Принялся бегать, метаться по полю, забыв все на свете. Теперь он лейтенант, стал командиром взвода. Его просто не узнать.
Население Бырлада устраивает освободителям теплую встречу. Нас угощают молоком, кукурузными лепешками, горячими початками кукурузы. Девушки забрасывают танки цветами. Скоро на площадь, где мы остановились, подходит небольшая колонна людей. Над их головами развевается красное полотнище с надписью на русском языке: «Добро пожаловать, красноармеец!» В конце колонны несут плакат с одним только словом: «Спасибо».
Мы спешим. Наскоро закусываем, благодарим радушных хозяев, трогаемся дальше. Меня догоняет генерал Алексеев, его машина пристраивается рядом с моей. Не останавливаясь, кричит мне:
— Жми быстрее, Шутов. К Плоешти немцы стягивают остатки своих разбитых дивизий. Нельзя давать им закрепиться. Я на тебя надеюсь, Степан Федорович. — В глазах генерала зажигаются хитрые огоньки: — Имей в виду, с тебя будет теперь двойной спрос.
— Почему? — насторожился я.
— Потому, что тебя представили ко второй звездочке.
Алексеев часто бывал в бригадах, неожиданно наскакивал на тылы, появлялся среди ремонтников, у медиков. Его уважали за внимательность, заботу о танкистах, за справедливую требовательность. В этот раз мне от него досталось:
— Почему небритый? — вдруг спрашивает он.
— Только вчера брился, — отвечаю.
— Каждый день нужно, если борода быстро растет. Запомни, наша армия — самая культурная в мире. Во всех отношениях — и в образовании, и в поведении, и во внешнем облике. Подчиненным это тоже растолкуй. И обязательно требуй. Ну, бывай!
Махнув на прощание рукой, Алексеев уехал.
Чтобы ускорить движение, беру с собой несколько автоматчиков и выезжаю вперед разведать дорогу. Едем и едем. Уже близко Фокшаны, а на всем пути не встречаем ни одного немца. Подозрительно. Не верится, чтобы противник ушел, не попытавшись хоть на каком-то рубеже задержать нас.
Остановились. Машину спрятали в придорожных кустах, сами осторожно пошли дальше. Так и есть — траншея. В ней несколько фашистов. Назад идти поздно. Забрасываем траншею гранатами. Старший сержант Свидорчук и ефрейтор Самойлов захватывают станковый пулемет. Выбиваем гитлеровцев из засады и спокойно возвращаемся обратно.
Увлеченные короткой схваткой, мы не заметили, как к городу проскочила машина генерал-лейтенанта Алексеева. Впереди раздаются выстрелы. И вот к нам уже бежит его раненый адъютант.
— Командир корпуса попал в засаду, — кричит он еще издали. — Скорее спасайте его.
Бросаемся туда. Видим, как генерал, держа правую руку на согнутой в локте левой, отстреливается. Около него падает несколько фашистов. Немцы подбираются к нему, хотят взять живым. Но, увидев нас, поспешно стреляют в упор и убегают.
Наклоняюсь над генералом. Он уже мертв.
Генералу Алексееву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронили его в Киеве со всеми подобающими почестями.
В нашей бригаде состоялся траурный митинг. Выступая на нем, Калайдаров от имени своего экипажа заявил:
— На войне не оплакивают погибших товарищей. За них мстят. Смерть генерала Алексеева удесятеряет нашу ненависть. Наш экипаж клянется и призывает всех не жалея жизни бить фашистов до полного их истребления.
Бой за Фокшаны был коротким. Деморализованный противник уже не мог оказывать стойкого сопротивления. Выбив его, мы, не задерживаясь, двинулись на Рымники.
В тот день отличился комсомольский экипаж лейтенанта Митина, от имени которого башенный стрелок Калайдаров поклялся мстить за смерть генерала Алексеева. Интересные люди собрались в экипаже. Командир танка был русский, механик-водитель — украинец, заряжающий — туркмен, стрелок-радист — киргиз. А сдружились так, что водой не разольешь. Танкисты переписывались с четырьмя подругами — швеями бакинской фабрики и договорились после войны вместе поехать к ним. У каждого в кармане хранилось фото с четырьмя смеющимися девушками.
Машина Митина шла впереди, в разведке. Командир заметил отходящую колонну противника: десятка два больших грузовиков с автоматчиками, а посредине — несколько пушек на тягачах.
Колонна растянулась километра на полтора. Митин внимательно разглядывает ее и думает, как лучше поступить: обстрелять издали или наскочить сзади. Решил атаковать.
— Давай, — говорит механику-водителю, — жми.
Машина выходит на дорогу и начинает нагонять колонну. Скорее всего, немцы не слышали рева мотора, а может быть, и заметили подходящий танк, но приняли его за свой, во всяком случае, колонна продолжала двигаться также спокойно. Только когда «тридцатьчетверка» подошла совсем близко, фашисты забеспокоились. Но было поздно.
Танк с ходу налетел на заднюю машину, в воздух полетели куски дерева и железа. Пушка открыла огонь по передним машинам, пулемет — по разбегающимся гитлеровцам. Разворачиваясь то влево, то вправо, танк сбрасывает с дороги остатки автомашин, орудия.
Минут через десять с колонной было покончено.
15
Румыны все чаще отказывались воевать на стороне немцев. Иногда их войска даже поворачивали оружие против союзников. На нашем направлении совместно с нашими соединениями стала действовать 1-я румынская добровольческая дивизия имени Тудора Владимиреску. В боях за Плоешти 20-й гвардейской довелось воевать рядом с ней.
В местечке Мизил мы с Шашло и Хромовым встретились с тремя румынскими генералами, представителями дивизии. Нужно было согласовать некоторые вопросы взаимодействия.
Генералы, а двое из них командовали соединениями в группе «Велер» и воевали против 20-й гвардейской, сначала чувствовали себя неловко. Но мы сделали все, чтобы они видели в нас искренних товарищей по оружию.
— Когда думаете выступать? — спрашиваю у них.
— Дня через три-четыре, — отвечает сухощавый, с обвисшими усами генерал.
— Странно. А мне приказано уже завтра овладеть Плоешти, — сообщаю им. — При этом было сказано, что вы идете с нами.
— Это исключено, — отозвался тот же сухощавый генерал. — Я только в конце прошлой недели был в городе и знаю: он сильно укреплен. Перед наступлением необходима подготовка.
— Извините, господин генерал, — вмешался Шашло, мягко улыбаясь. — Не преувеличиваете ли вы трудности? Мне думается, что сейчас при оценке сил противника нельзя не учитывать его моральное состояние. На боеспособности немецко-фашистских войск безусловно сказываются последние неудачи, а также и то, что значительная часть румынских соединений перестала их поддерживать и даже выступает против них.
— Разумеется, разумеется, — закивал головой седой генерал с взлохмаченными бровями и простым открытым лицом. — Мой коллега, — повернулся он к усатому, — несколько поторопился. Мы благодарны Красной Армии за помощь и сделаем все, чтобы быстрее освободить свою родину от оккупантов…
Немецкая фашистская пропаганда лезла из кожи вон, чтобы запугать румын русской опасностью, «перспективой» расстрелов, ссылки в Сибирь. А оказалось, Советская Армия протянула им руку помощи, доверила оружие!
И вот первый бой совместно с румынскими частями. Каждый полк усилили танками, артиллерией. Но все же, честно говоря, я волновался. Мы научились взаимодействовать со своими, танкист пехотинца, как говорят, научился понимать с полуслова. А как поведут себя румынские солдаты? Не дрогнут ли в трудную минуту?
Прямо с ходу, развернувшись, танки атаковали позиции противника восточнее Плоешти. Враг начал отходить, наши ворвались на окраину, стали освобождать улицу за улицей.
Труднее пришлось наступавшим севернее города. Тут и сил у нас было меньше, и немцы огрызались сильнее. Они даже предприняли контратаку.
Мы с седым румынским генералом находились на одном НП. Наблюдая за боем, я с радостью отметил, что тревожился зря. Румынские солдаты действовали храбро и умело.
Я видел, как под огнем противника два минометчика выдвинулись дальше залегших пехотных цепей и подавили мешавший наступлению пулемет.
А вот подносчик патронов. Нагруженный цинковыми коробками, то припадая к земле, то делая короткие перебежки, он продвигается к передовой. Его заметил немецкий самолет, снизился, обстрелял.
В бинокль видно, как боец поднял голову. По лицу его медленно сползает темная полоска крови. Он делает движение, чтобы встать, и не может. Медленно ползет по зеленому ковру луга, передвигая перед собой ношу. Добрался до подножия высотки и замер. К нему спешат два бойца, один потащил патроны, другой — раненого товарища. Прошла минута, и на высотке заговорил пулемет.
Генерал облегченно вздохнул.
— Да, господин полковник, — обратился он ко мне. — Тридцать лет я в румынской армии, а так, как сейчас, никогда себя не чувствовал. И солдаты понимают, за что воюют…
Отразив контратаку севернее города, наши части пошли вперед.
16
В Плоешти стоим шесть дней.
Как-то захожу в политотдел. На столе у Шашло гора писем и трофейная, обтянутая коричневым сукном фляга. Начальник политотдела показывает ее мне и торжественно так заявляет:
— Степан Федорович, по этой фляге можно судить об изменениях в гитлеровской армии.
Беру ее, осматриваю, но ничего особенного не вижу. Отвинчиваю пробку, нюхаю — запаха нет.
— Ничего не замечаешь? — спрашивает Шашло, хитро щуря глаза. — А где, скажи, черный пластмассовый стаканчик, который был пристегнут к фляге?
— Наверное, оторвался.
— Присмотрись лучше. Его тут и не было! Теперь третья империя делает фляги без стаканчиков. Экономит. Мелочь? Но очень любопытная. А вот письма, найденные у убитых немцев.
Переводчик, старший лейтенант Шариков, читает несколько писем, которые ему дает Шашло. Вот жена пишет дважды награжденному за какие-то подвиги ефрейтору:
«…Меня и твою мать послали рыть окопы. Я работала две недели, а мама день. Ей сразу стало дурно, она ведь старенькая. То, что мы по двадцати раз в день бегаем в бомбоубежище, плюс плохое питание — сказалось на ее здоровье.
Отто, русские приближаются к нашим границам, и это меня очень страшит. Правда, на днях Геббельс, выступая по радио, намекнул про какое-то грозное секретное оружие. Скорее бы вы получили его. А вообще, как осточертела эта проклятая война!»
— Фашистская пропаганда успокаивает немцев, — заметил Шашло. — Теперь послушай, что хотел ответить жене Отто. Письмо он не успел отправить.
Старший лейтенант читает выдержку, подчеркнутую красным карандашом:
«…Здесь нас, глупцов, тоже кормят надеждами. Но пока что мы только отступаем, нас давят русские танки, громят авиация, артиллерия.
Мунда помнишь? Он в конторе работал. А у нас был офицером. „Скоро, говорил, новые сверхмощные ФАУ обрушатся на Москву. Тогда мы снова пойдем на восток“. Так этот „герой“ дезертировал. На днях его поймали переодетым в гражданскую одежду и расстреляли перед строем.
Я вовсе не боюсь, что это письмо перехватят. Какая разница, от чего умереть — от русской пули или от своей? Смерть все равно ходит рядом. И я знаю, она меня повалит не сегодня-завтра. Я уже привык к этой мысли. Сына поцелуй за меня. Скажи ему: „Твой отец был идиотом“».
— Жаль, что письмо не попало адресату, — закончив читать, сказал старший лейтенант Шариков.
— По-моему, жалеть тут не о чем, — заметил я. — Ефрейтор считал себя идиотом, обреченным, рассуждал правильно, а стрелять по нашему брату продолжал.
— В немецком солдате глубоко засел дух слепого повиновения, — откликнулся Шашло. — Тут и наша вина: мы слабо ведем пропаганду в войсках противника…
Закончить мысль ему не дают. В политотдел заходит группа румын.
— Мы с нефтяного промысла. Приглашаем танкистов в гости.
— А что у вас предполагается?
— Проводим митинг, потом будет товарищеский обед. Рабочие, члены семей уже собрались, только вас ждут.
Делегаты торопят нас. Мы наскоро собираемся и отправляемся к нефтяникам.
В машине сидящий рядом со мной румын спрашивает:
— Случайно, русского сержанта Владимира Скворцова не знаете?
— Нет, не знаю. А кто он?
Румын рассказывает, что Скворцова гитлеровцы захватили под Одессой и отправили в Германию. Оттуда ему удалось бежать при содействии молодой румынки, переводчицы. Девушка снабдила его документами и письмом к родным, проживавшим в Плоешти.
— У нас парня укрыли, — продолжал рассказчик. — Со временем сержант стал нашим советчиком и негласным руководителем. От разговоров перешли к делу. Сначала резали провода, потом стали разбирать железнодорожные рельсы и пускать под откос эшелоны.
— Где сейчас этот сержант? — поинтересовался я.
— В больнице. Когда вы ворвались в город, мы с ним бросали гранаты в отступающих немцев. Тут его и ранило…
На площади собралось несколько тысяч человек. Танкистов встретили аплодисментами, букетами цветов. Духовой оркестр исполнил военный марш.
Открывая митинг, руководитель профсоюзной организации промысла заявил:
— Вчера Красная Армия освободила Плоешти, а сегодня стала свободной столица нашей отчизны — Бухарест. Дорогие друзья! Разрешите от вашего имени сказать нашим дорогим гостям, советским танкистам: от всего сердца спасибо за братскую помощь! Сегодняшний осенний день станет памятным в истории румынского народа. Отныне и навеки мы будем с вами!..
17
Наступила осень сорок четвертого года. Советские войска одерживали одну победу за другой. 27-я и 53-я общевойсковые армии и наша 6-я танковая после разгрома гитлеровских дивизий в кишиневском «котле» устремились к венгерской границе.
Трансильванские Альпы считаются для войск непреодолимой преградой. Но обходить их — значит терять драгоценное время. И наши «тридцатьчетверки» штурмуют горы, поднимаются на кручи, вознесшиеся выше облаков. В один из дней, когда мы были на марше, меня по радио вызвал генерал-полковник А. Г. Кравченко:
— Поздравляю, Степан Федорович, со второй Золотой Звездой. Опубликован указ, теперь ты дважды Герой Советского Союза.
Шашло и Хромов, узнав о разговоре, расцвели в улыбке, жмут мне руки.
Вечером мы долго обсуждали дела бригады, делали прогнозы, говорили о предстоящих делах. Никто из нас тогда не знал, что вместе нам воевать больше не придется.
Утром следующего дня меня вызвали в штаб армии. Принял командующий, снова поздравляет и говорит:
— Хватит тебе на бригаде сидеть. Пойдешь заместителем командира 9-го гвардейского механизированного Рымникского корпуса…
Тяжело было расставаться с родной 20-й, с людьми, вместе с которыми прошел путь от Курской дуги до Трансильванских Альп.
Вместе с новым комбригом полковником Жилиным и подполковником Шашло обошли экипажи. Пожимаю руки капитану Минчину, командиру танка Млинченко, механику-водителю Зайцеву, заряжающему Торопкову, командиру взвода автоматчиков Свидорчуку, башенному стрелку Калайдарову и многим другим боевым товарищам, кому я обязан тем, что получил вторую медаль «Золотая Звезда». И не только им! Обязан также павшим смертью храбрых — политруку Загорулько, лейтенанту Казаку, подполковнику Малярову, капитану Метельскому, комсоргу Медовику, разведчику Причепе…
На новом посту заместителя командира корпуса мне пришлось поработать недолго.
Спустившись с гор и прорвав оборонительные рубежи врага, советские танки вышли на Венгерскую равнину. Я стою на высотке вблизи населенного пункта Турды и слежу за движением частей. Как всегда, первой идет 20-я гвардейская. Гляжу на стремительный бег машин, и мне почему-то вдруг становится грустно-грустно.
Замыкающая машина на минуту останавливается, поднимается люк, выглядывает Шашло. Он поворачивает голову в мою сторону, машет рукой и кричит:
— Степан Федорович, давай встретимся в Будапеште. Идет?
— Договорились, — тоже машу ему рукой. — Привет Хромову Дмитрию Васильевичу!
Артиллерия противника усилила огонь. Снаряды падают больше в стороне. Но один, видимо, попал на дорогу. Впереди образовалась пробка. Я было кинулся туда, но рядом раздался сильный треск, и я упал. Превозмогая боль, поднялся и, еще сознавая все, увидел, что левая рука у меня перебита, болтается в рукаве, как чужая. Правой рукой схватил левую, чтобы остановить кровь, шагнул и снова упал: ноги были перебиты…
С тех пор прошло много лет. И я всегда вспоминаю добрым словом румынского профессора, который делал мне операцию. Он вошел в палату стремительным шагом. Осмотрел мои раны и что-то сказал стоявшему позади него юноше. Тот перевел мне:
— У вас началась газовая гангрена. Профессор находит, что нужна немедленная операция.
— То есть надо отнять руку? — решил я уточнить.
Молодой румын передал мой вопрос профессору. Хирург посмотрел мне прямо в глаза и утвердительно кивнул головой.
— Я согласен.
Профессор еще что-то сказал.
— Он благодарит русского офицера за доверие, — перевел юноша. — Говорит, что сделает все, чтобы операция была удачной. Это не только его прямой долг хирурга, но прежде всего долг румына перед советским человеком…
После операции я проспал беспробудным сном с полудня до утра. Когда открыл глаза, подле моей койки увидел профессора. У него был очень усталый вид. Хирург улыбнулся мне, пожал здоровую руку, лежавшую поверх одеяла.
Из Румынии меня на самолете отправили в Москву. Остановка в Киеве.
На аэродроме уже ждали жена и дети. Я видел напряженное состояние родных. Их душили слезы. Но они держались, не хотели, чтобы я чувствовал это.
— Папа, я буду танкистом, — заявил старший сын.
Младший подхватил:
— И я тоже.
Я улыбнулся жене:
— Что на это скажет Галина Андреевна?
Она вздохнула:
— Я бы хотела, чтобы больше никогда не было нужды в танкистах. Если же все-таки понадобится, пусть наши сыновья будут танкистами. Такими, как ты, Степа!..
Примечания
1
ЧОН — части особого назначения.
(обратно)2
20 октября Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный фронты были переименованы соответственно в 1, 2, 3, 4-й Украинские фронты.
(обратно)


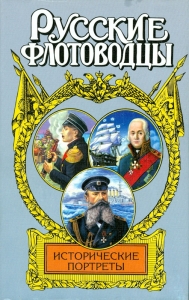
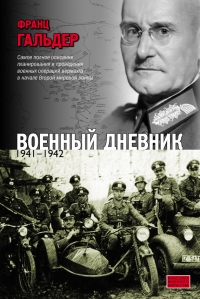



Комментарии к книге «Красные стрелы», Степан Федорович Шутов
Всего 0 комментариев