Елизавета ПОЛОНСКАЯ Из книги «Встречи»
Оскар Лещинский
Оскар Лещинский, когда я с ним познакомилась, входил в парижскую группу большевиков. Стройный, белокурый, очень подвижный, с приятным одухотворенным лицом, он напоминал мне тех юношей из-за Невской заставы, с которыми я работала последние два года в России. Лещинский только недавно приехал в Париж, бежав из тюрьмы, как и многие политэмигранты. Где-то на юге России жили его родители — люди, по-видимому, очень небогатые, так как Оскар не получал из дому никаких средств и сильно нуждался. Потом я узнала, что он пишет стихи, хочет стать художником. С каждым собранием, на котором мы встречались, Оскар казался все более нервным, и его узкое выразительное лицо становилось угловатее и прозрачнее. Видимо, он жёстоко голодал, но все же аккуратно приходил на очередное собрание, а для этого нужно было заплатить 30 сантимов за пиво, черный кофе или гренадин (только на таком условии хозяин на авеню де Гобелен соглашался сдавать зал для собрания).
Реакция в России усиливалась, и наша группа росла изо дня в день за счет беглецов из царских тюрем. Были там и матросы, принимавшие участие в восстании, интернированные в Румынии, поскитавшиеся по другим городам Европы и теперь принесенные волной к парижскому берегу. Трудно жилось русским пролетариям в Париже. Голод заставлял их соглашаться на любой труд. Наиболее крепкие шли в чернорабочие на заводы парижских предместий или носильщиками на городские рынки; женщины поступали судомойками в рестораны. Иногда и мужчинам приходилось браться за эту тяжелую и беспросветную работу — четырнадцать часов в сутки мыть грязную посуду, не вынимая рук из горячей воды, пропитанной помоями.
В январе 1909 года Оскар Лещинский не появился ни на одном собрании. Я спросила о нем и узнала, что Оскар поступил «ныряльщиком» в большой дешевый ресторан на Бульварах, работает в вечерние часы («ныряльщиками» называли мужчин-судомоек). С этих пор я долго не встречала Оскара и ничего не знала о его судьбе.
В марте 1911 года я узнала, что Оскар Лещинский арестован на улице во время демонстрации. Рассказала мне об этом моя подруга, большевичка Надя Островская. Произошло это 18 марта — в День Парижской Коммуны. В тот год социалистическая партия Франции отмечала сорокалетие Коммуны. Был организован поход рабочих на кладбище Пер-Лашез, к месту расстрела коммунаров. Русские революционеры, жившие в Париже — социал-демократы, эсеры и анархисты — приняли участие в демонстрации. Перед этим в кафе на авеню де Гобелен Анатолий Васильевич прочел лекцию о Парижской Коммуне; на лекции я была, а вот на демонстрацию пойти, как все мои товарищи, не смогла.
Надя рассказала, что это была большая демонстрация, во главе колонны шли члены ЦК социалистической партии; впереди колонны мужчины несли красные флаги, а женщины — венки из красных роз. В марте в Париже — уже весна, этот воскресный день был солнечным, теплым. Подходя к кладбищу, демонстранты запели «Интернационал»…
Надя шла в одном ряду с Оскаром. Рядом шла женщина, держа за руку маленькую девочку. Оскар всю дорогу шутил с девочкой; когда подошли к кладбищу, девочка устала, и Оскар хотел взять ее на руки.
В этот момент полицейские (ажаны, как их называют французы) неожиданно бросились разгонять демонстрацию. Хорошо тренированные молодцы в коротких синих пелеринках и блестящих кепи с лакированными козырьками напали на колонну сбоку, пытаясь столкнуть ее с мостовой на панель. Девочка заплакала, мать не успела схватить ее на руки, как толстый ажан сбил девочку дубинкой с ног, и она покатилась под ноги идущей вслед толпе. Оскар бросился на помощь. Началась страшная давка. Ажаны хватали демонстрантов и бросали их в полицейские кареты (французы называют их «салатными корзинками» по ассоциации с теми корзинками, в которые хозяйки бросают как попало сорванный с грядок салат). Оскар был схвачен, увезен в «салатной корзинке», осужден за «оказание сопротивления» и посажен на три месяца в тюрьму Санте.
Должно быть, тюремные месяцы ожесточили Оскара — в его душе пробудился прежний революционный дух. Выйдя из тюрьмы, он стал одним из первых слушателей ленинской партийной школы в Лонжюмо. При этом Оскар продолжал писать стихи. В эту самую пору, усиленно занимаясь медициной (я работала экстерном у известного профессора Реклю), я также писала стихи и делала это с большим удовольствием. Понятно, что наши пути с Оскаром должны были пересечься. Летом 1913 года я встретила его в «Русской академии», как мы называли кооперативную мастерскую, где учились и работали художники-эмигранты и где молодые поэты читали свои стихи.
Лещинского я узнала сразу по ярко-синим глазам, по гордой посадке головы и по звонкому голосу. Он прочел неожиданные стихи «О тяжелых кольцах старинной работы». На нем была коричневая блуза из рубчатого вельвета, какие обычно носят рабочие. Внешне он показался мне несколько умиротворенным по сравнению с тем Оскаром, которого я знала. Я окликнула его, и он кивнул мне.
Слушатели похлопали Оскару, и он прочел еще несколько стихотворений, но я их не запомнила: волновалась, потому что мне самой предстояло читать вслед за Оскаром.
В перерыве Оскар подошел поздороваться. С ним был очень похожий на него юноша, которого он представил мне как своего брата Марка, и тоненькая блондинка. Лида Мямлина, художница, которую я раньше встречала в «Академии» (она вскоре стала женой Оскара).
В 1913 году вместе с Ильей Эренбургом Оскар Лещинский издавал в Париже журнал «Гелиос», а в 1914-м вышла его первая книга «Серебряный пепел» (но я ее не помню). Начавшаяся в том году мировая война снова нас развела.
В сентябре 1917 года Оскар Лещинский неожиданно встретился мне в Петрограде на Невском проспекте, недалеко от Александровского сада.
— Приехал вместе с Лениным? — спросила я.
— Со вторым эшелоном.
С Оскаром были двое моих товарищей по работе в Невском районе — Федя Ляпунов и Миша Смирнов. Они накинулись на меня с расспросами, где работаю, что делаю; возмущались, что я не нашла другого времени, чтобы родить и кормить ребенка. В итоге я даже не смогла поговорить с Оскаром, и больше я его уже не встречала.
Оскар Лещинский стал одним из героев гражданской войны, и мне стыдно теперь, что по «лени и нелюбопытству» я даже не расспросила его о планах и намерениях. Многое о нем я узнала от писателя Георгия Холопова, который по крупицам собирал материал об Оскаре для романа «Грозный год». Но мне и самой захотелось предпринять розыски, и я стала искать свидетелей последних дней Оскара Лещинского.
Худощавая старушка в строгом синем костюме открыла мне дверь своей комнаты в общежитии старых большевиков на Крестовском острове и застенчиво улыбнулась. Вера Сергеевна Гарина была шестнадцатилетней гимназисткой, когда стала секретарем председателя Совнаркома Терской Советской республики легендарного Ноя Вуачидзе.
Вера Сергеевна рассказывала:
— Я сидела за машинкой, когда в дверь сильно постучали и вошел незнакомый военный, он бросился к Вуачидзе, они обнялись и оживленно заговорили по-французски. Я удивилась, но ничего не сказала.
— Это Оскар Лещинский, — объяснил Вуачидзе, — знакомьтесь. Мы с ним вместе жили в Женеве, а еще раньше учились в школе Лонжюмо под Парижем.
Я поздоровалась с Лещинским, и меня поразили его синие глаза — таких ярко-синих глаз я в жизни не видела…
Тогда он доставил в Дагестан первую партию оружия…
В 1919 году Кавказ был отрезан от России восстанием казачьих войск. В Баку сидело меньшевистское правительство, англичане распоряжались каспийской нефтью, на Дону хозяйничал генерал Краснов. Но Терская Советская республика еще держалась. Ей остро было нужно оружие. Чрезвычайный комиссар Южного района Серго Орджоникидзе, знавший неколебимый, отчаянный нрав Оскара еще по школе Лонжюмо, вновь послал его вместе с Кировым за оружием в Москву. Ленин и Свердлов сделали все возможное, чтобы Киров и Лещинский во главе большой экспедиции смогли двинуться на юг. Сопровождая груз с оружием, Киров и Лещинский добрались до Астрахани, и здесь Оскар заболел сыпным тифом. Едва держась на ногах, он двинулся с оружием дальше, в Дагестан. В Порт-Петровске (теперь Махачкала) Оскар был схвачен белыми и расстрелян.
Вера Сергеевна положила передо мной несколько фотографий, пожелтевших от времени. Вот на любительской карточке, сделанной в Швейцарии, группа русских, снятая на прогулке. Я сразу узнала братьев Лещинских. Оскар, с непокрытой головой, глядящий вдаль, а на переднем плане — Марк, очень похожий на Оскара, но с более мягкими чертами лица. Два других снимка сделаны в Пятигорске в 1918 году уличным фотографом. На них Оскар со своими детьми, нарядными, в белых костюмчиках и панамках. Он прижимает к себе малышей с растерянным видом, словно только что понял, какая ответственность лежит на его плечах.
«В прошлом году, — продолжила свой рассказ Вера Сергеевна, — я нашла в Махачкале потрясающий документ: расписку некоего поручика Нестева о том, что он принял заключенного Николая Савинкова для приведения в исполнение приговора о расстреле» (Оскар Лещинский скрыл от белых свое имя и выдавал себя за брата известного террориста Бориса Савинкова; под этим именем он и был расстрелян).
«Русская академия»
Летом 1913 года я познакомилась и подружилась со многими русскими художниками и скульпторами, жившими в Париже. Все они были молоды и искали, увлекаясь то импрессионистами, то кубофутуристами, но делалось все это искренно и задорно. Художники снимали большое ателье на бульваре Монпарнас в доме, известном под названием «Ла Рюш» (Улей). Этот дом специально был построен для художников — там можно было снимать и маленькие комнатенки для жилья, и комнаты-мастерские, напоминающие соты. Кухня была общая — на весь этаж. Была и большая общая мастерская — ателье: просторный двухсветный зал, заставленный мольбертами и станками. Посредине его помещался помост для натурщиков, отгороженный веревками, и ящик с мокрой глиной, а вдоль стен стояли начатые холсты и скульптуры, покрытые тряпками, скрывавшими их от нескромных глаз. Мастерская была вольная, на паях. Доступ в нее имели все желающие писать красками или ваять, независимо от принадлежности к тому или иному направлению. Далеко не каждый художник или скульптор имел средства, чтобы снять мастерскую для работы и пригласить собственного натурщика. Коллективная мастерская позволяла за небольшие деньги работать, иметь модель и выставлять свои произведения в «Салоне независимых». Некоторые художники и скульпторы брали частные уроки у известных мастеров живописи и ваяния, но работать они приходили в «Улей».
Эту мастерскую прозвали «Русской академией», но кроме русских и поляков, в ней работали и другие художники: южноамериканцы, негры; было и несколько французов. Некоторые из тех художников и скульпторов, которых я застала в «Академии», стали потом очень знаменитыми — живописцы Давид Штеренберг и Натан Альтман, скульпторы Александр Архипенко, Осип Цадкин, Эрьзя; другие менее известны — Старков, Иннокентий Жуков… были и такие, кому судьба не позволила стать профессионалами…
Из скульпторов самым интересным был Александр Архипенко, ставший впоследствии одним из столпов модернистской скульптуры. Он был очень высокомерен и не терпел возражений против того, что делал. Я никогда не решалась спросить у него, почему у его статуй, изображающих обнаженные фигуры, такие крохотные головы при монументальных бедрах и тонких талиях. Я спросила об этом у его товарища Свирского, с которым была ближе, чем с Архипенко, и он объяснил мне, что художник должен творить так, как видит: «Архипенко не замечает голов у своих моделей, потому что считает головы незначительной деталью человеческого тела и наименее красивой». С этим объяснением я примирилась, но мне по-прежнему продолжали больше нравиться статуи Родена, Майоля и Бурделя.
Бурделем увлеклась Надя Островская, моя подруга по большевистской группе, и пошла к нему учиться, решив лучше сэкономить на еде, но иметь хорошего учителя. Бурдель брал со своих учеников очень дорого, но зато они имели право ходить в театр Елисейских полей, который он украсил барельефами — монументальными, прекрасными и понятными.
Надежда Ильинична Островская была одним из самых своеобразных и интересных людей, встреченных мною в жизни. Она родилась в Симферополе, где ее отец имел большую врачебную практику. В девятнадцать лет Надя состояла в боевой группе, была связана с флотом, участвовала в Симферопольском восстании. Ее заочно приговорили к смертной казни. Пришлось спасаться бегством из России. С 1910 года Надя входила в парижскую группу большевиков. Она с детства любила скульптуру и в Париже поступила сначала в какую-то студию, а потом перешла в «Русскую академию». Комнатенка в «Улье», в которой она жила, была крохотной и голой. Надя любила стихи и заставляла меня читать ей все, что я написала, хотя частенько и поругивала меня. Именно Надя привела меня в «Академию».
«Академия» была не только местом, где жили и работали художники и скульпторы. Здесь регулярно собирались молодые поэты, прозаики, критики. Каждую субботу по вечерам в большой мастерской на тот помост, где днем усаживали или ставили натурщика, водружали столик и два стула для председателя очередного вечера и выступающего автора.
Из поэтов, живших или приезжавших в Париж, здесь читали свои стихи Вера Инбер, Мария Шкапская, Илья Эренбург, Оскар Лещинский, Михаил Герасимов, Марк Талов, Герман Данаев. Длинный, занявший несколько вечеров, роман о Сибири читал Ангарский, ставший после революции редактором альманаха «Недра»; с рассказами выступали незнакомые мне по партийной группе Ширяев и Шимкевич. А. В. Луначарский обычно приходил на эти субботы и иногда выступал на них. Помню также выступления в «Академии» литераторов Александра Кайранского, Виктора Финка.
Читались в «Академии» не только стихи и проза, но и статьи, критические очерки, оглашались разные художественные манифесты. Был в «Академии» Литературный совет, который предварительно рассматривал предназначенные для чтения произведения и мог разрешить или не разрешить то или другое выступление. Председателем на каждом вечере был обязательно дежурный член Литературного совета. Иногда выступали со стихами и рассказами товарищи, только что прибывшие из России.
Вера Инбер была в Париже недолго, по дороге, если не ошибаюсь, в Давос, где она собиралась лечиться. Стихи, которые она прочла в «Академии», потом вошли в ее книжку «Печальное вино», вышедшую в Париже уже без нее.
Мария Михайловна Шкапская приехала в Париж вместе со своим мужем Г. О. Шкапским и его другом И. Бассом. Все они были участниками подпольного кружка, который в Петербурге называли «Витмеровским», потому что большинство входивших в него учились в частной гимназии Витмера. Их исключили из гимназии с волчьими билетами, и они приехали во Францию, чтобы получить образование. Поступить в Высшую политехническую школу им не удалось, и все трое уехали в Тулузу, где впоследствии оба молодых человека получили дипломы инженеров. Шкапская писала стихи и в один из наездов в Париж пришла в «Академию». Подойдя ко мне, Мария Михайловна сказала, что давно хочет познакомиться, знает мои стихи от Ильи Григорьевича Эренбурга. Она прочла в тот вечер стихотворение «Хочу гроб с паровым отоплением», показавшееся мне несколько эксцентрическим. Меня поразила в Шкапской смесь сентиментальности с жестокостью, по-видимому, в этом сказывалось ее детство, суровое и голодное (она мне рассказывала, в какой нищете выросла).
Однажды в «Академии» выступил ветеран символизма Н. М. Минский, бежавший из России после 1905 года и обосновавшийся в Париже. Весьма популярный в старой России «Чтец-декламатор» печатал стихотворение Минского «Тянутся по небу тучи тяжелые. Серо и скучно вокруг…», которое в ту пору затрепали в мелодекламациях. Наша компания еще в 1909 году сочинила пародию на это стихотворение; в ней были такие строки:
Тянутся по небу тучи тяжелые. Скучно в Париже, мой друг! С визгом красотки качаются голые, Не озирайся вокруг!Жена Минского, известная в свое время поэтесса Виленкина, проживала с ним в Париже, но в «Академии» никогда не выступала. У них на квартире был собственный салон, где читали стихи приезжающие из Петербурга Ахматова, Кузмин. У нас в «Академии» эти поэты не выступали.
В «Академии» я вновь встретилась с Ильей Эренбургом, которого потеряла из виду в последние годы. Эренбург в то время увлекался стихами Франсиса Жамма, не раз он читал в «Академии» свои переводы из него.
Я тогда не знала, как Эренбургу удается ежегодно выпускать по сборнику стихов, да еще организовывать издание журналов (он сам написал об этом в воспоминаниях «Люди, годы, жизнь»). Как раз в то время Эренбург начал издавать в Париже ежемесячный сборник стихов «Вечера». После того, как я прочла в «Академии» свои стихи, он предложил мне дать их для «Вечеров». Так мои стихи впервые попали в печать. Они вошли во второй выпуск «Вечеров», где были напечатаны также стихи Веры Инбер и Михаила Зенкевича.
О выступлении в «Академии» Оскара Лещинского я уже рассказывала. Помню и молодого московского рабочего Михаила Герасимова, декламировавшего риторические и пылкие стихи о революции (после революции он стал известным поэтом «Кузницы»). Герман Данаев выступал в Академии только до осени 1913 года, когда он уехал в Женеву кончать свой юридический факультет.
У меня набралось довольно много стихов к тому времени, когда я дала их Эренбургу. Я была единственной женщиной-поэтом из постоянно живущих в Париже русских, мои стихи нравились, и меня постоянно просили выступать на вечерах «Академии», что я и делала с удовольствием. По окончании вечера шумная ватага отправлялась провожать друг друга по домам.
Шел четырнадцатый год. Мы были молоды, полны задора и надежд, и, конечно, не догадывались о том, какие испытания ждут нас впереди.
Публикация и подготовка текста М. Полонского и Б. Фрезинского
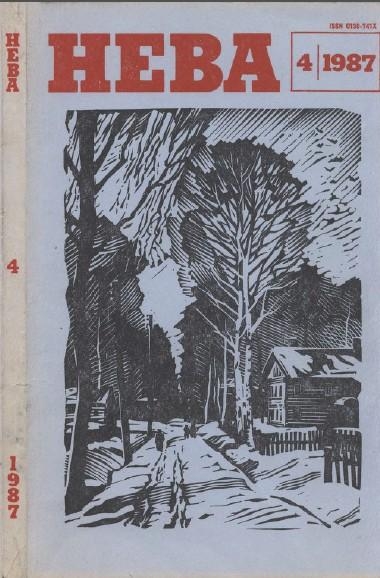

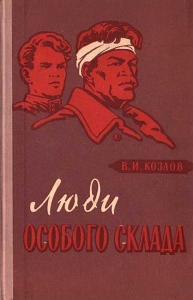

Комментарии к книге «Из книги «Встречи»», Елизавета Григорьевна Полонская
Всего 0 комментариев