Николай Старостин Футбол сквозь годы
© Старостин Н. П., наследники, 2017
© Вайнштейн А. Л., литзапись, 2017
© «Центрполиграф», 2017
* * *
Старостин – по-русски футболист. Разговор с Михаилом Шириняном, внуком Н. П. Старостина
В очерке Льва Кассиля, страстного болельщика «Спартака», написанном в середине 30-х годов, рассказывалось о том, как один иностранный журналист показал на игрока, который красиво отобрал у противника мяч, и спросил: «Кто это?» – «Старостин», – ответил писатель. Хавбек, сделав обманное движение, обвел опекуна и дал пас «на выход». «Кто это?» – спросил иностранец второй раз. «Старостин», – последовал ответ. А тем временем форвард, получивший мяч, ворвался с ним в штрафную площадку и ударил так, что сетка ворот вздыбилась горбом. «А это кто?» – снова вопросительно глянул на соседа журналист. И услышал то же слово: «Старостин».
Тогда иностранец написал в блокноте: «Старостин – по-русски футболист».
Николай Петрович Старостин – старший из четырех братьев, высококлассный футболист, основатель клуба «Спартак», безусловный лидер, фигура историческая и легендарная. О нем мы разговариваем с внуком Старостина Михаилом Шириняном.
Как появилась эта книга?
М.Ш. Время наступило такое – перестройка, гласность, – появилась возможность рассказать многое о 1937 годе, о лагерях. Идея витала в воздухе, это было востребовано. А учитывая биографию деда, это было очень актуально. Старостин издал к тому моменту две книги: «Звезды большого футбола» и «Мои футбольные годы», но они посвящены исключительно спорту. А эта книга про его жизнь, про все, через что пришлось пройти. Ему часто предлагали написать воспоминания, но дед говорил: «Еще рано». Ситуация в стране еще не была готова к обсуждению произошедшего. Он тянул, и в конце 80-х настал момент, когда уже можно было опубликовать воспоминания.
Издатель. Александр Вайнштейн уточнил, что вдохновителем написания мемуаров Старостина был выдающийся спортивный журналист Лев Иванович Филатов. Именно он уговаривал его писать.
Могла ли переигровка полуфинала Кубка СССР 1939 года сыграть зловещую роль в аресте братьев Старостиных?
Издатель. Из протокола Кубка СССР по футболу 1939 года: «Руководство «Динамо» (Тбилиси) опротестовало результат матча, посчитав, что после удара Протасова мяч выбили с линии ворот, и гол был засчитан неверно. Первоначально протест был отклонен, и 12 сентября был сыгран финальный матч. Неожиданно через несколько дней было принято решение всё-таки переиграть полуфинальный матч 30 сентября.
В повторном матче вновь победил «Спартак», финальный матч решили не переигрывать».
М.Ш. Такого не было никогда в истории советского спорта. Команда была настроена выиграть, несмотря ни на что. Хотя все осознавали, что куратором «Динамо» (Тбилиси) был Берия и переигровка была организована именно им.
Возможно, эта победа стала последней каплей в аресте братьев. Недовольство Берии накапливалось постепенно, копали под Старостиных, собирали доносы. С одной стороны, популярность братьев спасла их жизни. Они же были народными героями. В то время за «Динамо» болела только милиция, за ЦСКА – армия. А «Спартак» был и остается народной командой. С другой стороны, возможно, эта слава и привела к аресту. Братьев раскидали по разным лагерям.
Каким был Старостин в семье?
М.Ш. Дед был настоящим главой семьи, патриархом. Домашние старались предугадывать его желания. Он работал почти до самой смерти, до 93 лет. Футбольный клуб «Спартак» был его жизнью и смыслом существо вания. С утра он уходил, возвращался только вечером, в половине восьмого примерно, очень уставший. Бабушка (супруга Антонина Петровна) подавала ужин, потом этим занималась моя мама (дочь Елена Николаевна). Дед никогда не пил и не курил. Мой отец – мы же жили все вместе – много курил, его обычно выгоняли на кухню. Да и я, учась в институте, покуривал. Дед проветривал, закрывал двери, посматривал укоризненно: «Опять курил». Но то, что его слово в семье было законом, – это точно. Он поддерживал всю свою большую семью и семьи братьев. Он был безотказным.
Дед решал и большинство бытовых проблем членов команды. К игрокам он относился как к членам семьи. Однако домой к деду за помощью никто не приходил. Черенков приходил, но ко мне, потому что мы играли вместе. Все вопросы решались в клубе или по телефону. Дед вечерами с телефона не слезал.
Любимые игроки Старостина?
М.Ш. Сергей Сальников и Федор Черенков.
Издатель. Поговаривали, что Сергей Сальников – сын Старостина. Сам Сальников эту легенду не очень-то опровергал. Его дочь Алла как-то заметила: «Отец шутил. Ему было приятно. А вообще, я думаю, раз существует легенда, которая приписывает нашему папе родство с одним из основателей «Спартака», значит, Сальников занимает важное место в сознании болельщиков. Это здорово».
Почему Старостин не любил Бескова?
М.Ш. Деда за глаза в команде называли Чапаем, видимо, потому, что он был настоящим командиром. А Бескова называли Барином.
Думаю, что истоки неприязни именно в том, что Бесков из «Динамо».
Издатель. Соперничество красно-белых и бело-голубых – отдельная страница отечественного футбола. Сейчас оно происходит на поле, а раньше имело черты непримиримого личного противостояния. Старостин до конца жизни испытывал острую неприязнь к «Динамо», считая, что в лагерь его с братьями отправил вдохновитель и куратор бело-голубых Л. П. Берия. Евгений Ловчев вспоминал: «Старостин приезжал в Тарасовку на электричке. По дороге покупал газеты и читал их. На газете же писал себе тезисы, пока шла тренерская установка, чтобы последним аккордом настроить команду. И вот тренер Гуляев говорит: «Динамо» – это серьезный соперник». Возникает секундная пауза, и в тишине жужжит муха. Чапай берет газету, на которой только что писал тезисы, сминает ее.
Муха садится на стекло – и Старостин со словами: «Ух, «Динамо» проклятое!» оставляет от нее мокрое место».
М.Ш. Ну и, конечно, они оба были с очень сильными характерами. Нашла коса на камень. Вот если взять тренеров «Спартака» тех времен, Симоняна например, он, при всем моем уважении к Никите Павловичу, слушался деда. Или Гуляев – тоже. А с Бесковым было негласное противостояние. Они бы рассорились намного раньше и столько времени бы вместе не проработали, если бы не Андрей Петрович Старостин. Тот был дружен с Бесковым. И играл роль своеобразного буфера, он сглаживал все острые углы. Андрей Петрович умер в 1987 году, после этого сотрудничество деда и Бескова продержалось только год. Но этот год был очень конфликтный. Хотя при всей конфликтности они относились друг к другу с большим уважением.
Они были очень разные люди. Бесков действительно был барином, любил выпить хорошего коньячку, а дед был очень-очень строгих правил. Оттого, что они были слишком разные, воспринимать им друг друга было очень тяжело. В команде они играли роль доброго и злого полицейских. Дед был добрым и очень отзывчивым, хотя и очень требовательным, а Бесков – требовательным и жестким. Игроки чувствовали подспудный конфликт. Евгений Ловчев, например, был на стороне деда, а Александр Бубнов – на стороне Бескова.
Бесков подготовил список 7–8 игроков на отчисление, поставив вопрос ребром: или я, или они. А игроки эти обладали определенным весом, и начался бунт. Но в то время решение об увольнении принималось в кабинетах наверху, и Бесков уже ничего не мог сделать.
Каковы были взаимоотношения с руководством «Спартака»?
Издатель. Новые времена принесли новые свободы, в том числе и экономические, и в клубе появилась новая должность – президент. Занял ее Юрий Шляпин.
М.Ш. Шляпин был очень хороший мужик. Но коммерсант он был никакой. В том возрасте, когда он стал президентом клуба, очень трудно перестроиться. В спорте появилась возможность зарабатывать деньги: начали продавать игроков, стали организовывать коммерческие поездки. Как только Романцев понял, что продажа игроков приносит большие деньги, Шляпина убрали. В это время я постоянно был в команде – с 1989 по 1992 год. Шляпин был свадебным генералом, ходил на приемы, мог выпить там хорошо, сказать тост. Был во всех отношениях хорошим человеком, но по части коммерции и решения проблем – увы.
Дед уже был старый, и Романцев постепенно забирал все больше и больше власти. Я очень хорошо помню, как все происходило, как Романцев подговаривал игроков. Потом появился Григорий Есауленко, он крутился в команде и вправлял Романцеву мозги: «Надо зарабатывать на продаже игроков, а со Шляпиным мы этого не сделаем». Открытого конфликта у деда и Романцева не было, однако отставка Шляпина его возмутила. Романцев настроил игроков, те выступили на собрании против Юрия Александровича – и его убрали. Главным тренером и президентом клуба стал Олег Иванович. Провернули комбинацию без ведома Старостина, которого даже не позвали на собрание. Да и сам Шляпин тоже узнал обо всем постфактум. Дед негодовал, но изменить ситуацию уже был не в силах.
Организацией продажи первого игрока (это был Бесчастных) как раз занимался я. Потом уже, когда «Спартак» выезжал за рубеж, к игрокам приходили агенты и делали предложения. Практически все хотели уехать. И это приносило клубу большие деньги. Государство деятельность «Спартака» уже не контролировало. А деньги рассовывались по карманам.
С Федуном я лично не знаком, но его вложения в клуб очевидны. Это зарплаты футболистов, покупка игроков, создание условий для тренировок. И вот результат: «Спартак» – чемпион.
Вы как-то рассказали журналистам «Спорт-экс пресса» курьезную историю про видеомагнитофоны…
Издатель. На товарищеском матче в Сеуле в 1989 году Корейская федерация по футболу за ничью предложила каждому игроку по видеомагнитофону[1].
М.Ш. Так эта история не закончилась! Мне позвонили из «Спорт-экспресса» и сказали, что поднялся такой шум, чуть ли не в УЕФА заинтересовались этой историей. Кто-то из футбольного союза позвонил главному редактору газеты: «Зачем вы это напечатали?» Но во-первых, это было почти 30 лет назад, во-вторых, это был товарищеский матч. В чем тут разбираться? В этом случае претензии надо предъявлять федерации футбола Южной Кореи, как они «коррумпировали» советских футболистов. Мне рассказали о том, что история эта дошла до УЕФА, но начались разборки с Катаром из-за чемпионата мира – и все заглохло. Было очень смешно. Да еще я там Черчесова упомянул! Вот так любую историю можно довести до абсурда.
Как вы сами относитесь к большим деньгам в футболе?
М.Ш. Это веяние времени. С этим ничего не поделаешь. Хорошая игра вообще не зависит от зарплаты. Хотя раньше, когда мы ездили на коммерческие турниры, например в Германию, то перед игрой говорили ребятам: «Займете первое место – все получите по 500 марок». Из тех призовых денег, которые немцы платили за участие в турнире. Это было в конце 80 – начале 90-х, когда все деньги можно было оставлять себе. Так бились за победу как черти. Тогда это был стимул. Но когда сейчас игроки получают миллионную зарплату вне зависимости от того, как они играют…
Система премиальных за победы всегда была. Дед именно этим и занимался, он же был начальником команды. «Спартак» стал чемпионом, можно пойти и попросить.
В Моссовете были болельщики «Спартака», в частнос ти председатель исполкома Промыслов, и дед решал проблемы по улучшению квартирных условий, оказывал помощь в покупке автомобилей. Машины даже не дарили, а давали возможность купить. Всегда спортсмены-фут болисты имели привилегии. Зарплаты были небольшие, но премиальные были всегда. Но нынешние футболисты просто зажрались.
Какое влияние дед оказал на вашу жизнь?
М.Ш. Роль деда в моей жизни была определяющей. Он мне помогал всегда по мере сил и возможностей и никогда ни в чем не отказывал.
У Николая Петровича Старостина две дочери, потому внуки уже носят другие фамилии. Старший сын Михаила Константиновича – правнук футболиста – решил взять фамилию деда. Семья не возражала. Старостин же – по-русски футболист.
Предисловие на правах соавтора. 27 лет спустя
Литературная запись первого издания этой книги делалась в уже не существующей сегодня стране, в буквальном смысле в прошлом, в том числе и футбольном веке. Олицетворением которого во многом и был Николай Петрович Старостин. Футбол беспощаден к людям своего прошлого, даже великие его представители, как правило, навсегда остаются в своем времени. Уникальность Старостина в том, что он удивительным образом современен и соразме рен любой эпохе. Двадцать семь лет прошло с того момента, как книга «Футбол сквозь годы» увидела свет. И сквозь эти прошедшие годы, в меру сил, наблюдая за игрой и происходящим вокруг нее, я отчетливо вижу, как необходим Николай Петрович, человек века ХХ, нашему футболу и сейчас, в век XXI. В совершенно иных реалиях и другой реальности. Ведь с появлением, говоря современным цифровым языком, даже виртуального Старостина сразу возникает масштаб, единица измерения всего, что происходит в нашем футболе. Именно масштаба в первую очередь, на мой взгляд, и не хватает людям в российском футболе. Или точнее: России не хватает масштабных футбольных людей. Еще и поэтому, а не только потому, что созданный Старостиными почти сто лет назад «Спартак» стал наконец чемпионом, идея переиздания книги «Футбол сквозь годы» представляется мне крайне своевременной. Я благодарен издательству за то, что книгу смогут прочесть все, кому по-прежнему небезразличен футбол.
Александр Вайнштейн Июль, 2017 г.От автора
Почему я взялся за эту книгу?
Чтобы ответить на данный вопрос, наверное, надо прожить мою жизнь.
Поначалу была мысль написать другую: об организации футбольного дела, о «звездах» и болельщиках, о станов лении игроков и тренеров… Словом, о том, как делается футбол.
Конечно, перечисленные темы, в меру понимания автора, найдут отражение на последующих страницах. Однако в процессе работы над ними я понял: рассказать лишь об этом могут и другие. Лучше или хуже – не суть. У меня же времени осталось только на главное.
История у всех нас одна. Времена разные. Нынешнее время требует искренности. Требует вспомнить о том, что по тем или иным причинам до сих пор неизвестно широкой аудитории. О событиях, свидетелем и участником которых довелось быть и о ко торых, кроме меня, теперь уже вряд ли есть кому рассказать.
Мой стаж игры и работы в спорте исчисляется с 1918 года. Перед глазами прошла вся история советского футбола. И раньше понимал, а теперь с высоты прожитых лет особенно четко вижу: процессы развития игры происходили и происходят в постоянной взаимо связи с процессами развития общества, со временем, в котором мы существуем.
Эта книга – попытка взглянуть на футбол сквозь годы, прожитые вместе со страной, о вместившихся в них судьбах, ставших частью нашей футбольной истории.
С детских лет, с самых первых ударов по мячу я смотрел на футбол как на праздник. Но жизнь распорядилась так, что мне довелось познать многогранность и всесильность футбола, его необъятную власть над людьми, способность противостоять злу в обстоятельствах, когда он оказывался для людей не столько любимой игрой, сколько гарантией существования, средством и способом выживания в нечеловеческих условиях.
Не хочу представляться мучеником. В самый драматический «северный» период своей жизни по сравнению со многими я находился в относительно льготных условиях – принадлежность к футболу служила лучшей охранной грамотой.
Не хочу «задним умом» делать из себя провидца, проецируя сегодня то, что известно, на выводы и размышления при анализе и оценках давно минувших событий. Полвека назад многое виделось в ином свете. То, что сейчас кажется дикостью, подчас было жизненной необходимостью, непременной потреб ностью. То, чем мы гордились, сейчас порой вызы вает раздражение. Что ж, не исключаю: оно может быть справедливым. Другая эпоха – другие критерии.
Надеюсь, читатели извинят меня за то, что довольно много места уделено скромной персоне автора. Сделано так с одним лишь желанием – еще раз пропустить все пережитое, выстраданное и испытанное через себя. Ибо убежден: только тогда повествование имеет право на достоверность.
Футбол правдив, и книга о нем должна быть правдой.
У каждого, наверное, есть свой неоплатный долг перед людьми и собственной совестью.
Для меня он – эта книга.
Истоки
Немало лет и мне, и тем событиям, которые я вспоминаю. С годами многое забывается, уходит даже что-то серьезное, важное… Но все, что связано с началом пути, до сих пор живо в памяти.
И сейчас, спустя – страшно вывести на бумаге – 80 лет, я порой сквозь шум трибун и стук мяча различаю чистый голос юности. И понимаю: это знак судьбы, зовущей к своим корням, к своим истокам…
Иногда я пытаюсь разобраться, как стало возможным, что футбол завладел мною безраздельно. Может показаться странным, но решающее значение имели наследственность, как теперь говорят – гены, и семейное окружение. Я и мои три брата вырастали под влиянием отца, Петра Ивановича, и дяди, Дмитрия Ивановича, потомственных егерей. Они были людьми в своей профессии видными, в любой охоте знали толк. Про человека, который пытался выдать себя за заправского охотника, не имея на то оснований, они отзывались коротко, как отрубали: «Он нашему делу – баран». Я на всю жизнь запомнил это выражение, оно часто приходило мне на ум при встречах с людьми, корчившими из себя знатоков футбола и тщившимися на него влиять.
Род наш, что и говорить, своеобразен. Бабушка, Надежда Терентьевна Старостина, – православная, а дед и вся родня по линии отца – старообрядцы. Они не знали вкуса вина, не курили, самым страшным ругательством считалось выражение «нечистая сила», которое, кстати, и сейчас в ходу у игроков «Спартака».
Дед, Иван Петрович Старостин, уроженец Псковской губернии, бородатый старообрядец, могучего, судя по фотографиям, сложения, умер еще до моего рождения. На его родине я никогда не был.
Мой второй дед – по линии матери, Степан Васильевич Сахаров – ямщик, возивший на почтовых тройках пассажиров из Переславля-Залесского в Ростов Ярославский. Деда Степа – так звали его многочисленные внуки и внучки, общим числом что-то около тридцати. Любили мы его за веселый нрав и доброту. Высокий и толстый, он с гордостью восседал на тарантасе, когда вез нас по воскресеньям в церковь, которая находилась в трех верстах от Погоста. А после этого угощал горохом, репой, ягодами и яблоками из садов своих пяти дочерей. Сам хозяйство не вел. Этим занимались его два сына – Василий и Алексей со своими женами. Зато мать матери – Любовь Егоровна, баба Люба, сухощавая и высокая 60-летняя женщина – работала около печки с утра до вечера вместе с младшей дочкой тетей Грушей, ходившей тогда еще в девках.
Мать – Александра Степановна – среди пятерых детей была третья. Вышла замуж за отца, когда ей было 18 лет, отец был старше ее на 9 лет. Ни в какие дрязги, мелочи она, как правило, не вмешивалась, будучи по-настоящему мудрой женщиной.
На родину матери – в деревню Погост, что в бывшей Владимирской губернии, под Загорском, вся семья выезжала из Москвы каждое лето.
По соседству раскинулось Вашутинское озеро и множество болот. Там отец и его брат дядя Митя и натаскивали собак. Они были очень выносливыми людьми: с утра до вечера братья-егеря пропадали на болотах.
Вести собак по болоту оказалось совсем не просто: они рвались с поводка. Чуть зазеваешься, и собака или вырывалась, или опрокидывала тебя с ног прямо в болото под смех или гнев отца, что было одинаково обидно.
Тренировка заканчивалась одной и той же фразой: «Пора возвращаться, собаки устали». Дома пили чай, а затем шли кормить своих подопечных, что тоже требовало и опыта, и навыка. Горячее давать нельзя: повредится чутье, перекормить ни в коем случае: пропадет легкость. Некоторых приходилось «обслуживать» отдельно, не из общего таза, иначе они или объедались, или оставались голодными, так как не могли отстоять своей порции мяса.
В детстве наше общение с собаками было практически круглогодичным. Многие владельцы не имели возможности держать собак у себя дома и предпочитали отдавать в пансионат, который был организован отцом и дядей Митей. Для этих целей во дворе был специально построен флигель, а в нем оборудован собачник. Так мы любовно звали псарню для 25 собак со своей кухней, баней и прогулочной площадкой.
Площадку, впрочем, мы быстро приспособили для своих нужд и часами гоняли на ней в футбол, отрабатывая технику всевозможных финтов и ударов.
Конечно, возни с четвероногими квартирантами было по горло. Но за пребывание каждой собаки платилось по 15 рублей в месяц, что в целом заметно укрепляло бюджеты семей обоих егерей-братьев. Появление любой кошки в пределах нашего двора поднимало на ноги всю псарню. Отец однажды нам рассказал, как прыжок кота лишил глаза чистокровного английского пойнтера, хотя тот наблюдал за котом издали. Именно поэтому, охраняя доверенных нам дорогостоящих породистых собак, мы с криками чем попало гоняли кошек, и в каждом из нас до конца жизни засел условный рефлекс неприязни к этим, по общему мнению, ласковым домашним животным.
Мы были не господские, но и не крестьянские дети. Про нас так и говорили – егерские. При возвращении по осени из деревни в Москву на Пресню наш быт и уклад по-прежнему подчинялся главному делу – охоте. У отца был крутой характер и свои взгляды на порядок в семье: домой все должны были являться засветло. Нам это казалось несправедливым, и при первой же возможности мы стремились нарушить отцовский «указ». Обычно по воскресеньям зимой он уезжал. Это были его любимые дни: бекасов и дупелей сменяли волки и лисицы в лесах Брянской, Тульской, Ярославской, Калужской губерний. Зимняя охота требовала, естественно, больших усилий, чем летняя, была связана с определенным риском и, конечно, выматывала. Отцу было не до наших проделок. Мать тоже не могла уследить за каждым: она еле-еле успевала обшивать, обстирывать и кормить такую ораву.
У нас с Александром, как у старших, появлялась относительная свобода. Пользоваться ею мы старались умно. А что могло быть «умнее» и желаннее для нас в ту пору, чем стенки. Так в обиходе назывались рукопашные бои, которые были очень популярны в Москве до революции.
Как правило, стенки между двумя районами – Пресней и Дорогомиловом – проходили как раз на том месте, где сейчас с одной стороны расположилась гостиница «Украина», а с другой – Дом Совета министров России. Причем у стенок были свои традиции: в них и с той и с другой стороны участвовало по нескольку сотен человек. Непосвященным могло показаться, что идет обычная массовая драка, настоящее побоище. На самом же деле это было хорошо отрежиссированное зрелище со своими звездами и кумирами. Проходила такая забава по воскресеньям и начиналась обычно около десяти утра.
На берегах Москвы-реки собирались зрители. К апогею – часам к трем-четырем дня – их насчитывалось до 10 тысяч. Рукопашная шла на льду. Ее начинали мальчишки 10–12 лет. Они выскакивали примерно по сотне с каждого берега.
У стенки были непременные атрибуты: надвинутые на глаза шапки (мы с братом Александром выпрашивали эти шапки у наших дворников), пальто или куртка – обязательно нараспашку. Неукоснительно соблюдались неписаные законы чести: «драться, любя», «двоим на одного не нападать», «сидячего не бить», «ниже пояса удары не наносить», «после драки не гонять» (не мстить), «закладок не иметь», «ногами не бить». Нарушивших заповеди наказывали и свои и чужие вожаки и с позором изгоняли из своих рядов.
Первый раунд длился примерно минут пятнадцать. Этого времени хватало для определения перевеса. Выражался он в отступлении соперника к своему берегу и в количестве присевших на лед, то есть сдавшихся бойцов. Тогда из лагеря отступившей команды выбегала группа постарше и с победным криком начинала быстро «гнать», «усаживая» младших по возрасту «чужаков», взамен которых, в свою очередь, для восстановления равновесия с другого теперь уже берега спускались дуэлянты-ровесники. Закипали новые поединки.
Прошло с тех пор около 75 лет, но я прекрасно помню своего противника по кличке Заяц. Худощавый, длинноносенький, всегда улыбающийся подросток из рабочей, судя по одежде, семьи. Дрался технично, нанося боковые удары, от которых меня защищала опущенная на уши шапка дворника. Я в ответ пускал в ход прямые. Оба мы целились только в голову и лицо, бить по корпусу на стенке считалось «деревней». Конечно, наша схватка ничем опасным, кроме синяка под глазом да разбитого носа, кончиться не могла. Перчатки на руках смягчали удары, одежда и поднятые воротники надежно закрывали уязвимые места. Но устать мы успевали здорово. Для отдыха поочередно садились на лед и вытирали с лица пот, иногда вместе с кровью. А я еще успевал взглянуть, как идут дела у брата Александра, который дрался рядом, так как был всего на год младше и подвизался со мной в одной возрастной компании.
Большинство из нас заранее выбирали себе противника. Как правило, он был всякий раз один и тот же, потому что мы знали друг друга не первый год и старались по традиции стенок делать так, чтобы силы были примерно равны.
Бывали, конечно, случаи, когда соперником оказывался не Заяц, а кто-то другой. Стычка с новеньким требовала бдительности. «Буфер» под глазом держался несколько дней, а этого, учитывая нрав отца, требовалось избегать. И хотя мальчишеский темперамент увлекал в бой, в большинстве случаев все кончалось благополучно.
Но вот наступал наш черед заменяться. На лед выходили уже взрослые парни с рабочих окраин. Мы, естественно, горячо болели, освистывая дорогомиловцев и восхищаясь своими.
У старших в командах было всего десятка по два пар, и потому за каждой из них можно было отчетливо наблюдать. Они находились в 5–6 метрах друг от друга. Внешне это уже скорее напоминало примитивный бокс, чем национальные русские кулачные бои. Причем ветераны стенок на обоих берегах строго следили, чтобы пьяных на лед не допускали.
Толпы завзятых знатоков и просто зевак с нетерпением ждали появления фаворитов.
Непосредственно перед этим в нашем стане всегда возникала тревога: здесь ли Лобаны и Генечка. Владимир и Алексей Лобановы с Малых Грузин, старшие сыновья в семье железнодорожника, держали в почтении весь район, где мы жили. Об их силе и ловкости среди мальчишек ходили легенды. Я сам однажды был свидетелем, как Лешка Лобан в Георгиевском сквере ударил не приглянувшегося ему захожего здоровенного франта. Тот еле успел уклониться. На голове остался лишь ободок от шляпы… остальное просвистевший кулак отбросил метров на пять в сторону. Весть, что Генечка и Лобаны идут, приводила нас в восторг и заставляла бежать им навстречу.
(Десять лет спустя точно так же мальчишки бегали встречать знаменитого тогда левого инсайда «Красной Пресни» Павла Канунникова.)
С того берега появляется свой богатырь – последняя ставка. Кричат:
– Балда вышел.
Балда идет, все отступают или садятся. И поднимается крик:
– Генечка, Генечка, Балда вышел. С нашей стороны идет Генечка.
И вот окруженные толпой горячих поклонников «вожди спокойные стоят, предвидя гибель иль победу, ведут беседу».
Начинается драка один на один. После каждого удара Генечки наш берег орет:
– Браво, Генечка! Балда погиб!
С другой стороны тоже кричат в поддержку Балды. Они бьются минут двадцать – тридцать, пока не устанут. Наконец кто-то проявляет инициативу – вносит предложение:
– Пожалуй, на сегодня хватит.
– Ну что ж, – соглашается вторая сторона.
И, разойдясь, бойцы медленно, с достоинством шагают к своему берегу, где их ждет восторженная рать сторонников, бурно поздравляющих с успехом.
Мы были до конца уверены, что Пресня победила.
На противоположном берегу так же искренне торжествовали победу дорогомиловцы.
В этом заключался благоприятный эмоциональный фон пресловутых стенок. Они не плодили врагов, не сеяли междоусобиц, не воспитывали жестокости и мести. Читая в сегодняшней прессе о том, что в возрождающихся межрайонных молодежных битвах, в том числе и футбольных «фанатов», участники для выяснения отношений прихватывают с собой велосипедные цепи, железные прутья и кастеты, я испытываю глубокую горечь. Отчего так изменилась психология подростков? Думаю, что и организованные схватки за разделение зон влияния, и разнузданное хулиганство на стадионах – звенья одной цепи. Эти явления – прямое следствие не каких-либо частных упущений отдельных организаций, а общего неблагополучия в молодежной среде, уходящего своими корнями в социальную сферу.
Слишком долго у ребят не было возможностей и условий для массового активного досуга. На ко пившая ся за десятилетия энергия неудовлетворенного самовыражения при сложившихся «запретных» обстоятельствах умело направляется уличными лидерами и выплескивается, приобретая агрессивные, уродливые формы.
Сложно давать рецепты лечения запущенной болезни. Но один из них, на мой взгляд, ясен: необходимо распахнуть двери стадионов и спортивных клубов, постараться сделать их местом, куда бы подростки стремились прийти и при этом знали, что будут находиться там не на птичьих правах. Только доверяя им, можно в ответ заслужить уважение и найти, наконец, общий язык.
…Мы же были в детстве наивны и искренни и, возвращаясь со стенок, в разговорах вновь и вновь беззлобно перебирали понравившиеся эпизоды.
– Ты видел, как Генечка бил Балду с левой? – вопрошал я младшего брата. – А помнишь, как Лешка Лобан во втором разе метелил ихнего длинного?
– Все видел, все помню, – отвечал Александр. – Но что скажем отцу, если он заметит, что у меня губа распухла?
– Придется сказать, что во время футбола ее локтем разбили.
Наша стенка просуществовала до революции, а потом порядком захирела. Перестали проводиться межрайонные битвы между Грузинами и Бутырками, одновременно стенки исчезли и в других районах. Однако я и по сей день благодарен им: в жизни пригодились качества, которые они в нас пробудили, – умение верить в себя, а если понадобится, то и дать отпор.
Так ковались наши характеры. Не только все четверо Старостиных пробились в команду мастеров по футболу и хоккею, но с нами рядом очутились и младшие братья наших стеночных кумиров Павел и Александр Лобановы – такие же здоровяки, которых я и сейчас прошу, при встрече подавая руку: «Не жми».
В 1920–1921 годах я серьезно занимался боксом у тренера Жукова, даже выиграл в полутяжелом весе первенство Москвы среди новичков. В этом мне во многом помогли стенки. Кстати, со схваток на берегах Пресни начинал известный в будущем боксер Мажаров, чемпион СССР.
Ходила молва, что за Бутырки отлично дерется какой-то Иван по кличке Глот. Им затем на поверку оказался знаменитый вратарь нашей футбольной команды 1926–1932 годов Иван Филиппов. Однажды я был свидетелем, как он быстро навел порядок среди «взорвавшихся» болельщиков с помощью фирменных ударов, которых, как он говорил, обычно требовалось всего по одному на каждого, того заслуживающего.
Со временем мы стали гордиться своим участием в стенках. Более того, я убежден: честная борьба и уважение к противнику, ставшие смыслом моего существования в спорте, уходят корнями в те самые рукопашные бои на Москве-реке в 1916 году. А тогда, в детстве, мы с Александром держали участие в них в строгом секрете. Даже от братьев (Андрею шел только восьмой год, Петру и того меньше – шестой), чтобы, не дай бог, не узнал отец. Бог выручал не всегда. Тогда нам здорово доставалось.
Общество охотников «имени императора Александра II» выстроило отцу и дяде за особые заслуги в егерстве небольшой дом на Пресненском валу, с пристроенной кухней, половину которой занимала русская печь. Вдоль нее шел коридор к черному ходу. Через него-то мы и проникали в дом в случае опоздания. Обычно мы с Шуркой на пальцах бросали, кому идти первым. Дальше тактика была отработана. Первый с порога получал от отца затрещину и валился от нее на пол. Второй стремительно мчался мимо в прихожую, куда, заслышав шум и понимая его причины, из своей комнаты немедленно прибегала жена дяди Мити, Агафья Никифоровна, моя крестная – женщина невероятной доброты. Она закрывала собой прорвавшегося, кричала: «Петя, детей бить не дам!», смело шла навстречу отцу, уже державшему в руках увесистый ремень. Как ни странно, отец утихал. Уважение отца и всех вокруг к тете Гаше объяснялось не только ее ангельским характером, но и той помощью, которую она оказывала нашим родителям в воспитании шестерых детей.
Отец и его старший брат были на редкость дружны и всю жизнь прожили в одной квартире. Разговоры за столом всегда склонялись к темам охоты и по своей горячности, разнице оценок напоминали наши дебаты через 10 лет за тем же столом о футболе, где участники споров и слушатели во многом были почти те же, разве что в другом качестве.
Вот так должна была начаться наша дорога в егеря, по которой неуклонно шли мои прадеды и деды из деревни Тарховского уезда Псковской губернии, все те, кто составлял кланы Лихачевых, Зуевых и, наконец, Старостиных, из поколения в поколение обучавших охотничьему делу.
Почему мы, четверо братьев, свернули с тропы предков и ступили на другой путь, открывший нам непостижимый, загадочный, захватывающий, прекрасный мир футбола? Я не могу себе ответить: его магия необъяснима. Да и что объяснять, если даже дядя Митя, относившийся поначалу к нашему увлечению, мягко скажем, пренебрежительно, с издевкой, потом вдруг стал заядлым болельщиком, хотя и не хотел в том никому признаваться. Афиши тогда до Пресненского вала, где мы жили, не доходили, и он, словно невзначай, спрашивал у меня:
– А этот самый футбол когда опять у вас будет?
И посещал исправно нашу «Красную Пресню».
…Отец умер от тифа в 1920 году. Мы с Александром жили тогда в Москве, а вся семья – в Погосте.
Чтобы не умереть с голоду, приходилось все время что-то продавать. У отца было несколько подарочных ружей: каждое стоило по 200–300 рублей. Ружье удавалось поменять на два мешка ржаной муки. Цены были дикие. Картину Левитана меняли на мешок муки или на мешок картошки. Раздобыв обменом съестное, отец поехал в Погост и в поезде заразился сыпным тифом. Крупный и сильный физически человек (зимой всегда на лыжах за волками, летом постоянно в болотных сапогах, с собаками) – такие люди очень тяжело переносили тиф. К тому же упрямый, он и не хотел принимать лекарств. Когда ему давали порошки, он их выплевывал.
Страшная телеграмма – «Отец умер» – шла в Москву три дня. Мы с Александром добирались в Погост на буфере поезда, тащились почти сутки. И опоздали: отца похоронили без нас.
Семья оказалась в трудном положении. Мне исполнилось 18 лет, Александру – 16, Клавдии – 13, Андрею – 12, Петру – 10, Вере – 6. Я оказался главой семьи. С тех пор стал за собой замечать повышенную ответственность и серьезность.
Отец похоронен недалеко от Загорска, на кладбище у шоссе. Когда «Спартак» выезжает на игры в Ярославль или Кострому, всегда прошу водителя остановить автобус. Выхожу и иду на могилу Петра Ивановича Старостина.
Память капитана
Никогда не претендовал на роль публициста. Не умел, не умею и сейчас разложить все по полочкам и настаивать на своих доводах безоговорочно, не желая слушать возражений. Заранее скажу, что не намерен поучать, книгу эту рассматриваю как субъективные заметки, наверное, в чем-то спорные, буду удовлетворен, если они послужат кому-то поводом для размышлений.
Смолоду я был в окружении людей, знавших толк в спорте и в футболе, умевших постоять за собственные взгляды. У меня дома, сначала на Пресненском валу, потом на Спиридоновке, как у старшего брата постоянно собирались младшие – Александр, Андрей, Петр, все известные мастера футбола, сестры – Клавдия и Вера, игравшие в волейбол и русский хоккей в динамовских командах, но тайно, из верности семейному клану, болевшие за «Спартак», бывали мой партнер по нападению «Красной Пресни» Виктор Прокофьев, защитник Павел Тикстон, хавбек Станислав Леута, нападающий Петр Артемьев, игрок, затем тренер Петр Попов… В этом родственно-дружеском кругу авторитетов не существовало, истину искали сообща. Скорее всего, тогда в нашем домашнем клубе я на всю жизнь запасся уважением к мнению людей, зрело разбирающихся в футбольном деле.
Мое приобщение к организованному футболу состоялось в 1916–1917 годах. Началось все с посещения игр первенства города среди учебных заведений, в котором безуспешно участвовала команда коммерческого училища братьев Мансфельд, где я учился. Главный фаворит турнира – команда императорского коммерческого училища – из года в год сражалась за первое место с командой духовной семинарии, которую в народе запросто называли «попы». В ней выступали известные московские футболисты, сыновья священников: Николай Троицкий из клуба «Новогиреево» играл правого инсайда, являясь главной надеждой своих сокурсников, его однофамильцы братья Сергей и Алексей Троицкие из СКЗ (спортивный кружок Замоскворечья) составляли боевую линию нападения. «Попы» упорно рвались в чемпионы, но в итоге «императорцы» все-таки взяли верх при помощи своих асов, Павла Канунникова и Сергея Бухтеева, известных всей футбольной Москве.
Розыгрыш этого турнира, к которому зрители подчас проявляли интерес гораздо больший, чем к чемпионату клубов, продолжался до 1921 года. Жаль, что в настоящее время студенческий футбол пришел у нас в упадок. Розыгрыш первенства московских вузов проходит абсолютно незаметно и не пользуется даже толикой той популярности, какая была у турнира в первые послереволюционные годы. И хотя команда мастеров вильнюсского «Жальгириса» выиграла футбольный турнир Универсиады-87, думаю, этот результат нельзя рассматривать всерьез, как чистую победу нашего студенческого футбола. Все-таки в составе вильнюсской команды выступали профессиональные мастера высшей лиги.
Однако вернемся в годы моей юности. Впервые на настоящее поле, правда примитивное, я вышел 16 лет от роду, и было это весной 1918 года. Поле называлось Горючка, представляло собой известный на всю округу пустырь за нынешним зоопарком, где и приютилась команда РГО (Русское гимнастическое общество). Во второй команде этого общества я и дебютировал в качестве правого инсайда.
Вкратце история такова. Мы с братом Александром начали бегать на коньках на Патриарших (Пионерских) прудах, где находился павильон РГО и где блистали его знаменитые конькобежцы: Струнников, Седов, братья Ипполитовы. Пожалуй, наиболее колоритной фигурой среди звезд РГО был Василий Ипполитов. Он имел собственную мастерскую, чинил там велосипеды и точил коньки. Мастер он оказался высочайшего класса. Но за работу всегда брал вдвое дороже и приговаривал, слегка заикаясь:
– Не экономь, а переплати, зная, что тебе точит коньки чемпион Европы.
Как конькобежец он прославился идеальной техникой бега на поворотах, которая давала ему завидное преимущество перед другими «звездами» тех лет, хотя он никогда не снимал на виражах руки со спины. Свое уникальное искусство он передал сыну Игорю, ставшему впоследствии заслуженным мастером спорта по конькам.
Ипполитов-старший познакомил нас с ответственным секретарем общества, конькобежцем-спринтером Николаем Тимофеевичем Михеевым, еще и ярым футболистом. Своего поля у РГО не было. Мы с братом, знавшие всю округу, и указали Михееву на Горючку. А пустырь тот, надо заметить, пользовался дурной славой, там собиралась местная шпана, картежники. И вот их стали вытеснять поклонники футбола. С утра до вечера шли спортивные битвы. Когда мы, футболисты, оккупировали пустырь, он сразу как бы облагородился. Так что футбол и тогда выполнял культурную миссию.
Пожалуй, именно Горючке все Старостины обязаны своими спортивными успехами. Лет через пятнадцать после описываемых событий, где-то в середине 30-х годов, о брате Андрее даже была опубликована статья под названием «От Горючки до сборной СССР».
Шли поиски наиболее подходящей структуры физкультурной работы, все тогда только складывалось, не раз переделывалось. Это было в порядке вещей, потому что и в спорте совершалась революция: на стадионы хлынул рабочий люд. РГО слилось с ОФВ (Обществом физического воспитания) Краснопресненского района. Так у команды «Красной Пресни» появился стадион (по нынешним меркам – стадиончик) с деревянными трибунами тысяч на пять зрителей. Располагался он на том месте, где сейчас стоит здание издательства «Московская правда». Когда мне приходится бывать в районе бывшей Горючки или в редакции «Вечерней Москвы», я, можно сказать, подошвами чувствую те поля, на которых играл 70 лет назад. Ничего узнать уже невозможно, а память живет и волнует.
Вспоминая свою долгую жизнь и события, навсегда оставшиеся в памяти, я не могу не рассказать, как судьба на несколько минут столкнула меня лицом к лицу с Владимиром Ильичем Лениным. Был я тогда бухгалтером Центральных ремонтных мастерских Мосземотдела. Они помещались рядом с Солдатенковской больницей, в зданиях бывшей московской водокачки. Работало там около трехсот рабочих и специалистов, занятых ремонтом тракторов, сохранившихся после гражданской войны. Там же проводились испытания однолемешного плуга, снабженного мотоциклетным мотором. Изобретателем этого плужка (так именовали его рабочие) был инженер Ильин – прежний владелец заводика «Амо», который в 1914–1918 годах изготовлял грузовики. Этот предприимчивый человек неделей раньше привозил и показывал плужок наркому земледелия Середе.
И вот в обеденный перерыв сижу я в конторе и вдруг вижу в окно, как у ворот остановился автомобиль. Я выскочил к воротам и мгновенно узнал пассажира на заднем сиденье: это был Владимир Ильич Ленин. От неожиданности опешив, я замер по стойке «смирно».
Представляюсь:
– Бухгалтер Старостин.
Владимир Ильич, чуть улыбаясь, протягивает руку из машины:
– Ульянов.
Выйдя из автомобиля, Ленин спросил:
– Середа с Ильиным уже здесь? Я отвечаю:
– Владимир Ильич, пока нет. Он опять с улыбкой:
– Значит, я немножко поторопился, приехав раньше их посмотреть новый плуг.
И тут из мастерских, где уже пронесся слух о приезде Ленина, высыпали рабочие. Через минуту Владимир Ильич стоял в окружении толпы. Подоспевшие Середа и Ильин еле-еле пробились к Ленину. Все направились в цех, где стоял пресловутый плужок, выкатили его и повезли через ворота на расположенное рядом Ходынское поле. Мое взволнованное представительство закончилось. Но перед уходом Ленин отыскал меня взглядом в толпе, подошел, подал руку и сказал:
– До свидания, товарищ Старостин.
Вот так обстоятельства и судьба преподнесли мне встречу с Владимиром Ильичем. Мне не забыть ее никогда…
Кстати, когда я пришел после работы на стадион и поведал ребятам о встрече, они засыпали меня вопросами, просили еще и еще раз повторить рассказ. На моей памяти это был единственный случай, когда никто не спешил начать тренировку.
…Что представляла собой тогдашняя «Красная Пресня», команда, ставшая прародительницей знаменитого «Спартака»? Это был небольшой клуб, объединявший людей, жаждущих играть в футбол. У его истоков стоял энтузиаст и фанатик футбола Иван Тимофеевич Артемьев.
Собственно, два человека поставили меня на ноги – Артемьев и Николай Александрович Гюбиев.
Гюбиев – внешне типичный кавказец – был женат на немке, детей не имел, жил в Спиридоньевском переулке. Он был лучшим знатоком женской моды в царской России, заведовал отделом готового платья в английской фирме «Мюр и Мерилиз», каждый год от фирмы выезжал в Европу закупать наряды на крупнейшие суммы и продавал новинки московским модницам. Но все свободное время в основном уделял футболу. Розалия Иогановна, его супруга, часто у себя дома поила игроков чаем с вареньем и слушала, как ее муж обсуждал с нами, тогда молодыми ребятами, футбольные дела. Именно ему принадлежала знаменитая фраза, ставшая на многие годы девизом футболистов: «Играют враги на поле – друзья в жизни».
Артемьев настоял, чтобы на правом крае в «Пресне» играл я. Он решил: «Этот мальчик вырос у нас, пусть он здесь и играет». Его властью, поскольку он организовывал «Красную Пресню», я оказался в основном составе. Мне было ровно 20 лет.
Московской футбольной лигой руководил тогда Андрей Иванович Вашке, председатель спортивного клуба лыжников в Сокольниках, заместителем его был Гюбиев, председатель клуба ЗКС. Но СКЛ в то время выбыл в класс «Б», а ЗКС носил звание лучшей команды – в 1921 году выиграл первенство Москвы, поэтому «вес» двух могикан футбола был неодинаковый. Заседания лиги проходили каждую неделю по пятницам (утверждался календарь, решались вопросы на предстоящие воскресные игры), причем были они открытыми, как сейчас бы сказали, гласными: наверху, на балконах, которые окружали зал, толпились игроки и болельщики.
В один из осенних дней 1922 года обсуждался состав сборной Москвы. Я стоял и слушал… И вдруг, когда встал вопрос о кандидатуре правого крайнего и Вашке предложил известного в то время Сергея Чеснокова, Гюбиев говорит:
– А я предлагаю молодого края из «Красной Пресни» Николая Старостина. Сергей Чесноков уже в годах, в нем нет огня, который есть в этом молодом игроке. Вот две кандидатуры: Чесноков и Старостин, голосуйте.
За Чеснокова поднимают руки пять человек, за Старостина – шесть. Вашке объявляет:
– Прошел Старостин.
Так, совершенно неожиданно, я попал в сборную Москвы. Пока ехал домой – жил я на Пресненском валу, а заседание проходило на Большой Калужской, – никак не мог прийти в себя.
Мать на меня с беспокойством посмотрела:
– Ты чем-то взволнован? Я отвечаю этак небрежно:
– Да нет, особенно ничем не взволнован. Просто меня сегодня включили в основной состав сборной Москвы, завтра еду в Ленинград. Сейчас, мам, ты мне трусы отгладь, а я пока на бутсах шипы поправлю.
Андрей, ему было в то время 16 лет, и Александр, ему – 18, сразу ко мне:
– Не может быть, Николай, это правда? Ты что, нас разыгрываешь?
Поверили только тогда, когда, провожая, увидели, как я сел в поезд Москва – Ленинград.
В команде Ленинграда выделялись два брата Филипповы. Старший – Петр Филиппов – был знаменитый в те годы правый хавбек. Но любимцем публики был младший из них – Георгий Филиппов, левый хавбек, очень своеобразный игрок. У него левая рука была сухая, но это не мешало ему быть лучшим вратарем игры в хоккей с мячом до тех пор, пока не раскрылся талант Валентина Гранаткина, который и сменил его в 1928 году в воротах сборной.
Когда мы выходили на поле, пробиваясь сквозь толпу ленинградских болельщиков, до меня долетели обрывки любопытного разговора:
– …Смотри, вот их новенький правый крайний, против которого Филиппов играть должен.
– Как его фамилия?
– Вроде Старостин.
– Да наш сухорукий не даст этому мальчишке и шагу с мячом сделать…
Ну-ну, думаю, посмотрим. Я с мячом не шагать, а бегать собираюсь…
Матч начался для нас неудачно: уже в начале игры пропустили гол. Буквально через несколько минут я получил мяч и рванулся с ним вдоль самой бровки по правому краю. Скорость была очень хорошая, Филиппов сразу отстал. Я кинул мяч мимо защитника, вошел в штрафную площадку и не глядя сильно ударил с правой ноги. Смотрю – мяч в воротах. Счет стал 1:1.
Мы проиграли ту игру 4:3. Но, забив ответный гол, я утвердил себя в сборной. (На следующий день председатель Всероссийской футбольной секции Дюперон написал в отчете о матче, что один Старостин в нападении Москвы сделал больше, чем все ленинградское нападение во главе с Бутусовым.)
После игры в раздевалке мне рассказали, что, когда я забил гол, Гюбиев, сидевший вместе с запасными на лавке, от радости вскочил и в пылу эмоций потом сел мимо нее… С ним связано много забавных историй. Помню, как-то на одном из заседаний, к тому времени Николаю Александровичу было уже за семьдесят, он, бедный, задремал. Ему говорят:
– Николай Александрович, да вы, никак, спите… Он сразу нашелся:
– Нет, я не сплю. Я закрыл глаза, потому что обдумываю состав нашей четвертой команды на завтрашнюю игру…
Рыцари российского футбола – Андрей Иванович Вашке, Николай Александрович Гюбиев – были интеллигентнейшими людьми. Благодаря их умелому, компетентному руководству уже в первые годы после революции в советском футболе появились не только отдельные замечательные мастера кожаного мяча, но целые семейные династии.
Впоследствии я неоднократно встречал в прессе статьи о братстве Старостиных, где мы – четыре брата – ставились в пример за столь прочные семейные традиции в спорте. А ведь Артемьевых было пятеро. И все пятеро играли в футбол. Старшего, Ивана Артемьева, я считаю своим крестным отцом в спорте, хотя он был всего-то на 5 лет старше меня. От него мне посчастливилось перенять такие качества, как вера в победу и беззаветная преданность футболу.
Его брат Петр играл в футбол за сборную команду РСФСР. Он прославился тем, что в 1923 году, когда сборная впервые отправилась за рубеж – в Швецию, провез через границу на себе советский флаг. Он был комсоргом и одним из ведущих футболистов страны. Мы выходили вместе на поле в течение целых десяти лет, и я убедился в его высочайшем мастерстве. Под стать ему были Тимофей, Георгий и Сергей.
Все пятеро братьев Артемьевых играли в «Красной Пресне». Правда, сперва в основной состав входили только Иван и Петр, остальные вместе с моими братьями начинали в младших клубных командах и подтянулись к «основе» к середине 20-х годов.
Однажды, когда «Красная Пресня» приехала на матч в Серпухов, произошел курьез. В нашей команде было четверо Старостиных и шестеро Артемьевых (шестым оказался их однофамилец – второй Сергей Артемьев). Когда диктор, объявляя составы, перечислив, как было заведено: Старостин-первый, Старостин-второй, Старостин-третий, Старостин-четвертый, принялся за Артемьевых, публика на трибунах заметно оживилась. А когда он дошел до Артемьева-шестого, раздались возгласы: «Даешь седьмого!» – что, конечно, порядком повеселило зрителей да и нас, футболистов.
Команда, которую сформировал Артемьев, была интересна тем, что в ней играл только тот, кто жил на самой Красной Пресне или в непосредственной близости от Краснопресненской заставы. Но знаменита она была в первую очередь другим – лучшим нападающим советского футбола тех лет Павлом Канунниковым. Он начал свою карьеру в большом футболе, как и Пеле, в 16 лет. Правда, не в «Сантосе», а в «Новогирееве». Но думаю, по своей популярности среди москвичей этот клуб ничуть не уступил бы знаменитому бразильскому клубу.
Канунниковых, кстати, тоже было четверо братьев. Трое из них – Павел, Анатолий и Николай – играли в футбол. Старший, Александр, был конькобежцем.
Вот первый состав команды «Красная Пресня», создавший ей имя в 1922 году: голкипер Станислав Мизгер; беки Павел Тикстон и Владимир Хайдин; хавбеки Константин Квашнин, Иван Артемьев, Анатолий Канунников; форварды Николай Старостин, Виктор Прокофьев, Дмитрий Маслов, Павел Канунников, Петр Артемьев. Старшему, Ивану Артемьеву – 25, младшему, мне – 20. Женатых трое: Иван Артемьев, Квашнин и Тикстон. Остальные – холостяки.
Весь наш, с позволения сказать, бюджет зависел от продажи билетов. В клубе каждому выдавали по одной футболке на год, и мы берегли ее, как святыню. Остальное снаряжение приходилось покупать самим. Иван Тимофеевич Артемьев по своей специальности был сапожник. К тому же с новаторской жилкой. Он снабжал всех нас прекрасными легкими, изящными бутсами за половину существовавшей тогда цены, как он шутил, по себестоимости. Если команде предстояла поездка, чаще всего в Ленинград, Артемьев спрашивал:
– На билеты наскребете?
И тут же предлагал сложиться в пользу тех, кто не мог «наскрести».
Мы были бедны. Но не душой. Стадион был вторым домом, на игры и на тренировки ходили с женами и детьми, кто что мог несли в клуб, патриоты были мы отчаянные. Стадион наш не существовал, а жил. Среди нас был один игрок, который мог себе позволить, опаздывая, приезжать на стадион на извозчике. Все тогда высыпали на улицу и кричали:
– Едет, едет!
Я не могу об этом не вспоминать, когда вижу наш шикарный спартаковский «Икарус» и рядок «жигулей» и «Волг», на которых прибывают на тренировку футболисты…
Мы очень гордились, что все в «Пресне» «местного» происхождения. Однако со временем поняли, что для успешной игры в высшей лиге нам требуется усиление, и Артемьев принял решение пригласить в ряды «Пресни» лучших игроков распущенного клуба ЗКС. Именно оттуда пришли двоюродный брат нашего Виктора Прокофьева Петр Исаков, голкипер Борис Баклашов и два брата Блинковы – Константин и Владимир. Предложил свои услуги и центральный хавбек из «Новогиреева» Сергей Бухтеев.
Все это были игроки сборной Москвы. Их приход, безусловно, резко обострил конкуренцию за место в основном составе. Причем это в первую очередь ударило по самому Ивану Тимофеевичу Артемьеву. В своем мастерстве он уступал Бухтееву, и тренерский совет неосторожно на одну из решающих встреч центральным хавбеком поставил Бухтеева, а не Артемьева. Тот такой незаслуженной, как ему казалось, обиды не стерпел и ушел из «Пресни».
Всю свою неуемную энергию он направил на формирование футбольной команды нового общества «Динамо», созданного по инициативе Ф. Дзержинского в 1923 году. И тем навсегда вписал свое имя в историю советского футбола.
Вместе с ним от нас ушел только Дмитрий Маслов. Все остальные, в том числе и братья Артемьевы, остались верны родной «Пресне». Думаю, что и душа Ивана Тимофеевича по-прежнему была с нами.
Но его ноги и голова уже служили московскому «Динамо».
С самого начала «Пресню» опекал председатель Краснопресненского исполкома Николай Тихонович Пашинцев. Мы всецело зависели от него и во всем ему доверяли. И поэтому, когда в 1926 году Пашинцев был назначен вначале председателем Всесоюзного табачного синдиката, а затем стал председателем ЦК профсоюза пищевиков, вся команда, не задумываясь, отправилась за ним. Так «Красная Пресня» превратилась в «Пищевиков». Нам достался хороший стадион, расположенный на теперешнем Ленинградском проспекте, в Петровском парке, который до революции принадлежал Московскому клубу лыжников. Сейчас он называется «Стадион юных пионеров», а тогда носил имя Томского. После реконструкции переоборудованный стадион пищевиков стал вмещать 10 тысяч зрителей.
Теперь в нашем распоряжении было отличное футбольное поле. Команда не знала на нем поражений. В этом, собственно, не было ничего удивительного: линия нападения «Пищевиков» – Николай Старостин, Петр Артемьев, Петр Исаков, Павел Канунников и Валентин Прокофьев – была на то время, безусловно, сильнейшей в стране. Недаром же мы в таком составе два сезона выступали за сборную СССР.
В 1928 году в столицу приехала французская рабочая команда. Честь флага сборной Москвы защищала практически команда «Пищевиков». Мы обыграли французов со счетом 22:0! Однако гораздо больше, чем победа со столь необычным счетом, мне запомнилось, что в тот день на стадион имени Томского пришли 20 тысяч зрителей! Это был рекорд посещаемости. Интерес к футболу становился необъятным. Именно после того матча приняли решение о строительстве гигантского по тем представлениям стадиона «Динамо» в Петровском парке.
В 1931 году мы выходили на поле под названием «Промкооперация». Еще два года спустя – под спортивным флагом фабрики «Дукат».
Все шло своим чередом, и вдруг как гром среди ясного неба: наш главный профсоюзный покровитель Пашинцев снят с работы. Команда неожиданно оказалась бесхозной.
Примерно тогда же комсомол выдвинул лозунг о создании добровольных спортивных обществ по типу «Динамо», добившегося выдающихся спортивных успехов за первые 10 лет своего существования.
Надо сказать, что комсомол активно участвовал в организации спортивной жизни страны. И не только участвовал, но и диктовал свою волю Комитету по физической культуре, председателем которого был Иван Харченко, бывший заведующий отделом ЦК комсомола.
Как капитан сборной СССР по футболу я был знаком с генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ Александром Косаревым и председателем Всекопромсовета Иваном Епифановичем Павловым. Оба они были страстные охотники. Я же, выросший в семье егерей, рядом с ними чувствовал себя профессионалом, и они с удовольствием пользовались на практике моими советами.
Как раз на охоте у нас возникла идея спортивного добровольного общества Промкооперации. Вскоре я выступил в печати с такой инициативой. В ответ последовала разгромная статья в газете «Труд». Называлась она «Пора вправить мозги Николаю Старостину». Обвинения сводились к тому, что я – профсоюзник – ношусь с комсомольской затеей. Но это лишь подхлестнуло нас еще активнее взяться за дело.
Вот, пожалуй, вкратце и вся предыстория «Спартака», рождение которого имело огромное значение в развитии советского спорта.
Потом появилось много версий, некоторые из которых успели стать легендами, о том, как и почему новорожденному дали имя «Спартак». А что было в действительности? В Промкооперацию входило более десятка союзов различных отраслей: швейный, кожевенный, текстильный, пищевой… Нужно было найти одно, всех объединяющее, название. Но что правда, то правда: искали его в муках. Мы с братьями и друзьями подолгу сидели вечерами у меня дома и ломали себе голову.
В памяти сохранилась поездка сборной Советского Союза в Германию в 1927 году, где нас принимали рабочие-спортсмены, объединенные в клуб «Спартак». У них был значок – поднятая рука с твердо сжатым кулаком. Я часто вспоминал впечатляющее зрелище: сотни встречающих и провожающих людей со вскинутыми в едином порыве руками. «Спартак» – в этом коротком и звучном слове слышалась мелодия порыва, таилась готовность к бунту, чувствовался неукротимый дух. Оно показалось мне очень подходящим. Конечно, я знал, кто такой Спартак. Но, признаюсь, прочитал знаменитую книгу Джованьоли уже после того, как все было решено.
К нашему огромному удивлению, в только что родившееся, еще неокрепшее общество ринулись лучшие спортивные силы Москвы. Легкоатлеты братья Знаменские из «Серпа и Молота»; боксеры Николай Королев, Иван Ганыкин, Николай Штейн, Виктор Степанов; ведущие гребцы, пловцы, конники, баскетболисты и волейболисты. Мы не могли понять, в чем дело. Потом выяснилось, что по Москве пошел слух: в «Спартаке» во главе стоят свои люди – спортсмены. Молва, что у нас не надо ожидать очередного указания руководителей по поводу тренировок, оказалась устойчивой и была лучше всякой рекламы. Если добавить к этому значительные финансовые возможности Промкооперации (ее бюджет позволял не жалеть на «Спартак» никаких денег), станет ясно, почему «Спартак» смог так быстро и крепко встать на ноги.
Наши всемогущие хозяева не моргнув глазом отвалили 260 тысяч за базу в Планерном, перекупив ее у Осоавиахима. У китайского клуба было приобретено здание католической церкви, где после реконструкции устроили залы для бокса, борьбы, бильярда… Но наиболее ценным приобретением стал участок земли рядом с подмосковной Мамонтовкой, блиставшей своей футбольной командой. Кто бы мог подумать, что со временем ничем не примечательная Тарасовка затмит славу Мамонтовки.
В течение сезона в Тарасовке был выстроен стадион с трибунами на 3 тысячи мест и деревянным павильоном, где могли жить футболисты. Главным же богатством «Спартака» стало прекрасное футбольное поле. Вот уже более 50 лет оно сохраняет свою репутацию одного из лучших в Советском Союзе.
Был в московском «Динамо» непобедимый бегун-средневик Николай Денисов. Его отец и старшие братья занимались редким делом – устройством футбольных полей. Они-то и выстроили нам по договору чудо-поле. Оно конкурировало со знаменитым на всю Москву полем в Орехово-Зуеве, которое в свое время оборудовали братья Чарнок – английские инженеры, приехавшие в 1910 году по приглашению Саввы Морозова и работавшие на его мануфактурной фабрике. Именно они, на мой взгляд, и завезли футбол сначала в Орехово, а затем в Москву. Им принадлежит честь проведения таких исторических матчей, как сборная Москвы «английской» против сборной Москвы «русской». Причем старший из братьев, Вилли Чарнок, прежде играл центральным хавбеком сборной Англии. Младший – Роберт уступал ему в мастерстве на поле, но стал известен тем, что, работая после революции в английском посольстве, оказался замешанным в шпионском деле Рейли и был выслан из России.
С самого начала в «Спартаке» сложилась дружная, можно сказать, семейная атмосфера. Во многом благодаря тому, что братья Старостины были крепко спаяны: трудное детство и совместная борьба в спорте приучили нас поддерживать друг друга.
Были ли случаи, когда мы принципиально в каких-то вопросах расходились?
Не было. И сестры были очень дружны. И между братьями я не знаю серьезных ссор. Это на протяжении всей жизни.
Но зато какие споры разгорались по чисто футбольным вопросам! Они возникали при каждом разговоре о футболе. И привести нас к общему согласию было невозможно: каждый имел свое особое мнение.
Я ушел из футбола раньше, чем братья. Это было мучительное расставание. Утешало лишь то, что игра братьев доставляла мне истинное наслаждение. Я мог теперь спокойно с трибуны наблюдать за каждым из них.
Думаю, что Александр был по классу выше нас всех. Более того, я ставлю его мастерство выше мастерства теперешних защитников. Не сомневаясь, отдаю ему место в обороне сборной СССР всех времен. Он очень удачно сочетал технику, силу, характер и спортивную злость. По манере борьбы за мяч чем-то напоминал Олега Кузнецова. Он был единственный защитник, который в одиночку в те годы мог справиться с Михаилом Бутусовым, не давал ему сыграть ни внизу, ни вверху, несмотря на то что рост Александра был всего 178 сантиметров. У него был прыжок, который позволял отрываться от земли на полметра и выигрывать верховой мяч. По характеру самый упрямый из всех Старостиных, он на поле был молчалив, великодушно прощал партнеру ошибки, никогда не кричал и не призывал идти вперед. Главным делом считал оборону своих ворот. Причем мог играть и слева, и справа, но вот в центре ему играть не пришлось. Когда появилось амплуа центрального полуза щитника, Александр уже не выходил на поле. В 1937 году он оставил футбол. Ему было 33 года, для защитника, казалось бы, немного. Но он не стал тянуть, объяснив свое решение так:
– Хочу уйти из футбола если не молодым, то молодцеватым.
Он унаследовал гены своего деда Степана Васильевича Сахарова (ямщики всегда ценились здоровые и толстые) и к 70 годам сильно располнел.
Александр передал капитанскую повязку «Спартака» и сборной страны Андрею. Андрей был другого склада. В игре он постоянно что-то подсказывал, кричал, умолял, грозил. Он был прирожденным вожаком, и это редкое качество ставило его на поле в особое положение: давало право требовать, исполняя роль центрального полузащитника не по названию, а по сути, являясь центральной фигурой на поле, мозгом и мотором команды. Рискну предположить, что Андрей Старостин – один из лучших капитанов в истории нашего футбола.
Петр. Он выступал в амплуа или правого хавбека, или правого полусреднего. Был очень техничен, самоотвержен и храбр.
Хорошо помню встречу «Спартака» и «Динамо» на стадионе Юных Пионеров. В составе «Динамо» – Федор Ильич Селин, знаменитый король воздуха. Он был оригинальный человек: в жизни мягок, как ребенок, а на поле жесток. У Федора была репутация игрока, которого лучше не задевать, его боялись. Игра сразу же приняла грубый характер. Селин сбил кого-то из спартаковцев в центре поля. Свисток. Мы, конечно, к судье. Вдруг подбегает Петр и бац кулаком Селина по лицу. Селин от неожиданности растерялся, посмотрел на меня:
– Ну, Николай, ну и волчонка вы вырастили. Долго мы потом удивлялись, спрашивали Петра, как он осмелился ударить самого Селина, который был на две головы выше его.
Приведу еще случай для характеристики Федора. В 1932 году сборная СССР играла в Турции. У турок в команде был могучего сложения, грозный защитник – Бурхан. Сначала он нанес мне тяжелую травму, потом принялся лупить остальных по ногам. Судил матч Владимир Лукьянович Васильев из Москвы. Бутусов ему кричит:
– Судья, что смотришь, ты же видишь, как он меня ударил.
Владимир Лукьянович – небольшого роста, под англичанина – говорит:
– А ты не подставляй ноги… Мишка кинулся ко мне:
– Капитан, капитан, ты слышишь, что он мелет? Тогда рассвирепевший Селин кинулся на Бурхана.
Тот почувствовал, что Селин идет на него, поздно. Худощавый Федор взлетел вверх… и как даст ему бутсой! Турок сразу упал навзничь. Игру остановили. Подбежал Васильев:
– Селина с поля. Селин возмущенно:
– Что?!
Судья повторяет:
– С поля. Федор на него:
– Ты что, думаешь, мы тебе здесь дадим предать Родину? Ни с какого поля я не пойду.
Я к Васильеву:
– Владимир Лукьянович, разве можно Селина с поля…
В общем, замяли кое-как инцидент. Турки до конца так и не поняли, о чем речь, разговор-то шел по-русски. Бурхана отправили в больницу. А игра получилась драматичная, мы проигрывали, еле-еле сделали 2:2. Вот что такое был Федор Селин. Вот что такое был Петр Старостин.
Но Петру трагически не везло. В самом начале спортивного пути он «потерял ногу» в игре с басками – испанец Силаурэн нанес ему травму. Диагноз оказался неутешительным: разрыв связок. После этого брат перенес несколько операций, и все были неудачные. Медицинской спортивной науки тогда не было, связки сшивать не умели, об искусственных и не мечтали. Последнюю операцию ему сделал знаменитый врач Ланда. Полгода ждали, каков будет результат. В первом же товарищеском матче – опять разрыв. Петр рвался в бой и еще какое-то время мужественно играл на «неполноценной» ноге. Но предательская связка взяла свое. Его карьера завершилась в самом расцвете, в 27 лет. Петр был высшего класса футболист, быть может, потенциально самый талантливый из нас.
Повторяюсь, кроме Старостиных, костяк «Спартака» составляли три брата Канунниковых, четверо Артемьевых, два мужа наших сестер: Виктор Прокофьев и Петр Попов. Согласитесь: такой коллектив был способен благотворно влиять на любого, кто приходил из других клубов.
Психологию одной спаянной спортивной семьи я всячески старался перенести и на другие виды спорта. Думаю, именно в те годы зарождался и складывался тот боевой дух, который впоследствии получил гордое звание «спартаковский». Во многом благодаря ему дерзкий новичок – вновь созданное общество – сумел уже в 1936 году стать чемпионом страны по футболу, а кроме того, воспитать лидеров и чемпионов в легкой атлетике, плавании, гребле, стрельбе, лыжах, коньках, велосипеде, конном и мотоциклетном спорте и даже в бильярде.
Стало ясно, что отныне у «Динамо» появился достойный конкурент. Всерьез и надолго.
Противостояние
Великое противостояние «Спартака» и «Динамо» началось, пожалуй, в 1936 году. И не на спортивных аренах, а на Красной площади, в самом центре столицы. Праздновался традиционный День физкультурника. Как всегда, проходил парад, затем выступления спортсменов. И вдруг на площади развернули громадный ковер, выбежали спартаковские футболисты и стали разыгрывать матч у кремлевских стен. Такое было в новинку.
Мысль показать футбол во время физкультурного парада на Красной площади принадлежала Александру Васильевичу Косареву. Как председатель правительственной комиссии по организации праздника, он настоял на том, чтобы матч провели футболисты «Спартака». В «Динамо» это, естественно, вызвало ревность и неудовольствие.
Речь шла больше чем просто о футболе. Всенародно любимая игра впервые должна была предстать перед взором Сталина. Гора шла к Магомету. Так судьбе было угодно в первые же годы столкнуть ведомственные интересы двух обществ – предполагаемых союзников, превратив их в вечных конкурентов.
Когда предложение Косарева обсуждалось городским партийным руководством, ироническим репликам не было конца. Как играть, когда площадь замощена брусчаткой? К тому же, чего доброго, мяч улетит за Кремлевскую стену, а то, и того хуже, попадет в кого-нибудь на трибунах.
Действительно, самое сложное заключалось в том, чтобы чем-то закрыть брусчатку. После долгих споров было решено сшить огромный, в 9 тысяч квадратных метров, ковер из мягкого войлока и превратить его в стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами.
Началась ковровая эпопея.
По ночам, когда на площади прекращалось движение, сотни три спартаковских спортсменов, от самых юных до самых знаменитых, брали в руки сапожные иглы, метров по десять прочного шпагата и, ползая на коленях, сшивали одну войлочную пластину с другой. По требованию ОРУДа мы обязаны были к утру скатывать ковер, чтобы он не мешал дневному проезду автомобилей. Медленно, трудно, но дело шло.
И вдруг неожиданное осложнение: всполошились пожарные. Сшивая войлок, мы одновременно красили его, ведь поле должно было иметь привычный зеленый цвет. Солнце днем нагревало скатанный ковер, внутри возникала критическая температура, грозившая ему самовозгоранием. Ночью шили, а днем я бегал по разным инстанциям, добиваясь снятия очередного запрета с футбольных портняжных работ.
Несмотря на все трудности, мы успели в срок. За день до парада вдоль ГУМа лежал огромный рулон, замаскированный еловыми ветками. Проклинаемый всеми ковер стал теперь нам дорог.
Сценарий выступлений был расписан буквально по минутам. Режиссером парада был известный ныне руководитель Театра сатиры Валентин Плучек. Тогда он ходил в поношенных ботинках и мятых, единственных, а потому, видимо, для него бесконечно дорогих брюках. До сих пор я в какой-то степени опасаюсь встреч с Валентином Николаевичем, ибо каждый раз, завидев меня, он начинает шумно рассыпаться в комплиментах и благодарить, представляя всем меня как человека, спасшего его от полуголодного существования в конце 30-х годов. Конечно, в этом присутствует элемент чисто театрального преувеличения, хотя, с другой стороны, 5 тысяч рублей – гонорар за режиссуру – по тем временам были не такие уж маленькие деньги.
Футболисты наблюдали за начавшимся парадом через окно ГУМа, ожидая своего выхода, и никто, кроме меня, не знал, что еще накануне все наши усилия и идеи Косарева висели на волоске.
…Мы как раз заканчивали разметку футбольного поля, когда я, с трудом разогнув спину, увидел Косарева, который шел прямо по свежевыкрашенному ковру и как-то странно притоптывал ногой, объясняя что-то идущим с ним военным. Чувствовалось, что те чем-то обеспокоены. Я поспешил навстречу.
– Познакомьтесь, товарищ Молчанов из ОГПУ, – сухо представил мне одного из спутников Александр Васильевич. Затем назвал второго, фамилии которого не помню.
Я поздоровался, несколько озадаченный расстроенным видом Косарева.
– Товарищ Старостин, – сказал Молчанов, – вы не думали о том, что спортсмены при падении могут покалечиться и это произойдет на глазах товарища Сталина? Такой ковер от ушибов не убережет. Я чувствую сапогом брусчатку, ваш войлок слишком ненадежное покрытие. Футбол придется отменить.
Второй кивнул в знак согласия. Я никак не мог взять в толк, почему в присутствии председателя правительственной комиссии кто-то решает судьбу столь тщательно обдуманного и согласованного с инстанциями мероприятия, в которое вовлечены сотни людей.
– Александр Васильевич… – с надеждой произнес я. Но Косарев молчал.
Неужели все напрасно? Столько надежд, столько труда! Как я посмотрю в глаза ребятам, что скажу брать ям? Последнее время в «Спартаке» жили одной мыслью: доказать, что в герои праздника «Спартак» попал не случайно.
Оглядевшись по сторонам, я увидел неподалеку игрока дубля Алексея Сидорова, который аккуратно, по-детски высунув язык, рисовал пятачок 11-метровой отметки.
– Леша, иди сюда! – крикнул я, еще не осознавая, для чего зову его. И пока он шел, меня осенило. – Упади!
Не знаю, что Сидоров подумал обо мне в тот момент, может быть, то, что я перегрелся на солнце, но, видимо, в моем тоне было что-то такое, что не позволило ему вслух выразить сомнение по поводу разумности моего приказа или отказаться. Легко оттолкнувшись, он взлетел в воздух и шмякнулся боком на ковер. И тут же, словно ванька-встанька, вскочил. Я спрашиваю:
– Больно?
– Что вы, Николай Петрович! Хотите, еще раз упаду? Тут наконец вмешался Косарев:
– Зачем же, раз не больно? Думаю, все ясно – играть можно!
На следующий день, когда Алексей переодевался в раздевалке, я увидел его бедро и ужаснулся – оно было иссиня-черное…
Как же я волновался, когда подошло время разворачивать ковер! По моему сигналу сотни рук взялись за 120-метровый войлочный рулон и быстро покатили его. Через несколько минут перед глазами зрителей предстала унылая картина. Площадь оказалась покрытой сморщенной, грязно-зеленой хламидой. Но в тот же миг по взмаху моей руки ковер вместе со мной взмыл в воздух, и через секунду от храма Василия Блаженного до Исторического музея, от гостевых трибун до ГУМа раскинулся стадион с изумрудно-зеленым полем, размеченным белоснежными линиями, с черной гаревой беговой дорожкой и золотистым легкоатлетическим сектором.
В противники основному составу «Спартака» были выбраны наши дублеры – это позволяло превратить матч в футбольный спектакль. Голы были предусмотрены заранее, во всем мыслимом многообразии вариантов: они забивались головой, пяткой, в прыжке, падении, с углового, с пенальти… Сам факт выступления на Красной площади на глазах всего руководства страны так «завел» нас, что играли не щадя себя. Матч закончился с результатом 4:3 в пользу основного состава. Неискушенная в футболе публика, заполнившая трибуны Мавзолея и гостевые места на Красной площади, была в восторге.
Стоя рядом со Сталиным, Косарев незаметно сжимал в руке белый носовой платок. Было условлено: если игра вдруг придется не по вкусу «лучшему другу физкультурников», то по отмашке платком надлежало немедленно все прекратить. Я непрерывно бросал взгляд на Мавзолей, и чем дольше не было взмаха руки, тем яснее становилось: футбол «хозяину» нравился. Вместо оговоренных по сценарию 30 минут матч продолжался почти целый тайм.
Путь к «высочайшему» признанию, на который «Динамо» понадобилось 13 лет, «Спартак» преодолел за 43 минуты.
1937 год принес «Спартаку» новый взлет популярности. Теперь уже всенародной. Причиной тому послужило событие необычайное: приезд в Советский Союз сборной Басконии. Впервые мы встречали футбольных гостей такого ранга.
16 июня на Белорусском вокзале было столпотворение. Ни до, ни после тех дней я не помню такого футбольного ажиотажа. Баски шли по перрону неторопливо и солидно, абсолютно уверенные в себе, признанные лидеры мирового футбола. Игра испанцев вызывала восхищение знатоков и болельщиков. Дважды на лучшем стадионе Парижа был разбит ими знаменитый «Рэсинг» – 3:0 и 3:2. Чтобы спасти репутацию французского футбола, баскам было предложено сыграть с чемпионом страны – клубом «Олимпик Марсель». Испанцы разгромили французов 5:2. Затем последовали две победы в Бельгии, выигрыш со счетом 5:0 у чемпионов Болгарии. Победа в Катовицах 4:3 над сборной Польши. В идеальную сборную последнего чемпионата мира 1934 года журналисты включили трех басконцев. И вот они все трое, вместе со своими товарищами по команде, шагают по московской земле.
Я всматривался в загорелые доброжелательные лица капитана испанцев Луиса Регейро, необычайно физически одаренного Исидро Лангару, «золотого» голеадора итальянского мирового первенства, упитанного, абсолютно непохожего на футболиста, знаменитого хавбека Силаурена. Наблюдая за ними и их партнерами, центрофорвардом Хосе Иррарагори, крайними нападающими Горостицей и Ларинагой, я понимал, какие усилия надо будет приложить, чтобы остановить победное шествие басков по стадионам Европы.
Но к чувству всеобщей восторженности от причастности к футбольному пиршеству примешивалась досада. По непонятным причинам «Спартак» – чемпион страны осеннего розыгрыша 1936 года – не был включен в число соперников испанцев.
…В жаркий июльский день стадион «Динамо» был заполнен до отказа за несколько часов до начала матча. Из разных городов страны поступило заявок более чем на 2 миллиона билетов!
Немногие команды в истории мирового футбола смогли бы оправдать столь небывалый ажиотаж. Баски потрясали. Впечатление, которое они производили своей игрой, можно лишь сравнить с впечатлением от сборной Бразилии образца 1958 года.
Удовольствие, полученное от их игры, было столь велико, что никто даже не расстроился из-за разгромного проигрыша «Локомотива» в первой встрече – 1:5.
Наблюдая следующую игру басков с московскими динамовцами, я пришел к мысли: не так страшен черт, как его малюют. Пожалуй, впервые тогда специалисты поняли, что с ними можно попытаться сыграть на равных. Это подтвердили и динамовцы, проигравшие 1:2 в упорнейшей борьбе.
И все-таки было в их игре что-то необычное. Что? После матча с «Динамо» тренер басконцев Педро Вальяно сказал:
– Встретились два великолепных коллектива, в обеих командах – звезды европейского класса. Жаль лишь, что разговаривали они на разных языках.
Конечно же! Как мы сами раньше не обратили внимания на то, что испанцы даже при равной игре имеют неоспоримое преимущество за счет только-только входившей в моду новой тактики – «дубль-ве». Наша же привычная схема «пять в линию» выглядела анахронизмом и оказалась абсолютно неконкурентоспособной.
Гости продолжали пожинать плоды своих более современных футбольных взглядов в Тбилиси, Минске, Киеве. Только сборная Ленинграда сумела свести матч вничью – 2:2.
При всем восхищении игрой гостей причастные к футболу люди не могли не испытывать горечи от поражений. Но если специалисты пытались разобраться в причинах неудач, то руководители спорта вынуждены были решать другие проблемы: спасать честь мундира, свою репутацию и положение. Тогда у начальства широко было распространено мнение, что в международных матчах даже против друзей-соперников советские спортсмены обязаны побеждать. Любое поражение расценивалось как подрыв авторитета социалистической Родины. Высокопоставленными чиновниками овладевало маниакальное желание не отпускать басков, не обыграв их. Не без труда удалось договориться о двух дополнительных матчах с командами «Динамо» и «Спартак», усиленными игроками других клубов.
Не сомневаюсь, что у всех, кто воочию наблюдал те матчи, они до сих пор в памяти.
Через 15 минут после начала матча-реванша с «Динамо» испанцы ведут 3:0. К концу первого тайма москвичи сравнивают счет – 3:3.
В перерыве с трудом проникаю в раздевалку басков. Мне необходимо посмотреть будущих соперников в боевом настроении. И не верю глазам: тренер испанцев (тот самый Вальяно, который на первенстве мира в финале случайно забил гол в собственные ворота и от потрясения упал на поле без чувств) наливает каждому игроку по полстакана коньяка и разбавляет его кофе. Я был поражен. На улице жара, и вдруг такое. Ладно, думаю, что-что, а это мы у них перенимать не будем.
Во втором тайме в течение 13 минут баски забили в ворота «Динамо» еще четыре гола. Динамовцы ответили одним. Реванш не состоялся – 4:7.
«Спартак» остался последней всеобщей надеждой. Что тут началось! Письма, телеграммы, звонки с советами и пожеланиями успеха. Вызовы на «ковер», где начальники разных рангов с одинаковой важностью объясняли мне, что вся страна ждет нашей победы. Пожалуй, единственным, кто во всеобщей лихорадке, по крайней мере внешне, сохранял холодную голову, был Косарев. Он имел опыт настраивать спортсменов на большие дела. У него это получалось очень хорошо и убедительно. В тот раз он сказал:
– Не робейте, ребята, не боги горшки обжигают. А прощаясь, добавил:
– Кесарю – кесарево, а Косареву – косарево! – мол, мне нужна победа.
В те дни, казалось, весь мир вращается вокруг «Спартака». В доме на Спиридоновке (нынче улица А. Толстого) на одной лестничной клетке находились квартиры Андрея и Петра Старостиных, Серафима Знаменского, Станислава Леуты и вашего покорного слуги. Двери практически не закрывались, сутками звонил телефон. Такая же обстановка царила в Тарасовке, где команда готовилась к историческому матчу. Тренерский совет заседал по нескольку раз в день, определяя состав и тактику предстоящей игры. В этих обсуждениях принимали участие не только специалисты. В Тарасовку зачастили верные спартаковские болельщики – популярнейший артист МХАТа Михаил Яншин, именитые писатели Юрий Олеша и Лев Кассиль. И как ни странно, их приезд всегда оказывался ко времени. Мне врезался в память один эпизод, связанный с Кассилем. Его попросили назвать свой вариант состава на игру. Ответ Льва Абрамовича снова обнаружил в нем тонкого знатока футбола. Он был краток:
– Кого угодно, куда угодно, но Федотова – на левый край обязательно!
Споры вокруг состава велись с утра до вечера и с вечера до утра.
Несмотря на пропасть организационных дел в Москве, я старался при первой же возможности вырваться в Тарасовку, понимая, что главные события происходят там. Накануне игры должен был состояться решающий тренерский совет. Я гнал машину по Ярославскому шоссе, привычно перебирая в памяти фамилии футболистов, пытаясь мысленно расставить их на поле по непривычной тактической схеме «дубль-ве». Сидевшие рядом жена и корреспондент «Красного спорта» Аванесов не хотели отвлекать меня разговорами и лишь изредка перебрасывались отдельными фразами с шофером Петром, у которого я, не имея водительских прав, выпросил руль, и он вынужден был смириться с ролью пассажира. Впереди тащился маленький газик и никак не давал себя обогнать. И вот около Мытищ, где идет ответвление дороги на Болшево, я, не выдержав, выжал акселератор до предела и пошел на обгон. Неожиданно с прилегающего шоссе на противоположную сторону дороги выехал мальчишка на велосипеде. Я с леденящим ужасом понял, что сейчас его собью, и резко вывернул руль влево. Когда жена увидела, что аварии не избежать, она с криком «Коля!» вскочила с заднего сиденья, пытаясь закрыть мне голову руками. Машину вынесло на незамощенную часть, и она, перевернувшись в воздухе, приземлилась вверх колесами в придорожной канаве. Вылетели все стекла. Петр и Аванесов сильно порезались. Самое удивительное, что я не получил ни одной царапины.
Жена лежала, не подавая признаков жизни. Из раны на лбу, заливая ей глаза и лицо, струилась кровь. Первое впечатление – она мертва. Я в отчаянии. Не могу взять себя в руки, тело бьет мелкая дрожь. Вдруг на обочине останавливается черная эмка. И из нее выходит зампред НКВД Прокофьев. (Как потом выяснилось, он возвращался с операции по задержанию легендарного командира Гражданской войны Дмитрия Гая. Гай был необоснованно арестован, его везли из Москвы в тюремном вагоне. На переезде между Хотьковом и Загорском, попросившись в туалет, он выпрыгнул через окно на полном ходу поезда. При падении сильно повредил ногу и ползком далеко, конечно, уйти не мог… Прокофьев руководил операцией захвата.) Он часто бывал на футбольных матчах и, естественно, знал меня.
– Что случилось, Николай?
– Кажется, я убил свою жену.
– Бог с вами, нужно срочно в больницу!
Хотя дело было к вечеру, Прокофьев подключил к моей беде весь персонал мытищинской больницы. Жену забрали в операционную. Я немало видел и испытал в своей жизни, но до сих пор считаю те минуты самыми страшными. Примерно через час вышел хирург:
– Она пришла в себя. Однако месяц придется пролежать в больнице. Думаю, обойдется без серьезных последствий.
Неприятная новость донеслась до Тарасовки. В больницу примчались братья. Как мы грузили мою изуродованную машину и переправляли ее в Тарасовку, помню плохо. Одно могу сказать: с тех пор я за руль не садился.
На следующий день – игра с басками. А у меня перед глазами авария и мучительная мысль, как мгновенно все произошло. До той секунды я считал себя человеком, который умеет владеть ситуацией; после катастрофы понял, что иногда бывают такие повороты, когда все зависит лишь от слепого случая. Сколько раз впоследствии приходилось мне в этом убеждаться!
Но злоключения перед игрой не закончились. В силу особой торжественности момента было решено доставить команду из Тарасовки в Москву на четырех огромных открытых «линкольнах». Их предоставил в распоряжение «Спартака» известный в прошлом конькобежец Николай Иванов, который работал директором автобазы «Интурист». Но «иностранцы» нас подвели. Через какое-то время стали лопаться старые покрышки. Мы то и дело останавливались, возились с колесами, надували запасные камеры. В итоге одну машину пришлось бросить на обочине. Когда мы въехали в Москву, стало ясно, что опаздываем на игру. Повернули с Садового кольца в сторону стадиона «Динамо» и угодили в пробку, образованную нескончаемым потоком машин. По нашей просьбе орудовец разрешил ехать по левой стороне. Ребята стали переодеваться прямо в машинах.
Мы миновали Северные ворота Петровского парка, когда часы показывали 19.08 (матч должен был начаться в 19.00). У служебного подъезда стоял переволновавшийся Косарев и грозил мне кулаком. Ребята выскочили и сразу побежали на поле. Так началась историческая битва с басками.
Я уселся на лавочку за воротами «Спартака» вместе с запасными и от волнения начал выдергивать вокруг себя траву.
Не буду подробно описывать перипетии того матча, многократно по минутам рассмотренного всеми, кто хоть раз брался за историю нашего футбола. Повторюсь только в одном: ни до, ни после я не встречал у него игрока, масштабом своего дарования напоминающего мне Григория Федотова. До сих пор остался в памяти его удар, которым он забил первый гол испанцам. Его по праву можно отнести к «золотым» голам мирового футбола. Находясь на фланге, почти на линии ворот, Федотов пробил не известным тогда никому резаным ударом, и мяч, пролетев метров тридцать, вонзился в сетку мимо опешившего Бласко.
У Григория Ивановича была одна особенность: при небольшом росте 44-й размер ноги с очень низким подъемом. Его стопа чем-то напоминала мою, и, выступая за «Спартак», Федотов иногда играл в моих бутсах – они ему были впору. Это дает мне шутливое право считать себя соучастником творимых им на поле футбольных шедевров.
При счете 2:2 во втором тайме судья Иван Космачев, начальник финотдела центрального совета «Спартака», назначает в ворота басков пенальти за снос Федотова. Испанцы протестуют. Но Космачев неумолим. Никто из наших не решается подойти к мячу. Я внимательно смотрю на игроков, пытаясь понять состояние каждого. Нужен футболист с холодной головой. Вижу, как киевлянин Шиловский вроде бы безучастно стоит на углу штрафной и, улыбаясь, наблюдает за возбужденной жестикуляцией испанцев, обступивших судью. Подбегаю к бровке и что есть сил, боясь, что кто-то меня опередит, кричу:
– Бьет Шиловский!
Киевлянин не торопясь изготавливается для удара, словно бить пенальти в раскаленной атмосфере динамовского стадиона – привычное для него дело. Гол! Басконцы, по инерции продолжая все еще выяснять отношения с судьей, окончательно выпускают инициативу. Мы забиваем им еще три мяча.
Кто бы мог подумать?! На табло невероятные цифры – 6:2. Финальный свисток. Все. «Спартак» входит в историю.
При всеобщем ликовании мало кто обратил внимание на маленькую информацию в «Красном спорте», где сообщалось о том, что за неправильно назначенный в матче с басками пенальти судья Иван Космачев дисквалифицирован и отлучен от всесоюзной коллегии судей. Сейчас, спустя столько лет, было бы смешно восстанавливать мельчайшие подробности. И тем не менее, вспоминая тот пенальти, я повторяю про себя фразу поэта: «Но царь смотрел на все очами Годунова». А я смотрел на все глазами спартаковцев. По-моему, пенальти был стопроцентный.
Как ни странно, Космачев был наказан не из-за протестов испанцев, а исключительно по желанию отечественных доброхотов. К числу таковых относились те высокопоставленные приверженцы «Динамо», кому был не по сердцу триумф «Спартака».
Его успехи и популярность были налицо. Не случайно второй год подряд право организовать спортивное действо на физкультурном параде вновь доверили «Спартаку». Я стал думать, что же показать на сей раз. И придумал: предложил грандиозное зрелище – соревнование по гребле и плаванию на Красной площади. Это казалось фантастикой, но инженеры все рассчитали. Строились специальные козлы, на них крепилась особой марки резина, которую изготовлял завод «Богатырь». Получалась мини-река шириной 6 и глубиной около 3 метров. По ней спокойно могли пройти байдарки, даже моторки. «Река» начиналась на Никольской улице, шла вниз по Красной площади и стекала в Москву-реку. Финиш намечался у Лобного места. Но возникла проблема: чтобы наполнить «реку», надо было на 20 минут закрыть снабжение Кремля водой. Я выяснил, что подобные перебои случались из-за аварий, и полагал, что дадут разрешение и нам. Но нам запретили. В последний момент госкомиссия проект не пропустила. Было высказано опасение, что, не дай бог, рухнут опоры и вода зальет Мавзолей. По расчетам, вода могла подняться у ступенек Мавзолея только на уровень 15 сантиметров, но это никого не убедило. Бились мы с комиссией месяца три, однако сражение проиграли. Пришлось во время парада вновь «ограничиться» футболом.
…21 августа 1937 года в газетах был опубликован Указ о награждении лучших физкультурных обществ и спортсменов Отечества. Заслуги созданного в 1923 году «Динамо» были отмечены орденом Ленина. Столь же высоко оценили и деятельность практически новорожденного «Спартака» и, к моему немалому удивлению, труд его руководителя – вашего покорного слуги. Кроме того, в числе 11 ведущих футболистов страны Александр был награжден орденом Трудового Красного Знамени, Андрей – орденом «Знак Почета».
Для ревнивых и тщеславных недругов «Спартака» это был еще один достаточно болезненный укол.
На прием в Кремль по случаю вручения правительственных наград я шел в прекрасном настроении, считая свое приглашение туда подтверждением недавних громких спартаковских успехов.
Накануне нас, человек примерно триста, специально собрали на инструктаж и объяснили, что у каждого будет строго закрепленное за ним место, причем разрешалось перемещаться по Георгиевскому залу свободно, но с одной поправкой: относительно своего места только назад. Потому как впереди был стол, за которым находились члены Политбюро.
Ближе к концу банкета после изрядной дозы тостов Ворошилов вдруг встал и крикнул:
– Ребята, что же вы так далеко сидите, идите сюда! Давайте посмотрим друг на друга поближе.
Все разом вскочили и кинулись к «любимцам народа». Возникла суета, давка, раздались крики, загремели опрокинутые стулья, кто-то побежал прямо по столам.
Награжденные орденом Ленина сидели впереди, и я волею случая оказался прямо напротив Сталина – нас разделяла лишь ширина стола. Толпа надавила. Сталин отшатнулся и встал. Следом сразу же поднялись соратники и гуськом вдоль стены быстро-быстро прошли во внезапно открывшуюся боковую дверь в стене. Прием был закончен.
В памяти остались разбитые фужеры, залитая вином белая скатерть и разительное несоответствие вождя его же портретам: невысокий рост, необычайная бледность и следы оспин на лице…
Может быть, не стоило утомлять читателя описанием пира во время чумы – по стране уже шла лавина репрессий 1937 года. Но я пишу правду. А правда, чего бы она ни касалась, всегда способна дать дополнительную пищу для размышлений, помочь осознать истоки событий, высветить малоизвестные факты, оттеняющие общественную атмосферу.
Все приведенные здесь выводы и рассуждения кажутся мне правомерными сейчас, когда я могу окинуть взглядом историю становления и развития советского футбола. Что-то проанализировать, сопоставить, попытаться объективно оценить прошедшие события.
Более полувека назад вряд ли я был способен на трезвую оценку обстановки. Да, честно говоря, тогда меня это и не очень занимало.
Волновало и придавало смысл жизни совсем другое: сознание причастности к всенародно любимой игре и чувство ответственности за высокий, честно завоеванный авторитет «Спартака».
История одной переигровки
…И все-таки поначалу великое противостояние «Динамо» и «Спартака» носило чисто спортивный характер. Весной 1936 года динамовцы стали первыми чемпионами СССР. Мы были третьими. Но осенью уже спартаковцы завоевали золотые медали, оставив чемпионов на втором месте. В 1937 году конкуренты поменялись местами. Между тем, несмотря на жаркие схватки на зеленых полях, за их пределами мы все считали себя членами одной спортивной семьи.
У меня сложились добрые, приятельские отношения с динамовцами. Коммерческими делами там ведал Николай Игнатов, производственными – Дмитрий Маслов. С первым – бывшим защитником «Новогиреева» – мы играли рядом в сборной Союза по хоккею с мячом. Со вторым – целых десять лет вместе выходили на футбольное поле в составе «Красной Пресни». Но не они, к сожалению, делали погоду в «Динамо».
…Первый тревожный звонок прозвенел все в том же 1937 году.
Сразу после сенсационного выигрыша спартаковцев у басков, прямо в раздевалке, Косарев объявил: «Спартак» едет на III рабочую Олимпиаду в Антверпен, а оттуда на турнир в Париж, приуроченный к Всемирной выставке.
Не буду подробно рассказывать о проведенных за рубежом матчах, о них писал Андрей в своей книге «Встречи на футбольной орбите». Скажу только, что оба престижных соревнования мы выиграли и возвращались в Москву с чувством выполненного долга.
Поезд медленно катил вдоль перрона Белорусского вокзала. Мы, высунувшись из окон, с нетерпением искали взглядами друзей и близких. Но чем дольше всматривались в лица встречавших, тем больше замечали озабоченность и беспокойство. Первые же вопросы: «У вас все в порядке?», «Что случилось?» – окончательно сбили нас с толку… Оказывается, по Москве уже несколько дней ходили разговоры о том, что мы недостаточно активно боролись за престиж советского спорта. И что удивительно, несмотря на абсурдность слухов – мы же выиграли! – они упорно муссировались.
Дома жена показала мне статью в одной из газет. Она называлась «О насаждении в обществе «Спартак» буржуазных нравов». Среди прочего бреда там говорилось, что братья Старостины – первоисточник вредных для советского спорта настроений. Каких же? В статье раскрывалась страшная «тайна», что в «Спартаке» спортсмены общесоюзного значения получали деньги. Им действительно платили стипендию – что-то около 80 рублей. Умалчивалось же о главном: делалось это по решению Комитета физкультуры, утвержденному А. И. Микояном.
Обстановка становилась все тревожнее. Поэтому на семейном совете решили просить, чтобы нас принял Косарев. Необходимо было выяснить ситуацию до конца.
И вот мы сидим вчетвером – Андрей, Александр, Петр и я – в кабинете секретаря ЦК комсомола. Всегда спокойный и уверенный в себе, он нервно расхаживает по кабинету и повторяет одно и то же: «Не волнуйтесь. Вранье надо опровергать делом, а ваше дело – выигрывать. Этим вопросом в прокуратуре занимаются Андрей Воронов и Лев Шейнин, они обещали мне во всем разобраться».
Не знаю, обладал ли наш покровитель дополнительной «закрытой» информацией или просто по-человечески нас успокаивал, но вскоре в «Известиях» появилась короткая заметка, озаглавленная: «Дело братьев Старостиных прекращено».
Как сказал Андрей – бомба не взорвалась. Но она не была обезврежена. Обстановка говорила сама за себя. Оказались арестованными сотни спортсменов и десятки близких мне лиц. Был арестован первый муж моей сестры Клавдии, Виктор Прокофьев, бывший футболист «Спартака». Был арестован Володя Стрепихеев, с которым я в сборной по хоккею с мячом играл много лет. Он возглавлял «Буревестник». Ему выпало несчастье судить тот самый матч с басками, в котором «Динамо» проиграло 4:7. Был арестован лучший в то время судья и первый руководитель «Локомотива» Виктор Рябоконь. Была арестована целая группа лыжников, среди них спартаковские – Николай Королев и трое его братьев. Самое главное, никто до конца не понимал – за что? Я знал только одно: что все они безукоризненно честные и хорошие люди. Это знали и другие, чьих друзей и родственников посадили. Однако специально распускались слухи, компрометирующие репрессированных. До нас доходили странные разговоры. Начинали вспоминать: а был, к примеру, Прокофьев за границей? Выяснялось, что был. А, делался вывод, ну, значит, его там завербовали и он шпион. Так объяснялся произвол и обрабатывалось общественное мнение.
Я отлично знал Володю Стрепихеева. Мы всю жизнь с ним были рядом, играли в сборной по хоккею. Знал его и в частной жизни. Когда он был арестован, тоже начали спрашивать: а он куда с вами ездил играть в хоккей? В Швецию ездил? Да? Значит, что-то не чисто…
Если бы мне сказали, что Королева будут судить как политического, я бы ответил, что это величайшая глупость. Но шел шепоток, что его взяли за скупку у иностранца валюты…
Был арестован руководитель Промкооперации Казимир Васильевич Василевский. После него председателем Всекопромсовета назначили Михаила Семеновича Чудова, второго секретаря Ленинградского обкома партии, члена партии с 1913 года. Находясь с революционных лет на высоких постах, с Молотовым он был на «ты» и называл его «Слава». Свою работу в Промкооперации рассматривал как шутку истории. Думаю, что, будучи председателем Всекопромсовета, занимался только одним «Спартаком». Он как-то мне сказал: «Все, что есть в Промкооперации хорошего, – это «Спартак». Приезжал к нам в Тарасовку, дневал-ночевал в команде, нас вызывал беспрерывно к себе в кабинет на Неглинной. Ему было лет сорок пять, но на нем не было ни капли жира, и вообще он выглядел атлетом (парился в бане заправски, как знаток, в четыре веника). В Тарасовке мы как-то ловили рыбу: он шел с одной стороны невода, а с другой – три брата Старостиных, которые еле-еле за ним поспевали…
Чудов был женат на Шапошниковой, председателе Ленинградского городского совета профсоюзов, родной сестре маршала Шапошникова. Сложилось так, что она осталась в Ленинграде, а он прибыл в Москву один, считая, видимо, свое пребывание здесь кратковременным. Михаил Семенович не ошибся: он и правда проработал у нас недолго. Его арестовали через полгода.
Надо сказать, что аппарат Лубянки действовал так, чтобы общественность не особенно тревожилась. Ясности, кого в чем обвиняют, не было никакой. Распускались неправдоподобные, просто абсурдные слухи. Я тогда еще не знал: чем невероятнее слух, тем легче готов в него поверить обыватель. Выяснить же что-либо не было никакой возможности. С утра люди набирали номер телефона, чтобы проверить, забрали человека или нет. Если отвечали: «Слушаю», звонивший, не произнеся ни слова, опускал трубку на рычаг, удостоверившись, что пока человек на свободе.
Аресты были ежедневные, неожиданные. Как выстрел наповал – враг народа Косарев! А вскоре удар и по другим покровителям «Спартака». Ничего толком не понимая, в «Спартаке» все считали себя обреченными. В 1939 году я ждал ареста каждый день. Но спортивная борьба продолжалась. Два года подряд, в 1938-м и 1939-м, спартаковцы добивались невиданного успеха: делали «золотой дубль» – выигрывали и кубок, и первенство страны. Этот рекорд непоколебим до сих пор, хотя минуло 50 лет. (Золотой юбилей «золотого дубля».)
Дела успешно шли не только в футболе. Процветали бокс, конный спорт, легкая атлетика, волейбол, лыжи, хоккей, плавание… А судьба вновь и вновь, будто нарочно, сталкивала интересы «Спартака» и «Динамо».
В своих размышлениях я не раз обращался к мысли о том, что конкурент в любых областях – фигура малоприятная. С некоторых пор в «Спартаке» стали замечать, что к его спортивным успехам ревностно относятся люди далеко (вернее – высоко) за пределами стадионов.
Особенно остро это почувствовалось, когда Берия, сменив Ежова, возглавил НКВД. Точнее, после того, как он стал почетным председателем общества «Динамо».
Надо сказать, что и до Берии высших динамовских руководителей можно было нередко увидеть в центральной ложе стадиона в Петровском парке. Туда приезжали Ягода, его заместитель Петерс, бывший секретарь Дзержинского и Менжинского Герсон. Рассказывали, что во время одного из матчей, когда мяч влетел в ворота и вокруг закричали: «Гол!», «Браво!» – Петерс спросил: «А чему они радуются?» – «Как чему? Это же гол!» – «Гол? А что это такое?»… Для него футбол был только возможностью отвлечься и подышать свежим воздухом…
Особую активность как болельщик проявлял Вениамин Леонардович Герсон. Интеллигентнейший человек, он ничего не мог с собой поделать, когда речь заходила о футболе. У него была маниакальная страсть поучать всех и вся, обязательно при этом добавляя, что он видел, как играл в футбол сам Дзержинский. Мы добродушно посмеивались, когда он, при своем маленьком росте и заметном животике, с необычайной живостью показывал, как именно надо было сыграть, смешно пиная мяч роскошными хромовыми сапогами…
Но появления названных лиц носили все-таки эпизодический характер, Берия же стал посещать практически каждый матч с участием динамовских команд. Сам по себе этот факт никого не удивлял. Мы знали, что в юности он играл за одну из грузинских команд и, естественно, сохранил интерес к футболу. Мало-помалу к его визитам привыкли. Более того, радовались, что в высшем руководстве страны есть полномочный представитель спортсменов, свой брат-футболист. Не могли же мы предположить, что бывший левый хавбек будет столь болезненно реагировать на наши успехи.
Изредка я видел Берию на совещаниях у Вышинского, который тогда, будучи заместителем председателя Совнаркома, курировал спорт. В моем представлении суть человека обязательно проявляется в его внешности. Глядя на Берию, я задавался мыслью: как может быть хорошим человек с такой наружностью? Он без всяких границ растолстел, при среднем росте, судя по фигуре, весил явно за 100 килограммов. Отекшая физиономия, шея многочисленными бесформенными складками вываливалась из-под воротника рубахи, всегда мокрые жирные губы. И глаза – зеленые, навыкате, рачьи глаза, которые сверлили вас через толстые стекла пенсне. При всем желании в его больших зрачках невозможно было уловить что-либо человеческое.
Вскоре о хозяине Лубянки в футбольном мире стали ходить всевозможные слухи – о «накачках» перед матчами и разносах после них в случае поражения.
Однажды динамовец Василий Трофимов рассказал брату Андрею такую историю.
Раздосадованный тем, что его команда вынуждена пребывать на вторых ролях, Берия вызвал к себе одного из тренеров «Динамо».
– У меня только один вопрос, – произнес Лаврентий Павлович. – В чем дело? – Слова повисли в густой, зловещей тишине огромного кабинета. – Ну, – блеснул он стеклами пенсне, – я жду…
– В «Спартаке» больше платят, – наконец вымолвил тренер.
– Как? – удивился Берия. – «Пух и перья» получают больше, чем чекисты? – И бросил стоявшему навытяжку помощнику: – С этим надо будет разобраться и поправить.
– Есть разобраться и поправить! – отчеканил офицер.
– Ты запиши. Я поумнее тебя и то иногда записываю нужные мысли, – не взглянув на него, с неприязнью сказал хозяин. И сразу словно забыл о суще ст вовании побледневшего адъютанта. – Что еще? – спросил у тренера.
– Есть проблема в защите, но мы надеемся… Берия не дал тренеру договорить:
– Может, вам в защиту роту пулеметчиков поставить? Это можно. Только учтите, ваши спины тоже будут на мушке. Подумайте о сегодняшнем разговоре. Я вам не советую о нем забывать…
Слушателями Трофимова в «Метрополе» – любимом в те годы месте сбора московской богемы, кроме Андрея, были Юрий Олеша и Михаил Яншин. Вполне допускаю, что рассказчик, стараясь произвести впечатление на столь знатную компанию, мог что-то приукрасить. Хотя, честно говоря, вспоминая обстановку тех лет, ничего неправдоподобного в рассказанной Трофимовым истории не вижу.
Как бы то ни было, одно я знал абсолютно точно: разносы разносами, но спортсменам-динамовцам Берия помогал. Тем болезненнее им воспринимались их неудачи.
Думаю, наиболее чувствительный удар по самолюбию он получил в 1939 году. Выяснение отношений между «Спартаком» и «Динамо» по воле случая имело особый подтекст. В продолжающемся соперничестве интересы «Динамо» представляла на этот раз команда Тбилиси.
В октябре в полуфинальном матче на кубок СССР сошлись «Спартак» и тбилисское «Динамо». Все помнили еще полуфинальный поединок этих же соперников в розыгрыше кубка 1936 года. Тогда, проигрывая за 12 минут до конца матча 1:3, «Спартак» сквитал счет. Была назначена переигровка. На следующий день события повторились с той же точностью, но только наоборот – сначала «Спартак» вел 3:1, а в последние 15 минут пропустил два гола. Вновь ничья, вновь 3:3. Опять дополнительное время, за которое «Спартак» постигает катастрофа: он пропускает еще три мяча. Счет 6:3. Триумф Тбилиси. Динамовцы выходят в финал, где, однако, проигрывают московскому «Локомотиву».
Прошло три года. Но у футболистов долгая память, а еще длиннее память у болельщиков. Новая встреча, безусловно, воспринималась всеми как продолжение тех драматичных поединков.
…Во втором тайме спартаковец Андрей Протасов наносит удар по воротам. Вратарь динамовцев Дорохов бросается за мячом, но не достигает его. И тут капитан тбилисцев Шевгулидзе в невероятном шпагате, не давая опуститься мячу на землю, выбивает его в поле. Поздно: судья фиксирует гол. Тбилисцы бурно протестуют. Помощник рефери подтверждает: гол был, «Спартак» выигрывает 1:0.
Судил матч ленинградец Иван Горелкин, в прошлом футболист ленинградского «Динамо». Авторитет его в спортивном мире был достаточно высок. Он прославился как левый крайний сборной команды СССР по хоккею с мячом. Виртуоз, он во время игры мог проделывать такие номера: бил мяч о борт, сам выскакивал за пределы поля, бежал вдоль бортика с другой стороны, обегая защитника, потом, оторвавшись от него, вновь впрыгивал на поле и овладевал мячом… Нечто подобное в хоккее позже случалось лишь в исполнении Всеволода Боброва.
Вот кому судьба вручила свисток в тот злополучный день…
Руководство тбилисского «Динамо» подало протест. Всесоюзная футбольная секция его отклонила. Председатель Всесоюзного комитета по физкультуре и спорту В. В. Снегов утвердил отказ.
Через две недели мы спокойно выигрываем финал у ленинградского «Сталинца» – 3:1.
«Спартак» получает кубок, празднует победу…
Проходит месяц. Футбольная жизнь течет своим чередом. И вдруг ко мне в кабинет вбегает администратор «Спартака» Семен Кабаков и с порога произносит:
– Николай Петрович, я только что был на «Динамо», неожиданно встретил там тбилисцев. Они говорят, что приехали переигрывать с нами полуфинал.
Я спрашиваю:
– Ты в своем уме? Как это переигрывать полуфинал, когда уже финал разыгран? Вот кубок стоит, полюбуйся.
Он опять за свое:
– Их поселили в домике у входа, где обычно живет сборная. Я говорил с Пайчадзе, он врать не будет.
Ничего не понимая, совершенно ошарашенный, заглядываю в календарь первенства. Действительно, странно – что бы им тут делать, в Москве, если игр у тбилисцев на этой неделе по расписанию нет. На всякий случай звоню в Комитет физкультуры. Мне отвечают:
– Есть решение переиграть матч. Вот так так! Что же делать?
Вторым секретарем горкома партии в то время был Владимир Константинович Павлюков, болельщик «Спартака». Понимая, что дело принимает нешуточный оборот, еду к нему за советом. Озабоченный услышанным не меньше меня, он снимает трубку прямого телефона к Щербакову. По разговору понимаю, что первый секретарь горкома не в курсе. Павлюков это подтверждает:
– Успокойся, Николай, никакой переигровки не будет.
Проходит еще два дня. События развиваются, как в детективе. Меня вызывает председатель Комитета физкультуры Снегов:
– Я сам не понимаю, что происходит, ты же знаешь, мы официально отклонили протест. Но есть указание полуфинал переиграть.
Я категорически отказываюсь, уверенный в поддержке Щербакова. А назавтра сижу уже в кабинете заведующего отделом ЦК партии Александрова.
– Товарищ Старостин, решение о переигровке принято, вам надлежит его исполнять.
– Это невозможно. Переигрывать полуфинал после финала – случай в спорте беспрецедентный.
– Не вам решать, что возможно, что нет. Вас вызвали не для дискуссий, а для того, чтобы передать личное поручение товарища Жданова. За его выполнение вы отвечаете своим партийным билетом. Ясно?
– Товарищ Александров, я беспартийный.
– Да? Ну тогда как руководитель «Спартака». Вы свободны.
В тот же вечер заключительный аккорд – звонок Щербакова:
– Николай Петрович, игру придется переиграть. Есть указание, которое не может быть не выполнено. Готовьте команду.
Положение «Спартака» оказалось архисложным. Накануне в игре с ЦДКА Андрей Старостин получил серьезную травму: нападающий армейцев Алексей Гринин случайно, как он потом утверждал, наступил на руку упавшему Андрею. Перелом.
В горячке борьбы к Гринину подбежал спартаковец Алексей Соколов и ударил его кулаком в лицо. Судья справедливо выгнал Соколова с поля, дисциплинарная комиссия дисквалифицировала его на три матча.
Алексей был одним из ведущих игроков команды, нападающий, почти равный по классу Степанову. Боец, не знающий страха и сомнений.
Вот так глупо «Спартак» лишился двух ведущих футболистов. Я требовал, чтобы переигровка велась в старых составах. Андрею наложили на руку гипс, он, конечно, играть не мог. Но Соколов имел право выйти на поле. Мы настаивали на том, что он должен играть, тбилисцы возражали. Футбольная секция, которой руководил тогда Валентин Гранаткин, поддержала позицию «Динамо». Этот раунд был нами проигран.
Но предматчевая борьба не закончилась. Оставался нерешенным главный вопрос: кто будет судить. Каждой из команд было предложено назвать по пять судей. Вскрыли конверты, посмотрели фамилии – ни одной «общей» кандидатуры.
Видя безвыходное положение, Снегов принимает волевое решение: назначает судить матч Николая Усова. Это было хоть и маленькое, но все-таки облегчение «Спартаку». Дело в том, что Горелкин был дисквалифицирован. Тем самым как бы ставилась под сомнение репутация ленинградской коллегии судей. Мы рассчитывали, что Усов, тоже ленинградец, объективным судейством постарается восстановить пошатнувшийся престиж арбитров своего города.
В сложившейся неблагополучной для «Спартака» предматчевой обстановке такая естественная, на первый взгляд, вещь, как объективное судейство, воспринималась словно подарок судьбы.
Однако, сколько бы времени ни отнимал у нас судейский вопрос, голова постоянно болела о другом. Кто заменит Андрея Старостина и Алексея Соколова?
Нам пришлось перекроить почти полсостава. Вместо Соколова вышел Андрей Протасов. Центрального защитника Андрея заменил Константин Малинин, а вместо него правым хавбеком встал Сергей Артемьев. С левого на правый край мы переставили Владимира Степанова, место правого инсайда занял Георгий Глазков…
После всех этих перестановок, по-моему, лишь один игрок занял свое привычное место на поле – это вратарь Анатолий Акимов. В тот день была его очередь выходить на поле. В запасе оставался сам Жмельков.
Я что-то не припомню, чтобы когда-нибудь потом в нашем футболе появилось сразу такое созвездие вратарских талантов, как в 1937–1938 годах: Владислав Жмельков, Анатолий Акимов, Евгений Фокин, Владимир Никаноров, Николай Разумовский (все Москва), Виктор Набутов (Ленинград), Александр Дорохов (Тбилиси), Николай Трусевич (Одесса – Киев).
Беру на себя смелость утверждать, что среди блистательных голкиперов того времени совершенно особняком стоит Жмельков. Ради него стоит сделать отступление.
В моей памяти Владислав остался как вратарь почти сказочный, вратарь без слабых сторон. Это не умозрительное заключение. За полтора года пребывания в «Спартаке» он отразил все одиннадцатиметровые удары, назначенные в его ворота. Среди них был пенальти-кик, назначенный «Спартаку» за 7 минут до конца кубковой игры при счете 0:0. В сезоне 1939 года Жмельков, чередуясь в играх с Акимовым, пропустил в свои ворота всего семь мячей.
Высокий (183 см), сухощавый, физически сильный, пружинистый и уверенный в себе, Жмельков вопреки обычным воплям вратарей «Не давайте бить!» не раз покрикивал своему главному партнеру Андрею Старостину (№ 3): «Да пропустите его, Андрей Петрович! Пусть пробьет…»
Вот и представьте, как действовали эти слова на защитников и как такая уверенность отражалась на чужих форвардах.
Жмельков делал все образцово: одинаково безупречно играл внизу и вверху, тонко угадывал место в воротах и безошибочно сражался «на выходах». Его популярность принесла ему медаль «Лучшему спортсмену года», учрежденную газетой «Красный спорт». А ведь в 1939 году в опросе, проведенном газетой среди читателей, фигурировали имена Михаила Ботвинника, боксера Николая Королева и других наших знаменитостей.
В чем же секрет мастерства Жмелькова? Думаю – помимо природного таланта, в феноменальном трудолюбии. Он тренировался в воротах по 5–6 часов ежедневно. Он молился в то время одному богу – футбольному мячу (в дальнейшем, к несчастью, у него появились другие кумиры).
Владислав отлично играл и в поле – правого защитника. Такой редкой способностью совместительства на моей памяти владел только правый защитник (1922–1924 гг.) Василий Степанович Лапшин. В те годы он успешно соревновался за право занимать место в воротах московской сборной с самим Николаем Евграфовичем Соколовым.
Интересно, как очутился в «Спартаке» Жмельков и как он от нас ушел.
В 1937 году в армию был призван спартаковский вратарь Анатолий Акимов, оказавшийся поэтому в воротах московского «Динамо». А в московский «Спартак» перешел оттуда обиженный вратарь динамовцев Александр Квасников. Мы ему в дублеры искали молодого вратаря. В связи с этим кто-то из наших игроков вспомнил, что против них в товарищеской встрече на юге прошлой осенью подкупающе легко сыграл молодой паренек из подмосковного городка Подлипки. Его решили срочно разыскать. И он явился в городской совет «Спартака». На мой вопрос, вратарь ли он из Подлипок и как его фамилия, он ответил утвердительно и назвался Кузнецовым. Я направил его на сбор в Одессу и вскоре получил сообщение от начальника команды Ивана Михайловича Филиппова, что особыми достоинствами присланный мною Кузнецов не блещет. Это подтвердилось в товарищеских играх, и «Спартак» расстался через месяц с Кузнецовым, считая версию о подлипковском вратаре очередной футбольной басней.
Однако в мае в «Спартаке» появился другой юноша и осведомился, верно ли, что мы искали вратаря из Подлипок. Я на этот раз был более осмотрительным и проэкзаменовал пришельца – подробно расспросил о товарищеской игре на юге.
– Кузнецов был моим дублером в подлипковской команде. А играл против «Спартака» я, Жмельков, – как-то очень просто сказал мой собеседник.
Хорошо, что в тот счастливый для «Спартака» день я сразу поверил Жмелькову и послал его к Филиппову. Так началось его восхождение на вратарский пик.
Полтора сезона с августа 1938 по ноябрь 1939 года играл он в московском «Спартаке». Эти месяцы принесли ему не меркнущую и по сей день славу.
Блеск его игры разжег зависть в сердцах конкурентов. Всем хотелось заполучить себе эту звезду. И вот в ЦДКА выискали, что Жмельков не дослужил двух месяцев в Белорусском военном округе. На этом основании он был снова призван и, ввиду категорического отказа выступать за ЦДКА, оказался в воинской части в Чите. Здесь весной 1940 года в соревнованиях он получил тяжелую травму колена.
После окончания войны 32-летний Жмельков, четыре года сражавшийся на фронте, попытался вернуться в большой футбол. Но это была только тень незабываемого вратаря. Тень и по мастерству, и по отношению к футболу.
Последние выступления Жмелькова совпали с описываемым событием, которому нет равного в истории футбола.
Игра началась азартными атаками тбилисцев, понимавших, что перестроенной защите «Спартака» нельзя давать время на сыгровку. Расчет был верный, но в воротах москвичей стоял Акимов. Град ударов он парировал с присущей ему легкостью и уверенностью.
Штурм продолжался. И вот Пайчадзе ударил в правую девятку. Такие мячи не берутся, если вратаря чудом не занесет именно в этот угол. Анатолий там и оказался. Было от чего гостям прийти в смятение. Каждая армия сильна своим тылом, а тут этакий дьявол в спартаковских воротах…
Атмосфера накалялась. Трибуны, на девять десятых набитые москвичами, поддерживали своих. Я сидел на низенькой скамеечке за нашими воротами рядом со Жмельковым. Владислав сочувственно поглядывал, как я, нервничая, выдираю траву из-под скамейки целыми пучками.
Клокотало в душах и у тех, кто был на поле: спартаковцы вышли отстаивать свое право на кубок. Бороться за справедливость приехали и тбилисцы: их мало интересовали формальности и штабные уловки. Они бойцы, их задача – выложить все силы, до конца постоять за родной клуб. Вот почему на поле не было плохих игроков, все двадцать два делали больше, чем от каждого ожидали.
Я не верю в заранее разработанные тактические тонкости. Но кое-что принципиальное подсказать игроку можно и нужно. Вряд ли уместно учить футболиста, что следует делать на поле. Практичнее посоветовать ему, чего он должен избегать.
Мы знали, что левый хавбек Челидзе часто рвется вперед, и рекомендовали правому инсайду Георгию Глазкову не преследовать его, как тогда было принято, а оставаться на передней линии атаки: грузинский полузащитник не мог в такой степени грозить чужим воротам, как обладающий превосходным ударом спартаковский бомбардир Глазков.
Подсказы смахивают на лотерею. Но на этот раз билет выиграл. В одну из тбилисских атак Жорж, оставаясь в центре поля, получил мяч. Дорога к воротам на мгновение оказалась открытой, остальное решали самообладание и техника. Преследуемый по пятам, он нанес удар сразу, как вошел в штрафную, и мяч, словно крупная щука, забился в сетке у дальней штанги ворот.
Вместо того чтобы разобраться, почему это произошло, южане со свойственным им нетерпением сразу кинулись отыгрываться. Снова защитники и Жмельков подверглись суровому экзамену. И опять они ответили отлично по всем предъявленным билетам футбольной науки. Передача Глазкову, и вот по знакомой дорожке он мчится с мячом к воротам Дорохова, безукоризненно бьет.
Больше я не рву траву. «Ведь нет же, – думаю, – сейчас у нас в стране команды, способной вырвать у «Спартака» победу, проигрывая 0:2». И представьте, я чуть было не ошибся. Тогдашний тренер тбилисского «Динамо» Михаил Павлович Бутусов появился у своих ворот и что-то громко и выразительно прокричал Челидзе, показывая пальцем на Жоржа. Я понял, что наша ставка на Глазкова в дальнейшем будет бита. Как и следовало ожидать, грузины пошли ва-банк и наконец сорвали и свой куш в этой азартной игре. Мяч влетел в наши ворота после того, как два спартаковских защитника в волнении кинулись к нему и помешали друг другу. Мгновенно последовала тонкая передача, и после удара Бориса Пайчадзе мяч оказался в сетке.
К перерыву счет 2:1, а это значит, что колода карт перетасовывается заново.
Что делать? Ворота на замок, пытаться удержать минимальное преимущество в счете? Нет, решаем штурмовать. За это все в раздевалке – и маститые ветераны, и тренеры, и, главное, сами игроки. Не сомневаемся, что и тбилисцы будут рваться вперед.
Немного перестраиваем тактику: решаем наступать флангами, они свежее, да и противник больше ждет атак по центру.
Сразу нажим с обеих сторон. Но горячие гости действуют рискованней и отвоевывают центр поля.
На первый взгляд это удача, но в ней таится опасность прозевать чужой прорыв в оголенные тылы. Это улавливает В. Степанов. Весь вложившись в удар, сильно и точно он направляет мяч левому краю, Павлу Корнилову. Сейчас все решит скорость, а в ней у великолепно сложенного Корнилова нет соперников. С замиранием сердца слежу, как он выиграл первую гонку у Шавгулидзе и, прокинув мяч внутрь поля, соревнуется в беге с Гагуа. Вот уж и второй защитник позади. Перед Корниловым один вратарь. Вижу, тот стремительно бежит на москвича, но Павел обводит и последнюю опору южан. В безвыходном положении Дорохов лежа хватает спартаковца за ногу и валит на землю.
Свисток. Усов показывает на отметку одиннадцатиметрового удара. Корнилов все еще на земле: на всякий случай демонстрирует, что высшая мера наказания справедлива.
К мячу подходит все тот же Глазков – непревзойденный в то время пенальтист. Я слышу, как Бутусов кричит Дорохову:
– Глазков бьет под правую руку!
Георгий разбегается, но при ударе ковыряет ногой землю, и изумленный стадион видит, как Дорохов стремительно летит в правый угол, кусок дерна – в левый, а мяч спокойно вкатывается в ворота прямо по центру. Все!
Перевожу взгляд с табло на центральную трибуну. Берия встает, со злостью швыряет стул, выходит из ложи и уезжает со стадиона.
А динамовцы опять треплют нервы. Их энергия неиссякаема. Хоть бы скорее ползли эти проклятые медлительные минуты! Бутусову же, вероятно, кажется, что время летит чрезмерно быстро.
Тбилисцы отчаянно наступают, вся их команда на спартаковской половине поля. Но зато и наша тоже вся здесь.
Последняя четверть часа. Все сбилось в одну кучу. Забыта тактика, а порой и техника. С одной стороны навал, с другой – отбой. Нападающий Степанов сражается у самых ворот сзади центрального полузащитника Малинина. Динамовские беки атакуют впереди своих форвардов.
Обычно такая неразбериха бесплодна. Но в этом историческом матче сама судьба захотела быть объективной и справедливой. За ошибку Дорохова при пенальти она отплатила ошибкой кого-то из наших игроков. Несчастный неосмотрительно остановил мяч на вратарской площадке и мгновенно вместе с мячом оказался втиснутым в ворота. Гол забил Бережной. К тому же получил повреждение Акимов, его уносят с поля.
3:2 – и несколько минут до финального свистка. Мне кажется – ах, много; Бутусову – ох, мало. Прав был он – это оказалось мало. Во-первых, потому, что наши противники изнемогли одинаково с нами, а в футбольном цейтноте всегда легче защищаться, чем объявить шах королю. Во-вторых, грузинских футболистов доконали психологические удары. Не так-то просто беспрерывно отыгрываться, да еще с разницей в два гола.
Но вот Усов дает наконец финальный свисток. «Спартак» второй раз выходит в уже выигранный им финал.
Тридцать лет без малого прошло со дня этой неправомерной схватки, но подробности ее свежи и ярки в моей памяти. И если до нее мы в команде говорили о достойном футболисте: «Он играл с басками», то теперь высшей похвалой стало: «Он участвовал в переигровке с тбилисцами».
Что было бы, если бы «Спартак» тогда проиграл, мы так и не узнали…
Начинаем ждать решения. Может быть, заставят переигрывать и финал? После того, что произошло, я готов ко всему.
Через несколько тревожных дней Снегов, думаю согласовав вопрос в ЦК, сообщает: финал переигрываться не будет.
Слава богу! Здравый смысл в этом мире все-таки существует.
Но к чувству восстановленной справедливости примешивалась тревога. Тогда я не мог понять, откуда она появилась и что означала. А происходила простая, в сущности, вещь: гонимые мной последние годы смутные предчувствия начали обретать плоть. Дьявол в обличье Берии включил часы моей судьбы. Время пошло…
По своей наивности я еще не догадывался, что даже светские воскресные встречи на Патриарших прудах в предписанном ходе событий ничего уже изменить не могли.
Зимой на Патриарших был один из лучших в Москве катков, где проводились матчи на первенство города по хоккею с мячом. Берия, живший в особняке неподалеку, нет-нет да и заглядывал на наши хоккейные игры в сопровождении охраны и многочисленной свиты. Прошло 50 лет, но я хорошо помню его первый визит. Я подъехал к нему. Разговаривали только на спортивные темы. Кто как играет, что нового в команде. Потом он сказал:
– Идите, Николай, играйте. Вы все объяснили, мы посмотрим без вас, спасибо за информацию.
В тот раз он представил меня своей свите:
– Это тот самый Старостин, который однажды убежал от меня в Тифлисе.
Довольный произведенным эффектом – ни я, ни его окружение не знали, как реагировать на услышанное, – он напомнил мне о давно забытом всеми матче. В начале 20-х годов наша команда выступала в Тбилиси. В рядах наших противников играл грузный, не очень техничный, грубоватый левый полузащитник. Это был Берия. Как правый крайний нападения, я постоянно сталкивался с ним в единоборствах. Правда, при моей тогдашней скорости не составляло большого труда его обыграть, и во втором тайме я действительно убежал от него и забил гол.
Почему у Берии остался в памяти тот матч? Может быть, потому, что я стал потом известным футболистом и он считал для себя лестным, что играл против меня? А может, потому, что это был тот редкий случай в его жизни, когда он, как все, подчинялся правилам. Потом многие годы играл только в одни – чужие ворота. Не знаю, но, даже если бы я помнил тот матч, при всем желании не смог бы узнать в этом ожиревшем человеке в пенсне своего опекуна. Берия, словно прочитав мои мысли, глядя на меня в упор, сказал:
– Видите, Николай, какая любопытная штука жизнь. Вы еще в форме, а я больше не гожусь для спортивных подвигов.
Мне стало не по себе от его по-звериному холодного взгляда…
Чья-то злая воля будто специально продолжала держать «Спартак» в фокусе внимания Берии. Через месяц мы опять сталкиваемся с «Динамо» Тбилиси, на этот раз в календарном матче на первенство страны. Ноябрь. Отвратительная погода, мокрый снег. Бедные южане выходят на поле, стуча зубами от холода, и почти без сопротивления пропускают три гола, открывая нам «зеленую улицу» к золотым медалям. «Спартак» выигрывает чемпионат. Второй дубль подряд!
Думаю, что и раньше Берия не испытывал к «Спартаку» особых симпатий. Но уверен, именно в 1939 году он отнес меня к разряду если и не личных врагов – больно уж велика была разница в положении на государственной иерархической лестнице, – то наверняка к разряду людей, ему явно неугодных. Судьба Старостиных была предрешена.
…1940 год. Давно уже, с приезда басков, не было у наших футболистов международных встреч. Мы чувствовали, что советский футбол сделал шаг вперед, но проверить истинный его уровень можно было лишь в игре с командой европейского класса. Намечавшаяся поездка «Спартака» в Болгарию послужила бы в этом смысле хорошим испытанием.
Футбольная характеристика болгар была внушительной: в 1932 и 1935 годах их сборная выиграла кубок Балканских стран. В 1937-м сыграла вничью с сильной командой Чехословакии – 2:2. Через год со счетом 4:0 выиграла у югославов. Экзамен предстоял очень серьезный, но спартаковцы рвались в бой.
Турне в Болгарию придавалось большое политическое значение. Ход подготовки к матчам контролировала специально созданная комиссия, в которую входили Щербаков, Мехлис, Вышинский. Перед самым отъездом Щербаков предупредил всех о чрезвычайной ответственности, которая ложилась на представителей социалистического государства при визите в монархическую тогда страну.
Я пребывал в постоянных предотъездных хлопотах. Как вскоре выяснилось, совершенно напрасных: вместо меня руководителем делегации поехал Снегов. Впервые в жизни мне было оказано недоверие.
Я впервые ощутил мстительность Берии. Это был урок за переигровку с тбилисцами…
Каким коварством все тогда представлялось!
Каким безобидным, почти интеллигентным стало казаться всего лишь через год во внутренней тюрьме Лубянки!
Дело братьев Старостиных
…Сезон 1941 года запечатлелся в памяти, поскольку это был сезон крупных пертурбаций в спортивном календаре. Профсоюзы вдруг решили выставить две сборные команды, ликвидировав целый ряд своих клубов. Взамен родились сборные ВЦСПС-1 и ВЦСПС-2. Руководство, видимо, хотело за счет такого ударного тандема выдержать конкуренцию с «Динамо» и «Спартаком», забыв известную истину: в футболе скоропалительные или волевые решения не могут принести пользу. Главная ставка делалась на первую команду, во главе которой стоял популярный в Москве тренер Матвей Иосифович Гольдин. Он сформировал неплохую сборную, но времени для «притирки» игроков у него не хватило. Вторая команда с тренером Константином Павловичем Квашниным создавалась как вспомогательная. К концу первого круга ВЦСПС-2 находилась где-то в середине таблицы, а ВЦСПС-1 плелась в хвосте.
До сих пор помню жаркие, неутихающие споры вокруг профсоюзной новинки. Одни говорили, что в клубном первенстве какие бы то ни было сборные участвовать не вправе. Другие утверждали, что новшество оправдает себя, так как обещает более острую борьбу в чемпионате.
И никто не предполагал, сколь ничтожна значимость так горячо обсуждаемых футбольных проблем на фоне надвигавшихся грозных событий…
21 июня 1941 года «Спартак» прибыл в Ленинград на календарную игру с местной «Красной Зарей». Это была неплохая команда, но и мы были, что называется, на ходу и, безусловно, рассчитывали на победу. Словом, в день матча, 22 июня, проснулся я в бодрящем волнении, которое неизменно возникает у меня от предвкушения встречи с футболом.
И вдруг телефонный звонок. Звонил школьный друг Андрея Сергей Ломакин, игрок сборной Ленинграда по футболу и по хоккею. Он служил в гражданской противовоздушной обороне Ленинграда.
– Я на казарменном положении, – коротко сообщил Сергей. – Война!
…Из-за боязни налетов фашистской авиации зрителей на стадион не пустили. Целый час мы просидели в раздевалке ставшего сразу чужим и холодным стадиона. Никто не мог точно сказать, состоится ли матч. Наконец выяснилось: игру отменили, и мы сразу бросились на вокзал, чтобы первым же поездом выехать в Москву. Глядя на возбужденных, мечущихся по перрону людей, я впервые в жизни почувствовал, что это за мучительное душевное состояние – растерянность перед еще неосознанной, непонятной, но уже ставшей реальностью бедой.
Единственное желание, которое владело мной во время сумбурных разговоров в специально, казалось, ползущем с черепашьей скоростью поезде Ленинград–Москва, – как можно быстрей добраться домой.
Перед спортивными обществами были поставлены задачи военного времени. Рядом с Тарасовкой, в Подлипках, находилось несколько заводов, выпускавших продукцию военного профиля. Мне удалось добиться согласия городских властей, чтобы нашу команду почти в полном составе зачислили на завод.
Кроме того, по согласованию с Мосгорвоенкоматом были сразу организованы группы подготовки призывников по лыжам, плаванию, борьбе, боксу…
В повседневной текучке не хотелось думать о худшем, гнал от себя сомнения, которые приходили вместе со сводками Совинформбюро. Но в глазах людей, собиравшихся вокруг раковин репродукторов, все чаще и чаще читался вопрос: что будет с Москвой?
Серьезность обстановки я, пожалуй, полностью осознал, когда мне как человеку, числящемуся по своей должности в ранге «ответственного» работника, выдали пистолет «вальтер».
Началась эвакуация заводов и учреждений. По решению Государственного комитета обороны в далекий Ташкент отправили группу столичных спортсменов и их семей. Старостины остались в Москве.
Дни пролетали в череде нескончаемых забот, приходилось постоянно что-то «утрясать» и согласовывать. Я колесил по городу, безуспешно пытаясь оказаться сразу в нескольких местах. А ночью, как и многие, дежурил на крышах, наловчившись под руководством нашего дворника Пахомыча тушить вражеские «зажигалки». Пахомыч легко расправлялся с ними, словно с брошенными окурками.
Однажды бомба угодила в соседний дом. Я увидел, как взрывной волной выбило окна в нашей квартире. Бросился туда и, вбежав, застал такую картину: в столовой за обеденным столом сидят бледные, испуганные сестры и мать, а перед ними лежит рухнувшая огромная старинная люстра. Лишь после этого мне удалось уговорить маму, которая не хотела без нас уезжать из Москвы, перебраться вместе с сестрами и детьми хотя бы к себе на родину – деревню Погост.
Закончилась страшная зима 1941/42 года. И хотя никто тогда, конечно, не мог знать, сколько продлится война, мне казалось, что худшие времена позади. Я не предполагал, что для меня такие времена только наступают. Их еще предстояло пережить…
Много раз пытался вспомнить что-либо примечательное в тот день, то, что выделило бы его в памяти, но нет, все было как обычно.
Утром по дороге из дома в «Спартак» прикорнул в автомобиле – эта выработанная по необходимости привычка помогала хоть как-то компенсировать систематическое недосыпание. Может быть, поэтому до меня не сразу дошел смысл того, что сказал Петр, шофер:
– Николай Петрович, что-то нас подозрительно сопровождает одна и та же машина.
Я непонимающе посмотрел на Петра, потом обернулся и через заднее стекло различил в едущем за нами автомобиле двух мрачных субъектов в одинаковых фетровых шляпах.
Резко изменив маршрут, мы долго плутали по городу, но когда наконец подъехали к конторе «Спартака», то через полминуты увидели, как туда же медленно подкатили наши «знакомые» и остановились чуть поодаль, на противоположной стороне Спартаковского переулка.
В молодости я был горяч. Подобная назойливость показалась мне оскорбительной. Быстро подойдя к сопровождавшей нас машине, я рванул переднюю дверцу и почти прокричал на ухо тому, кто сидел за рулем:
– Скажите своему начальнику, что, если ему надо что-нибудь узнать, он может пригласить меня к себе, а не заставлять вас гоняться за мной по всему городу.
Они явно не ожидали такого, а поскольку, видимо, никаких инструкций на этот счет не имели, то растерялись и, не промолвив ни слова, укатили.
Ни назавтра, ни через день я слежки не обнаружил.
Эмоции улеглись, нужно было собраться с мыслями. Не скажу, что я запаниковал, но и отмахиваться, делать вид, что ничего тревожного не произошло, было бы наивно и глупо. Не те стояли времена. Уже не первый год повсюду внезапно исчезали люди.
Поразмыслив, позвонил второму секретарю Московского горкома партии Павлюкову:
– Владимир Константинович, за мной следят.
– Что это вы вдруг выдумали? Наверное, просто устали, вот и мерещится всякая чушь.
– Боюсь, это не чушь. Вы же знаете, с пустяками я к вам обращаться не могу.
– Хорошо, не беспокойтесь, я разберусь.
На душе полегчало. По своей наивности я не понимал, что ни Павлюков, ни кто-либо другой в предписанном ходе вещей ничего уже изменить не могли.
Примерно через год на допросе начальник следственного отдела НКВД Есаулов как бы невзначай обронил: «Знаете, Старостин, почему ваше дело ведет Центр, а не Москва? Там бы ему хода не дали. Больно уж у вас заступников много».
Стало ясно, что Павлюков сдержал слово и действительно попытался разобраться в происходившем. Очевидно, его заступничество только подлило масла в огонь.
20 марта 1942 года мне удалось вернуться с работы раньше обычного. Назавтра предстоял трудный день. Он таким и оказался. Причем начался гораздо раньше и совсем не так, как я рассчитывал.
…Проснулся от яркого света, ударившего в глаза. Два направленных в лицо луча от фонарей, две вытянутые руки с пистолетами и низкий грубый голос:
– Где оружие?
Все выглядело довольно комично. Мне казалось, я еще не проснулся и вижу дурной сон. Крик «встать!» мгновенно вернул меня к реальности.
– Зачем же так шуметь? Вы разбудите детей. Револьвер в ящике письменного стола. Там же и разрешение на его хранение.
– Одевайтесь! Вот ордер на ваш арест.
Забрав револьвер, «гости» явно почувствовали себя спокойнее. Их предупредили, что они идут брать опасного террориста Старостина, и бравые «чекисты» всерьез опасались вооруженного сопротивления.
Обычно я очень чутко сплю и поэтому не мог взять в толк, как посторонние люди ночью бесшумно проникли в квартиру. Дверь закрывалась на цепочку, ее можно было открыть только изнутри, а звонок я бы непременно услышал. Что за чертовщина?
Все разъяснилось несколько минут спустя. Когда меня уводили, жившая у нас домработница, очень скромная провинциальная женщина, бывшая монашка, всегда такая приветливая со мной, даже не вышла попрощаться. Это она абсолютно точно знала час, когда сбросить цепочку и открыть дверь.
Монашка-осведомитель? Удивительно! Впрочем, в моей жизни наступало время, когда надо было отвыкать чему-либо удивляться.
Не разрешив взять с собой никаких вещей, меня вывели на родную Спиридоньевку. Последнее, что я успел увидеть, пока заталкивали в машину, – два испуганно светящихся окна на фоне, как тогда показалось, совершенно мертвого дома.
Ровно через 10 минут я очутился на Лубянке.
Стараюсь вспомнить свое состояние в те минуты. Удивление, недоумение, шок? Пожалуй, нет. Страх? Как ни странно, его не было. Точнее всего – тревожное любопытство. Я понимал: случилось что-то, что круто изменило мою жизнь. Быть может, на многие годы.
Кому не довелось жить тогда, вряд ли меня поймет, а те, кто помнит вторую половину тридцатых, думаю, согласится, что всех уравнивало общее предчувствие несчастья – ожидание ареста. Неожиданным мог быть час и день, вернее, ночь, но не сам факт.
Горькая участь не минула и спортсменов. Действительность опрокинула наши наивные рассуждения о том, что Берия – в прошлом футболист – «своих» не тронет.
История со слежкой в зловещей череде лет была для меня не первым звонком. Я уже рассказывал об инциденте после возвращения с рабочей Олимпиады в 1937 году, об арестах среди спортсменов, о том, как меня не выпустили в Болгарию… Эти штрихи лишь дополняли и без того очевидную ситуацию. Не было никаких оснований надеяться, что к «Спартаку» будет проявлено великодушие.
Может, прозвучит нескромно, но братья Старостины олицетворяли собой успехи и необычайную популярность «Спартака», которые столь болезненно воспринимались почетным председателем «Динамо». Берия не любил, когда ему кто-нибудь своим существованием на свободе напоминал о неудачах.
Конечно, к 1942 году мои опасения заметно ослабели, но, как оказалось, я в очередной раз выдавал желаемое за действительное. Судьбе было угодно, чтобы меня неотступно преследовала зловещая тень Берии. Странным было другое: почему меня не арестовали гораздо раньше? Я и не предполагал, что мое затянувшееся пребывание на свободе очень скоро получит неожиданное объяснение.
Оно стоит того, чтобы нарушить хронологию надвигавшихся событий.
На одном из допросов следователь, видимо решив сразу сбить меня с толку, спросил:
– Вы знаете Молотова?
– Его знает вся страна.
– Не валяйте дурака, вы лично с ним знакомы?
– Лично с ним незнаком, хотя мы виделись на приемах в Кремле, куда приглашались ведущие спортсмены.
– Кто в таком случае мог ходатайствовать за вас перед ним?
– Не понимаю, о чем идет речь.
– Почему он не подписал ордер на ваш арест в 1939 году?
– Думаю, на этот вопрос может ответить только сам Вячеслав Михайлович.
– Молчать!
Потом в своем «деле» я читал показания Косарева, которые он якобы дал во время следствия. Стало ясно, на краю какой пропасти я находился.
Признавая себя виновным, он «сознался» в том, что считал возможным, если понадобится, приступить к террору против руководителей партии и правительства, для чего организовал среди спортсменов боевую группу во главе с Николаем Старостиным. Расчет был безошибочным. К тому времени Косарев был расстрелян, а показания человека, которого нет в живых, – тяжелейшая улика, ее очень сложно опровергнуть. Затевалось «спартаковское» дело с заранее предрешенной концовкой. Оставалось соблюсти формальность.
Однако случилось непредвиденное: Молотов не подписал ордер на арест.
Воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Моя дочь Женя училась в 175-й школе. Там же в классе на год старше училась Светлана Сталина, а на год младше – Светлана Молотова. Первая держалась обособленно, вторая же была общительной, и они с Женей какое-то время дружили, о чем знала жена Молотова Жемчужина, каждый день приезжавшая за дочерью в школу после уроков.
Может быть, учитывая это, и дрогнула рука Молотова, когда на зеленое сукно его стола лег ордер на арест с выведенной в нем фамилией Старостин. Так «связи» моей дочери подарили мне три лишних года свободы.
Редчайший случай: Берии не удалось осуществить задуманное. У меня есть основания полагать, что, если бы он смог «взять» нас в 1939 году (я уже говорил, что тогда мы ждали ареста каждый день), с братьями Старостиными все было бы решено одним ударом.
В 1942-м было не до футбола, и, честно говоря, я начал думать, что опасность миновала. Забыв, что у логики беззакония есть своя железная логика. То, что не сделал председатель Совнаркома Молотов, тремя годами позже сделал секретарь ЦК Маленков.
…После тщательнейшего обыска меня запихнули в узкий темный бокс. Часа через два дверь открылась и молодой охранник с напускной свирепостью сказал:
– Старостин Андрей, выходи!
Я удивленно на него посмотрел и ответил:
– Старостин, но не Андрей.
Парень растерялся. Наверное, с его стороны это был явный прокол – до определенной поры мне не полагалось знать о судьбе братьев.
Я понял, что Андрей где-то рядом.
Его и Петра арестовали в ту же ночь, что и меня. Чуть позже взяли мужей наших сестер – Петра Попова и Павла Тикстона, близких друзей нашей семьи – спартаковцев Евгения Архангельского и Станислава Леуту. А вскоре один из конвоиров, нарушая все инструкции, шепнул мне: «Александра привезли». Брат в чине майора служил в действующей армии, и, видимо, на его доставку и прочие формальности ушло какое-то время. С этого момента все участники мифического «дела Старостиных» оказались в сборе.
Меня вели бесконечными мрачными коридорами внутренней тюрьмы Лубянки. К утру я очутился в одиночке, которая теперь должна была осуществлять гарантированное мне Конституцией право на жилище.
Осмотревшись, с трудом различил на стене камеры нацарапанную неровным почерком фразу. Впоследствии я встречал ее во многих тюрьмах и пересылках. Ее стирали, закрашивали, уничтожали, но она вновь и вновь возникала. Фраза-крик, фраза-пароль, фраза-надежда, состоявшая из четырех слов: «Федот, не верь следователю».
Это была одна из неписаных заповедей того мира, в котором мне предстояло просуществовать ближайшие 12 лет. Но годы «стажировки» были впереди. До 40 лет я знал другие заповеди и законы – спортивные, во всем их многообразии, красоте и противоречии. А в «университете сталинского права» выглядел наивным новичком, студентом-несмышленышем.
Тянулись дни, а меня никуда не вызывали. Иногда казалось, что обо мне просто забыли. Или, успокаивал я себя, наоборот, вспомнили и вот сейчас там, наверху, разбираются, и скоро мое заточение кончится.
На самом деле все обстояло гораздо проще: шла обычная многократно испытанная в этих стенах психологическая обработка – меня пытались сломать неизвестностью.
Человеку свойственно стремление к определенности. Гнетущее камерное одиночество необычайно изматывает, через неделю-другую начинают сдавать нервы. Я стал с нетерпением ждать, когда же наконец вызовут, когда что-то прояснится, когда узнаю главное – за что?
Должен сказать, что доставка «адресата» на допрос обставлялась на редкость мрачным церемониалом.
Вас сопровождают два человекоподобных субъекта. Конвой идет и мерно постукивает ключами о пряжку ремня, предупреждая таким образом о своем приближении. Если вдруг в ответ раздается аналогичный звук – немедленно ставят лицом к стене, чтобы не дать увидеть, кто и в каком виде возвращается с допроса. (Почти за два года пребывания на Лубянке я лишь считаное число раз наталкивался на «коллег»-арестантов, но разглядеть никого не удавалось.)
Поначалу все это производило на меня гнетущее впечатление. Но постепенно я научился использовать мрачный ритуал с пользой для себя. Его однообразность помогала собраться с мыслями перед допросом, взять себя в руки, как говорят в футболе, настроиться на игру.
Еще больше меня поразило то, как четко здесь был поставлен «учет». Когда приводили на допрос, конвоир отдавал следователю пропуск-сопроводительную на заключенного. Тот расписывался и ставил время. Когда нужно было отправить допрашиваемого обратно в камеру, он поднимал трубку телефона и называл номер своего кабинета: «Это 595-й, зайдите». Появлялся конвоир, второй ждал в коридоре. В той же бумажке ставилось время, когда заканчивался допрос. Внизу надзиратель регистрировал час возвращения в камеру и расписывался в получении ее обитателя.
Я до сих пор не могу понять, зачем велась вся эта командировочная бухгалтерия «прибыл – убыл». Скорее всего, в том заключался парадокс тотального произвола: само ведомство поминутно фиксировало творящееся в нем беззаконие.
Однако пора вернуться к моменту, когда я первый раз переступил порог кабинета следователя.
Передо мной сидел рыжеватый, высокого роста человек лет тридцати пяти, в военной форме, в накинутой на плечи шинели. Его бледное с длинным носом и бесцветными глазами лицо не вызвало у меня никакой симпатии.
– Старостин Николай Петрович?
– Да.
– Вы знаете, почему здесь находитесь?
– Не знаю.
– Но вы думали об этом?
– Думал.
– И что же вы надумали?
– Не могу уяснить себе причину ареста. Считаю, это какое-то недоразумение.
– Разве вы не знаете, что сюда по недоразумению никто не попадает?
– Но ведь бывают же исключения?
– Вы путаете: для врагов народа бывает не исключение, а исключительная мера.
На столь «оптимистичной» ноте закончилось первое короткое знакомство с капитаном Рассыпнинским, которому было поручено вести наше дело. Объявили воздушную тревогу. По инструкции все работники обязаны были спускаться в бомбоубежище. Инструкция – не закон, а потому здесь она соблюдалась неукоснительно. Мой первый допрос оказался и самым коротким.
Убирая в сейф какие-то бумаги, Рассыпнинский, торопясь, бросил:
– Советую вам к следующему разу вспомнить то, что нас интересует.
Я ответил, что вряд ли у меня что-то получится.
– Ничего, ничего, получится, если жить захотите, – закончил он с ухмылкой и вызвал конвой.
Несколько следующих допросов проходили в том же духе. Рассыпнинский сидел, листал толстую папку бумаг, создавалось впечатление, будто он читал какие-то материалы обо мне. Затем следовал вопрос:
– Ну, вы надумали?
– А что я должен надумать?
– Если вы человек по-настоящему советский, то вы должны осознать, в чем ваша вина, и все сами рассказать. Это ваш долг.
Объяснять ему, что у нас разное представление о долге, у меня не было никакого желания.
Подобная игра в кошки-мышки продолжалась месяца два. Она не была такой бессмысленной, как могло показаться на первый взгляд. Как я потом понял, следствие «работало» и с остальными участниками нашего дела и ждало, кто первый не выдержит и даст показания, которые можно будет использовать против остальных.
Я готовил себя к худшему.
Наши взаимные антипатии с Рассыпнинским переросли в плохо скрываемую враждебность. Теперь мы уже ежедневно часами сидели молча друг против друга.
Наконец в одну из ночей привычный ритуал был нарушен: меня повели на допрос по другому маршруту. Вошли в большой светлый кабинет; окна плотно зашторены тяжелыми гардинами, зеленая лампа на огромном столе. За столом сидел вполне, как мне показалось, добродушного вида человек. Представился:
– Начальник следственного отдела полковник Есаулов.
– Заключенный Ста…
Останавливающий жест рукой: мол, знаю, знаю, не надо тюремных формальностей. Никаких грозных взглядов, свирепости, криков. Спокойная, размеренная речь:
– Вы же понимаете – идет война, с политическими особого времени возиться нет. Судьбу таких, как вы, на любой стадии следствия может решить коллегия. – И совсем уж мимоходом, словно между прочим: – Я смотрел ваше дело, у вас прекрасная семья, ее судьба тоже зависит от вашего раскаяния. Будет печально, если она вас не дождется… Идите и подумайте о ней.
Я понял, что период «светских» бесед подошел к концу. В Средние века великий инквизитор Игнатий Лойола прославился тем, что изобрел пытку, которая не оставляла следов, но доводила людей до сумасшествия, – им не давали спать.
Не думаю, что в ведомстве Берии кто-нибудь читал или знал о существовании зловещего испанца, но уверен, что Лойола не дерзнул бы мечтать о столь широком внедрении своего изобретения и таком количестве способных учеников и последователей.
Я уже говорил, что во внутренней тюрьме умели обставлять любое беззаконие на редкость законными предписаниями. Заключенным объявлялось, что спать в камерах с 7 утра до 10 вечера строго запрещается. За нарушение режима дня – карцер.
Вполне лояльный, между прочим, распорядок.
Но около девяти лязгает замок, и вас забирают на допрос. Ночь вы проводите у следователя. Под утро, без четверти семь, отправляют в камеру. А иногда и того хуже: возвращают назад чуть раньше обычного, дают раздеться и лечь. Но как только, закрыв глаза, вы проваливаетесь в тяжелое забытье, распахивается дверь и надзиратель с криком «Не спать! В карцер захотел?» пинком сбрасывает вас с кровати на пол и пристегивает ее к стене.
Едва вы присели на привернутый к полу табурет и хоть на секунду закрыли глаза – стук в дверь: «Спать днем запрещено. Будешь спать, когда наступит отбой». Близится долгожданный час отбоя. И все повторяется в деталях. Кроме того, в камере постоянно горит свет, окно забито деревянным щитом, вы уже не ориентируетесь во времени. Ночь ото дня можно отличить лишь по допросам.
Через пять-шесть суток полностью теряешь ощущение действительности. Плохо соображая, что происходит вокруг, в горячечном, полубредовом состоянии многие стойкие, мужественные люди за обещанную возможность выспаться наговаривали на себя чудовищные вещи, подписывали самые невероятные показания.
Иногда на этом средневековом конвейере случались сбои: слишком большой порцией бессонницы людей доводили до безумия еще до того, как они начинали говорить.
Но такое бывало у неопытных или слишком рьяных работников, рвущихся к очередной звездочке. Судя по всему, Рассыпнинский был тертый в подобных делах следователь. Хоть и не блистал умом, но твердо знал, чего хотел. К тому же к его услугам был тюремный доктор, который следил за тем, чтобы не допустить преждевременного умопомешательства.
Бежали недели. Сеансы бессонницы длительностью до 10 суток, полуголодное существование и развившийся от полного истощения фурункулез стали подрывать мое, как мне казалось, железное здоровье. Что-то сделалось с вестибулярным аппаратом: походка перестала быть твердой, кружилась голова.
На очередной визит к Есаулову я шел гораздо дольше обычного. Он был не менее добродушен, чем вначале. Нарушив правила местного этикета, я заговорил первым:
– Извините, сегодня вряд ли смогу быть вам полезен. Я с трудом соображаю. Мне очень долго не давали спать.
Он укоризненно посмотрел на сидящего в углу Рассыпнинского и сказал:
– Я сейчас, прямо при вас позвоню начальнику тюрьмы, вот только подпишите добровольное признание, я позвоню, и вам разрешат спать даже днем.
– Вы когда-нибудь были на футболе?
– Конечно.
– Тогда вы неважный болельщик. Вы могли заметить, что упорство в игре – фамильная черта Старостиных.
Я и не предполагал в нем такую проворность. Он резко выпрыгнул из-за стола, и я через секунду увидел перед собой воспаленные красные глаза и перекошенный, брызгающий слюной рот.
– Это политическая тюрьма, а не футбольное поле. Здесь с вами никто не играет. Собранные материалы дела относятся к разряду очень тяжелых. Но я в последний раз хотел проверить вашу порядочность и вашу совесть. Я хотел знать, можно ли вам верить.
Столь же внезапно, как взорвался, он успокоился, уселся за стол, расстегнул верхнюю пуговицу полковничьего кителя и продолжил:
– Ну, коль вы так упорно (это слово было произнесено с ухмылкой) отказываетесь от показаний, которые бы облегчили вашу вину, мы сами начнем предъявлять вам обвинения. – И, спокойно придвинув к себе папку в кожаном переплете, принялся подписывать какие-то бумаги. Потом поднял голову и, как бы удивившись, что я все еще в кабинете, приказал Рассыпнинскому: – Увести.
Но тут же добавил:
– Кстати, о фамильном упорстве. Я надеялся, что именно вы, как старший, первым проявите благоразумие и покажете пример братьям.
На следующем допросе Рассыпнинский выложил главный козырь:
– Вы обвиняетесь в преступной деятельности под руководством врага народа Косарева. Вы хорошо знали Косарева?
– Насколько позволяли несколько лет совместной работы в спорте.
– Ваши отношения были дружескими?
– Он постоянно оказывал «Спартаку» поддержку в решении организационных и хозяйственных вопросов.
– Какие вы получали от него задания?
– Какие задания? Обыграть басков, выиграть первенство Союза, побеждать в международных встречах.
– Не прикидывайтесь простачком, речь идет о политических заданиях. Доказано, что Косарев примыкал к оппозиционной группировке. Нам известно, что вы вместе с братьями должны были во время парада осуществить террористический акт против членов Политбюро и лично товарища Сталина. Как вы собирались это сделать?
– Что за нелепость? Какого парада?
– Парада на Красной площади в 1937 году. Забыли? Вот фотография, которую мы нашли в вашем доме при обыске. На ней отлично видно, что машина, оформленная футбольной бутсой, шла буквально в десяти метрах от Мавзолея. Из нее очень удобно было осуществить ваши зловещие замыслы. Это тягчайшая улика. Что скажете?
Я молчал. Потому что вдруг очень ясно осознал: несмотря на всю смехотворность и абсурдность обвинения, оно, учитывая ситуацию и общий настрой следствия, становилось смертельно серьезным. Как-то неприятно засосало под ложечкой. Я должен был что-то вспомнить. Какой-нибудь факт, который бы на корню исключал не только нашу вину – с этим бы никто не стал считаться, – а саму возможность совершить то, в чем нас обвиняют.
И я вспомнил. Но для этого мне потребовалось за несколько минут вновь прожить тот мирный праздничный день лета 1937-го.
Я смотрел на фотографию, и она словно ожила у меня перед глазами.
Ну конечно же, вот то, что мне нужно. Мы же еще тогда шутили, что в «Спартаке» появились два новобранца…
– Ну что, будете сознаваться? – Рассыпнинский торжествовал.
Я опять посмотрел на снимок:
– Во-первых, меня нет на фотографии, потому что я иду впереди, метрах в тридцати от машины. Во-вторых, все три брата здесь как на ладони, причем в спортивной форме, в трусах и в майках. Согласитесь, в такой одежде не очень удобно прятать оружие.
Как я и ожидал, все сказанное не произвело никакого впечатления.
– А в-третьих, – чуть выждав, сказал я, – в бутсе сидели два ваших сотрудника. Я думаю, можно легко установить их фамилии.
Судя по всему, ответ попал в цель. Рассыпнинский был в замешательстве. Очевидно, он не очень утруждал себя, прорабатывая версию, тактику и план допроса. Все, что я сказал, он мог запросто узнать у любого участника парада. Настаивать дальше на возможности совершения террористического акта в присутствии сотрудников НКВД значило бы ставить под сомнение бдительность и профессионализм его родного ведомства.
– Хорошо, отложим на сегодня политику. Займемся более земными делами. Расскажите мне, куда вы дели вагон мануфактуры?
Теперь уже я был совершенно сбит с толку.
– Какой вагон мануфактуры?
– У нас есть сведения, что в первые месяцы войны из Иванова в адрес «Спартака» отгрузили вагон с мануфактурой. Он исчез.
– В первый раз слышу. Надо спросить у тех, кто занимался этим вагоном.
– Не прикидывайтесь. Без вас такая пропажа не могла состояться. Вы знаете, что такое мародерство?
– О мародерстве знаю, а о вагоне нет.
Суета вокруг вагона продолжалась недели две. Потом эта тема постепенно ушла из обвинительных формулировок. Я понял, что вагон обнаружили.
Впоследствии я узнал, что в неразберихе начала войны его отправили на какую-то другую станцию и потом доставляли в Москву кружным путем.
Нелепая возня с мануфактурой имела вполне определенную цель. По Москве распускали слухи, что Старостины расхищали народное добро, а значит, арестованы за дело и нечего о них сожалеть.
И вдруг меня оставили в покое: перестали вызывать на допросы, дали отоспаться. Я не мог понять, что происходит. Через какое-то время охватило беспокойство. Мне стало казаться, что, ничего толком не добившись от меня, они взялись за братьев.
Я был столь же прав, сколь и наивен. За них действительно взялись, но намного раньше. Андрея и Александра пытали бессонницей, а младшего и, пожалуй, самого дерзкого из нас – Петра – ко всему прочему с первых же допросов начали регулярно избивать.
Чему я был обязан двумя неделями передышки? Это выяснилось довольно скоро. Не получив желаемых результатов по «терроризму» и «мародерству», мои мучители вынуждены были срочно искать дополнительные улики. Поступали они просто: вызывали штатных сотрудников городского совета общества «Спартак» и из бесед с ними набирали, после соответствующей обработки, необходимый материал. Так возникло новое обвинение – в пропаганде буржуазного спорта.
Суть этой нелепицы заключалась в следующем. Как-то на одном из совещаний в моем кабинете спорили о том, почему на соревнования по легкой атлетике не удается привлечь публику. Я придерживался мнения, что причина в неумелой организации: слишком велики интервалы между видами программы, сплошь и рядом не соблюдается регламент. И как пример привел международные соревнования по легкой атлетике в Финляндии, на которых мне довелось побывать. Стадион битком. На 16.00 назначен финал бега на 400 метров. Один из фаворитов – известный советский бегун спартаковец Борис Громов. Время стартовать, а Борис, задержавшись в раздевалке, появляется на дорожке, когда остальные финалисты уже на старте. Он издали машет судье рукой – мол, вот он я, подождите. Судья все видит, но на часах ровно 16.00 – грохочет стартовый выстрел, и бегуны проносятся мимо опешившего Громова.
Закончил я свой рассказ тем, что если бы мы так же динамично и четко научились проводить соревнования, то и проблема зрителей была бы решена.
Рассыпнинский поведал мне эту историю на допросе почти слово в слово. Оказалось, это были показания Зденека Зикмунда – нашего теннисиста и хоккеиста, неоднократного чемпиона СССР.
Зденека я хорошо знал. Одно время он даже жил у меня дома, после того как его отца – ректора Института физкультуры – репрессировали в конце 30-х годов и он погиб в заключении.
Уверен: честный Зденек вспомнил ту историю из лучших побуждений, желая показать следователю, что я заботился о развитии советского спорта.
У Рассыпнинского была своя точка зрения. В протоколе допроса появилась запись: публично хвалил буржуазный спорт и тем самым пытался протащить к нам нравы капиталистического мира. Здесь же мне припомнили и те 80 рублей, которые «Спартак» в качестве стипендии выплачивал своим спортсменам общесоюзного значения. То, что это делалось по разрешению правительства, осталось без внимания.
Я уже говорил, что плохо разбирался в хитростях сталинской юриспруденции, но одно чрезвычайно радостное открытие для себя сделал: даже мне, дилетанту, было заметно, как мучилось с нами, со всеми братьями, следствие. Начав с обвинения в терроризме, оно скатилось до обвинений в хищении вагона мануфактуры и в конце концов вынуждено было опуститься до явной нелепицы о пропаганде нравов буржуазного спорта. За время, проведенное в одиночке внутренней тюрьмы Лубянки, я так и не смог привыкнуть к мысли, что любая нелепица в этом ведомстве тянула минимум на десять лет.
Футбол на этапах
Внезапно мое одиночество кончилось: у меня появился сосед. Представился:
– Бывший прокурор Новосибирской области Ягодкин…
– Бывший председатель «Спартака» Старостин…
Ягодкин был арестован на год позже меня и слышал, как немецкое военное радио объявило об аресте братьев Старостиных за то, что они не эвакуировались из Москвы, потому что ждали прихода немцев. Неужели в этот бред кто-то верил?
В наших долгих разговорах прокурор любил меня просвещать:
– Поймите, мы не в суде и не в прокуратуре, а в органах НКВД. У них особые права. Если доказательств против арестованного будет собрано мало, они дело могут в суд не передавать. Его рассмотрит коллегия, или так называемая «тройка», постановления которой никаким амнистиям не подлежат. Значит, выгоднее попасть в суд, где вы услышите обвинение, а до этого прочитаете дело. Из НКВД оправданными не уходят. Идет война. Не дай бог, гитлеровцы начнут снова реально угрожать Москве. Вы думаете, с политическими будут возиться, подавать вагоны, куда-то увозить или оставлять врагу? Нет, мы балласт, от которого сразу же постараются освободиться. Вы должны это понимать.
Примерно месяца полтора спустя я услыхал и от своего следователя подобный прогноз. Только тогда у меня мелькнула мысль: не дуют ли они в одну дуду?
Потом Петр мне рассказывал, что очень похожий, судя по моим описаниям, человек сидел и с ним. Правда, под другой – не Ягодкин – фамилией.
Вроде искренне желая добра, Ягодкин убеждал:
– Николай Петрович! Вас здесь держат почти два года. Признать невиновным не позволит честь мундира. Вы идете во главе дела. Не мучайте себя и братьев… Самое умное – добавить несколько фраз к похвалам зарубежного спорта. Склоните к таким же «мелочам» и остальных. Получите за это статью 58 пункт 10 «антисоветская агитация» – она, как правило, передается в суд… Послушайте, когда волки гонятся за крестьянином, он, чтобы спасти себя и лошадь, бросает им поросенка, которого купил в городе на базаре. И вы должны что-то бросить, вас же загробят. Тем самым дадите возможность следствию выпутаться из вашего дела и закончить его. Да и сами наконец выберетесь из этого дома, что, поверьте мне, бывает здесь не так часто. Другой возможности выкарабкаться я просто не вижу…
Ягодкина часто уводили на допросы по ночам. Но если он являлся «подсадной уткой», то ведь спокойно вместо допросов мог спать и подкармливаться. Хотя он не гнушался и малым. Когда я признал свои высказывания насчет изъянов нашего спорта, мне разрешили передачу. Я, естественно, поделился ее содержимым с соседом. Смотрю, он ест и яичную скорлупу. Спрашиваю:
– Александр Александрович, что же вы скорлупу едите?
– Как что? – отвечает. – В ней кальций, зачем полезному для организма пропадать…
Ягодкин спал в камере и днем. И очень оригинально. На стекла своих очков он налепил «зрачки» из хлебного мякиша. Когда надзиратель смотрел в «глазок», создавалось впечатление: заключенный сидит и смотрит. А он мирно спал. Я всегда ему завидовал.
Наконец, по-моему, наше дело следственным органам просто-напросто надоело – никаких сенсаций оно не обещало, а нудная возня с «антисоветской агитацией» явно не соответствовала рангу центра этого ведомства. Однажды Есаулов сказал:
– Ну какие вы политические преступники? Какие вы политики? Я вижу, какой вы политик…
Они сами пришли к заключению, что с точки зрения политической мы не мастаки.
Где-то осенью 1943 года меня повели к начальнику управления генерал-лейтенанту Федотову.
Человека с более свирепым лицом я не встречал. Он потребовал от меня полноценных признаний, угрожая применением санкций к нашим семьям. И закончил резко:
– Даю вам две недели, потом пеняйте на себя. Может быть, это нескромно, но я причисляю себя к разряду людей храбрых. Я, правда, не так храбр, как Петр Попов, знаменитый спартаковский защитник, он вообще понятия «страх» не признавал. Я тоже слово «страх» не понимаю. «Опасность» – такое слово мне понятно. Я их не боялся, и они, вероятно, это чувствовали. Держался с ними спокойно. Мне казалось, что я их не только переживу, но и большую память в людях оставлю. Все-таки капитан сборной долгие годы не забывается. А самое главное, держался так спокойно потому, что знал: ни в чем не виноват.
Но угроза семье – это было уязвимое место.
При следующей встрече я сказал Есаулову, что мало верю в то, будто жена и дочери в Москве…
– Ну а если я дам вам свидание с женой и она лично подтвердит вам свое благополучие, следствие двинется к окончанию?
– Двинется… – ответил я.
Анализируя этот двусторонний компромисс, я понял, что надежда на освобождение из внутренней тюрьмы – жестокая иллюзия. С другой стороны, поскольку в войне произошел перелом, в Москве наверняка затеплился интерес к футболу, а восемь человек из «Спартака» так долго сидят и неизвестно за что… Народ извечно поддерживает слабого… «Ведомству» разумно было открыть клапан и успокоить общественное мнение: мол, следствие закончено, суд определит наказание.
Кроме того, Есаулов постоянно твердил:
– Ну что, Николай Петрович, все сидите? А ведь у вас есть возможность, получив срок, подать заявление и идти на фронт. Страна нуждается в крепких людях. Вы должны быть неплохим солдатом. Это вас реабилитирует, на этот счет есть специальное решение.
(Он, конечно, обманывал, потом я узнал, что политических на фронт не отправляли.)
Обещанное свидание состоялось… Я встретился с женой в присутствии следователя, задал ей заранее разрешенные мне вопросы. Она ответила, что работает, дочки учатся, но скрыла, что их втиснули в восьмиметровую комнатушку прислуги, а две другие комнаты квартиры со всем, что в них было, опечатали. Младшая дочь спала на гардеробе, вторую кровать негде было поставить.
После свидания я «сознался» в нескольких критических фразах, произнесенных в адрес советского спорта. Ягодкин помог мне выдумать и те антисоветские высказывания, которые я якобы слышал от своих брать ев. Они знали мой почерк и, когда следователь показал им «признания», поняли, что, значит, так нужно, и подтвердили их. На этом следствие «благополучно» закончилось.
Анализ Ягодкина полностью совпал с мнением следствия…
Сейчас я не знаю, кем считать Александра Александровича – добрым или злым гением нашей семьи?
С одной стороны, мы все прожили после реабилитации в Москве по 30 с лишним лет, а с другой – каждый из нас промытарился 12 лет по пересыльным тюрьмам и лагерям.
Кстати, если Александр и Андрей поверили моему почерку сразу, то Петр – нет… Следствию пришлось устраивать нам очную ставку. На этой встрече Петр предстал настолько исхудавшим и болезненным, что я особенно остро понял: дальше тянуть дело нельзя. Допускаю, что и мой вид вызвал у него тревогу.
– Петя, – сказал я, – признавай свои высказывания… Свои ошибки будем исправлять на фронте… С «пятьдесят восьмой» суд может удовлетворять просьбы об отправке на фронт, а то идет война, а мы торчим в тюрьме…
Он согласно кивнул:
– Хорошо… Я подпишу…
– Надеюсь, – обратился я к Есаулову, – что вы разрешите ему передачу, как неделю назад разрешили мне. Он в этом остро нуждается…
Петр вышел из заключения с двумя туберкулезными кавернами в легких – результат побоев на допросах, – соперированными уже в Москве после реабилитации.
Александру относительно повезло: следователь ему достался «мягкий», он предпочитал спокойно дожидаться показаний «чужих» подопечных, проходивших по делу.
Хуже пришлось Андрею. Пытки бессонницей, как я уже говорил, серьезно нарушили его вестибулярный аппарат: он не мог самостоятельно передвигаться.
Вновь наступило время неопределенности. Следствие вроде бы закончилось, а суда все не было. Тревожное ожидание я пытался заглушить чтением классики в дореволюционном издании. На каждой книге стоял штамп: «Из личной библиотеки Н. В. Крыленко». То, что они хранились в тюрьме НКВД, не оставляло сомнений в судьбе их прежнего владельца, прокурора и министра юстиции СССР.
Только потом узнал: задержка, которой я был обязан своими литературными занятиями, объяснялась тем, что Андрей полтора месяца провел в больнице Бутырской тюрьмы, где заново учился ходить.
Конечно, два года прошли далеко не в курортных условиях. Но я отдаю себе отчет: участь многих узников Лубянки была гораздо хуже. Почему из нас не «выжали» то, что хотели? Не могу ответить на этот вопрос, могу лишь предположить. Берия расправлялся с руководителями партии и государства, родственниками членов Политбюро. Разумеется, известность Старостиных помешать ему не могла. Но Старостины существовали не сами по себе. В сознании людей они являлись олицетворением «Спартака». Это многое меняло. Предстояло расправиться не просто с несколькими заключенными, а с поддержкой и надеждами миллионов болельщиков, простых советских людей. Думаю, именно авторитет «Спартака» облегчил нашу участь.
В ноябре 1943 года нас судила Военная коллегия Верховного суда.
После чтения обвинительного заключения председатель суда Орлов начал с вопроса:
– Признаете ли вы себя виновным в предъявленных вам преступлениях?
Я ответил примерно так:
– Да, я все это высказывал, не подозревая, что это преступно…
Довольно коротко и быстро, по моему примеру, «признались» остальные, кроме последнего – Евгения Архангельского. Он заявил, что не намерен подтверждать «фантазии», надуманные Николаем Старостиным… Никакой «антисоветчиной» он, Архангельский, никогда не занимался и заниматься в будущем не намерен. От сказанного на предварительном следствии отказывается… Его признание – результат незаконных методов воздействия…
Это был глас вопиющего в пустыне абсолютного беззакония и произвола.
Через три дня мне вменили в вину восхваление буржуазного спорта и попытки протащить в советский спорт буржуазные нравы; Петру – единственную фразу, что колхозы себя не оправдывают, а ставки советских инженеров малы; Александру и Андрею – то же, что и мне… Нам, как членам партии, дали по десять лет, беспартийным Станиславу Леуте и Евгению Архангельскому – по восемь.
После суда нас в одной тюремной карете отвезли в Бутырскую тюрьму, и до следующего утра мы, не видевшись около двух лет, наговорились вдосталь…
Тон настроению в тот вечер задал Андрей, который на вопрос тюремного врача «Есть ли жалобы?» ответил: «У меня есть…»
Тот, скрывая под маской служебной суровости закономерное любопытство к известным спортсменам, переспросил:
– На что же вы жалуетесь?
– На приговор… Много дали!
Едва за ним дверь камеры захлопнулась, мы дружно рассмеялись. Десять лет лагерей по тем временам – это был почти оправдательный приговор. Будущее казалось не таким уж мрачным.
Наутро нас рассадили по разным камерам, и только через долгих двенадцать лет я снова увидел Андрея и Петра. Да и с Александром лишь случайность однажды свела меня ненадолго в пересыльном пункте.
…Если внутренняя тюрьма пугала одиночеством, то Бутырки – количеством заключенных в камере.
Многие спали по очереди. На нарах устраивались разве что «блатные». Если на ночь доставалось место на привинченном к полу столе, это считалось удачей. А для новичков – «валетом» на полу, у параши. На каждого приходилось, дай бог, по квадратному метру. Но этот метр, как ни странно, порождал труднообъяснимое чувство – чувство «камерной» общности, видимо отражающее естественное человеческое стремление не ощущать себя один на один с грядущей неизвестностью. Его трудно объяснить словами, но мне довелось пережить момент, когда надзиратель равнодушно выкрикнул мою фамилию и добавил:
– С вещами.
Поверьте, в этот миг можно многое отдать за то, чтобы хотя бы еще на сутки, на день, на час остаться в немыслимой тесноте переполненной, вонючей, грязной, но уже твоей камеры.
По пути на Север я попал в гигантский пересыльный пункт – город Котлас. На «пересылках» люди могли сидеть годами. Если вас отправляли оттуда через месяц, это считалось быстро. В Котласе я познакомился с кинодраматургом Алексеем Каплером. Мы подружились. Интеллигентнейший человек. Он вел себя в трудновыносимых условиях с редким достоинством.
Однажды мне сообщили, что кто-то приехал на свидание. Время лихое, общение с политическими – большой риск. Шел в контору с волнением, гадал: кто бы это мог быть? Оказалось, сестра, Клавдия. Надо сказать, что и она, и Вера везде и всюду продолжали за нас бороться.
Второй муж Клавдии, Виктор Дубинин, работал старшим тренером «Динамо» и в этом качестве не менее одного раза в неделю бывал в кабинете у министра госбезопасности Абакумова. Бедного Дубинина родство со Старостиными не особенно устраивало. Узнать, где мы, как мы, и даже в известной степени повлиять на нашу судьбу он мог через Абакумова, но опасался. А вот со свиданием решился помочь: звонок из Москвы сделал свое дело. Местные власти дали свидание, что в «пересылках» категорически запрещалось.
Через три месяца я наконец прибыл в Ухту – тогда небольшой городок, в окрестностях которого добывалась нефть. Отдельные лагерные пункты располагались в 300–400 километрах от него. Зато в самом городе имелись стадион и кинотеатр, действовал каток, существовал даже свой театр, в труппу которого входили в основном заключенные: актриса из Китая, танцовщица из Ленинграда, пловчиха из Москвы…
Но в перечне «развлечений» города главное место занимал футбол. Ему вновь суждено было благосклонно распорядиться моей судьбой. Популярность «Спартака» шла намного впереди меня. Я еще маялся в Котласе, а в Ухте генерал-лейтенант Бурдаков, начальник Ухтлага, уже определил мою участь.
Не дав осмотреться, меня прямо с вокзала повели знакомиться с футболистами, среди которых были и вольнонаемные, и осужденные. Капитан местной команды Сергей Баловнев оказался ловким на поле и в жизни парнем. На «пересылке» он чувствовал себя как дома и сразу мне заявил:
– Николай Петрович, мы вас ждем давно, будете работать с нами. Генерал души не чает в футболе. Это он вас сюда вырвал.
На другой день меня привели в порядок, постригли, помыли, побрили и повезли к генералу на показ.
В приемной, где хозяйничала его секретарша Лена, очень красивая молодая брюнетка, сидели начальники десятков подразделений и отделов.
И тут же я – «политический». С годами я перестал удивляться тому, что начальники, бывшие вершителями судеб тысяч и тысяч людей, олицетворением бесчеловечности и ужасов ГУЛАГа, столь благожелательно относились ко всему, что касалось футбола. Их необъятная власть над людьми была ничто по сравнению с властью футбола над ними.
В лагерях не только отбывали срок, работали и умирали. Там жили. Они стали формой человеческого существования. Это было страшно: в созданной системе ценностей футбол превращался в средство выживания.
Разделавшись с «текучкой» лагерной жизни, генерал вызвал меня. Я вошел: за столом сидел человек двухметрового роста, килограммов под сто тридцать, с большой головой и высоким лбом. Он посмотрел на меня из-под густых седых бровей и спросил (потом я слышал подобные вопросы сотни раз):
– Как же это могло случиться? Я уже знал, что надо отвечать:
– Непростительная ошибка с моей стороны.
– Хорошо, что вы это понимаете. И вам мой совет, а может быть, даже больше, чем совет: не заводите дружбу с заключенными, особенно с уголовниками. Сейчас они начнут к вам липнуть со всех сторон. Вам выдадут круглосуточный пропуск и разместят на стадионе. Там у меня живут несколько осужденных футболистов, в том числе Баловнев. Он вам поможет освоиться и все расскажет. Идите устраивайтесь.
Вот так я начал работать тренером команды ухтинского «Динамо».
«Сам» любил футбол беззаветно и наивно, почти по-детски. В тонкостях не разбирался, но гол приводил его в восторг, который он не скрывал. На стадион он всегда водил жену – пожилую располневшую даму… В дни матчей управление заканчивало работу на полчаса раньше и в полном составе, вслед за начальником, отправлялось на футбол.
Когда в Ухту приехала на календарную игру команда «Динамо» из Сыктывкара, мы разгромили ее со счетом 16:0. Это был, по-моему, самый счастливый день для генерала Бурдакова. После каждого гола он поворачивался к сидевшему за ним на трибуне министру МВД республики и, широко разводя руки в стороны, хлопал в ладоши прямо перед его носом. Если бы это было во власти Бурдакова, я думаю, он меня в тот же день освободил бы…
Пробыл я в Ухте всего год, но отдельные эпизоды до сих пор сохранились в памяти… Помню, например, такой разговор Бурдакова с генералом Барабановым – начальником Интлага.
– Ну, когда ты со своей командой приедешь в Ухту, где я тебя вдребезги расшибу, как Сыктывкар? – спрашивает Бурдаков.
– Приеду, приеду, – отвечает Барабанов по селектору. – А кто кого расшибет, будет видно – ведь у меня сейчас команду-то тренирует Старостин!
– Какой Старостин?
– Александр… Вот какой.
– Да? Но все равно приезжай… Мой Старостин – Николай – покажет твоему Старостину, где раки зимуют.
– Ну, это мы еще посмотрим, который из них кому покажет.
Вот каким образом я узнал, где «тянул» срок Александр.
В своей книге «Звезды большого футбола» я описал и другой случай, который произошел в кабинете того же Бурдакова. Это было как раз перед игрой с командой Сыктывкара. Я докладывал генералу о состоянии команды.
– Все ли были на тренировке?
– Не было Шарапова – инженера местной электростанции.
– Почему?
– Его не отпустили с дежурства.
Бурдаков нахмурил брови и включил диспетчерскую связь. Через несколько секунд я услышал испуганный голос директора станции, его прервал густой бас генерала:
– Ну, рассказывай, как дела?
– Товарищ генерал, у нас все в порядке.
– Ты считаешь, что все в порядке? А почему инженер Шарапов не был на футбольной тренировке вчера? Почему? Ты что, не знаешь, что у нас игра через два дня?
– Товарищ генерал, некому было дежурить.
– А ты сам не мог?
– Вы знаете, у меня то одно, то другое…
– Скажи, ты на футбол ходишь?
– Нет. Дела не позволяют, товарищ генерал.
– Ему дела не позволяют! У него дел много! А вот Лаврентию Павловичу дела позволяют на футбол ходить. Ну, конечно, у него дел-то ведь меньше, чем у тебя на электростанции. Так, что ли? Мне позволяют – я хожу. Всему управлению позволяют. А тебе не позволяют? Ну, хорошо, мы продолжим этот разговор.
И, положив трубку, обратился ко мне:
– Разве можно доверить электростанцию человеку, который не ходит на футбол? – И, не дав мне открыть рот, сам же ответил: – Конечно нет.
Бурдаков был жестким человеком. Но к футболистам питал заметную слабость, давал им все допустимые льготы: разрешал круглосуточные пропуска, представлял на досрочное освобождение через местный нарсуд тех, кто был осужден по уголовным статьям, попадавшим под амнистии.
Не знаю, убедительно ли прозвучит моя мысль, но мне кажется, что социальная роль футбола, его общественная значимость в предвоенные годы сформировалась благодаря особому к нему отношению людей. Его словно отделяли от всего, что происходило вокруг. Это было похоже на неподвластное здравому смыслу поклонение грешников, жаждущих забыться в слепом обращении к божеству. Футбол для большинства был единственной, а иногда последней возможностью и надеждой сохранить в душе маленький островок искренних чувств и человеческих отношений.
…Прошел год, я только-только начал привыкать к местным нравам, к своему положению. И вдруг предписание ГУЛАГа – отправить Старостина на Дальний Восток, в Хабаровск. Бурдаков терялся в догадках, нервничал: ему казалось, что до Москвы дошли слухи о моем относительно льготном пребывании в Ухте. Но и теперь, когда на карту была поставлена его служебная репутация, а может быть, и карьера – нарушение правил содержания в лагере политзаключенного могло не сойти с рук, – генерал попытался оставить меня у себя в Ухте: отправил в один из лагпунктов в глухой тайге, а в Москву сообщил, что я нездоров и следовать в Хабаровск не могу.
Зимой 1945 года я узнал, что такое лесоповал.
В тайге, километрах в трехстах от Ухты, несколько деревянных построек. Высокий забор с колючей проволокой, вышки с пулеметами. Это и есть лагпункт. Подъем в шесть утра. Все толпятся у двери (кто с пилой, кто с топором), подталкивая друг друга в спину, – никому не хочется первым выходить из барака на 30-градусный мороз. Ругань конвоя, пинки, удары прикладами – и построенная колонна исчезает в кромешной темноте. Дорога до повала – 5–6 километров, и каждый день она уходит дальше и дальше. Когда-то лес валили рядом с лагпунктом, но его давно здесь уже вырубили, вокруг лишь кустарник…
Как только колонна выходила за ворота лагеря, власть конвоя над людьми становилась абсолютной. Злой конвой – страшнее этого мне не доводилось встречать в жизни. Нарушение любого из правил следования типа «шаг вправо, шаг влево – считается побегом, огонь без предупреждения», «не разговаривать» при злом конвое могло иметь, как говорил мой сосед по нарам – филолог, мастак придумывать новые слова, – полулетальный исход. Он смотрел в корень. Конвоиры менялись, но их всех уравнивало одно постоянное право: право убивать. И все-таки, несмотря на обжигающий холод и жестокий конвой, хотелось, чтобы дорога к повалу была бесконечной. Увы, она всегда кончалась… И начиналась работа. Причем у каждого своя – 58-я валила лес, уголовники играли в карты. «Шестерки» быстро разводили костер, стелили вокруг него еловые ветки, на которые усаживались «паханы», доставалась колода…
Когда я впервые узнал, что на языке гулаговских документов уголовники именовались загадочным словосочетанием «общественно близкие элементы», то посчитал это каким-то чиновничьим бредом. Но потом понял: все дело в том, о каком обществе вести речь. Если об обществе надзирателей и конвоя, то для них, безусловно, уголовники являлись не то что близкими, а просто родными элементами. Начальники лагпунктов относились к уголовникам благосклонно.
Бригадир показывает заключенным, с чего начинать. А начинать приходится с откопки ствола дерева, засыпанного снегом на целый метр, и только потом пилить, пилить, пилить… Через час многие с трудом таскают за ручки плохо разведенные и плохо наточенные пилы. Через 4 часа – обед из лагеря, естественно, полуостывший. Вы к этому времени уже подустали, и вся одежда на вас мокрая. И на ногах не валенки, а чуни из старых автопокрышек, обмотанные тряпьем. Пока к костру доберешься, там все «лучшее» уже разделено. Значит, похлебаете то, что досталось, возьмете кусок хлеба и опять назад, пилить. Хлеб выдается по выработке. Если вы наработали 150 граммов, бригадир все равно пишет наряд на 400, иначе от голода в следующий раз просто не дойдете до леса.
Потом наступает срок вывозить дрова. Получается, что заготовлено по документам в 4–5 раз больше фактического. Начинают разбираться, где остальные. Остальных нет и не может быть. А хлеб-то съеден по этим нормам. Значит, надо составлять акт на разлив какого-нибудь ручья, благо таких в тайге много, который размыл и унес сложенные поленницей дрова. Надо гнать «туфту». Ею пронизаны отчеты всех лагпунктов.
Северные дни коротки… Два-три часа после обеда, и пора «домой»… Конвой старается вернуться с колонной засветло… Но половина из заключенных в промокших от снега чунях еле-еле передвигает ноги. До лагпункта тащатся два с лишним часа. Столько же времени они будут сушиться и отогреваться у больших железных печей в бараках… Отсюда страшный бич тех, кто работает на повале, – туберкулез.
Вольнонаемных врачей явно не хватало, поэтому привлекались медики из числа заключенных, а чаще вовсе обходились фельдшерами с весьма приблизительными понятиями о медицине. Но сама по себе должность лагерного «лекаря» делала его фигурой влиятельной. При желании он вполне мог до определенной степени облегчить участь отбывавшим срок. Если в бюллетене значилось «освободить от работы», начальник обычно не рисковал направлять больного в лес.
В Ухтлаге главным врачом был некто Соколов – страстный футбольный болельщик. Как-то он меня вызвал и предложил:
– Николай Петрович, давайте я вас пристрою в свой санотдел. Вы же физкультурник. Вы знаете, что такое массаж?
– Конечно, знаю.
– Будете массажистом.
Санчасть в лагере занимала отдельный громадный барак. Прошло почти 50 лет, а не могу забыть ту картину. У меня есть странность: трудно переношу кашель окружающих, даже близких людей. Он меня раздражает. Я унаследовал это от отца. Помню, когда мы начали кашлять, мама давала нам подушку:
– Закройтесь, чтобы отец не слыхал.
Когда я вошел в барак, забитый полуживыми существами, они все кашляли. Но это был не кашель – это был булькающий свист, который вырывался из легких. А как забыть их лихорадочные глаза, обреченные на смерть лица…
И вот что еще снится мне иногда по ночам. Я знал секретные сводки, где указывалось, сколько работоспособных, сколько больных, сколько «черных» – так обозначались умершие – находится в лагере. Каждый день в Ухте умирало не меньше 40 человек. Тела свозились в морг. Черт меня дернул туда пойти. Я увидел горы голых трупов, которые пожирали сидевшие на них сотни крыс…
Несмотря на все ужасы, работать в санчасти считалось удачей. Часто туда напрашивались люди, не имеющие о медицине никакого представления. У нас был такой фельдшер – в прошлом писатель, молодой парень, но с бородой и усами. Поэтому когда к нему приходили, то первое, что ему говорили: «Батя (раз у него борода – значит, батя), запиши меня к врачу». Он смотрел на пришедшего хмуро: «Ты здоров». – «Я болен, батя». Он в ответ: «Ты здоров, Матя». Отсюда и повелось. Заключенные стали его звать «Матя». «К Мате надо сходить – полечиться».
Так случилось, что Ухтлаг оказался лагерем литературного профиля. Поваром числился тоже писатель, из Ирана, по имени Назым. Он был обвинен в шпионаже. В бараке у него почему-то была отдельная полукомната. Обычно к нему заходили и спрашивали:
– Вы старший повар?
Назым лежал на высокой кровати (где он ее взял – загадка, на ней валялись подушки, и он спал полусидя) и отвечал:
– Я – иранский шпион, что тебе надо?
Это была занимательная картина. Старший повар – фигура по влиянию где-то чуть пониже врача. Повар мог вас накормить, поддержать. Вы ему суете котелок на троих, а он вам, если хочет, наливает на пятерых.
– Назым, прибавь компоту.
– Тебе и так воды не надо пить.
– Но компот-то ведь жирный. Вот такие порой были диалоги.
В Бутырках на стене писали: «Федот, не верь следователю». И здесь были свои постулаты. Первый: «Никогда не делай сегодня того, что можешь перенести на завтра». Второй: «Съешь все сегодня, не оставляй на завтра». Но был еще главный закон: выжить и пережить тех, кто тебя посадил.
…Несмотря на все старания, Бурдаков не смог оставить меня у себя в лагере, хотя, думаю, искренне хотел. Когда он вышел в отставку и вернулся в Москву, то несколько раз звонил мне. Соединяла нас по телефону, как когда-то в Ухте, та самая секретарша Лена, которую тогда полушутя-полусерьезно называли вторым человеком в Ухтлаге. Судя по всему, с годами она сумела сохранить свои отношения с генералом.
В книге «Звезды большого футбола» я описал эпизод разговора Бурдакова с директором электростанции. Кто-то ему эту книгу показал. И вот в трубке его густой бас:
– Николай Петрович, читаю твои «Звезды».
Я насторожился, ожидая, что сейчас он выкажет обиду за написанное, но вдруг слышу:
– Ну, спасибо тебе большое, что не забыл обо мне. Ведь ты меня в советском футболе увековечил. Когда ты придешь ко мне в гости, чтобы мы с тобой те времена вспомнили?
Я ничего конкретно не ответил, обещая позвонить…
…От Ухты до Котласа я ехал почти в «райских» условиях. Кроме меня, в купе-камере тюремного вагона было только двое: пожилой профессор-филолог и молодой парень, карманный вор.
У профессора были с собой узелок с провизией, остатки полученной недавно посылки. Не успел я осмотреться, как вор конфисковал «профессорский паек» и устроился с ним на верхней полке. От обиды и бессилия профессор заплакал.
– Верни, что взял, – сказал я парню.
– Отдыхай, батя, – лениво ответил он.
Я крепко схватил его за воротник телогрейки и, рванув, сбросил с полки. Он лежал в грязном, заплеванном проходе, не понимая, что произошло.
– Вернешь? – спросил я. В свои 42 года я был достаточно физически крепок и еще не забыл навыков кулачных боев на Москве-реке.
– Ладно, батя, раз ты такой принципиальный, то верну…
После этого все происходило «чинно и благородно», до Котласа мы докатили без инцидентов.
На Север и на Урал заключенных гнали тысячами. Добирался я по маршруту Ухта – Котлас – Вологда–Киров – Молотов – Свердловск – Омск – Новосибирск–Красноярск – Иркутск – Чита – Хабаровск целых полгода и прибыл к месту назначения 8 мая 1945-го.
Большую часть этого путешествия я промаялся в «пересылках», которых насчиталось с добрый десяток. Да и в тюремных «вагончиках» суток тридцать «перекемарить» пришлось… В купе тюремного вагона набивали по 36 человек. Сейчас даже не верится, что мы там умещались… Все стремились занять лежачее место на вторых нарах, лицом к решетке, отгораживающей коридор. Там было больше воздуха, кроме того, можно у конвоя выпросить глоток воды, знать, что кругом делается… На третьих нарах и выше слишком жарко, внизу под лавкой – холодно. Этап являлся для заключенного «голгофой». Кормили в поезде впроголодь: кусок соленой рыбы, триста граммов хлеба и кипяток… «Оправляться» давали только два раза в сутки, но и при этом на злачное место «выпадало» по триста с лишним посещений ежедневно. Прибытие на очередную «пересылку» воспринималось почти как «амнистия». Хотя у каждой из них были свои особенности и репутация.
Когда я иногда читаю в газетах: «В аэропорту создалась чрезвычайная обстановка из-за скопления нескольких тысяч человек…» – я вспоминаю те места, в которых довелось побывать. В них скапливались десятки тысяч людей. Одна каторжная тюрьма в Иркутске чего стоила!.. Через нее заключенных отправляли в Норильск, на золотопромышленные прииски Сибири и Якутии. Для транспортировки тут требовались не вагоны, а целые составы. Сидящие в «пересылках» в большинстве своем никуда не торопились… Многие умудрялись оставаться там годами. Чем работать на холоде за лишние 200–300 граммов хлеба в сутки, куда умней пребывать на нарах в теплом тюремном помещении.
Заправляли всем, как правило, уголовники. Они имели связи с охраной, через нее сбывали в городе отнятый у «политических» дефицит. Взамен разживались водкой и табаком. В огромных камерах «пересылок» почти в открытую шла картежная игра на что и во что попало. Проигрывали не только вещи, но и людей. И если «шестерка» не выполняла приказ главаря убить человека, наказание было одно – смерть.
Ко мне уголовники относились более чем доброжелательно. С этапа на этап каким-то непонятным для меня образом передавался негласный уговор:
– Старостина не трогать.
Принадлежность к футболу была лучшей охранной грамотой. Когда вечерами по просьбе своих соседей по нарам я начинал вспоминать футбольные истории, игра в карты сразу прекращалась. Самые отпетые рецидивисты тихо, как примерные школьники, слушали мои рассказы. Я мог жить – не тужить.
Но у меня не было желания отсиживаться по «пересылкам», я рвался в назначенный мне Хабаровск в надежде, что местное «Динамо», как это было в Ухте, проявит ко мне интерес. Не зря же меня туда затребовали…
Проведя неделю-другую в очередной «пересылке», я безошибочно определял тех, кто составлял списки на отправку по этапам. И сразу писал заявление с просьбой включить меня вне очереди: еду, мол, по специальному вызову на тренерскую футбольную работу. Опаздываю к наступающему сезону… Таким способом и одолел за полгода столь сверхдалекий путь… Другие тащились вдвое, втрое дольше.
Я часто перебираю в памяти те места, где побывал, и то, чем каждое из них в моей судьбе отозвалось… В Кирове я пережил минуты, незабываемые до конца дней. Наш этап только-только прибыл в кировскую «пересылку». Это была еще царская тюрьма, построенная не наспех, а добротно, с толстыми стенами, теплыми и большими камерами. По сравнению со сталинскими постройками-скороспелками – почти санаторий. Живи – не хочу… И вот однажды открывается дверь камеры и выкрикивают мою фамилию:
– Старостин – на выход!
Я шел и думал, что, наверное, сейчас предложат устроиться в санчасть. Это первое, что мне предлагали, куда бы я ни приезжал, если среди врачей или начальства попадались болельщики. В больнице было чище и сытнее… Да и подальше от картежной игры и драк. Но вижу, ведут меня не в санчасть, а в комнату свиданий. Что за сюрпризы?
Вхожу. За столом сидит майор, начальник тюрьмы, а напротив – Мария Исакова, наша прославленная конькобежка, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира. Ничего не понимаю. Откуда? Как? Почему? От удивления не могу вымолвить ни слова. А она, не обращая внимания на майора, бросается ко мне в объятия:
– Николай Петрович!
Начальник тюрьмы встает и молча выходит.
– Здравствуй, Мария! Как ты меня нашла?
– Мне из Москвы позвонил Иван Аниканов, сказал, что вы здесь, и попросил вас навестить. С местным начальством я легко договорилась, я же здешняя знаменитость да еще любимица динамовского руководства. Они на меня тут все не надышатся. У нас в Кирове конькобежные сборы, ребята вам тут передали, что успели собрать. Вот возьмите… – Мария, оглянувшись, быстро подняла подол и достала из чулка мешочек с табаком и деньги – 500 рублей.
– Мария, что ты, не надо, при обыске все равно отнимут.
– Вас обыскивать не будут.
– Мария, девочка моя, я – политический. Не надо было сюда приходить. Это для тебя опасно.
– Мы все знаем, Николай Петрович. Слава богу, что так обошлось. Я не уйду, пока вы это не возьмете…
Я был очень взволнован этим свиданием.
Всегда считал спортсменов членами одной громадной семьи. Вне зависимости от конкуренции, от принадлежности к разным клубам… Соревнования закончились – и мы уже не противники, а спортивные однополчане… Всегда готовые прийти друг другу на помощь. Но то, что сделала Мария Исакова… По тем временам визит к политзаключенному был подвигом на грани самопожертвования. Ведь мог же начальник «пересылки» сообщить в Москву, что разрешить свидание его заставили и что, мол, Исакова вела какие-то разговоры с «пресловутым» старшим Старостиным. И все – прощай, Мария. Так ведь не только с себя ответственность снимешь, но и выслужиться есть шанс. К счастью, все обошлось.
Для меня поступок Исаковой навсегда остался примером высочайшего проявления человеческой солидарности спортсменов.
…Я вернулся в камеру. Табак раздал по нарам, но что делать с деньгами? Они жгли карман, я боялся, что вот-вот будет шмон – тщательный обыск. Тогда карцер. Я лихорадочно пытался что-то придумать, то засовывая деньги в подушку, то пряча их под соломенный матрац. И тут ко мне подошел невысокий седой старик, взял деньги, скатал их трубочкой и вшил в ручку моего чемодана, откуда ловко вытащил кожаную набивку. Закончив «операцию», он по-доброму улыбнулся и сказал:
– Молодой человек, поверьте дореволюционному опыту старого конспиратора: такую головоломку не разгадала бы даже царская охранка, а эти, – последовал кивок в сторону двери, – и подавно не догадаются…
Старик оказался прав. Когда меня на следующий день отправили из Кирова на этап, на чемодан никто не обратил внимания.
…Состав едва тронулся, а кто-то из заключенных сказал начальнику вагона:
– Там Старостин едет… Он в ответ:
– Сейчас я этого самозванца под нары отправлю… Подходит к нашему «купе»:
– Кто тут из вас себя за Старостина выдает?
– Никто не выдает, но Старостин здесь есть – это я. Он внимательно на меня посмотрел и спросил:
– Вы который?..
– Старший… Николай…
– А где остальные?
– Все тоже куда-то едут… Только в других поездах. Он махнул рукой.
…Город Молотов (нынешняя Пермь) встретил нас злым лаем конвойных овчарок и распахнутыми воротами очередной для меня тюрьмы.
Новые здания, порядки, люди. Смена обстановки немного отогнала тяжелые думы, заставила собраться – надо было пережить и эту «пересылку». И тут, пока нас «рассортировывали» по «статьям» и «срокам», подошел ко мне один из местных работников.
– Вы – Николай?
– Да.
– Пойдемте со мной, я вам сейчас приятную встречу устрою… – И повел меня по коридору.
Зачем, думаю, в лазарет идем? Подходим, а в дверях стоит брат Александр и улыбается… Почти два года не видались после суда.
– Ты как здесь?
– Да, видно, так же, как и ты!
– Почему тебя из Инты?
– Не знаю, пришло распоряжение. Я говорю:
– И на меня пришло распоряжение.
– А может быть, – говорит он, – потому, что я через одного вольнонаемного передал жене Зинаиде заявление с просьбой о пересмотре нашего дела.
– Ты поторопился, – отвечаю. – Не время еще сейчас. Не та пока что обстановка.
– Ну, у вас будет возможность разобраться в обстановке, – прервал меня сопровождающий. – Сейчас я вас, Николай Петрович, в одну палату с братом оформлю – для «восстановления сил, подорванных на этапах…», – сострил он. Оказалось, это был тюремный врач.
Так мы с Александром провалялись, думаю, около месяца. Вспоминали прошлое, гадали о будущем. Я спросил:
– Ты знаешь, куда едешь?
– Вроде бы меня гонят в Соликамск.
– Дурная слава у этих лесоповальных лагерей, да и спортом в тех местах не пахнет…
Он в ответ только смеялся:
– Ничего, на наш век хороших людей хватит…
Утверждал, что самое трудное уже позади… Я заставил его взять половину денег, которые дала Мария Исакова. Это все, чем я мог ему помочь перед расставанием… на долгих десять лет, до 1954 года, после которого еще почти тридцать лет прожили мы, все братья, в Москве, душа в душу.
Разговоры с Александром заставили задуматься: почему меня направили в Хабаровск, на Дальний Восток, после того как вначале я очутился в Ухте, на Севере?
Время от времени начальники всех крупных лагерей ездили в Москву, в свое Главное управление, за рабочей силой: их «подразделения» выполняли огромные объемы работ. К примеру, в Ухте, как я уже говорил, добывали нефть, на Дальнем Востоке тянули к океану железнодорожную магистраль стратегического назначения. Результаты этой «народно-хозяйственной деятельности» покоились на костях сотен тысяч людей. Но конвейер «великих» строек не мог давать сбои: вместо погибших требовались новые сотни тысяч. И их присылали…
ГУЛАГ являлся гигантской, величайшей в мире биржей труда. Заключенных строго учитывали по специальностям… Неужели, думал я, там есть и категория спортивных тренеров? Но, так или иначе, мне не раз твердили, что я еду по спецнаряду. Это внушало надежды, которые вскоре оправдались.
«Хозяин» Дальнего Востока генерал-полковник Гоглидзе оказался таким же горячим поклонником футбола, как генерал-лейтенант Бурдаков, но при этом куда более искушенным и знающим толк в этом деле. Он вел футбольную схватку с маршалом Малиновским, который командовал Дальневосточной армией и опекал две армейские команды: хабаровского СКА и Военно-воздушных сил. Именно Гоглидзе затребовал меня в свои владения и, несмотря на противодействие Бурдакова, добился своего, пользуясь тем, что был личным другом Берии.
Во всем этом я до конца разобрался только позже, прибыв в Хабаровск, а пока что колесил через необъятную Сибирь, попадая из «пересылки» в «пересылку», из одного тюремного вагона в другой, с многодневными «экскурсиями» по историческим сибирским каторжным центрам, где когда-то побывали декабристы…
В Иркутском централе у меня неожиданно разболелись верхние передние зубы. Дошло до воспаления надкостницы… После нескольких бессонных ночей я был готов на все… Тюремный эскулап, не прибегая к наркозу (челюсть была очень распухшей), с помощью обыкновенных щипцов «высадил» мне пару зубов… Я считал, что легко отделался: нагляделся я к тому времени, как у многих заключенных от цинги зубы выпадали десятками, хотя нас и пичкали слабодействующими хвойными растворами, «спасая» от этой повальной лагерной болезни…
В первое же утро своего пребывания в Хабаровске я начисто забыл о личных невзгодах и неприятностях. Потому что было утро 9 мая 1945 года. В тот день я искренне верил, что наконец там, наверху, смогут во всем разобраться, а значит, скоро наступят перемены. Я ошибся на 8 лет.
Судьба распорядилась так, что Победу я встретил далеко от Москвы, но… в московской компании. На мое счастье, два сына водопроводчика в доме, в котором я жил в Москве, оба спартаковские футболисты, служили в армии на Дальнем Востоке и играли за хабаровское «Динамо»: один – правого хавбека, другой – правого края нападения. Уже утром 9 мая они пришли на пересыльный пункт, принесли мне еды и коротко ввели в курс дела:
– Николай Петрович, мы знали, что вы прибудете. В хабаровском «Динамо» у нас больше половины москвичей. Все просили вас в тренеры… Да и местные горой за вас…
Однако Гоглидзе решил по-другому… Он, видимо, знал столичную «обстановку» куда лучше Бурдакова и опасался, что мое присутствие непосредственно у него под «крылом» не понравится Москве. Он схитрил: направил меня в Амурлаг, которым управлял генерал-лейтенант Петренко. Так я оказался в Комсомольске-на-Амуре.
Туда меня доставил специально присланный за мной в Хабаровск капитан оперчекотдела Амурлага. Ехали мы в обычном железнодорожном вагоне, а езды там всего одна ночь. Пересыльный лагпункт Амурлага находился около железнодорожного вокзала, в 3 километрах от города.
На вокзале меня уже ждал капитан футбольной команды местного «Динамо» Анатолий Иванович Иванов – начальник гаражей Амурлага и к тому же личный шофер Петренко – фигура довольно значительная, пользовавшаяся у генерала полным доверием… Я понял это, когда он посадил меня в генеральскую машину и привез прямо к себе домой.
В Амурлаге, помимо нескольких официальных зданий, был еще поселок с магазинами, столовыми, банями, кинотеатрами, пожарной частью и стадионом. В этом поселке и жил Иванов. Он познакомил меня с женой Елизаветой Матвеевной и шестилетней дочкой Эллой. После трехлетних скитаний по тюрьмам и лагпунктам я попал в домашнюю обстановку. В то время в Комсомольске-на-Амуре ни в чем не нуждались.
Все продовольствие было американское. Ведь грузы по «ленд-лизу» из Америки шли морем в наш дальневосточный порт, оттуда по вновь выстроенной заключенными железной дороге отправлялись до станции Пивань на правом берегу Амура, затем на американском пароме составы поездов перевозились на левый берег, где и раскинулся Комсомольск.
Не знаю, как и кто официально руководил всей этой гигантской транспортировкой товаров в европейскую часть страны, но у работников Амурлага имелась возможность ходить в американской одежде, есть блины из заморской муки, импортную ветчину и пить чай лучших в мире марок. Всем этим я и был, мягко говоря, удивлен за столом у Иванова после шестимесячного этапа на черном хлебе и «баланде»…
– Ешьте, ешьте, Николай Петрович, вы заморенный, – угощает меня Елизавета Матвеевна. – Давайте я вам еще подложу.
– Спасибо, – говорю, – Елизавета Матвеевна, я сыт, я уже съел две такие большие сосиски…
Вдруг сидящая за столом Эллочка меня поправляет:
– Николай Петрович, вы не две сосиски съели, а три…
Общий смех, но устами ребенка глаголет истина. Я действительно уже к тому моменту съел три. Этой Эллочке сейчас под пятьдесят, она живет в Ленинграде. Когда приезжает в Москву, всегда приходит к нам в гости, и мы обязательно вспоминаем тот случай с сосисками…
Иванов был не глуп. До ареста работал в Москве, в НКВД. В Амурлаге быстро выдвинулся за счет трудолюбия и природной сметки. Всегда знал, что делается у начальства, был вхож к генералу, и, что важнее, ему оказывала покровительство генеральша.
Он фанатично был влюблен в футбол, и мне приходилось, конечно, ставить его в основной состав, хотя в свои 36 лет бегал не так, как раньше, и в борьбе с противником надежно действовал только правой ногой. Словом, горе-защитник.
Но чувства юмора не терял. Как-то после тренировки, когда он, пыхтя, стаскивал бутсы, выслушивая в очередной раз подначки и колкости от партнеров, в раздевалку зашел здоровый парень, недавно переведенный с общих работ на повышение – в шоферы.
– Гражданин начальник, – Иванов приучил своих подопечных обращаться к нему на принятый лагерный манер, – говорят, у вас здесь Старостин?
Я рядом. Но Анатолий, мастер розыгрышей, удивленно спрашивает:
– А ты его знаешь?
– Кольку-то? Да мы с ним столько водки выпили, столько с бабами крутили… Вы ему скажите про меня.
– Зачем же я, ты сам ему скажи. Вот он сидит.
– О! Вы Старостин?
– Вроде да.
– Ну, тогда извините, этот проходимец, который назвался Старостиным, значит, выдавал себя за вас, – выкрутился он.
Вранье в лагерях достигало немыслимых размеров. Иногда это был единственный шанс оказаться в человеческих условиях.
Однажды из соседнего лагеря сообщили, что там сидит знаменитый футболист Василий Карцев. Я всполошился, поднял на ноги все начальство, уговорил их доставить его в Комсомольск…
Через два дня Иванов привел на стадион неказистого белобрысого человека.
– Вот, Николай Петрович, говорит, что он Карцев.
Я с жалостью посмотрел на лже-Василия:
– Ты хоть в футбол-то играешь?
– Конечно. Возьмите меня в дрессировку – увидите.
– Милый, оставайся уж, раз пришел. Будешь мячи подавать. И запомни, дрессировка – в цирке, а у нас тренировка.
…Жизнь моя в Амурлаге началась на редкость благополучно. Генерал Петренко был мужик умный, считался другом генерала Гоглидзе и, похоже, ко мне благоволил. Вместе с ним в Комсомольске жили жена и два сына. Мне везло на высших начальников, сверходаренных физически. Я уже рассказывал о Чудове и Бурдакове. Под стать им был и Петренко – атлет двухметрового роста, весом под 140 килограммов, без каких-либо признаков жира. Нещадно парился в бане и говорил таким густым басом, что мог бы легко заменить в чтении Евангелия знаменитых дьяконов храма Христа Спасителя в Москве Розова и Здиховского. Когда у генерала в Комсомольске неожиданно умерла жена, очень добрая и милая женщина, он крайне тяжело переживал утрату. Окружающие боялись, как бы он не покончил с собой, больше месяца не оставляли его наедине… Если не ошибаюсь, то хозяйство затем повела приехавшая к нему сестра, генерал так больше и не женился.
А где-то в 1950 году, когда железнодорожная магистраль была сдана, ему поручили какую-то новую громадную стройку. Там он проработал недолго. Вскоре Иванов сообщил мне, что он умер.
Сыновья его тоже были богатырского склада ребята, в отца. Старший сын Александр встречался со мной в Москве уже после смерти отца, он до сих пор живет в квартире генерала в доме, что рядом с рестораном «Пекин».
Петренко был заражен футболом, но до разумной степени, головы не терял. Он посещал все игры и во всем опекал команду, хотя формально над ней стоял городской совет «Динамо». Эта организация по своим материальным возможностям не могла идти ни в какое сравнение с Амурлагом, с его миллионным штатом вольнонаемных и заключенных, с учетом японских военнопленных. Конечно, Комсомольск-на-Амуре – не Ухта. Здесь заводы всесоюзного значения: судостроительный, авиационный, чугунолитейный… Но все-таки город больше, как мне казалось, зависел от Амурлага, чем тот от города. Не думаю, чтобы интересы обеих сторон где-то сталкивались, но знаю, что в футболе они тесно совпадали. Когда команда комсомольского «Динамо» выиграла впоследствии Кубок Дальнего Востока и вышла в финал Кубка РСФСР, это был праздник и для Комсомольска, и для Амурлага.
Были среди начальства Амурлага и болельщики-фанаты, наподобие генерала Бурдакова в Ухте. Особенно выделялись двое: полковник Марин, начальник оперчекотдела Амурлага, и начальник вновь строящейся железной дороги Прядко.
Разные внешне и внутренне люди, почти во всем антиподы, но в футбол одинаково безоглядно влюбленные…
Прядко – общительный и артистичный. Когда мы шли на тренировку мимо его дома, он выходил на балкон и кричал с балкона:
– Заслуженный мастер спорта Николай Старостин и мастер спорта Василий Куров, зайдите!
Мы заходили к нему.
– Ну, как вы, сыты?
– Василий Иванович, спасибо. Пока все в порядке.
– Ну, тогда рассказывайте, как дела. – И не отпускал нас, пока не выпытывал все последние новости о каждом игроке.
Марин – решительный и властный, имел возможность досрочно освободить любого уголовника, если считал, что таковой может усилить нашу команду. От него зависела и судьба тех военнопленных, которые, вернувшись из Германии на родину, попали в Амурлаг на «реабилитацию».
В «Динамо» Комсомольска до 1950 года с большим успехом играли бывшие военнопленные: защитник Владимир Месхи и нападающий Илья Хачидзе. Быстро стал вольнонаемным осужденный неизвестно за что Василий Куров, избавился от титула «ссыльный поселенец» не повинный ни в чем Константин Ширинян. Во всем этом чувствовалась покровительская рука Марина…
Ширинян был лучшим нападающим дальневосточного футбола, игроком редких способностей. До сих пор в Комсомольске-на-Амуре стоит его непобитый рекорд в беге на 100 метров – 11,0 секунды. Интересно, как установил он его: отыграл первый тайм в футбол, скинул бутсы и в тапочках без шипов по гаревой дорожке «отсчитал» свои 11 секунд.
Отца Шириняна, рабочего ереванского завода, в конце тридцатых репрессировали, а двух юных сыновей, как членов семьи изменника Родины, выслали на поселение в разные места. Константин попал на Дальний Восток.
Когда в Комсомольск ко мне приезжала жена с младшей дочерью Лялей, Ширинян там с ней познакомился. Позже он несколько лет играл в Москве за команду мастеров ВВС, горячо опекаемую Василием Сталиным. Так вскоре в столице обосновалось семейство Ширинян. Закончив футбольную карьеру, Константин, как и его брат-борец, стал скульптором. Они дружно живут с Лялей, вырастив детей, а теперь и воспитывая внуков.
Из всех известных мне футболистов быстрее его был только Валентин Прокофьев.
Валентин появился в команде «Красная Пресня» в 1925 году, прибыв в Москву из Николаева. Отлично сложенный, высокого (177 см) роста, Прокофьев был рожден для футбола. Природный левша, он этой своей «главной» ногой управлял мячом, как рукой. Сокрушающе бил, но главное… стремительно бегал. Не только сверхрезко, но и на редкость красиво. Я два-три года играл с ним в одной команде, вся линия нападения (Н. Старостин, П. Артемьев, П. Исаков, П. Канунников и В. Прокофьев) которой в это время входила в состав сборной Москвы и котировалась в сборную СССР. Сознаюсь, что во многих играх, стараясь на правом фланге всеми силами не отстать от его рывков с мячом в ногах по левому краю к воротам противника, я восторгался бегом Валентина и кричал во все горло ему то «браво», то «молодец»… А ведь тогда и пресса, и знатоки футбола призывали всех форвардов учиться бегать у… Николая Старостина. Да и тренировался я в спринте ежедневно, не жалея времени и сил, а пресловутый Валентин Феофанович Прокофьев без всякой работы и «заботы» взял и пробежал в Киеве стометровку на каком-то легкоатлетическом соревновании за 10,6 секунды!
Но, как говорят, «бог дал, бог и взял»… Он дал ему талант, но не дал усердия этот талант развивать и хранить. Восторженные почитатели быстро научили Валентина отмечать свои успехи.
Вино делало его заносчивым и скандальным… В нашем коллективе такое не прощалось, и Прокофьев перешел в московское «Динамо». Однажды «набузив» после игры в ресторане своего стадиона на глазах высокого начальства, он по распоряжению руководителя «Динамо» Василия Константиновича Лапина оказался с десятидневным сроком на гауптвахте… А тут через неделю игра «Динамо» – «Пищевики». Матч с подтекстом, особо престижный, футбольная «вендетта».
Команду Лапин накануне собрал в своем кабинете. По его распоряжению привели с гауптвахты и сердитого, как камышовый кот, Валентина Прокофьева…
Легендарный Федор Селин как капитан команды «Динамо» (тренеров в то счастливое для игроков время еще не было) зачитывает Лапину для утверждения состав команды на игру с «Пищевиками»… Последним, как всегда – 11-м по счету, идет левый край. Федор произносит:
– Валентин Прокофьев…
И вдруг тот встает и громко, на весь кабинет, вещает:
– Нет, Валентин Прокофьев играть не будет. Вместо меня пусть сыграет на этот раз Василий Лапин…
Несусветный конфуз! Прокофьева снова отправили «на губу». Вместо него играл кто-то из резерва, и, если мне не изменяет память, «Динамо» встречу не выиграло… В результате этого инцидента В. Прокофьев на следующий сезон оказался в киевском «Динамо».
Выпивка у него вошла в «обиход». Блестящий талант на глазах хирел, а характер портился. Финал трагический. Отчисление из команды, пьяный дебош. Колыма… И смерть в 35 лет от гангрены… Вот уж подлинно – талант и беспутство!..
…Довольно скоро в Комсомольске создалась азартная команда, причем по футболу и по хоккею с мячом, которая затем долго на равных сражалась с очень сильными дальневосточными клубами, такими как «Динамо» и СКА из Хабаровска, Тихоокеанского военного флота – ТОФ – из Владивостока, СКА Воздвиженки, СКА Читы и «Динамо» Благовещенска.
Эти команды подарили спорту немало «звезд», прогремевших потом не только на внутрисоюзном уровне, как, скажем, Ширинян или центрфорвард Хабаровска Болотин. Достаточно назвать заслуженных мастеров спорта Трегубова и Сологубова – лучшую пару защитников в истории хоккея, начинавших свой спортивный путь на Дальнем Востоке. Как жаль, что не захотели уезжать в те годы с Дальнего Востока и такие выдающиеся местные хоккеисты, как Руденко из Комсомольска-на-Амуре и Чмутин из Хабаровска. Они ни в чем не уступали по мастерству великим игрокам, чемпионам мира Трегубову и Сологубову, а по объективным оценкам превосходили их в скорости и в технике…
По мере того как росли успехи команды, росли и мои льготы. Через какое-то время мне было разрешено жить «за зоной», имея так называемый круглосуточный пропуск. Мое правовое положение стало больше напоминать участь ссыльного, чем политзаключенного.
На территории гаража Иванов предоставил в распоряжение футболистов отдельный деревянный дом из трех комнат, где я и поселился вместе с Месхи, Хачидзе и Куровым.
Василий Куров, не знавший страха в жизни и футболе и напрочь лишенный внутренних «тормозов», в целом оказался хорошим и преданным парнем. Сейчас он работает в Усть-Илимске начальником хоккейной команды. Тогда же, в начале пятидесятых, он с полным самопожертвованием разделял все тяготы, сыпавшиеся на мою голову.
Для исполнения обязанностей не то эконома, не то денщика мы выпросили у Марина осужденного за спекуляцию бывшего ленинградского хоккеиста и футболиста Павла Петрова, по кличке Понт. Он часто бывал моим непосредственным противником в играх сборных Москвы и Питера. Когда к нам наведывались другие игроки команды, он варил, парил, жарил, кормил нас и выполнял обязанности «затейника»… По натуре лукавый, он любил задавать им, в основном провинциальным ребятам, вопросы о большом футболе и рассказывать всевозможные «байки» о футбольных подвигах как бывших, так и ныне еще действовавших ленинградских футбольно-хоккейных звезд.
Случались и с ним самим всякие курьезы. Как заключенный, он формально числился в пожарной команде, в помещении которой имелась баня, куда мы ходили париться иногда вместе с генералом Петренко. Рядом стоял особняк, где он жил со своей семьей. Тут же стадион – зимой на нем был каток.
Начальник пожарной охраны, из бывших заключенных, утром как-то увидал Петрова и говорит:
– Иди сюда!
– Что, гражданин начальник?
– Пойдем на каток, Петров, генеральша хочет кататься. К двенадцати часам дня расчистишь снег?
Тот спрашивает:
– Один?
– Ну, у меня сейчас нет никого тебе в помощь. А что, не можешь, что ли?
– Могу. Но при одном условии, гражданин начальник.
– При каком?
– Если вы от аэросаней авиационный мотор с пропеллером мне к заду прикрепите…
Потом ему было не до шуток. Он освободился досрочно, приехал в Ленинград, но со статьей о спекуляции в городе не прописывают. За то время, пока сидел, у него умерла жена, в квартире осталась одна дочка. Места много, а отцу жить не разрешают… Года два-три он так втихомолку у дочки мыкался. Потом, когда я, уже реабилитированный и восстановленный на работе в «Спартаке», в 1954 году попал в Ленинград со своей командой, он нашел меня на стадионе.
– Николай Петрович, что делать? Нет уже сил дальше такую жизнь вести…
– Что делать, спрашиваешь? Пойдем в правительственную ложу просить ленинградское начальство прописать тебя в виде исключения, ведь ты же несколько лет за сборную их города играл…
И пошли, и упросили. И судимость с него за давностью сняли… Да прожил-то он спокойно всего около года: внезапно умер от инфаркта. Отразилась, вероятно, вся эта многолетняя нервотрепка на его сердце.
Но тогда, в 1947 году, Павел Петров так же, как и я, жил надеждами на скорое и счастливое изменение своей участи.
…Другой наш меценат-«фанат», Василий Иванович Прядко, держался со мной дружески и беспрерывно повторял, как толстовский Каратаев, что «все обязательно образуется»…
Он, как начальник железной дороги, еще не принятой тогда Министерством путей сообщения СССР, выделил команде для разъездов на игры в другие города специально переоборудованный спальный вагон. В нем было три двухспальных купе, большой салон, кухня с холодильником и два туалета. Вдоль салона с одной стороны шли в два яруса продольные спальные места для игроков, а с другой – откидные столы для завтраков, обедов, ужинов и чаепитий…
Как правило, вагон этот, поставленный на запасной путь, служил команде во всех городах и гостиницей…
При вагоне находился проводник – одессит Николай Иванович Шевченко, отбывавший срок за аварию с тяжелыми последствиями, которую он учинил в своем городе в качестве трамвайного вагоновожатого.
В лагере он научился «азам поварского искусства» и вовсю кухарил для нашей команды вместе с Петровым.
Николай Иванович, бессемейный, веселый человек, после ужина каждодневно напрашивался спеть ребятам какую-нибудь оперную арию… Он имел приличный баритон и, по его словам, дневал и ночевал в знаменитом Одесском оперном театре…
Закончив вечернюю трапезу, игроки укладывались на свои постели, а наш проводник, надев белую рубашку и галстук, имитируя конферансье, вначале объявлял себя как заслуженного артиста одесской оперы, а затем с упоением исполнял «Тореадора», «Онегина» и другие «баритональные» шедевры…
Ребята яростно аплодировали, кричали «брависсимо», «бис», и «заведенный на всю катушку» певец был бесконечно доволен…
Так коротала вечера футбольная команда комсомольского «Динамо», выезжая на игры первенства Дальнего Востока в Хабаровск, Читу, Благовещенск и Владивосток. На вечерних стоянках нашего вагона на запасных железнодорожных путях я занимал ребят рассказами о громких футбольных схватках, прославленных советских игроках: Канунникове, Бутусове, Федотове, Дементьеве, Жмелькове…
День ото дня, от игры к игре, «с бора по сосенке» крепла и набиралась опыта сборная Комсомольска-на-Амуре, вскоре прозванная на Дальнем Востоке местными болельщиками «Красными дьяволятами».
…Первый раз я увидел Гоглидзе, когда он приехал в Комсомольск по каким-то делам и пришел посмотреть игру, в которой для него совершенно неожиданно «Динамо» Комсомольска обыграло хабаровское со счетом 2:1. Редко встречал таких красивых людей, как Гоглидзе. Он был похож на итальянского кинопремьера. Импозантный, в элегантном штатском костюме. С любопытством разглядывая меня, он высказал пожелание, чтобы местное начальство направляло меня на несколько дней на консультацию с тренером хабаровского «Динамо», так как, по его мнению, комсомольское «Динамо» пока еще не в состоянии противостоять сильным дальневосточным командам армии и флота, а хабаровское «Динамо» располагает возможностями защитить свой престиж в этом регионе. Вероятно, для этой цели, заключил он, следует усилить нашу краевую команду отдельными игроками, к примеру Шириняном, который отлично играл и забил нам оба гола. У него отличная скорость. В этом, как мы знаем, Гоглидзе не ошибался.
Мое правовое положение было настолько неясным, что я не знал, как мне держаться в переполненной местным начальством ложе стадиона, куда меня вызвали: политзаключенный рядом с уполномоченным СТО (Совет труда и обороны) по Дальнему Востоку, первой фигурой в регионе. По слухам я знал, что в Хабаровске он жил в особняке, который когда-то занимал маршал Блюхер.
Я стоял и ждал вопросов, надеясь на поддержку только футбольного мяча, который ведь и собрал всех нас в эту ложу. Я видел, что Гоглидзе расстроен проигрышем своей команды… К счастью, вопросов не было, но совет последовал:
– Не следует, чтобы Москва знала о льготах, которыми вы здесь пользуетесь. Предупредите об этом свою семью…
Я знал, что Гоглидзе очень близок к Берии, чуть ли не его личный друг, поэтому так удивила меня разница в их внешнем облике. Насторожил и его совет… Не трудно было догадаться, что в его фразе под словом «Москва» подразумевался Берия.
– Гоглидзе велел создать для вас все условия для работы и разрешил вызвать жену, – передал мне капитан нашей команды Анатолий Иванов, возивший именитого гостя по Комсомольску в машине начальника Амурлага.
Что только не придумают ради футбола! Как политический, я не имел права на свободу перемещения, а чтобы иметь такую возможность, был вписан в командировочное удостоверение работника оперчекотдела Амурлага, который все пять лет моего пребывания в Комсомольске сопровождал меня в поездках с командой по Дальнему Востоку.
Генерал Гоглидзе регулярно появлялся на играх хабаровского «Динамо» так же, как и маршал Малиновский на выступлениях военной команды хабаровского СКА.
Мое последнее свидание с генералом состоялось при особых обстоятельствах. В перерыве игры между командами «Динамо» (Хабаровск) и «Динамо» (Комсомольск) в тоннеле Василий Куров затеял драку с кем-то из наших соперников.
Гоглидзе сидел в ложе, ему моментально донесли об этом. Он приказал собрать обе комнаты и со всей свитой вошел в раздевалку. Все встали по стойке «смирно».
– Мне доложили, – начал он, – что между динамовцами только что произошел недопустимый, безобразный инцидент, передрались спортсмены – члены одного общества. Причем такого, как «Динамо». Кто в этом виноват?
– Больше всего я, – заявляю и выхожу вперед.
– Почему вы?
– Потому, что зачинщик драки был игрок команды, где я тренер. Именно я поставил Курова играть в основной состав.
Генерал не ожидал такого оборота разговора, но, видимо, он его устраивал: отпадала необходимость наказывать кого-то из игроков его любимой хабаровской команды, и он быстро нашел выход из положения.
– Это, конечно, похвально, что вы взяли на себя вину. Только потому я на этот раз не наказываю вашего Курова. Но вас, Старостин, обязываю навести в команде должный порядок.
Вскоре и он, и Малиновский получили назначение в Москву и отбыли каждый за своей судьбой.
Шефствовать над динамовским футболом Хабаровского края стал полковник Олег Михайлович Грибанов, заместитель Гоглидзе, назначенный исполнять его обязанности.
Грибанову досталось неплохое футбольное наследство. Команда комсомольского «Динамо» конца сороковых добилась на Дальнем Востоке успехов, о которых старожилы города рассказывают молодежи до сих пор.
Это была разношерстная, объединяющая игроков нескольких национальностей, но на редкость спаянная и потому особо боевитая футбольная «единица».
Я и сейчас помню энтузиазм и патриотизм двух грузин – Месхи и Хачидзе, армянина Шириняна, украинца Червончука и местных молодых ребят Руденко, Иванова, Парыгина, Болотина, Смирнова… Тогда я утвердился в мысли, что в футболе побеждает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет.
Установки команде я старался делать разные, зная, что частные «повторы» воспринимаются тускло… На каждую игру придумывал краткий, но броский девиз, нередко из исторических фраз. Например: «Карфаген должен быть разрушен», «Вперед – и горе Годунову!», «Сарынь на кичку», «Умри, но головой к воротам противника…», «Смелого пуля не тронет, смелого штык не берет…».
Игрокам все это было в новинку и очень нравилось. За день-два до игры они уже любопытствовали: какой будет девиз на очередную игру? Я секретничал и смеясь уверял, что к новому противнику еще должного девиза не подобрал, но вы, мол, готовьтесь, а девиз родится сам по себе…
Как-то после разгромного выигрыша у очередного противника на стадионе «Динамо» в Комсомольске тренер проигравших воскликнул:
– Николай Петрович! Чем вы их так «накачали»? Ведь это же бойцы из «Железного потока» Серафимовича!
Раздумывая над теперешней практикой допинга в спорте, я продолжаю считать, что личный пример тренера и его доброе, верное слово с успехом могут заменить любые анаболики…
Вот так в течение двух-трех лет сложилась в Комсомольске-на-Амуре футбольная команда, воспоминания о которой, как я уже говорил, бытуют на берегах Амура до настоящего времени.
Естественно, что тогда, за эти два года, я близко познакомился с футбольным миром Дальнего Востока. Я не говорю о столице края – Хабаровске, где конкуренция между «Динамо» и СКА сводилась к удовлетворению личных амбиций Гоглидзе и Малиновского, которые, как заправские меценаты, делали все для усиления своих команд. На уровне второй Всесоюзной лиги уже играли футбольные ансамбли в Благовещенске и Чите, а команда Тихоокеанского флота (ТОФ) в то время по своим возможностям могла составить конкуренцию и коллективам первой лиги. Она имела в составе целый ряд мастеров, которым нашлось бы место и в сильнейших клубах страны. Вообще, футбол Дальнего Востока во многом напоминал столичный, поскольку в его рядах действовало большинство призванных на военную службу москвичей – воспитанников высшей лиги.
Я проводил время, увлеченный тренерской работой и борьбой за первенство Дальнего Востока, за футбольными заботами и текущими делами команды… Где бы мне ни приходилось бывать, везде встречал московских ребят, с которыми мы раньше сталкивались. Они знали меня лично. От этих встреч становилось менее грустно.
Но, конечно, в основном мое положение облегчало то, что жене и дочерям разрешалось приезжать на Дальний Восток. Летом в школьные каникулы они жили вместе со мной в Комсомольске-на-Амуре…
Каждую весну команда «Динамо» ездила на сбор на станцию Океанская, примерно в 20 километрах от Владивостока, где находился прекрасный санаторий МВД. Туда же приезжали и другие клубы: из Хабаровска, Читы, Благовещенска. Местные тренеры с интересом воспринимали практикуемые мною занятия по методике и опыту «Спартака». Когда я в 1950 году покидал Дальний Восток, у меня было убеждение, что футбол там достиг достаточно высокого уровня. Не случайно целый ряд игроков-дальневосточников потом появился в столичных командах.
Очень высок был в регионе и уровень хоккея с мячом. Причем природные условия для развития этого вида спорта там практически идеальные.
Зимы затяжные и холодные. Но холод своеобразный: играя в Москве, я часто отмораживал пальцы на ногах при температуре минус 20 градусов, в Комсомольске же и при 30-градусном морозе ни разу за пять лет этого не случилось…
Чем объясняются подобные особенности дальневосточного климата, я сказать не могу. Но ни разу на Дальнем Востоке игры не отменялись из-за холодов.
Да, морозы никого не пугали, но вот внезапно налетавшая пурга с пронзительным ветром – испытание не из приятных… Иногда путь от управления Амурлага до дома – примерно километр по шоссе – пройти было не просто. Ветер бил в лицо, снег слепил глаза. Приходилось преодолевать его порывы, двигаясь боком, плечом вперед, останавливаясь через каждые 50 метров для отдыха… Ну а затем, наладив дыхание, двигаться дальше…
До сих пор в памяти случай, который однажды произошел во время пурги. В Комсомольске было много красной копченой рыбы. Я нес к ужину такую рыбину, килограмма на два-три, держа ее за шнурок, продетый через жабры. Но неожиданно выронил свою ношу на снег и нагнулся, чтобы поднять… Не тут-то было: ветер мгновенно отбросил ее в сторону… Минут двадцать ногами и руками разбрасывал снег, но рыбину полуметровой длины так и не нашел…
Во Владивостоке, конечно, климат другой, но ведь и отделяют его от Комсомольска более тысячи километров, примерно столько же, сколько Москву от Сочи…
Удивительный край – Дальний Восток. Там в ходу утверждение: «Здесь сто рублей не деньги, тысяча километров не расстояние, цветы без запаха, а женщины без сердца». Со временем я освоился и убедился, что в первых трех фразах присутствует истина, проверять же качество дальневосточных женских сердец я не пытался. По натуре я однолюб и свою жену, с которой прожил счастливо полвека, всегда по-настоящему любил, да и сейчас считаю счастливым то утро, когда увидел ее во сне, хотя со дня ее кончины прошло 17 лет…
Уже четыре десятилетия, как я покинул Комсомольск-на-Амуре, но воспоминания о нем, о его лесах и полноводном Амуре нет-нет да и выдает «компьютер» моей памяти. В ней прочно хранятся и образы тех по-настоящему хороших людей, которых довелось встретить на Дальнем Востоке.
Быль с немыслимым сюжетом
Более грязного и мрачного места, чем привокзальная площадь Комсомольска-на-Амуре, я никогда не видел ни в одном городе. Но запомнил ее на всю жизнь по другой причине: прямо к ней примыкала территория гаража Амурлага, где я имел счастье жить почти два года. Счастье в прямом смысле слова, ведь гараж – не зона.
К тому времени меня мало чем уже можно было удивить. Но признаюсь честно: когда глухой ночью 1948 года к моей каморке подкатила машина первого секретаря горкома партии Комсомольска и приехавший на ней запыхавшийся капитан с порога выпалил: «Одевайтесь. Вас срочно требует к телефону Сталин!» – я подумал, что у меня начались галлюцинации.
Через полчаса я был в кабинете первого секретаря у телефона правительственной связи. Рядом со мной навытяжку стояли не понимающие, что происходит, генерал-лейтенант Петренко и хозяин кабинета. Я поднес к уху трубку аппарата и услышал голос сына Сталина – Василия.
У всей этой фантасмагории, как ни странно, имелось объяснение. До войны, в конце 30-х годов, в конноспортивной школе «Спартака» верховой ездой занимались моя дочь Евгения, сыновья Микояна и дочь нашего футболиста Станислава Леута – Римма, будущая неоднократная чемпионка Союза. С ними вместе тренировался худощавый, неприметный паренек по фамилии Волков. И только я, как руководитель «Спартака», знал, что его настоящее имя Василий Сталин.
Тренировался Василий азартно, с удовольствием. Ему очень нравился его тренер Иван Коврига – сильный по характеру, классный наездник. Когда жена Ивана – тоже наездница – разбилась насмерть в скачке, он, после ее похорон, пошел на Белорусский вокзал и лег под поезд.
После этой истории Василий перестал ходить на тренировки. С тех пор судьба развела нас. К моменту следующей встречи он успел стать генерал-лейтенантом, а я – политзаключенным.
Его неожиданно проявившийся – через столько лет – интерес ко мне вызывался отнюдь не детскими воспоминаниями. Будучи командующим военно-воздушными силами Московского военного округа, он, используя особое влияние и положение, мог удовлетворить любую свою прихоть. В частности, желание иметь «собственную» футбольную команду ВВС, куда – когда уговорами, когда в приказном порядке – пытался привлечь лучших игроков из других клубов. По вечерам он любил собирать дома футболистов и обсуждать с ними текущие спортивные дела. Среди них были и бывшие футболисты «Спартака».
И вот однажды, при очередном таком обсуждении, один из них – Сашка Оботов брякнул:
– Василий Иосифович, да что мы все думаем, как нам быть. Надо назначить тренером Николая Петровича.
Все его дружно поддержали. Командующий на секунду сдвинул брови, видимо что-то про себя взвешивая, потом вызвал своего адъютанта, тоже хорошо известного мне футболиста, Сергея Капелькина, и произнес фразу, положившую начало моей двухмесячной эпопее: «Соедините меня со Старостиным».
Все это я узнал позже в Москве. А тогда ночью в Комсомольске-на-Амуре, сделав шаг к черному телефону правительственной связи, я шагнул навстречу судьбе.
– Старостин слушает.
– Николай Петрович, здравствуйте! Это тот Василий Сталин, который был Волковым. Как видите, кавалериста из меня не получилось. Пришлось переквалифицироваться в летчики. Николай Петрович, ну что они вас там до сих пор держат? Посадили-то попусту, это же ясно. Но вы не отчаивайтесь, мы здесь ведем за вас борьбу.
– Да я не отчаиваюсь, – ответил я бодрым голосом и почувствовал, как меня прошиб холодный пот. За один такой разговор я вполне мог получить еще 10 лет.
– Ну вот и хорошо. Помните, что вы нам нужны. Я еще позвоню. До свидания.
…От телефонисток по Амурлагу мгновенно разлетелась весть: Старостин разговаривал со Сталиным. Фамилия завораживала. В бесконечных пересудах и слухах терялась немаловажная деталь: звонил не отец, а сын. Местное начальство, конечно, знало истину, но для них и звонок отпрыска значил очень много.
Разговор с Василием вернул меня к футбольным интересам Большой земли. Я стал регулярно слушать радиорепортажи Вадима Синявского – из-за разницы во времени это приходилось делать в 4 часа ночи, – зажил двойной спортивной жизнью. Днем – местной, региональной, дальневосточной. Ночью – московской, далекой, оторванной…
К тому моменту – шел, как я говорил, 1948 год – до моего освобождения оставалось четыре года. Но судьба благоволила ко мне.
Директором одного из заводов Комсомольска был инженер Рябов из Москвы, с Красной Пресни, на удачу оказавшийся болельщиком «Спартака». Он сумел использовать то, что отцы города и Амурлага, сбитые с толку особой расположенностью ко мне сына вождя, позволили немыслимую вещь: не только зачислить политического заключенного на завод, но и допустить его к работе на станке. Как вскоре объяснил мне Рябов, теперь при условии выполнения плана мне за день полагалось два дня скидки со срока заключения. В 7 часов утра я устанавливал на зуборезный станок семь болванок, процесс обработки которых длился всю смену. Рядом со мной на другом станке работал осужденный вор-карманник Дмитрий Михалев из Иркутска, необычайно одаренный в ремесленном деле. Он-то мне и помогал. От завода до футбольного поля, где тренировалось «Динамо», было 20–30 минут ходьбы. Имея пропуск-«вездеход», я исчезал, а Михалев присматривал за моими болванками. Ему не составляло труда несколько раз за смену подойти и микроном выверить точность действия резца, больше ничего не требовалось. После тренировки я прибегал на завод.
– Ну как? – спрашивал у Дмитрия.
– Все в порядке, передовик. «Товар» готов, можно снимать, – отвечал он. – Зови мастера.
У Михалева пропуска в город, естественно, не было, его никуда не выпускали. Он помогал мне – я помогал ему, принося из города то, что нельзя было купить в лагерном магазине.
Так прошли два года, которые с помощью Дмитрия Михалева были зачтены мне за четыре. Мой срок истек. Местный народный суд на основании представленных документов утвердил досрочное освобождение. Мне выдали паспорт, где черным по белому были перечислены города, в которых я не имел права на прописку. Первой в этом списке значилась Москва.
Рассказываю об освобождении так буднично, потому что именно так его и встретил: ни эмоций, ни желаний никаких я в этот момент не испытывал. Помню только опустошенность и растерянность: куда ехать, где жить, кем работать?
Предложение Гоглидзе остаться в Хабаровске тренером «Динамо» выглядело, конечно, заманчиво. Но решиться насовсем перевезти туда жену и детей я не мог.
И тут вновь позвонил Василий:
– Николай Петрович, завтра высылаю за вами самолет. Никаких хабаровсков. Мы ждем вас в Москве.
– Как в Москве… Я же дал подписку…
– Это не ваша забота, а моя. До встречи… – И в трубке раздались частые гудки.
Все казалось настолько неправдоподобным, что могло иметь только одно объяснение: обычно он звонил сильно подвыпив. Но на этот раз голос Василия Сталина был абсолютно трезвым…
На следующее утро на военном аэродроме Комсомольска приземлился личный самолет командующего ВВС Московского военного округа. На нем прибыл Сергей Капелькин. То, что это был «свой человек», окончательно заставило меня поверить в реальность происходившего. И теперь мною овладело одно всепоглощающее желание – оказаться в Москве, и я поднялся по трапу в самолет, даже не попытавшись проанализировать ситуацию, представить, чем может грозить незаконное возвращение в столицу.
Прямо с подмосковного аэродрома меня привезли в особняк на Гоголевском бульваре – резиденцию Сталина-младшего.
На первом этаже в огромном зале стояло несколько бильярдных столов. В центре – большой обеденный стол, на нем красовались графин с водкой и блюда с нарезанными ломтями сахарного арбуза. Во главе сидел молодой человек в генеральском мундире. Вокруг суетились какие-то офицеры и футболисты, некоторых из которых я знал по прежней мирной жизни.
Похоже, меня ждали. Когда я вошел, Василий поднялся. И как только он встал, вся суета и разговоры мгновенно прекратились. Все смотрели на нас…
– С возвращением, Николай Петрович!
– Спасибо.
– Выпьем за встречу.
– Василий Иосифович, я не пью.
– То есть как не пьете? Я же предлагаю «за встречу». За это вы со мной должны выпить.
Стоявший сзади Капелькин потихоньку толкнул меня в бок, а Сашка Оботов из-за стола начал подавать знаки: мол, соглашайся, не дури. Я замялся, но деваться некуда – выпил. И, усталый после перелета, голодный да еще и непривычный к алкоголю, сразу захмелел.
А Василий, смачно хрустнув арбузом, тут же перешел к делу:
– Где ваш паспорт?
– При мне, конечно.
– Степанян, – позвал «хозяин» одного из адъютантов, – срочно поезжай и оформи прописку в Москве.
Офицер моментально исчез.
– Ну что, Николай Петрович, как будем готовить команду? – спросил Василий и, не дожидаясь ответа, крикнул: – Гайоз!
К нам подошел Гайоз Джеджелава, в прошлом знаменитый форвард тбилисцев, умный, техничный футболист. Но годы взяли свое. Даже форма подполковника не могла теперь скрыть заметно располневшую фигуру. Из репортажей Синявского я уже знал, что он стал старшим тренером команды ВВС. Мы пожали друг другу руки.
– Гайоз, ты сколько раз выигрывал первенство Союза?
– Василий Иосифович, я пока не успел, но мы надеемся…
– Ты «пока не успел», а Николай Петрович уже выигрывал несколько раз, поэтому он будет руководить командой, а ты будешь ему помогать.
Я почувствовал себя неловко и счел необходимым вмешаться:
– Василий Иосифович, меня не было в большом футболе почти десять лет. За это время многое изменилось. Пусть Гайоз ведет все, как вел. Уверен, он многому может научить. Мне на первых порах надо осмотреться. К тому же у вас команда все-таки военная, а я человек сугубо гражданский…
– Это видно, – под общий добродушный смех заметил Сталин, – но меня это не смущает. На поле-то все равно без погон выходят. Да и потом, в нашей семье решение принимается один раз.
В тот момент, так же незаметно, как и исчез, появился Степанян и вернул мне паспорт. Открываю – и не верю глазам: прописан в Москве постоянно по своему старому адресу – Спиридоньевский переулок, 15, квартира 13.
Чем ближе подходил я к Спиридоновке, тем отчетливее понимал, чего мне больше всего не хватало все эти годы – ощущения, что тебя ждут. И когда я, переступив порог квартиры, увидел плачущую жену и девочек, я понял, как мало, в сущности, нужно человеку для счастья.
После моего ареста семье оставили только восьмиметровую комнату. Две другие отдали управляющему делами Министерства пищевой промышленности. Но именно те первые часы, проведенные в крохотной восьмиметровой комнатке, до сих пор считаю самыми счастливыми в моей жизни.
На следующий день меня вызвали в штаб ВВС Московского округа, где «правил бал» Василий Сталин. Слово «командующий» не сходило здесь с языка. Бесчисленное количество офицеров непрерывно сновали по кабинету. «Командующий приказал», «командующий требует», «командующий ждет»… Вся штабная суета после Комсомольска-на-Амуре казалась мне игрой в оловянные солдатики.
Впрочем, меня это мало трогало. Главное – вскоре я должен был получить возможность вновь окунуться в любимую атмосферу футбольной жизни.
Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Через несколько дней ко мне явились два полковника из хорошо знакомого ведомства. Уже имея опыт, я сразу определил: судя по чину «гостей», здесь не обошлось без санкции высшего руководства.
– Гражданин Старостин, ваша прописка в Москве аннулирована. Вы прекрасно знаете, что она незаконна. Вам надлежит в 24 часа покинуть столицу. Сообщите, куда вы направитесь.
– Почему я должен решить это прямо сейчас?
– Потому что мы сегодня пошлем туда ваш паспорт.
Хитрая уловка! Без паспорта, да еще в моем положении, я оказывался легкоуязвимой мишенью.
Подумав, назвал Майкоп. В Комсомольске у меня в команде играл майкоповец Иван Угроватов. Он часто говорил мне: «Майкоп хороший город, если что, приезжайте туда. Там можно устроиться с вашей 58-й».
Итак, в моем распоряжении были сутки. Не теряя времени, я отправился в штаб ВВС МВО и доложил о случившемся командующему.
– Как они посмели без моего ведома давать указания моему работнику! Вы останетесь в Москве!
– Василий Иосифович, я дал подписку, что покину город в 24 часа. Это уже вторая моя подписка, первую я дал в Комсомольске о том, что не имею права находиться в столице. Меня просто арестуют…
Василий задумался.
– Будете жить вместе со мной у меня дома. Там вас никто не тронет.
Это был выход. Не знаю, насколько велико было истинное влияние Берии на Сталина, но думаю, что неприкасаемость «высочайшей» фамилии служила надежной охранной грамотой. Понимал я и другое: Василий Сталин решил бороться за меня не потому, что считал, будто невинно отсидевший действительно имеет право вернуться домой. Я был ему нужен как тренер. Но сейчас и это отошло для него на задний план. Суть заключалась в том, что он ни в чем не хотел уступать своему заклятому врагу – Берии, которого люто ненавидел, постоянно ругал его последними словами, совершенно не заботясь о том, кто был в тот момент рядом. Я несколько раз пытался остеречь его, говоря: «Василий Иосифович, ведь все, что вы произносите, докладывают немедленно Берии». – «Вот и хорошо, пусть послушает о себе правду и знает, что я о нем думаю», – отвечал он.
Так я оказался между молотом и наковальней, в центре схватки между сыном вождя и его первым подручным. Добром это кончиться не могло.
Переехав в правительственный особняк на Гоголевском бульваре, я не сразу осознал свое трагикомическое положение – персоны, приближенной к отпрыску тирана. Оно заключалось в том, что мы были обречены на «неразлучность». Вместе ездили в штаб, на тренировки, на дачу. Даже спали на одной широченной кровати. Причем засыпал Василий Иосифович, непременно положив под подушку пистолет. Только когда он уезжал в Кремль, я оставался в окружении адъютантов. Им было приказано: «Старостина никуда одного не отпускать!» Несколько раз мне все-таки удавалось усыпить бдительность охраны и незамеченным выйти из дома. Но я сразу обращал внимание на двух субъектов, сидящих в сквере напротив, вид которых не оставлял сомнений в том, что и Берия по-прежнему интересуется моей особой. Приходилось возвращаться в «крепость».
Не могу сказать, что подобное существование было мне по душе. Но я получил, благодаря стечению обстоятельств, редкую возможность наблюдать жизнь сына вождя.
Сейчас не модно хорошо отзываться о тех, кто тогда олицетворял собой власть. Но некоторые детали поведения Сталина-младшего не могли не вызвать у меня симпатию. Если вначале он представлял для меня загадку, казался обычным, примитивным «сынком», то позже я стал оценивать его не столь однозначно.
В его особняке было очень много фотографий матери. Судя по ним, она была красивой женщиной. Василий гордился ею. Сам он был похож на отца: рыжеватый, с бледным лицом, на котором слегка просматривались веснушки. Мать же его была брюнеткой.
Василий никогда, даже будучи в заметном подпитии, не заикался о гибели матери. Но однажды по его реплике около фотопортрета «Эх, отец, отец…» я понял, что ему все известно о ее самоубийстве. Да и вряд ли что-то можно было от него скрыть, ведь к моменту трагедии ему исполнилось 10 лет. Он с удовольствием вспоминал то время, когда его и Светлану воспитывала их тетка, старшая сестра матери. Она была замужем за Станиславом Францевичем Реденсом, который в 30-х годах занимал пост заместителя председателя НКВД, был большой любитель спорта, и особенно футбола, часто приходил на матчи сборной Москвы. После окончания очередной игры Станислав Францевич любил заглянуть в раздевалку, мы с ним подолгу обсуждали футбольные проблемы. Меня всегда поражали его умение слушать собеседника и тактичность, с которой он ненавязчиво высказывал свое мнение. Разве можно было представить, какая страшная судьба вскоре ждет этого обаятельного, по-настоящему интеллигентного человека? Сейчас известно, что по приказу Сталина он был расстрелян во второй половине 30-х годов, а его жена отправлена в лагерь как «член семьи изменника Родины».
Я тогда ничего этого не знал, Василий тоже ничего не говорил, только ругал Берию, ставя ему в вину участь своих родственников.
Об отце, в течение моего пребывания у него, он не сказал ни слова. Ни восторженного, ни критического. Это само по себе уже было удивительно. Ведь тогда вся страна вставала и ложилась спать с молитвами во славу «великого Сталина».
Признаться, и я был не самый подходящий собеседник для разговоров на темы, отвлеченные от спорта и футбола, – только что освободившийся политзаключенный. Да и время и место общения не располагали к откровенности.
Беседы наши, как правило, происходили по утрам: с 7 до 8 часов с ним можно было обсуждать что-то на трезвую голову. Потом он приказывал обслуге: «Принесите!» Все уже знали, о чем речь. Ему подносили 150 граммов водки и три куска арбуза. Это было его любимое лакомство. За два месяца, что я с ним провел, я ни разу не видел, чтобы он плотно ел. С похмелья он лишь залпом опорожнял стакан и закусывал арбузом. Затем из спальни переходили в столовую. Там и оставалось полчаса для обмена разного рода соображениями. Чаще всего спортивными, но которые – хочешь не хочешь – всегда задевали текущие общественно-политические события. Мой «покровитель», как я вскоре убедился, очень слабо представлял себе проблемы и заботы обычных людей. Характер у него был вспыльчивый и гордый. Возражений он не терпел, решения принимал быстро, не тратя времени на необходимые часто размышления. И в этом отличался от отца, который, судя по кинофильмам, расхаживал по кабинету, покуривал трубку и медленно, обдумывая каждое слово, изрекал «гениальные» мысли.
Я хорошо запомнил наш первый совместный приезд на дачу в Барвиху. Громадная столовая – метров сто, большой дубовый стол. У стола – овчарка неправдоподобных размеров. Потом Василий рассказал, что это собака Геринга, присланная в подарок Иосифу Виссарионовичу, но отец «передарил» ее сыну. Когда я вошел, она грозно зарычала, ее свирепый вид не оставлял сомнений, что она запросто может разорвать цепочку, которой была привязана к ножке стола, и вцепиться клыками в любого, кто приблизится к ее новому хозяину. Услышав команду: «Бен, это свой», она презрительно отвернулась от меня и уселась на стул рядом с Василием, никого по-прежнему к нему не подпуская. Василию это очень нравилось…
Наш разговор за обедом начинался с одного и того же вопроса:
– Николай Петрович, вы знаете, кто самый молодой генерал в мире?
Я понимал, куда он клонит.
– Наверное, вы.
– Правильно. Я получил звание генерала в 18 лет. А вы знаете, кто получил генерала в 19 лет? – И сам же отвечал: – Испанец Франко.
Несмотря на бесконечные повторы, такая викторина, видимо, доставляла ему удовольствие. Сказывалось тщеславие и обостренное самолюбие. Думаю, благодаря этим качествам он мог бы стать неплохим спортсменом. Спорт он действительно любил и посвящал ему все свободное время. Хорошо водил мотоцикл, прекрасно скакал верхом.
Из рассказов адъютантов и других из его окружения я знал, что он очень смело и дерзко летал на истребителе. В этом отношении он был далеко не неженка, хотя выглядел довольно тщедушным. Если и весил килограммов шестьдесят, то дай-то бог…
Помню, как повариха на даче буквально преследовала меня требованиями повлиять на «Васеньку», чтобы он получше поел. Я же больше старался использовать свое красноречие «в пользу» просьбы Светланы Аллилуевой, которая просила меня помочь ей – и сама всеми силами пыталась – отлучить брата от выпивок.
Но алкоголь, видимо, уже проник в его кровь и заставлял пить каждый день, даже в одиночестве. Он нуждался не в агитации, а в лечении.
В основном вокруг него крутились люди, которые устраивали свои личные дела: «пробивали» себе квартиру, звания, служебное повышение. Я не припомню, чтобы он при мне занимался служебными делами. Молва о нем была такая, что если попадешь к нему на прием, то он обязательно поможет.
Разномастные чиновники не давали ему прохода. Он наивно выполнял бесчисленное количество просьб оборотистых людей, которые его использовали. Все вопросы решались обычно с помощью одного и того же приема: адъютант поставленным голосом сообщал в телефонную трубку: «Сейчас с вами будет говорить генерал Сталин!» Пока на другом конце провода приходили в себя от произнесенной фамилии, вопрос был практически исчерпан.
К тому времени я уже разобрался, что Василию нравилась роль вершителя чужих судеб, он пытался в этом подражать отцу.
Вращаясь в пределах высшего партийного круга, с высот которого кажется, что в жизни все просто, не приученный даже к минимальным умственным усилиям, он не был расположен к серьезной государственной деятельности; заниматься какой-либо научной работой тоже был не в состоянии. Он не давал себе труда поработать дома даже с теми служебными документами, которые не успевал просмотреть в штабе, и возвращался к ним лишь после того, как выходил из очередного запоя.
Мое постоянное присутствие в особняке непрерывно напоминало Василию о необходимости решать мой вопрос. Тем более что сама ситуация – проживание бывшего политзаключенного без всяких документов (паспорт был переслан в Майкоп) у члена семьи руководителя партии и государства – становилась двусмысленной и давала Берии прекрасный шанс для компрометации сына в глазах отца. Реального выхода для себя я не видел, нервы были напряжены до предела. Может быть, поэтому допустил ошибку: решил, несмотря на риск, снова повидать семью. Дождавшись, когда Василий, уже основательно набравшись, уснул, я незаметно через окно выбрался в сад, перелез через ограду и оказался на Гоголевском бульваре. Оглянулся – никого. Свернул к Никитским воротам и пошел на Спиридоновку. Воодушевленный тем, что так удачно обманул бериевских агентов, забыв об элементарной осторожности, остался ночевать дома. Помню, подумал: надоело прятаться, тоже мне событие – Старостин спит в своей постели.
Ровно в 6 часов утра раздался звонок в дверь, и два знакомых мне полковника вошли уже без всяких церемоний.
– Одевайтесь. Мы за вами. Почему вы не уехали, хотя давали подписку?..
– Не уехал потому, что мне не разрешил командующий.
– У нас есть указание отправить вас в Майкоп немедленно.
Я в очередной раз собрал чемоданчик, положил туда плащ, рубашки. И в сопровождении «почетного конвоя» прибыл на Курский вокзал. Буквально через несколько минут мне принесли билет и сказали:
– Следуйте до Краснодара. Там явитесь в городское управление НКВД и получите направление в Майкоп и свой паспорт.
Потом один из полковников вышел в соседнюю комнату, и я услышал, как он докладывал кому-то по телефону:
– Товарищ генерал, Старостин на вокзал доставлен. Отправляем его в Краснодар ближайшим поездом. Нет, не сопротивляется, ведет себя спокойно…
Шел по перрону, а на душе от досады на себя кошки скребли. И тут из пришедшей дачной электрички буквально выскакивает навстречу Николай Баранов, бывший спартаковский легкоатлет. Тот самый Баранов, который первым в Советском Союзе пробежал 800 метров быстрее 2 минут и, кстати, был моим дублером и в футболе, и в хоккее в составе «Красной Пресни». Увидев меня в сопровождении охраны, изумленно спросил:
– Вы куда, Николай Петрович? Я говорю:
– Николай, зайди, пожалуйста, к моей жене и скажи, что я вот этим поездом поехал в Краснодар.
Сижу в купе. Напротив еще трое. Вычисляю: который из них приставлен за мной следить? Во время стоянки в Орле вдруг вижу в проходе вагона знакомую фигуру начальника контрразведки Василия Сталина, которого встречал в особняке на Гоголевском бульваре. С ним стоит мой верный Санчо Панса – Василий Куров и подает чуть заметные знаки: мол, идите сюда. Когда я вышел в тамбур, начальник контрразведки сказал:
– Николай Петрович, мы догнали вас на самолете. Василий Иосифович приказал любыми средствами вернуть вас в Москву.
– Мне нельзя в Москву.
– Николай Петрович, он вас ждет. Вы даже не представляете, как он рвет и мечет!
Поезд вот-вот тронется, надо что-то решать. Я пытаюсь найти для себя последнюю зацепку:
– Там мои вещи. И потом, за мной, скорее всего, следят.
– Черт с ними, и с вещами, и вашим шпиком. Надо лететь.
Была не была! Соскакиваю с поезда. Бежим на привокзальную площадь. Там уже ждет джип. Мы в него – и на военный аэродром. У самолета в нетерпении мечется Константин Ширинян, мой теперешний зять. Наконец взлетаем. Погода мрачная, самолет идет низко, постоянно проваливается в воздушные ямы. Поднимается тошнота. Короче, когда я переступаю порог кабинета Василия Сталина, то имею в прямом и переносном смысле очень бледный вид. Но он не обращает на это никакого внимания. Истерично кричит:
– Кто?! Кто вас брал?
– Они не назывались, но в разговоре один из полковников упомянул фамилию Огурцов.
– Ах, Огурцов! Ну, хорошо…
Хватается за телефон и набирает какой-то номер. Из трубки слышен голос:
– Генерал-лейтенант Огурцов у аппарата…
– Вы не генерал-лейтенант Огурцов, вы генерал-лейтенант Трепло. Это я вам говорю, генерал-лейтенант Сталин!
Тот явно с испугом:
– Товарищ генерал! Это ошибка.
– Я с вами разговаривал два часа назад. Спрашивал, где Старостин. Вы сказали, что не знаете, где он.
– Действительно, не знаю.
– Как вы не знаете, когда вам докладывали с вокзала, что его отправляют в Краснодар.
– Вас кто-то ввел в заблуждение.
И тут Василий, уже успокоившись, отчеканивает:
– Меня ввел в заблуждение Старостин, который сидит напротив. Но вы должны знать, что в нашей семье обид не прощают.
И бросает трубку.
У меня одно желание – побыстрее умыться и отоспаться. Но командующий не унимается:
– Николай Петрович, сегодня «Динамо» играет с ВВС. Идите пообедайте, и поедем на футбол. Сейчас мы их всех там накроем.
Я не выдерживаю:
– Василий Иосифович! Дело зашло слишком далеко. Я не думаю, что мне следует появляться на людях. Это будет с моей стороны наглостью. Я дал уже две подписки и вдруг приду на футбол, да еще вместе с вами. Вы представляете, чем это грозит?
– Да, представляю. Но на ту пощечину, какую они мне нанесли, арестовав вас, я должен ответить пощечиной.
Когда я за вас боролся, знал, что в вашей семье трусов нет. Рассчитываю, что и сейчас вы это мнение подтвердите.
Игра пошла ва-банк. Подъезжаем к «Динамо» – ворота стадиона настежь, все сразу навытяжку: «Здравия желаем, товарищ генерал!» Входим в центральную ложу, которая забита до отказа. При появлении Василия все поднялись с мест.
– Познакомьтесь, – говорит он мне, – это генерал Огурцов. А это, – обращается к генералу, – Николай Старостин, которого вы сегодня утром выслали из Москвы.
Побагровевший Огурцов демонстративно покидает ложу.
– Видите, – обращается ко всем Василий, – какой он нервный? Значит, чувствует свою вину.
Остальные офицеры следуют примеру Огурцова.
Наше присутствие в первом ряду центральной ложи вызывает повышенное любопытство болельщиков на трибунах. Я жадно оглядываю такой родной мне стадион «Динамо». Вспоминаю 1928 год, день его открытия, когда сборная Москвы выиграла Спартакиаду народов СССР. Я, как капитан команды, получил приз за первое место – диплом с подписью Енукидзе.
Чувствую, что Василию не сидится. Он говорит:
– Пошли, они все в буфете. Входим в буфет.
– Ну вот, вы от нас, а мы к вам, – бросает Василий, заказывая бутылку коньяка.
Генералы встают и уходят в ложу. Обслуга в недоумении. Никто ничего не понимает.
– Ну, все, – подводит он итог. – Выпейте кофе, а я добавлю водочки, и пойдем к команде. Считаю, что мы им отомстили.
После всего происшедшего я более ясно осознал, в какую тяжелую историю он меня втянул, и даже не хотел предполагать, чем она может закончиться. Все осложнялось тем, что как раз в это время Василий был в опале: на рыбалке, когда он с друзьями глушил гранатами рыбу, осколками одной из них ранило его и убило военного летчика, говорили, что личного пилота Сталина. После этого отец очень рассердился на сына. Василий считал, что Берия преподнес этот инцидент специально в искаженном виде, чтобы поссорить его с отцом.
Думаю, на другой день после посещения стадиона, в «трезвый» утренний час, некоторые сомнения закрались и в голову Василия. Он сказал:
– Отец на меня обижен. Но Светлана с ним в хороших отношениях, надо ее подключить к борьбе за вас. Поедемте к ней. Она сможет поговорить с отцом.
Мне показалось, он опасается, что Берия, как и в случае с рыбалкой, поспешит использовать удобный момент и убедить Сталина, что его сын окружает себя бывшими политическими преступниками, от которых его надо изолировать.
Светлана нам обрадовалась. Странно, но меня сразу узнала, а ведь с момента последней встречи прошло лет пятнадцать. Она, естественно, тоже не помолодела, но выглядела хорошо. Суровая, по манере говорить очень напоминала отца: слова роняла тихо и скупо.
Мы просидели у нее около двух часов и уехали, заручившись обещанием помочь нам.
Обратной дорогой я пытался убедить Василия, что мне целесообразно находиться в Майкопе и там ждать результатов.
– Если все будет хорошо, вы всегда сможете прислать за мной самолет, и я буду в Москве на следующий же день.
– Нет и нет! Это похоже на капитуляцию. В нашей семье так не поступают.
Чувствовалось, что под словом «семья» подразумевался отец.
На следующее утро Василий сказал мне за завтраком:
– Берия улетел из Пицунды. Отец остался там. Я сегодня вылетаю к нему. У меня есть несколько неотложных вопросов, и одновременно я постараюсь поговорить о вас. Будете дожидаться моего возвращения в Переславле-Залесском, на нашей военной базе. Никто вас там не тронет. Берите с собой жену и дочерей. С вами поедет мой адъютант Полянский. Отдохнете, половите рыбу в Плещеевом озере…
Для меня его предложение было достаточно заманчиво, потому что рядом, буквально в 18 километрах – деревня Погост, где в то время жили мать и сестра с детьми.
Василий вызвал майора Полянского:
– Возьмите в сопровождение две машины охраны. Одна из них пойдет впереди, другая – сзади. В середине поедет Николай Петрович с семьей. Охрана нужна на случай, если по дороге люди Берии захотят арестовать Старостина.
– Что я должен делать, если они попытаются захватить Старостина силой?
– Отстреливаться… Пора было мне вмешаться.
– Василий Иосифович, как отстреливаться?.. Мы будем стрелять в чекистов, а они в нас? Я не поеду.
Тогда Полянский предлагает:
– Мы можем долететь туда на двух самолетах. Там есть маленький аэродром внутри базы. В воздухе Берия не сможет нас перехватить.
– Хорошо, действуйте. Но учтите, отвечаете за Старостина головой.
И вот младшая дочь (старшая из-за учебы осталась дома), жена, Куров, Полянский и я на двух самолетах приземляемся на военную базу. Нас встречает полковник. Подходит ко мне:
– Товарищ Старостин, у нас установлен пароль и отзыв. Каждый вечер я буду приходить к вам и согласовывать новый пароль. Никто посторонний без вашего указания на базу допущен не будет. Если вы захотите съездить к родным в деревню, вас будет сопровождать охрана. В вашем распоряжении два номера в гостинице.
– Товарищ полковник, – говорю я, – пусть лучше всем этим руководит Полянский. Я не военный человек и могу только мешать и путать.
Роскошная территория базы, прекрасное озеро, рыбалка… Это немного отвлекло от мрачных мыслей. Мы даже посетили женский монастырь, который располагался неподалеку и где в свое время сестра моей бабушки была игуменьей.
Помню небольшой курьез. Встав раньше обычного, забрел на кухню. Там сидел молодой солдат. Он сразу же подошел ко мне, представился:
– Я повар. Жду ваших указаний. Говорю:
– Что вы, еще рано завтракать. Вы полежите отдохните. Мы потом вместе все придем.
Через час прихожу и, клянусь, ничего не преувеличиваю, вижу – повар лежит на полу. Я к нему: «Что вы?» – «Вы же сказали: полежите… А здесь лежать можно только на полу».
Через несколько дней позвонил из Пицунды Василий, сообщил:
– С отцом хуже. Врачи к нему не пускают. Сегодня-завтра сюда опять должен прилететь Берия.
«Все, – решаю я, – больше невмоготу. Надоело. И рыбная ловля, и охрана. Да и жена волнуется: в Москве, как-никак, старшая дочь осталась».
Прошу соединить с Пицундой.
– Василий Иосифович, я принял решение: еду в Краснодар. По прибытии извещу, куда меня направят. Это самый реальный и простой выход. Я уже полгода мотаюсь между небом и землей. Не хочу чувствовать себя камнем на вашей шее.
Видимо, к тому моменту он понял, что борьбу за меня не выдержит. И поэтому согласился:
– Хорошо, но вы обязательно держите меня в курсе дела, шаг за шагом.
Через два-три дня после приезда в Краснодар меня вызвали в городской отдел НКВД:
– Москва не разрешила оставить вас в Краснодаре. Вам придется ехать в Майкоп.
– Хорошо, – говорю, – поеду в Майкоп.
Со мной, как всегда, Куров. Прибыв на место, находим Ивана Угреватова. Он, обрадовавшись, хватает паспорт и бежит в милицию. Приходит явно довольный:
– Николай Петрович! Будете работать с нашей футбольной командой при мебельном комбинате. Мы договорились, вас пропишут.
Через четыре дня все повторяется. Меня вызывают в милицию, возвращают паспорт и сообщают:
– Прописать вас в Майкопе не можем. Мы вам не имеем права ничего объяснять, но нам не рекомендовано. – Признаться, это все было малоприятно.
Вспоминаю, что на Дальнем Востоке, в Хабаровске, работал заместителем Гоглидзе Олег Михайлович Грибанов, болельщик футбола. Потом его перевели в Ульяновск. Наудачу прошу соединить меня по телефону с ним.
Через несколько секунд знакомый голос:
– Грибанов слушает.
– Здравствуйте, Олег Михайлович. С вами говорит Старостин Николай.
– Здравствуйте, Николай. Где вы?
– У меня сложности: в Москве не прописали, направили в Краснодар. Из Краснодара – в Майкоп. И везде в прописке отказывают.
– Приезжайте ко мне в Ульяновск. Я жду. Мы с Куровым садимся в поезд и едем к нему. Видимо учитывая ситуацию, Грибанов предлагает:
– Выход такой: жить будете в Ульяновске, я вам подыщу квартиру. Но пропишу вас за рекой, в деревне, чтобы не было никаких разговоров.
Итак, меня прописывают у какой-то старухи, а живу я в центре города и начинаю тренировать ульяновское «Динамо».
Куров же обосновывается основательно – вызывает с Дальнего Востока жену. И кстати, живет там до сего времени, вместе с сыном, который был в молодости известным игроком в хоккей.
Проходит год. Все идет своим чередом: тренирую команду, езжу с ней на матчи. И вот однажды на вокзале подходит ко мне высокий парень и говорит:
– Товарищ, можно вас на минутку… Вам придется поехать со мной.
– Почему?
– Команда поедет с Куровым, а у меня есть приказание сопровождать вас отдельно от команды.
– Хорошо, я к этому, собственно, привык. После игры приезжаем в Ульяновск. Выходим на привокзальную площадь. Стоит тюремная машина.
– Садитесь!
Сажусь. Доставляют в тюрьму. Часа в три ночи вызывают:
– Старостин, выходите.
Выхожу. Приводят в кабинет к Грибанову.
– Николай Петрович, извините, что так вышло. Пришло постановление коллегии. За злостное нарушение паспортного режима вы осуждены на пожизненную ссылку в Казахстан. Я пытался как-то это смягчить. Все, что можно было, сделал. Но… Распишитесь, что вы ознакомлены с решением коллегии.
Я понял, что наступила расплата за московскую эпопею, за мое появление в центральной ложе стадиона «Динамо».
Опять тюремный вагон. Направление следования – Акмолинск. Господи, когда же кончится эта маета?!
Поезд приходит в Акмолинск в 2 часа ночи. Станция от города в 6 километрах. Куда идти? В местное отделение Министерства государственной безопасности – куда же еще.
Под утро сижу у дежурного горотдела. Отдаю ему папку со своим новым «делом». Ни желания, ни сил что-то объяснять нет. Смотрю на него, он – на меня.
– Вы Старостин? Утвердительно киваю.
– Николай или Андрей?
– Николай.
– Вот здорово! Наконец-то и нам повезло. Я капитан футбольной команды. Николай Петрович, на другой стороне площади гостиница. Вас там примут, я позвоню. Отоспитесь, отдохните. А завтра часам к одиннадцати приходите сюда, в управление. Я доложу полковнику Михайлову, он решит вопрос, где вам жить на поселении.
Вы представляете себе, что значит прийти в шесть утра в гостиницу в Акмолинске? А теперь представьте, что явились туда по звонку из компетентных органов.
– Вы Старостин? Пожалуйста, проходите. Вот ключ от номера.
Назавтра ровно в 11.00 я у кабинета Михайлова. Мой капитан-хранитель уже там:
– Николай Петрович, ребята из команды упросили начальника оставить вас здесь. Проходите, полковник ждет.
Михайлов оказался сравнительно нестарым большеглазым брюнетом. Был строг и официален.
– Мне о вас много говорили. Будете тренировать наших футболистов, а числиться в Городском комитете физкультуры заведующим спортотделом. Зарплату будете получать там. В «Динамо» ссыльных зачислять запрещено.
– Хорошо.
– Идите. Капитан вас проводит к председателю горкомспорта Надишеву. Тот предупрежден.
Всем своим видом Надишев выказывал доброжелательность. Абсолютно непохожий внешне на начальника, маленький, лысый, с постоянной улыбкой на лице.
– Сработаемся?
– Попробуем.
Он появлялся на службе в лучшем случае минут на пятнадцать в день, для того чтобы посмотреться в зеркало, поправить воротничок или галстук. И отправлялся по знакомым. Спорт знал весьма относительно и потому предоставил мне неограниченную инициативу. Городок был, надо сказать, не маленький, с населением тысяч двести. В нем имелось два стадиона, прекрасный пивной завод, неплохой кинотеатр.
И вот однажды в этом самом кинотеатре, когда я смотрел фильм «Судьба солдата в Америке», вдруг прямо во время сеанса через радиорубку объявляют: «Старостин, на выход!»
У дверей ко мне подходит мужчина, представляется:
– Владимир Толчинский, заведующий спортотделом Казахстанского совета «Динамо». Николай Петрович, я за вами. Генерал-лейтенант Фитин, начальник МГБ Казахстана, приказал перевести вас в Алма-Ату. Будем поднимать там футбол и хоккей.
Генерал-лейтенант Фитин, может быть, и был поклонником и ценителем спорта, но думаю, своим приглашением я обязан прежде всего прославленной конькобежке Римме Жуковой, которая имела на Фитина определенное влияние и настояла на моем переводе в Алма-Ату.
В предместье города, в доме с чудесным яблоневым садом снимаю комнату и начинаю работать.
Прихожу на первую тренировку футболистов. Дождь. И вижу прелюбопытную картину: команда месит грязь, а в середине поля под зонтиком, в плаще и шляпе, в ботинках с галошами расхаживает тренер и дает указания. Я спрашиваю у Толчинского:
– Володя, кто это?
– Это Хофман. Бывший центрфорвард сборной Румынии.
Так я познакомился с Аркадием Вольфовичем Хофманом, гражданином Румынии, который после окончания войны добровольно изъявил желание остаться в СССР, был «душевно» встречен и быстро отправлен на Дальний Восток. Это было одно из самых приятных знакомств в моей жизни. По кругозору и уровню интеллигентности Хофман выделялся среди наших тренеров, второго такого вряд ли отыщешь. Игроков он называл исключительно на «вы».
– Игорь, вот вы здесь сделали ошибку… Сергей, зачем вы туда побежали…
Слушать это было забавно, а эффект имело поразительный. Его авторитет был непререкаем.
Высокого роста, весь в веснушках, довольно грузный, но технарь из технарей. При игровом весе в 85 килограммов мог на пятачке обыграть двух-трех молодых игроков.
Работали мы с ним, конечно, по-разному, но взгляды на футбол у нас практически совпадали.
По документам старшим тренером числился он, однако ни разу за все время совместной работы не подчеркнул свое официальное превосходство. Аркадий Вольфович считал, что умный человек должен уметь идти на компромисс, поэтому конфликтов у нас с ним не возникало. И не потому, что мы оба были умными, а потому, что мудрее, бесспорно, был он.
Во многом благодаря ему у меня появилось в Казахстане много друзей. Да и алма-атинский «Кайрат» с тех пор стал для меня командой почти родной…
Что говорить, в моих воспоминаниях Алма-Ата занимает особое место. Иногда закрываю глаза и вижу: лежу в яблоневом саду, рядом ручеек, арык. Можно спокойно спать под яблоней, и ни одного комара. Проснуться, поднять руку и сорвать самое вкусное в мире яблоко – алма-атинский апорт.
Согласитесь, после стольких лет скитаний – это ли не подарок судьбы!
Но главные события были впереди.
Впоследствии мне часто приходилось читать и слышать воспоминания людей о том, какое впечатление произвела на них весть о смерти Сталина. Я отношу себя к тем из них, кто не ассоциировал это событие с концом света. Одиннадцать лет, проведенные к тому времени на этапах, окончательно развеяли в моем представлении миф о справедливости и гениальности «вождя народов». Я чувствовал: в судьбе должны произойти перемены. Но окончательно поверил в их реальность только после ареста Берии.
На одном из собраний команды разбирали с футболистами предыдущую игру. Вдруг входит опоздавший Ермек Утибаев, наш нападающий. Он в то время работал в Совете министров Казахской ССР. Я никогда не забывал, что остаюсь политическим ссыльным, но считал необходимым поддерживать дисциплину в команде. Пришлось сделать замечание:
– Ермек, почему опаздываешь?
На поле он был скорым на удар, в жизни – скорым на слово.
– Я опоздал из-за этого предателя, врага народа – Берии.
– Ты что мелешь?! Выпил, что ли…
– Как что? Вы не знаете? Берию сегодня арестовали. Он оказался врагом народа и шпионом.
Я был настолько ошарашен, что не знал, что сказать. На всякий случай повторил:
– Ермек, ты трезвый? Тебе это все не приснилось?
– Да уже весь Совет министров знает, скоро будет сообщение.
Это известие перевернуло мою жизнь. Я воспринял его, как воспринимается восход солнца на Севере после долгой полярной ночи. Смешались и удивление, и радость, и надежда…
А еще через месяц я услышал далекий взволнованный голос жены:
– Николай, мне звонил товарищ, как я поняла, близкий к руководству ЦК. Передал, чтобы ты немедленно написал на имя Хрущева заявление с просьбой о пересмотре вашего дела.
Стоит ли говорить, что я в тот же день отправил его в Москву.
Далее события развивались стремительно. Приходит вызов. Я тут же вылетаю в Москву.
Не успел переступить порог дома, как жена протягивает листок из школьной тетради с номером телефона:
– Тебя срочно просили позвонить.
Как медленно крутится телефонный диск… Как бесконечно тянутся гудки… Наконец-то:
– Лебедев слушает…
– Здравствуйте. Это Николай Старостин говорит…
– Срочно приезжайте. Пропуск заказан.
– У меня нет паспорта, только одна командировка.
– Не волнуйтесь, вас встретят.
Старший помощник Никиты Сергеевича Хрущева, Владимир Семенович Лебедев, родился и вырос в подмосковной деревне Черкизово, что рядом с Тарасовкой. Пацаном бегал смотреть тренировки спартаковцев, знал всех футболистов в лицо и даже гонял мяч в команде мальчиков за наш клуб. Как только появилась возможность, он лично принял участие в моей судьбе.
Это стало началом конца «дела Старостиных».
Конечно, безумно жаль потерянные в расцвете сил «лагерные» годы. Но человеку свойственно себя успокаивать. Я себя успокаиваю тем, что они не прошли впустую, многому в жизни научили, дали возможность узнать свою собственную страну: от Ухты до Владивостока, от Инты до Алма-Аты. И везде футбольный кожаный мяч, как это, может быть, ни странно, оказывался неподвластным Берии. Он стал ему противником, которого Берия, сам в прошлом футболист, победить не сумел. Его главные подручные на местах относились ко мне благосклонно, даже с симпатией. И делали это только лишь по одной причине: круги шли по воде – футбольные амбиции их «вождя» в Москве переходили в местное тщеславие и желание иметь у себя лучшую команду края, области, города, лагеря…
Болельщик везде болельщик. Я прекрасно понимал: если у человека при встрече со мной глаза загорались любопытством, значит, передо мной любитель футбола, он поможет. А если это болельщик «Спартака» – в виде исключения сделает это, с нарушением любых инструкций.
Думаю, что наша семья должна быть благодарна обществу «Динамо». В те тяжелые годы оно явилось островом, на котором мы устояли, сохранили свои семьи и в конце концов вернулись назад в столицу.
…Я горжусь, что в семье Старостиных после всего пережитого никто не растерялся и не затерялся в жизни и еще четверть века и больше оставался в своем деле на виду.
Возвращение
Первая же встреча с Лебедевым внушила надежды. Он при мне набрал номер телефона военного прокурора Терехова, который занимался пересмотром дел:
– Дмитрий Павлович, у меня Старостин. Примите его и разберитесь. Он достаточно безвинно настрадался.
Терехов оказался молодым человеком, ему было лет тридцать – тридцать два. Попросил рассказать об аресте и следствии. Слушал молча, сжав скулы, глядя на меня красными от бессонницы глазами. Потом куда-то позвонил, назвал мою фамилию и номер нашего дела.
– Николай Петрович, завтра начнется следствие по пересмотру «дела Старостиных». Вас вызовут. – Устало улыбнувшись, спросил: – Вы еще не совсем забыли Москву, помните, где находится Лубянка?
– Думаю, что найду с закрытыми глазами.
– Ну зачем же с закрытыми? Нам всем надо учиться жить с открытыми глазами. Хотя иногда очень хочется их закрыть, чтобы не видеть того, что происходило, – помрачнев, добавил он.
– Дмитрий Павлович, где я могу жить?
– Как где? Дома.
– Один раз я уже рискнул. Не получится ли опять какое-нибудь недоразумение?
– Не получится. Вот мой телефон. Если что, сразу звоните.
Разве мог я не воспользоваться счастливой возможностью побывать на футболе?
Я шел на «Динамо» и думал о превратностях судьбы, которая бросала меня то в поднебесье иллюзий и надежд, то в бездну безысходности. Что будет теперь?
«Очнулся» у Петровского парка, почувствовав знакомый с юности озноб. Он мог означать одно: я вновь во власти предстоящего футбола. Память не сохранила подробностей того матча – ни названия команд, ни итоговый счет: слишком много впечатлений обрушилось на меня.
На трибуну постарался пройти незамеченным, ведь я пока оставался ссыльным и, наученный опытом, не хотел дразнить гусей своим появлением. Но буквально сразу же столкнулся с Володей Деминым, бывшим спартаковцем, теперь выступавшим за ЦСКА. Он схватил меня за рукав:
– Николай Петрович, вы?
– Володь, я.
– Николай Петрович, вот радость – вы в Москве!.. Пойдемте – по полтораста. (Демин в то время уже изрядно выпивал.)
– Что по полтораста?
– Коньячку.
Впервые в жизни я услыхал «по полтораста». Отказавшись, помню, еще подумал, почему по полтораста, обычно пили по двести. Не успел спросить об этом у Демина, смотрю, бежит Федотов, еще кто-то…
Вернулся домой, а там новый сюрприз: сидит ждет меня мужчина. Я его не знал и никогда не видел.
– Здравствуйте! Я – Всеволод Бобров. Наслышался о вас, Николай Петрович, от ребят, решил прийти поприветствовать.
Такой визит для меня был необычайно приятен.
С первого дня нашего знакомства я заметил у Севы любопытную особенность: когда он слегка выпивал, у него из правого глаза текла слеза. Я его спрашиваю:
– Почему у тебя один глаз плачет? А он говорит:
– Потому что я сделал ровно половину того, что мог… Много мне встречалось талантов, но Бобров даже среди них был выдающимся. Я видел его на поле один раз – он играл за ветеранов, – и знаете ли, для восхищения им мне этого хватило! Он забил тогда несколько голов, и я понял самое ценное его качество, которое и сделало его столь неповторимым: обычно игрок, когда идет на противника, приближаясь к нему и стараясь обыграть, несколько сбрасывает скорость, потому что снижение скорости позволяет легче управлять мячом. Бобров же, наоборот, взвинчивал скорость до отказа и умел при этом сохранить господство над мячом. К тому же мчась к воротам по самой короткой прямой. Думаю, что и в жизни он стоял на таких же принципах. Всегда шел напрямик, никаких «виражей» перед начальством, всегда если не властно, то и не просительно выкладывал претензии, отстаивал свои права. Таким остался в моем представлении Всеволод Бобров.
Надеюсь, читатель простит меня за небольшое отклонение здесь от основной линии повествования, если я в своих воспоминаниях остановлюсь еще на одном игроке, потому что считаю, что рядом с Бобровым должен непременно присутствовать Григорий Федотов.
Если спросят, кто лучший из лучших в советском футболе за 50 лет, многие ответят: Григорий Федотов.
Весна 1937 года. Спартаковцы традиционно перед играми ездили в Сандуновские бани. Однажды, приехав туда, я увидел в парной на полке Константина Блинкова. Это была одна из самых замечательных фигур в футболе 20-х годов – центральный полузащитник сборной Москвы. Он относился к разряду тех, кто безошибочно оценивал возможности игроков. Пожалуй, лишь Петр Исаков мог позже составить ему конкуренцию. Блинков мне и говорит:
– Николай, я привез в «Серп и Молот» настоящую звезду.
– Кого ты, Костя, привез?
– Ничего подобного в футболе мы с тобой не видали. Фамилия парня Федотов, он из Ногинска. Если ты его увидишь, ни одной игры с его участием не пропустишь.
Как в воду глядел!
Достаточно мне было дней через десять увидеть Григория Федотова в раздевалке стадиона «Локомотив», как я с первого же взгляда понял, что это незаурядный игрок. На тренировке он меня покорил, после игры я им бредил.
Дебютант ошеломил знатоков столичного футбола. Все подкупало в молодом форварде: пружинисто-припадающий бег, мощь, резвость, прыжок и завораживающая манера игры. Перед нами был талант, Шаляпин в футболе.
И он давал концерт за концертом.
Все, что делал Григорий Федотов на поле, было ново, неожиданно, самобытно. Безукоризненная корректность сочеталась с пламенным стремлением вперед, джентльменство – с результативностью. Его выступления стали приманкой для зрителей. Идешь, бывало, на стадион и ждешь: что еще нового покажет этот игрок?
Несколько раз «Спартак» имел счастье принимать Федотова в свои ряды. Его включали в состав для усиления команды в международных встречах. И он в одиночку порой решал судьбу исторических матчей.
Чего, например, стоил первый гол непобедимым баскам, забитый им так, что и сейчас не верится! Я уже рассказывал: мяч влетел в ворота с самой лицевой линии. Вот и верь после этого, что резаный удар, «сухой лист», изобретен в 50-х годах в Бразилии. На 20 лет раньше им уже владел Григорий Федотов.
На Антверпенской рабочей олимпиаде он обеспечил победу в турнире «Спартаку». В решающей встрече с командой Барселоны Григорий одного за другим обвел всех испанских защитников и протолкнул мяч в сетку. Мы победили 2:1. Через несколько дней в Париже с его помощью был завоеван Кубок Всемирной выставки.
«Этот виртуоз с лицом васнецовского Иванушки стал бы бесценным украшением любой сильнейшей профессиональной команды мира», – писала о Федотове французская газета.
В следующем, 1938 году Федотов был призван в армию и стал бессменным лидером команды ЦСКА. Под его предводительством она пять раз за 7 лет обретала золотые медали чемпиона. Здесь он первым опробовал и блестяще осуществил тактику блуждающего форварда, был неподражаемым бомбардиром в завершающих стадиях атак до 1950 года включительно.
Многое видоизменял в советском футболе Григорий Федотов. Ни один тренер никогда не влиял так на класс игры, как этот рабочий парень из подмосковного текстильного городка.
В жизни футбольный герой был милым человеком. Он просто не придавал значения своей небывалой популярности. И позже, когда его имя стало в футболе нарицательным, Григорий Иванович оставался таким же простым, никому не навязывал своего мнения, больше слушал, чем говорил. Ни тени высокомерия. Только чуть заметная усмешка выдавала его отношение к тем, кто разглагольствовал о футболе, мало соли в нем скушав.
За Федотовым ходили толпы почитателей, репортеры пытались выведать у него рецепты успехов. Он со всеми был вежлив, терпелив и по обыкновению скромен. Природный ум, так щедро помогавший ему разбираться в тончайших нюансах игры, оказывал ему такую же услугу в жизни.
Федотов прожил всего сорок один год. За месяц до внезапной кончины московские болельщики видели последний незабываемый федотовский гол. Он забил его в игре ветеранов в Лужниках. Мяч, посланный могучим ударом, влетел под верхнюю штангу…
…Я жил в Москве уже месяц. Каждый день являлся в ненавистное здание, по иронии судьбы – в тот же самый кабинет, где меня допрашивал Рассыпнинский. Теперь там сидел другой следователь и задавал мне другие вопросы. Стали вызывать свидетелей, чьи показания были в делах. Никто, конечно, их не подтвердил. Неопровергнутыми остались только два «пункта обвинений»: что я в работе был склонен к диктаторству и что имел любимчиков. Все к черту начало рушиться, вся эта собранная Рассыпнинским чушь.
Братья тоже освободились, но в столицу с 58-й статьей путь был заказан: они оставались на поселении по месту отбывания срока. Не знаю, почему их не вызывали в Москву вместе со мной. Видимо, посчитали, что, так как я стоял во главе «дела», вполне достаточно доказательства моей невиновности.
В свой прошлый приезд в Москву, когда меня «похитил» Василий Сталин, я не смог повидаться с их семь ями, чтобы узнать «северные» адреса и связаться с братьями. А сейчас сразу же написал им о своем срочном вызове к Лебедеву и, разумеется, о том, что идет следствие. Просил не падать духом и ждать перемен.
«Перетерпеть» этот месяц ожидания было для них едва ли не мучительнее, чем провести годы в лагерях.
Когда все съехались в Москву, нас закружил водоворот событий – слишком много было текущих забот. Трудно поверить, но времени, чтобы спокойно предаться воспоминаниям, так и не нашлось. Хотя основное мы друг о друге знали.
Андрей вместе с Тикстоном попал в Норильск. Они встретили там Кнопову, заместителя председателя Всесоюзного комитета физкультуры, которая приложила очень много стараний, чтобы помочь следствию в «разоблачении» семьи Старостиных. Вполне допускаю, что по логике тех беззаконий именно ее усердие и привело к тому, что она в свою очередь была репрессирована.
В Норильске Андрей встретил и жену Косарева Марию Викторовну с дочкой. Они там пробыли вместе почти 10 лет. Дочка выросла, вышла замуж за одного из политических заключенных. Последний раз мы встречались на посмертном 70-летии Косарева.
Петра сначала направили в Нижний Тагил на стройку металлургического завода. Затем его сделали инженером местной ГЭС, где он проработал четыре года. Затем перевели начальником ОКСа в Криволучье под Тулу на строительство цементного завода. Оттуда он и освободился.
Александр сперва был в Инте, но несколько раз писал заявления на имя Сталина с просьбой о пересмотре дела. И его в отместку заслали на Урал, в Соликамск, на лесоповал. Александру пришлось особенно тяжело.
И вот наконец мы все вновь вместе. Я хорошо помню тот первый семейный вечер. Все уже собрались, ждали только Андрея. Он появился неожиданно и прямо с порога произнес свою знаменитую фразу:
– Все проиграно, кроме чести. Я понял: Старостины выстояли.
Тогда многие семьи распадались: ждать друг друга годами хватало сил не у всех жен и мужей. Наши, к счастью, уцелели. Думаю, благодаря тому, что очень высоко ставили у нас отношение к женщине. Шло это от бесконечного уважения к матери, простой крестьянке из семьи Сахаровых. Она пережила арест четырех сыновей и двух зятьев и дождалась нашего возвращения. Похоронили мы ее осенью 1956 года.
…Разбор нашего дела на заседании Военной коллегии Верховного суда СССР продолжался часа два. Два часа, вместившие 12 лет жизни. Пожалуй, ни один документ я никогда не перечитывал столько раз, сколько выданную в тот день отпечатанную на маленьком бланке справку. Бумажка гласила: «Приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 18–20 октября 1943 года в отношении Старостина Н. П. по только что открывшимся вновь обстоятельствам отменен, и дело о нем в уголовном порядке производством прекращено. Председатель Военной коллегии Верховного суда Союза ССР полковник юстиции Борисоглебский. 9 марта 1955 года».
Нас разлучила осень 1943-го. Вернула к жизни весна 1955-го. Выдававший справку чиновник, наверное, совестливый человек, видимо, в порядке моральной компенсации, закончив канцелярские формальности, сообщил:
– Недавно на коллегии рассматривался вопрос о противозаконных действиях преступной группы, фабриковавшей «липовые дела». Федотов, Есаулов и Рассыпнинский приговорены к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.
У меня это сообщение почему-то не вызвало никаких эмоций…
Через некоторое время нас восстановили в партии. Каждого с момента его вступления: Андрея – с 1929 года, Александра – с 1939-го, Петра – с 1940-го, меня – с 1941-го.
Дальше началась история прозаическая – о конфискованном имуществе. Оно было пущено с торгов, но Мосгорфинотдел должен был возместить его стоимость. Встал вопрос об оценке проданного. У меня конфисковали несколько картин довольно известных художников, в том числе Степанова и Коровина. Помню, после того, как я купил на аукционе в Ленинграде картину Степанова «Стадо» и привез ее в Москву, ко мне неожиданно пришла Екатерина Васильевна Гельцер, знаменитая балерина, которая коллекционировала произведения Степанова. Я не был специалистом в живописи, но у меня сработал рефлекс: раз Гельцер хочет купить, значит, продавать не надо. Потом, когда выяснилось, что конфискованные у меня ценности оказались рассортированными по квартирам работников НКВД, я сожалел, что не согласился на предложение Гельцер: лучше бы Степанов достался ей. Из неплохой коллекции тех лет удалось разыскать и вернуть лишь три картины. Они сейчас висят у меня дома.
Меня больше волнует другое. Имея возможность как начальник команды постоянно общаться с нынешними молодыми игроками, не перестаю удивляться: почему, кроме магнитофонных и видеокассет, их ничего не интересует? Говорю об этом не случайно. Хотя знатоков живописи в десятки раз меньше, чем знатоков футбола, я убежден: кругозор культурный и кругозор футбольный связаны неразрывно.
Однако я, кажется, немного увлекся «живописными» проблемами. Существовали куда более земные. Кем быть? Где работать?
Когда мы с братьями встретились в Москве, я с радостью обнаружил, что 12 «гулаговских» лет не сказались ни на их жизнелюбии, ни на стремлении к активной деятельности.
Издавна высшим «органом власти» в роду Старостиных был семейный совет. В долгих совместных раздумьях и сейчас решался вопрос о трудоустройстве. На правах старшего я посоветовал Александру попробовать себя на коммерческой ниве в спорте. Чувствовал: способности брата и его имя помогут освоиться на новом поприще. Вскоре Александр получил место заместителя начальника Центральной оптовой базы спорттоваров Министерства торговли РСФСР. Потом был назначен начальником и проработал в этой должности около 25 лет. Окончательно отойти от футбола было выше его сил. Несколько лет подряд он возглавлял Федерацию футбола РСФСР, принимал самое активное участие в футбольных делах России.
Андрей поступил на службу в Центральный совет общества «Спартак». Но постепенно начал активно сотрудничать в прессе, выступать с обозрениями и комментариями матчей и незаметно для себя окунулся в водоворот футбольных страстей. А потом, как часто бывает, вроде бы случайная встреча вывела его на иную футбольную орбиту. Написал «вроде бы», так как глубоко убежден: подобные встречи кажутся случайными лишь при поверхностном взгляде. В действительности они предопределены неумолимой логикой переплетенных судеб, прожитых лет и свершившихся событий… Впрочем, при пересказе даже из первых рук всегда возможны искажения и упущения. Вот что вспоминал сам Андрей:
«На одном из матчей я встретил Валентина Александровича Гранаткина, который тогда работал во вновь созданном Управлении футбола Союза спортивных обществ и организаций.
– Тебя просит зайти к нему Николай Николаевич Романов, – сказал мне Гранаткин, серьезностью тона подчеркивая определенный подтекст своего сообщения.
– Когда?
– Чем скорее, тем лучше, – пробурчал Валентин и добавил: – А то я один с ног сбился…
Николая Николаевича Романова я знал с 1940 года. Будучи секретарем ЦК ВЛКСМ, он ездил руководителем нашей спортивной делегации в Болгарию. Много лет Николай Николаевич возглавлял руководство физической культурой и спортом в стране. Это был период, когда советские спортсмены вышли на широкую международную арену и жизнь ставила много новых, сложнейших, неожиданных вопросов, которые требовали ответственных и весомых решений. Романов глубоко вникал во все проблемы спорта, ничто не проходило мимо его внимания, под его непосредственным контролем, а нередко и участием разрабатывались тренировочные нагрузки, меры материального и морального поощрения и другие вопросы.
Человек высокой культуры, умный, инициативный, он требовал творческой активности и от своих подчиненных. Про таких руководителей говорят – человек на месте! Его жизнерадостность, деловитость сразу располагали к себе собеседника. Кроме всего, Николай Николаевич понимал и ценил юмор. Говоря современным языком науки, его биополе так благотворно действовало на собеседника, что неискренность в разговоре с ним исключалась, а желание сказать неправду даже в голову не приходило.
Я вошел в его кабинет с легкой душой, как будто и не было многолетнего перерыва во встрече, словно вчера напутствовал он меня, капитана сборной команды Москвы, на трудный матч.
С приветливой улыбкой, встав из-за стола и сделав несколько шагов навстречу, хозяин кабинета пожал мою руку и, как мне показалось, с пониманием происшедшего со мною негромко произнес:
– Появился…
Вопрос, как я и предполагал, сводился к предложению работать в Управлении футбола: «Надо помочь Гранаткину, играли же вместе»…
К удивлению Николая Николаевича, я отказался. Он попросил объяснить причины.
– Первая – это отсутствие диплома о высшем специальном образовании. Вторая – непокладистость характера: «служить бы рад, прислуживаться тошно»… Имею свою точку зрения по некоторым вопросам футбола, которая не всегда будет совпадать с вашими взглядами.
– Так мне это от своих помощников и нужно. Ведь вас трое заслуженных мастеров спорта – Гранаткин, Старостин, Мошкаркин, вам и карты в руки. Иди к Гранаткину и оформляйся.
С этого началось мое служение сборной команде СССР в третьей ипостаси – начальника команды».
Думаю, меня никто не упрекнет в родственных симпатиях, если я скажу, что Андрей был одной из популярнейших и наиболее авторитетных фигур в отечественном футболе. Счастливую жизнь в спорте прожил мой второй брат – любимец футбольных богов…
Может быть, слишком много Старостиных было в футболе и, как мы между собой шутили, еще для одного не хватало федерации? Меня часто спрашивают: почему самый младший из нас, Петр, отошел от футбола? Попробую ответить. Если говорить серьезно, то те, кому надо понять суть спорта и душу спортсмена, познать «колдовскую музыку ударов», выражение «отошел от футбола» воспринимают, очевидно, весьма относительно. Петр все годы продолжал жить интересами «Спартака». Но он остался верен выбранной профессии инженера. Был начальником технического управления Министерства нефтяной промышленности…
Рассказав о братьях, наверное, пора поведать и о себе. В то время существовало положение: людей восстанавливали в тех должностях, на которых они числились в момент ареста. Следовательно, выходило, что я опять буду председателем Московского городского совета общества «Спартак». Однако эту должность уже 8 лет занимал бывший инструктор горкома партии Кузин. Снять с работы одного человека только потому, что реабилитировали другого, – вряд ли это было справедливо. Поэтому мне предложили место начальника футбольной команды мастеров. Я вначале заупрямился. Но, поездив по соревнованиям и познакомившись с положением дел в тех видах, которые в довоенном «Спартаке» активно культивировались, а ныне находились в упадке: плавание, конный спорт, спортивные игры, – я понял, что мне уже трудно будет восстановить их прежний уровень. Трезво оценив силы, решил, что полезнее сосредоточить свое внимание и возможности на футболе. И дал согласие. С тех пор ни разу за 35-летнюю, почти непрерывную службу на этом непростом посту не пожалел о своем решении.
Океан футбольных страстей выбрасывал меня на рифы стадионов сорока семи стран: двадцати семи – в Европе, девяти – в Азии, пяти – в Африке, пяти – в Южной Америке и в США. И везде я сразу же попадал в особый мир, где президенты, короли, чиновники, рабочие, артисты на 90 минут равны перед игрой. Футбол крушит барьеры недоверия и чопорности, открывает души людей и двери домов. Я бы мог поведать о своих встречах на спортивной орбите со множеством интереснейших людей; подробно рассказать о событиях, происходивших в «Спартаке» начиная с середины 50-х годов; о его триумфах и крушениях; о его лидерах и всеобщих кумирах; поделиться впечатлениями о крупнейших футбольных турнирах за последние 45 лет. Все они на моей памяти: девять чемпионатов мира, девять Олимпиад, восемь первенств Европы. Смею предположить – рассказ получился бы интересным, однако, надеюсь, читатель простит, если на сей раз мы обойдемся без этого повествования. Тем более что различные вариации на аналогичные темы не однажды появлялись из-под пера верных слуг футбола: игроков, тренеров, спортивных журналистов.
Но у каждой эпохи – свои приоритеты.
Сегодня – время перемен, время обновления, время действия, время надежд. А надежды всегда устремлены в будущее.
Какое оно? Вот об этом – о том, что мешает нам вырваться из паутины разовых достижений, всерьез и надолго встать в ряд с ведущими футбольными державами, каким вообще быть или не быть нашему футболу, – и представляется мне необходимым поразмышлять. Ни на мгновение не забывая о первых причинах: отравленные корни многих бед и болезней уходят в толщу тех далеких, зловещих, безнравственных лет, о которых шел разговор на предыдущих страницах.
Задуматься о будущем, объективно оценивая настоящее и зная правду о прошлом, – единственная возможность сохранить связь времен.
Не увлечение, а смысл жизни
И раньше не раз приходилось высказывать свои соображения по поводу состояния дел в нашем футболе. В прессе и в беседах с тренерами, игроками, журналистами обсуждал насущные проблемы любимой игры. Особое удовольствие всегда получал и получаю от общения с бывшим многолетним редактором еженедельника «Футбол – хоккей» писателем Львом Ивановичем Филатовым, глубоко уважая его профессиональную честность, человеческую порядочность, истинную интеллигентность; немало почерпнул в многочасовых, порой за полночь, беседах с ним. Некоторые фрагменты наших совместных размышлений были опубликованы. Но прошедшее с тех пор время не сделало их менее актуальными. Поэтому, думаю, читатель поймет, если я позволю себе на последующих страницах вновь вернуться к проблемам, о которых уже писалось, но которые все еще по-прежнему ждут своего решения.
…С 1955 года и по сей день я – начальник команды московского «Спартака». Должность эта, смею заверить, такого рода, что не выберешь времени пойти в отпуск. Не для красного словца, а вполне точно могу сказать, что не брал отпуска лет пятьдесят. Так что ни эпическим настроением, ни значительным промежутком в занятиях не располагаю.
Однако положение дел в нашем футболе не настолько благополучно, чтобы с легкой совестью ограничиться работой с одной своей командой и тешить себя сознанием, что оказываешь ей посильную помощь.
В футбольной среде немало людей иронически относятся к прошлому. Они с апломбом и почему-то со множеством иностранных слов берутся утверждать, что футбол и в мировом масштабе, и у нас в стране во всех отношениях преобразился не раньше чем вчера, что все знания принадлежат им, они – вершители прогресса и чуть ли не с них все и началось.
Что тут скажешь? Изменения в самом деле разительные. Но наивно думать, что все они свершились в последние годы. Они происходили постепенно, на всем протяжении истории советского футбола. Смею думать, что мне это особенно хорошо заметно.
Футбол наш получил едва ли не все, о чем можно мечтать. Грандиозные стадионы, учебные базы, оснащенные по последнему слову спортивной науки, сеть детских школ, раскинувшуюся по просторам страны, сотрудничество ученых и врачей, участие во всех международных соревнованиях, поддержка со стороны партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций. Футбол наш снаряжен, обеспечен, окружен заботой, обласкан. Миллионы людей посещают стадионы, а уж сколько их собирается возле телевизоров, кажется, точно не знает никто. Я побывал, повторяю, на стадионах многих стран и готов утверждать, что нигде не встречал такой благожелательной, справедливой публики, как у нас.
Еще двадцать с лишним лет назад я имел формальное право стать пенсионером, устраниться от футбольных дел. Если бы это случилось, сейчас я, по всей вероятности, выглядел бы ворчуном, повернутым в прошлое, и мои доводы, основанные на сравнениях, казались бы читателям, особенно молодым, наивными. Но я работаю, клуб – из числа ведущих, поставляет игроков в сборную СССР.
Само собой разумеется, кое-что из опыта 20-х и 30-х годов устарело. Я, например, застал времена, когда в командах не было тренеров и всем и всеми заправлял капитан. Сейчас это невозможно представить. Мне 23 года, я – правый крайний нападения, мне в радость играть, забивать голы, и тут вдруг меня выбирают капитаном. Прежний, Иван Артемьев, перешел в «Динамо», полагалось бы – по авторитету – принять капитанство нашему знаменитому форварду Павлу Канунникову, а он ни в какую. Следующая кандидатура – моя. А мы, спортсмены, надо не забывать, все работали; я заведовал финансовым отделом московского представительства Нижегородского губселькредитсоюза.
Обязанность забивать голы за мной осталась. Ни тренировок, ни матчей я, естественно, не пропускал. А как капитан я отныне должен был представительствовать в райкоме комсомола и в райисполкоме, вникать в нужды членов команды, хлопотать, чтобы их с работы отпускали на тренировки, вникать в семейные неурядицы, изыскивать способы помочь при материальных затруднениях.
Но самое деликатное дело – определять состав на матч. Все мы товарищи, на поле равны, сражаемся, выигрываем и проигрываем, общие радости и огорчения. Я же, один из них, во многом решаю, кому сегодня выходить, а кому в запас. В один миг все всплывает – честолюбие, обидчивость. Что могло выручить капитана? Только справедливость.
Позже капитанские обязанности перешли ко мне в сборных Москвы и СССР. Тут еще хлеще. Все – «звезды», каждый – представительная фигура, и единственно, чего хотят, – чести быть в составе. Честь была главной наградой. Прибавьте еще, что между москвичами и ленинградцами велось ревнивое соперничество: кого больше окажется в сборной. А я составляю список и везу его утверждать в совет физкультуры.
До сих пор, как будто это было вчера, помню, как набирался смелости заменить Михаила Бутусова во время матча в Турции. Шутка сказать – Бутусова! Он среди тогдашних «звезд» был «планетой» – центрфорвард, бомбардир, без которого никто сборную СССР и не мыслил!
Как это произошло? Играем в Анкаре, и ничего у нас не клеится. Бутусов был человек на язык острый, юмор у него простонародный, его словеса только что с ног не сбивали. И принялся он покрикивать. И на меня: «Капитан, чего молчком играешь!», и на судью (им был советский арбитр Владимир Васильев), и на Евгения Елисеева, хавбека, так что тот и бегать перестал, остановился. Совсем команда разладилась. Тут я не выдержал и заявил судье: «Бутусов заменяется!» И ему: «Михаил Павлович, прошу, иди успокойся!»
Другое памятное происшествие тоже в Турции, в Стамбуле. Прошло 12 минут (не удивляйтесь точности, такое не забывается), а счет 0:2. Валентин Гранаткин – вратарь хороший, но тут почему-то разволновался и пропустил пустяковые удары. Мне Бутусов кричит: «Капитан, чего смотришь, мы же продуем!» И я распорядился, чтобы в ворота встал Александр Бабкин. С той игры, кстати, харьковчанин Бабкин приобрел известность. Хорошо, что игру мы спасли – 2:2, могло все кончиться и по-другому…
Что и говорить, по нынешним временам – несуразное дело, чтобы на одного из игроков взваливать такую ответственность. Вижу, читатель улыбается: не команда, а вольница.
Должен все же заметить, что выборные капитаны были авторитетами, им повиновались; ошибется тот, кто вообразит, что при том «способе правления» царила анархия. Нет, и дисциплина была, и играли от души, сил не жалея, все решая на ходу, на поле, не дожидаясь подсказок во время перерыва.
Но главное, что мне хотелось бы сказать в связи с этим, – опыт, приобретенный на заре советского футбола, ценен и полезен мне до сегодняшнего дня. Как бы внешне ни менялся облик футбола, внутренняя его жизнь во многом остается неизменной. По-прежнему в футбол играют люди. И я знаю: чем ярче футбольная индивидуальность, тем труднее, сложнее человеческий характер. Умение повлиять на него остается вечно актуальным. Примем во внимание и то, что сложные характеры проявляются в пороховых условиях борьбы, конкуренции, неизбежных поражений, когда вырываются наружу эмоции. Капитан ли раньше, начальник команды и старший тренер сегодня одинаково должны уметь управлять отношениями в команде, ни на минуту не забывая, что имеют дело с живыми людьми, а не с безликими пронумерованными фигурками.
В большинстве команд начальники меняются еще чаще, чем тренеры, и уходят, не оставив о себе ровно никакой памяти. Словно их и не было. Говорю об этом не только с огорчением, но и с тревогой. Глубоко убежден, что в современных условиях наряду с квалифицированным тренером в командах совершенно необходим авторитетный, знающий, влиятельный начальник.
Не могу похвастаться, что коротко знаком с положением дел в других командах, чтобы определенно отозваться о коллегах. Думаю, что в свое время на месте был в должности начальника команды в московском «Динамо» Лев Яшин: он всецело предан футболу, знает его подноготную, уважителен и требователен к игрокам, личный его пример безукоризнен, и все это должно было влиять на нравственную сторону жизни его команды.
Так в чем же загадка «стажа»? Вопрос чрезвычайно серьезен, имеет значение для всего нашего футбола, поэтому попытаюсь на него ответить, опираясь на свой опыт.
Во-первых, да будет мне позволено сказать, что я почти досконально знаю футбол. «Почти» – это не дань приличию или скромности, а знак моего уважения к футбольному занятию, которое, как его ни постигай, то и дело подкидывает небывалые ситуации, конфликты, перед которыми сначала становишься в тупик, а потом, хочешь не хочешь, ищешь выход. Так сложилась жизнь, что футбольную Волгу мне пришлось пройти от Валдая до Каспия. И не на теплоходе, а по-бурлацки, с бечевой.
Во-вторых, и тут опять приходится сказать, что так сложилась жизнь, мне смолоду довелось включиться в деятельность организаторского, административного плана и вести ее по сей день. Не знаю, может, были у меня для нее какие-то данные, но более всего учила и закаляла сама работа.
Представьте себе такую картину. Загородная база в Тарасовке. В шесть утра на футбольном поле появлялись трое: один из тренеров, Владимир Иванович Горохов, 10-летний мальчонка Сережа Сальников, живший неподалеку, впоследствии знаменитый нападающий, и ваш покорный слуга. До восьми мы трое в поте лица тренировались. Потом я отбывал в Москву на службу как ответственный секретарь московского общества «Спартак», в тот момент создававшегося. Было это летом 1934 года, я продолжал играть в команде мастеров, хотя и подумывал, что пора заканчивать, благо на мое место на правом краю с полным основанием претендовал Георгий Глазков. Какое-то время мне приходилось совмещать игру с хлопотной, но увлекавшей меня административной работой.
В этой связи не могу не упомянуть, что мне довелось еще раз пригодиться «Спартаку» на поле, в 1937 году, когда мы выезжали на рабочую олимпиаду в Антверпен. И надо же было так случиться, что один за другим у нас стали выбывать основные игроки – Ал. Старостин, В. Семенов, В. Степанов, получавшие травмы. Просто злой рок какой-то, ничего подобного я никогда больше не наблюдал. Пришлось мне, руководителю делегации, разоблачаться и натягивать футболку. Кроме меня, мобилизован был гимнаст Михаил Дмитриев, которого определили правым хавбеком. В таком неожиданном составе мы провели полуфинал со сборной Каталонии (2:1) и финал с норвежцами (2:0). И выиграли турнир! Меня выручило то, что, работая в горсовете «Спартака», я продолжал поигрывать за команду «старичков» – были тогда такие. До сих пор горжусь, что был правым крайним в команде, где левым крайним играл молодой Григорий Федотов. Мы из Антверпена переехали в Париж и там вновь провели матч с той же сборной Каталонии, похожей на знаменитую команду басков, столь известную по турне в нашей стране. Победили – 2:0. То был мой последний матч.
Прошлым летом в той же Тарасовке я вышел размяться на поле. Спустя четверть часа доктор меня выпроводил, но я успел удостовериться, что мяч меня слушался, – техника, оказывается, не забывается и по прошествии многих-многих лет. Футбол, как видно, коренится не только в душе и памяти…
Иногда меня спрашивают, а не утомительна ли, не приелась ли такая, по сути дела, непрерывная, бесконечная служба? Наверное, утомительна. Но она вошла в плоть и кровь, я ее не мыслю как нагрузку. Футбол, начавшись с увлечения, стал даже не профессией, а чем-то большим: может быть – смыслом жизни. Поэтому, наверное, никакая организаторская, хозяйственная деятельность мне никогда не в тягость. Наоборот, она позволяет считать себя человеком небесполезным.
И наконец, в-третьих, выручает меня как начальника команды, что я в молодые годы окончил коммерческое училище братьев Мансфельд и по образованию финансист.
У нас неизвестно почему долгое время не принято было касаться финансовых вопросов. Их обходили, чуть ли не стыдились. А они между тем с большой достоверностью отражают игру команд и то, как с командами работают. Разве не показательно, что «Спартак», покрывая все расходы, перечисляет еще на свой накопительный фонд ежегодно по 200–250 тысяч рублей? Мы не только оплачиваем собственные нужды, но и оказываем поддержку хоккейной команде своего общества и команде второй лиги «Красная Пресня». Удается это потому, что на «Спартак» ходят.
Не собираюсь выставлять заслуги нашего клуба. Напротив, убежден, что спартаковцы могли, даже должны были, в большей мере оправдать надежды болельщиков: после чемпионата 1979 года мы сумели еще только раз – в 1987 году – выиграть золотые медали, хотя нам такое было по плечу чуть ли не в каждом сезоне. Но все же начиная с 1977 года, когда «Спартак» оказался в первой лиге (к этой истории я еще вернусь), и до нынешнего года у нашего клуба, как правило, есть что предложить зрителям.
Так что финансовая статья, как видите, не сама по себе, не нейтральна. Куда как приятнее считать прибыли, чем изловчаться покрывать недостачи.
Однако во всем должно быть чувство меры. Сейчас многие ударились, на мой взгляд, в другую крайность: в их подходе к футболу наметился явный перекос. Арифметические валютно-рублевые подсчеты стали заслонять главное – первичность самой игры, ее бескорыстный дух и изначальное рыцарство.
Реже и реже доводится слышать знаменитую олицетворяющую благородство фразу: «Все проиграно, кроме чести». Чаще и чаще звучит расхожее: «Победителей не судят».
Убежден: если мы не сумеем создать четкий правовой механизм, регламентирующий взаимоотношения многочисленных жильцов нашего футбольного дома, глобальная хаотичная коммерциализация может привести к краху вечных футбольных ценностей.
Понимание этого представляется мне обязательным для человека, занимающего должность начальника команды. Больше чем уверен: подходящие люди существуют. Их просто не ищут. А не ищут только потому, что не считают такими уж необходимыми.
КОМУ РУКОВОДИТЬ ФУТБОЛОМ?
Вот я и добрался до вопроса, который является принципиальным. Мы, кажется, уже перестали удивляться увольнениям тренеров. Начала команда проигрывать, и слышишь гадания: снимут ли тренера, когда, кто займет его место? Снимают. Но что с него взять – горсть волос? Пришел и ушел. Более всего тут удивительно, что еще вчера человек этот был полновластным «хозяином», вершителем судеб, а сегодня как ни в чем не бывало отбыл восвояси. И все надо заводить сызнова.
Считаю опасным заблуждением, что старшим тренерам позволено единоличное руководство всей жизнью команды. То, что они всецело отвечают за тренировки, распорядок дня и сезона, за игру, – это вне сомнений. Но когда старший тренер занимается решительно всем – воспитательной работой, хозяйством, финансами, транспортом, связями с «внешним миром», нуждами игроков, – это ненормально и противоречит утвержденному положению о командах. Я уже упоминал, что несуразно было играющему капитану нести на себе всю ношу руководства. Но так было 60 лет назад. Нынче времена иные, а положение в командах отдает стариной. Не в том беда, что внимание тренера рассеивается. Беда в том, что такой метод руководства выливается в оголтелое диктаторство.
Команда мастеров – слишком сложный, капризный механизм, чтобы зависеть от воли одного лица. Бесконтрольность – самая благоприятная среда для ошибок, перехлестов, даже злоупотреблений. Разве не было случаев, когда старших тренеров снимали за неблаговидные поступки, за нарушения норм законности и морали?!
Можно вспомнить крах тренера «Пахтакора» Иштвана Секеча, снятого с должности из-за грубых финансовых и административных злоупотреблений. И как жестоко это отразилось на судьбе команды, которая и в первой лиге не может прийти в себя! А что пережили молодые люди – игроки? Нисколько не сомневаюсь, что нарыв зрел долго, но не нашлось никого, кто бы осмелился своевременно проконтролировать обстановку в «Пахтакоре». Как подступишься, когда тренеру отданы все права?
А почему отданы? Да потому, что никто не хочет брать на себя ответственность. В случае чего можно снять тренера. Ему – права, но он же и козел отпущения. Просто и удобно.
Людям свойственно входить в роль, если она им льстит. «Я все решаю, не нужны мне ничьи советы и предостережения, помощники лучше чтобы были бессловесными. Если какие-то запреты стоят на пути, ничего, переступим, простят после победы. Игроки чтобы и пикнуть не смели, их дело выполнять установки, а если у кого-то свое мнение – пусть посидит в запасе, подумает!»
Потом команда входит в полосу неудач, начинается разбирательство. В один прекрасный день диктаторство старшего тренера со всеми ошибками, обидами, сварами, нарушениями порядка, подорванными отношениями всплывает на поверхность, и следует решение о «несоответствии». А если бы тот же самый тренер имел точно очерченный круг обязанностей, если бы рядом были люди, чтобы дать дельный совет, предостеречь, поправить, иногда и одернуть, конфликт, глядишь, и не разгорелся бы. С одной стороны, вроде бы тренерам лестно, что они в одиночку всем заправляют, но они сами не замечают, что это «в одиночку» оборачивается для них моральным одиночеством.
Что наиболее опасно, так это то, что тренеру всецело доверено формировать человеческие отношения в футбольном, очень непростом, коллективе. Допускаю, что иной специалист в технических вопросах способен проявить себя и умелым воспитателем. Но ведь не всегда встретишь такое идеальное сочетание! Если же его нет (а это нередко), то в команде рано или поздно возникают нелады, в конечном счете отражающиеся на игре и турнирном положении. Чувствуя себя вершителем судеб, тренер легко может стать несправедливым: полезному игроку откажет в доверии из-за его острого языка, предпочтет ему безропотного или подхалима, даже играющего похуже. Или может создать обстановку страха и подавленности, которая, как я многократно убеждался, к интересной игре не стимулирует.
Главное – какие люди приходят, с каким нутром, с какой моралью. Вопрос вопросов: что они будут проповедовать в футболе? Футбол требует не только внешней, но и внутренней достоверности. Есть тренеры по призванию, а есть – по распределению. Важно вовремя понять: тренерская доля – дело жизни, а не вопрос трудоустройства! Можно многому научить, если человек приходит в команду с мыслью работать, а не приспособиться в футболе.
Анзор Кавазашвили, Валентин Афонин, Михаил Фоменко, Виктор Шустиков, Виктор Атвиенко, Валерий Маслов, Галимзян Хусаинов, Анатолий Исаев, Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов, Эдуард Малофеев. Вот такая получилась сборная «всех времен». В отличие от многих подобных для ее составления не понадобилось опросов – она реально существует, независимо от вкусов и клубных привязанностей. Более того, на сегодняшний день названный вариант (уникальный случай в истории футбола) единственно возможный.
Ровно 11 заслуженных мастеров спорта окончили Высшую школу тренеров за первые 10 лет ее существования.
Конечно, столь случайное совпадение, когда сама жизнь, подводя итоги десятилетней деятельности ВШТ, подбрасывает нам магическое число «11», может служить не более чем забавной прелюдией к серьезному разговору. А он необходим хотя бы уже только по одной причине: в списках выпускников ВШТ на сегодня больше трехсот фамилий.
И даже беглого взгляда на список достаточно, чтобы уловить изломанность и неисповедимость пути – независимо от звучности имен – при переходе игрока по ту сторону бровки футбольного поля в следующую весовую категорию – тренерскую.
Но позвольте, скажет читатель: ВШТ была создана в 1976 году, а сегодня разыгрывается уже юбилейный, 52-й чемпионат страны. И наивысшие успехи отечественного футбола приходятся на то время, когда о школе никто не думал, не ведал. И наши тренеры-классики – Борис Аркадьев, Михаил Якушин, Гавриил Качалин, Виктор Маслов – никаких курсов не заканчивали, а вот, поди ж ты, сумели оставить богатое теоретическое и практическое наследие. Да и вот вам еще один козырный довод: у Лобановского, лучшего из тренеров «новой волны», вообще техническое образование…
Все верно. Крыть нечем. Поэтому давайте расставим акценты.
У каждой уважающей себя организации должна быть четко поставленная задача – суть и цель деятельности. Безусловно, есть она и у ВШТ. В положении о школе это сформулировано так: подготовка высококвалифицированных тренерских кадров. Но кто, каким дипломом удостоверит эту квалификацию до того, как человек начал работать? Из сотен выпускников школы лишь единицы по-настоящему заявили о себе на тренерском поприще.
Как же увязать возникшие противоречия между целями и результатами?
Ценность школы в том, что она помогает систематизировать и углублять те крупицы знаний, которые накапливаются за годы футбольной карьеры. И пожалуй, главное – преломлять эти знания по отношению к конкретному делу. Когда учился, постоянно ловил себя на том, как много необходимого узнаешь из того, о чем и не догадывался, бегая по полю и считая, что для тебя уже нет секретов в этой игре, но без чего невозможна элементарная тренерская работа.
Школе по силам готовить специалистов определенного уровня, с определенным багажом знаний и навыков. Другими словами, она способна вывести их на гору разгона. Дальность же полета зависит уже от конкретной личности и тех целей, которые она перед собой ставит. Ибо цель пестует психологию, психология определяет цель.
…Иногда эмоции берут верх, и хочется крикнуть нервничающим во время матча тренерам: «Полно, стоит ли? Так ли уж важен результат при плохой игре?» Умом-то понимаешь, что важен – тренерам, игрокам, руководству клуба, – а вот до сердца не доходит. И все кажется, кажется, что не о том бы надо нам переживать…
Интересен феномен патологического неиспользования возможностей. Ибо – вглядитесь в составы большинства команд-середнячков – нет оправданий того, что они играют в плохой футбол. Причины есть, а оправданий нет.
У большинства из них есть все: научное обеспечение, реабилитационные центры, соответствующие системы тренировок, возможность знакомиться с новинками мирового футбола. Нет только игры. Сколько же еще нужно времени, чтобы понять, что одно не заменит другое?
Может быть, кому-то покажется (особенно на фоне заметного оживления дел в нескольких командах высшей лиги), что краски чересчур сгущены? Если бы… Надводная часть айсберга не должна сбивать с толку. Основная масса команд, особенно первой и второй лиги, продолжает прозябать в трясине мини-задач и мини-устремлений.
Меняются тренеры, в чем-то несущественно меняется игра, но цели остаются прежними. Вернее, прежним остается отсутствие целей. А это всегда чревато потерей ориентиров. В неадекватно оцененной ситуации частности могут приниматься за основное: неудачная замена, ошибка арбитра, травмы и прочие случайности представляются определяющими результат. Чтобы понять, что это не так, надо суметь отрешиться от суеты, подняться до обобщения происходящего, задуматься об изначальности устремлений.
Как-то услышал иронический отзыв об одном из наших известных тренеров: классный специалист, но ему никак не удается доказать это на практике. Нужно ли к такой характеристике что-либо добавлять?
Вспомнились слова тренера чемпиона мира итальянца Беарзота: «Я не из тех, кто много теоретизирует о футболе. Я – практик. Но позволю себе заметить, многое из того, что говорится, надуманно, многого просто не существует в нашей игре».
Поточный метод подготовки обеспечивает вал. Для отбора и воспитания самобытных специалистов, даже при наличии бесспорного таланта, нужна ручная работа.
Сколько разговоров о неоправданной подчас смене тренеров. Назначение их, пожалуй, действительно самый неуправляемый процесс в нашем футболе. Ни административной, ни экономической, ни моральной ответственности никто не несет. И продолжается «великое переселение» в угоду вкусам и настроениям функционеров.
Но сейчас – о другом. О тех редких исключениях, когда тренер и команда нашли друг друга и получили счастливую возможность многолетнего содружества…
Бесков, Лобановский, Иванов… Сколько лет они уже у руля?! Но вряд ли со спокойным сердцем надолго доверили бы его кому-нибудь из своих ближайших помощников. И при всей очевидности сделанного ими в футболе напрашивается вопрос: не их ли самих в том вина? Кому же думать о будущей судьбе клуба, если не тем, кто, не жалея себя, отдает ему часть жизни? Может ли быть большое дело по-настоящему полноценным, если нет у него преемника?
Почему бы в порядке эксперимента не разрешить двум-трем лучшим тренерам (при их, естественно, желании и согласии) набрать для прохождения практики небольшую группу наиболее способных, на их взгляд, слушателей? Имеют же в театральных вузах авторитетные мастера курсы своих студентов, и нередко это заканчивается рождением нового театра. Понимаю: дефицит времени у тренеров настолько велик, что они и дома-то редкие гости. Но, право, ради общего дела стоит поступиться частными интересами. Разве не обогатится наш футбол, если мы будем иметь не просто сторонников определенного направления, а единомышленников и сподвижников, верных принципам своего учителя. Тогда всерьез можно будет говорить о создании школ того или иного тренера.
Народный художник Сарьян как-то сказал: «Я не знаю ни одного человека, который бы не умел рисовать, но который бы кого-нибудь научил рисовать». Дело, которому учишь, надо досконально знать изнутри. Поэтому (хотя и известны случаи, когда командами руководили и журналисты, и юристы) в целом принцип отбора слушателей ВШТ из бывших игроков не может вызывать сомнений.
Настораживает другое. Для поступления туда необходимо направление от спорткомитета соответствующего города, области или республики. Говоря проще, судьба будущего тренера находится в прямой зависимости от его отношений с местным начальством.
Мы все хотим видеть среди тренеров личности, но так, чтобы не испытывать неудобств от общения с ними в жизни. Так не бывает: индивидуальность проявляется во всех областях. Где гарантия, что яркому, но неуживчивому человеку не предпочтут заурядную, но не портившую никому нервы посредственность?
Есть, правда, в направлении фраза, которая вроде бы оправдывает существование этого документа и призвана внушать поступившим уверенность в завтрашнем дне. Черным по белому: «…после окончания ВШТ имярек будет предоставлена работа по специальности…» – и указано конкретное место будущей службы. Но обладает ли она, эта фраза, юридической силой? Сдается, и здесь все отдано на милость опять же местным руководителям…
Вопросы совершенствования, отбора и распределения слушателей на сегодня наиболее актуальны. Должен сказать, что на местах не всегда ответственно подходят к выбору кандидатов. Конечно, проводятся собеседования, и имеется возможность, допустим, из трех абитуриентов какой-то республики выбрать одного. Но согласитесь, общий открытый конкурс был бы куда полезнее и эффективнее. К сожалению, распространен еще и такой подход: футболист закончил играть, его надо трудоустроить – что ж тут ломать голову! – пусть идет в ВШТ, и с плеч долой. А ведь тренерское дело – удел избранных. Иногда приходит бывшая «звезда», ну, кажется, сам бог велел ему стать тренером, а буквально через несколько месяцев ясно, что ничего хорошего из этой затеи не получится. И наоборот: бывает, футболисты, выступавшие на уровне первого разряда или кандидата в мастера, схватывают все на лету и в дальнейшем работают очень квалифицированно.
Не чувствуется государственного подхода и при использовании выпускников ВШТ. Причем, как ни странно, проблема распределения слушателей в первой и высшей лигах практически не существует. А вот во второй, где, казалось бы, необходимо и есть возможность насытить команды квалифицированными кадрами, атмосфера делячества не позволяет этого сделать. Там судят о тренерах по своим меркам: превыше всего ценятся качества «толкача» и умение ловко обходить частоколы инструкций. Вот и выходит, что на втором году обучения ребята начинают «дергаться», больше уже думать не об учебе, а о распределении.
Но ведь эта проблема разрешима. Достаточно лишь, чтобы клубы, в которые приходит выпускник ВШТ, взяли на себя обязательства не расторгать с ним отношения, допустим, в течение трех лет…
Это было бы реально. Но тогда логично, чтобы клубы и направляли своих избранников в школу. В Италии, например, где обучение на тренерских курсах в течение 9 месяцев стоит 3 900 000 лир, так и делается. Кстати, не всегда деньги вносит клуб, как правило, приходится раскошеливаться игроку, но зато он с первого дня знает, где и кем ему придется работать.
Должно ли быть платное обучение? В условиях существования хозрасчетных клубов оно представляется вполне логичным, хотя все же это вопрос скорее будущего. А вот то, что надо уравнять всем слушателям стипендии, для меня очевидно сейчас. Ведь пока все получают их по месту своей прежней работы, и разница подчас бывает очень внушительной. Причем она никак не зависит от старания и успехов непосредственно в учебе.
Сложнее устранить другое неравенство – в начальных знаниях поступивших. Одни из них закончили, предположим, дневное отделение два-три года назад, другие – заочное лет восемь назад. В такой ситуации мы вынуждены терять время, чтобы подтянуть, насколько возможно, всех до общего уровня. Но думаю, и это можно преодолеть за счет большего акцента на индивидуальные занятия.
Из школьной программы известно, что для доказательства любой теоремы нужно иметь два условия: необходимое и достаточное. Для подготовки ярких тренерских индивидуальностей в сегодняшнем своем виде ВШТ необходима, но явно недостаточна.
Целесообразно ли в ближайшем будущем ставить вопрос резче: без диплома ВШТ специалист не имеет права работать в команде мастеров? Не знаю. Но если его так не ставить, что, собственно, дает тогда диплом?
Футболисты не станут объясняться в любви тренеру, но если в глубине души они его уважают, то пойдут за ним, за его идеями до конца. Тренер же, неспособный предложить ничего, кроме угроз и высмеиваний, пусть он и знает свой предмет, команду по-настоящему не объединит, крупных успехов ему, по-моему, не видать. Футболисту не только приятно, но и необходимо чувствовать, что он не фишка на учебном макете, а человек, влияющий на положение дел в команде, отвечающий за них, уверенный, что его мнение по крайней мере выслушают. А он изо дня в день сталкивается с тем, что ему не доверяют, прилюдно, при товарищах разносят в пух и прах. Воображая себя единственным, от кого зависит каждая малость, зазнавшийся тренер становится подозрительным, мнительным, сеет раздор. Со временем ему уже не на кого опереться. Все приучены его слушать, а ему нечего сказать, он безнадежно повторяется.
Могут сложиться и другие отношения. Скажем, дельному, но мягкохарактерному специалисту игроки сядут на шею, а поддержать его некому. Он один должен выходить из трудных положений, но не умеет, и все в команде идет шиворот-навыворот.
Приходилось слышать, что нас со старшим тренером «Спартака» Константином Ивановичем Бесковым считают едва ли не идеальной парой. Да, 11 лет мы работали вместе – срок для футбола чуть ли не рекордный. Но ошибется тот, кто наше долгое сотрудничество вообразит безоблачным. Достаточно сказать, что бывало, когда мы с ним почти по месяцу не разговаривали.
Тренерское дарование Бескова не подлежит сомнению. Не помню, чтобы я хоть слово обронил по поводу его методов тренировки, выбора тактических построений. Я не считаю себя особенным знатоком в этих делах, а если бы и считал, все равно полагал бы нетактичным вмешиваться. И в определение состава на матч детально не вникаю, свое мнение высказываю лишь в том случае, если у Бескова возникнут сомнения. В таком смысле его диктат мне представляется естественным.
А вот по поводу отношений руководства команды с игроками мы не раз расходились. Быть может, я человек другого воспитания и обо мне могут отозваться как о несовременном, но я привык видеть в игроке личность, требующую внимания и уважения. Никак не могу принять взгляда Бескова и некоторых нынешних молодых тренеров на игроков как на средство успеха, и только. С давних времен и до сих пор я стремлюсь втянуть каждого спартаковца в общую жизнь команды, внушаю им, что команда – не место службы, а место служения.
Охотно допускаю, что тренеры бывают часто правы в своих требованиях. Но надо щадить и самолюбие игрока, важна и форма, в которой делается замечание. Так уж повелось, что начальникам команд приходится быть чем-то вроде мягкой прокладки между тренером и игроками. Когда удается, когда нет. А лучше бы вовсе не было у них этой «ватной» миссии…
Понимаю, что футбольная жизнь без острых углов невозможна. И все же мы громоздим множество лишних острых углов из-за несовершенства структуры руководства командой.
Я уже упоминал, что в истории советского футбола зафиксирован такой факт: в 1938 и 1939 годах «Спартак» завоевывал и звание чемпиона, и Кубок. Это один из рекордов, который не удалось повторить ни московскому, ни киевскому «Динамо». Да, люди тогда подобрались у нас «запрограммированные» для подобных подвигов: характеры, воители! Перебираю мысленно тот состав и разве что двоих мог бы, да и то условно, назвать слабохарактерными. Тогда приходилось некоторых одергивать: «Побереги темперамент до следующего матча!» К слову, смотря на сегодняшний состав «Спартака», вижу, что по боевитости (не по игровому умению, это едва ли возможно сравнивать) для той команды подошли бы разве что четверо.
Одним из определяющих условий того редкостного успеха я считаю исключительно удачное коллегиальное руководство. Был у нас тренерский совет, куда входили старший тренер (в 1938 году – Константин Квашнин, в 1939-м – Петр Попов), начальник команды, наш ветеран, в прошлом вратарь Иван Филиппов, капитан Андрей Старостин и Петр Исаков – один из тренеров клуба, игрок сборной СССР, имевший прозвище Профессор, наделенный необычайной футбольной интуицией. Председатель совета – автор этих строк. Мы были дружны, обсуждали возникавшие вопросы, в том числе и конфликты, легко и просто, понимали друг друга с полуслова, да и как не понимать, когда были сродни и футболу, и клубу. Старшие тренеры жили как за каменной стеной, они обязаны были готовить игроков технически, тактически, физически, а за моральное состояние команды и за конечный результат отвечал тренерский совет.
Не тот ли это случай, когда хорошо забытое старое может стать новым? Не нужно напрягать воображение, чтобы представить в каждом клубе подобный тренерский совет, обсуждающий все сложные, спорные вопросы. Конечно, в нем должны состоять не эрудиты с улицы, а знатоки, прожившие в футболе жизнь, которым дорога судьба клуба, причем обязательно наделенные правами.
Мы как-то незаметно растеряли клубные традиции. Закончил игрок карьеру, и сразу – как отрезанный ломоть. А за плечами у многих богатый опыт, знания и, главное, готовность оказывать посильную помощь команде. Мы же с ними безжалостно расстаемся…
Мне могут сказать в ответ: а кто вам мешает создать такой спартаковский совет? Верно, никто не мешает. Но я веду речь не о добровольной инициативе, а об общем порядке. Частенько вместо слова «команда» у нас употребляют слово «клуб». Но это не синоним. Нынешние команды лишь сейчас становятся клубами. А должны были бы таковыми быть. Об этом тоже разговор впереди.
Если тренерский диктат в клубной команде имеет местное значение, то диктат тренера сборной страны – общее. В данном случае дело не в фамилии: каждый тренер, приходящий в сборную, чуть ли не в ультимативной форме предъявляет свои требования. Состоят они в том, что годовое расписание всего нашего футбола должно быть приспособлено к нуждам сборной. Если же этого сделано не будет, тренер вроде бы получает право снять с себя ответственность.
Насколько мне известно, нигде такого положения нет, только у нас. Руководители федераций других стран неукоснительно соблюдают прежде всего календарь своих чемпионатов, он – основа футбольной жизни, а сборная получает дни для подготовки и выступлений с таким расчетом, чтобы не нарушалась ритмичность всего чемпионата.
Утверждают, что в других государствах такой порядок чуть ли не вынужденный и продиктован он тем, что профессиональные клубы – коммерческие предприятия, любят считать деньги и интересы сборной ставят на последнее место. Мне этот аргумент кажется неубедительным. Почему мы позволяем себе не считать деньги? Только потому, что на Западе они идут в частные руки, а у нас они государственные? А если государственные, то, значит, разрешено этим пренебрегать? Самое удивительное, что и сегодня, когда клубы уже перешли на хозрасчет, практически никаких изменений в этом плане нет.
На матчи «Спартака» в среднем ходит по 30 тысяч зрителей. Из-за несовершенства календаря ранней весной и глубокой осенью шесть матчей мы порой бывали вынуждены проводить в зале, где может уместиться 3 тысячи человек. Нетрудно прикинуть, что мы лишаемся 162 тысяч зрителей, приобретающих билеты, а они, в свою очередь, лишаются возможности сходить на футбол. С одной стороны – очевидные убытки, с другой – пренебрежение интересами любителей футбола.
Никогда не верил, не верю и сейчас в необходимость долгих совместных тренировок сборной команды. Если у тренеров есть ясное представление о составе, цели и характере предстоящей игры, если они ведут постоянное наблюдение за своими кандидатами, выступающими в чемпионате страны, то зачем собирать вместе на 10 дней по двадцать с лишним футболистов, причем половина так и уедет домой несолоно хлебавши? Нам объясняют, что игроки должны «притереться» друг к другу, почувствовать себя коллективом, «сыграться». Думаю, что это чисто формальный метод работы, а можно выразиться и прямее – перестраховочный, важный больше для отчетности и для будущих оправданий «в случае чего», чем для пользы дела.
В сборной по логике вещей оказываются лучшие мастера, которые не раз выступали вместе, знают друг друга и по-человечески, и по-футбольному. Им может стать трудно только тогда, когда тренеры нежданно-негаданно перемудрят с составом, с установкой на матч или пренебрегут индивидуальным подходом в тренировочных занятиях. Но это уже вопрос тренерской компетенции, и от него тем более не должно зависеть составление календаря на весь год.
У меня было несколько случаев, когда игроки, особенно те, кто догадывался, что вызывают их понапрасну, для проформы, просили сделать что-нибудь, чтобы им остаться в «Спартаке» и не ездить на сборы. Как вы понимаете, потачки им я не давал, но про себя думал: нет, не все благополучно в этом «тотальном» методе.
Прекрасно знаю, испытал в свое время сам, какая честь выступать в сборной страны. Должен заметить, что честь эта приобретается не навсегда, ей нужно соответствовать. В наши дни определить готовность игроков много легче, чем в прошлом: клубные тренеры, тренерский совет, врачи, обследования. А мы и в далекие годы не ошибались, точно знали, кто каков сегодня, отбирали действительно лучших, а не по именам, свято хранили честь игрока сборной, перешагивали через амбиции знаменитостей. Поэтому мне тем более странно, когда собирают в разгар сезона большую группу действующих мастеров и принимаются глубокомысленно изучать, кто годен, а кто не годен. Сейчас не вприглядку, как раньше, не по наитию, а совершенно точно – по анализам, тестам, по записям игровой деятельности – известно состояние любого игрока. Что же бесконечно проверять? На что тратится дорогое время?!
Никто не станет возражать, если сборная выработает особую программу накануне чемпионата мира, когда ей предстоит провести подряд серию труднейших матчей. Но когда сборная регулярно, из сезона в сезон, захватывает себе примерно вдвое больше дней, чем требует реальная необходимость, и выдергивает ради экспериментов из клубных команд вдвое больше игроков, чем требует здравый смысл, это не может не вызывать недоумения.
Ошибки и недочеты страшнее всего тем, что к ним привыкают, с ними смиряются. У некоторых товарищей появляется желание выдать их за неминуемые, присвоив им «титул» характерных особенностей. Мало того, их еще пытаются выдать за достоинства. Постоянно корректируя годовое расписание «под сборную», хвастаются, что нигде в мире так не могут сделать, а мы, видите ли, можем.
Мне не раз приходилось слышать программные заявления такого примерно содержания: «Во всех видах спорта все турниры устраиваются в интересах сборных, так же надо и в футболе». Не стану судить о других видах спорта, но знаю, что футболу с его десятимесячным расписанием, с его обязательствами перед многомиллионными зрителями полагается существовать не по образцу фехтования или гребли, а в своих, разумных, обоснованных, способствующих развитию условиях.
Да и, давайте же говорить прямо, привилегированное положение сборной годами ни к чему не вело, тогда как сборные Италии, Франции, ФРГ имели крупные достижения, несмотря на то что календари чемпионатов этих стран, как и большинства других, учитывают прежде всего интересы клубов. Мне думается, что как раз на крепких клубных корнях произрастают сильные сборные. А мы, оставляя в пренебрежении корни, надеемся поживиться плодами. Замечу как бы в скобках, что в ряде первоклассных сборных с полным успехом выступают «звезды», играющие в клубах других стран и прибывающие домой на день-другой. Меня это не удивляет: они отлично подготовлены в своих клубах, и им не составляет труда без допол нительных тренировок выступить за сборную своей страны. У нас же тезис «Игроки должны всю подготовку, всю проверку проходить в клубных командах» выглядит смешным. Его провозглашают, но не соблюдают.
Считается, что у нас, в отличие от других стран, не существует противоречий между клубными и сборными командами. Согласен. Их не было в годы моей игровой практики. Может не быть и теперь. Просто необходимо, чтобы не было, но с великим огорчением наблюдаю, что противоречия возникают. Они не коренные, их насаждают искусственно. Клубные команды, зная, что они – опора (игроков для сборной находят, воспитывают и готовят они), в то же время ощущают пренебрежение к себе.
Что нужно клубной команде, играющей с 1 марта по конец ноября? Ей нужен ритм. Прошу прощения за скучную материю, но я обязан быть доказательным. Итак, с перерывом по 8 дней у «Спартака», например, в 1985 году было 3 матча, по 9 – 2, по 10 – 4, по 11–12 – 2, по 14 – 3 и в 27 дней – один. Кроме того, 5 матчей – через два дня на третий. 13 матчей прошло, можно считать, в удовлетворительные сроки – на четвертый день. Большую часть чемпионата мы провели вне ритма. Для того чтобы команда находилась в рабочем состоянии, нам пришлось организовать более десятка побочных товарищеских встреч.
Совсем удивительно, что с 13 июля по 10 августа – в самый разгар посещаемости зрителей – мы вообще не участвовали в чемпионате. А нам объясняли: «Это чтобы ваши игроки сборной получили передышку». Нашли время!
Я привел данные по «Спартаку», но представитель любой команды высшей лиги способен выставить аналогичные претензии. В Москве еще полбеды, здесь пять команд и нет ощущения, что футбол «прикрыт». А в других городах? Людям нетрудно потерять привычку ходить на стадион, если они по месяцам не видят афиш о матчах.
Пожалуй, еще хуже был календарь 1988 года.
Я не обвиняю составителей календаря. Им приходится выкручиваться, идти на заведомо негодные варианты. Но, помилуйте, мы так хвастаемся научной обоснованностью чуть ли не каждого шага игрока на тренировке и в игре, а где же серьезные обоснования нашего турнирного режима, можно сказать, основа футбольной жизни?
С 1986 года высшая лига сокращена с 18 команд до 16. Это шаг навстречу нуждам сборной. До 1979 года было уже 16, мы и оглянуться не успели, как стало 18, и никто нам не объяснил, исходя из каких «научных рекомендаций» подобное было сделано. Когда в довоенных, первых наших чемпионатах пробовали различное число команд, такое простительно: мы еще не знали как следует самих себя. Но теперь, спустя полвека, изменения формулы воспринимаются с грустным недоумением как знак того, что порядка в нашем футбольном доме все нет как нет.
Лично я не сторонник сокращения. Мне кажется, что футбол в нашей стране способен на многие приятные неожиданности. Тому доказательство – выдвижение вплоть до чемпионского уровня команд Минска и Днепропетровска. Этим сюрпризам удивляться не приходится, они отражают повсеместно крепнущее умение создавать хорошие команды. Если же их создают силами собственных воспитанников, то и вовсе прекрасно!
Думаю, что, потеряв две команды высшей лиги, мы не наведем порядка. И все по той же причине, что интересами клубных команд будут по-прежнему пренебрегать, диктат тренеров сборной сохранится.
Повторяю еще раз: тренеры должны руководить игрой команд, но не нашим футбольным хозяйством в целом и распорядком. А между тем они «визируют» годовой календарь, что не мешает им потом требовать переноса матчей на другие сроки. Нет, не их это дело.
Есть два основополагающих документа: правила игры и регламент года. На правила никто не замахивается – нельзя, да и бесполезно. Таким же должен быть и регламент – раз и навсегда установленным, обязательным, обоснованным. Тогда футбольная жизнь войдет в русло, а пока она то выходит из берегов, то мелеет до куриного брода. Мы к ней приспосабливаемся с упорством, достойным лучшего применения, тратим силы на всякого рода ухищрения, стараемся выходить с наименьшими потерями из трудных положений вместо того, чтобы вести плановую тренировочную работу, лучшим образом готовиться к выступлениям по расписанию, известному еще с ранней зимы, ритмичному, равному для всех команд.
Надо сказать и о том, что, неоправданно долго находясь в сборной, игроки подвергаются влиянию разностильных методов тренировки (каждый тренер имеет свои упражнения, свои взгляды на режим и отдых), а к этому надо привыкать, если не переучиваться. Скажем, Бесков – сторонник дневного сна между двумя занятиями. Охотно допускаю, что другой тренер не видит пользы от дневного сна. А каково игрокам? Как у Пушкина: «И изумленные народы не знают, им с чего начать, ложиться спать или вставать».
Я издавна поставил себе за правило внимательнейшим образом знакомиться с документами Управления и Федерации футбола, с каждым их решением. Сказал бы так: все тонет в текущих делах, а к кардинальным вопросам годами не подступаются.
Подходит срок участия в розыгрыше европейских кубков. И руководителей команд «заслушивают» – как они готовятся. Извините за резкость, но это же чистейшая «липа». Какая может быть особая подготовка, если для нее просто нет времени? В 1985 году с бельгийским «Брюгге», например, «Спартак» играл после труднейшего матча с киевским «Динамо». А с киевлянами мы встречались на третий день после матча сборных СССР – Ирландия. Тренер съездит посмотреть игру противника, даст указания игрокам в зависимости от увиденного – вот и все, что можно реально успеть. «Заслушивать» бы полагалось другую проблему – почему возможен такой беспощадный график?
МАГИЧЕСКОЕ ЧИСЛО «11»
Вступаю на следующее минное поле. Отдаю себе полный отчет в том, что окажусь уязвимым, но обойти предстоящую тему в серьезном разговоре – значит ничего не сказать. Тема эта – комплектование команд. Вопрос вопросов. Тема сама по себе спорная, копий вокруг нее сломаны горы, в истории футбола накопилась уйма случаев и примеров, которыми можно оперировать с доказательно любой точки зрения. И кроме того, бывало, я сам поступал вразрез с тем убеждением, к которому с годами пришел и которое намерен здесь высказать. Если кто-то попрекнет меня: «А вот вы сами тогда-то!» – и обвинит в непоследовательности или, того чище, в неискренности, я готов поднять обе руки и сказать: «Да, грехи числятся и за «Спартаком». (Я уже предупреждал в самом начале, что не намерен поучать, а хочу вынести на общий суд то, что наболело.) Вообще же не сыскать в нашей среде безупречных людей из тех, кто прикладывал руку к комплектованию команд. Но взаимными попреками мы еще больше замутим воду.
Тренеры любят сетовать на «короткую скамейку», на то, что игроков не хватает. Если игроки собраны как попало, то хоть набей ими троллейбус, все равно далеко не уедешь, все равно скамейка покажется короткой. Я вспоминаю «Спартак» в годы его наивысших успехов (1938–1939, 1956–1958, 1962–1963, 1969–1970, 1979) и вижу прежде всего 11 полноценных мастеров – основной состав. Вместе с ними еще по три-четыре игрока, приходивших, когда было нужно, на помощь. Точно так же обстояло дело в динамовских командах Москвы, Киева, Минска, Тбилиси, в ЦДКА. В футбольном мастерстве количество в качество не переходит, наше число – «11», его мы и должны искать постоянно. Но так искать, чтобы уж ни убавить ни прибавить.
Если же в команде соберется, скажем, 18–20 игроков, равных по классу, тогда, чтобы сохранить добрые, рабочие отношения, надо вводить «скользящий график» их выступлений. Но тренеры, как правило, верят в основной состав, особенно когда игра получается. Вот и разберись, что лучше!
Комплектование команды – искусство. Иногда его выдают за счастливое совпадение, за выигрыш в лотерее. Но так кажется тем, кто наблюдает со стороны и судит о готовом. Фактически же мы, работающие с командами, непрерывно занимаемся комплектованием. Или – доукомплектованием. А есть еще и всем известная «смена поколений». Так что я не помню дня, когда бы на его повестке не стояло вопроса о той или иной кандидатуре, о том, что пора кому-то готовить замену или подыскать на то или иное место игрока получше.
Моя жизнь с мальчишеских лет не знала отклонений. Начав в клубе на Красной Пресне, я прошел через команды «Пищевиков», «Дуката», «Промкооперации», которые, сменяя названия в ту пору, когда в ходу были реорганизации, по сути, оставались одной и той же командой, прародительницей «Спартака».
И потом, уже в другом качестве, я неразлучен все с той же командой. И меня поймут, если я скажу, что мне более всего по душе те футболисты, в которых я вижу своих верных клубных товарищей. Несколько лет назад, когда мы приехали в Воронеж на игру с «Факелом», ко мне подошел Слава Мурашкинцев, мальчиком игравший у нас, и сказал: «Как увижу красные майки с белой полосой, вас, Николай Петрович, так чувствую, что не хочу играть против «Спартака», хоть убей». Я его понимаю.
Многое сделано для того, чтобы каждая команда мастеров могла искать, учить и готовить смену, не выходя за пределы своих владений. Есть и у нас своя, спартаковская школа, рассчитанная на 420 ребят, с директором, завучем, 13 тренерами, администратором. Сказать, что она работает впустую, нет оснований. Г. Морозов, Е. Сидоров, С. Родионов, Ф. Черенков, С. Новиков – воспитанники «Спартака». Прибавьте к ним нынешних московских динамовцев А. Прудникова, Б. Позднякова, армейцев В. Самохина и Д. Галямина, М. Русяева из «Локомотива», В. Мурашкинцева из «Факела», прибавьте других спартаковцев, находящихся в командах первой и второй лиги, и получится, что эффективность не такая уж низкая.
Не могу похвалиться (а как бы хотелось!), что школа постоянно у меня в поле зрения. Из газет я узнал, что в юношескую сборную страны взят тогда 17-летний спартаковец Шалимов. Ни Бесков, ни я, к великому своему стыду, этого юношу не знали. (Сейчас он у нас в основном составе.) Можно бы сослаться на занятость, нехватку времени, разъезды, как обычно ссылаются руководители команд, едва речь заходит о школах. Но истинное несчастье в том, что все мы сориентированы на поиски игроков не в своих, а в чужих владениях.
Готов пойти, что называется, на «вы». Вообразим, что открылась возможность завтра перевести в «Спартак» Добровольского из столичного «Динамо», Гоцманова из минского, Демьяненко, Бессонова, Михайличенко, Беланова из киевского. (Иногда полезно какое-либо предположение довести до абсурда, тогда виднее его беспочвенность.) К чему приведет такая фантазия? Прежде всего бросается в глаза то, что, обогатив «Спартак», мы губим на корню сразу три сильные команды. Создаем сезона на два, на три команду привилегированную, которая одна верховодит, вызывая к себе завистливое отношение, вроде ЦСКА в хоккее с шайбой. Упраздняем в чемпионате дух острого соперничества, без чего немыслима спортивная жизнь. Воцаряется вакуум, застой, и публика теряет интерес к происходящему.
Кто выигрывает? Сборная? Сомневаюсь. Обстановка заведомого преимущества расслабляет игроков если не физически, то морально. Спартаковские руководители, может быть, какое-то время и будут ходить с выпяченной грудью, но кто их примет всерьез, если известно происхождение их успехов? В конце концов, как и в любом другом роде деятельности, удовлетворение в футболе приносит сознание, что ты поработал на совесть.
Выцарапать, нахапать готовеньких игроков – удел и утешение посредственностей, а воспитать, выдвинуть, предъявить миру никому не известных – знак талантливости тренера и тех, кто его поддерживает, знак настоящей работы.
«Спартаку» есть кем гордиться. Я мог бы назвать фамилии многих заслуженных мастеров спорта, восьмерых обладателей золотых олимпийских медалей, трех чемпионов Европы. По представительству в первой сборной начиная с 1952 года наш клуб идет вслед за киевским «Динамо». И самое приятное для меня, что большинство знатных людей «Спартак» либо вырастил с малолетства, либо открыл и помог им стать мастерами.
Знаменитый олимпийский состав 1956 года: Н. Тищенко, М. Огоньков, А. Масленкин, А. Парамонов, И. Нетто, Б. Татушин, А. Исаев, Н. Симонян, С. Сальников, А. Ильин – все они обязаны «Спартаку» не в меньшей степени, чем он им. И они это знали и знают, оставаясь преданными своему спортивному обществу.
И позже я испытывал удовольствие, видя в форме сборной СССР Ф. Черенкова, Г. Морозова, С. Родионова, которых помню мальчишками в спартаковской форме. Радуюсь за Р. Дасаева, В. Сочнова, Е. Кузнецова, С. Новикова, С. Шавло, Г. Ярцева, В. Хидиятуллина, О. Романцева, в «Спартаке» вышедших в люди из футбольной безвестности.
В этом месте, пожалуй, стоит обратиться к истории о том, как «Спартак» в 1976 году потерял место в высшей лиге и как в нее вернулся год спустя. Историю эту не обойдешь молчанием – она навсегда вошла в спартаковскую хронику. Но важнее то, что ее уроки не лишне учесть всем причастным к футбольной практике.
В 1975 году, как все, должно быть, помнят, общее внимание было привлечено к киевскому «Динамо», игравшему с громким успехом, награжденному Кубком кубков, Суперкубком и званием чемпиона страны. Наш «Спартак» оказался в тени, он занял всего-навсего 10-е место, для него непривычное. Но если взгляды общественности, болельщиков были обращены к Киеву, где, кстати говоря, тогда почти в полном составе формировалась сборная страны, выступившая тоже успешно, то руководители общества «Спартак» и профсоюзные организации не прошли мимо нашей неудачи.
Удивлять это не должно. Я хорошо помнил, не забываю и до сих пор, как в 1963 году мне, начальнику команды, и старшему тренеру Николаю Гуляеву были объявлены выговоры за то, что «Спартак» стал вторым призером, а не чемпионом, как за год до того. Надо заметить, что в том, 1963 году «Спартак» взял еще и Кубок СССР. Тем не менее итоги сезона были расценены чуть ли не как провал. Что и говорить, читать приказ с взысканием было малоприятно (я его храню в своем архиве). Но, по крайней мере, мы сознавали, как высоко котируется наша команда. А тут 10-е место! Да еще после того, как в предыдущем чемпионате «Спартак» был вторым призером.
И осенью 1975 года было решено «омолодить руководство команды». Нам с Гуляевым намекнули, что «пора отдохнуть». Мы, разумеется, тут же подали заявления с просьбой освободить от должности.
Руководство омолодили. Начальником команды был назначен Иван Варламов, старшим тренером – Анатолий Крутиков, тренером – Галимзян Хусаинов. Все – спартаковцы, в прошлом хорошие футболисты. Это и было принято во внимание при назначении. Не учли только того, что авторитет игрока не равен тренерскому авторитету. Случай характерный, даже заурядный, так не раз бывало и в других командах, когда хорошего игрока, человека «своего» счи тали по одному этому признаку способным стать у штурвала. В основе таких скороспелых назначений, как мне представляется, лежит не слишком большое уважение (не в открытую, а втайне) к тренерской профессии: почему-то полагают, что умения играть для тренера достаточно, а остальное – набежит, приложится.
Мне отвели должность заведующего отделом футбола в городском совете «Спартака», я ведал командами, выступающими в чемпионате Москвы, работой детско-юношеских школ. Мастера в мой круг обязанностей не входили. Да и было известно, что Крутиков против моего участия в делах команды.
Не заладилось у «Спартака» и в сезоне 1976 года. Тогда разыгрывали два чемпионата – весенний и осенний. В весеннем «Спартак» остался на 14-м месте (при 16 участниках). Сигнал был крайне тревожный, но его пропустили мимо ушей.
Хотя дитя и криво, но матери и отцу мило. Каюсь, отвернуться от команды я был не в силах, душа болела. Мог я мало, только исподволь старался повлиять на игроков, побуждая их помнить о чести «Спартака». Не до обиды: исправно посещал все матчи, наблюдал издали за тренировками.
Не намерен ворошить старое, обвинять молодых руководителей, неожиданно для них самих оказавшихся во главе именитой команды, да еще в трудный момент. Но разобраться в причинах их неудачи считаю полезным.
Более всего подводила Крутикова чрезмерная самоуверенность. Создавалось впечатление, что он решительно настроен произвести реорганизацию с помощью одного лишь топора. И началась, как обычно в подобных случаях, чехарда с составом, что дается легче всего. Пошли рискованные замены и перестановки без необходимых в такой ситуации осторожности и такта. Казалось, что старший тренер, не желая никого слушать (вот он, диктат!), вознамерился одним махом преобразить «Спартак», сотворить что-то вроде чуда, благодаря чему сразу показать себя сильной личностью, утвердиться в числе лучших тренеров страны. «Спартак» сделался как бы ставкой азартного, слепо верящего в удачу человека. И ставка эта была бита.
Под конец осеннего чемпионата только и было разговоров: «Уцелеет ли «Спартак» в высшей лиге или вылетит?» Да и как не поговорить – ситуация небывалая. Это потом гораздо спокойнее отнеслись к путешествию в первую лигу другого именитого клуба – ЦСКА, можно сказать, по проторенной дорожке, после нас. А тогда многими это воспринималось как потрясе ние основ. В последних турах, как в шахматной партии, «комментаторы» обнаружили 14 (!) вариантов спасения. Принимались в расчет результаты не только «Спартака», но и ряда матчей других команд. Напомню, что «Спартак» в итоге набрал 13 очков и остался предпоследним, тогда как у пяти команд было по 14 очков. Немудрено, что все висело на волоске. Однако «сыгран» был 15-й вариант, при котором все наши туманные шансы испарились. Как нарочно! Не имею права утверждать, но исход нескольких матчей казался мне нарочитым, словно кому-то из озорства хотелось узнать, а что будет, если «Спартак» – сам «Спартак»! – потеряет место.
Не скрою, тут же нашлись болельщики, которые пытались ходатайствовать, чтобы «Спартак» сохранил место в высшей лиге с помощью реконструкции чемпионата, благо аналогичные ситуации в прошлом возникали. Например, в 1967 году последним остался «Зенит» и ради него высшую лигу расширили с 19 до 20 команд. Я был среди тех, кто такие попытки не поощрял: доброе имя послаблениями и милостями не поддержишь, ронять достоинство не хотелось. Мы хоть и не знали тогда толком, что из себя представляет первая лига, но решили, что предназначенный путь полагается пройти.
В это взбаламученное, нервное время заявился ко мне человек, которого я видел первый раз в жизни (запамятовал уж, в каком городе он проживает), и без церемоний объявил следующее: «Из первой лиги вам самим без помощи не вернуться, застрянете надолго. Я гарантирую возвращение сразу, через год. Вы мне даете московскую прописку, трехкомнатную квартиру и на нужные расходы – сорок пять тысяч». Вот так, ни много ни мало. Я выпроводил прохиндея. А вспомнил об этом для того, чтобы читатели лучше представили, что творилось вокруг «Спар така».
Страсти страстями, а работа работой. Кому быть тренером? Есть хирурги, отваживающиеся на операцию, от которой отказались другие. «Спартаку» в тот момент нужен был именно такой человек. Не скажу, чтобы команда была погорелым местом, но капитальная перестройка была совершенно необходима.
Мой брат, Андрей Петрович, назвал Константина Ивановича Бескова. Тот как раз находился не у дел, в опале, как и я, сидел в служебном кабинете за письменным столом и ведал футболом в обществе «Динамо». Он согласился. И попросил, чтобы на должность начальника команды вернули меня. Ну а мне во всем, что касается интересов «Спартака», раздумывать и выбирать не приходится.
О нас говорили: «Два медведя в одной берлоге», предрекая несовместимость. Верно, поначалу мы поглядывали друг на друга выжидательно. Ведь незадолго до того, когда мы с Бесковым занимались в олимпийской сборной, у нас нет-нет да и случались шероховатости.
Кое у кого размолвки сидят в памяти, как занозы, но Бесков, придя в «Спартак», на прежнем поставил крест, и я в этом увидел его тренерский профессионализм: дело, которое нам предстояло, требовало полного единодушия.
Мне приходилось работать рука об руку со многими тренерами, я имею возможность сравнивать. Очень скоро стало ясно, что Бесков необычайно точно соответствует той роли, какую ему предстояло сыграть в полуразрушенном «Спартаке».
Он из тех тренеров, которые знают, чего хотят, и неуклонно, упорно идут к намеченному. Цель – вернуть «Спартак» в высшую лигу – для него была и проходной, и попутной, само собой разумеющейся. На его месте другой тренер, весьма вероятно, планировал бы только возвращение, и неизвестно, решил ли бы эту ограниченную задачу. Бесков с самого начала задумал создать команду, которая смогла бы выйти на первые роли. У него есть своя шкала требований к игроку, я бы сказал, к «игроку его мечты». И к командной игре тоже. Его любимое выражение: «Этого требует футбол завтрашнего дня». Иными словами, он работает с перспективой. И наконец, Бесков имеет вкус к занятиям с молодыми, веру в них.
«Спартаку», естественно, нужны были новые игроки. Где их взять? «Перехватить» кое-кого из известных? Это был принципиально важный для нас вопрос. Думаю, если бы мы смалодушничали и принялись гоняться за именами, того «Спартака», каким он стал года два спустя, нам бы не создать.
Георгия Ярцева, форварда, быстрого и поворотливого, Бесков приметил в команде Костромы во время январского турнира в нашем манеже. Было ему 29 лет, но нас это не смутило – бомбардир был необходим.
Вратаря Рината Дасаева из спартаковской команды второй лиги Астрахани нам рекомендовал тренер Федор Новиков, помощник Бескова.
Полузащитника Сергея Шавло Бесков приглядел весной в Сочи в «Даугаве». Оказалось, что им там не очень довольны, определили центрфорвардом, а он забивал не часто. Тренеры «Даугавы» любезно разрешили мне переговорить с Шавло и дали согласие на его уход.
Юрия Гаврилова Бесков знал как динамовец динамовца. Места этому прирожденному диспетчеру в основном составе не находилось, и руководители «Динамо» по нашему ходатайству разрешили Гаврилову переход к нам.
Были у нас в «дубле» 18-летние Вагиз Хидиятуллин и Валерий Глушаков. Вернули уехавшего было обратно в Красноярск защитника Олега Романцева. Это сегодня их фамилии, что называется, звучат. А тогда я слышал со всех сторон: «Неужели вы надеетесь с «этими» вернуться?»
Мне особенно хотелось бы подчеркнуть, что в возвращении уже в 1978 году «Спартака» в высшую лигу и в том, что в 1979 году он стал чемпионом страны, нет и намека на ворожбу, на необычайное везение. Кудесниками мы не были, добросовестно и напряженно трудились в меру своих знаний и умения. «Спартак», бывало, поколачивали и в первой лиге, а в год возвращения в высшую весь первый круг он тащился еле-еле, среди замыкающих, и только во втором круге разыгрался, привлек симпатии аудитории и занял неплохое место – пятое.
Год в первой лиге я вспоминаю с удовольствием. Наша команда росла и мужала в обстановке интереснейшей турнирной борьбы. Занять первое место нам помогло, я думаю, наше преимущество в тренерском опыте. И еще сказывалось то, что в составе наряду с новичками находились игроки, прошедшие школу высшей лиги, – Е. Ловчев, А. Прохоров, В. Гладилин, В. Букиевский, В. Самохин, Е. Сидоров, М. Булгаков, А. Кокорев. Мы не выглядели на голову выше остальных команд лиги, но это даже к лучшему: постепенности в освоении игрового класса я больше доверяю, чем внезапному взлету.
С тех пор к первой лиге я отношусь с полным уважением. Быть может, очутиться в ней такому клубу, как наш, и несчастье, но ни в коем случае не позор. По организации турнир не уступает высшей лиге, превосходя ее в неизменности расписания. В ней меньше ажиотажа, склочных явлений, я бы выразился так – ее футбольный воздух чище. Тому сезону я обязан тем, что смог познакомиться с футболом в местностях, мне прежде неизвестных, и знакомство по большей части радовало. И к «Спартаку» повсюду проявляли интерес не меньший, чем в высшей лиге, что, конечно, нас ко многому обязывало.
Некоторые авторы – и специалисты, и журналисты – писали, что «Спартак» вернулся из первой лиги в высшую не просто окрепшим и омоложенным, но и с новыми тактическими идеями, свежо прозвучавшими в тот момент, когда в нашем футболе образовался застой. Я уже предупреждал, что в вопросах такого рода к тонким экспертам себя не причисляю. Но как ответственный за работу с людьми обязан засвидетельствовать, что комплектование команды было проведено в основном верно. Молодые безвестные игроки рвались себя зарекомендовать, раскрыть свои способности, приглашенных «звезд» и сопутствующих им душевных недугов у нас не было. Вскоре на той же закваске поднялись и влились в команду Родионов, Черенков, Морозов, Поздняков, Сочнов, Новиков, Е. Кузнецов.
Совершали мы и ошибки, брали некоторых без должной проверки, а потом наступала разлука без печали. Ошибок такого сорта, конечно, должно быть поменьше, хотя свести их к нулю вряд ли возможно в команде мастеров, да еще желающей состоять в лидерах.
Были ли обижены нами команды высшей лиги? За девять сезонов три перехода, имевших резонанс, – С. Швецова из «Зенита», А. Бубнова из московского «Динамо», Пасулько из «Черноморца».
О Бубнове скажу, что он в лучшем смысле слова фанатик футбола. Будь таких побольше, мы продвинулись бы далеко вперед. К примеру, он не раз оставался на базе в Тарасовке, когда другие уезжали домой, ради того чтобы потренироваться вместе с группой молодых, проживающих там в общежитии. У него всегда и во всем на первом плане ответственное служение футболу и интересам команды.
И вот у такого целеустремленного, необычайно стойкого, упорного человека накопились размолвки с некоторыми руководителями команды московского «Динамо», да вдобавок еще и с рядом игроков. И он решил уйти. Решил настолько твердо, что не поддавался никаким уговорам. Он хотел играть в обстановке, где бы ему ничто не мешало. И подал заявление о переходе в «Спартак», как я понимаю, единственно по той причине, что верил в Бескова как в тренера. Бубнов пропустил два сезона, пошел на немалые жертвы, лишь бы настоять на своем. В конце концов после многократных разбирательств разрешение на переход ему было дано.
Спору нет, «Спартак» получил полезного игрока, да и самому Бубнову переход пошел на пользу: его после долгого перерыва привлекли в сборную страны.
В этом случае я не усматриваю какой-либо вины со стороны «Спартака». Решающее значение имело волеизъявление игрока, он с таким же успехом мог пойти в «Торпедо» или ЦСКА, но сам выбрал «Спартак». Мы его не «сманивали», да и не такой он человек, чтобы жить чужим умом.
Думаю, что этот переход и по-человечески, и по-спортивному был достаточно мотивированным, и жаль, что он чересчур затянулся, перерос в столкновение амбиций. Уверен: если бы кто-то из спартаковцев проявил такое же нежелание оставаться, мы бы ему не мешали. Готов подтвердить это примером. Наш воспитанник, хороший защитник Б. Поздняков, уже привлекавшийся в сборную, решил уйти из «Спартака». Делать нечего, пришлось согласиться, и он без малейших осложнений получил право на переход в московское «Динамо».
Что касается случая со Швецовым, то я едва ли смогу объяснить его удовлетворительно. Но я предупреждал, что практика переходов настолько несовершенна, что иной раз вынуждает отклоняться от принципов ради спортивных выгод. Прятать голову под крыло подобно страусу я не намерен, расскажу все, как было, тем более что у этого случая есть поучительный смысл. Итак, тренеру Константину Бескову юный форвард Швецов, высокий, стройный, с мягкой техникой, приглянулся, когда тот играл в дублирующем составе кутаисского «Торпедо». Но Швецов неожиданно перешел в «Зенит». Бесков продолжал в воображении видеть его центрфорвардом «Спартака», считая, что он сумеет придать нашим атакам результативность.
Мне приходилось работать с тренерами Н. Гуляевым и Н. Симоняном. Они оба ограничивались тем, что просматривали игроков, приезжавших с предложением своих услуг. Бесков в этом отношении тренер другого рода – он внимательно следил за многими игроками и как бы примерял, кто из них особенно подойдет его команде.
Короче говоря, были предприняты усилия, чтобы добиться согласия Швецова. Парень внял уговорам и приехал в Москву. «Зенит» тогда еще не взял чемпионского курса, а перспектива играть в «Спартаке» для молодого форварда выглядела заманчивой. Разразился скандал, в ленинградских газетах появились фельетоны. Определенные основания для них существовали: далеко не все требования инструкции о переходах были соблюдены. Так или иначе, Швецов остался в «Спартаке».
В чем же поучительный смысл? Прежде всего в том, что мы поступили согласно расхожему выражению: «Сначала возьмем, а там разберемся». В этот, с позволения сказать, афоризм я не верю, всегда считал, что надо семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Но меня убеждали, что так поступают все, говорили даже, что «с волками жить – по-волчьи выть». Скоропалительная акция, как вскоре выяснилось, ожидаемого эффекта не дала. Оказалось, что при всех технических достоинствах Швецов не наделен тем характером, который требуется острому форварду. Его даже стали пробовать у нас в роли защитника.
Этот случай еще больше укрепил меня в убеждении, что игрока надо привлекать и в соответствии с существующими правилами, и после взыскательного знакомства, а не как кота в мешке. Но тогда должен быть разработан в инструкции о переходах особый пункт о стажерстве, гласящий, что команды, участ вующие в розыгрышах европейских кубков, имеют право дополнительно приглашать игроков с испытательным сроком. Это и практически обосновано, и позволило бы не допускать ошибок. Футболисты, по разным причинам не нашедшие себя в новых коллективах (как, например, получилось с В. Грачевым из «Шахтера»), могли бы возвращаться в прежние команды.
Я не разделяю весьма распространенной точки зрения, что советскому футболу необходимы суперклубы для успешных выступлений в розыгрыше европейских кубков с огульным правом брать любых игроков даже из команд высшей лиги. Это нанесло бы непоправимый вред тем командам, которые потеряли бы свои лучшие, воспитанные ими кадры.
Кроме того, в последние годы мы убедились, что понятие «ведущая команда» перестало быть постоянным. В свое время никто и не думал посягать на главенство московского «Динамо», ЦДКА, «Спартака», тбилисского «Динамо». Однако потом выдвинулись «Торпедо», киевское «Динамо». Стали говорить о «большой шес терке», ее только и признавали. И футболисты в этих командах состояли самые лучшие, и сборную вроде бы достаточно снабжали. Но затем годы безвременья пережил «Спартак»; на грани между высшей и первой лигами балансировали московское «Динамо» и ЦСКА (кто бы предположил такое лет пятнадцать назад!); долго не могло собраться с силами «Торпедо»; в расстройстве тбилисское «Динамо»; даже наиболее внушительное и стабильное киевское «Динамо» иногда давало сбои – два сезона подряд обреталось в скромной серединке.
Свято место пусто не бывает. Выдвинулись, и с достаточными основаниями, минское «Динамо» и «Днепр».
Сегодня никакая не фантастика – представить, что вдруг чемпионом станет, скажем, «Жальгирис». Команда из Вильнюса, запасшаяся силами еще в первой лиге, как я считаю, украшает ныне наш чемпионат своей непохожестью ни на кого. Она обладает прямо-таки пугающей соперников невозмутимостью и незаурядным игровым классом. И заметьте, поднялась целиком на собственных кадрах, растит и резервы. А какое хорошее впечатление оставляла культурная игра рижской «Даугавы»! Я даже порадовался, что форвард Милевский, стажировавшийся в «Спартаке», вернулся восвояси и так удачно, свободно работал в родной команде.
Приятно, что ленинградский футбол встал на ноги и выдвигает одного за другим способных молодых мастеров, и очень жаль, если текущий сезон 1989 года окажется для «Зенита» неудачным.
Решительно не согласен с теми, кто полагает, что если чемпион не из «большой шестерки», то это означает, что наш футбол «докатился». Выдвижение команд, прежде державшихся скромно, даже робко – лишь бы уцелеть, напоминает мне извержение вулкана, когда наружу, как лава, вырываются потаенные, до поры до времени дремавшие силы. Организация сильных команд стала делом доступным, ее механизм, ее условия познаны. И надо только радоваться, что тесный кружок «избранных» разомкнут, что, как принято говорить, география большого футбола расширяется.
А тенденцию к такому расширению я наблюдал на протяжении всей своей жизни. Сначала Москва и Петроград. Потом к ним присоединились Харьков, Киев, Одесса. Потом Тифлис. В «хоровод» включались все новые и новые центры.
Эту прогрессивную тенденцию, мне кажется, не все еще осмыслили и признали, что проявляется особенно наглядно именно при комплектовании команд. (Как видите, от темы я не ушел.) В пору моей юности говорили о судебном процессе – «громкий». А сейчас, кажется, нет ничего громче, чем иные дела о переходе футболиста из одной команды в другую.
Внешние приличия соблюдаются, президиум федерации утверждает переходы, которые предварительно рассматривает спортивно-техническая комиссия (СТК). Надзор словно бы существует, в помощь придана и инструкция. Правда, инструкция о переходах удивительно часто претерпевает изменения; бывало, что несколько раз за год, так что и не уследишь. Да и в самом сезоне, после утверждения составов, вдруг с изумлением обнаруживаешь в той или другой команде игрока, которого там прежде не было, и про себя решаешь, что, вероятно, прозвучал «звонок», после чего и последовала «дозаявка». Уж по крайней мере, оповещали бы нас в газетной хронике с указанием мотивов. Как бы то ни было, высшие футбольные инстанции стараются, как могут, за порядком следить.
Меня тревожит и задевает другое. Переходы игроков случались, насколько я помню, всегда. Было время, когда они носили добропорядочный характер, все необходимые переговоры шли в открытую, превыше всего ценилось желание человека, его согласие. В конце концов, меняют же место службы по серьезным, уважительным причинам люди любых профессий! Почему у футболиста не могут сложиться обстоятельства, требующие перехода в другую команду? Жизнь есть жизнь, футбол ее частица, даже нет смысла перечислять возможные ситуации.
Теперь же появилась «селекция» (не люблю это слово в применении к футболу) и специальные тренеры-«селекционеры». Втихомолку, за спиной руководителей команд, втайне от общественности (а втайне потому, что «селекционеры» прекрасно знают, что вершат неправедные дела), едва где-то объявится мало-мальски способный парень (иногда по слухам, не убедившись воочию), они начинают охоту. Посулы нешуточные: квартира, машина, поступление в институт, поездки за рубеж, продвижение в сборную. Чем же все это оборачивается? Такого сорта «селекция» хищнически разваливает футбол на периферии, отбивает вкус к работе в специализированных школах. Берут пять юношей, зная, что требуются всего два (как бы другие команды не опередили), сажают на лавочку, годами томят в дублирующем составе и отпускают, когда их способности растаяли в бездействии ожидания и они теряют интерес к своему будущему, вдобавок чувствуя себя обманутыми. Футбольную жизнь, до обидного короткую, трудно начать заново, ее не переиграешь, и тем бережнее следует относиться к молодым. Но «селекционеры» и те, кто их «наводит», к судьбам молодых игроков глухи; они «запасаются», а что из этого выйдет – не столь уж важно. Никогда не смогу разделить взгляда, ставшего в последние годы распространенным, что футболисты – материал, с которым не обязательно церемониться. Уверен, что не один способный игрок пропал втуне из-за такой «селекции».
Что этому можно противопоставить? Инструкция, слушания в СТК и на президиуме федерации помогают лишь отчасти.
Стало привычным наказывать футболистов, польстившихся на посулы. Те же, кто мутит воду, остаются неназванными, в сторонке, точь-в-точь как крыловский кот Васька. Не спорю, молодой человек, сбежавший втихомолку из своей команды, обманувший всех, должен быть призван к ответу. Но ведь ни для кого не секрет, что ему заморочили голову, пообещали в случае чего выручить, внушили, что как законы, так и требования порядочности можно обойти. И существует целый штат такого сорта дельцов, ведущих, по сути дела, подрывную работу в нашем футболе.
Бывает, игрок просто и честно выразит желание перейти в другую команду. Что за этим следует? Автоматически на него составляется «телега», читая которую диву даешься: как же такого распущенного человека держали в коллективе? И большей частью обвинения подтасованные. Тем не менее срочно принимается решение с требованием о дисквалификации, сквозь которое просвечивает немудреное желание отомстить. Это ли не аморально?
Я думаю, нам необходимо ввести в правило объективный, тщательный и обязательно гласный разбор наиболее спорных ситуаций, выявляющий истину и всех виновных. Почему бы не привлечь и юристов, чтобы они дали профессиональную, компетентную оценку происшедшему? Когда-то нам было достаточно судить по спортивной совести. Сейчас для установления порядка в футбольном сообществе мало ориентироваться на инструкции, которые мы же сами пишем, необходимо опираться на государственную законность. Мне известно, что в западных профессиональных клубах многие стороны их деятельности находятся под контролем юристов. А наш правопорядок осуществляется по принципу – кому что взбредет в голову, по-любительски.
Слишком на виду наш футбол, слишком внимательно следят за ним миллионы глаз, причем в основном молодежи, чтобы позволительно было принимать решения опрометчивые, расплывчатые, неубедительные, вызывающие иронические улыбки. Футбол не просто закаляющая игра и увлекательное зрелище, он несет в себе воспитательный заряд. И не только с поля доходит его влияние на людей, но и из сообщений или слухов о том, как мы вершим свои дела. Слухов гуляет очень много, и это наша слабость: информируем мы свою аудиторию чересчур скупо, а то и отмалчиваемся. Без правдивой, смелой информации порядка не наведешь.
Однако, сказав все это, я не забываю, что команды должны постоянно пополняться свежими силами. И отдаю себе отчет в том, что из одного Сокольнического района Москвы, где расположены наша историческая Ширяевка и новый крытый манеж, такая команда, как «Спартак», которой полагается бороться за звание чемпиона страны, встречаться с лучшими клубами Европы в официальных турнирах и воспитывать игроков для сборной страны, не может по лучить всех необходимых ей резервов. И даже школа не способна полностью удовлетворить наши запросы. Нужны же добросовестно обученные ребята, но обязательно с искрой божьей. Кроме того, «Спартак» ежегодно провожает группу молодых на службу в армию.
Значит, комплектование с помощью приглашенных игроков остается в нашей практике. Может быть, когда-нибудь, при идеальных условиях, нужда в нем отпадет. Но пока на какой-то срок оно останется.
О таком важном деле лучше думать сообща. Со своей стороны, еще раз подчеркну, что во главу угла должно быть поставлено открытое и честное волеизъявление футболиста.
Приемлем был бы обмен. Мне вспоминается такой случай. «Спартаку» нужен был центрфорвард. Приглянулся нам совсем тогда молодой Юрий Севидов, находившийся при отце, тренере Александре Александровиче Севидове, в минском «Динамо». Порешили мы с ним тогда так: Юрий едет к нам, а в минское «Динамо» направляется группа игроков из нашего дублирующего состава – Э. Малофеев, Л. Адамов, И. Ремин, Ю. Погальников. Не имеет значения, кто тогда выиграл, кто проиграл, дела давно минувших дней. Младший Севидов помог «Спартаку» стать чемпионом в 1962 году, а бывшие спартаковцы, выросшие в хороших мастеров, помогли минскому «Динамо» сделаться третьим призером в 1963 году, что тогда для этой команды было огромным успехом.
Мне кажется, команды высшей лиги могли бы получить свои регионы, где они имели бы преимущественное право на отбор даровитых игроков. С сожалением вижу, что столичные команды потеряли интерес к футболу Московской области, а в свое время оттуда вышло немало «звезд» во главе с Г. Федотовым. Да мы часто не видим того, что близко лежит. Б. Кузнецов был отчислен из ЦСКА за ненадобностью, предложил свои услуги «Спартаку» и на месте свободного защитника оказался для нас находкой.
А бесцеремонным закулисным методам необходимо положить конец. Нам всем не может быть безразлична моральная атмосфера футбола. Убежден, чем она чище, тем больше вероятность, что класс и успехи наших команд будут расти.
Доброе имя футбола
Как-то раз заглянул ко мне домой Всеволод Михайлович Бобров. Посидели мы с ним за чаем, как водится, обсуждая футбольные дела. И в ответ на мои рассуждения о том, чем надо бы помочь футболу, он вдруг со вздохом произнес:
– Наивный вы человек. Все на честный футбол опираетесь, а теперь такое бывает!.. Не хочу и рассказывать, вас огорчать…
Ничего больше он не прибавил, но его вздох мне запомнился.
Слухи издавна роятся вокруг футбола. Жизнь наша проста, но в глазах болельщиков она выглядит то загадочной, то романтической, то приключенческой. Я привык ко всяким россказням и небылицам и слушаю их не удивляясь и не обижаясь: в общем-то люди делают нам честь своим вниманием и выдумками, подчас ребячески-наивными и трогательными.
Однако слухи слухам рознь. Когда вдруг слышишь на трибунах или в метро реплику о том, что вчерашний матч, закончившийся вничью, был «договорным», становится не по себе. Пусть бы говорили что угодно, только не это. Можно стерпеть, когда рассказывают, что видели одного мастера в подпитии (вероятность такая есть), другой в компании проклинал тренера своей команды, третий каждый год требует сменить квартиру под угрозой перехода в другую команду. Или еще что-либо в том же духе. Семья не без урода, и газетные фельетоны о художествах иных футбольных «звезд» не редкость.
Но «договорные» матчи – тень уже не на отдельных футболистов: в глазах общественности ставится под сомнение сам футбол, его добропорядочность, его доброе имя. И это мало того что оскорбительно, еще и крайне опасно для благополучия всего нашего дела.
Слухов на эту тему предостаточно. Правда, я склонен считать их преувеличенными, они обрастают как снежный ком. И возникают, как отрыжка маниакальной подозрительности у некоторых тренеров и спортивных деятелей. Обжегшись на молоке, они дуют на воду, им мерещится то, чего иногда нет и в помине. Мне приходилось наблюдать, как игроков обвиняли сгоряча, безвинно, после чего они лучше себя не чувствовали в команде и лучше не играли.
И все же футбол наш не без греха. Да и нужны ли доказательства, когда у нас 10 лет действовал лимит ничьих? Напомню, что ввели его после чемпионата 1977 года («Спартак» тогда был в первой лиге), в ходе которого чуть ли не половина матчей закончилась вничью, и не из-за немощи, а из-за старания тренеров без хлопот и испытаний устроить полюбовно свои турнирные делишки. В том году миролюбие ловчил достигло своего предела, наш футбол попал в полосу штиля. Не случайно сборная в ту пору не могла пробиться в финальную часть как чемпионата мира, так и чемпионата Европы.
Лимит ничьих я одобрял. Он, по моим наблюдениям, в свое время подействовал отрезвляюще, ограничил возможности соглашений. Могут сказать, что очки делятся между командами и по-другому: каждой – по победе на своем поле. Но это труднее, любое поражение нечто вроде «красной карточки». А ничья – «желтая карточка», она не влечет за собой последствий. Руководителям команды общественная выволочка не грозит.
Когда же кивают на то, что команды безупречного поведения страдали, перевыполнив лимит, следует не обижаться, а задуматься: почему это происходит? Больше чем уверен, что перевыполнение «плана» по ничьим свидетельствовало об игровых несовершенствах команды. В чемпионате 1985 года и «Спартак» столкнулся с лимитом. Не вижу здесь ни невезения, ни несчастливого стечения обстоятельств, просто нашу атаку соперники научились сводить на нет.
Лимит лимитом, но большей пользе делу, мне думается, послужило бы предметное и строгое расследование хотя бы одного «договорного» происшествия со всеми вытекающими выводами и последствиями. Показательное расследование, как это сделали в Чехословакии. Не хочу верить, что напасть прочно укоренилась, и сильный щелчок по носу мог бы одних устрашить, а других заставить одуматься.
По моим представлениям, честность – одно из непременнейших требований в любом деле.
У меня в голове не укладывается, как можно руководить командой после того, как однажды перед матчем скажешь игрокам: «Сегодня отдаем очко». Выбита из-под ног принципиальная платформа, ты вступил в нечестный сговор, и, что бы ни говорил после этого, слова твои пусты.
У нас футболом занимаются в основном честные люди, но, как мне кажется, их не организовали, не мобилизовали на борьбу за чистоту моральной атмосферы в нашей спортивной жизни. Все мы разбросаны по спортивным обществам, по командам и заодно, сообща, не выступаем и не действуем. Не помню, чтобы состоялось «отраслевое» закрытое собрание. А поговорить нашлось бы о чем.
Немало огорчает меня, когда вижу, что между командами завязываются напряженные отношения. Иногда создается впечатление, что к матчу готовятся не с желанием переиграть, превзойти, а с желанием доказать что-то еще, помимо футбола. Постоянное соперничество – дело суровое, от него не уйти. Скажем, «Спартак» на протяжении десятилетий числил своим главным конкурентом сначала московское, позже киевское «Динамо». И всегда об этом помнили и руководители, и игроки. Такова спортивная жизнь. Но мне всегда казалось, что с конкурентами у нас больше общего, чем противоположного. Во всем – в распорядке, в труде, в переживаниях. И нас, и их одинаково подстерегают трудные дни. Слушаешь на досуге сетования представителя другой команды, и словно бы он о твоем «Спартаке» ведет речь…
Откуда же недоброжелательность, излишняя напряженность? Могу понять, если тренерский состав и сама команда страстно хотят доказать свою правоту в тактическом истолковании игры, блеснуть техникой, самолюбиво считая себя выше соперника, взять реванш за прошлое поражение. Но если натянутость основывается на том, что тренеры двух команд не подают друг другу руки, на старых счетах, возникших за пределами футбольного поля, если припоминают, что надо отомстить за критическое замечание в печати, то все это омрачает жизнь нашего футбольного сообщества, и без того сложную.
Я сужу об этом вполне уверенно. На моей памяти немало случаев, когда против «Спартака» некоторые команды играли исступленно, неспортивно. Начнешь интересоваться, в чем причина, и наталкиваешься на такие ответы, что впору руками развести: «Ваш тренер нашего не уважает», «Ваши игроки носы задрали, это им не за сборную играть!», «В Лужниках судья в наши ворота липовый пенальти назначил, вот и расплачивайтесь теперь». И могу уверить, что не футболисты злопамятны, их так подогревают «воспитатели». Недавно начальник одной из иногородних команд попросил выручить автобусом. Я помог. И вдруг услышал от своих: «Незачем было давать им автобус, мы у них очко потеряли». Откуда такое?
Одно время против «Спартака» сверхвоинственно настраивали московское «Торпедо». Даже когда мы впрямую не соперничали за место в таблице, для торпедовцев считалось делом особой чести обыграть нас. В принципе желание похвальное. Но было в нем что-то сверх меры. Недаром наш авторитетный знаток истории футбола Константин Есенин подметил, что после выигрыша у «Спартака» торпедовцы, как правило, начинали терпеть неудачи. В 1985 году, осенью, история повторилась. Вполне допускаю, что был перерасход нервной энергии в матче с нами. А этой энергией надо уметь разумно пользоваться.
Я горой стою за благожелательные, товарищеские отношения между командами. Когда же вижу отклонения, объясняю их невоспитанностью, несостоятельностью руководителей в первую очередь. Мы, люди, которым одинаково дорог футбол, не имеем права опускаться до квартирной свары. Вспоминаю афиши 1918 года с девизом «Противники на поле – друзья в жизни».
Моральная атмосфера, окружающая футбол, я считаю, во многом зависит от его организационных основ. Между тем, и это считаю не я один, твердого порядка у нас нет.
КОМАНДА ИЛИ КЛУБ?
К работе в команде мастеров я вернулся после 12-летнего перерыва, в 1954 году. Я уже называл эту дату, а повторяю для того, чтобы сказать, что за прошедшее время, за тридцать с лишним лет, никаких существенных изменений в структуре нашего футбола не произошло.
Между тем образ его жизни круто переменился.
Если в предшествующие годы советские команды лишь эпизодически встречались в товарищеских матчах с зарубежными, то начиная с 1958 года наша сборная включилась в чемпионаты мира, годом позже – в чемпионаты Европы. С 1965 года ведущие клубы ежегодно участвуют в розыгрыше трех европейских кубков. Так же регулярно в официальных турнирах выступают молодежные, юниорские и юношеские команды.
До 1960 года за звание чемпиона страны у нас боролись между собой три московских клуба – «Динамо», «Спартак» и ЦДКА. Особняком существовал футбол столичный, его окружала футбольная периферия. Три «кита» были собой довольны, а остальные им не перечили. Выработался определенный стереотип в сознании игроков и тренеров, в их соревновательной практике.
С той поры чемпионами перебывали в разные годы еще восемь команд, расстановка сил преобразилась, исчезло понятие футбольной периферии.
Все это, вместе взятое, повлекло за собой иной уклад жизни. Выросли тренировочные нагрузки, чуть ли не вдвое больше стало матчей, увеличились разъезды. Да и само развитие игры потребовало дополнительных затрат энергии. Наконец, поднялось в цене значение каждой победы, особенно на международной арене, престижность футбола скакнула резко вверх, а это означает, что и нервная энергия расходуется гораздо интенсивнее.
Несмотря на эти перемены, живем мы по старым, а лучше сказать, по старинным установлениям. Справедливости ради отмечу, что футболисты имеют возможность, играя, получить высшее образование, преимущественно физкультурное. Это, конечно, большое дело. Но одно оно всех проблем решить не может.
Предпринимались попытки юридически упорядочить нашу жизнь. Задумали ввести договоры между обществами и футболистами сроком на три года. Но из такой затеи ничего не вышло, потому что обязательства сторон ничем фактически не подкреплялись.
Потом возникла идея создания самостоятельных, чисто футбольных клубов. Обсуждалась она в печати, собрала много сторонников. Я принял деятельное участие в ее конкретной разработке, потратив на это два года. Предложения были заслушаны на коллегии Спорткомитета, их не отвергли, но и не утвердили, и они повисли в воздухе.
В ведении городского совета общества «Спартак» 40 (!) видов спорта. В том числе футбол. Не имею права пожаловаться, нашим делам – «зеленая улица». Однако…
Две иллюстрации. Первая. В долгом перерыве между календарными матчами нам понадобилась контрольная игра. Договорились о поездке в Орехово-Зуево. Перед этим команде полагалось провести день на тренировочной базе в Тарасовке. И вот чем пришлось заниматься. Оформить разрешение МГСПС на товарищескую игру. Написать заявление на имя председателя совета, приложив к нему список футболистов, намеченных в поездку. Заготовить проект постановления президиума совета в 6 экземплярах. Следом – письмо-распоряжение директору тарасовской базы, смету расходов, письмо-заказ на автобус. А по сути нужен-то был один телефонный звонок.
Вторая иллюстрация. Намереваемся мы заявить нового игрока. Так вот, заявку мы обязаны подать в Спорткомитет Москвы, в Спорткомитет РСФСР, в Совет ДСО профсоюзов, в Российский совет «Спартака», в Центральный совет «Спартака» и в Управление футбола Госкомспорта СССР. В шесть адресов!
Мы захлебываемся в бумажном море, входящие и исходящие оригиналы и копии в столы не влезают. А сколько на все это уходит времени, которое могло бы быть использовано для работы с командой!
Абсолютно уверен, что футбольная команда высшей лиги в ее современном виде переросла такую мелочную опеку. Если когда-то и была нужда водить нас на помочах, то теперь расширившийся круг задач и обязанностей требует большей самостоятельности. Ограниченность инициативы всегда становится тормозом.
Итак, вместо команд при спортивных обществах наконец-то появились футбольные клубы. Примерная структура клуба такова: возглавляет его правление, состоящее из авторитетных, знающих футбол людей, общественников; председатель – почетный, заместитель – штатный. Клуб арендует у общества стадион и базу, оставаясь под контролем его президиума. Жизнеспособность клуба проверяется доходами от посещаемости матчей, то есть в конечном счете достоинством игры, а значит, и работой правления. Это существенно, ибо сейчас часто доводится слышать нарекания по поводу того, что футбол забирает из общей кассы средства, которые должны были бы пойти на нужды других видов спорта.
Конечно, правлению клуба пришлось бы поломать голову над пропагандой футбола, над привлечением зрителей. Думаю, оно не допустило бы того, что приключилось однажды с нашим матчем с «Черноморцем». Представьте, ко мне явился болельщик и выложил на стол три разных билета на этот матч: в Лужники, на «Локомотив» и на «Торпедо», сказав, что он всюду провел по часу в очередях. Я мог ему лишь посочувствовать: игру действительно переносили со стадиона на стадион. Так полных трибун не соберешь.
Поинтересовался я перед одним матчем, осенью, у директора стадиона, как идет продажа билетов. И в ответ: «Не знаю». Я удивился. А директор говорит: «Что вы удивляетесь, мы план уже выполнили». Нет сомнений, что план был заниженный. Правление клуба с этим не примирилось бы, оно бы действовало в соответствии с общей линией на доходность, бережливость и экономию.
В рекламе футбола мы не предприимчивы. Лишь изредка в газетах и телевизионном «Футбольном обозрении» что-то скажут о значении предстоящего матча с участием сборной. А следовало бы регулярно прикидывать шансы сторон, давать прогнозы, как стала практиковать газета «Известия». Утверждать «Побеждайте подряд, и народ повалит» удобно, но такое пожелание не свидетельствует о большом знании футбола. У англичан есть поговорка: «Плохая игра – перед хорошей». Я ей доверяю, за ней стоит вековая практика. Иногда и мы, жизнь посвятившие футболу, не угадываем, какой матч вдруг получится.
Обращают ли внимание зрители на причудливость, непредсказуемость результата игр? А какие в календаре чемпионата случаются сюрпризы! Приведу несколько примеров таковых сюрпризов с точки зрения спартаковцев. «Жальгирис» начал чемпионат 1985 года чрезвычайно слабо, как говорится, не проигрывал только ленивому. Но нам пришлось с ним играть не в ту пору, а когда он собрался с духом, мы с трудом добились ничьей. Тбилисское «Динамо» долго находилось в расстроенных чувствах и сорило очками. Накануне матча с нами в команде произошла смена тренера, вернулся Д. Кипиани, и тбилисцы, как часто бывает в таких случаях, постарались себя показать. «Спартак» попался им под горячую руку и проиграл. С другой стороны, как я считаю, расписание нам благоволило в момент обеих встреч с «Зенитом»: мы их выиграли до того, как ленинградцы навели у себя порядок.
Из таких препятствий или, наоборот, удач и состоит турнирный маршрут любой команды. Не все удается предусмотреть, но тем интереснее развертываются события. И в эти тонкости тоже нужно посвящать аудиторию, вызывать дополнительное любопытство.
Вернусь к клубу. Вижу огромное его достоинство в том, что откроется возможность решения всех проблем, крупных и мелких, силами знатоков, специалистов. При нынешнем положении, когда футбол растворен среди множества других спортивных дисциплин, он невольно оказывается в зависимости от людей, недостаточно его знающих. Люди эти, даже будучи расположены к футболу, его своеобразия и нюансов не чувствуют, пытаются влиять на него, руководствуясь «общими позициями», что обычно к добру не ведет. Слишком многосторонним стало футбольное хозяйство, чтобы управлять им без специальных знаний и опыта. По моим наблюдениям, человек, пришедший в нашу сферу со стороны, не раньше чем лет через пять постигает необходимый минимум.
Не сомневаюсь, что организация клубов создаст в футбольной жизни более деловую обстановку. Тщательнее будут продумываться условия соревнований, календарь. Мы же до сих пор не изучили, по каким дням лучше проводить матчи: в субботу, воскресенье, может, летом в понедельник? Никто толком не был в курсе доходов и расходов команд, а клубы ведут им заинтересованный счет. Наконец, в клубе установлено не единоличное управление командой, а коллективное. И любой конфликт, заминка решаются компетентным правлением. Тренеры – футбольные специалисты ему подотчетны. Клуб стал финансово ответственным, он может заключать на определенные сроки договоры с игроками, так они приобрели права, которых у них никогда не было.
Здесь уместно, кстати, высказать мнение о футбольном меценатстве. Не знаю, с чьей легкой руки применительно к футболу меценатство истолковывается как явление сугубо отрицательное, порождающее всевозможные беды и искажения. Между тем, как известно, по своему происхождению термин этот подразумевал добрые деяния людей, покровительствовавших и помогавших искусству. У каждой команды есть друзья в разных сферах, которые ей охотно приходят на помощь. Случаев, когда поддержка нам необходима, не перечесть и не предусмотреть. Ограниченными силами, которыми располагает администрация команды, трудно, а иной раз и невозможно решить все текущие и срочные, неожиданно возникающие вопросы. Авиабилеты, бронирование мест в гостиницах, перенос экзаменов для наших студентов на свободные от матчей дни, ремонт служебных машин, билеты в театр, когда футболистам требуется разрядка, устройство детей в детские сады, жилищные дела и так далее. Да, нам помогают, секрета тут нет. Да и как иначе, если команда живет в напряженнейшем темпе!
И я пользуюсь случаем, чтобы выразить признательность всем друзьям команды, идущим ей навстречу. Уж и не знаю, меценаты ли они, но их бескорыстное сотрудничество так органично вплетено в наши повседневные дела, что без него мы рискуем остаться на мели.
Мне представляется, что все это отражало несовершенную структуру жизни команд. Клубная форма с авторитетным и дееспособным правлением позволит в основном обходиться собственными силами. Сейчас же, должен признаться, бывает неловко пустяковыми просьбами беспокоить занятых людей, уповая на данные «разведки», что они неравнодушны к «Спартаку». Да и согласитесь, зыбко все это, ненадежно.
А гримасы меценатства, против которых справедливо восстает общественность, сошли бы на нет одновременно с исчезновением потребности выходить далеко за пределы команды в поисках решения насущных вопросов.
Может быть, мои рассуждения опережают время. Может быть, сегодня мы еще не готовы повсеместно учредить такие клубы. Но надо дерзать, пробовать: наш футбол вырос из самодеятельной одежки.
Понимаю всю сложность руководства футболом в масштабе страны. Знаю, что у аппарата управления уйма забот, полон уважения к членам президиума Федерации футбола, общественникам, бескорыстно и заинтересованно ведущим ответственную работу. Однако должен признаться, что мне неясно, как распределены обязанности между управлением и президиумом, кто кому подчинен. Иной раз один и тот же вопрос решает то один, то другой орган. Иногда президиум федерации просто штампует то, что разработано управлением. Из-за смешения функций в поле зрения того и другого органа оказываются, как правило, только текущие дела, которым несть числа.
Мне думается, что вновь созданный союз футбольных лиг и президиум федерации, в котором должны объединяться опытные люди с широким кругом познаний в области футбола, могут, кроме общественного контроля за деятельностью аппарата управления, разрабатывать и выносить на рассмотрение Госкомспорта СССР проблемные предложения, могут стать мозговым центром нашего футбола.
Мы все стремимся к тому, чтобы рос класс игры команд. Это главное, чего мы хотим от мастеров футбола. Полагаю, что рост класса игры прямо пропорционален росту класса методов руководства футболом.
Сейчас настала пора пересмотра многих старых представлений во всех областях нашего хозяйствования. Не вижу, почему футбол с его общественным резонансом должен оставаться в стороне, на уровне 50-х годов.
Создание хозрасчетных клубов – только первый шаг на пути кардинальной перестройки футбольного хозяйства. Работа предстоит нелегкая и не на один год. Если мы действительно хотим в организации дела хотя бы приблизиться к лучшим мировым образцам, нам, безусловно, нужен независимый, самостоятельный футбольный союз. Надеюсь, к тому времени, когда книга выйдет в свет, он будет создан. Пока же – на стадии его утверждения опять приходится доказывать чиновникам очевидные вещи и терпеливо ждать, пока такая простая вещь, как здравый смысл, возобладает над очередными амбициями Госкомспорта, руководители которого никак не хотят отдавать столь лакомый, а главное, прибыльный (в денежном отношении) футбольный кусок. Коль скоро в проекте устава фактическая и экономическая самостоятельность вновь откладывается на безразмерное будущее, то союз мало что выиграет по сравнению с бесправной Федерацией футбола. Произойдет смена вывески, и только.
Я двумя руками за футбольный союз, но лишь за абсолютно самостоятельную организацию, имеющую возможность и способность решать все связанные с нашей игрой вопросы. Если такое случится, то осуществится мечта многих поколений: футболом наконец-то станут руководить компетентные профессионалы, а не кабинетные любители.
В моих высказываниях об отсутствии порядка в нашем футбольном деле не ищите готовую программу. Мне как практику с большим стажем, причастному к девятикратному завоеванию звания чемпиона страны «Спартаком», хотелось привлечь внимание всех, кому дорог футбол, к его серьезным затруднениям.
Потенциальные возможности советского футбола, по моему глубокому убеждению, мы используем едва ли наполовину, значительная часть труда, сил и времени тратится на преодоление препятствий, возникающих в результате неорганизованности и неопределенности нашего положения.
Утверждая это, я ни в коей мере не собираюсь отвести от нас, практических работников, упреки и претензии. Что же до команды «Спартак», за которую я лично несу ответственность, то отчасти о его задолженности перед нашим футболом я уже упоминал и намерен сказать еще.
Что уж там говорить, обольщаться особенно нечем ни «Спартаку», ни остальным командам. Престижные международные победы еще не завоеваны…
Постоянство мастерства
Чувствую, не уйти мне от популярной темы: когда играли лучше? Многим она не дает покоя, желающих идеализировать прошлое хоть отбавляй.
Ранний футбол наш начинался согласно выражению: «Охота пуще неволи». Мы были страстными его приверженцами, искали в нем психологическую разрядку, нам не терпелось сыграть. И первые клубные чемпионаты страны тоже были под властью азарта, накала, под влиянием возвышенных нравственных и душевных устремлений. Ничего тут нет удивительного, до футбола мы «дорывались»; календарные матчи обычно проводились всего раз в неделю. Если посмотреть на саму игру тех лет из сегодняшнего «окна», то представляется она мне тактически несложной, перемежающейся очевидными техническими огрехами. В целом я бы сказал, что футбольная игра на моей памяти прогрессировала точно так же, как прогрессирует и все остальное в жизни.
Сошлюсь в доказательство на несколько фактов. В 30-х годах мастера тренировались по вторникам, четвергам и субботам, а играли в воскресенье. Сейчас тренировки ежедневные, по два раза в день, весной – по три. Было время, когда на команду приходился один мяч. Нынешние мастера выходят на занятия каждый со своим мячом, да возле ворот лежат запасные, чтобы не терять минуты, если мяч улетит далеко. А какие теперь мячи! Идеально круглые, без шнуровки и резиновой трубки для надувания, как раньше. А бутсы! Они полегчали вдвое, весят нынче 200 граммов, в них можно танцевать на балах. Короче говоря, техника общения с мячом выросла в десятки раз, не говоря уж о том, насколько она стала изящнее и эффективнее. Если оставить в стороне уникально одаренных футболистов, таких как П. Дементьев и Г. Федотов, то уровень мастерства игроков – назовем их обычными – сейчас несравнимо выше, они непринужденно выполняют приемы, считавшиеся некогда редкими, сложными.
Игра сделалась заметно быстрее. Встречались и в мое время скоростники, но они могли позволить себе увлечься бегом в одиночку. Другие нажимали на обводку, но чувство меры они то и дело теряли, задерживали мяч. Теперь, как известно, в ходу передачи в одно касание, заниматься обводкой в середине поля – признак невысокого класса.
Кстати, напомню, что игру в одно касание провозгласил и культивировал замечательный тренер Борис Андреевич Аркадьев. Как я считал для себя невозможным пропустить хотя бы одну игру Г. Федотова, точно так же всегда нетерпеливо, с предвкушением чего-то нового стремился попасть на каждое выступление Аркадьева на тренерских конференциях, изучал его статьи, его учебник. Культурный, дальновидный человек, ему очень многим обязан наш футбол!
Мне довелось противостоять ему на поле. Меня, правого крайнего, он, левый полузащитник, не раз держал. Жестко играл, хорошо бегал, высоко поднимая колени. Бывало, сталкивались, что-то он мне намеревался сказать в пылу борьбы, но, так как он слегка заикался, я успевал отбежать, не дождавшись, поэтому так и не узнал его мнения о наших молодых единоборствах. Сколько же лет минуло!..
В пору, когда мы с Аркадьевым играли, «университеты» футбольные проходили следующим образом. После матча уговаривались:
– Пойдем потолкуем о тактике.
Собиралось нас человек семь-восемь, шли в трактир, заказывали самовар, баранок и принимались разбирать свою игру. Теорий мы тогда еще не знали, судили исходя из практики. Но возникали и тонкости, полезные и современным игрокам. Напираем мы, крайние нападающие (левый – Валентин Прокофьев и я – правый), на нашего главного «диспетчера» Петра Исакова: «Почему редко мяч давал?» А он спокойно разъясняет: «А зачем тебе было давать, я же чувствовал, что ты сегодня не в ударе, все равно испортишь». И ведь угадывал! Между прочим, один из лучших футболистов 80-х годов спартаковец Ю. Гаврилов, тоже прирожденный распасовщик, был наделен такой же интуицией, всегда старался найти в передаче того парт нера, у кого игра хорошо идет, кому попало он мяч не доверял.
Я преисполнен уважения ко всевозможным знаниям, накопленным за годы в нашем деле. Хочу только предостеречь наиболее рьяных эрудитов: знаниями надо пользоваться с чувством, с толком, помогая ими игре, а не подавляя ее.
Не могу, например, согласиться, когда слышу, как современный тренер во всеоружии разученных им тактических схем и маневров демонстрирует их игрокам по пятьдесят раз за сезон и не меньше чем по полтора часа за «сеанс» фишками на доске, пытаясь вдолбить, когда и куда они должны передвинуть ногу.
У меня в таких случаях возникает ощущение, что он блистает своими познаниями, так сказать, из любви к искусству, а к предстоящему матчу они имеют поверхностное отношение. Да, тренерам следует всячески предостерегать игроков от ошибок, внушать, что им не рекомендуется делать. А каждый ход в игре не предусматривать и не навязывать! Обстановка на поле большей частью непредсказуема, команда не может одинаково выполнять затверженные заповеди, если счет сделается 0:1 либо 1:0. Она непременно что-то изменит по ситуации, на то она и команда мастеров.
Я уж не говорю о том, насколько нужнее и практичнее умение тренера разбираться в особенностях игроков противостоящей команды. Такие сведения и в прежние времена высоко ценились. И не одна техника должна учитываться, но и психология, характеры противников.
Остановился я на этом по той причине, что с удивлением вижу, как иной раз ради широко распространенных схем и среднестатистических подсчетов игровой деятельности на глаза футболистов надевают шоры, требуя строго определенного поведения, лишая их инициативы, выдумки, риска, из-за чего игра оскудевает и тускнеет.
Хотя футбол и сильно изменился, не все из старого опыта бесполезно. Мне кажется, что нынешние игроки недостаточно работают над скоростью. Кроме футбола, я увлекался легкой атлетикой, был бегуном на средние дистанции. Участвовал в эстафетах по Московскому бульварному кольцу «А», несколько лет моей дистанцией становился Покровский бульвар, помню, что пробегал по нему 1300 метров. Но темп «средневика» для футболиста малопригоден, и я самостоятельно, по внутреннему побуждению, ежедневно совершал по 100 коротких, резких рывков, приобщаясь к миру спринтеров.
Так я наращивал, а потом и сохранял скорость до конца своих занятий футболом. В результате, будучи еще и выносливым, я изрядно выматывал своим бегом защитников сборной Ленинграда, нашего постоянного соперника. И, кроме меня, тогда многие без указчиков и надзирателей упражнялись самостоятельно, как им подсказывала футбольная необходимость.
Что и говорить, скорость – природный дар, сейчас при приеме в команды особенно обращают на нее внимание, и это правильно. А берегут ее футболисты нерадиво, то и дело слышишь о ком-то: «Потерял скорость», хотя возраст отнюдь не критический. Из-за этого и сходят со сцены прежде срока.
Кажется, я недвусмысленно дал понять, что, по моему мнению, современный футбол значительно и существенно отличается от старого. А теперь скажу и о том, что меня не устраивает сегодня.
С того момента, когда команды мастеров стали гораздо больше играть и тренироваться, нагрузки, как и требования к технической квалификации, выросли, прежний откровенный, неуемный пыл стал подчиняться строгим правилам турнирной стратегии. Не возразишь, это естественно.
При такого рода поворотах нередко начинают заново пересматривать и саму суть игры. Едва ли не большинство тренеров заразились оборончеством, декларации об атакующем футболе провозглашаются для «приличия». Команды соревнуются не в том, кто больше забьет, а в том, кто меньше пропустит. Из-за этого футбол искажается даже на глаз.
Нельзя же предположить, что размеры поля взяты с потолка, нет, они предусматривают наилучшие возможности для содержательной игры, острых комбинаций – 7350 квадратных метров. Прикиньте, сколько используется обычно: хорошо, если по 15–20 квадратных метров на футболиста. А половина поля не обжита. Толкотню и тесноту обусловливают вовсе не новейшие тактические построения, а психология оборонцев, их боязнь пропустить мяч, ибо у них нет веры, что сумеют забить ответный гол. Иногда мы сидим на лавочке и спрашиваем друг у друга: «Кто ударил?» В толпе не различишь. Называйте футбол моей молодости простоватым, но я ручаюсь, что мы умели занимать все поле, в плотные кучи не сбивались.
Надо ли говорить, что я пронес через всю жизнь пристрастие к форвардам. Кто изведал охоту за голами, тот ее не забудет. А ведь как доставалось! Но ничто не могло положить конец стремлению к воротам, к прорыву, к удару.
Когда я сейчас вижу в команде двух, а то и одного форварда, испытываю чувство горечи. Прекрасно осведомлен о новых тактических построениях, вижу, что и хавбеки, даже защитники забивают. И все же «сокращение штатов» неминуемо повлекло за собой сведение к минимуму искусства форвардов, самого тонкого, изощренного в футбольной игре. Понимаю, что никого не уговорю прибавить в командах нападающих. Но почему-то надеюсь, что о нас, крайних форвардах, еще вспомнят. Футбол пережил не одну тактическую перемену на моей памяти, и если в последние годы из передней линии совершался «отлив», то почему он не может обернуться «приливом»?! В этом случае, помимо всего прочего, будут учтены интересы зрителей.
Я вообще полагаю, что футболу в будущем предстоит еще совершенствоваться как зрелищу. Мне приходилось видеть наименьшие из разрешенных размеров поля, и делалось это для того, чтобы зрители могли видеть больше событий в наиболее интересных для них зонах.
Вполне вероятно, что со временем футбол уйдет под крышу. Ни дождя, ни снега, ни ветра. Идеальное поле, где можно показать все совершенство техники. На игроках легкие туфли, позволяющие избежать травм при столкновениях. Фактически все это в какой-то мере уже испробовано. Остается добиться идеального для игры качества настила. Знаю, что есть противники футбола под крышей, у них свои доводы, но тут уж нас рассудит время.
Вернусь к тому, что еще мне претит. Это персональная опека. Вопрос сложный, о нем и так и этак судят много лет разные авторитеты. Не собираюсь касаться его во всем объеме, во всех частностях. Кажется, я был одним из первых нападающих, кто подвергся «персоналке». Итог был таков: когда мне однажды удалось оторваться от опекуна и выйти один на один с вратарем, мой постоянный преследователь, уверенный, что обязан меня «съесть», недолго думая ударил меня сзади по обеим ногам. Я упал, и меня отвезли в больницу. Было ли утешением, что моего обидчика удалили с поля? В конце концов, суть не в моем неловком падении, а в том, что против футбола было совершено преступление. И сколько самых лучших игроков пострадало от грубости, от «персоналки»: Федотов, Бобров…
«Персоналка» – цинично-плебейский способ ведения защиты, при котором игрок подвергается грубому насилию. Не верю, чтобы с трибун так уж привлекательно выглядело это туповатое, назойливое преследование на грани не фола, а членовредительства. Утверждают, что встречаются искусные «персональщики», которые и мяч отберут, и соперника пальцем не тронут. Допустим, такие есть. Но много ли их? А персональную опеку, хотя она не способствует развитию ни техники, ни соображения, внедряют даже в детских командах. Это тоже проявление оборончества – «сам не играй и другому не позволь». Хочу только оговориться, что имею в виду не наблюдение за противником в зоне, а преследование по всему полю.
Нередко можно услышать вопрос: «Кого считать истинным мастером футбола? Каким требованиям должен он отвечать?» Вопрос этот не из числа досужих. В самом деле, на футбольной арене очень много игроков. Называют их одинаково – мастера, но это не устраивает любознательных, они, могу предположить, про себя рассуждают так: «Мастера-то они мастера, а кто из них взаправду мастер?» Тут не выручит и спортивная классификация: звание мастера у нас присваивают сразу всем, кто состоял в преуспевшей команде.
Недаром говорят: «Команда играла так, как ей позволял противник». Своеобразие футбольного мастерства выражается в преодолении. Умеющий переигрывать и есть мастер. Если же игроку «мешают» противники, не дают ему себя показать, то в его мастерстве приходится усомниться.
Не думаю, чтобы футбольное мастерство принципиально отличалось от мастерства в любой другой сфере деятельности. Если человек предан футболу, умеет ему подчинить все остальное, он обязательно будет совершенствоваться и станет мастером. Пусть даже способностей ему отпущено скуповато, все-таки из такого человека мы получим мастера. Ну а когда плюс к этому есть еще и талант, то вырастает мастер, которого помнят десятилетиями, мастер, повлиявший на развитие игры.
Я уже говорил, что в свое время не мог налюбоваться игрой Григория Федотова. Не в том дело, что он забивал имевшие дорогую цену голы, и даже не в том, что, наблюдая за ним, нельзя было не испытывать эстетического удовольствия. Федотов надолго предвосхитил футбол будущего, внес в игру столько нового, сколько не снилось самым прозорливым тренерам.
Еще в довоенное время он с безошибочной разумностью, непринужденно действовал согласно требованиям обстановки, умел сыграть либо индивидуально, либо строго в командных интересах. С ним все партнеры играли хорошо, во всяком случае, лучше, чем в его отсутствие. Он быстро подмечал, кто в чем силен. Если, скажем, у его товарища уверенный удар с правой ноги, можно было не сомневаться, что Федотов откинет ему мяч под эту ногу. В пору жестких тактических схем наперекор общепринятому он со своего левого фланга уходил и в центр, и направо – как ему подсказывала интуиция.
Повторюсь: он первым в нашем футболе начал забивать мячи головой в нападении. Стал постоянно пользоваться резаными ударами, когда о «сухом листе» никто и понятия не имел. У него был оригинальнейший бег, он бежал не выпрямляясь, а как бы приседая, и, чем более всего обескураживал защитников, неуловимо менял скорость: разгонится, приостановится и снова рванется.
Разве это не характеризовало бы с лучшей стороны и сегодняшнего мастера, хотя с федотовских времен прошло чуть не полвека? Разве и сегодня мы не добиваемся того, чтобы футболисты умели сочетать коллективное и индивидуальное начало?!
Хорошо помню, что уже в 1937 году Федотов имел собственное мнение по всем игровым вопросам, учить его было нечему. А был ему тогда 21 год. Он на удивление рано постиг суть игры, оригинально, остро истолковывал тактические моменты. Федотова в ту пору, когда он из Ногинска перебрался в столицу, нельзя было назвать человеком особо развитым и начитанным. Но он был, я бы выразился, хитро-веселым, все ловил с полуслова, быстро схватывал, точь-в-точь как на поле, в игре.
К слову должен заметить, что дураки в футбол не играют. С годами я привык, наблюдая за действиями того или иного игрока (если я, конечно, с ним знаком как с человеком), видеть в нем не отвлеченную футбольную фигуру, а известную мне личность. Вот пускается в затейливый, озорной, с выкрутасами маневр наш полузащитник Евгений Кузнецов, ярославский парень, и знаю, что таков он и за пределами поля: выдумщик, с норовом, своевольный. Наблюдая за Гавриловым или Черенковым, затевающими свои комбинации, я угадываю в них прозорливость, предусмотрительность, упорство, все то, что мне о них известно за годы, проведенные рядом.
Меня радует, что существует клуб бомбардиров имени Федотова и что приз команде, забившей наибольшее число мячей в чемпионате, тоже носит его имя. Конечно, он не один такой в истории советского футбола. Был у нас техник мирового класса – ленинградец Петр Дементьев. А какой образец форварда создал Эдуард Стрельцов!
У мастера жизнь на футбольной сцене недолгая. Но и она длится не на едином дыхании. Не спешите меня ловить на противоположных примерах, знаю, что исключения встречаются. И все же наблюдения позволяют мне утверждать, что мастер проходит три этапа.
Первый – с 18 до 23 лет, когда голова не всегда поспевает за ногами.
Второй – с 24 до 28 лет, когда голова и ноги работают заодно, лучшая пора.
Третий – с 29 лет и до конца игровой карьеры, когда ногам не всегда удается поспевать за головой.
На каждом из этих этапов игрок может быть хорош, полезен для команды, но по-разному. И к этому надо уметь относиться с пониманием.
Чрезвычайно важен первый этап, тут решается, мастером какого калибра станет футболист. Он должен обзавестись, я бы сказал, опытом аналогичных ситуаций. Сотни повторений ведут к выработке рефлексов, к автоматическим, уверенным реакциям. И от того, насколько молодой игрок окажется добросовестным, терпеливым, переимчивым, способным осмысливать неудачи и вносить что-то собственное, новое, зависит его будущее, время расцвета, когда обычно добиваются признания.
Футбол начинается с техники и стоит на ней. У нас к этой стороне мастерства отношение почему-то неровное, непостоянное, о ней то забывают, увлекаясь физическим развитием, тактикой, воспитанием воли, то вдруг вспоминают и бьют в ее славу во все колокола.
Чрезвычайно полезно во время матчей слушать трибуны. Зрители, как мне кажется, способны представить, что они сами были бы в состоянии быстро бежать, толкаться, отбросить мяч стоящему поблизости партнеру. Когда же они видят то, что сделать не в силах, – обводку, удар с подрезкой, финт, точный пас через все поле, – они восхищаются и аплодируют. И на протяжении всего матча ждут не дождутся, когда же узрят что-то редкое, виртуозное, что позволит им соприкоснуться с высоким мастерством.
Есть игроки полезные, но похожие друг на друга, ординарные. Они не смотрятся. А есть такие, что глаз от них не оторвать, ждешь: что-то он выкинет, что затеет, что сотворит? Не вижу ничего предосудительного в том, что их называют любимцами публики, оттенок иронии тут неуместен. Сильной команде в равной мере требуются те и другие. Но любимцы публики встречаются реже, а они-то оживляют картину футбола, делают игру оригинальной, трудной для противника.
Природные способности для того, чтобы стать «технарем», существуют. Но весь вопрос в том, как их развивать и упражнять. Когда говорят, что прежде выдающихся «технарей» было больше, приходится соглашаться.
Создание школ, где ребят учат футболу, – одно из наших достижений. Загвоздка в том, чему и как их учат. Наблюдая за выпускниками, с грустью вижу, что они похожи друг на друга, как батоны, выпекаемые на хлебозаводе, черты индивидуальности у них едва различимы. Не случайно надежды на открытие оригинального игрока все чаще связываются с небольшими городами. Не оттого ли это, что туда стандартное обучение еще не проникло, не охватило всех?
Вот типичная сценка из так называемого «дикого» футбола. В компанию 18-летних затесался 12-летний. Что остается «малышу», чтобы не затеряться среди здоровяков, чтобы его не вытолкали с поля за ненадобностью? Ему надо превзойти их в технике, в ловкости, в смекалке. Вот он и изощряется. А как закаляется, мужает его характер в неравных схватках! Насколько мне известно, именно так формировалось искусство столь знаменитых «технарей», как братья Дементьевы, динамовец С. Ильин, спартаковец В. Степанов, куйбышевец, а потом спартаковец Г. Хусаинов.
А сейчас я не уверен, что «малыша» примут в школу. Откажут: ростом не вышел. А если и примут, то уроки и нагрузки будут для всей группы одинаковые, и он не сумеет выделиться, будет постоянно уступать здоровякам.
Хотя я, когда играл, был по росту в своей команде правофланговым, с большим сомнением отношусь к тому, что баскетбольный рост проникает в футбол. Боюсь, как бы погоня за ростом игроков, нынче вошедшая в моду, не придавила футбол, не вытравила из него игровое начало, не сделала его однообразным. Задуматься бы вовремя тренерам над тем, почему так редко встречаются игроки типа Ф. Черенкова, А. Заварова, А. Нарбековаса, без которых футбол теряет живинку, упрощается!
Техника закладывается в раннем возрасте, «технари» – они все из детства. Не знаю случаев, чтобы взрослый футболист вдруг превратился в «технаря». Другое дело, что технические навыки полагается постоянно тренировать, оттачивать, совершенствовать. Так, наш прославленный Сергей Сальников, общепризнанный «король техники», когда заканчивались общие занятия, регулярно собирал с десяток мальчишек и затевал с ними игры втроем против шестерых или он один против троих. Учебной программой это не предусматривалось, но Сальников знал, что делал, он до конца спортивной карьеры оставался виртуозом. Подобное отношение к поддержанию и развитию своего мастерства, к великому огорчению, сейчас встречаешь чрезвычайно редко. И тренеров упрекать едва ли справедливо, тут должна проявляться внутренняя потребность игрока, его взыскательность к самому себе. А индивидуальные занятия по принуждению – бессмыслица.
Я лично высоко ценю командный патриотизм и смелость.
Командный патриотизм, полагаю, понятие ясное. Если мы в своем кругу о ком-то говорим «спартаковец», то это надежная характеристика. И не обязательно человек по происхождению с Ширяевки или из Тарасовки. Достаточно много было игроков, пришедших в нашу команду взрослыми, но принявших нашу «веру». Это В. Степанов, Н. Дементьев, А. Парамонов, Н. Симонян, Н. Тищенко, И. Нетто, Н. Киселев, В. Маслаченко. Спартаковцы – те, кто в игру, в судьбу команды вкладывают душу.
Но попадались, что греха таить, и люди как бы из «наемного войска»: играли неплохо, но без душевного горения, с прохладцей. Футболка на них та же, а в ранг спартаковцев мы их не возводили.
О смелости применительно к футболу, на первый взгляд, рассуждать тоже вроде бы незачем: сама игра по всей своей сути для людей смелых. Так-то оно так, а мы тем не менее то об одном, то о другом отзываемся – трусоват, причем это может быть не какой-нибудь щуплый, а здоровенный парень, атлет.
Основываясь на долгом опыте, я выработал для себя некую градацию. Не настаиваю на ее абсолютной точности, но рискну предложить вниманию читателей.
Первыми идут храбрецы, люди, от природы лишенные чувства страха. Смело они играют всегда, без исключений. Могу назвать В. Степанова, Н. Дементьева, И. Нетто, А. Масленкина. (Привожу примеры из «Спартака», потому что лучше знаю одноклубников, но, разумеется, храбрецов хватает и в других командах.) Масленкин и за пределами поля ничего не боялся. Уж как туго ему, центральному защитнику, приходилось в поединке с молодым Стрельцовым, случалось, тот его и обходил, и обыгрывал, но Анатолий перед следующим матчем с «Торпедо» нисколько не тушевался: «Стрельцов? Ну и что? Поговорим с ним…»
Из следующего поколения спартаковцев храбрецами как на подбор были полузащитники команды-чемпиона страны 1969 года Н. Киселев, В. Калинов, В. Папаев. В сегодняшнем «Спартаке» к этому разряду я отношу Г. Морозова, Е. Кузнецова, Ф. Черенкова, С. Базулева.
(Хочу сделать оговорку: не зачисляю в храбрецы тех, кто играет грубо, это нечто иное, из другой оперы.)
Следующая категория – те, кто не боится вмешиваться в заведомо опасную ситуацию, практикует это часто, но не всегда.
Третьи – предпочитающие благоразумный риск, они рискуют иногда.
И наконец, игроки, заставляющие себя рисковать «через не могу», причем в крайних случаях.
Как видите, все проявляют смелость, без этого на поле делать нечего, но в разной мере и по разным побудительным причинам.
Давно замечено, что тот, кто больше опасается, чаще страдает. Так сказать, практическая выгода от смелости. Ну а храбрецы, так те цены не имеют, именно они более, чем другие, способны повести команду за собой. Предположим, известно, что у противника грозные, опасно играющие защитники. Если у нас не окажется храбрецов, которые как ни в чем не бывало вступят в борьбу с подобными защитниками, то дело плохо, инициатива будет потеряна. Если же они есть и покажут пример остальным, то и вся команда втянется в борьбу.
Может быть, с трибун все такие оттенки поведения игроков на поле и не заметны, но с тренерской скамьи мы их различаем.
Здесь уместно сказать о спартаковском духе. Пожалуй, лет пятнадцать назад я сей темы не стал бы касаться: с какой стати толковать о том, что и без пояснений видно. Да, спартаковский дух – никакая не мистика. Он проявлялся особенно выпукло в том, что мы, как правило, выигрывали узловые, решающие матчи и в чемпионате, и в розыгрыше Кубка, и международные. А обеспечивалось это, как я считаю, разумным подбором игроков, наделенных ярко выраженной волей. Помню, приехал к нам с предложением своих услуг Василий Соколов, молодой и безвестный. Побеседовали мы с ним, а когда он вышел, брат мой Андрей говорит: «Нечего сомневаться, возьмем, ты разве не заметил, какие у него глаза: стальные, как у хищной птицы…» Взяли и не раскаялись. Выдающимся, несгибаемым защитником, сначала крайним, а потом центральным, стал Василий! И тренером позже был, в 1952 и 1953 годах «Спартак» под его началом в чемпионы вышел.
Или другой случай. Заявился незвано из Днепропетровска никому не ведомый вратарь Алексей Леонтьев. Дело было зимой. И вот в маленьком манеже на улице Воровского устроили ему проверку. Встал парень в ворота, а бить ему взялись те, у кого «тяжелые» удары, – В. Степанов, В. Семенов, Андрей Старостин. И они «разошлись» друг перед другом. Я сидел, смотрел и начал даже жалеть бедного пришельца. А он, в то время тощенький, кидается и ныряет в углы ворот, да так отчаянно, так бесстрашно и зло, словно сошлись они не на живот, а на смерть. В тот же день было решено: берем. Пришелся ко двору Леонтьев, стал спартаковцем.
Мало-помалу так и сложилась легенда о спартаковском духе. А мы ее со своей стороны подогревали: до 1972 года одиннадцать раз выходили в финал Кубка, девять раз побеждали, причем обыгрывали московское «Динамо», «Торпедо», тбилисское «Динамо», которые в тех сезонах были посильнее «Спартака».
Особо мне памятен матч в Киеве глубокой осенью 1969 года. В нем фактически решалось, кому быть чемпионом: «Спартаку» или киевскому «Динамо». Стотысячный стадион, который, естественно, горой стоял за свою команду, настолько громогласно, страстно болел, что слабонервная приезжая команда легко могла сникнуть. «Спартак» не оробел, наоборот, я видел у наших игроков какую-то азартную раскованность, даже озорство: шутка сказать, против них играл чемпион трех последних лет, который, если бы выиграл, опережал нас на очко и, вполне вероятно, стал бы чемпионом четвертый раз подряд. Да еще погода – хуже не придумаешь: холод, снежная метель. В тот вечер все спартаковцы показали себя храбрецами. Н. Осянин искуснейшим образом забил гол, и счет 1:0 «Спартак» удержал.
Тот матч – из числа знаменитых матчей «Спартака»: в нем в полной мере проявился спартаковский дух, старая легенда получила лишнее подтверждение.
Но после этого она начала постепенно бледнеть, выцветать. В последний раз мы выиграли Кубок СССР в 1971 году. Затем дважды были в финалах – в 1972 и 1981 годах, но оба раза уступили. Стали удовлетворяться призовыми местами, а до первого не дотягивали, проигрывали в тот момент, когда победа была нужна позарез, не по-спартаковски проигрывали. Да и в розыгрыше европейских кубков, хотя за «Спартаком» и числятся яркие удачи – с «Астон Виллой», «Арсеналом», «Брюгге», – все же наш путь часто обрывался преждевременно из-за недостаточных, как я считаю, волевых усилий.
Нет, я не собираюсь перечеркивать старую легенду, сложившуюся на протяжении полустолетия. Она лестна для нашей команды, да и в какой-то мере я сам, как игрок и как руководитель, что-то сделал для того, чтобы эта легенда могла возникнуть. Я дорожу ею. И потому считаю себя вправе, да и обязанным, откровенно выразить беспокойство по поводу некоторых потерь в славных традициях «Спартака».
Возможно, кому-то покажется, что я слишком привередлив – как-никак, «Спартак» и сегодня у нас из лучших, одержал за последние сезоны немало эффективных побед, больше всех забивает мячей, способен показать красивую игру. Но что поделаешь, я смолоду, начиная с «Красной Пресни» и потом в «Спартаке», получил такое спортивное воспитание, что ни частичные, ни временные успехи, ни полууспехи удовлетворить меня не могут. «Спартак» открыл свою историю еще в 30-х годах как команда, обязанная постоянно «держать на мушке» звание чемпиона и Кубок; таким я продолжаю его видеть и сегодня. Я вообще считаю, что занижение требований неминуемо влечет за собой сдачу позиций, внутреннюю демобилизацию, и тогда сам не заметишь, как окажешься в хвосте. «Спартак» однажды, в 1976 году, как я рассказывал, сполз со своих высот (послевоенные чемпионаты я в расчет не беру, тогда команда переживала вполне понятные трудности), и этот горький опыт нам забывать грешно. Восстановившись, восстав из пепла, гарантию, будущее мы обязаны искать в самых высоких требованиях к самим себе. Этим и объясняется моя привередливость.
…Взбунтовавшийся против упорно насаждавшегося культа бездуховного футбола, обновленный «Спартак», быть может, более всего ценен тем, что за 10 проведенных после своего возвращения в высшую лигу сезонов был постоянен в главном – проповедовал нравственный футбол.
…11 января 1988 года в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» спартаковцам вручали золотые медали чемпионов страны – 1987. Диктор перечислял фамилии: Бокий, Суслопаров, Мостовой, Пасулько, Шмаров… А я смотрел на модно одетых молодых людей – последнее пополнение «Спартака» – и спрашивал себя: понимают ли они, какой команде, с какой славной историей обязаны взлетом, осознают ли?
От сути ответа во многом зависит судьба каждого из них, да и клуба в целом.
Жизнь, а значит, и футбол не стоят на месте. Причем перемены происходят столь стремительно, что действительность порой опережает самые смелые теоретические прогнозы. Создан Союз футбольных лиг.
Уже около двадцати советских футболистов играют за границей в профессиональных клубах. Еще несколько лет назад сама мысль об этом считалась верхом крамолы. Прорубили «окно в Европу» и спартаковцы: Дасаев выступает за испанскую «Севилью», Хидиятуллин – за французскую «Тулузу».
Словом, здравый смысл берет свое.
Когда я заканчивал эту книгу, в «Спартаке» произошло важное событие: главным тренером был назначен его бывший капитан Олег Романцев. Что ждет его на новом поприще? Что будет со «Спартаком»? Этого никто не может знать. В одном не сомневаюсь: футбол должен приносить радость.
Радость, которая вот уже три четверти века всегда со мной.
Вместо эпилога
Я часто спрашиваю себя: чем объяснить, что футбол приобрел такую власть над людьми? Пожалуй, никто и никогда не сможет исчерпывающе ответить на этот вопрос. Может быть, в его вечной тайне и заключена разгадка.
На своем веку – а я могу говорить это почти в буквальном смысле – встречался и знаком с одареннейшими людьми самых разных профессий. Было бы глупо спорить о приоритетах. Знаю одно: принадлежность ни к одной из них – сама по себе – не может гарантировать жизнь.
Ни к одной, кроме футбола.
До последнего своего часа буду помнить: футбол спас мне жизнь. Жизнь, которую я отдал футболу.
…Все Старостины умирали сразу. Клавдия пришла с лыжной прогулки и внезапно скончалась в ванной от разрыва сердца. Александр в гостях у Веры пил чай – вдруг приступ. За углом дома – Солдатенковская больница, но довезти его туда не успели… Андрей брился, неожиданно упал. Пока несли к кровати, потерял сознание. Умер в больнице, не приходя в себя.
Вера и Петр, к счастью, живы, часто встречаются, но, к сожалению, чаще без меня: постоянные хлопоты по работе и разъезды с командой практически не оставляют свободного времени. Но тщу себя надеждой, что, когда отойду от дел, мы обязательно соберемся вместе и уж тогда я никуда не буду спешить…
И еще раз вспомним тех, кто шел с нами по жизни бок о бок. Среди общих друзей не оказалось ни одного, кто бы даже в самые лихие годы открестился от знакомства с нами. Нигде, никто и никогда не давал мне повода усомниться в искренности дружеских чувств. Низкий поклон всем добрым людям за это. За веру, за поддержку, за любовь.
Послесловие на правах соавтора
Никогда еще не испытывал такого бессилия от несовершенства своего литературного умения.
Эпопея клана Старостиных достойна романа. Может быть, кому-нибудь удастся осилить эту задачу. Моя же была куда скромнее – литературная запись услышанного.
Жанр этот своеобразен. Успех или неуспех в нем не всегда зависят от автора. Книга может оказаться интересной, даже если он не особенно красноречив, – за счет таланта, как принято говорить, «литзапис чика».
В нашем случае чистота жанра соблюдена лишь частично. Скорее это просто запись. Литературным был сам рассказ: устной речи Николая Петровича могут позавидовать самые искушенные любители русской словесности. Слова ложились на бумагу пра ктически без изменений. Оставалось только точно фиксировать фразы, пытаясь сохранить тональность и колорит повествования.
Каково же было мое удивление, когда я получил от Старостина отданный ему для ознакомления первый и, как мне представлялось, окончательный вариант рукописи с обильной правкой, внесенной его аккуратным, мелким почерком. На мгновение во мне вспыхнула профессиональная обида, которой, к счастью, я сразу же устыдился. Ибо успел понять: в этой доведенной до дотошности щепетильности заключалось главное – желание и готовность Старостина нести личную ответственность за каждую выведенную на бумаге фразу.
Когда слушал из уст Николая Петровича изложенную выше историю о тренере Хофмане, который обращался к игрокам исключительно на «вы», все время думал о том, что и сам Старостин с незапамятных времен, с первых своих шагов в спорте на «Вы» с футболом и людьми, ему преданными. Этим и объясняется к нему всеобщее уважение. И сегодня, и семьдесят лет назад.
Книга озаглавлена «Футбол сквозь годы», но столь же правомерно было бы название «Годы сквозь футбол» – игра и жизнь накрепко переплелись в его судьбе. С одной лишь, но главной для Николая Петровича оговоркой: годы сквозь спартаковский футбол.
Как-то к старшему брату пришел Андрей Петрович Старостин – было это уже в 70-х – и сказал, что ему предложили работать начальником команды «Локомотив». Николай Петрович ответил: «Мы обрели себя в «Спартаке», стали здесь известны, за «Спартак» отсидели и уходить из него не должны». Андрей Петрович внял совету.
Здесь не было позы, ложной значительности или доморощенного патриотизма. В понимании Старостиным своего долга – ключ, объясняющий истоки его уникальной биографии.
Сосредоточенность на футболе для него – не узость интересов. Он из тех, кто раздвигает границы любой профессиональной области до общечеловеческих обобщений. Вот разгадка так и непонятного мне до конца его неизбывного, непрекращающегося интереса к сегодняшним людям футбола. Его доступность даже мальчишкам из спартаковской спортивной школы, отцы которых знают тех, с кем сталкивала Старостина судьба, – людей, творящих историю и вошедших в нее, – лишь по легендам.
Довелось принимать участие в телевизионном литературно-художественном канале, главной темой которого был рассказ о крупнейших мастерах отечественной, увы, уходящей культуры: Солженицыне, Гумилеве, Мандельштаме, Пастернаке, Цветаевой, Шнитке… По замыслу авторов, в этом ряду было отведено место и для Старостина. «Крайне непривлекательное это дело – смотреть на старика», – сказал Николай Петрович, узнав о предложении. Мне стоило большого труда уговорить его сниматься.
Каждый раз, когда я порой с минутным опозданием выходил из лифта на лестничную клетку, где располагалась квартира Старостиных, я проникал в нее без звонка. Точно в условленное время Николай Петрович открывал дверь. Это повторялось из раза в раз так же, как и традиционные для семьи Старостиных акты гостеприимства – обязательные чаепития с разговорами о житье-бытье.
Только однажды чаепитие не состоялось: Старостин торопился. В тот день Петру Петровичу исполнилось восемьдесят лет. Старший брат спешил его поздравить. В прихожей лежали загодя приготовленные, аккуратно сложенные подарки: галстук, рубашка, шарф…
За внешней ритуальностью четко виделась основательность уклада, порядка и отношений, которые возможны лишь у людей с абсолютной ясностью жизненных приоритетов. Для Старостиных – это Дело и Дом. Дом, где взаимное уважение и любовь почитаемы и хранимы, тот теперь уже редкий московский дом, где живут все вместе – деды, отцы, внуки и пра внуки. Гавань, где можно восстановить силы после жестоких житейских бурь.
Самое сильное для меня потрясение в книге – то место, где Николай Петрович делится сокровенным, ощущением счастья от того, что увидел во сне свою жену – через 17 лет после ее кончины.
Игра судьбы и судьба игры – два фактора, определившие линию его жизни. Пусть она длится как можно дольше. На благо всем нам.
На таких людях, как Старостин, и стоит футбол.
Александр ВайнштейнСноски
1
Спорт-экспресс. 26 мая 2017.
(обратно)
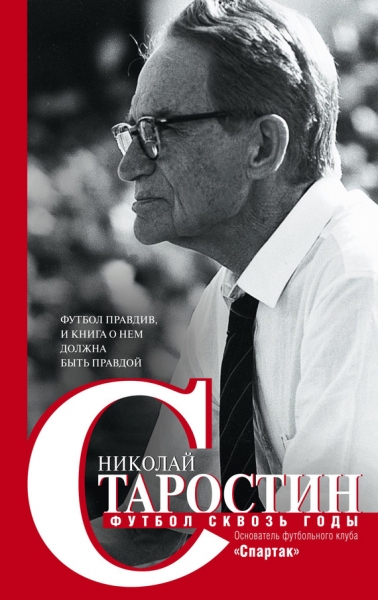

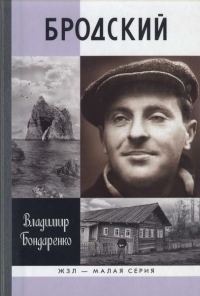



Комментарии к книге «Футбол сквозь годы», Николай Петрович Старостин
Всего 0 комментариев