Даниэль Шёнпфлуг Время кометы. 1918: Мир совершает прорыв
Метеор летит по своей траектории, держится вблизи Земли и благодаря силе земного притяжения отклоняется от своего пути, на короткие, критические мгновения пронзает атмосферу, благодаря трению о воздух превращается в частицу звездопада; успевает избежать опасности навсегда привязаться к Земле и летит дальше, прочь, остывая и вновь угасая в пустом пространстве.
Пауль Клее. Рукописи лекций, 1921Пауль Клее
Комета над Парижем, 1918
Пролог: Ядро кометы
Ранним утром 11 ноября 1918 года германского кайзера вешают в Нью-Йорке между двумя небоскребами. Монарх безжизненно болтается на длинной веревке, окутанный мерцающим в солнечных лучах облаком конфетти. Правда, это не Вильгельм II собственной персоной, а его копия, набитая ватой матерчатая кукла больше человеческого роста, украшенная пышными усами и остроконечным прусским шлемом. На острие шлема трепещут длинные белые полоски бумаги, которые люди бросают с верхних этажей и которые с царственной медлительностью опускаются в пропасть улицы.
В пять часов утра по американскому времени вступает в силу перемирие между союзными державами и Германским рейхом. «Гунны», как в Америке со времен начала войны называют немцев, спустя четыре года жестокой борьбы поставлены на колени. Первая мировая война, которая унесла жизни шестнадцати миллионов человек по всему миру, выиграна. Жители Нью-Йорка узнали об этом из утренних газет и тысячами устремились на улицы. Меж небоскребов бурлит море людей, нарядно одетых, в костюмах и при шляпах, в выходных платьях, в мундирах и в форме медсестер, плечом к плечу, рука об руку, приветствуя друг друга и обнимаясь. Колокольный звон, выстрелы салюта, марши и звуки фанфар сливаются с миллионами хохочущих, поющих и скандирующих что-то хором голосов в единый грохот мощно накатывающего прилива. Автомобили, в окна которых высовываются люди и с энтузиазмом машут флагами, гудя, на самой медленной скорости пробираются сквозь толпу. Город вышел на импровизированный уличный праздник с написанными от руки плакатами, самодельными трибунами, песнями, распеваемыми хором, лихими плясками на мостовой. Вся работа остановилась в Нью-Йорке в этот день победы, который, по всеобщему убеждению, должен вскоре привести к миру на всей земле.
Мойна Майкл, мать семейства и преподавательница колледжа для девочек в Джорджии, незадолго до этого получила отпуск у себя на службе. Вот уже несколько недель эта крепкая, почти пятидесятилетняя дама работает в учебном лагере «Христианского союза девушек» — женской ипостаси ИМКА[1]. В аудиториях Колумбийского университета на Манхэттене она помогает готовить молодых женщин и мужчин к работе в Европе. Через краткое время самые способные из них отправятся за Атлантику в качестве гражданских вспомогательных лиц для организации пунктов обеспечения солдат в тылу. За два дня до перемирия Мойне Майкл случайно попался в руки номер «Домашнего журнала для женщин»[2], в котором было опубликовано стихотворение о войне канадского лейтенанта Джона Маккрея «На нивах фландрских»: «На нивах фландрских маки расцвели // Среди крестов…»[3] Страница была изобильно украшена фигурами солдат-героев, обративших взор к небесам. Она не отрываясь читает стихотворение до конца, где в последних строках Маккрей заклинает тех, кто уцелел, подхватить огонь борьбы, который зажгли солдаты, умирающие на полях сражений. Слова и образы находят отзвук в ее душе, и ее насквозь пронизывает ощущение, что стихотворение написано для нее лично, что голоса мертвых говорят этими строчками прямо с ней. Имелась в виду именно она! Она должна протянуть руку и подхватить угасающий факел борьбы во имя мира и свободы! Она должна стать той, кто высоко понесет честь погибших, именно она должна позаботиться о том, чтобы воспоминание о миллионах жертв не угасло, чтобы они сражались не напрасно и чтобы их смерть не оказалась бессмысленной!
Мойну настолько потрясло это стихотворение и ее миссия, что она тут же взяла карандаш и на желтом конверте написала собственные стихи о маке, о цветке, который цветет над погибшими. Эти строки — как ритмическая клятва: она клянется передать выжившим урок, полученный в сражениях на нивах Фландрии: «Мы не забудем маков алых весть // И не уроним наших павших честь. // Урок их мы усвоили навек — // Не даром обрели они ночлег // На нивах фландрских».
Пока она записывает эти свои мысли, к ее письменному столу подходит группа молодых людей. Они собрали десять долларов в знак благодарности Мойне за помощь в устройстве их офиса ИМКА. Принимая из их рук чек, Мойна уже знает, что будет делать — внезапно вся картинка складывается у нее в голове: она не хочет останавливаться на словах, даже если они удачно зарифмованы. Стихи должны воплотиться в жизнь! «Я куплю красные маки… Отныне я всегда буду носить на груди красные маки», — заявляет она ошарашенным мужчинам. Потом показывает им стихотворение Маккрея и, чуть поколебавшись, зачитывает вслух и свое собственное. Молодые люди в восторге. Они тоже хотят прикрепить к своей одежде маки, и Мойна обещает достать им цветы. Часы, оставшиеся до объявления перемирия, она проводит в поисках искусственных цветков мака по нью-йоркским магазинам. Выясняется, что, хотя среди богатейшего разнообразия в столице мира имеются искусственные цветы на любой вкус, выбор воспетых в стихах огненно-красных цветков вида papaver rhoeas очень ограничен. В универмаге «Ванамейкер», похожем на огромную башню, где есть все: от галантереи до автомобилей, и даже хрустальная чайная комната, — цветок наконец найден. Она покупает большой искусственный мак, чтобы поставить у себя на письменном столе, и пару десятков мелких, в четыре лепестка, шелковых цветочков. Вернувшись в ИМКА, она прикрепляет цветы к груди молодых людей, которые вскоре отправятся во Францию на службу. Это скромное начало победного шествия нового символа. Всего несколькими годами позже «маки поминовения» («Remembrance Poppies») станут во всем англоязычном мире воплощением памяти о жертвах мировой войны.
Культ этих красных цветов зародился в исключительный момент мировой истории, когда миллионы людей по всему свету торжествовали, замирали, скорбели или клялись отомстить. Порожденный минутой, этот символ обращен как в прошлое, так и в будущее. С одной стороны, красные цветы взывают не предавать забвению то, что уходит в прошлое. В этом смысле они являют собой часть мировой мемориальной культуры, в которой принято совершать ритуальные церемонии, возводить памятники, а в школах, различных учреждениях и казармах высекать на каменных плитах имена павших. С другой стороны, идея Мойны Майкл указывает вперед, ибо для нее пролитая кровь и массовые жертвы — это обязательство перед будущим: на могилах должны цвести цветы, говорит ей поначалу наивная, родившаяся из спонтанного порыва и глубокой веры надежда на будущее. Не только для нее, но и для множества ее современников в конце войны неизбежно встает вопрос о будущем. Конец войны вызвал в воображении картины лучшей жизни, но и страхи тоже; он порождает сокрушительные идеи, мечты и планы, но вместе с тем — и кошмарные видения.
В 1918 году Пауль Клее в своей картине «Комета над Парижем», в равной мере иронической и символической, избирает промежуточную позицию между прошлым и будущим, между реальностью и фантазиями. На рисунке пером и акварелью, изображающем солдата Королевской Баварской летной школы, видны, если присмотреться, не одна, а две кометы: зеленая с длинным опущенным вниз хвостом и вторая — в форме звезды Давида. Обе кометы облетают вокруг головы канатоходца, который, держа в руках шест, балансирует на невидимом канате высоко над Эйфелевой башней. Это одна из многочисленных работ Пауля Клее того времени, изображающая созвездия над городами, и, как это часто бывает, художник выступает здесь в роли «иллюстратора идей». На рисунке далекий Париж — столица врага, но родина искусства — предстает как современный Вифлеем. В то же время комета с незапамятных времен, а еще более — в зыбкой, напряженной атмосфере начала XX века, становится символом непредсказуемого, предвестником великих событий, коренных перемен и даже катастроф. Возникнув над горизонтом, она высвечивает небывалые возможности, неведомое будущее. Маленькая сестра кометы, звезда, словно бы приглашает помечтать. Но тут же метеорит, упавший на землю, пугает своей разрушительной силой. На исходе 1910 года мир испытал явление Дневной кометы (первый раз ее увидели в городе Йоханнесбург) и кометы Галлея, и самые пугливые из числа граждан Земли на всех континентах уже стали готовиться к концу света. Это событие, а также сообщение о столкновении с Землей небесного тела «Ричардтон» в Северной Дакоте 30 июня 1918 года могли вдохновить Клее на создание его картины. Канатоходец Клее балансирует на полпути между земным чудом света, Эйфелевой башней, и небесными чудесами, в равной степени манящими и опасными. Он парит в невесомости, не принадлежа целиком ни одной из стихий, кутаясь головой в облаках, но подвергаясь беспрестанной опасности потерять равновесие и сорваться вниз. Окруженный роем звезд, он выглядит скорее как пьяный, нежели как одухотворенный человек. По его широко распахнутым глазам можно даже предположить, что небесные тела кружат ему голову и предвещают падение вниз.
Так Паулю Клее с помощью этой картины удается создать иронический символ времени, когда сознание колебалось между воодушевлением и чувством поражения, между надеждами и опасениями, между отвлеченными видениями и суровой реальностью. Тот, кто верил в символику комет, мог 11 ноября 1918 года, в день перемирия, когда старая Европа, лежа в руинах, ликовала, хотя под боком у нее происходили революции, рушились огромные империи и начинал расшатываться мировой порядок, толковать происходящее как свершение небесных предзнаменований. В этот же переломный момент на землю пролился метеоритный дождь из всевозможных проектов будущего. Редко история представала столь открытой, столь полномасштабной, столь зависимой от рук человека. Редко представлялось столь необходимым быстро преобразовывать ошибки прошлого в концепции будущего. Редко казалось, что перед лицом мира в пору грандиозных изменений необходимо личное вмешательство и борьба за свои мечты. На свет появлялись новые политические идеи, новое общество, новое искусство и культура, новое мышление. Провозглашался новый человек, человек XX века, рожденный в горниле войны и освобожденный от оков старого мира. Подобно фениксу, Европа должна была возродить из пепла себя саму, да и весь мир в придачу. Карусель возможностей крутилась до того быстро, что у многих современников закружилась голова.
Люди, о которых в дальнейшем пойдет речь, все как один канатоходцы. Их абсолютно субъективное видение происходящего взято из их автобиографий, мемуаров, дневников и писем. Правдивость этой книги равна правдивости этих документов. Она вполне может противоречить историческим исследованиям, а порой наши свидетели даже привирают. Они озадаченно наблюдают, как ярко вспыхивают на небосклоне мечты, но видят они и то, как быстро угасают и умирают звезды, кометы и прочие небесные тела. На ощупь продвигаются они вперед по узкой тропинке, ведущей в пропасть. Кому-то, как Мойне Майкл, удается удерживать равновесие в вышине, другие срываются вниз, как кайзер Вильгельм II, для которого тонкий канат становится веревкой для повешения — хотя бы заочно, в виде чучела.
И все же эти воспоминания показывают то почти немыслимое напряжение, которым было обременено послевоенное время. Ибо мечты и стремления на рубеже XIX и XX столетий не только окрыляли людей, но и заставляли их разрываться на части. Некоторые планы на будущее абсолютно противоположны друг другу и даже друг друга исключают — так, во всяком случае, утверждают многие из новых провозвестников спасения — и могут осуществиться только тогда, когда будет разрушена другая мечта. Так ожесточенная борьба за лучшее будущее вместо вожделенного мира приносит новое насилие и требует новых жертв.
1. Начало конца
Будь то вправо или влево, Вперед или назад, Вверх или вниз — Надо идти дальше, Не спрашивая, что предстоит, а что позади. Это должно быть скрыто: Вы имеете право, и вам приходится это забыть Во имя выполнения задачи. Арнольд Шёнберг. Лестница Иакова, 1917Пол Нэш
Мы создаем новый мир, 1918
Сумерки уже спустились на холмистую бельгийскую местность, когда кортеж из пяти черных правительственных автомобилей немецкой ставки верховного командования в городке Спа тронулся в путь — это было 7 ноября 1918 года. В последнем автомобиле сидел Маттиас Эрцбергер, сорока трех лет, грузный, никелированная оправа очков поблескивала над аккуратно подправленными усами, волосы аккуратно разделены на пробор. Правительство Германского рейха отправило госсекретаря во вражескую страну во главе делегации из трех человек. Ему предстоит, поставив свою подпись, завершить войну, которая длилась более четырех лет и охватила почти всю планету.
В 9 часов 20 минут — а между тем припустил мелкий дождь — колонна недалеко от местечка Трелон на севере Франции пересекла немецкую линию фронта. За последним рядом немецких траншей, из которых до этой самой минуты несся на французов смертельный шквал огня, начинается нейтральная полоса. Осторожно продвигаясь в полной темноте со скоростью пешехода, колонна приближается к вражеским позициям. На первом автомобиле укреплен белый флаг. Горнист время от времени трубит короткие сигналы. Заключенное перемирие соблюдается: ни одного выстрела не раздается на протяжении всего пути по истерзанной войной земле вплоть до первого ряда французских окопов, которые от немецких отделяет всего сто пятьдесят метров. По мнению Эрцбергера, прием на той стороне ему оказывают холодный, но уважительный, от повязки на глазах переговорщиков, принятой в таких случаях, отказываются. Два офицера сопровождают автомобиль в местечко Ля-Шапель, где при появлении переговорщиков начинают собираться солдаты и гражданское население, встречая послов хлопками в ладоши и громкими выкриками: «Фини ля герр?»[4]
Далее поездка Эрцбергера продолжается в сопровождении французских машин. Когда из-за облаков выглядывает луна, ее тусклый свет освещает апокалиптическую картину. Пикардия, которая в течение четырех лет была ареной мировой войны, превратилась в царство смерти. По обочинам ржавеют искореженные орудия и остовы военных машин. Рядом — разлагающиеся трупы животных. На полях тут и там торчит колючая проволока. Земля вспорота тысячами взрывов, начинена тоннами опасных снарядов, зачумлена вонью бесчисленных трупов, отравлена газом. Дождевая вода скапливается в траншеях и воронках. От лесов остались лишь обугленные пни, очертания которых вырисовываются на фоне ночного неба. Колонна пересекает деревеньки и городки, которые немецкие войска, уходя, сровняли с землей. Про местечко Шони Эрцбергер потрясенно пишет: «Не сохранилось ни единого дома; одни развалины сменяли другие. В свете луны руины казались призраками; ни одного живого существа».
Маршрут, определенный для немецкого эмиссара французским армейским начальством, пролегал через те территории на севере Франции, которые пострадали от войны больше всего и которые выглядели так, словно сюда упал метеорит. Страшное зрелище тех мест, которые позже будут обозначены на географических картах как «красная зона», должно было настроить Эрцбергера на предстоящие переговоры о перемирии. Те земли, которые, по мнению тогдашних специалистов, навсегда стали непригодными для сельского хозяйства, должны показать, какой ущерб причинили немцы французам. Знаток гражданского права Эрцбергер, возможно, уже видел опустошенную войной Северную Францию, главный аргумент военной пропаганды, на фотографиях, открытках, в газетах и выпусках новостей. Как человек образованный и открытый миру, он наверняка уже прочитал роман «Огонь» Анри Барбюса об империалистической войне, где точно и проникновенно описаны «поля бесплодия». Возможно, знаком он и с живописными работами того времени, представляющими собой совершенно новую форму пейзажной живописи: так, британец Пол Нэш передал свои впечатления от войны в символической картине, где над изуродованным от бомб и снарядов лесом всходит мертвенное солнце. «Мы создаем новый мир» — так называется это полотно, балансирующее между ужасом и надеждой. Но своими глазами увидеть гиблые пустыни — опустошительное наследие мировой войны — это нечто другое. «Эта поездка, — пишет Эрцбергер в своих воспоминаниях, — потрясла меня больше, чем совершенная за три недели до того поездка к смертному одру моего единственного сына». Американский офицер Гарри С. Трумэн к военным пейзажам привык уже давно. Он описывает их в письме к своей подруге Бесс Уэллис: «Деревья, которые некогда представляли собой пышный лес, превратились теперь в обрубки с голыми ветвями и застыли словно привидения. На каждом шагу сплошные воронки. <…> Эта выжженная земля была когда-то столь же прекрасна, как и вся Франция, а нынче Сахара или Аризона покажутся райскими садами по сравнению с ней. Когда за деревьями всходит луна, то кажется, будто призраки полумиллиона убитых здесь французов выстроились на траурный парад среди руин».
Трумэн, фермер из Миссури, а во время войны офицер артиллерийского расчета, находится на сто пятьдесят километров восточнее города-призрака Шони, через который проезжает Маттиас Эрцбергер той самой ночью 7 ноября 1918 года. В холмистых Аргонских лесах, где Трумэн служил с конца сентября 1918 года, бушевали последние сражения между Германским рейхом и союзниками. Верховный главнокомандующий Франции маршал Фош определил эти покрытые лесом холмы в треугольнике между Францией, Германией и Бельгией как арену для решающего наступления. Позиция «Зигфрид», называемая союзниками также «линией Гинденбурга», последняя укрепленная позиция немецкой армии, пала еще в конце сентября 1918 года, в первые дни наступательной операции. Но французская армия и Американский экспедиционный корпус, самое крупное вооруженное формирование, какое США когда-либо направляли на войну вне своей территории, неумолимо продвигались все дальше на восток, в направлении Рейна. Сидя в блиндаже под Верденом, Трумэн пишет: «Обстановка неутешительная. У меня в палисаднике похоронены французы, а за домом — гунны, и те и другие валяются повсюду, насколько хватает глаз, куда ни глянь. Всякий раз, когда немецкая граната попадает на поле к западу отсюда, обнажаются чьи-то останки. Хорошо, что я не верю в привидения».
Вильгельм Прусский, наследник трона Германского рейха, в отличие от кайзера усов не носил. Словно для того, чтобы отграничить себя от непомерно значительной фигуры отца, он демонстрировал гладко выбритую кожу под носом, там, где у кайзера гордо красовались жесткие пучки волос в виде имперского орла, пикирующего на свою жертву. И по сравнению с представительным Вильгельмом II кронпринц даже в преклонные годы всегда выглядел несколько моложаво, как будто голо. Зато, в отличие от тысяч немецких солдат — среди которых был и Адольф Гитлер, — этому старшему сыну Гогенцоллернов, родившемуся в потсдамском Мраморном дворце, не пришлось стричь усы покороче, когда это украшение на лице внезапно оказалось смертельно опасным, ибо начались газовые войны и для защиты стали применять противогаз. В 1918 году в возрасте тридцати шести лет Вильгельм Прусский возглавил группу войск «Кронпринц Вильгельм», которая на тот момент состояла из четырех армий. Но тот факт, что он ее возглавил, не означал, что он ею в действительности руководил. Отец, приучивший его с младых ногтей участвовать в деле управления государством только на расстоянии, строго-настрого внушил ему, что в тех случаях, когда надо принимать решение, инициативу следует делегировать главе Генерального штаба Фридриху фон дер Шуленбургу. Именно по этой причине кронпринц сразу в двух смыслах называл его «своим шефом». С лета 1918 года, когда захлебнулось последнее наступление немцев, группа войск «Германский кронпринц» находилась в состоянии непрерывного отступления.
В сентябре 1918 года в душу кронпринца, наблюдавшего ярую неистовость атак со стороны союзников, впервые закралось сомнение в победе немцев: «У нас было такое ощущение, будто мы находимся в эпицентре вражеского наступления и… худо-бедно как-то еще держимся за счет сосредоточения всех своих сил. <…> Сколько можно?» Чуть позже, посетив первый гвардейский дивизион, которым командовал его брат Эйтель Фридрих, он окончательно вынужден был признаться самому себе, что борьба немцев против альянса союзников сделалась бесперспективной. Обычно никогда не унывающий Фриц встречает его в полном и беспросветном отчаянии. Весь его дивизион состоит всего только из пятисот человек. Питание у солдат скверное. Орудия «отстреляли свое», а замену не поставляют. Хотя наступление американской пехоты, которое ведется «совсем не по-военному», колоннами, можно остановить ковровым пулеметным огнем, но с новейшей технологической разработкой союзников — с танками — у немецких войск большие сложности. Американские танковые бригады переезжают через немецкие окопы, где на двадцать метров — всего один солдат, и начинают обстреливать их с тыла. К тому же американцы, в отличие от немцев, видимо, располагают неисчерпаемыми запасами тяжелой артиллерии и живой силы. Каждая их атака предваряется такой огневой подготовкой, какой не бывало даже в Вердене или на Сомме. Братья-кронпринцы выросли на рассказах о героизме солдат, о полях чести, на которых решается вопрос жизни и смерти целых империй, о полководцах, которые гарцевали впереди своих армий с саблей наголо и с развевающимся султаном на кивере, а теперь оказались посреди чудовищной неразберихи и окровавленного мяса.
При столкновении с превосходством противника в душе Вильгельма поселяется чувство бессилия. Изможденные, в плохом обмундировании, с негодным оружием и боеприпасами, которыми их снабжают все хуже, его солдаты — те из них, кто не предпочел смерти плен, — пытаются противостоять сонму атакующих врагов. Каждая новая вражеская атака усиливает это чувство беспомощности. «Небеса в огне дрожали, глухие удары, рев и раскаты никак не хотели умолкнуть». В конце сентября кронпринцу уже совершенно ясно, что так долго продолжаться не может. «Где в головах этих мужчин, с ума сведенных голодом, мучениями, лишениями, тысячу раз отважно рисковавшими своею жизнью за Отечество, теперь пролегает граница между возможностями их и их желаньем?»
Элвин Каллам Йорк вступил в ряды американской пехоты после долгих колебаний. Дитя природы, рослый, рыжеволосый, широкоплечий детина из деревни Пэл-Мэл в горах Теннесси был глубоко верующим и принадлежал к методистской церкви. Каждое слово Библии было для него законом, и пятая заповедь: «Не убий» — являлась священным аргументом против того, чтобы пойти в армию. Когда Йорка призвали на военную службу, это повергло его в тяжелое состояние раздвоенности между долгом христианина и долгом американского гражданина. Он неустанно перечитывал Священное Писание в поисках слов, которые могли бы его направить. Он молился, разговаривал об этом со своим пастором и наконец пришел к выводу, что надо подать прошение об освобождении от воинской повинности. Довод в письме был предельно лаконичен: «Не хочу воевать». Но его прошение было отклонено, и Йорк в конце концов покорился неизбежному, надеясь, что не попадет в действующую армию. Обучение он прошел в Кэмп-Гордоне, в Джорджии, затем через Нью-Йорк отправился в Бостон, где 1 мая 1918 года в 4 часа утра сел на корабль. Йорк, до этого родимых гор никогда не покидавший, теперь пересек великий океан, направляясь на войну в далекую Европу. Тоска по родине, морская болезнь и страх перед немецкой торпедой, которая могла угодить в корабль, превратили путь через океан в настоящую муку: «По мне, так с водой был перебор».
После остановки в английском порту Йорк 21 мая 1918 года оказался во французском портовом городе Гавре на берегу Ла-Манша. Там ему выдали оружие и противогаз. «Война стала на порядок ближе», — вспоминал он позже. С июля 1918 года его подразделение воевало под французским командованием, сначала на спокойных участках фронта, чтобы набраться опыта. Первое сражение Йорка произошло в ходе Сен-Миельского прорыва, начавшегося 12 сентября и продлившегося несколько дней. Кровопролитная операция закончилась победой американцев и имела колоссальное всемирно-политическое значение: тогда американский экспедиционный корпус впервые действовал самостоятельно под командованием американского генерала Джона Першинга. С самого начала вступления США в войну американские войска неизменно подчинялись французскому командованию. Так что Сен-Миель можно считать символом нового американского самосознания, а если вычленить главное, то вполне можно сказать, что в этом местечке на севере Франции Америка впервые стала играть роль на международной арене.
В начале октября подразделение Йорка перебросили в Аргонны, через десять дней после того, как там началось решающее заключительное наступление. Теперь и перед ним предстали зияющие пустотой ландшафты войны, при виде которых казалось, что «здесь прошел чудовищный смерч». Еще на подходах к фронту жизнь Йорка висит на волоске. Немцы бомбят все дороги, по которым движутся войска, и немецкие самолеты с воздуха направляют огонь своих пулеметов на колонны солдат на марше. Седьмого октября Йорк проводит в укрытии, в воронке от гранаты на обочине дороги невдалеке от деревушки Шатель-Шеери. В двух шагах падает град обстрела, пожирающий его товарищей. Санитары проносят мимо раненых, которые громко кричат. Мертвые с разинутыми ртами и остекленевшими глазами остаются лежать у обочины. И вдобавок непрекращающийся дождь, постепенно наполняющий яму водой.
Восьмого октября, в 3 часа утра, приходит приказ, с которого начинается самая опасная военная эпопея Йорка. В 6 часов утра, стартуя от ближайшей «высоты 223», следовало захватить железнодорожную ветку, которая поставляла немцам подкрепление. Йорк отправляется в путь вместе со своим взводом, надев противогаз. В 6 часов 10 минут с небольшим опозданием начинается атака. Огонь окопного миномета должен отрезать немцам путь к отступлению. Но долина, по которой трусцой бегут американцы, оказывается для них смертельной ловушкой. С хорошо замаскированной точки немецкий пулемет поливает весь склон огнем. Первую волну атакующих он косит, «словно сенокосилка траву». Выжившие изо всех сил вдавливаются в любую ямку, укрываются за каждым бугорком, прячутся за спины своих же товарищей. Под градом пуль немыслимо даже голову поднять. Когда становится очевидно, что под таким огнем лобовая атака обречена, офицер, под началом которого находится Элвин Йорк, придумывает другой план. Он приказывает всем выжившим из трех подразделений отступить назад. Семнадцать мужчин, в том числе Йорк, осторожно ступая, крадутся неслышными шагами, а вслед за тем продираются сквозь густые заросли прямо в направлении тарахтящих дул.
За несколько шагов до цели американские солдаты выходят на поляну, где добрый десяток немецких солдат в это время завтракает. Их оружие и шлемы лежат на траве. Обе стороны ошарашены этой неожиданной встречей и замирают на мгновение, словно громом пораженные. Но если американцы держат оружие наизготовку, то немцы сидят в одних рубашках с засученными рукавами и жуют. Кроме того, солдаты Германского рейха принимают появившихся американцев за передовой отряд более крупного американского соединения. Они поднимают руки вверх, сдаваясь.
Очень скоро, однако, немецкие пулеметчики смекают, в чем дело, и разворачивают смертельные дула своих пулеметов в направлении пришельцев. Йорк видит, как шестеро его товарищей гибнут под градом выстрелов. «В капрала Саважа… они всадили не менее сотни пуль. У него вся одежда превратилась в клочья». Немцы и американцы бросились на землю; напавшие искали защиты между телами тех, на кого напали. Йорк лежал буквально в двадцати метрах от немецкого пулеметного гнезда. Под смертоносным огнем стрелок с гор Теннесси полагался на свой меткий глаз и твердую руку. Едва какой-нибудь немец поднимал голову из укрытия, он, безупречно прицелившись, всаживал в него пулю. Все было как во время стрельбы в индюшку на деревенских праздниках дома, только здесь цель была покрупнее.
В конце концов немецкий офицер с пятью солдатами выскакивает из окопа. Штурмовой отряд с примкнутыми штыками надвигается на Йорка. Но за несколько метров до его позиции Йорк из пистолета отстреливает немцев одного за другим. Он начинает с последних, чтобы передние оказались поближе на линии огня.
Тем временем Йорк убил уже более двадцати немецких солдат, а оставшимся прокричал, чтобы они сдавались. Немецкий майор берется склонить к сдаче своих товарищей. Раздается свисток, и немцы один за другим выходят из окопов, бросают оружие и поднимают руки. Йорк строит их в колонну по двое. Оставшиеся его товарищи встают по обе стороны в качестве охраны, и начинается марш назад, во время которого они подвергаются двойной опасности: во-первых, поблизости есть и другие немецкие позиции, во-вторых, существует вероятность, что длинную колонну немцев примут за ответное германское наступление, и тогда их обстреляют американцы. Однако Йорк приводит пленных, число которых по дороге увеличивается — люди сами идут к нему в руки, — обратно в штаб. Там пленных считают. Их оказывается 132 человека, и всех их взял в плен бывший пацифист Йорк, причем практически в одиночку.
Пока на Западном фронте идут последние решительные наступления, грозившие обернуться тем, что еще более миллиона солдат лишатся свободы, здоровья или жизни, маховики международной дипломатии уже давно пущены в ход, чтобы нащупать возможность завершения войны. Еще 4 октября немецкое правительство направило телеграмму в Вашингтон президенту Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсону, предлагая ему переговоры о перемирии. Это был тактический маневр, преследовавший цель отвести американскому главе важную роль в мирном процессе в противовес западным европейским державам, в особенности Франции, которая ничего так страстно не желала, как наказать «заклятого врага» за агрессию. Вильсон, со своей стороны, еще 8 января 1918 года, выступая перед конгрессом Соединенных Штатов, назвал четырнадцать пунктов, в которых были сформулированы причины участия в войне с американской стороны и основы будущей мирной жизни: он потребовал открытых мирных переговоров, свободы судоходства на морях, свободы торговли, сокращения вооружений, окончательного урегулирования колониальных споров. Размытые вследствие войны границы в Европе и на Ближнем Востоке должны быть, по словам американского президента, четко определены путем отвода немецких войск и установления нового территориального порядка. Должно было быть образовано общее объединение наций, которое создало бы взаимные гарантии независимости и территориальной целостности. Позже Вильсон добавил к этому перечню требование, чтобы Германия провела парламентаризацию своей политической системы; для него это требование означало также и отречение германского кайзера. Эта инициатива, за которую американский президент в 1919 году был удостоен Нобелевской премии мира, не была согласована с европейскими союзниками. Теперь, когда Соединенные Штаты Америки отдали свою дань мировой войне, они сочли себя вправе не просто вступить в круг мировых держав, но и возглавить его.
Решение военных вопросов в ходе перемирия Вильсон предоставил полководцам союзных держав. Вот почему свои представления о перемирии 1 ноября 1918 года в Париже изложил представителям правительств важнейших противников Германии французский маршал Фердинанд Фош, главнокомандующий союзных войск. По словам Фоша, это перемирие должно быть равно капитуляции. Только в этом случае войну можно выиграть без той последней смертельной битвы, на которую он внутренне так давно настраивался. Прежде всего необходимо было при последующих переговорах настоять на оккупации правого берега Рейна. Иначе немцы под прикрытием перемирия и под флагом защиты Рейна способны были изменить расположение своих войск и либо пойти в новое наступление, либо, по меньшей мере, оказать давление на ход предстоящих мирных переговоров. И для Фоша тоже военный ландшафт играл центральную роль. Но он имел в виду вовсе не леса-призраки, которые оставляла после себя война, а тот «ландшафт войны», о котором писал в 1918 году Курт Левин, берлинский социопсихолог. Он говорил о том, как в результате военных конфликтов в природном ландшафте появляются иные границы и направления, излагал свои представления о «спереди» и «сзади». Именно такое представление и составил себе о ландшафте Фердинанд Фош. В своей штаб-квартире, которая больше напоминала офис крупной фирмы или инженерно-конструкторское бюро, нежели наблюдательный пункт полководца, он управлял пространством и снабжал его человеческими и тактическими ресурсами. Мысля понятиями военной логистики такого рода, Фош настаивал на том, чтобы вместе с союзными армиями перейти на ту сторону Рейна. Для него это был вопрос количества людей и возможности их переброски. Неужели можно закончить современную войну, стратегически и тактически выверенную, столь же современным логистическим миром? Его ответ: если мы этого не сделаем, мы поставим под угрозу будущее, которое мы могли бы воплотить после столь тяжело доставшихся побед.
К 4 ноября условия союзников установлены. Они вполне соответствуют замыслам Фоша, и о них окольными путями рапортуют Вашингтону. К той же дате относится предложение начать переговорный процесс в Париже, адресованное немецкой комиссии по перемирию. Фош дает указание принять немецкого посла. Через пару дней, в ночь с 6 на 7 ноября, приходит радиотелеграмма, в которой уточняются имена членов немецкой делегации.
Сто двадцать девятый артиллерийский полк, которым командует Гарри С. Трумэн, выполняет задачу прикрывать сухопутный авангард союзников от немецкого артиллерийского обстрела. Он сообщает своей возлюбленной Бесс, что за пять часов выпустил по «гуннам» 1800 гранат. В начале наступления его подразделению приходилось держать уши востро. Как только они начали артиллерийский обстрел, тут же обнаружили свое местонахождение, и противник подверг их бомбежке и газовым атакам. Они вели странную войну, где бал правили техника, тактика, стратегия, баллистика и логистика, а врага они в лицо почти никогда не видели. Однако с конца октября сопротивление немцев ослабело. Было похоже, что немцам «не хватает сил, чтобы отстреливаться. <…> Вчера их летчик упал с неба прямо за моей батареей, он вывихнул лодыжку, а самолет превратился в груду щепок, и потом его растащили по частям окрестные французы и американцы. Они даже куртку у немца пытались отнять. <…> Один наш офицер — мне даже писать об этом стыдно — снял с хромого летчика сапоги и оставил их себе. <…> „Конец войне!“ — прокричал летчик по-французски, чтобы его хоть в живых оставили».
Наступление требует от солдат напряжения всех сил. Необходимо непременно угнаться за стремительно передвигающимся фронтом. Для этого приходится тащить орудия по грязи и слякоти, вручную и лошадьми, напрягая все силы. Ночные переходы доводят людей до изнеможения. «Каждый из нас уже стал напоминать какого-то чахлого призрака, все мы день ото дня худели, пока не превратились в огородные пугала».
Но чем очевиднее становится поражение немцев, чем дольше полк Трумэна оттесняет невидимого врага, не терпя никаких серьезных потерь, тем в большей мере война, в которую Соединенные Штаты вступили в апреле 1917 года, кажется ему «чудовищным опытом». Временные жилища, в которых он, как офицер, находит ночлег — иногда там даже есть печка, телефон и полевая кухня, — становятся для него родиной на час. Он так привык теперь спать под землей, что дома, наверное, заберется ночевать в подвал, мрачно шутит он. В последние недели войны, когда победа кажется совсем близкой, письма Трумэна становятся заметно бодрее. Все чаще позволяет он себе думать о родине: если он когда-нибудь вернется домой, то почтет за счастье до конца дней своих ходить за ослом по кукурузному полю. Он даже находит время отправить в письме своей возлюбленной Бесс два цветочка в подарок.
Такое чувство охватывает, когда читаешь письма Трумэна, написанные в последние дни войны, будто оказываешься в фильме Чарли Чаплина «На плечо!», премьера которого состоялась в Нью-Йорке на Бродвее 20 октября 1918 года. Лента, задуманная в то время, когда Чаплин рекламировал «Заем свободы», призывая пожертвовать деньги на нужды армии, рассказывает о маленьком человечке с тонкими усиками, который мается ровно в тех же окопах Северной Франции, где и Трумэн проводил последние недели войны. В конце фильма герою удается освободить из немецкого плена милую французскую девушку. По ходу дела он сталкивается с самим германским кайзером, берет его в плен и уводит под прицелом своей винтовки. Так Бродяга заканчивает мировую войну, завершает пресловутый «чудовищный опыт».
Поздним вечером 7 ноября верховный главнокомандующий Фердинанд Фош садится в спецпоезд в Сенли, к северо-востоку от Парижа. Его сопровождает глава его Генштаба Максим Вейганд, три офицера Генштаба и представители британского флота под руководством адмирала Вемисса. Едут недолго. За местечком Компьен, посреди лесной поляны, невдалеке от городка Ретонд, поезд останавливается. Впереди долгая ночь ожиданий. Только на следующее утро, в 7 часов, прибывает поезд, в котором отправились после полуночи с превращенного в руины вокзала в Тернье немецкий посланник Эрцбергер и его спутники.
Двумя часами позже, 8 ноября 1918 года в 9 утра, в вагоне спецпоезда, превращенном в личный кабинет Фоша, состоялась первая встреча. Атмосфера натянутая. Сначала в кабинет входит немецкая делегация и рассаживается на указанные ей места за столом переговоров. Затем являются французы под руководством маршала Фоша, которого Маттиас Эрцбергер описывает как «мужчину небольшого роста с суровыми, энергичными чертами лица, которые с первого взгляда выдавали привычку командовать». Вместо рукопожатия звучит только военное приветствие, а штатские обмениваются скупыми кивками головы. Делегации представляются друг другу: Эрцбергер, Альфред фон Оберндорф, Детлоф фон Винтерфельдт и Эрнст Ванселов должны предъявить свои полномочия.
Затем Фош начинает переговоры с наигранным удивлением: «Что привело вас сюда, господа? Что вы хотите от меня?» Маттиас Эрцбергер отвечает, что делегация прибыла, чтобы узнать условия перемирия, которые предлагают союзники. Фош сухо заявляет, что он не намерен делать какие-либо предложения. Оберндорф в ответ спрашивает, какую манеру выражаться предпочитает маршал. Немецкой стороне важна не стратегия, а лишь условия союзников, на которых может совершиться перемирие. Фош четко отвечает, что он не намеревается ставить условия. Тогда Эрцбергер зачитывает вслух последнюю ноту президента Вильсона, из которой недвусмысленно следует, что маршал Фош уполномочен ознакомить делегацию с условиями перемирия. И только тут Фош открывает карты: он уполномочен сообщить об условиях только в том случае, если немецкая сторона ищет перемирия. Ни при каком раскладе Фош не хотел избавить немцев от этой унизительной процедуры.
Тогда Эрцбергер и Оберндорф по всей форме заявляют, что они от имени правительства Германского рейха просят о перемирии. Только тогда генерал Вейганд начинает зачитывать основные формулировки решения от 4 ноября.
Маршал Фош с олимпийским спокойствием сидит за столом. Представитель Великобритании, адмирал Рослин Вемисс, пытается выглядеть столь же равнодушным, но нервное поигрывание моноклем и массивными роговыми очками выдает его внутреннее напряжение.
Немецкие посланники, как позже вспоминает Вейганд, выслушивают чтение условий с бледными, словно окаменевшими лицами. У молодого капитана военно-морских сил Ванселова по щекам текут слезы. Соглашение требует не только немедленного отвода немецких войск со всех оккупированных территорий Бельгии, Франции и Люксембурга, а также с имперской территории Эльзас-Лотарингия, не только (как настоятельно подчеркивает Фош) оккупации союзниками левобережных рейнских областей и нейтральных зон вокруг ключевых мостов в Майнце, Кобленце и Кёльне; оно регулирует также передачу оружия, самолетов, военного флота, железных дорог, а также предполагает отмену мирного договора, заключенного Германским рейхом с Россией в 1917 году.
«Это был душераздирающий момент», — вспоминал потом Вейганд. Генерал Винтерфельдт, дождавшись завершения чтения, предпринимает-таки попытку смягчить условия перемирия: пусть, по крайней мере, срок подписания перемирия перенесут, чтобы можно было согласовать все с правительством, а во время изучения условий германской стороной пушки будут молчать. Фош отвергает и первое, и второе. Предлагается принять ультиматум, ограничивающий срок подписания 11 ноября 1918 года, до 11 часов по французскому времени. Перемирие наступит только после подписания. В тот же день маршал телеграммой посылает командирам приказ ни в коей мере не снижать интенсивность атак. Делается это для того, чтобы еще в ходе мирных переговоров достигнуть «решающих результатов». Обсуждать здесь нечего, подчеркивает он, обращаясь к Эрцбергеру. Немцы вправе либо принять, либо отклонить их предложение, но именно в том виде, в каком оно предъявлено. Так или иначе он подтверждает, что «в частном порядке» возможны переговоры низших чинов обеих делегаций. Эрцбергер надеется добиться послаблений, во всяком случае по части сроков и объемов передаваемого оружия, аргументируя свои усилия необходимостью не допустить голода и полного крушения общественного порядка.
По завершении первого заседания капитана фон Хелльдорфа направляют обратно в германскую штаб-квартиру в Спа с перечнем выдвинутых условий. Переговоры «в частном порядке» начинаются после обеда и растягиваются на два дня, а часы ультиматума неуклонно сокращаются. Вечером 10 ноября около 21 часа, за четырнадцать часов до истечения срока ультиматума, в лесную глушь добирается шифрованное телеграфное распоряжение от немецкого рейхсканцлера. Согласно распоряжению Эрцбергер уполномочен принять все условия перемирия. Невзирая на это послание, немецкой делегации, которая по отдельным пунктам явно провела успешную дипломатическую работу, удается завершить написание окончательного текста. Под самое утро 11 ноября, между 2 и 5 часами утра, за каких-то шесть часов до истечения ультиматума, в окончательный документ вносятся изменения. Хотя они и не умаляют суровости документа, но и не являются чисто условными: вместо 2000 самолетов Германия обязана теперь отдать 1700, а вместо 30 тысяч пулеметов — только 25 тысяч. Особенно возмущает французского маршала аргументация относительно последней цифры: Эрцбергер уверяет, что оружие нужно Германии, чтобы держать в узде силы, нарушающие общественное спокойствие. Нейтральная зона на правом берегу Рейна должна вместо сорока километров составить теперь всего десять. Освобождение немецкими войсками левобережных территорий вдоль Рейна должно было теперь продлиться тридцать один день вместо двадцати пяти. Предупреждение о том, что Германии грозит голод, приводит союзников к обещанию, что во время перемирия, которое первоначально заключалось на тридцать шесть дней, они будут снабжать Германию продовольствием.
Одиннадцатого ноября 1918 года, в 5 часов 20 минут, прежде чем забрезжило бледное осеннее утро, была подписана последняя страница соглашения о перемирии. Попутно готовится полная версия документа, включающая оговоренные в последний момент изменения. Едва завинтив колпачок ручки, Эрцбергер заявляет, что некоторые из подписанных распоряжений на практике неосуществимы. Его слова завершаются патетической фразой: «Семидесятимиллионный народ страдает, но не умирает». Фош сухо отвечает на это: «Хорошо». Затем делегации расходятся, вновь не пожав друг другу руки.
Описанное подобным образом завершение Первой мировой войны предстает почти как камерная пьеса, и может показаться, что той осенью 1918 года мировая история скукожилась до карманного формата, словно ее можно было сконцентрировать на небольшой горстке лиц, а местом действия послужил обозримый треугольник между Парижем, бельгийским курортным местечком Спа и Страсбургом — на тот момент еще немецким. Но в действительности мировая война не вмещается в один железнодорожный вагон.
В период с 1914 по 1918 год конфликт, в ходе которого мерялись силами державы Антанты — Франция, Великобритания и Россия с одной стороны и тройственный союз Германского рейха, Австро-Венгрии и Италии с другой стороны, — по мере своего развития перерос в глобальную конфронтацию. Она охватила не только Европу, но и Ближний Восток, Африку, Восточную Азию, а также мировые океаны, и 70 миллионов солдат с пяти континентов сражались в этой войне. Соответственно среди 16 миллионов солдат, которым Первая мировая война стоила жизни, давно уже были не только европейцы: 800 тысяч турок, 116 тысяч американцев, 74 тысячи индийцев, 65 тысяч канадцев, 62 тысячи австралийцев, 26 тысяч алжирцев, 20 тысяч африканцев из немецких колоний в Восточной Африке (Танзания), 18 тысяч новозеландцев, 12 тысяч солдат с полуострова Индокитай, 10 тысяч африканцев из немецкой Юго-Западной Африки (Намибия), 9 тысяч солдат из Южной Африки и 415 японцев оставили на полях этой войны свои жизни.
С точки зрения тех участников войны, которые на тот момент смогли сказать свое слово, пауза в военных действиях, начавшаяся в ноябре 1918 года, была предельно четким водоразделом между войной и миром. На самом же деле раскаленная машина мировой войны не могла быть остановлена одним росчерком пера под одним договором. Компьенские подписи скрепили лишь один из четырех договоров о перемирии между различными воюющими сторонами, которые были подписаны в 1918 году. Это был лишь первый шаг к истинным мирным переговорам, и до того момента, когда война окончательно завершилась благодаря целому ряду соглашений, последнее из которых было подписано только в 1923 году, военные действия и столкновения продолжались повсюду. На западном фронте после заключения перемирия последовало продвижение союзных войск до Рейна и оккупация его правого берега. На Балканах не утихал конфликт между Венгрией и Румынией. На Балтике Латвия боролась за независимость с юным Советским Союзом. Помимо этого, в мире свирепствовала эпидемия испанки — разновидности гриппа, который унес больше жизней, чем все сражения этой войны, вместе взятые.
Уже очень скоро конфликты между Ирландией и Англией, между Польшей и Литвой, между Турцией и республикой Армения, а также между Турцией и Грецией оборачиваются новыми войнами. Одновременно русская революция 1917 года вызывает на востоке Европы и в Азии кровавую гражданскую войну между сторонниками и противниками большевиков, которой суждено продлиться до 1922 года.
Марина Юрлова родилась в казачьей семье. Она выросла в одной их кавказских станиц. Чтобы сражаться в рядах царской армии вместе со своим отцом, она остригла волосы и стала носить мужскую одежду. То, что царь, за которого она готова была отдать жизнь, лишился трона, она узнала, находясь в больничной палате бакинского госпиталя. Перед этим она, сидя за рулем армейского санитарного грузовика, попала под обстрел. Обо всем, что произошло дальше, в памяти остались только отрывочные воспоминания: взрывы, осколки, крики. Долгие месяцы в сумеречном состоянии она провела в различных больницах. Телесные раны вскоре зажили, но психические последствия ранений не исчезали. Марина, которой было тогда семнадцать лет, дрожала всем телом, голова у нее сама собой покачивалась из стороны в сторону, а вместо речи раздавались лишь судорожные, невразумительные звуки. В голове у нее все вновь и вновь проносились картины той минуты, которая могла стать последней в ее жизни, того самого мгновения, когда из воительницы она превратилась в жертву войны.
В том, что с революцией 1917 года настали новые времена, Марина убедилась в последующие месяцы собственными глазами. Однажды из окон очередного сантранспорта она наблюдала, как на деревенской площади взвод восставших солдат расправился с седовласым генералом русской царской армии. Люди в солдатской форме один за другим втыкали свои штыки в тело седого генерала, хотя уже после первого удара он упал на землю замертво. За три года войны Марина видела много насилия и смерти, но «с этим убийством ничто… не могло сравниться». Позже из окна московской больницы она наблюдала за собранием революционных солдат, которые выступали с гневными речами против царя, и в ее душу закралось подозрение, что исчез вообще какой-либо порядок. «Тенью промелькнуло чувство, что настал конец света, тогда, в Баку. Моя старая няня всегда мне говорила, что, мол, есть предсказание, будто через 2000 лет от Рождества Христова наступит конец света». Старушка не ошиблась со своим предсказанием, подумала Марина, и эта мысль удивительным образом успокоила ее.
Будучи жертвой войны, Марина Юрлова не сразу избрала сторону, к которой примкнет в борьбе за будущее. Но поскольку ее семья на протяжении поколений служила императору, внутренне для нее не было никаких сомнений в выборе. Эта убежденность в ее голове определялась ясно, невзирая на то, что сама голова непрерывно покачивалась из стороны в сторону. Лечение электрическим током в Москве привело к улучшению. Впрочем, кроме трех ежедневных сеансов электротерапии никакого внимания не уделялось этой женщине — инвалиду войны с Германским рейхом, прекратившим свое существование с подписанием мирного договора в Брест-Литовске 3 марта 1918 года. Марина молча пробовала смириться с тем, что простыня на ее кровати с каждым днем делалась все грязнее от пыли и табачного пепла. Сквозь мутные окна она, маяча за ними наподобие призрака, видела, как складывается новый порядок. Оторопь охватила ее от известия о казни царя Николая II и его семьи. Достигла ли ее больничной койки новость и о том, что в ноябре 1918 года большевики поставили памятник французскому революционеру Робеспьеру в Александровском парке — и что статуя, отлитая из плохого бетона, рухнула уже через несколько дней?
Как раз в это время Томас Эдвард Лоуренс покинул сирийский город Дамаск. Его появление у массивных городских ворот 1 октября 1918 года напоминало триумфальное шествие. Он въехал в них верхом, на заре, в косых лучах солнца, в белом одеянии принца Мекки. Перед его конем сновали дервиши, за ним скакали арабские конники, исторгая пронзительные крики и постреливая в воздух. Весь город вышел на улицы, чтобы увидеть человека, ставшего символом победы арабского восстания над турецкой империей — Лоуренса Аравийского. Тем самым было закреплено поражение турецких войск и их немецких союзников на Ближнем Востоке.
Однако для британского офицера Томаса Эдварда Лоуренса взятие Дамаска означало не только День победы. Он был бесконечно измотан невероятным, нечеловеческим напряжением, он только что, буквально в последние дни и недели, видел чудовищное кровопролитие. Но еще больше, чем кровавые сцены, его душу отягощает понимание того, что свобода, за которую он боролся вместе со своими арабскими друзьями, — это химера. Ибо европейские правители, военные и дипломаты уже давно подписали свои планы относительно Ближнего Востока после падения Османской империи и поделили весь регион между собой. Арабские народы играли в этих планах лишь второстепенную роль.
Рудольф Гесс в последние дни войны тоже находился в Дамаске — если, конечно, верить его автобиографии. Немецкий солдат, едва достигший тогда восемнадцати лет, был родом из баденского Мангейма. Его отец, истовый католик, прочил сыну карьеру священника. Но патриарх скончался на второй год мировой войны. Мальчик утратил опору, а в школе потерял контакт с одноклассниками. Чтобы уйти из дома, он записался добровольцем на войну, которая привела молодого убежденного католика не куда-нибудь, а именно в Страну Обетованную. И вот среди святых мест Палестины, знакомых ему из Библии, он воочию увидел беспощадную войну, которую вел Германский рейх в союзе с Турцией против Британской империи и ее арабских союзников.
Гесс прошел боевое крещение в песках пустыни, когда его подразделение наткнулось на вражеские соединения, в которых воевали англичане, арабы, индийцы и новозеландцы. Впервые в жизни он испытал особое ощущение власти, когда распоряжаешься жизнью человека, потому что в руках у тебя оружие. Первому им убитому он не смел заглянуть в лицо. Но вскоре убийство превратилось в привычку. В жесткой войсковой иерархии он чувствовал себя на высоте и наслаждался теми мужскими узами, которые укрепляла общая борьба. «Любопытно было, что к риттмейстеру, своему отцу в солдатской жизни, я чувствовал огромное доверие и очень его уважал. Это была намного более тесная связь, чем с моим родным отцом».
Помимо насилия и духа товарищества, Гесс будет вспоминать потом об одном событии, которое потрясло его религиозные устои. В долине реки Иордан немецкие солдаты в ходе патрулирования территории наткнулись на длинную вереницу крестьянских повозок, груженных мхом. Повозки подверглись самому тщательному досмотру, чтобы убедиться, что в них не спрятано оружие англичан. От переводчика Гесс узнал, зачем везут мох. Его доставляют в Иерусалим. Там, как ему позже доверительно сообщили, серо-белую массу с яркими красными точками продают христианским паломникам как «мох с Голгофы», а те верят, что им удалось привезти домой в виде реликвий капли крови Иисуса. У Гесса эти коммерческие махинации вызвали отвращение; это было началом его отдаления от католической церкви.
Когда Марину Юрлову перевезли в Казань, располагавшуюся много восточнее Москвы столицу Татарстана, мировая война на территории бывшей царской империи переросла в новый глубочайший конфликт: в гражданскую войну между русскими революционерами и их противниками. Возле одной из железнодорожных станций раненые стали свидетелями перестрелки между большевиками-красноармейцами и «белыми», верными царю. Красноармейцы, защищавшие здание вокзала от атак «белых», были настолько истощены, а их мундиры так сильно изодраны, что они не вызывали никаких ассоциаций с регулярной армией. Но в своей жуткой решимости победить или умереть эти «желтые призраки» были для Марины средоточием революции, и она не могла не почувствовать к ним уважения.
Поезд на Казань, в который в ноябре 1918 года посадили Марину, движется к своей цели медленно. В конце пути снова ждет очередная больница, палата с жесткими койками и призрачно-белым бельем. Соседом по палате оказывается красивый парень, ему только что исполнилось двадцать лет. У него розовый цвет лица, сияющие серые глаза, черные вьющиеся волосы. Через мгновение Марина понимает, что, собственно, в этом человеке странного: он вообще не двигается. Ни рук, ни ног у него нет. Он только голову может поворачивать, и его глаза следят за Мариной со смесью боли и гордости за тот последний труд, на который он способен.
Революция дошла и до Казани. Большевики полны решимости бросить все имеющиеся силы на борьбу против сторонников царизма. Марина приходит в отчаяние, когда видит свое имя в списке тех пациентов больницы, кто должен отправиться в Красную армию. Снова на войну, несмотря на дергающуюся голову и нервное расстройство? Приказ на стене гласит, что следует явиться в Казанский университет.
Это был момент, когда революция навязала Марине свою логику. Быть инвалидом и тем самым остаться вне борьбы великих идеологий — это противоречило принципам большевиков. Надо быть либо пламенным защитником новой России, либо ее врагом, которого придется отовсюду изгнать. Так считает и новоиспеченный красноармеец, руководящий отбором. Нейтралитет есть «непростительная позиция», заявляет он. Негодным он считает и аргумент, будто солдаты не должны вмешиваться в политику. Он кричит кучке раненых: «Вы за кого? В какое правительство верите?» Потом обращается прямо к Марине: «Ты во что веришь?» Не успевает она ответить, как красноармеец отвечает сам: «Казачка, знаем! <…> Именем царя рабочих да крестьян терроризировала!» Марина начинает было пламенную речь: «Братья!» — кричит она и в риторическом жесте выбрасывает вперед руку. Но не успевает она выступить за всеобщее боевое братство во имя Отечества — нервы подводят, ведь она еще не вполне оправилась после контузии. Марина теряет сознание. Очнувшись, она видит серые стены.
2. День и час
Ура! Война окончена! Повержены враги! Уж окна дома отчего Виднеются вдали. Любимые, желанные Нас ждут в краю родном. Забудем песни бранные И о любви споем! Из «Песни о мире» (декабрь 1918) шотландского певца Харри Лаудера[5]Брайтон Ривьер
Святой Георгий и дракон, 1909
Одиннадцатого ноября 1918 года в 11 часов с минутами журналистку Луизу Вайс, сидевшую в тесной комнатенке в бюро на парижской Рю-де-Лилль, смутил какой-то неожиданный шум. Сначала был слышен только грохот стульев, стук дверей и окон. Потом стали раздаваться голоса, крики, звон колоколов, и сотрудники газеты «Л’Эроп нувель» повалили через двор на улицу. Неужто свершилось?
В начале мировой войны Луизе Вайс был двадцать один год. После блестяще выдержанных экзаменов она вместе с братьями и сестрами отправилась в тихую деревушку Сен-Кве в Бретани, летнее приволье которой казалось тогда Луизе особенно прекрасным. Только когда ее любимый старший брат умчался на поезде, чтобы участвовать в войне против Германии, а Луиза, охваченная отчаянием, молча стояла на перроне в клубах дыма от локомотива, она стала понимать, что пришла новая эра. Готова ли и она к таким жертвам? Внутри зрело чувство, что ее ответ на этот вопрос «нет». Ее брату такого вопроса не задавали.
Через несколько месяцев неудачи французов в боях на границах, положившие начало войне, принесли волну беженцев в пока еще мирную западную Францию. Для Луизы необходимость помогать им была делом само собой разумеющимся. Она превозмогла робость и попросила священника предоставить ей помещение, на коленях умолила дядю дать ей денег и выпросила у мамаши Хертель, управляющей местной конторой «перевозки всех типов», доверить ей грузовик. На грузовике она объехала деревню и собрала матрасы, постельное белье, стулья, кастрюли, дрова и уголь. Не успела она собрать самое необходимое, как уже нагрянули первые семьи.
Обеспечение беженцев с каждым днем становилось все сложнее организовывать, но Луизе удавалось находить все новых и новых жертвователей. Вскоре появились люди еще более несчастные — это были солдаты, раненные в сражении на Марне в сентябре 1914 года, которых Луизе удалось разместить на вилле у жившей одиноко мадемуазель Валле. Отряд, к которому в числе других относились также марокканцы и сенегальцы, внес смятение в жизнь бретонской деревни. Вместе с тем жители пожертвовали в конце концов даже больше, чем солдатам было нужно, и, произнеся искреннюю благодарственную речь, отряд отбыл, как следует восстановившись.
Окольными путями дорога привела Луизу снова в Париж, где она работала секретаршей в приемной одного сенатора. Завидной должностью для ослепительной молодой женщины с высшим образованием это отнюдь не было, но все же здесь она могла видеть интересных людей и черпать много разных сведений об актуальных политических событиях. Непрерывную лавину новостей Луиза Вайс изучала с неослабевающим интересом, и уже в то время начала публиковать первые собственные заметки в газетах. Происходило это в том же самом помещении приемной, где в один прекрасный день — в поисках горячих новостей — «нарисовался» журналист и издатель Гиацинт Филуз. Переменчивость его политических взглядов, равно как и финансовая неустойчивость его разнообразных газетных проектов, снискали ему весьма двусмысленную славу. И вот однажды, когда к сенатору было никак не попасть, он завязал разговор с Луизой. Филуз поделился с дамой из приемной историей одного своего приятеля, который внезапно стал обладателем наследства прямо из рук однополчанина и теперь не знал, куда эти деньги вложить. Неужели Луиза так уж хочет провести остаток дней своих в приемной стареющего сенатора? Нет ли у нее умной мысли, как распорядиться этими деньгами? Луиза молниеносно выпалила, что открыла бы еженедельный политический журнал, посвященный проблемам распространения демократии в мире и борьбе народов Габсбургской монархии за независимость. В качестве названия можно выбрать «Л’Эроп нувель», то есть «Новая Европа».
«Вот это да, — воскликнул Филуз, — идея отличная!» И когда Луиза подробнее рассказала, как она все это себе представляет, он заявил: «По рукам!» Как ни парадоксально, он свое слово сдержал. Так Луиза Вайс покинула приемную сенатора и переселилась в редакцию новой газеты, концепцию которой сама и разрабатывала. Должность ее называлась «секретарь редакции», но на самом деле предполагала функции главного редактора, несущего ответственность за всю содержательную сторону. Первый номер вышел в январе 1918 года. Видимо, примерно в это же время Луиза Вайс остригла волосы. Теперь они даже не доставали до плеч, и светлые локоны обрамляли круглое лицо с непокорной прямой линией верхней губы.
В тот день 11 ноября 1918 года Луиза Вайс трудится над статьей для очередного номера «Л’Эроп нувель», которая явно — новость уже носилась в воздухе — должна быть посвящена концу войны. Начала ли она уже писать свое открытое письмо Жоржу Клемансо, которое будет опубликовано в следующем номере? В нем она поздравит президента Франции с потрясающими успехами, но и призовет его учесть, что после войны пробил час народов. В номере, который лежит сейчас перед ней на столе, как раз подробно описывается ситуация в странах Центральной и Восточной Европы, где рухнули старые монархии. В статье обстоятельно излагается, как осуществить идею «содружества наций», по поводу которой уже идет обсуждение между союзными державами в Лондоне. Жизненно важно быстро построить на руинах старой Европы фундамент для лучшего будущего, требует автор Жюль Райс. Слишком велика опасность того, что сохранится ненависть, накопившаяся за годы войны, и она будет постоянно приводить к новым конфликтам. Опасен и риск, что экономическая конкуренция между европейскими государствами приведет к новым осложнениям. Выход из ситуации необходимо искать по разным направлениям. Прежде всего на повестке дня — образование молодежи. Молодежь должна осваивать иностранные языки и по программам обмена знакомиться с повседневной жизнью других народов. Далее Райс предлагает общую систему государственных кредитов, с помощью которых большие страны обеспечат малым странам доступ к проектам на равных условиях выгодных займов. В ситуации, когда из-за войны многие страны оказались многомиллионными должниками, это может стать основой новой европейской солидарности, созвучия интересов и тем самым — устойчивого мира.
Но пока она прорабатывает статью — тщательно, слово за словом, строка за строкой, — в здании начинает что-то происходить, и Луиза даже знает, что это может означать: перемирие! Их на четыре дня опередили! Номер может отправиться в печать самое раннее 15 ноября, а он даже еще не вычитан! Не давая увлечь себя бурному потоку возбужденных коллег, Луиза Вайс захлопывает окна бюро, чтобы колокольный звон и гомон голосов огромной толпы не проникали к ней в комнату.
В тот день 11 ноября 1918 года Гарри С. Трумэн еще в 10 часов 30 минут спрашивал себя, как, интересно, воспримут немцы предложения союзников о перемирии. Он еще явно не знал, что маршал Фош ранним утром того же дня, когда чернила под договором о перемирии еще не просохли, разослал телеграммы всем фронтовым подразделениям: «11 ноября начиная с 11 часов утра по французскому времени прекратить все враждебные действия на всех участках фронта». С этого часа было запрещено пересекать установившуюся на тот момент линию фронта. Территориальные завоевания следовало оставить в достигнутых пределах. Контакты с врагом были запрещены.
Телеграмма доходит до всех участков фронта явно спустя несколько часов. Создается впечатление, что до ее получения Трумэн надеялся на продолжение войны вплоть до окончательного поражения Германского рейха. «Вот уж действительно позорно, что мы не беремся за дело как следует и не можем превратить Германию в пустыню, немножко укоротить немецким парням руки-ноги и снять скальп с пары старичков; но полагаю, что наилучший вариант — заставить их полвека работать на Францию и Бельгию». С мрачным удовлетворением Трумэн подытоживает свое участие в боевых действиях, поясняя, что в ходе артиллерийского обстрела при наступлении он выпустил в сторону врага 10 тысяч залпов, что имело «определенный эффект». И он полон решимости продолжать бомбардировки до последней минуты этой войны. Находящаяся по соседству батарея тоже продолжает обстрел, «словно хочет избавиться от оставшихся боеприпасов, пока не поздно».
Позиция, на которой находился Трумэн, была не единственным участком фронта, где военные действия продолжались. Война в последние часы и минуты пожирает немало человеческих жизней. В 9 часов 30 минут утра Джордж Элисон, горнорабочий из британского Лидса, был застрелен патрулем. За пять минут до того, как пробило 11 часов, в Арденнах, в нескольких сотнях километров северо-западнее Компьена, от немецкой пули гибнет Огюстэн Требюшон, пастух из Лозера. За две минуты до начала перемирия гибнет канадец Джордж Лоуренс Прайс — недалеко от бельгийского Каналь-дю-Сантр.
Но в конце концов часовая стрелка на французских часах перемещается на одиннадцать, и наступает тот день и тот час, который несколько военных и дипломатов в лесу под Парижем сначала вписывают в некий документ, а потом своими росчерками под ним превращают в акт международного права. Свершается тот редкий миг глобальной единовременности, о котором миллионы людей во всем мире будут вспоминать всю жизнь: до конца дней своих они не забудут, что именно делали в 11 часов утра 11 ноября 1918 года.
Фердинанд Фош покинул судьбоносную лесную поляну под Компьеном вскоре после подписания перемирия. Тот момент, когда война превратилась в мир, он описывает торжественным тоном: «После почти 12 месяцев сражений настала поразительная тишина». Преисполнено пафоса и его обращение к союзным армиям, которые «выиграли величайшее сражение в истории и защитили самое святое: свободу на земле! Гордитесь! Вы покрыли вечной славой свои знамена! Потомки возблагодарят вас за это». Вернувшись в Париж, Фош прежде всего наносит визит президенту Франции в Елисейском дворце. Затем отправляется домой, где его уже ждет жена. Но маршалу непросто пробиться сквозь толпы людей, которые громко приветствуют его, ликуют и плачут от радости. Когда Фош наконец добирается до дома, то на ступенях лестницы он вынужден произнести импровизированную речь. Квартира вся завалена цветами, которые прислали и всем известные деятели, и совершенно незнакомые люди. Во время обеда Фошу приходится то и дело подходить к окну, чтобы его могла лицезреть толпа, собравшаяся под окнами.
Артур Литтл ощутил состояние душевного подъема еще накануне, 10 ноября 1918 года. Офицер 369-го пехотного полка получил увольнительную на один день, чтобы совершить особенную прогулку. Он взял напрокат автомобиль и отправился в танковую часть в восьми километрах от Лангре. Прибыв туда, он связывается с дежурным офицером. Объясняет ему его задачи и обедает с ним вместе. В довершение всего вызывают некоего сержанта Литтла. Молодой человек появляется, встает по стойке «смирно» перед офицером Литтлом, отдает честь и, как положено, начинает рапорт. Но не закончив, запинается. Вытаращив глаза, смотрит он на старшего офицера. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя, потом самообладание к нему возвращается и он произносит: «Отец! Как я рад тебя видеть. Мне сказали, что ты погиб!» Они бросаются друг к другу в объятия.
Они вместе едут в Лангре, отправляют матери в Америку телеграмму, вместе ужинают, идут в театр, а потом ночуют в миссии ИМКА. Молодой солдат прибыл прямо с полей сражений, он уже много недель не спал в постели. Едва коснувшись головой подушки, он погружается в глубокий сон, и отцу, который на следующее утро должен уехать, не удается его разбудить. Он оставляет парня в постели, твердо зная, что тот может спать спокойно. Все происходит 10 ноября 1918 года, и отец знает, что сыну не придется больше ехать на фронт.
Пребывая в этой счастливой уверенности, Артур Литтл возвращается в свой батальон. Это особое подразделение. Служащие в нем американские солдаты, находясь под французским командованием, зачислены сюда из нью-йоркской национальной гвардии. В большинстве своем это афроамериканцы из Гарлема. Америке нелегко далось решение допустить чернокожих к солдатской службе. Только гигантская потребность в людских ресурсах во время мировой войны привела к тому, что им позволили нести воинскую службу по ту сторону Атлантики. Их военную подготовку было не сравнить с подготовкой остальных солдат. Им приходилось тренироваться в Гарлеме на открытых площадях, в спортзалах и на танцполах, а вместо винтовок они использовали лопаты и черенки метел. Из них лишь единицы пробились на командные посты. Как много косых взглядов, презрительных замечаний и унизительных жестов пришлось им вынести в стране, где рабство было отменено всего несколько десятилетий назад и где на повестке дня стояли дискриминация и расовые конфликты. На параде нью-йоркской национальной гвардии, «радужной дивизии», им присутствовать не разрешалось. Среди цветов радуги черный отсутствует — таково было объяснение. На другой стороне Атлантики чернокожим солдатам тоже поначалу не доверяли: их использовали на разгрузке судов, рытье окопов, они же хоронили убитых после кровопролитных сражений. Только когда 369-й пехотный полк был поставлен под французское командование, положение изменилось. У французов был большой опыт привлечения солдат из их африканских колоний. Не колеблясь ни секунды, они снабдили чернокожих полным вооружением и отправили на передовую. Прошло совсем немного времени — и люди из Гарлема доказали, что ни в чем белым не уступают. Они проявили себя как бесстрашные бойцы, которые научили немцев испытывать страх. Их с уважением именовали «гарлемскими дьяволами», и некоторые стали живой легендой.
Самым известным героем всего подразделения был солдат Генри Джонсон. Невысокий парень до войны разносил кофе на вокзале в Олбани, небольшом городишке в штате Нью-Йорк. Во время обучения и в первые месяцы войны он прославился разве что своей безмерной говорливостью. Но как-то ночью, во время дежурства на разведпосту вблизи передовой, он совершил нечто невероятное. Немецкая контрразведка этот пост вычислила и сразу напала. Его напарник тут же был ранен шальной пулей. Джонсон остался один, но он решил во что бы то ни стало сохранить позицию и спасти раненого товарища. С помощью винтовки, гранат, а под конец — пистолета и ножа Джонсон уложил больше двадцати немцев и в конце концов обратил нападавших в бегство. У Джонсона были раны по всему телу, зато он стал первым американским чернокожим героем. О подвигах солдата по кличке Черная Смерть сообщалось даже в журнале «Сэтэди ивнинг пост».
Знаменитостью, прославившейся больше других «гарлемских дьяволов», стал и чернокожий офицер по имени Джеймс Риз Юроп, руководитель полковой капеллы. До войны он был в Нью-Йорке лидером популярной регтайм-группы «Сэсайети оркестра». Он создавал аранжировки маршей, танцев и популярных песен с «горячими» синкопами. Его группа в числе первых стала использовать саксофон. Она играла презираемый белым средним классом фокстрот, от которого вскипали ночные клубы Гарлема. Джеймс Риз Юроп был вообще одним из первых чернокожих музыкантов, который записал собственную пластинку в большой студии звукозаписи — «Ар-си-эй» («Radio Corporation of America»). Одним из первых этот лидер группы в качестве чернокожего лейтенанта отправился на войну — в сопровождении военного оркестра составом более сорока человек. Едва прибыв на французский берег, они прямо в гавани сыграли джазовую версию «Марсельезы» — да так, что у французов пот выступил на лбу. Но это было только начало. Через пять месяцев фронтовой жизни, в течение которых Джеймс Риз познал окопные будни с самой отвратительной их стороны (дань памяти об этих буднях запечатлена в сочиненной им композиции «On Patrol in No Man’s Land»), военное руководство решило, что войне джаз нужен больше, чем сорок чернокожих и пуэрториканских солдат в окопах. Оркестр «гарлемских дьяволов» перевели в Париж. Много месяцев подряд они выступали в парижских театрах, концертных залах, парках и больницах. На французов они действовали ошеломляюще. Парижане до того момента джаза никогда в жизни не слышали. Мелодии в стиле регтайм с его разорванным ритмом, офф-биты и синкопы, блюзовые напевы и глиссандо, ликующие саксофоны и носовые звуки тромбонов с заглушкой, естественно, вводили публику в состояние экстаза. Тот факт, что неграм разрешено было стоять на сцене, что музыканты играли без нот, солисты импровизировали как могли, тела музыкантов двигались свободно и расслабленно, глаза были полузакрыты, а руки и ноги покачивались в такт музыке и сами собой начинали подергиваться, — все это наэлектризовывало слушателей, где бы оркестр ни выступал. Так выражал себя новый образ жизни, джаз был посланцем новой эры, наступившего XX столетия, и он был современен особым волнующим образом и на иной лад, нежели пулеметы, подводные лодки и танки.
«Гарлемские дьяволы» встретили день 11 ноября 1918 года в Вогезах, в лагере, где переводили дух после непрерывного пребывания на фронте в течение полугода. Офицер Артур Литтл описывает тот момент, когда в 11 часов по центральноевропейскому времени для этого войскового подразделения закончилась война, как «исполненный тихого умиротворения». К американским однополчанам зашел французский переводчик с двумя бутылками шампанского. Все чокаются с облегчением, но пока не позволяют себе расслабиться. Как пишет в своих мемуарах Литтл, нет никакого сравнения с тем «буйством», которое в этот день охватывает людей в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Перемирие приходит как спокойный, лучезарный момент, когда груз ответственности, лежавший долгое время на командире, в мгновение ока исчезает. Люди из Гарлема с любопытством наблюдают, как нарядные эльзасцы высыпают на улицы, рислингом заливая освобождение от немецкой оккупации. Лейтенант-полковник Хайвард формулирует то, что все чувствуют: «Самым великим событием для человечества был тот день, когда родился Христос; а этот день — второй по значимости».
Кэте Кольвиц в этот «второй по значимости день», 11 ноября 1918 года, находясь в родном Берлине, только что узнает о результатах переговоров в Компьене. Она записывает это в своем дневнике. В то время ей, известному скульптору и художнику, уже пятьдесят один год. Она родилась в Кёнигсберге в семье каменщика, замуж вышла за врача Карла Кольвица. Супруги живут в округе Пренцлауэр-Берг. Кэте Кольвиц, женщина с круглым лицом и гладкими, всегда стянутыми в узел волосами, с ужасом читает в газете о «чудовищных условиях перемирия». Вечером того же дня, когда в Париже, Нью-Йорке и Лондоне не стихает бесконечное ликование, в Берлине повсюду «царит мертвая тишина». Всем страшно, люди не выходят из дому. Время от времени на пустынных улицах раздаются выстрелы.
Артиллерийский офицер Гарри С. Трумэн 11 ноября 1918 года в 11 утра сидит у себя в укрытии, откинувшись на спинку стула и, широко ухмыляясь, ест черничный пирог. Однако в то время, когда французские союзники с песнями и бутылками в руках совершают круг почета, Трумэн ощущает некоторое разочарование. При этом самой войной и той ролью, которая ему в ней досталась, он доволен. Своей возлюбленной Бесс он пишет: «Ты же знаешь, что мне удалось осуществить то, что с самого начала войны было предметом всех моих честолюбивых помыслов: став командиром артиллерийской батареи, провести ее сквозь всю войну и не потерять при этом ни единого человека». Однако его честолюбивая мечта снискать себе воинскую славу не исполнилась даже в малой степени. В детстве он читал Гомера и мемуары Наполеона. Тогда он мечтал закончить американскую военную академию в Вест-Пойнте и собственными подвигами затмить славу французского императора. Несмотря на то что в войне ему многое удалось, до осуществления юношеской мечты еще далеко. «Мое военное честолюбие ограничилось званием центуриона. До кесаря довольно далеко. А теперь хочу быть крестьянином». В его признании — доля покорности судьбе, когда ему становится ясно, что после завершения войны никакой надежды на дальнейшее продвижение уже нет: «Между тем я практически уверился в том, что мне не суждено стать слишком богатым или слишком бедным, но я убежден, что военная стезя — одно из счастливейших состояний, какое может ожидать мужчину». Возможно, рассуждает он, после наступления перемирия он мог бы получить должность коменданта одного из оккупированных немецких городов. Или даже, по возвращении в США, стать членом Комитета обороны в Конгрессе.
Вирджиния Вулф знала об этом еще с 15 октября. Именно в этот день Герберт Фишер, уже два года занимавший пост британского министра образования и по совместительству — ее двоюродный брат, за чашкой чая у нее в гостях передал ей радостную весть: «Сегодня мы выиграли войну». Фишер подхватил скороспелую новость прямо в Министерстве обороны, и он знал — в отличие от самого Вильгельма II, — что германский кайзер вскоре отречется от престола.
Вирджинии было тогда тридцать шесть лет, она написала свой первый роман, который благосклонно обсуждался критиками, но у читателей особого интереса не вызвал. Мучительную червоточину сомнения, говорившую, что она, скорее всего, навсегда останется обычной дилетанткой, Вулф пыталась одолеть уверенностью в том, что любая другая работа, помимо писания книг, для нее — «напрасная трата времени». Вместе со своим мужем Леонардом Вулфом Вирджиния жила в Ричмонде, тихом городке к западу от Лондона, на берегу Темзы. Брак был гармоничным, хотя Вирджиния с самого начала дала понять супругу, что не в состоянии обеспечивать его сексуальные устремления. Насколько тесной была их связь, выяснилось вскоре после венчания, когда у Вирджинии Вулф началось тяжелое психическое заболевание. После периода сильного возбуждения, во время которого она была полна идей и бесконечно много говорила, причем речь ее постепенно становилась бессвязной, наступал период, когда она находилась во власти безумных представлений и слышала голоса. За ним последовала тяжелая депрессия, когда она не могла ни стоять, ни говорить, ни есть, да и жить тоже не хотела. Внутренний мрак, навалившийся на нее, был настолько глубок, что она пыталась покончить с собой с помощью передозировки лекарств. Леонард сопровождал ее к различным врачам, которые оказались бессильны, а потом выстроил для нее подробный план жизни, включавший регулярный труд, хорошее питание и своевременный сон. Он отмечал даже регулярность ее месячных.
Супруги купили печатный станок и надеялись с помощью этого небольшого устройства с ручным управлением основать книжное издательство. Вероятно, кроме всего прочего Леонард Вулф надеялся, что ежедневная работа над вполне обозримым проектом поможет Вирджинии одолеть своих демонов. Первым их изданием, которое было напечатано в 1917 году, стала книжица с двумя текстами — ее новеллой «Пятно на стене» и его рассказом. Поскольку букв в наборной кассе у них было мало, они набирали только две страницы, печатали их и переходили к следующим — как хорошо, что они имели дело с короткими произведениями. Они начали присматриваться и к текстам других авторов в поисках материала для дальнейших публикаций. При этом они были крайне требовательны. Рукопись романа «Улисс» неизвестного автора по имени Джеймс Джойс они отвергли. Текст был не только слишком длинный для их маленького печатного станка, но из-за чересчур часто встречающихся в нем «перделок» и «говняшек» показался им слишком неаппетитным.
Итак, визит действующего министра образования предназначался не известной писательнице, а был — как отмечает Вулф в своем дневнике — выражением родственных связей. Когда Герберт пришел к своей двоюродной сестре Вирджинии, то чиновника, живущего в нем, он оставил в своем бюро на Даунинг-стрит, 10, куда ежеминутно стекались сообщения со всего мира, и «судьбы армий так или иначе зависели от того, что решат два-три престарелых господина». В присутствии Вирджинии Герберт вел себя приветливо и был далек от делового стиля поведения. В той же мере и ее воодушевляло его присутствие. Он казался ей связующим звеном с действительностью, с правдой жизни, более того — он воплощал для нее инстанцию, которую она могла считать «средоточием всех вещей». Мировая история представала такой естественной и близкой, когда он рисовал ее широкими мазками! Например, когда он сообщал о приготовлениях к переговорам о перемирии и о необходимости убедить французского генерала Фоша отказаться от планов мести и от его мечты о «последней битве». Рассказ звучал так, словно Фишер лично разговаривал с французским генералом. Каким убедительным было его мнение о том, что среди немцев число «нелюдей» больше, чем у других народов, потому что в них сознательно воспитывают жестокость! Благодаря Фишеру Вирджиния Вулф хотя бы на вечер почувствовала себя в тесном слиянии с мировой историей. В то же время ей стало до боли ясно, насколько ограниченным сделался ее кругозор в их маленьком городке, полном очарования.
Если посмотреть правде в глаза, война до Ричмонда никогда не доходила. Конечно, случались перебои в снабжении, да и обслугу в военное время найти было непросто. Во время наездов в Лондон Вирджиния Вулф на себе испытала тот неописуемый ужас, который поселяли в сердце сбрасываемые с дирижаблей немецкие бомбы. Так или иначе, Ричмонду выпало на долю мало страха, хотя немецкие самолеты то и дело пролетали над городком.
Как что-то далекое и нездешнее супруги во время прогулок обсуждали мир и то, как люди, одаренные благостью мира, вскоре позабудут войну. Супруги сомневались в том, что жители Ричмонда долго будут радоваться тому, как немцев освободили от их самодержавного монарха и подарили им свободу. За развитием дипломатических отношений она следила. Но все эти заголовки почти не производили впечатления на обычно столь восприимчивый ум. Неужели все это казалось ей слишком чуждым — или слишком бессмысленным?
Когда в Ричмонде 11 ноября в 11 часов утра раздался гром пушек, у Вулфов это не вызвало особого энтузиазма. Вирджиния записывает в дневнике: «Кругом разлетались вороны и на мгновение показались символическими существами, исполняющими некий церемониал то ли благодарности, то ли прощания у могилы. Очень пасмурный, тихий день, дым тянет в восточную сторону; это тоже на мгновение кажется чем-то парящим, манящим, обессиливающим».
Слышны сирены, их вой заставляет запомнить этот час.
Как же ей писать теперь, после всего этого? Вбегают служанки. «У Нелли четыре разных флага, и она все их хочет вывесить в комнатах, у которых окна на улицу. Лотти говорит, что мы непременно должны что-то сделать, и я вижу, что она тут же разражается слезами. Она настаивает на том, чтобы отдраить дверной звонок и позвать пожарника, который живет напротив. О боже! Какой шум они устроили!» Она сама ощущает в душе скорее меланхолию, теперь, «когда все таксисты гудят, а школьники… выстраиваются вокруг флага. Атмосфера одновременно напоминает вахту у гроба. Именно сейчас гармоника исполняет гимн, а по древку ползет вверх большой юнион-джек». Это — мир.
Мир ли это? На следующий день Вулфы садятся в поезд на Лондон. Ввиду значимости момента они начинают ощущать беспокойство, но вскоре жалеют о своем решении: «Толстая неопрятная женщина в черном бархате и перьях, с плохими зубами, типичными для бедняков, непременно хотела пожать руки двоим солдатам… Она была уже навеселе и тут же извлекла откуда-то большую бутыль пива и заставила их отпить из нее; после чего она эту бутыль поцеловала». Столица переполнена этими несчастными, опьяненными горожанами с флагами в руках, а лондонское небо карает празднующих обильными осенними струями. Вирджинии, как сказано в ее дневнике, не хватает во всем этом «центральной точки», которая могла бы дать ориентир и людским массам, и их эмоциям. Подразумевается ли опять под «центральной точкой» ее двоюродный брат, министр образования Герберт Фишер? Наверное, не буквально, хотя раньше она уже использовала этот образ, когда описывала брата. Но Вирджинии Вулф не нравится, что правительство никак не подготовилось, чтобы отпраздновать столь значимый день. С огорчением она замечает, что респектабельные граждане в обстановке такой стихийности никак не проявляют радость, которую ощущают, а вместо этого с раздражением реагируют на те безобразия, которые приносят с собой взбудораженные массы, закрытые магазины и льющийся дождь.
Глубоко под бурлящим Лондоном, в подвальном этаже элитного отеля «Карлтон» на Хаймаркете, месяцами мыл горы тарелок Нгуен Тат Тхан. Официанты в ливреях ставили грязные тарелки в окошко лифта на ресторанном этаже, и лифт вез их на кухню к Нгуену и его товарищам. Остатки еды выбрасывались в мусорный бак. Тарелки, бокалы и приборы осторожно погружали в огромные чаны, мыли, вытирали хлопчатобумажными полотенцами и полировали до блеска.
Нгуен еще до войны покинул родину, французскую колонию Индокитай, нынешний Вьетнам. С тех пор бóльшую часть времени он проводил помощником по камбузу на различных судах и таким путем увидел полмира. Он привык вставать в четыре утра, чтобы прибрать кухню и растопить печи. Во время каждого плавания ему приходилось выскакивать из раскаленной, продымленной кухни на холод, в ледяной трюм, чтобы доставить на камбуз продукты на предстоящий день. Оттого что с утра до вечера он таскал тяжелые мешки с углем и провизией, его некогда нежное тело стало грубым и жилистым, но лицо с высоким лбом, проникновенными глазами и полными губами попрежнему было благородным и выразительным.
В Лондоне Нгуен обосновался с 1917 года, чтобы подтянуть свой английский. Перед длиннющими сменами в посудомойке «Карлтона» и после них его можно было увидеть на скамейке в Гайд-парке с книгой и карандашом в руках. В книгах он находил не только слова, но и идеи, причем даже такие, которые можно было воплотить в жизнь. Однажды утром он решил не выбрасывать больше остатки еды с тарелок, а собирать их и потом, аккуратно разложив на блюде, возвращать на кухню. Когда за это его призвал к ответу грозный французский повар Огюст Эскофье, он ответил: «Нельзя все это выбрасывать. Объедки можно отдавать бедным». Эскофье сказал с улыбкой: «Послушайте меня, юный друг, бросьте эти революционные идеи, и тогда я обучу вас кулинарному искусству. Этим вы сможете хорошо зарабатывать. По рукам?» Начиная с этого дня Нгуену позволено было подрабатывать в кондитерской, где он овладел умением создавать прекрасные торты.
В том же Лондоне 11 ноября обедают вместе Томас Эдвард Лоуренс, Чарльз Фульке, директор Имперского военного музея, и их общий старинный друг Эдвард Турлоу Лидс, состоящий теперь в военной полиции секретной разведслужбы. Троица уютно устроилась в ресторане «Юнион клаб». От их столика открывается вид на Трафальгарскую площадь, где черно от ликующих людей. Друзьям есть что рассказать друг другу после четырех лет войны, которая превратила в смехотворную детскую забаву их прежнее общее увлечение средневековым оружием и доспехами.
Но разве британский художник Брайтон Ривьер не изобразил победу добра в образе рыцаря Георгия, в полном изнеможении лежащего рядом со своим мертвым конем, Георгия, который хотя и победил дракона, но при этом превзошел свои силы? Образ изможденного рыцаря в сияющих доспехах возник еще до мировой войны, но удивительным образом явно предвосхищает именно тот день и час, о котором мы говорим. Ведь победители и проигравшие в опутавшей весь мир страшной битве в равной мере исчерпали всю свою мощь и в 1918 году, если прибегнуть к символике картины, лежали все в один ряд, находясь между жизнью и смертью. В 1914 году национальная и имперская конкуренция, великодержавное легкомыслие и, наконец, косный механизм союзнических договоров втянули мир в войну. В 1918 году от некогда возвышенных целей войны осталась только надежда победителей на погашение хотя бы части своих немыслимых расходов за счет массового банкротства проигравших. В образе Святого Георгия воплощается и то состояние, в котором в 11 часов утра 11 ноября 1918 года находилось множество солдат. Они настолько измучены боями, настолько устали от бесчеловечности войны и от вездесущности смерти, что даже у победителей нет сил, чтобы чувствовать свое торжество. Планы военных стратегов, дипломатов и сановников, для которых они и выполняли военную работу, их теперь, ей-богу, совсем не волнуют: они хотят домой, хотят вновь обрести чувство надежности и защищенности, хотят забыть минувшее. У некоторых нет для праздника совсем никаких причин.
Еще до перемирия Элвин Каллам Йорк попал из изуродованных войной Аргонн в совершенно другую местность. После долгих недель непрерывных боев ему и еще нескольким его товарищам предоставили увольнительную с фронта. Они на поезде доехали до предгорий французских Альп, в городок Экc-ле-Бэн. Роскошный бальнеологический курорт с белыми фасадами зданий, обращенными к озеру Бурже, являл собой полную противоположность разоренным ландшафтам Северной Франции. Йорк останавливается вместе с товарищами в добропорядочно-буржуазном отеле «Альбион», катается на моторной лодке по озеру, в зеркальной поверхности которого отражаются горы, и благодарные жители местечка приглашают его на ужин.
Молодой человек из Теннесси с того самого момента, как он почти в одиночку обезвредил вражескую пулеметную точку и привел больше сотни немецких военнопленных, безраздельно уверился в том, что Господь простер над ним свою руку. Товарищи предлагали ему разумные объяснения того невероятного события, в результате которого он стал героем. Но для Йорка объяснение существовало только одно: 8 октября 1918 года Господь дал ему знак! Со времени призыва Йорк, мучаясь сомнениями, жаловался всем и каждому, что принял неверное решение. Было ли это искуплением за то, что он, верующий христианин, отправился на войну и убивал? Но Господь рано или поздно услышал его молитвы и 8 октября 1918 сделал его своим орудием. С тех пор неподъемный груз вины свалился наконец с плеч Йорка.
И все-таки Элвину Йорку 11 ноября 1918 года не хотелось ничего праздновать. Первая мировая война заканчивается для него в идиллическом курортном местечке, и все это «убийство и разрушение» кажется ему бесконечно далеким, почти нереальным. Вести из пассажирского вагона в Компьене доходят до городка где-то в районе полудня. «Все было чересчур громко, французы все напились, кричали и рыдали. Американцы пили с ними вместе, все до одного. Я не особенно-то участвовал. Сходил в церковь, черкнул письмишко домой и немного почитал. На улицу в этот вечер не выходил. Я же только недавно прибыл сюда и поэтому ощущал пока сильную усталость. Конечно, я радовался, что подписали перемирие, радовался, что теперь все позади. Вот уж воистину боев и мертвецов на нашу долю выпало хоть отбавляй. Как и большинство американских парней, я чувствовал: все закончилось. Мы были готовы отправиться домой. Правильно они сделали, что перемирие заключили». В Экс-ле-Бэне победу празднуют много дней подряд. Но Йорк держится от общего ажиотажа в стороне. Потребность прогнать картины последних недель столь велика, что он не решается двинуться с места.
Лишь много времени спустя в тот день 11 ноября в душе Луизы Вайс побеждает любопытство, и журналистка спускается по лестнице, чтобы увидеть неистовство парижан собственными глазами. На улице ее увлекает куда-то поток, «бурлящий радостью и ненавистью». Она смотрит на море людей, над которым реют американские и французские флаги. Солдат несут по улицам на плечах. Неразбериха, в которой слились звуки фанфар, лязг трофейного оружия, поцелуи, радостные пляски, а рядом — женщины в трауре. Луизе все это кажется не только отвратительным, но — более того — глупым. С какой бы страстью ни ждала она победы, это торжество агрессивности, этот апофеоз бойни кажется ей варварством.
Луиза Вайс уединяется в укромном заднем зале кафе. Группа гуляк врывается через входную дверь. Они окружают солдата, у которого раздроблена и наспех зашита челюсть и едва залатан поврежденный глаз. Какой-то шутник дудит в охотничий рог, пробки от шампанского взлетают вверх. Луиза Вайс едва не подавилась круассаном. Она чувствует себя одинокой и переносится мыслями к человеку по имени Милан.
Милан! Война только началась, когда они впервые встретились. За ужином у общей подруги в Париже к их компании присоединился лысоватый невысокий человек с поникшими плечами. Говоря с легким акцентом, он представился как Милан Штефаник. Прежде всего Луизе бросилось в глаза то изящество, с которым он орудовал столовым прибором, держа его бледными, ухоженными руками. Наконец она спросила: «Что вы здесь делаете?» Он посмотрел на нее ясными голубыми глазами и ответил: «Я „делаю“ независимое великое герцогство Богемия». Ее познаний в истории и географии хватило на то, чтобы узнать в нем чеха или словака. Штефаник сделал вид, что это его восхитило, но кто был восхищен по-настоящему, так это она — когда поняла, что он находится в Париже, чтобы бороться за независимость своей родины от Габсбургской монархии. Пылкая журналистка немедленно влюбилась в Милана и в его возвышенный замысел. Это было началом необычной любовной истории, которую Луиза, оглядываясь назад, описывает в своих мемуарах как «духовное единение в атмосфере полной бесчеловечности». Луиза с первого мгновения знала, что хочет всюду следовать за этим человеком и поддерживать его в борьбе изо всех сил.
В ноябре 1918 года, пока Луиза в смятении чувств сидит в парижском кафе, Милан находится в Сибири, где-то между Иркутском и Владивостоком, увязнув в борьбе за Транссибирскую магистраль. Это артерия для переброски значительного воинского контингента — около 50 тысяч чешских солдат. Чехословацкий легион, набранный из чехов-эмигрантов и военнопленных, сражался сначала на стороне союзников, прежде всего — России. Русская революция и выход России из войны в корне изменили ситуацию. С этого момента чешские соединения преследуют авантюрный план пересечь азиатский континент вплоть до границы с Китаем, а потом через Атлантику и Северную Америку вернуться обратно в Европу, чтобы примкнуть там к войскам союзников. Но в Сибири царят жестокие морозы и неописуемый хаос. Чехи, которые все больше укрепляются в мысли, что большевики — их враги, никогда не могут быть уверены, за них или против них те воинские соединения русских, на которые они наталкиваются. Расстояния неохватные, сигнальные установки выведены из строя. Многие подразделения чехов, уже вырвавшиеся после недельного путешествия к спасительному побережью Тихого океана, должны были повернуть назад, чтобы помочь товарищам, застрявшим в глубинке. Они неделями жили в вагонах, которые, по их рассказам, до самой крыши были набиты награбленным большевиками золотом. От кровавых стычек между сменяющими друг друга противниками станции железной дороги окрасились в красный цвет. Милан Штефаник пропал где-то там. Увидит ли она его когда-нибудь снова?
Когда Марина Юрлова вновь открыла глаза, она увидела перед собой серую стену. Очень медленно возвращаются к ней образы прошлого: Казань, больница, призыв в армию, орущий красноармеец. Хорошая новость — она жива; плохая — она явно оказалась в тюремной больнице. Койка, грязная солома, печка, крохотное зарешеченное окно, железная дверь — вот все, что ей удалось разглядеть в душном и плохо освещенном помещении. Сознание вновь ускользает от нее, не давая в полной мере разглядеть негостеприимное место, в котором она оказалась. Она снова приходит в себя только тогда, когда в двери скрежещет ключ и на пороге появляется невзрачная личность с парафиновой лампой в руках. Вошедший приказывает ей подняться, ставит на койку две миски и без лишних разговоров запирает за собой дверь. В одной миске — капуста и вареные картофельные очистки, из которых, будто серые черви, торчат ростки. В другой миске — мутная вода с неприятным запахом. К ней дали кусок твердого черного хлеба. Марина не знает, сколько времени она не ела, но к этой еде она притронуться не может.
Время ползет медленно. Неизвестно, сколько прошло дней — или часов? Ружейный залп выводит казачку из ее полусумеречного состояния. Потом громкие слова приказа, еще выстрелы и крик умирающего. Нет сомнения, в тюремном дворе совершаются казни. Неужели здесь, в Казани, для нее закончится не только война, но и жизнь? Тюремщики неразговорчивы и невозмутимы, по их виду невозможно угадать, какая судьба ей уготована. В любом случае Марина сочла добрым знаком, что ей через равные промежутки ставят в камеру миски с едой и ведро для отправления нужд.
Через некоторое время казни вроде бы прекращаются. Над зданием повисает цепенящая тишина. А вдруг она здесь последняя живая душа? Ее не могли здесь попросту забыть? Судя по крохотному кусочку неба, который можно разглядеть через окошко, был ранний вечер, когда звуки вдруг вновь проснулись. От сильных взрывов сотрясается все здание. Из-под двери в камеру заползает дым, в маленькое оконце видны языки пламени. Удары столь сильны, что это может быть только бомбардировка. Обстрел длится долгие часы, и лишь под утро тяжелые толчки сменяются более легкой перебранкой орудийных стволов.
У Марины кровь стынет в жилах, когда поворачивается ключ в замочной скважине ее камеры. «Эй, в углу, ты кто?» — слышится голос. Акцент явно не русский, первым делом примечает она. Форма у того солдата, который вошел в это подземелье, тоже не русская. «Я казачка, — говорит она тонким голосом, — я с Кавказа». «Следовать за мной!» — командует незнакомец. Она выходит в залитый солнцем тюремный двор, где в ожидании стоит множество других солдат, а обездоленные мужчины и женщины друг за другом выбираются из своих камер на непривычно яркий солнечный свет. Из объяснений, которые дают ей солдаты на ломаном русском языке, Марина старается восстановить картину случившегося: ее освободители — это чехи, которые раньше воевали на стороне русских против Австрии, а теперь примкнули к «белым», которые в России за царя. Под командованием Владимира Каппеля они взяли город Казань и освободили всех, кого посадили в тюрьму местные большевики. На этот раз Марине оказалось на руку то, что она казачка. «Можете идти на все четыре стороны», — объявили им чешские солдаты. Бывшим заключенным два раза повторять не пришлось. Со всех ног они бросились к воротам тюрьмы и смешались с собравшейся перед воротами толпой. Марина осталась стоять в нерешительности. «Ты, может быть, хочешь пойти с нами?» — спросили чехи.
Марина кивнула и отправилась за ними следом. Да и куда ей было деваться? Родины у нее больше нет, новая Россия большевиков для нее — не родина. Выбора не было, она снова пошла на армейскую службу. От коменданта она получила задание охранять оружейную фабрику. Купола и минареты Казани четким силуэтом рисовались вдали в лучах заходящего солнца, когда Марина заснула на голом полу барака.
Она просыпается от выстрелов. Война пришла к ней опять. Большевики пошли в атаку. Марине дают ружье. Она получает приказ. Подчиняется ему. Стреляет. В нее стреляют тоже. В конце концов вражеская пуля ранит ее в плечо. Она снова попадает в больницу. Но сопротивление «белых» в Казани сломлено, и Марине приходится покинуть больничную койку, едва она успевает ее занять. С потоком беженцев, устремившихся пешком и на телегах по дороге, ведущей посреди бесконечной равнины, Марина покидает город. Красная армия расстреливает колонну с воздуха. Идти якобы надо до Челябинска, там есть железнодорожная станция. Но до Челябинска почти тысяча километров на восток, рука у Марины как ватная, и запасы еды давно кончились. Наконец находится грузовик, который везет Марину и небольшой отряд чешских солдат к западной конечной станции Транссибирской магистрали. Штыками чехи выгоняют из почтового вагона забравшихся туда гражданских. Время до отхода поезда длится вечно. Наконец поезд отправляется на восток, в сторону Сибири. Впереди более семи тысяч километров по рельсам и шпалам.
Одиннадцатого ноября, в 11 часов, в тот самый момент, когда на западном фронте смолкли орудия, Маттиас Эрцбергер вместе с немецкой делегацией вновь садится в поезд, который направляется на север. Всего за полчаса до этого ему вручили полную версию договора о перемирии. Окна купе занавешены. Новости о результатах переговоров разносятся быстро, и на вокзалах собираются люди, которые встречают поезд и ликованием, и проклятьями. По прибытии в Тернье приходится дожидаться наступления темноты, чтобы пересесть в оставленные там в свое время парадные кареты. В темноте едут по направлению к границе, которую достигают в 2 часа ночи и которую теперь, когда пушки окончательно замолчали, можно пересечь совершенно безопасно.
В 9 часов утра Эрцбергер приезжает в штаб-квартиру в Спа. Но там теперь все переменилось. В оккупированном немецкой армией бельгийском курортном местечке образован комитет рабочих и солдат, который намеревался арестовать руководство армией. У офицеров в Спа срывали погоны, а квартировавшие там солдаты перестали отдавать честь своим начальникам. Эрцбергеру сразу становится ясно, что невероятные новости, настигшие его в Компьене, соответствуют истине: Германия 12 ноября уже отнюдь не та страна, которую он покинул 7 ноября. Кайзер на тот момент уже бежал из страны, революция была в разгаре. Вскоре после прибытия Эрцбергера в Спа состоялась его встреча с первым генерал-квартирмейстером Вильгельмом Грёнером. Грёнер похвалил Эрцбергера за результаты переговоров в Компьене. Воспользовавшись случаем, Эрцбергеру выносит благодарность и фельдмаршал фон Гинденбург — «за то, что сослужил службу, невероятно важную для Отечества».
Позже Эрцбергер принимает двоих посланцев рабочего совета Ганновера, которые направляются в Брюссель, «чтобы провозгласить мировую революцию». Во имя этой цели революционеры экспроприировали локомотив. Они уверены, что генерал Фош застрелен и что война закончилась. Эрцбергер уверил их, что Фоша он видел лично несколько часов назад и что в Брюсселе идут бои. Разочарование революционеров велико. Но они благодарны Эрцбергеру за разъяснения и договариваются вместе с ним отправиться на захваченном локомотиве в имперскую столицу сегодня же. Путь рабочих вождей и главного переговорщика один и тот же, только цели у них абсолютно разные: для рабочих главное — сделать в Берлине коммуниста Карла Либкнехта новым рейхсканцлером. Эрцбергеру же важно было взглянуть вблизи на изменившуюся обстановку в столице. Стоит ли заключенное им от имени Германской империи перемирие хотя бы той бумаги, на которой оно было зафиксировано?
Что мог значить один день и один час? Определенное переговорщиками по их усмотрению наступление перемирия, казалось, на мгновение связало воедино миллионы человеческих судеб. Но этот миг соединил столь разные переживания и события: в то время как одни радостно обнимаются, а другие с отчаянием смотрят в будущее, война во многих уголках мира продолжается, и зачастую там даже не знают, что в Компьене подписан исторический документ. Один день и один час. Исторический момент 11 ноября 1918 года отличался поразительным совпадением в одной точке и в то же время — разнообразием точек зрения, после чего история вновь распадается на бесчисленные личные, не связанные между собой истории.
Семнадцатого ноября в 4 часа «гарлемские дьяволы» получают приказ сняться из своего лагеря в Вогезах и отправиться на восток. Странное чувство возникает, вспоминал Артур Литтл, когда тебя эвакуируют в направлении фронта: неужели все уверены, что оттуда действительно не последует вражеского огня? Литтл обнаруживает, что явился на сборный пункт своего подразделения гораздо раньше срока. Он дрожит от холода. Какой-то офицер — кажется, из подразделения связи — замечает вслух, что теперь, когда война позади, кто-то все же может стрелять. Вот так, как говорится, держа руки над раскаленными углями, они молча ждут, когда начнется марш на восток. Первые шаги они делают по ничейной земле, мимо брошенных немецких окопов и позиций. В Цернаи полк выстраивается следом за оркестром, который дает сигнал «Вперед». Марш из Гарлема на Рейн вступает в свою последнюю фазу.
Сначала полк проходит через брошенные, почти не пострадавшие городки, где совсем еще недавно квартировали немецкие войска. После краткого ночного отдыха в наскоро приспособленных помещениях путь лежит дальше на восток. Энзисхайм, до которого они добираются 18 ноября, — это первое местечко, где солдатам встречается живая человеческая жизнь. Жители к приходу американцев подготовлены. Дома украшены флагами. В окнах выставлены портреты президента Вильсона. Девушки в вышитых эльзасских народных костюмах и с искусственными длинными косами бросают на мостовую цветы. Образуется ковер из цветов, по которому солдаты американского полка входят в городок, и кое-кто из одетых в походную шинель впервые за долгие месяцы срывает поцелуй. Над улицами натянуты полотна с лозунгами. На них написано: «Да здравствует республика!» и «Благослови, Боже, президента Вильсона!»
После ухода их полка из Энзисхайма Литтл расквартирован в местечке Бальгау. Когда на следующее утро, 19 ноября, он просыпается, то обнаруживает длинную очередь местных жителей к дверям своей квартиры. «Чего они хотят?» — спрашивает Литтл у офицера-денщика. «Хотят пропуска, сэр!» — отвечает денщик. Литтл быстро организует контору, где рассматриваются прошения местных. Он откровенно потрясен тем, к чему привыкли эльзасцы при немецкой оккупации. Они искренне убеждены в том, что им и впредь потребуется официальное разрешение, чтобы гнать своих коров на пастбище, чтобы ехать на ярмарку в соседнюю деревню, чтобы посетить кладбище. Литтл, которого тем временем назначили губернатором этой местности, 20 ноября распоряжается, чтобы глашатай громко зачитал на площади в Бальгау воззвание, в котором провозглашаются гарантии для жителей: «благосклонность» и «защита» по отношению к ним. Тогда очереди в приемную военного губернатора становятся короче, а жители достают столовое серебро и продовольственные запасы из тайных мест, где они их прятали от немцев.
В тот же день Литтлу доставляют приказ с пометкой «срочно». Когда он ознакомился с содержанием приказа, сердце у него сильно забилось. Французский генерал Лебук предоставляет чернокожим американцам шанс стать первым подразделением союзных войск, которое пробьется к Рейну. Приказ предполагает «немедленное исполнение». Литтл реагирует молниеносно. Он составляет из надежных людей разведгруппу и, пренебрегая ужином, вскакивает в седло и направляется в Намбсхайм, который находится в непосредственной близости от Рейна. Маленький отряд скачет береговыми лесами по направлению к реке, которой суждено вскоре вновь сделаться пограничной французской рекой на востоке. У группы эльзасских лесорубов они спрашивают, как лучше проехать к берегу. Но те предостерегающе качают головами. Рейнский берег пока еще занят немцами, они сейчас как раз эвакуируют войска на ту сторону с помощью канатной паромной переправы. Есть риск, что начнется перестрелка. Но Литтл от своего преимущества отказываться не намерен. Приказ требовалось «исполнить немедленно». Он дает своей разведгруппе команду двигаться вперед. Через несколько минут они выходят на опушку леса и перед ними открывается вид на «удивительно быстро струящиеся воды Рейна». Американцы садятся на берегу, пожимают друг другу руки, обмениваются поздравлениями. Литтл, воодушевленный значимостью этого исторического момента, произносит импровизированную речь. Прибытие на берег Рейна пробуждает в памяти имена великих первооткрывателей: испанского конкистадора Эрнандо де Сото, английского мореплавателя Фрэнсиса Дрейка, сэра Мартина Фробишера, да что там, даже перед Колумбом ему было бы в этот момент не стыдно. Литтл уже видит себя в одном ряду с ними.
Только теперь американцы замечают, что на противоположном берегу последние немецкие солдаты еще только покидают паром, направляясь к себе на родину. Впрочем, через несколько часов станет известно, что за некоторое время до группы под командованием Литтла другое американское подразделение в другом месте достигло Рейна. Так что французский генерал Лебук благодарит полковника Хайварда, а вовсе не майора Литтла за то, что «на Рейне установлена черная вахта».
Через три недели, 13 декабря 1918 года, в долине Мюнхгаузен, в шестнадцати километрах к северо-востоку от Мюльхауза, состоялась торжественная церемония. Собралась вся франкоамериканская дивизия. Десять тысяч солдат замерли по стойке «смирно». Ясный, теплый зимний день. Низкое солнце струит над долиной свои лучи, когда звуки фанфар оповещают о начале церемонии. Одетый в синий мундир, дивизионный генерал Лебук галопом выезжает на прекрасном жеребце кремовой масти. С высоко поднятым подбородком он гарцует вдоль ровно выстроившихся соединений. Американских офицеров он приветствует, проезжая мимо, прямо из седла, называя их «шер ами». Наконец он спрыгивает на землю и приказывает доставить знамена всех участвовавших в войне соединений. Представляя 369-ю пехотную дивизию, перед генералом проходит и Артур Литтл. Генерал вешает на каждое знамя «военный крест» и торжественно целует каждого коменданта в обе щеки. Чуть позже полк за полком покидают плац, приводя в трепет всю долину Мюнхгаузен.
Пройдя многочасовым пешим маршем, солдаты вновь оказываются в своем лагере. Но никто не ворчит, что весь день пришлось провести на ногах. Литтл знает причину: «Наши солдаты отдали все, чтобы прославить свою расу; и их старания были оценены по достоинству». Под французским командованием солдаты из Гарлема смогли показать, что они способны на большее, чем только разгружать корабли, копать траншеи и могилы. Теперь, после долгого похода из Гарлема на Рейн, им предстоит возвращение с Рейна в Гарлем. Встретит ли их Америка дома с уважением, которого было как-то маловато, когда их отправляли на эту войну? Будут ли в мирное время вознаграждены те жертвы, которые принесли чернокожие солдаты, отправившись на мировую бойню?
В самый крупный город Эльзаса — Страсбург — союзные войска прибывают 21 ноября 1918 года. С их появлением заканчивается бурное время, в ходе которого этот рейнский город становится ареной для демонстраций, грабежей и революционных волнений. Фердинанд Фош приезжает в Страсбург 26 ноября. Чуть позже он, сидя на коне, приветствует всех возле статуи генерала Клебера. В правой руке он держит легендарную саблю, принадлежавшую этому герою революционных войн. Для французов этот день знаменует собой конец того испепеляющего душу унижения, которое испытали они со времен поражения в войне с Пруссией в 1871 году. Тогда Германский рейх аннексировал Эльзас и Лотарингию и превратил их в «имперские земли». Победа союзных войск возвращала департаменты к западу от Рейна вновь под начало Франции.
Луиза Вайс приезжает в Страсбург через несколько дней. Она вместе со своими родителями совершает путешествие в прошлое, потому что и отец, и мать родом из Эльзаса. Для обоих возвращение Эльзаса обратно во Францию — заветная мечта. Своим родственникам в Эльзасе они везли так много пакетов с продуктами, мылом, тканями и свечами, что у них в автомобиле не оказалось свободного места. Луизу нарядили в эльзасский национальный костюм. Это платье, фартук, кушак и накидка, оставшиеся от Гретель, старой отцовской няни. Она носила этот наряд в 1871 году, когда немцы осадили Страсбург. Гретель в корзинке перенесла отца — тогда младенца — через вражеские рубежи и тем самым спасла его от голода.
В горах, когда они пересекли бывшую границу между Францией и Эльзасом, отец остановил автомобиль. Он вышел и низко наклонился, чтобы собрать камни на родной земле. Каждому из своих детей он дал в руки камень. Потом все они становятся в круг в торжественном молчании и переминаются с ноги на ногу, чтобы согреться. Отец решает сделать крюк, чтобы заехать в Хартманнсвиллеркопф, к той овеянной легендами горе в Вогезах, у подножия которой шли тяжелые бои и где положили свои жизни 30 тысяч немецких и французских солдат. Когда они туда добрались, над горами уже спустились сумерки. В вечернем тумане лишь угадывались скелеты расстрелянных снарядами елей, клочья от палаток и колючая проволока, которая перекатывалась по неровной, изрытой снарядами земле.
В Страсбурге семью Вайс встречают поцелуями в щеку двоюродные братья и сестры. Все вместе они посещают до боли знакомые места: дом, где родился отец, на Рю-де-ла-Нюэ-Блё, кафедральный собор. И, как в детстве, Луиза приложилась щекой к холодным камням готической кладки, чтобы проследить глазами, как устремленные вверх линии фасада уходят к шпилю на башне, в самое небо.
В день приезда, после обеда, Луизу Вайс, которая к тому времени как журналистка уже приобрела некоторую известность, пригласили на официальные торжества в честь освобождения Эльзаса. На трибуне, сооруженной на площади Республики, она сидит несколькими рядами дальше за президентом Раймоном Пуанкаре и премьер-министром Жоржем Клемансо. Вскоре начинается бесконечный парад. Войска вышагивали в «восторженном опьянении», с оголенными саблями мимо трибуны — «так близко, что можно было подумать, будто они просят, чтобы их погладили». За солдатами шли представители эльзасских общин, маршировавшие в своих традиционных костюмах с флагами и фанфарами, — нет, они не маршировали, а танцевали, преисполненные гордости и радости. Яркие ленты из черного и красного шелка, шитые золотом шапки переливались на солнце. Президент смахнул со щеки слезу, «тигра» Клемансо эмоции захлестнули так, что он то и дело закрывал глаза. Войска чеканили шаг несколько часов, и Луизе все это событие — в отличие от празднования победы в Париже — кажется мощным, а парад представляется «бурным потоком», «неудержимой лавой». Но разве этот триумф стоит жизней двух миллионов погибших французов?
Тот же вопрос вновь встает несколько месяцев спустя, когда вся семья едет в Аррас в северной Франции, где Луиза родилась. Для родителей это опять паломничество в место, связанное с историей семьи, возвращение к воспоминаниям о былом счастье. Но от очаровательного городка остались лишь руины. Купол церкви, вокзал и родной дом Луизы — все лежало в руинах. Луиза вынула осколок гранаты из груды камней и досок, которые были когда-то ее домом. Осколок лежал ровно на том месте, где некогда стояла ее колыбелька.
Кое-как расчищенная дорога ведет от Арраса к бывшим полям сражений за городскими воротами. Взгляд скользит по израненному войной ландшафту. Замерев, в небо уставились ржавеющие жерла пушек, брезентовые палатки стоят все в дырах, и по ним расползается плесень, повсюду искореженные обломки металла, спутанная колючая проволока, поросшая сорной травой. На ближних холмах до самого горизонта тянется бесконечное поле, утыканное серыми, грубо сколоченными, однообразными крестами. У подножия крестов раскинулся ковер из маков: они красные — «как кровь? Как полковые знамена? Призыв ли это? Или упрек?» Луиза чувствует, что картины разрушения ее родного города, бескрайние поля смерти, эта сцена с маками как никогда тесно привязывает ее к Отечеству. В этот момент Луиза Вайс, основательница журнала «Новая Европа», космополитка и борец за свободу народов, вдруг ощущает себя француженкой до глубины души.
3. Революции
…Вместо являющего многообразие форм, сросшегося с землей народа появляется новый кочевник, паразит, житель большого города, чистый, оторванный от традиций, возникающий в бесформенно флюктуирующей массе человек фактов, иррелигиозный, интеллигентный, бесплодный, исполненный глубокой антипатии к крестьянству (и к его высшей форме — поместному дворянству), следовательно, чудовищный шаг к неорганическому, к концу…
Освальд Шпенглер. Закат Европы, 1918 Былого рая нету боле, У каждого такое горе. Приходится приноровиться И вновь руке с лопатой слиться, И вновь луга косить густые, И вновь поля пахать глухие. И сеять вновь, торить тропинки И вновь полоть все сорные былинки. Лишь так, когда прольем наш общий пот, Рай новый нам произрастет.Жорж Грос
Взрыв, 1917
Вечером 10 ноября 1918 года, в воскресный день, небо над Вильгельмсхафеном вдруг озарилось вспышками и сияющими звездами — красными, зелеными, ослепительно-белыми, когда сотни сигнальных ракет с треском взвились в воздух. В то же мгновение прогремели пушечные выстрелы портовых казарм. По всему городу сирены вступают в этот концерт оглушительным воем. Матрос Рихард Штумпф в испуге бросает работу. Он прикидывает, где можно укрыться, ибо что иное могут означать эти сигналы, кроме как оповещение о наступлении английского флота? Но потом упорно распространяется слух (и то, что он ложный, выясняется гораздо позже): фейерверк означает слияние коммунистических партий мира в Третий Интернационал и начало мировой революции. Городок на Северном море погружается в неуверенность и страх, пока не появляется листовка, которая наконец-то знакомит экипажи кораблей и жителей Вильгельмсхафена с настоящим положением дел. Штумпфу попадает в руки одна из них, и он читает листок с нарастающим ужасом. Это условия перемирия, которые просочились в прессу явно еще до подписания документов. В гневе он восклицает: «Вот награда за проклятое братство!» Потом, переполняемый чувствами, он забирается в укромный угол.
Когда взрывается последняя ракета и одна за другой смолкают сирены, в Вильгельмсхафене вновь воцаряется покой. Но в душе Рихарда Штумпфа неистовствует буря. Для него идея унижения непобедимой нации на таких условиях граничит с безумием. У него такое чувство, будто ему плюнули в лицо. И это награда за то, что матросы и портовые рабочие в Вильгельмсхафене жизнью рисковали во имя окончания войны?
С марта 1918 года Штумпф был приписан к судну «Виттельсбах», стоявшему в Вильгельмсхафене. Корабль не так давно был пришвартован здесь в качестве так называемого вспомогательного судна, то есть казармы на плаву. Служба на «Виттельсбахе» означала тупую, бессмысленную муштру, слишком много свободного времени и разнообразный ручной труд, как, например, плетение галош, что позволяло скоротать время и немного подзаработать. К осени 1918 года Штумпф давно уже разуверился в победе и приспособил текст утренней молитвы к текущим обстоятельствам: «Даждь нам мир, хлеб и счастье!» С октября начали множиться слухи о страшных потерях на флоте и возникло подозрение, что немцы «в подводной войне… обломали себе клыки».
Еще тогда Штумпф обнаружил, что многие из его товарищей после четырех лет войны, когда по очереди наваливались опустошенность, смятение и смертельная опасность, впали в крайне раздраженное состояние. «Злоба, злоба растет в душе большинства моих товарищей, большевистские идеи не одному юнцу вскружили голову». Хватит ли у них силы духа на окончательную битву, о которой то и дело говорили начальники? В атмосфере «безутешного настроя» Штумпф в это больше не верил. Мысли о гибели — не только флота, но и всего рейха — все чаще посещали его: «Неужели короткий промежуток с 1870 по 1914 год был нашим мимолетным звездным часом?»
Штумпф пока еще верит в существующий строй: «Не стоить думать, что такие слова приходят мне на ум из любви к Гогенцоллернам», — но еще за несколько недель до окончания войны он был убежден в том, что «корни всеобщего уважения к нам и вообще всех человеческих сил — в императорской власти». Образ врага у него сложился тоже на базе военной пропаганды: «Если мы последуем желанию бездушного плутократа по ту сторону Ла-Манша, если мы прогоним нашего кайзера ко всем чертям, то я всю жизнь буду стыдиться того, что я — немец».
Однако уже очень скоро оторопь матросов перерастает в сопротивление. Импульс для этого дала война: английские и американские соединения готовились к наступлению на немецкий Хельголанд. Через международную прессу союзники распространили информацию, что в случае поражения немцев весь флот отойдет к ним. Чтобы этому воспрепятствовать, военно-морское руководство 24 октября 1918 года выпустило приказ оказать последнее сопротивление противнику, бросив на это все силы. Было задумано решающее сражение. Между тем превосходство противника было столь существенным, что этот приказ был равносилен принесению немецкого флота в жертву. Разве можно было ценой тысяч человеческих жизней спасти нечто большее, нежели пресловутое представление нескольких офицеров о воинской чести? Двадацать седьмого октября, когда соединения, располагавшиеся на Балтийском море, должны были покинуть гавань, в Киле и Вильгельмсхафене началось сопротивление. Сначала свои рабочие места покинули кочегары нескольких судов; на других судах — ощерившихся пушками океанских гигантах — был погашен огонь под паровыми котлами. Другие экипажи остались на пришвартованных судах и не вышли своевременно на позиции в ожидании предстоящего сражения, как было приказано. Ко всему прочему на Балтику лег густой туман, сделав бессмысленными любые действия на море.
Рихард Штумпф «был глубоко опечален, что такое могло случиться». Но к печали примешивается злорадство: «Куда подевалось всесилие гордых капитанов и штабс-инженеров? Годами унижаемые как собаки кочегары и матросы узнали наконец, что без них ничего, ну ровным счетом ничего не может произойти». На «Тюрингии» матросы вообще арестовали своих офицеров. Никто не хотел больше бездумно ставить на карту собственную жизнь. Командующие флотом приказали окружить мятежное судно и угрожали команде пушками. Триста человек матросов было арестовано. Но это не помогло «Тюрингии» обрести боеготовность перед последним морским сражением.
Седьмого ноября, после того как в Киле появились первые убитые, отдельные случаи неповиновения перерастают в Вильгельмсхафене в открытое восстание. Толпы матросов покидают свои корабли, чтобы организовать демонстрации на берегу. Рихард Штумпф надевает парадную форму тоже и следом за мятежными товарищами сбегает по трапу на берег. На плацу перед портовой казармой уже собрался большой митинг. Для выступающих соорудили импровизированную трибуну. Подогреваемые овациями растущей толпы, ораторы выдвигают всё новые требования. Теперь, кажется Штумпфу, толпа закричала бы «Ура!», если бы кто-то призвал повесить кайзера.
Толпа начинает общее движение. Чтобы придать процессии хоть какую-то упорядоченность, оркестр кораблестроительного дивизиона наигрывает песни и марши. Музыка привлекает все новых матросов, которые стекаются с других кораблей. Иерархии командования для этих матросов больше не существует, толпой управляют инстинкты овечьего стада. У ворот казармы морского батальона стоит пожилой капитан с револьвером в руке. Первому матросу, который пытается войти в ворота, он угрожает взведенным оружием. Но тут же в ход идут кулаки, у него отбирают револьвер и срывают с плеч погоны. Раздается всеобщее ликование. А Штумпф втайне восхищается верным долгу офицером.
Поначалу среди демонстрантов еще наблюдается какая-то дисциплина, но чем дальше продвигается процессия, тем больше накаляются страсти. Раздается свист, матросы пристают к женщинам, вскоре появляются первые красные флаги. Штумпф не видит для себя особой чести в том, чтобы маршировать «под этой грязной тряпкой».
Приближается обеденное время. Собравшиеся начинают ощущать голод. Внезапно наступает полная тишина, когда один из ораторов зачитывает послание адмирала Крогига. Все требования, которые выдвинул Кильский матросский комитет, будут удовлетворены: в том числе отмена почтовой цензуры для матросов, соблюдение свободы слова, а также обеспечение того, чтобы матросские экипажи вне службы не находились в распоряжении вышестоящих. Толпа сопровождает оглашение послания восторженным шумом. Потом слово берет рабочий с верфей, он срывающимся голосом требует немедленного учреждения республики советов. Раздаются звуки одобрения, но довольно слабые, и вскоре они стихают. Наконец кто-то предлагает матросам вернуться назад на корабли, раз все их требования удовлетворены. Громкий хохот!
Однако толпа матросов и рабочих начинает постепенно расползаться. Не на корабли, а туда, где можно перекусить в этот обеденный час. «Революция победила бескровно». Штумпф использует слово, которое в Германии на протяжении десятилетий вызывало страх и ужас: «революция». Конечно, Вильгельмсхафенская революция отнюдь не была тем триумфальным победным шествием, которое предсказывали Каутский и Бебель. Да и с революционным Петроградом эта гавань на Северном море никоим образом не могла равняться. Вместо пролетариата здесь, по мнению Штумпфа, царят мелочность, глупость, неуверенность и нужда. Переворот, свидетелем которого Штумпф оказался, он не считает достойным, но не может отрицать, что события в Вильгельмсхафене увлекли и изменили его. Он кажется себе революционером против воли, против представлений о лучшей доле, жертвой обстоятельств, вовлеченной в круговорот времени: «Я стал старше на два дня, и за этот период у меня в душе произошел переворот, который я раньше считал невозможным. От монархиста — к убежденному республиканцу… Мое сердце, нет, — я плохо тебя знал». Немецкой революции были явно нужны более убежденные республиканцы, чтобы не только прогнать с трона Гогенцоллернов, но и чтобы с должным воодушевлением приступить к утверждению нового порядка.
Всякий раз, когда вагон подбрасывало на разбитых рельсах, простреленное плечо Марины Юрловой пронзала острая боль. В изнеможении лежит она вместе с другими ранеными в купе пассажирского поезда, который от Челябинска катится краем Уральских гор в сторону Западно-сибирской низменности. Хвойные леса за окном, простирающиеся до самого горизонта, так бесконечны и однообразны, что возникает чувство, будто поезд вообще стоит на месте. Хуже всего ночи в этом душном купе, наполненном храпом и стонами раненых, стуком колес и скрипом поезда, запахом грязи и кровавых ран. Новые чехословацкие товарищи Марины, освободившие ее из большевистской тюрьмы в Казани, взяли на себя командование составом из шестнадцати вагонов, которые тянул мощный локомотив по Транссибирской магистрали. Ехали в поезде в основном люди гражданские, а у чешских солдат были винтовки, поэтому они могли решать, кому разрешено сесть в поезд, а кто должен выйти и чьи продукты будут конфискованы.
Даже здесь, в Сибири, в этой безлюдной местности, в тысячах километров от Петербурга и Москвы, свирепствует гражданская война между большевиками и «белыми». Когда поезд тормозит на маленькой станции, где стоит только деревянная сторожка железнодорожника, Марина видит собравшуюся возле нее разъяренную толпу. Мужчины и женщины, вооруженные винтовками, мотыгами, лопатами и ножами, окружили двух большевистских агитаторов, которые собрались ехать дальше на восток. «Смерть большевикам!» — кричит толпа. Один из пойманных большевиков, кряжистый белобрысый моряк-великан, кажется, не обращает никакого внимания на ярость окруживших его людей. Засунув руки в карманы, он равнодушно наблюдает, как прямо у него на глазах на станции сооружается виселица. Когда уже и веревка готова, он спокойным шагом подходит ближе, осматривает петлю и, вынув руки из карманов, сам надевает ее себе на шею. Толпа затихает. «Что такое, вы чего не дергаете?» — кричит он запыхавшимся мужичкам, которые добровольно вызвались быть палачами. Наконец те сбрасывают оцепенение и рывком тянут веревку вниз. Тяжелый здоровяк висит теперь в воздухе, а ступни, оторвавшиеся от земли всего на несколько сантиметров, кажется, пытаются найти опору, то и дело подрагивая. Обеими руками он до последнего держится за веревку, обвивающуюся вокруг шеи, потом руки разжимаются. Второй человек ведет себя так, как, по Марининой личной расовой теории, должен вести себя еврей-большевик: он бросается наземь перед своими палачами, обнимает их ноги и молит о пощаде. Так подтверждаются предрассудки, которые роднят Марину со многими противниками революции и антисемитами того времени: убежденность в том, что революция — это еврейский заговор, который они воплощают в России, а потом распространят на весь мир, и что дурные стороны революции в конечном счете суть следствие дурных сторон евреев. Так что Марина безо всякого сочувствия, а, возможно, даже с удовлетворением смотрит, как второй революционер тоже качается на веревке. Поезд весь день стоит на этой маленькой станции, перед Мариниными окнами болтаются на ветру оба трупа — предвестники гражданской войны и жестокой контрреволюции, которая шла по пятам за недавним переворотом в России.
В те ноябрьские дни кронпринц Вильгельм каждое утро просыпался от кошмаров. Его мучили мысли о собственном будущем, о будущем Гогенцоллернов и Германского рейха. С детства он привык к тому, чтобы другие указывали ему направление, а теперь он должен принять решение сам? Не настал ли момент, к которому его должно было подготовить все его воспитание сызмала, но который казался ему всегда таким далеким: момент его суверенной власти?
Уже 7 ноября Вильгельм собственными глазами увидел посланцев нового времени. Посещая войска недалеко от Живе, он проехал мимо захваченного солдатами поезда. Здесь он впервые воочию увидел символ революции: красный флаг. Из разбитых окон вагона раздавался кровожадный призыв восставших: «Гасить огонь! Достать ножи!»
Вильгельм приказал шоферу остановиться. Громким голосом он приказал солдатам выйти из поезда. Несколько сот мужчин в рваных мундирах выстроились в ряд. Прямо перед ним обращал на себя внимание «высокий как верста баварский офицер, в небрежной позе, руки демонстративно засунуты глубоко в карманы штанов, настоящий образец нарушения субординации». Вильгельм решил взять на себя бремя ответственности и прикрикнул на баварца тем казарменным тоном, который усвоил еще с юности. «Равнение держать, — закричал он, — как подобает немецкому солдату!» Старые рефлексы сработали, баварец выпучил глаза и вытянул руки по швам. Мгновенно восстановился порядок, и молодой парнишка с железным крестом на груди даже попросил прощения за своего товарища. Люди уже третий день в пути безо всякого провианта. «Мы же все вас очень любим. <…> Не сердитесь на нас». Кронпринц был растроган и угостил горе-революционеров папиросами.
На следующий день Вильгельма догоняет приказ его величества срочно прибыть в Спа. В густом тумане едет он через обезображенную войной местность. 9 ноября, незадолго до полудня, он добирается до виллы «Ля Фрэнёз» перед воротами в Спа. Здание незадолго до войны построил для себя по образцу Малого Трианона в Версале один промышленник. Навстречу Вильгельму выходит «его шеф», граф фон дер Шуленбург, «бледный и явно чем-то потрясенный». В нескольких словах он обрисовывает кронпринцу положение: в разговорах, которые с утра ведутся в «Ля Фрэнёз», главную скрипку играет Вильгельм Грёнер, новый человек из круга Гинденбурга в армейском командовании. Он не относится к числу доверенных лиц кайзера и говорит с монархом таким тоном, каким его предшественник Эрих Людендорф, по причине перемирия в срочном порядке покинувший страну в направлении Швеции, наклеив себе фальшивую бороду, — никогда в жизни не решился бы воспользоваться. Грёнер обрисовал непредвзятую картину военного положения и ситуацию на родине. Берлин находился в величайшем напряжении, «которое каждое мгновение могло прорваться, пролив на город реки крови». С разбитой армией о марше в защиту столицы от революции не приходилось и думать. Грёнер не высказывает этого вслух, но его рассуждения допускают только один вывод: кайзеру необходимо пойти на уступки в угоду загранице и уличным настроениям, чтобы лишить революционное движение его накала.
Вильгельм II был потрясен, но в ответ на рассуждения генерала не произнес ни звука. Потом слово взял Шуленбург, чтобы обрисовать более обнадеживающую картину происходящего. Он выступал за то, чтобы выиграть на фронте время, а войска тем самым успели прийти в себя. Революционный пожар погасить можно только умело применяемой оружейной силой. Но Грёнер не сдавался. Он выложил последний, убийственный аргумент: даже если Вильгельм II прикажет войскам отправляться в Берлин, они его уже не послушаются. Армия, включая офицерский корпус, ему больше не подчинится. Вильгельм II потребовал доказательств. Только если офицеры дадут ему письменный документ, что отказываются его сопровождать, он признает свое поражение. Но последние новости, доставленные из Берлина, подтвердили все, о чем предупреждал Грёнер: кровавые уличные бои, солдаты-перебежчики — и никакой возможности остановить ширящуюся революцию.
После этого рапорта кронпринц Вильгельм направился в осенний сад при вилле, где старые деревья сбросили уже увядшие листья, а грядки давно были вскопаны. Кайзер стоял, окруженный господами в мундирах. Мужчины «сгорбились, были подавлены, словно их загнали в тупик… они словно замерли в глухом молчании». Говорит теперь один только кайзер. Заметив сына, он подзывает его к себе. Только подойдя ближе, кронпринц как следует понимает, в каком смятении находится отец, видит, как подергивается от сдерживаемого волнения его исхудавшее, пожелтевшее лицо. Слова из уст монарха льются подобно водопаду. Наибольшее его негодование вызывает тот факт, что его, кайзера, даже не пускают на фронт, чтобы сражаться и умереть во главе своих войск. Опасность, что это может помешать ходу переговоров о перемирии, якобы слишком велика. В этот момент кронпринцу наверняка стало ясно, что кайзер больше не хозяин положения. Гогенцоллерны ни в коем случае не должны отказаться от королевской короны Пруссии, заклинает отца кронпринц. Дрожащим голосом он приглашает кайзера отправиться в его сопровождении в армейское расположение «Кронпринц Вильгельм». Во главе этой армии монарх и наследник престола плечом к плечу прошествуют обратно на родину! Шуленбург поддерживает идею принца. Большинство солдат остались верны своей воинской клятве верности кайзеру и Отечеству и, если потребуется, последуют за своим полководцем на смерть. Но Грёнер только пожимает плечами: «Клятва верности? Полководец? Ведь все это в конце концов просто слова — если хотите, это всего лишь идея, и все». Два мира — старая империя, построенная на верности и послушании, и новый, более гибкий и прагматичный современный взгляд на происходящее — столкнулись друг с другом.
У Вильгельма II вся краска сбежала с лица. Ища помощи, он обращает свой взор на Гинденбурга, но тот неподвижно смотрит в землю. Здесь, в бельгийском парке, стоит германский кайзер, господин полумира, само воплощение закона, верховный главнокомандующий всех войск, создатель имперского военного флота, суверен, хотевший обеспечить Германии место под солнцем, обеспеченный всеми приоритетами, облеченный всеми полномочиями, — и он стоит, опустив руки. Он слишком долго позволял генералам и советникам подсказывать себе, что надлежит делать, чтобы сейчас, в решающий момент, вновь перехватить монаршую инициативу. Похоже, слишком далеко зашел процесс распада выкованного на веки вечные Германского рейха и его гордой армии, чтобы сейчас ему удалось перехватить бразды правления. Слишком слаб монарх, слишком устал и слишком сбит с толку тем положением дел, которое ни в коей мере не совпадает с картинами величия и роскоши, которые на протяжении всей жизни связывались для него с имперским правлением. Хриплым голосом Вильгельм II дает поручение сообщить по телефону рейхсканцлеру Максу фон Бадену в Берлин, что он готов сложить с себя императорскую корону. Отметим, только императорскую корону, и все. Он остается королем Пруссии и как король Пруссии намеревается вести войско обратно на родину.
Общество отправляется в дом, чтобы приступить к завтраку, который больше напоминает поминальную трапезу. После десерта из Берлина приходит совсем уж скандальное известие: без долгих согласований со ставкой в Спа рейхсканцлер Макс фон Баден ничтоже сумняшеся объявил уже об отречении германского кайзера и (!) прусского короля, а также об отказе кронпринца от притязаний на трон. Новость уже распространили через телеграфное бюро Вольфа. Кроме того, в столице сформировано новое правительство. Революцию снизу дополнила революция сверху. Кайзер Вильгельм вне себя от гнева, но абсолютно бессилен. Именно в этот миг заканчивает свое существование немецкая монархия. Никакой героической борьбы, никаких громких слов или величественных жестов; кайзер, за спиной которого сотни лет семейной истории правления, с полным фатализмом покоряется своей судьбе. Сотни лет не помогли, четыре года войны обескровили рейх и привели его на грань гибели. Этот крах отчетливо выявил бездарность его правления. Поражение деморализовало кайзера, отняв у его режима былой блеск и остатки легитимности. Внезапно властитель полумира оказался усталым, старым человеком, перед которым никто больше не трепещет.
Девятого ноября 1918 года в центр Берлина хлынул поток листовок. Художнице Кэте Кольвиц в Тиргартене попадает в руки листок газеты «Форвертс». «Кайзер отрекся от престола!» — стояло на нем гигантскими буквами. Читая, Кольвиц идет от аллеи Победы к Бранденбургским воротам. Там собрались уже тысячи людей, которые все вместе шагают по направлению к Рейхстагу. Толпа настолько плотная, что Кольвиц не остается ничего другого, кроме как двигаться вместе с потоком, по течению. Перед гигантским порталом здания Рейхстага с надписью на фронтоне «Немецкому народу» люди останавливаются. На балконе массивного западного фасада видна группа людей. «Шейдеман», — многоголосо бормочут стоящие впереди, передавая эту весть назад. Тысячи людей смолкают, когда слово берет государственный секретарь, член СДПГ: «Рухнула старая гниль. Милитаризму конец!» И дальше следует историческое заявление: «Позаботьтесь о том, чтобы новая немецкая республика, которую мы построим, ни от чего не пострадала. Да здравствует немецкая республика!» Ликованию не было конца. Когда толпа все-таки успокаивается, со ступеней Рейхстага произносит речь сначала солдат, за ним матрос, потом — молодой офицер, который кричит, обращаясь к собравшимся, что «четыре года войны были не так страшны, как борьба с предрассудками и тем, что отжило свое». Офицер размахивает над головой фуражкой и восклицает: «Да здравствует свободная Германия!»
Поток людей уносит Кэте Кольвиц на бульвар Унтер-ден-Линден. Там над головами демонстрантов развеваются красные флаги. Солдаты срывают с себя кокарды и со смехом бросают их на землю. «Вот сейчас всё так. Становишься свидетелем событий и по-настоящему не можешь ничего взять в толк», — удивляется художница.
В то же мгновение в ее сознании всплывает образ Петера. Ее сыну было 18 лет, когда он в 1914 году, полный воодушевления, отправился на войну. С фронта он писал письма, полные героических фраз, звучавших так, будто они списаны с официозных воззваний. Несколькими неделями позже в почтовом ящике лежал конверт в траурной рамке. Тогда у нее было такое чувство, будто земля разверзлась и поглотила ее. Сегодня, в день зарождения республики, Петер снова с ней: «Я думаю, что если бы он был жив, он тоже бы в этом участвовал. И тоже сорвал бы кокарду. Но его больше нет в живых, а когда я видела его в последний раз, а более прекрасным он никогда не выглядел, на Петере была фуражка с кокардой, и лицо у него сияло».
Обстановка в Берлине остается опасной. Вечером на Унтер-ден-Линден стреляют. Во второй половине дня из дворца Гогенцоллернов республику провозглашают вторично, на этот раз ее объявил Карл Либкнехт, «из того самого дворцового окна, откуда обычно к народу обращался кайзер». В отличие от Шейдемана, Либкнехт провозглашает не «немецкую», а «коммунистическую» республику. Это отличие показывает опасные полюса противостояния в революции, конфликт между партией социал-демократов и ее отколовшимся левым крылом — независимой социал-демократической партией Германии. Положение в городе напряженное. То и дело по улицам свистят выстрелы, горохом раскатываются по площадям пулеметные очереди, слышны даже порой пушечные залпы. Раз за разом толпа в панике бросается врассыпную, чтобы после — как притягиваемая магнитом — собраться опять в одном месте. Чтобы предотвратить грабежи, рабочий совет, сформированный революционерами, намеревается, по его заявлению, ввести практику расстрелов.
Кронпринц Вильгельм — он вообще-то еще принц или уже нет? чье слово вернее: кайзера или канцлера? — сразу после обеда покидает Спа. Он планирует вернуться к себе в подразделение. При расставании отец по-прежнему настаивает на том, что Берлинский манифест противоправен, что он остается королем Пруссии и в этом качестве собирается командовать своими войсками. Но не были ли это просто «слова», «всего лишь идея — и все»? И почему отец, а также прочие ответственные лица не потратили ни малейших усилий на одну простую мысль: что перворожденный сын этой династии в такой роковой момент мог бы встать к штурвалу. Разве это не было его призванием — всю жизнь стоять на страже интересов династии и быть наготове, когда трон зашатается? На мгновение складывается впечатление, что сын впервые собирается пойти собственным путем. Он направляется в свое подразделение. Вскоре после этого бело-золотой придворный поезд отца уже катится по Голландии. Кайзер становится изгнанником и просит убежища, надеясь на милость нидерландской королевы Вильгельмины, с которой его связывает близкое родство. Памятуя о судьбе царской семьи, она не хочет отказывать ему прямо на границе. Однако подданные Нидерландов бранят свою королеву за великодушие. Путешествие «Вильгельма Последнего» проходит через Маастрихт, Ниймеген и Арнхем, и конечной целью является Амеронген. Во время путешествия на всех вокзалах его встречают разъяренные толпы людей, которые громко бранят человека, развязавшего войну на четыре года, ибо считают его ответственным за разрушение их городов, за голод, бедность, болезни и за массовую гибель людей.
Сын добирается до штаба своей группы войск в бельгийском городке Вьельсальме. В голове у него неотступно роятся одни и те же мысли: должен ли он оказать сопротивление, которое не оказал его отец? Он ведь остается командующим своего войскового подразделения и может направить войска на Берлин. Во время разговора с Шуленбургом из Спа приходит известие о том, что генерал-фельдмаршал Гинденбург перешел на сторону нового правительства и предоставил себя его услугам. Идол кронпринца и множества других людей в стране сделал выбор в пользу республики, за перемирие, против продолжения кровопролития, против борьбы, в которой немцы должны были сражаться против немцев. Для наследника трона все было ясно: он должен и он хочет последовать за заместителем своего отца.
Чтобы защитить себя от посягательств, Вильгельм перемещается поближе к линии фронта, где еще сохранился хоть какой-то порядок в войсках. В учебной войсковой части для рекрутов раздаются радостные крики, когда наследник проезжает мимо. «Все эти парнишки не хотят верить в революцию и просят меня откомандировать их части на родину и чтобы я отправился вместе с ними. Они грозят разнести всё в щепки!» Дальше кронпринц передвигается на автомобиле по разбитым дорогам. Маршрут ему указывают неправильно; автомобилю приходится продираться через «бесконечный лес, где царит ночной мрак». В некоем замке, в котором находится школа прапорщиков, скитальцам наконец удается узнать верную дорогу в штаб 3-й армии. По дороге туда, в железнодорожном узловом пункте Ла-Рош-ан-Арден, им открывается «чудовищное зрелище, быстро проносящееся перед глазами: разгулявшиеся, гомонящие отпускники, забывшие всякую дисциплину», идущие с фронта. Поездка застопоривается на небольшой железнодорожной станции, где сталкиваются две артиллерийские колонны, марширующие в противоположном направлении. Ни вперед, ни назад. Автомобиль все больше утопает в грязи, дорогу развезло от зарядивших дождей. Только после полуночи машина добирается до Главного штаба. Кронпринц вскоре ложится спать, но ночь не приносит успокоения.
На следующий день, а это было 11 ноября 1918 года, удается наладить телефонную связь со штабом Вильгельма во Вьельсальме. Оттуда опять можно говорить с Берлином. Но нет никаких новостей по вопросу, который волнует его больше всего: останется ли он при новом режиме командующим своей группы войск? Он подозревает, что молчание Берлина означает «нет». Ранний осенний вечер спускается на местность. Вильгельм стоит в сумерках у окна охотничьего замка, где располагается штаб, и смотрит на голые деревья и на снег с дождем, падающий с неба. За окном по улице шагает рота. Солдаты поют: «Ох, на родину тянется душа…» До этого момента кронпринцу удавалось сохранять самообладание, но теперь, в одиночестве, в темноте, слезы так и хлынули у него из глаз.
Поздно вечером появляется известие, что новое правительство действительно отстранило кронпринца от командования. Проходит еще одна бессонная ночь, и внутренний бунт уступает место покорности: Вильгельм хочет, чтобы все осталось позади, хочет избежать кровопролития и обрести покой. На двух автомобилях, вместе с узким кругом верных людей, он выезжает в сторону голландской границы. Последнее письмо к своим солдатам кронпринц подписывает еще как «Верховный главнокомандующий Вильгельм, кронпринц Германский и Прусский». Но, в конце концов, это только «слова» и «идеи». Его сопровождающий вручает ему шапку пехотинца, чтобы его не так легко было узнать. Но Вильгельм хочет оставаться в высокой черной гусарской шапке с изображением черепа — последний раз побыть прусским офицером. По плохим дорогам они добираются до места за линией фронта, где армия находится уже в состоянии развала. Возле Вренховена они останавливаются перед колючей проволокой. Чтобы сделать несколько шагов через границу, Вильгельму приходится собрать в комок всю свою волю. Молодой голландский офицер на той стороне в полном недоумении: что делать с этим внезапным высоким гостем? Кронпринцу приходится сдать оружие, и только через несколько часов он добивается разрешения ехать дальше, до Маастрихта. По дороге ему достаются враждебные взгляды и ругательства. Голландское правительство не считает себя обязанным предоставлять ему убежище в Нидерландах.
Жорж Грос — родившийся под именем Георг Гросс, но, чтобы отмежеваться от находящейся в милитаристском угаре немецкой родины, в 1916 году взявший себе художественный псевдоним Жорж Грос — проводит ноябрь 1918 года в состоянии переезда. В начале месяца он еще живет в своем ателье в мансарде доходного дома в Берлинер-Зюдэнде, на юге. Здесь, вплоть до самого переезда на Нассауэр-штрассе в Вильмерсдорфе, долгие годы находилось средоточие его мира. Художник работал, окруженный мебелью, которую сам соорудил из расписных сундуков. Вдоль стен выстроились пустые бутылки, этикетками с которых он украшал стены. С лампы свисал большой черный паук, сделанный из проволоки. Осколки разбитого зеркала, размещенные по всему ателье, бросают раздробленные отражения на многочисленные фотографии на стенах; среди прочих — фото автомобильного миллионера Генри Форда с посвящением, которое Грос сам приписал. Грос преклонялся перед Фордом и вообще перед всем, что приходило из Америки: регтайм, золотоискатели, доллары, небоскребы, бокс, неоновые лампы, бурбон, томагавки. Его пристанище выглядело «как ярмарочная палатка», отапливалось оно газовым автоматом, который запускался с помощью десятипфенниговых монеток, брошенных в щель.
Когда новости об окончании боевых действий на западном фронте достигают столицы рейха — Берлина, Гросу все равно кажется, что война по-настоящему никогда не кончится. «А может быть, она вообще никогда и не заканчивалась? У нас объявили мир, но далеко не каждый был пьян и счастлив. По сути своей люди остались прежними, но с некоторой разницей: некогда столь гордый немецкий солдат превратился в побитого, уставшего от войны солдата, а народная армия распалась так же быстро, как хлопчатобумажные униформы и патронташи из кожзаменителя. То, что война была проиграна, меня не расстраивало. Меня расстраивало исключительно только то, что люди эту войну годами терпели и выносили, что тем немногим голосам, которые выступали против массовой бойни, никто не внял».
Сам Грос мировую войну не вытерпел и не перенес. Если говорить точно, он благородно провел это время в горизонтальном положении. Первый призыв он пропустил из-за воспаления придаточной пазухи носа. На пути второго призыва встал — настоящий или разыгранный — нервный срыв. Он был найден в полубессознательном состоянии, c головой, засунутой в унитаз. Георг Гросс, как он тогда еще себя именовал, поступил в лазарет, потом в лечебницу, где его пичкали «сушеными овощами» и «капустно-свекольным кофе», «серыми военными булочками» и «серо-зеленым искусственным медом». Он, воспринимавший восхищение войной у своих соотечественников в 1914 году как пандемию, ни в первый, ни во второй призыв не видел фронта собственными глазами. Но даже позади всех линий фронта он различал следы опустошения, разрушения, уязвимости и смерти, оставленные войной. Грос зарисовывал в блокнот все, что с ужасом видели его глаза. «Для меня мое „искусство“ было тогда чем-то вроде отдушины — клапана, чтобы выпустить пар, — писал он в своей автобиографии. — Если было время, я давал волю своему негодованию в рисунках. В блокнотах и на почтовых конвертах я набрасывал эскизы того, что меня больше всего не устраивало: звериные лица товарищей, злые инвалиды, надменные офицеры, развратные медсестры и т. д.». В зарисовках и живописных работах главным для него было «запечатлеть смехотворность и гротескность окружающего… мира деловитых, смертельно обозленных муравьишек».
Он вновь и вновь зарисовывает результаты воздействия насилия, высвобожденного войной, на архитектуру, на природу, на тела и души людей. Все вновь и вновь, со смесью отвращения и восхищения, он изображает на листах с подписями «Покушение» или «Авиабомба» взрывы и их губительные последствия. После того, как художник был окончательно комиссован из армии в мае 1917 года, появляется живописное полотно под названием «Взрыв».
На картине с помощью резких контрастов огненно-красного и антрацитово-черного показан город, разорванный на части взрывом. Эпицентр взрыва находится на уровне верхних этажей домов, как это обычно бывает, когда сбрасывают авиабомбу. От силы взрыва город распадается на части. Линии обрушиваются вниз, фасады накреняются, в окнах виден ослепительный сполох пожара, а все небо заполоняет облако жирного черного дыма. В нижней части картины, где преобладают черный, зеленый и синий тона, угадываются силуэты людей, которые пытаются спастись от катастрофы, а также останки тех, кому это не удалось, и теперь они проваливаются в зияющую тьму. Но все фигуры изображены как едва намеченные силуэты неких личинок, прозрачные, далекие от реальности.
В этой картине, как, собственно, и во всех других, Грос обнажает агрессивную и разрушительную сущность человеческого существования. За фасадом монархического буржуазного порядка произрастает, по его мнению, гнилое, жестокое и извращенное общество. Его впечатления о войне только подтвердили его самые худшие представления. Так, он вспоминает об одном случае весной 1917 года, когда после многомесячного пребывания в госпитале один врач решил объявить его выздоровевшим. Грос отказался вставать с койки и напал, войдя в раж, на фельдфебеля санитарной службы, который якобы поставил ему неправильный диагноз. «Никогда не забуду, — пишет он позже, — с какой радостью и почти упоением другие „товарищи“, числом что-то около семи, которым разрешено было вставать, добровольно набросились на меня. Один, пекарь по своей гражданской профессии, всем телом навалился на мои скрюченные от судороги ноги, радостно вопя: „По ногам ему, по ногам, вот тогда, поди, и успокоится“». Война представляется Гросу апогеем человеческой мерзости. В картине «Взрыв» он уловил тот момент, когда цивилизацию разносит в клочья сила порожденного ею зла. Она катится в пропасть, которую сама себе создала.
Его описание Берлина в ноябрьские дни 1918 года показывает город, от которого изображенная во «Взрыве» катастрофа оставила только руины. Былая столица Германского рейха похожа теперь на «серый каменный труп. Дома все в трещинах. Штукатурка и краска обвалились, и в мертвых немытых глазах оконных проемов в тех местах, где жители смотрели вслед тем, кто больше никогда не вернется, остались следы пролитых слез».
Еще в последние месяцы войны Грос ощутил необходимость воздействовать на общество не только с помощью своего искусства. Свою магическую притягательность имеет для него революция, достигшая столицы за несколько дней до завершения боевых действий. У него было такое чувство, будто появилась возможность воплотить в действия всю свою ярость и все презрение к старой Германии, словно теперь он может участвовать в подготовке взрыва и даже сделаться самим взрывом. Грос становится желанным оратором на собраниях «Союза Спартака». Где-то в глубине души он наверняка чувствовал, что протагонисты и жестика революции для него столь же достойны презрения, как общество кайзеровского рейха и общество, ведущее войну. Но внешне он становится защитником нового времени, динамичность и театральность которого отвечают его натуре. Особенно он не жалеет слов, рассуждая о необходимости создания новой системы образования. Новое образование больше не будет привилегией богатых! Академии и университеты должны открыть свои двери для всех! В канун Нового года художник вместе с несколькими своими товарищами-живописцами вступает в члены вновь основанной Коммунистической партии Германии. Членский билет ему собственноручно выдала Роза Люксембург.
Четвертого ноября 1918 года Вальтер Гропиус приезжает из Берлина в Вену, чтобы добиться от своей супруги Альмы Малер-Гропиус права опеки над их общей дочерью Манон. В письме он поясняет, почему намерен заняться воспитанием Манон: Альма определенно не готова отправить на все четыре стороны своего любовника Франца Верфеля. Кроме того, даже если Манон переедет к нему, у нее так или иначе останется дочка от первого брака и новорожденный ребенок — маленький Мартин. Прочитав письмо, Альма разражается слезами и до самого вечера уже не может успокоиться.
После обеда у нее встречаются оба: муж Гропиус и любовник Верфель. Альма устраивает им драматическую сцену и заявляет, что готова расстаться с обоими. Отныне она хочет жить одна. Но только пусть ей оставят ее троих детей. Гропиус мало что мог противопоставить пылкому выступлению Альмы, он, видя ее отчаяние, сожалеет о своем суровом требовании и просит у супруги прощения.
Брак Гропиусов продержался неполных три года. Познакомились они еще в 1910 году, когда первый муж Альмы, композитор Густав Малер, был жив. Это случилось во время пребывания на роскошном курорте Тобельбад. Альме казалось, что знаменитый супруг пренебрегает ею, и страсть между ней и Гропиусом разгорелась не на шутку. Но ничего более, кроме обострения брачного кризиса в доме Малеров и дальнейшего повышенного внимания композитора к своей значительно более юной, чем он, жене, из этого первого знакомства не вышло. Когда в 1911 году Малер умер, оба поначалу держались подальше друг от друга. Молодая вдова спасалась интрижкой с безгранично пылким, но болезненно ревнивым молодым художником Оскаром Кокошкой.
Потом началась мировая война, и Вальтер Гропиус ушел воевать. Четыре года подряд он непрерывно участвовал в боевых действиях на Западном фронте и в Италии. Короткий отпуск в феврале 1915 года стал первой возможностью для новой встречи Вальтера и Альмы. Тридцатипятилетняя вдова возобновила общение с ним совсем незадолго до этого. В действительности былая любовь вспыхнула сразу, когда они снова стояли друг перед другом. С этого момента они почти каждый день обменивались письмами. Он писал с фронта, она — из Вены. Альма приправляла свои письма нежностями и эротическими намеками, полными «дикарского» чувства. В августе 1915 года, во время очередного увольнения с фронта, возлюбленные тайно обвенчались в Берлине. Впрочем, после свадьбы в письмах Альмы появился совершенно иной тон. Вместо того чтобы упиваться любовью и тоской, она жаловалась на долгую, бесконечную разлуку, говорила о его «тайнах» и «пренебрежении» ею. Мучимая ревностью, она подозревала его в неверности, упрекала в том, что на фронте он ходит в бордель. То, что Гропиус ежедневно на передовой рисковал жизнью, что этому молодому архитектору с каждым днем все тяжелее было смиряться с тем, что он стал частью «разрушающей, а вовсе не созидательной военной машины», не играло в этих письмах никакой роли. Он не хотел отягощать ее этими данностями, да и сам не питал к войне никакого интереса.
В октябре 1916 года Альма Малер-Гропиус произвела на свет дочь, которая в честь бабки с отцовской стороны получила имя Манон. Она была беременна вторым ребенком, когда Гропиус в последнее лето войны попал на лечение в венский лазарет. Физически он почти не пострадал, но испытал сильное душевное потрясение. Он оказался единственным выжившим после артиллерийского обстрела, недалеко от местечка Суассон, когда искали людей под обломками разбомбленного дома. Как только Гропиусу разрешили вставать, он отправился к Альме. Было 25 августа 1918 года. В ожидании жены он стал свидетелем телефонного разговора, во время которого та подозрительно задушевным голосом разговаривала с каким-то мужчиной. Гропиус в ярости призвал жену к ответу и наконец узнал правду: в последнюю зиму, когда ожидание супруга сделалось невыносимым, она вступила в связь с венским поэтом Францем Верфелем. От него, наверное, и ребенок, которому скоро суждено родиться, призналась она. Истощенному психически и физически во время погребения под обломками Гропиусу эти новости оказались не по плечу.
«Как громом пораженный», он упал на землю.
Но уже на следующий день Гропиус овладел собой, самообладание к нему вернулось. Он отправился в путь и постучался в дверь любовника своей жены. Верфель, воплощенный поэт, еще лежал в постели и Гропиуса не слушал. Гропиус оставил ему открытку с рыцарственными словами: «Пощадите Альму. Может произойти несчастье. Сильное возбуждение — и наш ребенок погибнет». Последующие дни Гропиус, погрузившись в мучительные размышления, провел на больничной койке, пока его — явно слишком рано — не призвали обратно на фронт, назад, в ту самую разрушенную войной местность в Аргоннах. Даже не отдышавшись, Гропиус из огня ревности и упреков попал в полымя битвы.
В октябре 1918 года военные врачи наконец проявили снисхождение к выгоревшему за четыре года сражений лейтенанту Гропиусу, и ему вновь был предоставлен длительный отпуск. Только на этот раз, вернувшись в родной Берлин, когда предвестий скорого окончания войны стало больше, Гропиус осознал всю двусмысленность своего положения. Четыре года подряд он отдавал все свои силы и весь свой талант борьбе с врагами Германии. Он трижды был ранен, его наградили Железным крестом. Теперь, когда он больше ни на что не способен и остро нуждается в любви и заботе, его брак превратился в груду обломков. В своей профессиональной области, в архитектуре, он уже четыре года не работал, и все его прежние прекрасные связи утрачены. Здесь, в Берлине, когда он задумался о всей безнадежности экономической ситуации, его начали мучить страхи, выживет ли он: «Приеду домой — без лейтенантского жалования — и у меня ничего не будет, а тут еще и подорожание вокруг».
И тут, когда Гропиус пребывает в состоянии отчаяния, он начинает понимать, что должно начаться что-то новое, что-то принципиально другое. У него было такое чувство, будто «в него ударил луч света», так он описывает это состояние. Если до войны он со своими передовыми проектами находился во главе архитектурного авангарда, то политически он оставался консерватором. Однако в ноябре 1918 года он внезапно ощущает настоятельную необходимость встать на совершенно новый путь: «После войны передо мной забрезжил новый путь… со старым хламом было покончено». Поездка в Вену и споры с Альмой из-за Манон были первыми шагами в стремлении организовать свою личную жизнь по-новому. В Берлине он бегает от одной двери к другой, пытаясь найти постоянную работу или отдельные заказы, чтобы открыть собственное архитектурное бюро.
Но на необходимость перемен он смотрит гораздо шире, нежели в масштабах собственной жизни. Он хочет стать частью грандиозного преобразования, которое приведет в движение все вокруг него. Вместе с другими художниками и архитекторами он создает «Рабочий совет по делам искусства». В паре со своим коллегой Бруно Таутом он формулирует манифест новой архитектуры: «Непосредственное воплощение духовных сил, вместилище ощущений… — это архитектурное сооружение. Такое сооружение может создать только полномасштабная революция духа». Они мечтают о больших «народных сооружениях» на свободных землях вне густонаселенных центров. И не в мегаполисе, который, «прогнив сам по себе, исчезнет точно так же, как и старая власть. Будущее будет строиться на освоенной новой земле, которая будет кормить себя сама». Такие образцовые новые поселения будут располагать всей инфраструктурой настоящих городов: улицами, площадями, парками, магазинами, гостиницами, ресторанами, культурными и образовательными учреждениями. Новые пригороды, по мысли Гропиуса и его соратников, должны стать инкубаторами нового общества. С землей, отведенной под сельское хозяйство, разумно организованные, чистые, справедливые и здоровые, они после годов разрушения призваны обеспечить возрождение и стать архитектурной кулисой новой эры, которая до сих пор держит свое обещание — стоит только взглянуть на современное социальное жилье. Гропиус и Таут создают эскиз мира после взрыва, изображенного Гросом, они проектируют возрождение мира из разрухи бесплодных пейзажей войны, из руин старой империи и старого общества.
Чуть позже Гропиус — который способен не только выдумывать фантастические видения, но и, будучи офицером, относится к умелым организаторам — становится председателем Рабочего совета. Он с наслаждением общается с творческими людьми, и в нем укрепляется уверенность, что потребовалась война, чтобы запустить в его душе «внутреннюю очистку» и чтобы ниспровергнуть в Германии ограничительные барьеры всего старого. Гропиус не может дождаться того дня, когда он начнет строить вожделенные города будущего.
Пока Луиза Вайс, сидя в маленькой парижской клетушке с голубыми обоями в помещении редакции, пытается идти в ногу с грандиозными мировыми событиями, Гиацинт Филуз, издатель газеты собственной персоной, сидит в парадном зале на редакционном этаже. Он встречает прибывших, болтает, откупоривает бутылки, курит и приветствует нескончаемый парад гостей. А еще Филуз поручил одной малоталантливой художнице украсить редакционную кухню, чтобы вечером устроить там пирушку. Позже вино и шампанское текут рекой, и ко всему приглашаются юные девушки с сомнительной репутацией, которые не смутятся, если их слегка ущипнуть за попку. Когда веселье уже перетекает через край и соседи жалуются на шум, консьержа подкупают чаевыми.
Луизе такие увеселения не интересны. Ее интересует вселенская революция. Похоже, из России эта волна покатилась по всему земному шару. Не только в Европе и в странах Османской империи наблюдаются решительные перемены, они есть и в Америке, и в Японии, — да и по Китаю идут ударные волны революционных потрясений. На обломках старого мира возникает новый мир. Луиза Вайс должна все об этом узнать и все сообщить. Против воли Филуза, для которого главное — чтобы газета зарабатывала как можно больше денег и не шутила шуток с влиятельными людьми, тон журнала «Л’Эроп нувель» становится все более требовательным. Луиза Вайс и ее соратники убеждены в том, что Европе необходима не только русская, а целая серия революций, чтобы после большого пожара повернуть мир на новую орбиту. В Германии, в Австро-Венгрии, на европейском Востоке, на Балканах, в Балтике и в Украине, да даже в Японии и Китае начались преобразования. Но что с Францией, матерью революций? Неужели волна революций разбивается о границы стран-победительниц? Даже если Франция вышла из войны с победой, эта страна созрела для капитальных изменений: она нуждается в выборах нового правительства, расширении прав рабочих, новой концепции отношений с колониями. Но прежде всего необходимо, чтобы французские женщины получили наконец-то полноценные политические права — и в первую очередь избирательное право.
Между тем революцией можно было без вопросов назвать то, что происходит в Чехословакии, на родине Милана, — и Луиза с восторгом наблюдает за этим. Население Богемии уже давно перешло к открытому протесту против господства Габсбургов: демонстрации, митинги и забастовки — в обычной повестке дня. Пока платонический возлюбленный Луизы Милан Штефаник пытается спасти в Сибири остатки армии, которой предстоит стать опорой нового чехословацкого государства, его соратник Эдвард Бенеш, находясь в Париже, набросал конституционные основы этого независимого государства — впрочем, пока они существуют только на бумаге. Бенеш часто подолгу сидит в редакции «Л’Эроп нувель» и, выражая свое мнение, во многом определяет направленность издания. В тот день, когда Луиза Вайс, устав от фокусов Филуза, собирается уволиться, не кто иной, как Бенеш, уговаривает ее остаться. Он знает цену и ей, и самому журналу. Благодаря ей сохранялся интерес общественности и многих значительных политиков к чешской теме. Благодаря публикациям Луизы Вайс мир узнал, что Бенеш в сентябре 1918 года сформировал чешское правительство в изгнании, которое 18 октября 1918 года объявило независимость чехов. В ноябре, после того как разразилась революция в Вене, Луиза Вайс поясняет читающей публике, что отречение австрийского императора Карла I окончательно расчищает путь новому чехословацкому государству.
Для Альмы Малер-Гропиус, которая была композитором, светской дамой в венском обществе, а также музой, революционная активность Вальтера Гропиуса обернулась, по крайней мере, временным облегчением. До того момента он в письменной и устной форме выражал протест против ее любовника Верфеля. Он просил ее прекратить любовную интрижку и приехать к нему в Берлин. Он грозил последствиями. Но она с сомнамбулической уверенностью следовала своему внутреннему компасу, который безошибочно направлял ее к молодым, необычайно талантливым и неуклонно идущим к успеху поэтам. Сцена 4 ноября и коллапс Гропиуса означал, что его сопротивление внебрачным связям потерпело крах. Несколькими днями позже революция в Берлине на некоторое время отодвигает все личные проблемы на задний план. Тем самым для Альмы и Франца Верфеля открываются ворота в общее будущее, то будущее, в котором они могут быть вместе без игры в прятки. Через несколько недель она записывает в своем дневнике: «Счастливейшая ночь! Верфель был у меня. Мы прижимались друг к другу и чувствовали проникновеннейшую проникновенность наших любящих душ. Это величайшее растворение моей жизни».
В то же время она воспринимает как «внутреннюю правду» то, что ее любовь к Верфелю не исключает и прежних сердечных связей: «Всё существует сразу. Я никого не могу отрицать. Густав Малер, Оскар Кокошка, Гропиус… все было и осталось былым!» Даже про свою юношескую любовь — Густава Климта — она написала по случаю его смерти: «Как я его когда-то понимала! И я никогда не переставала его любить — хотя и в очень причудливой форме». Каждый любимый мужчина оставил следы и воспоминания после себя. Она не хочет ни об одном умолчать, ни одного отдать. В старой Вене, столице австрийско-венгерской монархии, принято было иначе, здесь следовало сохранять фасад женской благопристойности; но в конце войны такая амурная ветреность уже не вызывала общественного порицания. «Брак, эта санкционированная государством тирания, мне претит, и, уклоняясь от нее, я выбираю свободу любовных связей», — пишет Альма Малер-Гропиус. Это маленькая сексуальная революция.
Венскую революцию, которая разражается 12 ноября 1918 года, через считанные дни после берлинских беспорядков, Альма Малер-Гропиус встречает в своем красном музыкальном салоне. «Так называемая революция» представляется ей «глупой и жуткой одновременно. Мы видели процессию пролетариев, идущих к парламенту. Нелепые фигуры… красные флаги… мерзкая погода… снег с дождем, все кругом серое. Потом выстрелы, видимо из парламента. Штурм! Еще недавно вполне стройная вереница людей теперь с криками, совершенно позорно посыпалась назад. Кто-то из участников был у меня. Пришлось достать мои пистолеты». Еще накануне австрийский император Карл I отрекся от престола и ночью покинул Вену. После Германской империи завершила свое существование и империя Габсбургов.
Тринадцатого ноября Франц Верфель стоит перед дверью квартиры Альмы. На нем военная форма; он пришел за ее одобрением, потому что намеревается примкнуть к восставшим. Но для нее это «фальшивая революция», ее сердце против. Верфель умоляет ее так долго, что в конце концов она сжимает его голову руками, целует и отпускает как нерадивого ученика, которого ничему невозможно научить. Когда поэт глубокой ночью возвращается, она видит, что он в чудовищном состоянии: «Глаза у него были налиты кровью, лицо опухло и было все в грязи, руки в пятнах, мундир — весь испорчен. От него несло сивухой и табаком». Поэт с гордостью рассказывает, что на Ринге он взобрался на скамью и оттуда выступал перед народом, что он призывал штурмовать банки и вместе с коллегами-художниками основал «Красную гвардию». Альма строга к нему, она говорит с упреком: «Если бы ты сделал что-то прекрасное, то сейчас бы и выглядел прекрасным». Затем отправляет вонючего, перепачканного революционера ночевать к другу. Таким она его у себя в доме видеть не хочет.
Выкрутасы Верфеля привлекли внимание полиции. И в конце концов не кто иной, как Вальтер Гропиус, отправляется к Верфелю, чтобы предупредить его о слежке. Поэту удается скрыться, пока все не улеглось. Гропиусу ни на секунду не приходит в голову идея воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств и предоставить полиции возможность уничтожить соперника. И ведет он себя так не только по причине порядочности, но и потому, что Альма, которая, понимая, что под угрозой ее возлюбленный, его репутация, его слава, была близка к нервному срыву.
В отличие от своих мужчин, Альма Малер-Гропиус ненавидела революцию с самого начала, да и позже все равно не могла примириться с «красной Веной». Ее личная жизнь сильно выиграла от свобод нового времени, но не менее сильна была ее тоска по «прекрасной эпохе». По прошествии нескольких месяцев она будет писать, что хотела бы возвращения императора и даже «дражайших, плодотворнейших эрцгерцогов, которым страна обязана была оказать поддержку». Она хотела бы всего лишь «возвращения роскоши наверху и подчинения, безмолвной покорности рабского фундамента человечества. А вопли масс — это музыка ада».
Комнатка Нгуена Тат Тхана в Париже такая крохотная, что в нее с трудом помещается узкая железная кровать, стол и стул. Мойщик тарелок переселился из Лондона во французскую столицу. Он живет в дешевой гостиничке на востоке Парижа, в рабочем квартале. Рано утром он варит себе чашку риса с рыбой: половину съедает, а другую оставляет на ужин. Поскольку стоит зима, он не забывает каждое утро перед работой засунуть в кухонную печь гостиницы кирпич. Возвращаясь вечером, он вытаскивает его из пекла, оборачивает газетной бумагой и кладет себе в постель, чтобы ночью не замерзнуть. Нгуен живет за счет случайных заработков. После работы он идет в городскую библиотеку читать и учить французский; больше всего его восхищают Эмиль Золя и Анатоль Франс. По вечерам, если не слишком устал за день, Нгуен посещает доклады о политике.
С момента своего приезда в Париж Нгуен узнал французов с новой стороны. На родине, в Индокитае, они выступали исключительно в роли народа-повелителя, который силой угнетал и эксплуатировал местных, утверждая при этом, что несет им западную цивилизацию. Во время своих долгих плаваний на кораблях по всему земному шару Нгуен видел, что такова судьба не только его земляков. Со страхом вспоминал он одну сцену в порту Дакар в африканском Сенегале. Тогда шторм не давал судну, на котором он служил, войти в порт. Волны вздымались так высоко, что даже не было никакой возможности спустить на воду шлюпку. Чтобы установить связь с судном, портовая надзорная служба приказала одному африканцу плыть к кораблю. Зная, что он не имеет права ослушаться приказа, несчастный прыгнул с причальной стены в воду. В первые мгновения пловцу еще удавалось держаться на поверхности. Но как только он выбрался из гавани в открытое море, волны обрушились на него с такой силой, что он потерял сознание и утонул. После него послали второго, затем третьего, и даже четвертого. Но ни один из них не добрался до корабля, ни один не выжил. Эта сцена, напомнившая Нгуену похожие случаи времен юности, глубоко врезалась ему в память.
И только в метрополии он узнал, что бывают не только богатые и могущественные французы. Уже во время самой первой остановки на французской земле, в порту Марселя, он обратил внимание на проституток, которые поднимались к морякам на корабль. «Почему, — с негодованием спрашивал он у других матросов, — французы не приобщили к цивилизации сначала своих соотечественников, прежде чем взялись за нас?» Позже, в Париже, Нгуен убедился, что целые кварталы великолепного города находятся в ужасном состоянии и люди там живут в бедности. Одновременно его восхищало то, что неравенство между богатыми и бедными здесь, во Франции, это не только факт, но и политический вопрос. Все чаще его видели на политических сборищах социалистов. Сначала он только слушал, потом стал сам выходить на ораторскую трибуну и произносил спокойные и взвешенные слова. Он всегда умел развернуть тему собрания и применить ее к ситуации в колониях, в Индокитае. Поскольку, как правило, он был единственным оратором не из Франции, его слушали с особенным вниманием. В общем и целом, по его впечатлению, французы были у себя на родине более приветливы, чем в колонии Индокитай. Возможно, этот вывод связан и с тем, что он все больше на них походил и выступал всегда вежливо и сдержанно. Он был гостем, чужаком во Франции и хотел, чтобы его принимали всерьез, хотел производить впечатление вдумчивого человека, а не бунтаря. Только так он мог воплотить в жизнь свою мечту о независимом Вьетнаме.
Но вскоре ему стало до боли ясно, что интересы французских социалистов к ситуации в колониях очень невелики. Одна из немногих левых газет, которая вообще обращалась к теме Индокитая, была «Ле пёпль». Ее главная редакция находилась в Брюсселе, но с конца Первой мировой войны у газеты во Франции появилась дочерняя редакция. Парижским бюро руководил Жан Лонг, внук Карла Маркса, который входил даже в число членов Национального собрания.
Наконец Нгуену удается поговорить с ним самим, и он поражен тем, насколько по-дружески политик вел с ним разговор. Он называет его «дорогой товарищ» и даже уговаривает написать очерк об Индокитае в «Ле пёпль». Нгуен воодушевлен, но он понимает также, что его французский не годится даже для того, чтобы писать короткие сообщения. Но терять шанс он, разумеется, не хочет. Поэтому он просит одного своего земляка, который владеет французским не в пример лучше, писать небольшие заметки по его тезисам. Соотечественник согласен, но не хочет публиковать тексты под своим именем. Так что Нгуен подписывает их псевдонимом Нгуен Ай Куок, что переводится как «Нгуен-патриот». Далеко не сразу Нгуен, который не всегда был доволен текстами своего тайного спичрайтера, решается писать сам. Поначалу это всего лишь несколько строк, которые издатель затем подвергал изрядной правке. Но Нгуен сравнивает свой текст с напечатанным в газете и учится на собственных ошибках, так его статьи становятся все лучше и заметно обширнее.
Продолжается путешествие Марины Юрловой поездом по Транссибирской магистрали на восток. Ландшафт между тем исчезает под толстым слоем снега. В окно вагона видна только белизна, столь вездесущая, что кажется, она вот-вот поглотит поезд. Посреди этого бесконечного пространства вдруг скрипят тормоза, локомотив сбрасывает скорость и останавливается где-то в неведомом краю. Когда офицеры спрашивают у машинистов, что случилось, те дают неутешительный ответ. Город Иркутск, ближайшая большая станция у них на пути, перешел в руки большевиков. Машинисты отказываются ехать дальше. Обратно следовать тоже невозможно, потому что Томск, который они уже проехали, тоже сейчас, по слухам, ненадежен. Поезд замер, черный червяк на белом просторе.
Чехословацкие солдаты сооружают рядом с остывающим локомотивом бивак: ставят пару шатров и разводят огромный костер в снегу, у которого греются несколько молодых барышень-дворянок, оказавшихся в поезде. Что делать? Дожидаться, когда большевики догонят их на своем паровозе и всех убьют? В конце дня у одного из офицеров терпение кончается: он хочет нарядиться крестьянином и незаметно пройти через Иркутск. Манчжурия к востоку от города вроде бы большевиками еще не захвачена. У этого плана оказывается много сторонников, но остается главный вопрос: как посреди сибирской зимы попасть в Иркутск, до которого еще несколько сот километров?
Однако, отправившись в разведку на местности, посланные солдаты наткнулись на монгольскую деревню. В ходе нелегких переговоров с жителями они описали свой план и договорились о цене за зимнюю одежду и за сопровождение по конной тропе в Иркутск. К переходу хотели примкнуть почти сто пассажиров поезда. Они и дали деньги из своих походных кошельков, чтобы оплатить монгольских проводников. Чуть позже чешские солдаты вместе с русскими пассажирами вытягиваются в длинную вереницу на белой равнине. Монголы едут впереди на лошадях, которые столь низкорослы, что ноги всадников почти касаются земли. Ничто в их морщинистых лицах не выдает того, что они думают о пришельцах, забредших в их страну, и об их намерениях. Тропу они знают наизусть, хотя местами ее полностью занесло снегом. Они знают также, где по соседству есть селения и где можно заночевать.
Путь по однообразной заледенелой местности кажется Марине бесконечным. Через несколько дней экспедиция добирается до обезлюдевшей русской деревни. Двести мертвых закоченевших тел с почерневшими от мороза лицами лежат в снегу. Картина эта потом преследует Марину во сне.
Еще через несколько дней воздух внезапно прорезает свист локомотива. В мгновение ока монгольские проводники исчезают, словно их поглотила земля. Путники отправляют вперед разведчиков, которые через несколько часов возвращаются с хорошими новостями: Иркутск в тридцати милях, и в нескольких часах пешего хода на пути есть русская деревня. Но самая лучшая новость заключалась в том, что чехословацкие войска отвоевали Иркутск обратно. Вскоре Марина уже увидела вдали башни города. Прибытие в Иркутск кажется спасением, хотя это опять всего лишь остановка в пути, хотя руки и ноги у нее начинает невыносимо ломить, когда после стольких дней страшных морозов по ним вдруг растекается тепло.
В своем домике в Ричмонде, где от камина исходит уютное тепло, Вирджиния Вулф с максимальной сосредоточенностью работает над рукописью своего романа «Ночь и день». Поскольку Леонард строго ограничил ее рабочие часы, ей остается черпать сведения из газет, которые приносят в Ричмонд известия о мировых событиях. 9 ноября, получив сообщения о беспорядках в немецких портовых городах, но еще в неведении о конце Германского рейха, Вирджиния Вулф записывает в своем дневнике, что германский кайзер «до сих пор носит на голове что-то вроде фантомной короны». «А то иначе началась бы революция, думает он, наверное, нечто вроде частичного пробуждения со стороны населения по отношению ко всему происходящему. Предположительно мы проснемся тоже?»
Писательнице ни в коей мере не чужда та мысль, что для победоносной Англии тоже наступают неспокойные времена. С сейсмографической точностью она отмечает те небольшие колебания в атмосфере, которые для Ричмонда и прилегающих к нему мест несет момент, когда совершается переход от войны к миру. Так, она описывает происшествие на Шефтсбери-авеню, свидетельницей которого стала. Простой солдат прямо на улице, на глазах у всех угрожал офицеру, что пустит пулю ему в лоб. Такие сцены, по убеждению Вирджинии Вулф, возвещают о переменах. Пьяные солдаты и толпы людей на улицах тоже есть подтверждение: что-то пришло в движение. Но в каком направлении?
«Мир, — пишет она, — быстро растворяется в воздухе, в свете повседневности». Много быстрее, чем ожидалось, жители Ричмонда меняют свои ценностные ориентиры: «Вместо того чтобы днями напролет и по дороге домой по темным улицам ощущать, что весь народ, по своей воле или против воли, сосредоточен на одной единой цели, люди теперь чувствуют, что толпа разлетается в разные стороны, что грандиозный толчок влечет всех в разных направлениях. Мы превратились по большей части в нацию индивидуумов. Кто-то футбол любит; другие предпочитают скачки и бега; кто-то — танцы, еще кто-то, ну да, они все с удовольствием разбегаются в разные стороны, снимают униформу и вновь предаются своим личным пристрастиям». Приведет ли окончание войны и исчезновение общего врага к росту внутренней напряженности в английском обществе? Писательнице сложно дать отчетливые ответы на эти вопросы. Мир упал «как камень в мой омут, водовороты крутятся до сих пор, достигая дальнего берега».
Роман «Ночь и день», появившийся в начале 1919 года, — это свидетельство вопросов, которые задала война Вирджинии Вулф. На примере судьбы пяти персонажей, существующих в сложных параллельных мирах друг рядом с другом, роман показывает ограниченность английского общества перед войной и скованность всех, особенно женщин, рамками приличий, правилами и законами супружеской иерархии. Не была ли эта невыносимая общественная узость причиной войны? Какую такую «свободу» Великобритания отстаивает в войне? Действительно ли это общество достойно того, чтобы за него гибло так много народу?
В разговорах Вирджиния Вулф слышит самые разные мнения насчет того, что означает конец войны для политики Великобритании. Некоторые из ее друзей, например художник Роджер Фрай, убеждены, что Англия находится «на грани революции». «Низшие классы ожесточены, нетерпеливы, могущественны, конечно, разума у них не хватает. <…> Непроницаемая стена консервативности среднего класса никогда не была более неприступной. Динамит может превратить ее в пыль».
В ноябрьские дни 1918 года Теренс Максвини вместе с другими арестованными бойцами «Шинн Фейн» (название этой политической организации в переводе означает «мы сами») находится в грязном трюме под палубой одного корабля. Этот корабль вышел из гавани ирландского Дублина, чтобы пристать к английской земле. Как только судно оказывается в открытом море, начинается сильная качка. Большинство людей тут же заболевают морской болезнью и, страдая, болтаются в койках на своих местах. Теренс Максвини находит маленький люк, который не задраен. Он становится перед отверстием так, чтобы лицо овевал свежий морской воздух и пена от волн брызгала в лицо. Его не заботит, что он весь вымокнет. Кто знает, когда еще доведется подышать свежим воздухом?
Цель путешествия, величественное кирпичное здание тюрьмы Линкольна на востоке Англии, похожее на средневековый рыцарский замок, Максвини знает хорошо по прежним тюремным срокам. Он знаком с разными тюрьмами в Ирландии и Англии. Незадолго до начала мировой войны он записался в тайную добровольческую армию своего родного городка Корка в Южной Ирландии, целью которой было достижение независимости Ирландии. Он верил, что небольшой авангард бойцов, готовых пожертвовать своей жизнью, сможет вовлечь весь ирландский народ в восстание. С тех пор он, уже известный своими выступлениями за независимость в статьях, стихах и книгах, ушел в подполье. Он готовил людей, форму, боеприпасы и деньги, чтобы во всеоружии встретить день, когда все созреет для решающего восстания.
Британская полиция давно шла по пятам за ирландским революционером. Хотя до сих пор он не совершил ни одного доказанного тяжкого преступления, он все равно рано или поздно оказывался перед судом и в тюрьме. Тот факт, что в родном городке Максвини Корке во время ирландского Пасхального восстания в апреле 1916 года все было тихо, — что Максвини до конца дней своих считал личным просчетом, — ничего по сути не изменил. Его жена Мюриэл, происходившая из богатой коркской семьи, видела Максвини крайне редко. Слишком опасно для него было долгое время находиться на одном и том же месте. Когда Максвини сидел в тюрьме, Мюриэл по крайней мере знала, где он, и супруги обменивались нежными любовными письмами. Когда в июне 1918 года у них родилась первая дочь Майра, Мюриэл пришлось принести младенца в тюремную комнату для свиданий, чтобы отец смог подержать дитя на руках. В письмах супруги уверяют друг друга, что судьба Ирландии должна стать для них важнее личного счастья. Максвини пишет об этом: «Никакой мужчина не имеет права бояться, что тех, кого он любит, надо будет испытывать огнем, но, опираясь на свою силу, он должен показать им, как такое испытание выдерживают и как надо доверять величию истины».
По прибытии в тюрьму Линкольна для Максвини вновь начинается слишком знакомая ему, однообразная тюремная повседневная жизнь. Лишь скудные новости с родины приносят в его камеру волнующий аромат ирландской революции. Так, еще до Рождества Максвини узнает, что — несмотря на его заключение — его избрали в Британский парламент в качестве представителя Ирландии. Партия независимости «Шинн Фейн», от которой Максвини также был выдвинут кандидатом, смогла добиться 14 декабря 1918 года на выборах в Нижнюю палату грандиозной победы, потеснив умеренную Ирландскую парламентскую партию, а также своих врагов — юнионистов. Но вместо того чтобы занять места в британском парламенте в Вестминстере, представители «Шинн Фейн» решаются на более радикальный шаг: они без дальнейших консультаций с кем бы то ни было объявляют независимость Ирландии и создают свой собственный ирландский парламент, «Дайл Эйреанн». Когда 21 января 1919 года «Дайл» проводит свое первое заседание и принимает Ирландскую конституцию, Максвини узнает об этом только из устных рассказов. Он бы все на свете отдал, чтобы занять место среди членов этого парламента!
Ровно в тот же день, об этом Максвини слышит в тюрьме, а потом читает в газетах, его соратники Сеан Трейси и Дан Брин с семью другими борцами за независимость укрылись в засаде у дороги, ведущей к каменоломням Солохедбег, недалеко от ирландского местечка Типперари. Туда направлялась повозка со взрывчаткой под охраной полицейских, которую ирландцы и поджидали. Но больше, чем необходимость захватить взрывчатку, их интересовал сам факт войны: нападение на повозку должно было прежде всего стать сигналом к возобновлению военных действий против британского господства. Долгие дни они провели в томительном ожидании, пока их лазутчик не различил вдали повозку. Каждый немедленно отправляется на свое место, стараясь сохранять самообладание. На крытой повозке, которая приближается, сверху сидят полицейские, которые основательно подготовились к сопровождению груза. У ирландских борцов за независимость, наоборот, нет никакого опыта управляться с оружием. Они были лишены возможности поупражняться в стрельбе, потому что патронов у них имелось очень мало и вообще они боялись клацаньем затвора выдать себя.
Когда повозка подъехала, ирландцы крикнули охранникам, чтобы те сдавались. Полицейские и не подумали сдаваться. Они укрылись за повозкой, зарядили винтовки и угрожающе направили их на спрятавшихся ирландцев. Мгновение царит напряженная тишина; стволы направлены навстречу друг другу. Тогда из укрытия стреляют одновременно девять револьверов, и оба полицейских замертво падают на землю. Стрельба пугает местных жителей. За несколько мгновений здесь может собраться целая толпа зевак, а следом сотни полицейских. Преступники поспешно прыгают в повозку, изо всех сил понукая старую лошадь. Взрывчатку в кузове подбрасывает на ухабах, а они слышали, что от сильного сотрясения она может детонировать и взорваться. В конце концов они добираются-таки до места, где в земле подготовлена яма, чтобы спрятать добычу. Затем они исчезают под прикрытием вьюги, которая как раз в это время разыгралась.
Примерно в то же время Мохандас Карамчанд Ганди выздоравливает после кишечного заболевания, находясь в индийском Матеране. Болезнь была столь серьезна, что он почитал себя уже на пороге смерти. Впрочем, доктор Далал обещает вылечить его полностью только в том случае, если он нарушит свой обет — отказ от молока. Ганди слаб настолько, что «сама мысль о еде вызывает у него страх», а каждый позыв сходить по нужде оборачивается мучительными болями. Тем не менее необходимость принять решение, не совпадающее с его принципами, заставляет его испытывать муки совести. Лишь после долгих размышлений инстинкт самосохранения и желание продолжить начатую борьбу за независимость Индии берут верх. Коровье и буйволиное молоко не рассматриваются вовсе, но Махатма разрешает принести козье молоко.
Пока к нему потихоньку возвращаются жизненные силы, Ганди обдумывает сенсационную политическую новость. С концом войны потеряли силу те чрезвычайные законы, с помощью которых британские колониальные власти держали под контролем растущее движение за независимость. Чтобы исправить положение, была создана комиссия под председательством судьи сэра Сидни Роулатта. Она разработала пакет законов, важнейшей целью которых была попытка дать британским властям подручное средство против общественных беспорядков. Ганди начал организовывать сопротивление этим законам, как только об этом узнал. «В последнюю ночь мне во сне пришла идея, что надо призвать всю страну ко всеобщему харталу». Пусть все люди в Индии «прекратят в этот день работу и отметят его как день поста и молитвы». Если индийцы действительно последуют этому призыву, это будет самой впечатляющей демонстрацией стратегии пассивного сопротивления и воспрепятствует или хотя бы смягчит введение законов в действие. Исполненный ожиданий, Ганди устанавливает связь с соратниками по всей стране.
После матросского восстания и перемирия экипажи судов в Вильгельмсхафене погружаются в повседневные дела. Рихарду Штумпфу все это напоминает 1914 год: то же деловитое усердие. Только портовые краны на этот раз не поднимают боеприпасы на борт, а сгружают их, чтобы направить затем в душную угольную пыль складских помещений. Это те же самые снаряды, на которых моряки еще совсем недавно писали оскорбительные приветствия англичанам. Теперь вместо этого корабли готовили, согласно договору о перемирии, к передаче англичанам в числе судов германского военного флота.
В сущности, это хороший день, ведь Германия лишается орудий уничтожения. Но Рихард Штумпф воспринимает все это как подготовку к похоронам. Ибо передача флота — это не начало всеобщего разоружения, которое однажды могло бы принести миру вечный мир. Это — свидетельство предательства, и условия перемирия Штумпф рассматривает именно так. Он уверен, что этот позор будет теперь веками отягощать Германию. В один прекрасный день немецкие военные суда, переходящие сейчас в руки англичан, могут направить свои орудия против самой же Германии.
Жизнь на борту изменилась коренным образом. Дисциплина расшаталась, и новому матросскому комитету не удается поддерживать спокойствие и порядок. Воровство и драки становятся повседневностью. Но хотя бы с кормежкой экипажа стало теперь получше, а три раза в неделю даже дают пунш. Все эти замечательные вещи они получают из офицерской кают-компании. Там можно найти пока еще столько виски, что вполне хватит на настоящую попойку, которой члены матросского комитета отмечают свою победу. С громкими хвастливыми возгласами мечутся они по палубе, горланя песни. Как точно сказал некий выступающий на митинге матрос на второй день революции: «Мы взбунтовались, потому что с нами обращались, как с детьми!» Верно, думает Штумпф, они и ведут себя, как дети.
До сих пор Штумпф радовался своему увольнению с флотской службы. Теперь этот миг приблизился, и он понял, что не испытывает никаких чувств. Не будет ни музыки, ни цветов, ни чествований. Вместо этого колоссальное напряжение войны, за которую Штумпф рисковал собой, заканчивается позором поражения, катастрофой потопленного флота, стыдом несправедливого перемирия, слабостью нового режима, и прежде всего — мучительной мыслью о том, что в решающий момент ты сам приложил руку к этому исходу.
Восемнадцатого ноября 1918 года Штумпф наблюдает, как линейный корабль «Фридрих Великий» уходит из Вильгельмсхафена в свой последний поход под германским командованием. Его сопровождает «Король Альберт», а позже присоединяются остальные корабли германского флота. Наступает очередь подводных лодок. Экипажи стоят у причальной стены с ранцами в руках и видят, как плавучие крепости исчезают за горизонтом.
Хорошо, что Вильгельм, бывший кронпринц Пруссии, не увидел, как кайзеровский флот, гордость его отца и опора рейха, со снятым вооружением уходит в направлении Англии — как назло именно Англии! В Маастрихте Вильгельма и его свиту устраивают в зале префектуры. На площади перед зданием стоит разъяренная, ревущая толпа. Проходит много времени, каминные часы словно остановились. Один из сопровождающих со стоном корчится от болей в желудке на диване, обтянутом красным бархатом. Мысли Вильгельма крутятся вокруг событий последних дней и часов, он углубляется в воспоминания о войне и о Цецилии, о детях, которых он оставил в Потсдаме, в Новом дворце. Так близко к столичным мародерам.
Проходит еще почти две недели, пока судьба кронпринца не решается окончательно. Новое германское правительство предложило его выслать; другая же сторона потребовала, чтобы его интернировали. В ходе сложных переговоров международная дипломатия приходит к выводу, что человек, с которым будут связаны планы на будущее для всех, кто лелеет еще надежды о возвращении монархии, должен быть изолирован на острове в заливе Зёйдерзе. В порту Энкхёйзен Вильгельма встречают вспышки фотоаппаратов, репортеры, упреки и поношения. Голландцы показывают кронпринцу, чего он, по их мнению, заслуживает, ребром ладони проводя по горлу. По мглистому морю дорога идет на остров Виринген, где Вильгельм должен отныне коротать свою жизнь. Его везут в скрипучей повозке, терпко пахнущей старой кожей, в местечко Остерланд. Отныне его резиденция будет состоять из нескольких деревянных хижин под сумрачным зимним небом. Повозка останавливается перед домом пастора. Там бывший кронпринц видит две выстуженные, скудно обставленные комнаты, где он и будет пребывать в изгнании.
В Берлине упорно ходит слух о том, что кронпринца убили. Кэте Кольвиц слышит эти толки 12 ноября 1918 года, когда сопровождает свою подругу Констанс Хардинг-Крайль во время поисков работы. Попав в послереволюционный полицай-президиум на Александерплатц, они обе знакомятся с лабиринтом нового режима, где никто ни в чем не разбирается, никто ни за что не отвечает и где их безрезультатно посылают из одного бюро в другое. Когда они в отчаянии прекращают свои попытки, дорогу им преграждает вахтенный солдат у главного входа, потому что у них с собой нет удостоверений. Им приходится выйти из здания через черный ход. Описание их хождения по инстанциям вызывает в воображении исчезнувший мир романа Генриха Манна «Верноподданный», который буквально через несколько дней впервые выходит на немецком языке; русский перевод был издан еще в 1915 году.
Городская электричка переполнена, когда Кэте Кольвиц отправляется к себе домой в мастерскую. Теперь вокзалы заполоняют преимущественно демобилизованные солдаты. Кэте Кольвиц слышала, что в этих поездах, доставляющих солдат с фронта домой, то и дело насмерть давят кого-нибудь из них. В вагоне, стиснутая толпой, стоит старуха с корзиной, из которой слышится мяуканье. Кошка испугалась стрельбы и укрылась у нее в доме, рассказывает старуха. Да и с нее самой уже хватит. Теперь едет в деревню и кошку с собой забрала. Вокруг все смеются, довольные.
В эти первые дни сразу после крушения старого режима Кольвиц еще не теряет надежды на победу социализма. Но реальность происходящего она тоже игнорировать не хочет. Те способы борьбы, которые применяют коммунистыспартаковцы, для нее непереносимы. Она решает держаться от них подальше, не в последнюю очередь потому, что среди населения до сих пор слишком сильнó неприятие любого радикально иного общественного порядка. Принудительная социализация против воли большинства немцев — это в глазах Кольвиц воплощенное противоречие. Она призывает к терпению, уповает на демократический путь конституционного собрания и надеется на «постепенное врастание в социализм»: «Все это слегка разочаровывает, казалось, что вот он, уже в досягаемости, а теперь нам говорят, что надо еще подождать». Но готовы ли те, «кто надеется на победу с приходом социализма», ждать дальше? Разве они не собираются приложить все усилия, чтобы использовать благоприятный момент прямо сейчас?
Поражение армии, безмолвное отречение кайзера и конец империи оставили после себя незаполненный вакуум. Не только в Германии ответственные за порядок власти, которые сплачивали вокруг себя государства и общества, стали слабее или вовсе рухнули. Революционные движения различных оттенков осваивают новые, неожиданные для себя арены действий. Внезапно стало возможно вывести на улицу тысячи людей или провозгласить с балкона новый режим. Но и в Германии, как и во многих других странах, встал вопрос, как восстановить стабильность старого мира, как перенести ее на новый фундамент. Как Германский рейх, так и многие из бывших государств Австро-Венгрии и Османской империи стояли на пороге хаоса. Вырисовывается главная задача: опираясь на это состояние, создать новые, признанные органы центральной власти и через государственный аппарат, полицию и армию придать им фактические силовые ведомства.
Маттиас Эрцбергер, попав в Берлин 13 ноября 1918 года, был сильно сбит с толку: его служебную машину без его согласия украсили красным флагом. Он заменяет его на черно-красно-золотой, отражающий цвета борьбы за единство страны в XIX веке. На улице он становится очевидцем крайне напряженной обстановки. Каждую секунду можно ожидать новых всплесков насилия и даже дальнейшего ниспровержения — народных избранников и Эберта могут заменить на коммунистических ставленников. Министр обороны нового правительства Хайнрих Шойх, который по вечерам приходит в гости в гражданской одежде, уверяет его, что в Берлине нет больше никакой возможности обеспечить военную защиту от революционных сил.
В Компьен Маттиас Эрцбергер поехал в качестве уполномоченного кайзера, а когда он 13 ноября 1918 года возвращается в Берлин, его встречает группа из пяти народных избранников, принадлежащих к новому немецкому правительству под руководством социал-демократа Фридриха Эберта. Эрцбергер сообщает новым государственным мужам о переговорах и о первых шагах по воплощению результатов в жизнь. С большим облегчением он слышит слова о том, что новое правительство понимает: руководимая им делегация трудилась «в тяжелейшие времена на благо немецкого народа». Уже сформированная комиссия по перемирию должна осуществлять надзор за выполнением условий договора. Тем самым по инициативе Эрцбергера новый режим получил благословение и, как и его предшественники, вынужден был смиряться с неизбежным. Да и для него лично эта беседа расставляла вехи в дальнейшей деятельности, ибо он покидает их в убежденности, что он, служивший правительству кайзеровского рейха, теперь будет служить новому режиму. Для обеих сторон это уместный компромисс. Тем самым социалистическое правительство демонстрирует открытость по отношению к гражданским инициативам. Как идеолог-центрист, он не готов закончить карьеру профессионального политика и может теперь содействовать дальнейшему развитию своей католической партии при новом режиме и противодействовать дальнейшему сползанию правительства влево. Правда, Эрцбергер идет на этот шаг без достаточной внутренней убежденности. Для него революция — это фундаментальная ошибка, следствие бессилия старой империи и ее краха. «Командир гвардейского корпуса, запретивший солдатам стрелять в восставших, должен сам пойти под расстрел», — бранится Эрцбергер, отвечая графу Гарри Кесслеру, пацифистски настроенному публицисту и покровителю искусств.
Тем не менее Эрцбергер с чувством осознанного долга приступает к новым задачам. Они заключаются прежде всего в том, чтобы организовать надзор за претворением в жизнь достигнутых в Компьене договоренностей. Попутно он пытается найти хотя бы тысячу надежных солдат, чтобы охранять важнейшие правительственные здания в Берлине. Это оказывается невозможным, но зато перед лицом такого рода инициатив он убеждается в том, насколько велика ненависть людей, стремящихся развивать революцию дальше. Наконец ему — как и вновь избранному канцлеру социал-демократу Эберту — становится ясно, что немецкий народ должен максимально быстро избрать конституционное национальное собрание немецкого народа. Только так, по его мнению, можно по-настоящему легитимизировать новый режим, который до сих пор основывался исключительно на революционных беспорядках, стихийно создаваемых рабочих и солдатских советах и на обновлении правительства в результате государственного переворота.
Двадцатого ноября 1918 года Кэте Кольвиц с тысячами других берлинцев теснится в зале ожидания на вокзале в Потсдаме. Поезд, которого с таким нетерпением ждут она и ее муж Карл, опаздывает. Когда он приходит и вернувшиеся с войны солдаты устремляются из дверей вагонов, платформу оцепляют. Кэте Кольвиц взбирается на перила и с бьющимся сердцем вглядывается в серые лица прибывших. Но вот она находит в толпе Ханса. Он тоже узнает ее и машет. Вскоре мать и сын могут наконец обняться.
Дома место Ханса за столом украшено цветами. К обеду припасено вино. Пьют за возвращение, за «жизнь и будущее Германии» и поднимают бокал в память брата Петера, место которого за столом навсегда останется пустым.
«Странно, — думает Кэте Кольвиц, — как мало боли в воспоминании о Петере. Раньше я думала, что будет иначе. Но оказалось по-другому».
Надо ли вывешивать флаг в знак приветствия возвращающимся солдатам? И какой именно флаг? Кэте Кольвиц долго обсуждает это с мужем. В конце концов они все же решаются на черно-бело-красный флаг Германского рейха, «наш милый германский флажок». Но к древку они прикрепляют еще и красный вымпел республики, а также еловый венок — как дань памяти «навеки оставшимся там». Ведь не только Кэте, многие друзья потеряли своих детей.
Рудольф Гесс, так, во всяком случае, написано в его автобиографии, находится в это время еще на пути с фронта домой. Ему ни в коем случае не хотелось попасть в Палестине в плен к британцам. Поэтому он, как унтер-офицер, спросил своих подчиненных, готовы ли они под его командованием прорываться в Германию. Командование корпусом настоятельно отговаривало от такого рода личных инициатив, но все солдаты, из которых многие были значительно старше него, изъявили готовность последовать за ним. Это будет авантюрный поход через Анатолию, Черное море, через Балканы до Австрии. «Без карт, опираясь только на школьные знания географии, добывая пропитание для людей и лошадей по дороге», люди прорываются на родину. «Там никто не ждал нас назад». Это путешествие по рухнувшему миру: распадающиеся империи, социалистические революции, борьба за национальную независимость и антиколониальные войны, не говоря уже о голоде, болезнях и нужде.
Ощущается «чудовищная разобщенность теперь», записывает Кэте Кольвиц в своем дневнике. В Берлине ежедневно проходят собрания, каждый день демонстрации, каждый день насилие. Даже увечные «инвалиды войны» вынесли на улицы свою уязвимость и свои требования: «Мы не хотим милосердия, мы хотим справедливости!» Социал-демократия близка к расколу. Союзники отказываются вести с революционным правительством мирные переговоры или хотя бы отправить продовольственную помощь в Германию, пока там не установится демократически избранный режим. Сердцем Кэте Кольвиц на стороне коммунистов, ведь без них и война бы не кончилась, и кайзера бы не прогнали. Как левая радикалка, она хочет, чтобы революция шла вперед, не останавливаясь. Но разумом она понимает, что Германия близка к распаду: «Сейчас придется их [спартаковцев] поприжать, чтобы выйти из состояния хаоса, и у нас есть на это определенное право». Она сожалеет, что приходится так думать и идти против тех, кто подставлял себя под огонь пулеметов, чтобы бороться против войны и против голода.
В сочельник в центре Берлина рвутся газовые снаряды и слышны пулеметные очереди. Есть раненые и убитые, как со стороны армии, так и со стороны «народной военно-морской дивизии», которая засела в Берлинском замке и в Маршталле и захватила в заложники социал-демократа Отто Вельса. Еще до сочельника коммунисты вышли из Совета народных депутатов, и это внесло раскол в ряды социал-демократической партии. Двадцать девятого декабря улицы вокруг Унтер-ден-Линден заполняются людьми: здесь одновременно проходят демонстрации спартаковцев и умеренных социалистов. Кэте Кольвиц в толпе потеряла Ханса. Она старается выбраться из слепо ползущей, враждебно настроенной людской массы.
В канун Нового года Кэте Кольвиц подводит осторожные итоги: по крайней мере, семья опять собралась вместе, по крайней мере, здоровы те, кого война пощадила. Но «мира еще нет. Мир наверняка будет очень плохой. Но это все равно не война. Можно сказать, что взамен мы получили гражданскую войну».
С растущим беспокойством художница наблюдает, как тлеющий с ноября конфликт между различными революционными течениями в начале января 1919 года вдруг разгорается. «Здесь, в Берлине, бастуют всюду, во всех местах», — записывает Кэте Кольвиц в дневник, и позже опять: «Отключают электричество. Водопровод тоже отключили, потому что бастуют рабочие водонапорных станций. Мы набрали полную ванну воды». Видя, что городская инфраструктура и снабжение населения полностью нарушены, левые силы переходят в наступление. Они хотят любой ценой помешать формированию социал-демократической республики и вместо этого учредить социалистическую республику советов.
Пятого января Ханс приходит с демонстрации, в завершение которой, как он в замешательстве сообщил, осадили редакцию журнала «Форвертс». Находившийся там агитационный материал, готовившийся для национального собрания, был публично сожжен на улице. Другие редакции социал-демократических и либеральных газет тоже явно уже оказались под контролем революционеров: «Ни одной газеты, кроме свободы и красного знамени». Правительство социал-демократов может обращаться к людям только с помощью экстренных листовок. Оно призывает берлинцев к демонстрациям сопротивления. Кэте Кольвиц и ее муж Карл присоединяются 6 января к шествию масс, вставших на защиту молодой республики. Они теряются в толпе. Позже, когда Карл в изнеможении добирается до дома, он приносит очередную шокирующую новость: «У правительства нет оружия». Все оружие конфисковано. Тем не менее вечером слышны пушечные залпы. Кто стреляет, если у правительства оружия нет? И где Ханс?
Единственный оставшийся в живых сын приходит домой поздно, возбужденный и вымотанный, но целый и невредимый. Рассуждает вслух, не стоит ли примкнуть к правительственным войскам. «Я спрашиваю, имеет ли он в виду пойти туда с оружием в руках? Он говорит: да». Карл ночью еще раз отправляется в город и видит, что вокруг полицейского управления идут бои. Одиннадцатого января появляется сообщение, что редакция «Форвертс» освобождена. Кэте Кольвиц решает, что это успех правительственных войск. Но вскоре становится ясно, что здесь задействованы другие силы. «Форвертс» освободили правительственные войска с помощью «Свободного корпуса Потсдам», так называемых фрайкоровцев — нелегального объединения бывших фронтовиков, которые отбили революционеров оружием, оставшимся еще от войны — огнеметами, мортирами, пулеметами. Следующей ночью отбито также и полицейское управление. Кэте Кольвиц все больше испытывает внутреннее напряжение: «Я подавлена, очень подавлена. Несмотря на то, что я согласна с тем, что спартаковцам надо было дать отпор. Но у меня возникло смутное подозрение, что войска призвали не случайно, что реакция наступает. Кроме того, это грубое применение силы — расстрел товарищей — таких, уж какие есть, — это отвратительно». В последующие дни контрреволюционные силы проявляют себя все заметнее. На одной сходке в цирке Буша разворачивают черно-бело-красное имперское знамя. Мужчины поют «Славься в венке победном» и «Германия превыше всего». Восстание «Союза Спартака» стоило ста пятидесяти человеческих жизней.
Шестнадцатого января, когда, казалось бы, волна насилия улеглась, появляется еще одна страшная новость: убиты Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Для Кэте Кольвиц это «подлое, возмутительное убийство». Неужели за этим деянием стоит новое правительство?
Тот факт, что несколькими днями позже происходят выборы в Национальное собрание, против которых среди прочего было направлено восстание «Союза Спартака», — это слабое утешение. Теперь и Кэте Кольвиц тоже может пойти на выборы — впервые в жизни. Девятнадцатого января республика впервые реализует избирательное право для женщин: «Я с такой радостью предвкушала этот день, а теперь, когда он настал, я полна нерешительности и противоречивых чувств. Выборы в пользу большинства — социалистов. <…> Я по своим ощущениям несколько левее».
Двадцать пятого января хоронят Либкнехта и с ним еще тридцать одного погибшего. Кэте Кольвиц хочет зарисовать героя левых и отправляется рано утром в морг. «В прощальном зале его гроб стоял на носилках среди других. На изуродованном выстрелом лбу красные цветы; гордое лицо, рот приоткрыт и болезненно искривлен. Слегка удивленное выражение лица». В это время в городе собирается мощная колонна демонстрантов, направляющаяся во Фридрихсхайн. Там за гробом идет необозримая толпа. Кэте Кольвиц осталась дома и дорабатывает зарисовки Либкнехта, но Карл и близкие друзья сообщают ей о массовом наплыве берлинцев, о толкучке и стычках даже возле гроба, о вдове Либкнехта, которая от чувств теряет сознание, но и о фрайкоровцах, расставленных по всему пути шествия. «Как мелочны и фальшивы все эти меры. Если Берлин — большая часть Берлина — хочет похоронить своих павших, то это к революции отношения не имеет. Даже когда идут сражения, всегда есть часы тишины, чтобы похоронить мертвых. Недостойно, унизительно, когда шествие за гробом Либкнехта провоцируют военные. И то, что правительству приходится это терпеть, — признак его слабости». Кольвиц, однако, должно быть ясно, что ее желание сохранить умеренную республику без вмешательства фрайкоровцев обречено на провал. Так она в определенном смысле принимает участие в подписании того договора, который молодая республика заключает с дьяволом.
4. Волшебная страна
Война разрушает старый мир и его содержание: преобладание индивидуального во всех областях. <…> Новое искусство вывело на свет то, что содержит новое ощущение времени: уравновешенное соотношение универсального и индивидуального. <…> Традиция, догмы и преобладание индивидуального (естественного) стоят на пути воплощения нового искусства.
Пит Мондриан. Первый манифест журнала «Де Стиль», 1918Марсель Дюшан
L. H. O. O. Q., 1919
Издали туманные очертания Нью-Йорка напоминали горы его родины. Элвин К. Йорк 22 мая 1919 года стоит на палубе корабля «Огайон», и сердце у него колотится от ностальгии как безумное. Чем глубже корабль заходит в устье реки Гудзон, тем яснее вырисовываются перед ним на фоне голубого неба высокие башни Манхэттена. Он отсутствовал больше года, пережил голод и бомбы, а под конец еще это ужасное морское путешествие на шатком судне. Теперь, когда гавань уже близка, он точно знает, что больше никогда не покинет твердыню родины. Когда корабль плывет мимо острова Либерти, Йорк заглядывает статуе Свободы прямо в ее зеленые глаза. «Посмотри на меня, старушка, — мысленно говорит он ей, — посмотри как следует, ведь если ты меня еще раз захочешь увидеть, тебе придется оглянуться».
На пристани в Хобокене ждет, готовая к встрече, делегация из Теннесси и целая орда фотокорреспондентов мечтает поймать его взгляд, улыбку, победоносный жест. «Опять под обстрелом», — угрюмо думает Йорк. К назойливости прессы ему пришлось привыкнуть еще до отъезда из Франции: генерал Фердинанд Фош самолично наградил его Военным крестом. Потом Йорк получил в Париже дополнительный отпуск и, как заправский турист, обошел все основные достопримечательности. Французскую столицу он нашел «в полном порядке». Впрочем, бульвары показались ему бесконечно длинными и однообразными, так что он то и дело терял ориентацию.
В Нью-Йорке ничего не подозревающего Элвина Йорка из Теннесси сажают в автомобиль с открытым верхом. Черный лимузин едет по запруженным людьми улицам Манхэттена. Народу так много, что автомобиль едва продвигается вперед и ему все время приходится останавливаться. Где бы Йорк ни появлялся, везде вспыхивает ликование. Такое впечатление, что его здесь знают все. В его сторону летят цветы и воздушные поцелуи. «Неужели так встречают каждого солдата, который возвращается на родину?» — спрашивает себя Йорк. Он не понимает, как сильно тянется Америка именно к его истории, как настоятельно требуется стране именно такой солдат, который посреди массового, безотчетного и анонимного убиения лично, что называется в ручном режиме, совершил подвиг.
Лимузин останавливается перед монументальным порталом отеля «Уолдорф-Астория». Привратник распахивает двери. Йорка ведут по роскошному фойе прямо в лифт, а оттуда в многокомнатный номер люкс. Вам пора немного отдохнуть, говорят ему. В спальне обнаруживается огромная двуспальная кровать.
Вечером его везут на банкет. С речами выступают военные и чиновники, имен которых он запомнить не может. Когда начинается ужин, Йорк ест необычайно медленно. Тем временем он успевает подглядеть, в каком порядке его соседи используют необозримый арсенал стаканов, тарелок и столового серебра. Суета вокруг его персоны вызывает у него легкую тошноту. Он сейчас с удовольствием вышел бы на свежий воздух и немного пробежался. Воинскую славу он себе представлял как-то иначе.
На следующее утро Элвин Йорк рано встает и уходит из отеля, чтобы немного поразмяться. От привычки так скоро не избавишься! Свежий воздух и движение делают свое доброе дело. Но уже за завтраком его снова осаждают. Господа из общества Теннесси просят его сообщить о своих пожеланиях. Он может назвать все что угодно, любое его желание будет исполнено. Элвин Йорк думает, а все взоры в ожидании направлены на него. Через некоторое время его осеняет: он очень хотел бы позвонить матери! Тут же гостиничный портье убегает, чтобы организовать телефонную связь; но, к сожалению, в Пэл-Мэл, штат Теннесси, никто к телефону не подходит. Но только это — не настоящее желание, говорят господа. Весь Нью-Йорк сейчас лежит у его ног. Все самое невообразимое, самая сумасбродная мечта может сейчас стать реальностью. Йорк долго ломает голову. Опять подкатывает тошнота. Но спасительная идея все-таки приходит. Здесь, в Нью-Йорке, уже несколько лет назад построена одна из первых подземных дорог в мире. Мысль прокатиться по туннелям на таком суперсовременном транспортном средстве, а потом появиться из-под земли там, где Бог на душу положит, давно уже приводила его в восторг. Господа громко смеются, но его желание — закон. Для него подают отдельный поезд, и Йорк остаток дня проводит в пути под мостовыми Манхэттена. Последующие дни опять приносят Йорку множество волнений. В Вашингтоне для него устраивают прием сначала в Белом доме, потом в Конгрессе. По возвращении обратно в Нью-Йорк его ведут на биржу, на Уолл-стрит. Для него непостижимо, как можно работать в таком бедламе.
Наконец, с ним беседуют мужчины в дорогих костюмах и с толстыми сигарами. Они предлагают ему перенести его историю на экран. Они кладут на стол столько денег, что у Йорка челюсть отваливается. Кино — да, это важно, говорит Йорк с пересохшим горлом. Да, было бы хорошо сделать такой фильм, в котором видно, чего американские парни там достигли. Нет, говорят люди с сигарами. Совсем не такой — нужен фильм, который покажет публике, как Йорк в Аргоннах совершенно один обезвредил немецкую пулеметную точку и взял в плен 132 немца. Но об этом Элвин Йорк никакого фильма делать не хочет; об этом он хочет поскорее забыть. Он и статью в газету об этом писать не хочет, и не хочет отправляться в турне с рассказами об этом по Северной Америке. При слове «турне» Йорку приходят на ум странствующие циркачи, которых он видел как-то в одном варьете, и он спрашивает: «А не смешно ли я буду выглядеть в трико?» И тут терпение у него заканчивается. Если они действительно хотят сделать для него что-то невероятно исключительное, то они должны немедленно отпустить его домой.
Элвин Йорк кажется одним из немногих, у кого в эту первую послевоенную весну еще не забрезжила перед глазами мечта. Дневники, письма и мемуары, отразившие время между февралем и июнем 1919 года, проникнуты особым чувством. Словно возвращение тепла и света после окончания зимних холодов воспламенило в мыслях и в личной жизни многих и многих людей, но прежде всего — в искусстве — то самое свечение кометы, которое уловил Пауль Клее в своей картине. Для многих солдат — это время демобилизации и возвращения домой, для них, как и для людей гражданских, это возвращение надежды на упорядоченную жизнь и ее привычное течение. Всем страданиям, всем изломам и всей неуверенности вопреки многие люди в эту первую послевоенную весну отваживаются задуматься о переменах и нарисовать мечту о лучшем будущем. После беспросветной тьмы и утраты всех иллюзий они верят, что у них получится. Что действует в малом, то действует также и в великом: на большой политической арене Парижа в январе 1919 года начинаются переговоры о мире. Государственные мужи главных стран договариваются ни больше и ни меньше, как о новом мировом порядке. Все участники подозревают, что эти обсуждения могут продлиться месяцы, а то и годы. Пьеса с открытым финалом. Обновится ли Европа, станет ли мир в конце концов другим?
С момента объявления перемирия поток американских солдат, возвращавшихся в Нью-Йорк, не прерывался. Мойна Майкл видела, как корабли один за другим причаливали в Хобокене к берегу Гудзона напротив Манхэттена, выпуская на сушу все новые партии серых, изможденных мужчин. В канун Рождества 1918 года она гордо стояла в приветственно машущей толпе, когда победоносный американский флот в полном составе заходил в Гудзон.
Учительница из Джорджии по-прежнему работает в корпусах Колумбийского университета, представляя организацию ИМКА. По-прежнему молодых юношей и девушек обучают и направляют в Европу, чтобы достойно и разумно обеспечить возвращение войск. Но чем больше солдат собиралось в Нью-Йорке — когда они только прибывали, или же в лагерях для демобилизованных, или в больницах — тем больше рук требовалось и с этой стороны Атлантики. Тем самым для Мойны Майкл война, которая до сих пор разыгрывалась где-то вдалеке, ступила прямо на порог ее дома.
Как гражданка федерального штата Джорджия и сотрудница Общества Джорджии, она незадолго до Рождества начинает ухаживать за изувеченными солдатами из ее родного городка на юге. Общество подготовило рождественские подарки для инвалидов, которым приходится отмечать праздник вдали от своих родных. Мойне Майкл нужно развезти сорок пять рождественских подарков по девяти больницам. Ее первого пациента зовут Том Лотт. Это чернокожий солдат из Майсвилла, штат Джорджия. Ему ампутировали ногу чуть ниже бедра, но он может на костылях доковылять до двери своей палаты. Мойна Майкл вручает ему подарок и цветы и заверяет, что штат Джорджия им гордится. Парень весь прямо просиял, а цветами стал хвастаться всем на отделении. Это был счастливый момент. Но когда Мойна Майкл обошла всех солдат из своего списка, она отчетливо поняла, что искалеченные люди, травмированные и душевно, которые по большей части не имеют никаких перспектив на оплачиваемую работу, еще долго, а то и всю оставшуюся жизнь будут нуждаться в поддержке. Она не хочет допустить, чтобы американцы, которые после всеобщего напряжения военного времени вновь хотят вернуться к своим личным делам, оставили бы без поддержки тех, кто ради страны ставил на карту свою собственную жизнь.
Эти мысли укрепляют Мойну Майкл в необходимости продолжать акцию «Маки поминовения», и эти красные цветы отнимают у нее львиную долю свободного времени. Еще в день объявления перемирия она попросила о встрече Талькотта Уильямса, декана факультета журналистики Колумбийского университета. За окнами кабинета шумела праздничная толпа, а она рассказывала ему о своей идее. Седовласый господин тут же пришел в восторг. В тот же день он начал обзванивать влиятельных знакомых и писать в газеты, предлагая им интервью с Мойной Майкл. Она знала, что для осуществления ее мечты об увековечении памяти погибших и о помощи солдатам-инвалидам нет более важного инструмента, чем пресса.
Попутно она писала друзьям по всей стране, чтобы те помогли придать символу цветущего мака как можно более широкую известность. Через одного знакомого она даже направила письмо в Министерство обороны, в котором изложила свой план. Она то и дело получала восторженные ответы, и кое-кто из ее корреспондентов обещал по меньшей мере сделать красный мак символом разных мероприятий, связанных с войной. Но для того, чтобы действительно держать инициативу в своих руках, Мойне Майкл необходимо было управлять ходом дела и опираться на материальную основу. Если американская общественность действительно в восторге от этого символа, тогда требуется не только кампания по всей стране — должны быть изготовлены тысячи, а может, и миллионы искусственных маков. И если она действительно хотела помочь инвалидам, она должна была придумать, как зарабатывать деньги на марке «Маки поминовения с полей Фландрии».
У Мойны Майкл не было никакого опыта в бизнесе, поэтому она стала искать партнера и наконец нашла его в лице дизайнера Ли Кидика. В декабре 1918 года они подписали договор, согласно которому Кидик брался создать профессиональный дизайн для значков, шпилек, флажков и баннеров, изготовить эту продукцию и обеспечить ее распространение по всей стране. Кидику представлялось также важным, чтобы его права на эскиз были полностью защищены. Мойна Майкл должна была заплатить задаток в сто долларов, и она заняла эти деньги у знакомых. До апреля 1919 года, написано было в договоре, кампания должна идти полным ходом, при этом одновременно должна быть задействована пресса — и написаны тысячи писем в клубы, женские союзы, патриотические организации, церкви, университеты, а также в адрес политических деятелей всех мастей.
Четырнадцатого февраля все было готово: эскиз Ли Кидика, изображавший увитый маками факел, впервые был публично показан в Нью-Йорке. Это был тот самый день, когда канадский летчик-ас Уильям Эвери Бишоп из Торонто по приглашению Авиационного клуба Нью-Йорка выступал с докладом. Тема гласила: «Воздушная война на полях Фландрии». Сцена и зрительный зал были украшены красными маками. По окончании доклада, сопровождавшегося демонстрацией фотографий, в дальнем конце зала вдоль стены раскинули баннер с новым символом: факел и мак. Канадский поэт Джеймс Э. Херон объясняет значение символа и цитирует стихотворение своего земляка Джона Маккрея «На нивах фландрских», то самое, которое вдохновило Мойну Майкл, а также ее рифмованный ответ «Мы не забудем маков алых весть». Мероприятие широко освещалось в прессе. Но к этому дню, когда пришел первый успех, Мойна Майкл уже две недели как вернулась к себе в Джорджию и снова стала сестрой-хозяйкой в колледже для девочек. Возвращается она и к преподаванию в университете Джорджии. Летом 1919 года она начинает вести семинары для ветеранов, которые сотнями устремляются в университетскую клинику. Наконец-то ее мечта о цветах поминовения начинает воплощаться в жизнь.
Всего за неделю до этого, 9 февраля 1919 года, настал черед возвращаться и для «гарлемских дьяволов». Многие из родственников на небольших суденышках вышли на акваторию гавани Нью-Йорка, чтобы в момент возвращения быть ближе к ним. Однако солдаты не могли сразу вернуться к своим семьям, им предстояла мучительная многодневная процедура официального увольнения в лагере «Кэмп-Аптон». С тех пор, как с берегов Рейна они отправились в портовый город Брест, откуда отплывал их корабль в Америку, они то и дело возвращались к одной и той же теме: парад победы. Марш по улицам Нью-Йорка, мечтали «дьяволы», станет кульминацией и завершением героической истории чернокожих солдат из Гарлема. Все опасности, все невзгоды, вся боль и все унижение, испытанное за эту войну, будет в этот триумфальный миг забыто. Унижение, испытанное ими в 1917 году, когда их не пустили на прощальный парад, найдет, наконец, свое искупление. Это будет началом новой жизни, которую они заслужили на войне.
Офицеры в окружении Артура Литтла быстро догадались, какую воспитательную ценность имеет перспектива участия в параде. Как только кто-то из солдат начинал слишком много себе позволять, офицеры угрожали ему тем, что не возьмут с собой на парад. Такая угроза оказывалась необыкновенно действенной. Но неужели Америка и правда позволит чернокожим солдатам разделить с ней триумф?
В Бресте, последнем пункте перед отъездом из Франции, Артура Литтла начали одолевать сомнения. Поведение находившейся там американской военной полиции заставляло сделать вывод, что успех «гарлемских дьяволов» и то, что они получили награды от Французской республики, понравилось далеко не всем американцам. Литтлу рассказали, что представитель военной полиции сильно избил и даже ранил чернокожего солдата, когда тот просто спросил у него дорогу. Когда Литтл призвал полицейского к ответу, тот заявил, что чернокожий не желал ждать, пока между чиновниками закончится разговор. Литтл не отставал, тот признался, что было спущено указание сверху. Ходили слухи, что «ниггеры» с жиру бесятся, вот и решили спесь из них немножко выбить, чтобы потом сложностей не было. Но на том трения отнюдь не кончились. Чуть позже военная полиция пришла к Литтлу — и давай жаловаться, что чернокожие солдаты оскорбили их людей. «Кто выиграл войну?» — якобы с вызовом выкрикивали они. Артур Литтл покачал головой. На самом деле этот вопрос со времен службы на Рейне представлял собой своего рода воинственный клич «гарлемских дьяволов». Но победоносные воины, ожидая ответного хора голосов, ни в коем случае не имели в виду только себя, они подразумевали всех, кто внес свой вклад в победу. При встрече с другими подразделениями они скандировали: «Кто выиграл войну?» А в ответном возгласе назывались те, кого спрашивали: «Мы и подразделение XY выиграли войну!»
Семнадцатого февраля 1919 года сомнениям пришел конец. Все подразделения «гарлемских дьяволов» собрались в Манхэттене на Мэдисон-авеню, к северу от 23-й улицы. В 11 часов утра пришло известие, что чествуемые городом должны занять свои места. Роты выстроились широкой четырехугольной фалангой, которую заимствовали у французов. Офицеры расположились в нескольких шагах от своих солдат. Во главе колонны встал военный оркестр Джима Риза Юропа. По команде «Вперед — марш!» оркестр начинает исполнять песню. Но даже девяноста музыкантам — а именно столько их насчитывалось в оркестре — не под силу было заглушить бурю ликования, которая встречала шествие на всем его пути. Жители Нью-Йорка устроили «дьяволам» триумфальную встречу. Какие-то безвестные благотворители даже отдельную еду приготовили для каждого солдата. Семнадцатого февраля 1919 года, по словам Литтла, «Нью-Йорк не признавал различий в цвете кожи».
Но самая трогательная часть шествия началась тогда, когда «дьяволы» добрались до своего родного Гарлема. Комендант изменил конфигурацию построения. Вместо пышной фаланги он располагает солдат узкими вереницами, чтобы каждого воина увидели и воздали почести его родные, друзья и соседи. «Риз Юропс бэнд» начинает играть регтайм «Here comes my daddy now!», и на последней миле уже все участники поют, размахивают руками, смеются и, наконец, начинают танцевать. Военная дисциплина уступает место бьющей через край радости, когда матери узнают своих сыновей, а жены — мужей, и они бегут между рядами и бросаются им на шею. В конце парада, когда военное построение превращается в гомонящую суматоху голов, рук, цветов и поцелуев, многие из солдат держат на руках девочек.
Сидя в открытой машине, Генри Джонсон, единственный афроамериканский герой Первой мировой войны, принимает участие в параде. Тело у него еще до сих пор не зажило от многочисленных ран, полученных в неравной борьбе с немецким подразделением. Кости на руках и ногах раздроблены так сильно, что врачи не знают, сможет ли он когда-нибудь ходить без костылей. Но Джонсон то и дело вскакивает со своего сиденья и машет толпе так благодушно, словно весь парад только ему одному и посвящен. Лицо у него сияет, он словно вот-вот крикнет всей этой восторженной публике: «Кто выиграл войну? Генри Джонсон выиграл войну!»
Гарри С. Трумэн добирается до спасительной гавани Нью-Йорка только в апреле 1919 года, после путешествия через океан на бывшем немецком корабле «Цеппелин». Бургомистр Нью-Йорка плывет на небольшой шлюпке навстречу входящему в порт транспортному кораблю с солдатами. В шлюпке сидит оркестр и исполняет «Home Sweet Home». Даже у самых закаленных мужчин в глазах стояли слезы, когда над водой поплыли знакомые звуки. У трапа в гавани толпились представители благотворительных организаций, чтобы раздать солдатам подарки в честь возвращения. «Евреи раздали нам носовые платки, ИМКА — шоколад, „Пажи Колумба“ — сигареты, Красный Крест — домашние пироги, а Армия спасения, да благословит ее Бог, бесплатно принимала у нас телеграммы и дарила шоколадные яйца на Пасху». Прямо на пирсе солдатам накрывают праздничный обед, и Трумэн, который большую часть пути страдал от морской болезни, ест за троих. В том же духе развиваются события и дальше, в «Кэмп-Миллсе», куда Трумэна и его людей доставляют на специальном транспорте: солдаты могут принять там душ, им выдают новую одежду, а в солдатской столовой, где их ублажают, они набивают брюхо бесчисленными шариками фруктового мороженого, которое привозят огромными бочками.
Еще из Франции Гарри С. Трумэн написал своей возлюбленной Бесс, что конец войны плохо сказывается на его внешнем облике. Долгое безделье в ожидании списания на берег, короткие увольнительные в Париж, Ниццу и Монте-Карло оставили следы на его теле, которое в недавних сражениях сделалось костлявым: «Я становлюсь очень тяжелым (правильнее сказать жирным)». Набранные сорок фунтов обернулись тем, что форма обтягивает его, как кожура сосиску. Не разлюбит ли его Бесс, увидев толстые щеки и двойной подбородок?
В долгие месяцы ожидания мысли о его любимой Бесс не отпускали его. Только вместе с ней он мог представить себе то будущее, которое вновь и вновь описывал ей в письмах: он хотел быть не богатым и не бедным, потому что для мужчины это самый счастливый вариант. Он будет обладать самой благородной девушкой в мире, с которой он мог бы разделить все радости и заботы. Он заведет форд, чтобы объездить все Соединенные Штаты, а если получится, то и Францию; ко всему этому можно добавить немного политики и хороший званый обед время от времени. Еще он планировал выкупить у армии одно из орудий, из которых он стрелял по «гуннам». Его он поставил бы в палисаднике перед домом, чтобы оно могло мирно ржаветь. Никогда в жизни он не хотел больше стрелять, такова была его мечта о частном, личном мире.
Все снова и снова представлял себе Трумэн то мгновение, когда он вместе с Бесс рука об руку пойдет к алтарю — и каждый раз просыпался в какой-нибудь грязной дыре недалеко от Вердена. Трумэн писал Бесс так часто, как только позволяла ему служба. Он сватался к ней, писал ей нежные слова, молился на ее письма и упрекал ее, если она не сразу отвечала. Она была для него надеждой и опорой в это горькое глухое время; он постоянно носил ее фотографию в левом нагрудном кармане.
В то же время Трумэна мучило опасение, что Бесс в последние часы этого долгого пути потеряет терпение. Или, еще хуже, если с ней что-нибудь случится, сейчас, после того как сам он сотни раз избежал грозящей смерти. Трумэн слышал, какие непоправимые последствия принес грипп-испанка в Соединенные Штаты. У многих товарищей погибли от этого страшного вируса и родные, и близкие. «Создается впечатление, что война и эта чума идут рука об руку. Если это не „черная смерть“, то наверняка что-то столь же опустошительное. Тут говорят, что несчастные русские гибнут сотнями и что проклятые гунны убивают друг друга ради забавы. Вероятно, придется еще какое-то время подождать, пока полностью не иссякнет золотой век здоровья, мира и благосостояния — так, как это было в последние десять лет перед 1914 годом».
Когда однажды письмо от Бесс не приходило довольно долго, Гарри Трумэн забеспокоился всерьез. Неужели она, средоточие всех его мечтаний о будущем, не известила его, что в семье у нее появились первые случаи заболевания гриппом? Вскоре письма подтвердили его страшное подозрение: Бесс с высокой температурой лежала в постели. Даже когда позже он прочитал, что она пошла на поправку, успокоиться он уже не мог. Трумэн в те дни почувствовал, какой хрупкой была его мечта о маленьком личном счастье. С прибытием в Нью-Йорк до ее осуществления становится рукой подать. Трумэн уверен, что после войны американская экономика будет процветать, если деньги станут теперь вкладывать не в вооружение, а в потребление. На этом благоприятном заблуждении Трумэн и хочет построить свое счастье. Откуда ему знать, что подъем экономики — это колосс на глиняных ногах?
В феврале 1919 года Рудольф Гесс после многомесячных блужданий возвращается в родной Мангейм. Пока он служил в армии, следом за отцом умерла и мать. В одном из последних писем она напоминала о распоряжении отца, чтобы Гесс стал священником. Когда он вернулся, на него накинулся его дядя, объявленный опекуном, а вдобавок вся его родня, заставляя отправиться в духовную семинарию. Домашнюю утварь родителей родственники уже поделили между собой; сестер распределили по монастырским школам. «Только сейчас я по-настоящему ощутил эту утрату — смерть матери, ведь родины у меня больше не было! Я был всеми брошен и полностью предоставлен сам себе».
Дядя настаивает на исполнении воли отца. И не намерен выдавать наследство Рудольфу, если он выберет иной путь. Но у Гесса еще во время войны появились сомнения в том, что священник — его призвание, а уж подчиняться желанию семьи он и вовсе не собирался. Поэтому он, недолго думая, отказывается от своей доли наследства в пользу сестер и нотариально закрепляет свое решение. «Уж я как-нибудь сам пробью себе дорогу в этом мире».
Чуть позже Гесс отправляется на восток Германского рейха, где старший лейтенант Герхард Росбах собрал «добровольческую пулеметную роту». Эти добровольцы-фрайкоровцы в начале 1919 года входят в «подготовительный рейхсвер» и служат на охране восточных рубежей Германии. Бойцы фрайкора считают поражение Германии следствием предательства, новое правительство воспринимают только как явление временное и остаются «под ружьем», чтобы быть готовыми к реваншу в нужный момент.
Когда Гесс поступает в роту Росбаха, то с удивлением понимает, что этот шаг решает все его проблемы: у него теперь есть профессия и жалование, вновь появляется тот, кто заменяет отца, политическая вера, почти столь же крепкая, как религия, и «родина, надежная защита в виде воинского братства». И, что странно, он, одиночка, который привык все свои внутренние переживания, все, что его волновало, делить исключительно с самим собой, теперь принадлежит к солдатскому братству, в котором каждый мог полагаться на другого в горе и в радости.
Вирджиния Вулф встретила 1919 год с пульсирующей болью в челюсти. Писательнице удалили зуб. После этого у нее началась головная боль, и она ощутила такую усталость, что две недели не вставала с постели. «Долгое, мучительное изнеможение, которое то исчезало, то снова появлялось, словно туман в январский день». Даже когда к концу января она уже могла вставать, Леонард разрешал ей писать только по часу в день. И даже в этот короткий период работа на пишущей машинке давалась ей нелегко, потому что мышцы правой руки начинала сводить судорога, словно «руку посыльного». «Странным образом при составлении предложений меня парализует та же словесная судорога», — откровенно делится она ощущением.
Время на дневниковые записи в оговоренный Леонардом час не входило, и вообще дома он был не всегда, так что Вирджиния Вулф могла не так уж строго придерживаться его предписаний. И, в отличие от записи художественных текстов и рецензий, которая всегда велась на машинке, страницы дневника Вирджиния Вулф заполняла ручкой. При этом в руках ни судорог, ни онемения не возникало; фразы выскакивали «быстрым, сноровистым галопом». Даже если при этом неудержимом потоке букв появлялись отдельные неловкие фразы, которые «как будто грохотали по булыжной мостовой», преимуществом становилось то, что на бумаге тем самым излагались проблемы, которые, если бы писательница остановилась или задумалась, никогда бы не удостоились милости ее критического разума. Именно эти неподцензурные наблюдения казались Вирджинии Вулф бесценными — как «алмазы под горами праха».
Вот только той зимой 1918/1919 года тем для описания было не особенно много, за исключением встреч с друзьями и знакомыми, трудных поисков подходящего персонала и последствий нескончаемой волны забастовок, которые, с точки зрения писательницы, отягощали жизнь в Англии 1919 года больше, чем только что закончившаяся война. «Если бы я была художницей, мне потребовалась бы только кисть, погруженная в серо-бурую краску, чтобы отразить палитру этих одиннадцати дней. Я бы равномерно нанесла этот цвет по всему полотну. Но у художников нынче пропало чувство утонченности; ведь таились под поверхностным слоем сгустки света, оттенки, которые теперь, по-видимому, уже не передать».
В действительности под однотонной серо-бурой поверхностью зимней английской провинции кое-какое движение наблюдалось. Той зимой после окончания войны Вирджиния Вулф встала на некий путь, слабо представляя себе, куда он может ее привести. Рефлексию по этому поводу можно найти в очерке «Современные романы», который Вулф опубликовала в апреле 1919 года в литературном приложении к газете «Таймс». В нем она резко критикует английских писателей-современников как «материалистов», которые не отходят от описания внешней стороны своих персонажей и от традиционных негласных правил повествования. «Жизнь — это не симметрично расположенные автомобильные фары, жизнь — это сияющий нимб, полупрозрачная оболочка, окутывающая нас от начала нашего сознания и до самого конца. И разве не в том заключается задача романиста, чтобы передать весь этот блуждающий, неизведанный и непостижимый разум вместе со всеми его заблуждениями и со всей многослойностью, лишь немного приправив внешним и чуждым?» Писателю приходится следовать за мыслью своих персонажей на самых причудливых ее путях так, чтобы не было опаски заблудиться в деталях. Джеймс Джойс, которого она еще недавно высмеивала, представляется ей теперь единственным достойным автором в англоязычной литературе, если речь идет об описании потока человеческого сознания.
В ее рассказах «Пятно на стене» и «Королевский сад», опубликованных в мае 1919 года в ее собственном издательстве, заметны первые ростки нового. Но заинтересует ли хоть кого-нибудь, чем прорастут эти новые ростки? Заметит ли кто-нибудь разницу, если ей удастся втиснуть в границы обложки истинную жизнь? Примет ли публика всерьез роман, представляющий собой заметки молчаливой женщины-психиатра, в котором персонажи, лежа на кушетке, отдаются свободному бегу собственных мыслей?
Поначалу у Вирджинии Вулф не было иного выхода, кроме как поддерживать свое существование написанием рецензий — обязанность, которую она, если была в форме, выполняла на редкость исправно. Благодаря связям одного из ее друзей Вирджиния Вулф установила знакомство с редакцией влиятельного журнала «Атенеум». Во время первого визита она пила чай с сотрудницей редакции Агнес Гамильтон, ответственной за литературу, и та уговорила называть ее Молли. Вирджиния Вулф чувствовала отчетливую дистанцию по отношению к этой энергичной даме «вкупе с ее способностью думать, как мужчина, с ее сильным, надежным рассудком и ее независимой, самостоятельной жизнью». Но разговор с редакторшей в ее кабинете, где на столе громоздились рукописи, а стены распирали сплетни литературного мира, расспрашивавшей Вирджинию Вулф о ее литературных планах, так или иначе дал толчок к тому, чтобы она «почувствовала себя чуточку более уверенно как писатель».
В марте она закончила роман «Ночь и день», над которым работала с 1916 года, — внесла «мелочные, досадные поправки», — прежде чем отослать его в издательство Джеральда Дакворта. Тем временем настала весна: «Надо, однако, отметить, что, хотя небо черное, как вода, в которой мыли руки, какая-то птичка так романтично и самозабвенно поет за окном. Во время прогулки мы проходили сегодня мимо миндальных деревьев, все они в цвету. Вот-вот распустятся нарциссы». Месяцы до выхода в свет книги, в центре которой две пары, а также бессловесность и окостенение английского предвоенного общества, она проводит в сильном внутреннем напряжении. Два дня по утрам и вечерам, пока Леонард залпом читал рукопись романа, она беспокойно крутилась рядом, боязливо поглядывая на мужа, чтобы уловить признаки одобрения или осуждения. Когда он, закончив чтение, похвалил ее, у Вирджинии камень с сердца упал. Только теперь она призналась самой себе, что надеется на ценность своей книги, на то, что книгу ждет успех и что она, возможно, превосходит средний уровень литературной продукции своего времени. Но тут же внутренний голос призывал ее умерить собственный оптимизм: «Второго издания, я, разумеется, не ожидаю».
В разговоре с Леонардом она возразила на его замечание, что книга у нее абсолютно меланхолическая: «Если речь идет о людях вообще и надо высказать, что ты о них думаешь, то как можно обойтись без меланхолии? Я в целом остерегаюсь безнадежных оценок, но ведь происходящее в крайней степени прискорбно; поскольку заурядных ответов недостаточно, приходится искать что-то новое; да и процесс, когда пренебрегают старым, еще ни в коей мере не найдя, чем его заменить, — это процесс печальный».
Большим подспорьем в писательстве Вирджинии Вулф кажется зависимость этого занятия от похвалы: «Без похвалы мне трудно утром начать писать». Как ей хотелось освободиться от власти «да» и «нет», от двусмысленности комплиментов и авторитета их авторов, от скрытого подтекста, от загадок по поводу их молчания! Если бы она могла сосредоточиться на самом важном, на «центральном обстоятельстве», на «факте своего собственного удовольствия от искусства»!
На Троицу 1919 года, по возвращении из весенней поездки в Ашам, Вирджиния и Леонард находят на столе в прихожей горы писем. Ошарашенные супруги начинают распечатывать одно письмо за другим. Во всех письмах — сплошные заказы на рассказ Вирджинии Вулф «Королевский сад». Заказов так много, что они покрывают весь диван и то одному, то другому из супругов требуется передышка, чтобы осилить всю гору. Волну всеобщего интереса вызвало восторженное обсуждение рассказа в литературном приложении к «Таймс». Этот вечер начался у Вулфов с радостного возбуждения и закончился спором, потому что оба пребывают в противоположных фазах взволнованности. Леонард, похоже, испытывает своего рода ревность, тогда как Вирджиния, которая еще «10 дней назад» была готова «встретить полное поражение», теперь развеселилась и не согласна уступить ни грана долгожданного успеха. Но очень тяжело, когда при этом приходится спорить и когда девяносто экземпляров «Королевского сада» предстоит изготовить вручную. В том числе «обрезать обложку, отпечатать титульные листы, приклеить корешок и, наконец, все это разослать». И все-таки: «Какой успех обрушился на меня в эти дни!» Если бы это чувство задержалось подольше, если бы оно приходило чаще, раз от разу, в разумных дозах, «маленькими глоточками»! Ибо «нерв радости притупляется быстро», и «друзья обрывают первые цветы». Доведется ли ей при публикации романа сделать еще один глоток игристого напитка успеха, или же предстоит испить горький кубок презрения?
В марте 1919 года Теренса Максвини выпустили из английской тюрьмы. Он отсидел не весь срок, но власти учли, что его жена Мюриэл заболела гриппом и находилась в тяжелейшем состоянии. Так борец сопротивления возвращается в свой родной городок Корк. За время своего отсутствия он стал уважаемым человеком, по крайней мере в кругах ирландского сопротивления и членов вновь избранного ирландского парламента, «Дайл Эйреанн».
Поэтому Максвини, выйдя из тюрьмы, едет вскоре в Дублин, чтобы 1 апреля 1919 года принять участие в первом заседании в качестве депутата парламента. Заседания проходят в условиях строжайших мер безопасности. Британское правительство по-прежнему отказывается признать «Дайл Эйреанн». Тем не менее борцы за независимость чувствуют, что их мечта о самостоятельном ирландском государстве близка к воплощению как никогда.
Теренс Максвини активно участвует в дебатах ирландского парламента, но наиболее деятельное участие он принимает в обеспечении финансовых потребностей республики всеобщей мечты — Ирландии. Новоизбранного министра финансов этой республики зовут Майкл Коллинз, они вместе работают над планированием и проведением беспрецедентной акции пожертвований, чтобы пополнить казну будущего государства. Акция должна была распространиться не только на Ирландию, но и на Северную Америку, куда начиная с XIX века эмигрировало много ирландцев. Теренс Максвини организует поступления в сборный пункт Корка жестко и в то же время осмотрительно. Только он и его ближайшие соратники знают руководителей пяти основных округов региона, при этом руководители не имеют права поддерживать между собой никакой связи. Точно так же организована каждая ячейка рангом ниже, так что полиции будет довольно сложно обнаружить и обезвредить одним ударом всю сеть. В Дублине печатают брошюру, где будущим спонсорам объясняют, каковы общественные нужды, на которые пойдут собранные деньги: на строительство государственных учреждений, на прекращение опустошительной эмиграции путем обеспечения земельной собственности и рабочих мест, на заботу об ирландских лесах, на развитие промышленности и морского рыболовства, короче, на все, что послужит моральной и материальной поддержке Ирландии. Только после того, как будет подготовлена почва с помощью вышеизложенных аргументов, волонтеры пойдут от одной двери к другой, чтобы собирать деньги и ценные вещи.
Полиция следует за заговорщиками по пятам. То и дело она приближается к Максвини и его товарищам на опасное расстояние. Его многократно обыскивают, но он очень осторожен и ничего подозрительного при себе не имеет. Когда семья Максвини во второй половине 1919 года переезжает в новый дом, радость их длится недолго. «Внимание „наших старых друзей“ было столь назойливым, — пишет он одному другу, — что нам еще до Рождества вновь пришлось эвакуироваться. Эти „друзья“ стали настолько прилипчивы, что некоторые из них провожали меня до самого моего прежнего дома и приглашали меня в заморский „отпуск“. Но в таких „отпусках“ я, честно говоря, провел слишком много времени за последние пять лет; так что, к сожалению, пришлось им отказать».
Несмотря на многочисленные сложности, акция по сбору средств только в округе Максвини к началу 1920 года принесла около пяти тысяч фунтов банкнотами и золотом, и эти средства можно было отправлять в Дублин. В целом кампания настолько успешна, что министр финансов Майкл Коллинз начинает уже подумывать о тайной ирландской системе налогообложения. Таким образом, на горизонте уже маячат очертания нового ирландского общественного устройства — но не в меньшей степени вырисовывается и линия фронта неумолимой битвы, которая в скором времени достигнет своего кровавого апогея.
Хартал, то есть отказ от работы, к которому Ганди призывал всех индийцев, начинается 30 марта 1919 года. Сначала это движение на целый день парализует Дели. Индусы и мусульмане оставляют работу и большими потоками стекаются в центр города. «Всего этого власти уже потерпеть не могли. Полиция останавливает многолюдную процессию, когда она устремляется к вокзалу, открывает огонь, есть убитые и раненые, и в Дели начинается господство угнетателей». Через несколько дней аналогичный оборот принимают события в Лахоре, и несравненно более страшные масштабы подавление забастовки приобретает в бенгальском Амритсаре. Тамошние британские власти считают, что в обстановке растущего протеста пора преподать урок. На площади Джаллианвала-багх в Амритсаре 13 апреля 1919 года на демонстрацию собралась огромная толпа. Когда становятся заметны первые признаки беспорядка, британский командующий Реджинальд Дайер приказывает своей бригаде стрелять по демонстрантам. Поскольку площадь обнесена стенами, бежать некуда, и четыреста человек гибнут под градом пуль.
Несколькими днями раньше, в Бомбее, Ганди сам становится свидетелем опасного положения. Шестого апреля большая группа людей сначала купается в море, а затем шествует по направлению к центральной площади Мадхав-багх. Ганди в это время выступает с речью в мечети неподалеку оттуда. В качестве акта гражданского неповиновения две его книги, ранее запрещенные колониальными властями, были напечатаны и теперь предлагались публично. Сам Ганди вечером ходил по улицам Бомбея и продавал запрещенный товар. Прохожие зачастую давали ему за книгу больше денег, чем он просил, и все покупатели на время подавили в себе страх оказаться за решеткой. Власти не вмешиваются, но вечером следующего дня до Ганди доходят слухи о предполагаемом аресте. Он находится на пути к Дели и Амритсару, когда получает письменное предписание с запретом пересекать границу Пенджаба. На ближайшей станции Ганди берет в оборот полиция и окольными путями доставляет его обратно в Бомбей. Прибыв туда, он видит, что в центре города образовалось гигантское скопление народа. Когда люди узнают Ганди, раздаются ликующие крики. Выстраивается процессия, которую, однако, останавливает отряд конной полиции. Всадники врезаются в гущу толпы. Ганди чудом избегает карающего удара копьем от блюстителей порядка, а толпа тем временем бросается врассыпную. «Одни были растоптаны, другие страшно изуродованы и ранены», но всадники продолжают копьями пробивать себе дорогу вперед. А ведь в какое-то мгновение начинало казаться, что мечта о мирном освобождении от колониального гнета воплощается в жизнь, но она молниеносно обернулась кошмаром. Возможна ли вообще революция без насилия и крови?
Веселый вечерок в духе выдумок Жоржа Гроса представляется скорее типичным для художника-авангардиста порождением мужской фантазии, этаких влажных мечтаний. О самом необходимом заботится знакомый фотограф Эрвин Блюменфельд, который похищает из винного погреба своих родителей шестьдесят бутылок вина. Грос рисует плакат, на котором написано: «Хорошо сложенные молодые дамы из общества, обладающие киноталантами, приглашаются на вечеринку в ателье художника Гроса, в восемь часов вечера. Форма одежды: вечерний туалет! Оливаерплатц, 4». Грос и Блюменфельд расхаживают с плакатом по Курфюрстендамм в роли разносчиков сэндвичей. Акция имела грандиозный успех. Вечером к гостям мужского пола числом одиннадцать — все до одного были художниками и друзьями Гроса — присоединяются более пятидесяти возбужденных молодых дам — все до одной в надежде, что киноиндустрия наконец откроет их для себя. Наплыв столь велик, что подступы к помещениям ателье вскоре пришлось забаррикадировать. Ради оживления праздника Грос распоряжается, чтобы все гости сняли с себя одежду. Впрочем, мужчины запираются на кухне и постановляют остаться в костюмах. Когда кухонную дверь вновь открывают, будущие кинозвезды уже разоблачились, и тут начинается «оргия»: «Все пили без меры, пустые бутылки летели прямо в окна ателье и далее на улицу». Осколки, крики, скандал. «Пока все отбивали ликующий такт, Грос возлежал в центре студии на шезлонге и получал триппер от Маши Бетховен», — писал позже Блюменфельд. Двумя днями позже Блюменфельд очнулся в ванне у Гроса, весь продрогший и лишившийся своего голубого костюма, который у него, очевидно, кто-то украл.
«Годы были дикие», — говорит Жорж Гроc о послевоенном Берлине. После окончания войны в Берлине пали все оковы. «Волна порока, порнографии и проституции прокатилась по всей стране. „Je m’en fous, — говорил каждый, — в кои-то веки пора и позабавиться, а?“» Но в действительности это было время «усталое и невеселое». Весельем кажется только разноцветная пена ночной жизни и внешняя оболочка искусства, волны, ходившие глубже, несли голод, распад и насилие. Чувствительный Грос примечает неприкрытую агрессивность своих современников. Пока в берлинских клубах осваиваются саксофоны и банджо, пока тела эротично подрагивают под «шимми», растет напряжение между политическими партиями, приобретающими экстремистский оттенок: «По улице марширует группа мужчин в белых рубашках, они поют: „Германия, проснись! Еврей, сдохни!“ За ней идет другая группа в колонне по четыре в ряд и ритмично выкрикивает: „Да здравствует Москва! Да здравствует Москва!“ А потом всегда кто-нибудь лежал с проломленной головой, раздробленным бедром или явными признаками ранения в живот».
Агрессия и насилие становятся отныне главными сюжетами искусства Гроса. Окружающая обстановка предоставляет ему достаточно наглядного материала для доказательства того, что республика в этом отношении ничего нового собой не являет. На тему поражения, распада, недовольства и всеобщего брожения он вместе с друзьями-художниками организует в кафе и небольших театрах «митинги». Зрители платят пару марок за вход, чтобы потом актеры «сказали им всю правду-матку». «Правда-матка», как правило, состоит из потока брани, который обрушивается на зрителей: «Вот Вы, старая куча дерьма, — да-да, Вы, с зонтиком, безмозглый осел», или: «Да не смейтесь Вы, верблюд косоротый…» Зрители корчатся от хохота над этими нарушениями табу, да и на сцене актеры друг с другом тоже обходятся без церемоний. Скандал становится еще мерзостнее, если кто-то из актеров пьян. «Мы являли собой полный, чистой воды нигилизм, и нашим символом было ничто, вакуум, дыра. <…> Мы издевались надо всем подряд, для нас не существовало ничего святого, мы плевали на всё, и это был дадаизм».
Формат представлений в стиле Дада имеет широкую палитру вариантов. Например, это могут быть «скачки между шестью пишущими машинками и шестью швейными машинами, сопровождаемые турниром брани, который плавно перетекает в драку». Вопрос, что, собственно, означает Дада, участники движения горячо обсуждают. Заглавные деятели нового направления в искусстве носят звучные официальные титулы, вроде «Верховный дада», «Пропагандада» или «Дада-дипломат» и много времени тратят на выяснение основного вопроса. Является ли Дада «искусством (оно же философия) помойного бачка», как свидетельствуют называемые «искусством отбросов» коллажи, изготовляемые Карлом Швиттерсом из отбросов и рекламы? Даже сам «Дадакон», нечто вроде Библии движения, состоящий из склеенных газетных вырезок, не может дать исчерпывающих разъяснений. Вскоре после восстания «Союза Спартака» была основана газета, которая стала впоследствии центральным печатным органом берлинских дадаистов. «Каждый сам себе футбол», — гласит девиз газеты. В первом же издании печатается стихотворение Вальтера Меринга «Соитие в доме трех пестиков». Кульминацией опуса является пародия на националистическую песню «Вахта на Рейне»: «Подобен грому этот зов, // Как звон клинков, как шум валов, // Немецкой бабы пьяный крик: // Возьми за талию, мужик!» Поэту после публикации стихотворения пришлось предстать перед судом, а едва основанная газета уже после выхода первого номера становится запрещенной.
Марсель Дюшан, в том же году вернувшийся из Нью-Йорка в Париж, обогащает международное движение Дада своим «реди-мейд». Он компонует скульптуры из найденных фрагментов: прибора для сушки бутылок, велосипедной вилки, унитаза. В Париже он по случаю четырехсотой годовщины со дня смерти Леонардо да Винчи прикрепляет к стене репродукцию одной из самых признанных икон изобразительного искусства — Джоконды. Даме с загадочной улыбкой он пририсовывает усы и остроконечную бородку и тем самым высмеивает в стиле художественного вандализма не только канон в искусстве и святых этого канона, но и вдобавок приглашает поиграть в игру под названием «смена пола», совмещая женственность и мужественность. Преследуя аналогичные намерения, он присваивает себе псевдоним Эроз Селяви, намек на выражение «L’eros c’est la vie» («Эрос — это жизнь») и выдает себя за женщину. Бородатую Мону Лизу он называет L. H. O. O. Q, что является анаграммой фразы «Elle a chaud au cul» («У нее задница разгорячилась»). В одном интервью Дюшан сам толкует это название как «Там внизу огонь». Но Дада — это не только высмеивание традиций и догм, не только провокация по отношению к приличиям, обычаям и морали. Дадаисты пародируют также формы революционных движений своего времени; но в то же время в их бесцеремонности скрыт импульс освобождения. От чего они хотят освободиться — это дадаисты знают слишком хорошо. Но для чего они хотят освободиться — это понять сложнее: ради свободы художественного выражения? Свободы инстинктов и анархических сторон человеческой природы? Новое общество на таких основаниях вряд ли можно было бы создать, но отвоевание самоопределения и радости после долгих лет подавления индивидуума принудительной властью войны — это для дадаистов достойная цель.
Шестого февраля 1919 года семья праздновала бы день рождения сына, Петеру должно было исполниться двадцать три года. Кэте Кольвиц находит эскизы, сделанные во время войны, чтобы отдать их на литографирование. Кольвиц изображает саму себя с детьми на руках. Мать, обнимая, защищает Ханса и Петера. Изображение строгое, скупое и очень серьезное. Пока Кэте Кольвиц работает, в городе вновь воцаряется насилие и вновь гибнут сыновья и отцы.
Бывший матрос Рихард Штумпф после увольнения с корабля на берег в Вильгельмсхафене вернулся к себе домой, в Нюрнберг. Но в это трудное послевоенное время он не может устроиться ни по своей прежней специальности слесарем, ни на какую другую работу и таким образом, проведя шесть лет на воинской службе, вливается в растущую армию безработных. Когда 7 апреля 1919 года в Мюнхене провозглашают республику советов, Рихард Штумпф считает своим долгом бороться против нее. Слишком неоднозначным был его прежний опыт знакомства с немецкой революцией, лишившей его солдатской славы. Слишком мало мог предложить новый режим такому человеку, как он, рисковавшему своей жизнью во имя Отечества.
Штумпф примыкает к добровольческому соединению, которое шагает в Мюнхен бороться с республикой советов. Уже в самом начале мая 1919 года защитники республики уступают рейхс-армии и надвигающимся со всей Германии добровольческим формированиям — фрайкоровцам. Штумпф собственными глазами видит, какую кровавую расправу чинит над истинными и предполагаемыми «спартаковцами» победоносная контрреволюция. Шестого мая членов Католического союза братьев имени Святого Иосифа в мюнхенском пригороде Максфорштадт задерживает патруль, поскольку их путают со «спартаковцами». Братьев заставляют выстроиться на улице. Они громко уверяют в своей невиновности. Но капитан из «Альт-Штуттерхайма» вменяет им нарушение запрета собраний. Семерых задержанных расстреливают на заднем дворе без суда и следствия. Других помещают в подвал, и там над ними так издеваются пьяные солдаты, что гибнет еще четырнадцать человек. Их тела подвергаются осквернению, с них снимают одежду. Двое пьяных солдат танцуют танец победителей около обезображенных трупов. После событий этого дня Штумпф пишет рапорт об отставке.
На второй неделе мая 1919 года Альма Малер вместе с дочерью Манон прибывает в Берлин, чтобы повидать своего супруга Вальтера Гропиуса. Это прощальный визит, хотя супруги этого и не осознают. Уже само путешествие через только что получившую независимость Чехословакию было настоящим испытанием. Не успели мать и дочь добраться до Берлина, как их поражает страшная новость. Мартин, родившийся в августе 1918 года сын Альмы Малер от ее связи с Францем Верфелем, умирает в венской больнице. Из-за врожденной водянки он с февраля месяца находится под наблюдением врачей в стационаре. О смертельном исходе говорилось уже давно; но из троих родителей девятимесячного ребенка в его последние часы у кроватки не было никого. Гропиус сообщает Альме печальную новость и тихо добавляет, что для него было бы лучше, чтобы умер он сам. Но траур и сочувствие взрослых больному ребенку явно имеет предел, хотя Франц Верфель и упрекает себя, что преждевременное рождение Мартина спровоцировал слишком бурный половой акт.
Теперь Гропиусам предстоит отправиться в Веймар, где Вальтер недавно стал директором созданного им государственного Баухауса. Так что обоих ждут обязанности перед обществом, и они это понимают. Но нескончаемая череда светских приемов лишь подтверждает, что они стали чужими друг другу. Баухаус с его бедно одетыми, радикально настроенными и в политике, и в искусстве студентами Альму Малер только раздражает. Революционные мечты о новом мире, которые должна воплотить архитектура Баухауса, для нее неинтересны, как и все, что связано с революцией.
Пыл их первых встреч давно обернулся холодной отстраненностью. «Почему брак с Вальтером Гропиусом не получился? Он прекрасный человек во всех смыслах, высокоодаренный художник, близкий мне по духу и по крови. <…> Он же мне так нравился… я была влюблена в него… очень его любила». Что же встало между ними: его недопонимание музыки или ее недопонимание архитектуры, размышляла Альма. Или война и долгая разлука помешали срастись воедино?
Вальтер Гропиус в одном из своих писем дает другое объяснение (прилагая к нему документы о разводе). Имея в виду Верфеля, он пишет: «Твоя великолепная сущность была отравлена еврейским духом. Когда-нибудь ты вернешься к своему арийскому исконному началу, и тогда ты меня поймешь и будешь искать меня в воспоминаниях. Сегодня я чужд тебе, потому что тебя привлек противоположный полюс мира». Он знал, что этой мыслью глубоко ранит Альму. Она сама до начала их связи дразнила Верфеля «кривоногим евреем».
Альма Малер, после стольких переживаний и болезненной переписки, не решается сделать последние шаги к разводу и ищет компромисса. Она страдает депрессией, мучительно нерешительна и даже пытается убедить Гропиуса принять решение, что половину года она живет с Верфелем в Вене, а другую половину — с Гропиусом в Веймаре. Но Гропиус об этом и слышать не хочет:
«Болезнь нашего брака лечится только хирургически».
Такое подвешенное состояние задерживается на целые месяцы, и это как раз те самые месяцы, в которые Гропиус закладывал краеугольные камни новой школы строительства, творчества и искусства, которая называется Баухаус. В апреле 1919 года приходит долгожданное известие о том, что преобразование прежней Великокняжеской Саксонской высшей школы изобразительных искусств, а также Саксонско-Веймарской школы прикладного искусства в единое учебное заведение нового типа получило одобрение государства. Теперь настало время как можно быстрее привлечь первоклассных профессоров, чтобы обучать первых прибывающих студентов. Программа основывалась на том принципе, что «отдельные виды искусства должны быть освобождены от изолированности и слиться воедино под сенью новой великой архитектуры». Поэтому каждый студент должен прежде всего изучать в мастерских Баухауса какое-нибудь ремесло и только после этого начать освоение теории, например архитектуры. Гропиус здесь в своей стихии: теория и художественная практика, образование молодежи и перспективы построения лучшего общества должны быть созвучны, но вместе с тем надо преодолеть и политическую мелкотравчатость, чтобы утвердить Баухаус в контексте вечного искусства.
Альма Малер в это время, как и прежде, мечется между своими мужчинами. Верфель, который пытается побудить свою возлюбленную к разводу, продолжает занимать почетное место ее любимчика. Как и для всех других мужчин, она для него в первую очередь и прежде всего — его муза. Она пытается создать идеальные условия для его искусства. По этой причине она предпринимает все возможное, чтобы удержать его от рукоблудства. Она твердо верит в то, что Верфель теряет тем самым не только свою мужскую, но и художественную энергию и что этим наносит урон своему здоровью. Тот факт, что это — обретенное вследствие войны знание о человеческой уязвимости, которую Верфель преодолевает сексуальным путем, ее, наоборот, не пугает. «Чем значительнее мужчина, тем болезненнее его сексуальность», — прагматично заявляет она. Опыт Верфеля явно заразен, и Альма после одного яркого эротического сна уже подумывает о том, не найти ли некоего «одноногого человека», чтобы она и ее возлюбленный могли воплотить свои фантазии. Таким образом, война проникла даже в интимную жизнь Малер и Верфеля.
В то же время Альма Малер, как и прежде, не желает окончательно отказываться от Гропиуса, да и старые любовники начинают всплывать из глубин прошлого. Большое воодушевление у нее вновь вызывает художник Оскар Кокошка, с которым Альму связывает вспыхнувшая на короткий миг бурная страсть. Через знакомого он дает ей знать, что у него нет более заветной мечты, чем вернуться к ней. Она реагирует возмущенно, но внутренне уже вся во власти соблазна: «С тех пор как я снова получила известие об ОК, я полна тоски по нему, хочу, чтобы исчезли все препоны, которые, по правде говоря, заключаются только во мне самой, чтобы прожить с ним вместе всю жизнь до конца». В то же время она знает, что и во второй серии отношений их взаимная страсть скоро выдохнется. К тому же множатся слухи, будто Кокошка почти полностью утратил рассудок. Его пиетет перед Альмой, тоска по ее материнскичувственному образу, который так вдохновлял его, заходит настолько далеко, что он заказывает вырезанную из дерева и обтянутую куклу в человеческий рост, изображающую Альму. Хотя результат его в известной мере разочаровал, набитая ватой тряпичная Альма какое-то время сидит у него на диване. Он одевает ее в дорогие одежды с парижскими аксессуарами и часами ведет с ней беседы. Однако через некоторое время им овладевает отчаяние, потому что кукла не может заменить настоящую возлюбленную, и Кокошка пытается освободиться от своей страсти. В разгар вечеринки в саду с обильным винопитием он в упоении отрубает кукле голову. На следующее утро в дверь стучит полиция. Кокошке приходится давать объяснения, что означает «труп» у него в саду. Далее то, что осталось от куклы Альмы, вывозят мусорщики.
Композитор Арнольд Шёнберг с Альмой Малер знаком давно и все чаще заходит к ней в гости. Однажды он приводит к ней жену, дочь и нескольких учеников, которые играют на фортепиано. Альма Малер начинает стыдиться своего достатка, наблюдая явную бедность этих людей искусства. Она дарит дочери Шёнберга платиновый браслет с бриллиантами и добавляет, что хотела бы «подарить ей куда больше».
Арнольд Шёнберг, глубоко травмированный участием в войне, вернулся в свою венскую квартиру на Глориеттгассе, 43 еще в 1917 году. При этом в августе 1914 года он воспринимал разразившуюся тогда Первую мировую войну как «великолепное и величественное» событие. Когда началась мобилизация, его охватило страстное желание «встать плечом к плечу со всеми и вести настоящие бои вместе с тысячами других людей». Он записался добровольцем в Королевскую императорскую армию Австро-Венгрии. Когда пришла повестка, композитор был готов отправиться в бой, радуясь, что оставит позади общественное презрение, пронзительный свист, болезненные разрывы отношений и хамские замечания по поводу его искусства. Один недоброжелательный коллега действительно с издевкой назвал его попытки заняться живописью «водяными бутербродами с астральным взглядом».
Однако пылкое желание композитора сменить звуки оркестра на звуки битвы длилось недолго. Его надежда возвыситься за выдающиеся достижения в искусстве сразу до ранга офицера не оправдалась. Уже при выдаче обмундирования у свежеиспеченного солдата навернулись слезы ярости на глаза, когда каптенармус выдал ему грязную армейскую фуражку со следами крови бывшего владельца. Его астма, подвергшаяся здесь, на фронте, регулярным атакам благодаря алкоголю и табаку, а также его солидный возраст воспрепятствовали героическим поступкам. Вместо подвигов во славу Отечества его ждала отупляющая служба в школе офицеров-резервистов в Брук-на-Лайте: «В 42 года сделаться муштровщиком вояк… и подчиняться приказам идиотов». Солдатскую жизнь он представлял себе совсем иначе. Шёнберг, воспринимавший себя как «художника, стоящего выше народа», оказался на самом нижнем уровне служебной иерархии. Его начальники с самыми благими намерениями поручали ему инструментовку маршей для армейского оркестра.
Едва вернувшись на Глориеттгассе, Шёнберг немедленно начал трудиться с той неустанной продуктивностью, которая отличала его во всех областях искусства и жизни. Жена Матильда видела, как он тонет в бумагах за своим рабочим столом, записывая сочинение, посвященное ни больше ни меньше, как идее «вечного мира». Три года войны убедили его в том, что люди «чудовищно злы», но маленькая кучка «единомышленников», то есть образованных и способных к критическому анализу людей, смогла за неделю добиться заключения мира, чего не сподобились добиться все правительства и дипломаты мира, несмотря на образцовое мирное посольство американского президента Вудро Вильсона. Шёнберг придерживался твердой убежденности в том, что тогда исполнится «энергетическая воля большинства человечества — преодолеть войны в корне». Далеко выходя за границы своей компетентности музыканта, Шёнберг провозглашал идею международного третейского суда, решения которого, по его мнению, должны сопровождаться одобрением мультинациональной «армии стражей». Эти его предложения были пророческим предзнаменованием основных принципов Организации Объединенных Наций, однако современники к ним не прислушались.
Ситуация на растерзанной родине Шёнберга была настоящим испытанием для его взбудораженных нервов. Несмотря на постоянную нужду, он как до, так и после 1918 года работает над текстом и музыкой той вещи, которая отразила в себе восприятие и устремленность военных и послевоенных лет, как мало какое другое современное произведение: оратория «Лестница Иакова» начинается неумолимым остинатным движением басов. Динамично, почти назойливо маршируют струнные, не обращая внимания на болезненный диссонанс со стороны духовых и деревянных. Напряжение первых тактов разрешается ясным тенором архангела Гавриила: «Налево ли, направо, вперед или назад, с горы или в гору — но надо идти, не вопрошая, что ты оставил позади и что тебя ждет впереди». Опыт участия в войне явно отражается в этих словах, умение выстоять в глухие времена. Но этот пассаж заканчивается в прошедшем времени, и это означает, что состояние неукротимого продвижения вперед принадлежит прошлому. Как и в Библии, ангел у Шёнберга — это связующее звено между землей и небом. Он указывает на высшие сферы, на высший мир, к которому тянутся прорастающие побеги. Это образ надежды, соблазна… спасения, в конце концов. Желание растворить земное страдание в божественной милости. «Я хочу… — заявил Шёнберг еще в 1912 году, — написать ораторию, повествующую о том, как человек, который прошел через материализм, социализм, анархию, становится атеистом, но сохраняет в себе частицу древней веры (в форме предрассудков), как этот современный человек вступает в спор с Богом… и, наконец, приходит к обретению Бога и приобщается к религии. Учится молитве!»
В своей венской квартирке, снятой на деньги меценатов, Арнольд Шёнберг приходит к вере, которая является для него единственным средством против «ниспровержения всего того, во что люди раньше верили». В «Лестнице Иакова» звучат оба мотива: и крушение, и надежда на обновление прежнего образа мышления. В этой композиции намечаются, кроме того, первые робкие шаги к совершенно новому, математически-абстрактному способу понимания музыки: техника двенадцати тонов, так называемая атональная музыка. По существу, оратория, вместо того чтобы обещать спасение через великие идеологии, указывает на Бога.
Элвин Йорк падает на колени, когда в мае 1919 года видит маленькую хижину у подножия гор в Пэл-Мэл. Отрешившись от суматохи, которую затеяли вокруг него родные и соседи, там, где никто не мог его увидеть, он благодарит Господа за свое возвращение. В этой войне Господь простер над ним свою длань и защитил ото всех невзгод. У него не было необходимости обращать к Творцу какие-то слова, чтобы выразить свою благодарность. Ему просто надо было ее ощущать.
Когда он спешит обратно к родному дому, навстречу ему несутся охотничьи собаки. Они окружают его, прыгают, лают и бешено виляют хвостами. Они возбуждены и настолько рады ему, что готовы вот-вот опрокинуть на землю. Йорк опускается на корточки среди своих верных спутников, похлопывает их по бокам, чешет за ушами, а они лижут ему руки. Вскоре он снова будет бродить с ними по лесам Теннесси, которые без него совершенно не переменились. Как и прежде, кабаны рыщут под дубами в поисках желудей, звякают коровьи колокольчики и кизил цветет, как и каждой весной. Но Йорк смотрит теперь на все другими глазами. Потому что здесь все осталось по-старому. Зато он сам стал другим. Он увидел мир, он боролся за жизнь и смерть. Его прежнее существование, кажется, осталось теперь далеко позади, словно оно принадлежало к другой эпохе. Йорк чувствует себя вечным путником, опьяненным мечтами, призрачными картинами. События последних месяцев должны иметь какой-то смысл, они не могли быть напрасными. Йорк садится на склон холма и размышляет о том, чем ему, человеку, пережившему войну, в этой жизни заняться.
После большого парада «гарлемских дьяволов» Артуру Литтлу уже совсем невмоготу носить армейскую форму. Почему нужно так много времени, чтобы армию покинуть, и так мало, чтобы в нее вступить? Так много проверок и отчетов. Каждому должны выдать свидетельство и на каждого подписывают особый приказ об увольнении в запас. Вся процедура сопровождается нескончаемой вереницей торжественных речей.
Через три дня после парада в лагерь наконец возвращается и солдат Генри Джонсон. После триумфального шествия по Манхэттену ему приходится снова и снова рассказывать взволнованным репортерам свою историю. Когда полк вечером вернулся в лагерь, оказалось, что Генри Джонсона и след простыл.
Теперь, когда он появился, наказать дезертира — это задача Литтла. Призванный к ответу, Джонсон рассказывает, что группа благородных господ пригласила его на прогулку. Они оказались так щедры, что повели его по клубам и ресторанам Пятой авеню. Там была изысканная еда и утонченные напитки. Господа совали ему банкноты. После этого бурного веселья он очень устал и много часов провел в мягкой постели в гостинице. Ну как он мог отказаться от такого щедрого предложения? Разве это не было бы нарушением правил вежливости их славного полка? В качестве доказательства, что рассказ его правдив, Джонсон показал Литтлу пачку долларов, всего там было больше шести сотен. Офицер Литтл закрывает на все глаза и отправляет дезертира назад в его подразделение.
Через несколько дней, когда Литтл сидит за рабочим столом и занимается заполнением нескончаемой череды каких-то бумажек, раздается стук в дверь. Это снова Джонсон. На этот раз у него в руках приказ об увольнении. «Я уезжаю домой, — говорит Джонсон, — я возвращаюсь к прежней своей профессии. Я пришел, чтобы попрощаться с вами». Литтл знал, что всех остальных уже посадили в поезд до Нью-Йорка. Значит, Джонсону пришлось тайком улизнуть от товарищей и пробежать своими искалеченными ногами добрую милю от железнодорожной станции. Когда Артур Литтл поднял на него глаза, в горле у него встал ком. Он посмотрел в окно на опустевший лагерь, который в лучах солнца выглядел особенно сиротливо. И тут Литтл осознал, что этот носильщик со станции Олбани фактически преподал ему урок товарищества. Литтл встал и подошел к Джонсону, который по-прежнему стоял в дверях по стойке «смирно». На глаза у него наворачиваются слезы, а губы дрожат, когда он прощается с Джонсоном: «До свидания, Генри, не забывайте меня». «Забыть вас! — отвечает Джонсон, — это невозможно! Вы из меня настоящего мужчину сделали».
Гарри Трумэн снова видит в Канзасе свою любимую Бесс. Сначала он посматривает на нее лишь тайком и издали, потому что 129-й полк полевой артиллерии должен сначала выйти в Канзасе на парад. Через три дня, 6 мая 1919 года, солдат наконец-то официально отпускают.
Пара воссоединяется, после чего разгорается первый и последний спор в жизни Бесс и Гарри. Речь идет о том, поедут ли молодые после свадьбы жить к ее матери, которая считала жениха Бесс неудачной партией для дочери. Гарри против, но Бесс в конце концов одерживает верх. Через несколько недель наступает тот миг, которого оба так долго ждали. Двадцать восьмого июня 1919 года, в день подписания Версальского договора, в Канзасе так жарко, что в церкви вянут цветы. В этот день Гарри Самюэль Трумэн и Элизабет Уоллес Ферман стоят перед алтарем. На свадебном фото Трумэн делает строгое торжественное лицо, но не может скрыть своего немыслимого счастья.
После свадьбы Гарри Трумэну приходится взять будущее в свои руки, уже как гражданскому человеку. Вместе с фронтовым другом Эдвардом Якобсеном он разрабатывает план. Он распродает скот у себя на ферме, а вдобавок берет кредит. Друзья хотят создать модный магазин для мужчин в центре Канзас-сити. Бизнес-идея проста: с войны сейчас приходит очень много мужчин, и всем им надо во что-то одеваться. Фирма «Трумэн & Джонсон» откроет магазин на торговом этаже отеля «Мулебах», а это выгодное место. Новоиспеченные предприниматели намерены предложить утонченную модную продукцию для мужчин: рубашки, носки, галстуки, ремни, нижнее белье и шляпы на самый притязательный вкус. В том же году новый магазин открывается. Фирменное название разноцветными буквами переливается над входом, кафельный пол сияет, а над витринами вращаются большие электрические вентиляторы. Магазин открывается в восемь утра и закрывается только в девять часов вечера. Трумэн и его партнер делят между собой время за прилавком. Сначала в магазин приходят старые фронтовые товарищи. Складывается впечатление, что они немного тоскуют по войне, во всяком случае, по наставленьям и приказам бывшего своего командира, которому они на память подарили кубок с выгравированном на нем его именем. И вообще, «батарея Д» и после войны не уходит из жизни Трумэна. Например, волосы ему стрижет бывший фронтовой товарищ, который уже стриг его как-то под деревом неподалеку от Сен-Мийеля, где стояли американские части.
Не все мечты той весны 1919 года так легко претворялись в жизнь, и кое-кому видятся не картины прекрасного и мирного будущего, а невыносимые кошмары. Именно так происходит с Согомоном Тейлиряном, который — во всяком случае, так он объясняет на суде — не может прогнать из памяти страшные картины: длинную колонну армянских жителей, изгнанных из родного города Эрзинджана в Восточной Анатолии, турецких солдат, отбиравших у армян ценные вещи и утащивших куда-то его сестру, выстрелы, крики, падающую на землю мать, топор, которым кто-то раскалывает череп его младшего брата, удар по голове, от которого он теряет сознание, пробуждение под трупом старшего брата. Когда эти картины оживают в его памяти, все тело его начинают сотрясать судороги, и он теряет сознание. Тейлирян в феврале 1919 года приезжает из Тифлиса в Константинополь в надежде найти там членов своей семьи. В столице разрушенной мировой войной Османской империи он размещает объявления в разных газетах, чтобы отыскать друзей и родственников. Согомон Тейлирян — армянин, и в этой группе населения, из которой сотни и сотни тысяч пали жертвой насилия со стороны турецких солдат, он относится к тем немногим, кто пережил бойню. Объявления Тейлиряна остались без ответа. Неужели в кровавых бойнях 1915 года погибли все?
5. Обманчивый мир
Волшебная страна времен перемирия, где каждый… мог живописать собственное будущее в фантастическом, пессимистическом или героическом ключе, закрыла свои двери.
Курт Херрман
Фламинго, 1917
В апреле 1919 года Милан Штефаник возвращается обратно в Париж. Как долго и с каким страстным нетерпением Луиза Вайс ждала этого момента! С лицом «бледным как смерть» входит ее возлюбленный в редакцию, опускается на стул и выкладывает все события последних месяцев. Ему удалось живым выбраться из Сибири и спасти большую часть своих людей. При морозе минус тридцать пять градусов он был награжден за это крестом французского Почетного легиона. Во время этой церемонии у французского генерала Мориса Жанена отмерзли уши. После этого началось путешествие назад через Тихий океан. О перемирии Милан Штефаник узнал в японском городе Кобе. А в Токио его догнала новость, что он избран министром обороны первого правительства Чехословацкой республики. Тем горячее стало его желание поскорее вернуться обратно в Европу. В своей новой должности Милану Штефанику не терпелось сыграть достойную роль в международных мирных переговорах, которые тем временем начинались в Версальском дворце под Парижем. В процессе переговоров речь шла также о международном признании чешской независимости. Но когда Штефаник наконец добрался до Парижа, переговоры уже шли полным ходом и другие политики, прежде всего новый премьер-министр Чехословакии Карел Крамарж и министр иностранных дел Эдвард Бенеш, давно заняли место за столом сильных мира сего. Даже попытки Штефаника уговорить французского генерала Фоша организовать операцию по спасению чешских товарищей, оставшихся до сих пор в Сибири, не увенчались успехом. После стольких невзгод и опасностей последних лет генерал Штефаник совершенно не так представлял себе возвращение в Европу! Здесь, в Париже, он вообще ни на что повлиять не мог. Едва прибыв, он уже спешит в Прагу, чтобы хоть там удостоиться приема, положенного герою войны. Лучше всего было бы, мечтает Штефаник, опуститься на родину прямо с неба, долететь до Праги на самолете.
Все эти новости и рассуждения горячо, вплоть до мельчайших подробностей, интересуют Луизу Вайс. Она ни на йоту не растратила пыла своего давнего увлечения чехословацкой идеей и человеком, который явился для нее олицетворением этой идеи. Неужели настал наконец тот миг, когда она сможет плечом к плечу с ним сражаться во имя того, чтобы чешская независимость победила? Когда Луиза Вайс как-то приходит к Милану домой в его квартиру на Рю-Леклерк и осторожно переводит разговор с политических перспектив на личные, лицо Милана мгновенно омрачается и он пристально смотрит ей в глаза. Луиза Вайс чувствует, что он готов сделать ей признание. Немного поколебавшись, он открывает ей оглушительную правду: еще в апреле 1918 года, во время Конгресса угнетенных наций Австро-Венгрии, он познакомился с молодой женщиной, итальянской маркизой Джулианой Бенцони, и влюбился в нее. Чуть позже он встретился с ней еще раз. Вскоре после этого он обручился с нею.
Луиза не верит своим ушам. «А я?» — спрашивает она его, человека, которого считала мужчиной своей жизни. «Ты? — отвечает он, впервые доверительно обращаясь к ней по-свойски, а не на „вы“. — Я хочу, чтобы ты сказала мне, что я свободен. Я многим обязан тебе. Слишком многим! Кроме того, я никогда не смогу повелевать тобой полностью». Луиза оглохла от боли, а Милан тем временем продолжает бросать свои холодные аргументы, которые бьют по ней, будто удары кулаком: «Кроме того, ты не невинна, как вот эта жемчужина, которую я хочу подарить своей нареченной невесте». Он открывает шкатулку и показывает ей восточное украшение с жемчужиной розовато-лилового цвета. Милан видит слезы Луизы, но не находит слов, которые могли бы ее утешить. «У тебя потрясающий опыт в политических делах, — продолжает он. — Ты мыслишь, как опытный государственный деятель… Ты полна идей. Но я хочу представить своему народу деву, женщину с девственным телом, но прежде всего — с девственной душой. Душой! Вот что ты должна понять». Воцаряется тишина. Луиза чувствует, что, несмотря на все ее таланты, у нее нет ничего, что на чаше весов перевесило бы в ее пользу. Она даже и не пытается ничего возразить; ей ясно, что красивая юная аристократка давно победила и что она в гораздо большей степени, чем Луиза, может помочь созданию легенды вокруг Штефаника, которая для журналистки столь же важна, как и для него самого. Но Милан еще не завершил череду своих жестокостей: «Я буду говорить с ней о тебе как о моей лучшей подруге. Я посоветовал ей, чтобы она, если у нее возникнут сложности, прежде всего обращалась к тебе. И ты ей поможешь. Обещаешь?» Луиза начинает плакать. «Ты необходима мне», — бормочет Штефаник. Внезапно Луиза ощущает, как в душе волной поднимается гнев: «Вы никогда не женитесь на Джулиане, — говорит она неожиданно. — Ни на ней, ни на мне, ни на ком. Вы принадлежите только себе самому». «Возможно, ма шери», — тихим голосом отвечает Милан и прощается. Некоторое время спустя он уезжает в Италию.
Весна 1919 года — это время не только расцветающей мечты, но и эра мечты гибнущей. В особенности это касается бесчисленных иллюзий, возникших за время переговоров воевавших сторон в Париже и Версале: великодержавных фантазий стран-победительниц, мечты о национальной свободе и независимости, веры в возникновение справедливого миропорядка, затаенной надежды потерпевших поражение стран, что последствия войны будут для них не такими катастрофическими, как все боялись. Обильный запас прожектов на будущее исчерпывается по мере приближения конца мирных переговоров в летние месяцы 1919 года, переговоров, определивших вехи послевоенного развития. Рано или поздно людям приходится заглянуть в лицо действительности. Обманутые надежды и многократное разочарование зачастую оборачиваются яростью. Так мирные договоры, призванные уладить всеобщий конфликт, становятся отправной точкой для новых афер.
Берлинский художник Курт Херрман изобразил в 1917 году бело-розового фламинго с ослепительными перьями. Но роскошная птица уже не вышагивает гордо на своих длинных, изящных ногах, а лежит мертвая, с запрокинутой назад головой и выгнутой шеей у пустой кормушки. Возле ее клюва образовалась темно-красная лужица крови. Созданная на третьем году войны картина кажется символом конца надежд на славную победу и — в более широком смысле — символом конца «прекрасной эпохи», конца старого мира, старой элиты и ее блистательного времени. Однако кончина прекрасной птицы — если выйти за рамки узкого исторического контекста — это символ краха чего-то роскошного, грациозного, чего-то такого, что слишком изысканно, чтобы выстоять в атмосфере грубой действительности. То была судьба многих призрачных мечтаний весной и летом 1919 года.
Мировая война потребовала столь значительных жертв — и столь же многочисленны были обещания. Настолько же велики были ожидания, когда 18 января 1919 года в Зале с часами Министерства иностранных дел Франции на набережной Сены начались переговоры. На первом этапе, когда согласовывали свои действия только западные противники Германии и их союзники, так или иначе участвовали представители тридцати двух стран. Великобритания, Франция, Италия и США, составлявшие «Совет четырех», задавали тон. Чтобы подчеркнуть новую роль Америки в мире, ее президент Вудро Вильсон уже в декабре 1918 года приехал в Париж. Американская делегация составом более тысячи человек последовала за ним во французскую столицу. Своими «четырнадцатью пунктами», заявленными в январе 1918 года, которые, как и прежде, оставались «символом веры» американского президента, Вильсон уже за год до переговоров установил новые стандарты международной политики: право народов на самоопределение должно стать краеугольным камнем мировой политики и действовать даже для колониальных империй, а все нации мира должны объединиться в союз народов, который в будущем должен разрешать международные конфликты мирным путем. Только при том условии, что все названные уроки будут извлечены, Первая мировая война действительно могла бы стать войной, «заканчивающей все войны». С такими соображениями, которые мощная кампания в прессе распространяла по всему миру, Вильсон становился эпицентром всех надежд и чуть ли не мессианской фигурой. Луиза Вайс наблюдала американского президента и его супругу 14 декабря 1918 года во время личной встречи с ним. Американский мессия оставил неоднозначное впечатление. Он действовал как «протестантский папа» или даже как «Савонарола без прошлого», пишет журналистка в своих мемуарах. «Он резал вглубь до человеческой магмы, исходя из норм, которые существовали только в его философии, тогда как бедные европейцы, включая англичан, погруженные в свои интересы, со своими традициями, связанные по рукам и ногам своими протеже и своими вассалами, только готовились выступать с более или менее жизнеспособными предложениями». Французский взгляд на политику Вильсона, причем это не только взгляд Луизы Вайс, и в ходе дальнейших переговоров остается трезвым. Для измотанной войной Франции вопросы возмещения ущерба остаются более важными, чем высокие идеалы. Тот факт, что «четырнадцать пунктов» Вильсона в первую очередь пробуждают надежды людей на периферии колониальных империй, для Франции как матери «республиканской империи» был предметом озабоченности и раздражения.
Нгуен Ай Куок во время мирных переговоров по-прежнему находится в Париже, пытаясь заработать на жизнь фотографией. В журнале «Вив уврьер» он размещает объявление: «Если вы хотите, чтобы память о ваших родителях была живой, закажите ретушь ваших фотографий у Нгуена Ай Куока. Красивый портрет и красивая рамка к нему за 45 франков». Но спрос невелик. Нгуен по-прежнему перебивается с хлеба на воду.
Ежедневно приходящие сообщения о ходе мирных переговоров приводят Нгуена, как и прочих мигрантов из колоний Франции и Великобритании, в лихорадочное состояние. Вьетнамец — как и многие другие противники колониальной системы — с особым вниманием вчитывается в программные заявления Вильсона. В Версале и Париже решаются судьбы мира. Если сейчас, как заявил Вильсон, пробил час самоопределения, тогда его родина, французская колония Индокитай, не может быть исключена из этого процесса. Нгуен видит в этой парижской весне шанс, который ни в коем случае нельзя упустить.
Вместе с другими активистами он пишет петицию от имени «группы вьетнамских патриотов». В продолжение «четырнадцати пунктов» Вильсона здесь выдвинуто восемь требований. О «самоопределении» и тем более о независимости в петиции речь не идет. Требования касаются исключительно того, чтобы предоставить вьетнамцам больше прав: честную юстицию, свободу печати, образования и собраний, более широкое демократическое представительство Вьетнама во французском Национальном собрании. Необходимо также освободить всех политических заключенных. Все это требования, которые для родины прав человека — Франции, — казалось, были само собой разумеющимися. Однако Франция со времен Великой революции так и не удосужилась наделить подвластные ей народы по всему миру теми правами и свободами, на которых зиждется ее гордость и ее национальная идентичность. Но ныне мир испытывает потрясение, которое может привести к падению колониальных империй, некое мировое содрогание, которое вызывает возникновение новых независимых государств и беспорядки в странах, находящихся далеко одна от другой: в Египте, Японии, Индии, Корее, Мексике. В такую эпоху французская колониальная империя тоже может пострадать от потрясений или вообще низвергнуться в пропасть.
Нгуен подписывает требования относительно своей родной страны — Вьетнама, но и хотел бы лично проследить за тем, чтобы документ достиг адресата. Поэтому его можно увидеть в вестибюлях Версаля, где он сам вручает каждой делегации эти требования. Он даже пытается встретиться с Вудро Вильсоном и берет напрокат приличный костюм. Но дальше президентской приемной его не пускают. Ответные письма различных делегаций убеждают Нгуена в том, что требования смягчить колониальный режим в Индокитае были с полной ответственностью восприняты переговорщиками. Помимо этого, 18 июня 1919 года Нгуену удается опубликовать вьетнамские требования в газете «Юманите» и тем самым сделать их достоянием широкой публики, читающей по-французски.
В этот самый момент французская полиция начинает обращать внимание на нелегально проживающих мигрантов. Силы безопасности не только выдворяют Нгуена из Версальского дворца; с этого времени он под колпаком у тайной полиции. Во вьетнамские круги сопротивления в Париже внедряют шпиона, у дверей жилища Нгуена выставляют наблюдательный пост. Впрочем, предупредительные меры полиции находятся в определенном противоречии с явным отсутствием успехов у вьетнамской ячейки: судьба Индокитая не играет на переговорах в Версале никакой роли. Франция, держава-победительница в Первой мировой войне, не дает отвлечь себя ни от прекрасных — и не совсем бескорыстных при этом — идей Вудро Вильсона, ни от своего главного интереса: наказать заклятого врага Германию за войну, а также укрепить и расширить свое мировое господство. Для самого Вудро Вильсона колониальный вопрос ни в коей мере не является главным. Он даже боится, что действия борцов за независимость могут подорвать усилия по созданию нового мирового порядка. В первом проекте устава союза народов, который Вильсон предлагает на конференции 14 февраля 1919 года, слово «самоопределение» уже отсутствует.
«Кажется, в настоящее время все здесь», — пишет Томас Эдвард Лоуренс своей матери в январе 1919 года. Под «здесь» в данном случае подразумевается Париж, куда приезжают делегации для мирных переговоров. Даже принц Фейсал, сын Гусейна I, короля Хиджаза и боевой товарищ Лоуренса, прибыл во французскую столицу. Лоуренс отправляется с ним вместе на Сену покататься на гребной лодке и погрести самому — все это, чтобы избежать толпы корреспондентов, которые не щадя сил направляют свои камеры на принца-хашимита в белых развевающихся одеждах. В 6 часов утра оба они уже на ногах, мужчины, которые так много опасностей перенесли вместе на полях сражений Ближнего Востока. От отеля «Континенталь» на улице Риволи они распоряжаются доставить их в Булонский лес на окраине Парижа, где и начинается их с принцем гребной поединок.
То, что Фейсал, представитель арабских народов, получил право участвовать в переговорах, — это был успех, который Лоуренс вырвал у англичан. Он радел за интересы арабов и в частных внутренних беседах, и публично. Издателю «Таймс» он 17 ноября 1918 года пишет: «Арабы вступили в войну, не заключив предварительно с нами договор, и они всегда умели противостоять соблазнам со стороны других держав. У них никогда не было ни пресс-агентов, ни публичной агитации за свое дело, но боролись они так ожесточенно, как только могли (за это я могу поручиться), и в трех кампаниях подряд преодолевали все невзгоды и смирялись с потерями, что позволило вынудить к сдаче противника более опытного, чем они сами».
Выбирая такие слова, Лоуренс мог рассчитывать на определенную открытость со стороны британцев, но у французов одно только присутствие Фейсала вызывает большое недоверие. Арабский принц вынужден давать разъяснения французскому предпринимателю средней руки: «Я пришел не обманывать, а показать миру, что арабы освободились от турок не для того, чтобы попасть в новое рабство или поделить свои территории. Ставлю вас в известность, что я сражался за то, чтобы быть свободным и суверенным, и что за свои принципы мы готовы умереть. И я не собираюсь отдавать Англии хотя бы часть моей страны!» Но Франция настаивает на том, чтобы британско-французское соглашение 1916 года соблюдалось невзирая на борьбу арабов за независимость от Османской империи. Так называемое соглашение Сайкса и Пико предусматривает, что на Ближнем Востоке зоны влияния делят между собой Англия и Франция. Однако Лоуренс и Фейсал надеются на поддержку американцев, чтобы добиться самоопределения арабских народов и создания Сирии.
Президент Вильсон пугает французов своим предложением отправить в Сирию комиссию, чтобы изучить волю тамошнего арабского населения. Франция делает все, чтобы воспрепятствовать претворению в жизнь этого предложения. Лоуренсу удается организовать встречу Клемансо и Фейсала в надежде, что это поможет сгладить расхождение во мнениях. Лоуренс настолько серьезно относится к необходимости участвовать в этом деле, что не покидает Париж даже тогда, когда приходит известие о смерти отца. Только когда он уверяется в том, что вожделенная встреча точно произойдет, он берет неделю отпуска, чтобы съездить к матери и побыть с ней.
Встреча Фейсала и Клемансо происходит в середине апреля, и она явно не стоит тех усилий, которые Лоуренс и Фейсал на нее затратили. Клемансо будто бы делает шаг навстречу Фейсалу, заявив о готовности предоставить Сирии независимость, если Фейсал признает, что независимая Сирия будет находиться под французским мандатом. Но управление под контролем Франции независимостью не является, и надежды Фейсала на успех терпят, таким образом, крах. Он покидает Париж — огласив перед этим свое завещание — на самолете французских военно-воздушных сил.
Чуть позже, в мае, Томас Эдвард Лоуренс, в свою очередь, ступает на борт британского самолета, чтобы лично заняться поисками документации Арабского бюро, на которое он работал во время войны. Он тоже раздосадован, и в своих воспоминаниях описывает это так: «Молодежь смогла победить, но удерживать победу не научилась. Она оказалась позорно слаба по сравнению со стариками. Мы думали, что работали во имя нового неба и на благо нового мира, а они приветливо поблагодарили нас и зажили своей мирной жизнью».
Во время промежуточной посадки в Риме пилоту не удается своевременно сбросить скорость самолета, в котором находился Лоуренс, на посадочной полосе. Поэтому он вновь нажимает на гашетку, но при новой попытке поднять самолет тот запутывается в ветвях деревьев и падает на землю. Пилот гибнет на месте, второй пилот умирает несколькими днями позже от сильной травмы головы. Томаса Эдварда Лоуренса удается вытащить из-под дымящихся обломков. Чудесным образом он отделался только переломом ключицы и несколькими царапинами. Через несколько дней он продолжает поездку в Каир. Авиационному технику Фредерику Доу, который спас ему жизнь, он посылает в июле письмо с чеком на десять фунтов и пишет: «Купите себе какую-нибудь безделицу в память о нашей, скорее жесткой, посадке в Риме! Мне-то было совсем не весело висеть там, в этом обгорелом остове. Был Вам весьма благодарен, что Вы меня оттуда вытащили!»
Ситуация на Ближнем Востоке в это время отнюдь не безоблачная. Арабскому населению становится все более ясно, что переговоры в Париже не способствуют продвижению их интересов. Учащаются нападения арабов не только на британские войска, по-прежнему располагающиеся в регионе, но и на еврейских поселенцев в Палестине. Хотя Фейсал отчетливо обозначил в Париже свою позицию по отношению к сионистам, а в январе даже подписал с их главой, Хаимом Вейцманом, соглашение, гарантирующее евреям создание в Палестине собственного государства, но это соглашение не опиралось на арабское население и никогда не вступило в силу. Фейсал готов был оказать поддержку в том случае, если независимость арабов получит международное признание.
В отсутствие Лоуренса и Фейсала французские, британские и американские позиции начинают сближаться. Готовится промежуточное решение, которое для арабской стороны выглядит по меньшей мере как частичный успех: если британцы возвращаются в Палестину, Франция получает контроль над Бейрутом и над Сирийским побережьем, а арабы владеют континентальной частью Сирии. Освобожденный в ходе боев Дамаск мог бы стать столицей нового арабского государства. Когда приходят первые новости о таком единодушном решении, Лоуренс не может этому поверить и пишет благодарственное письмо британскому премьер-министру Дэвиду Ллойду Джорджу, в котором отчетливо выказывает свое удивление: «Должен признаться Вам, что в глубине души всегда был убежден, что Вы бросите арабов в беде. Поэтому теперь у меня просто не хватает фантазии придумать, как мне Вас благодарить. Дело касается меня лично, потому что еще во время военных походов Вы были для меня залогом того, что наши обещания будут выполнены, и дали честное слово, что бы оно ни значило. Теперь Вы в своем соглашении по Сирии сдержали все обещания и дали им, возможно, даже больше, чем они заслуживают, и мое облегчение по поводу того, что я выхожу из этого предприятия с чистыми руками, очень велико». На короткое время начинает казаться, что до независимости арабов рукой подать.
Ганди неустанно упрекает себя в том, что совершил «ошибку величиной с Гималаи», призвав индийцев к гражданскому неповиновению. Его кампания против чрезвычайных законов колониального режима привела к беспорядкам, полицейским расправам и насилию. Ганди ощущает свою долю вины в гибели множества людей, в страданиях близких и — к удивлению и недовольству своих слушателей в различных индийских городах — публично признает эту свою вину. Как только могут его сторонники бросаться камнями, останавливать поезда и даже ранить людей, если он призывает их к ненасильственному сопротивлению? Между тем его мучает мысль о том, что своей активностью он подтолкнул индийцев к тому, чтобы они сделали второй шаг раньше, чем первый. После случившихся беспорядков он все больше и больше убеждался, что сопротивлению должен предшествовать долгий процесс созревания. Только когда люди уже выучились повиновению и самодисциплине, когда они готовы следовать законам государства и морали, — тогда они могут проводить целенаправленные и разумно спланированные коллективные акции гражданского неповиновения против отдельных, избранных мероприятий властей. Только так, уверен теперь Ганди, можно воспрепятствовать тому, чтобы протесты вышли из берегов и тем самым дали противоположной стороне повод к применению насилия. Довольно отчетливо слышна в высказываниях Ганди критика колониального режима, но одновременно он осознает, что может изменить этот режим только в том случае, если усовершенствует как само движение, так и его способность к политической мобилизации. Шагом в этом направлении является создание группы активистов более зрелого уровня, которые призваны помочь ему воспитать массы в готовности к «сатьяграха», то есть к ненасильственному сопротивлению. Как издатель журнала «Янг Индиа», он также способствует массовому распространению печатного слова.
Не только Ганди винит себя в трагических всплесках насилия в 1919 году, противоположная сторона тоже считает его ответственным за эти события. Перед комиссией Хантера, расследующей обстоятельства бойни в Амритсаре, бригадный генерал Реджинальд Дайер описывает Ганди как главного виновника беспорядков — хотя тот находился в сотнях километров от места событий. Человек, отдавший приказ стрелять в гражданских людей, не выказывает во время допроса никакого раскаяния. Его действия и теперь не кажутся ему неверными: ни тот факт, что он не отдает приказа прекратить стрельбу, пока толпа полностью не рассеялась, ни решение отказать в помощи раненым после кровавой бойни. Последнее вообще не входило в его задачи, для этого, в конце концов, существуют больницы. Дайера тем не менее объявляют виновным в ложном представлении о долге и увольняют с военной службы. Вместе с тем движение за независимость не может согласиться с выводами комиссии Хантера, так как мнение жертв не учитывалось. Ганди прилагает все усилия к тому, чтобы был опубликован альтернативный доклад.
Через несколько месяцев Ганди в своей речи перед мусульманами в Дели впервые употребляет слово «нон-кооперация», «не-сотрудничество». Он чувствует, как от толпы исходят ярость и страх. Он знает, что его слушатели возмущены не только положением дел в Индии, но и ходом мирных переговоров в Версале, которые не оставляют никаких надежд на то, что ситуация с индийскими мусульманами может улучшиться. Понятие «несотрудничество» кажется подходящим, чтобы мобилизовать людей против того, что их возмущает. Оно пришло на ум Ганди прямо во время выступления, хотя у него не сложилось еще четкого представления, что же он имеет в виду. Но слово, похоже, воодушевляет публику. Когда он произносит его, толпа взрывается аплодисментами. И только по мере развития мысли в речи, а также в дальнейшем постепенно вырисовывается концепция и приобретает конкретные очертания само это понятие, и именно оно обеспечит дисциплинарные нормы гражданского протеста, которых Ганди до сих пор так не хватало.
Центральными компонентами «не-сотрудничества» становятся отказ индийских чиновников от службы в колониальных администрациях и отказ от английских товаров в пользу отечественной продукции. Кроме того, Ганди выступает за распространение ткацких станков, которые позволят простым способом изготовлять индийские ткани и тем самым обеспечить заработок людям из низов индийского общества. Это начало движения «кхади».
Париж, если смотреть на него из Дели, кажется одновременно очень далеким и очень близким: есть сведения, что Ганди и представители индийского национального движения в январе 1919 года присутствовали на открытии мирной конференции. Такое решение было принято на заседании Индийского национального конгресса в декабре 1918 года. В действительности, однако, колониальное правительство Британской Индии отправило в Париж делегацию, чтобы представлять там интересы империи и повлиять на место Индии в международном сообществе народов. Делегацию возглавил британский статс-секретарь Эдвин Самюэль Монтегю. Хотя среди представителей делегации был также член Национального конгресса, но он принадлежал к его умеренному крылу, неустанно подчеркивавшему тот факт, что в мировой войне 1,2 миллиона индийцев сражались на стороне империи, и теперь они вправе ожидать за это возмещения.
Причина, по которой Ганди не отправился в Европу, могла заключаться в том, что он предчувствовал: там он сможет добиться гораздо меньших результатов, чем в борьбе у себя дома. Он не принадлежал к тем индийским борцам за свободу, которые усвоили риторику Вильсона о «самоопределении», а пытался выработать собственные концепции, с помощью которых смог бы отмежеваться от западных идеологов. Помимо этих тактических соображений, у Ганди была еще одна причина отказаться от поездки. Дело в том, что его старый испытанный соратник, Бал Гангадхар Тилак, еще с октября 1918 года находился в Лондоне и оттуда пытался повлиять на происходящее в Париже. Тилаку на тот момент было шестьдесят два года, и он был опытным политиком, который уже на протяжении десятилетий оказывал существенное влияние на развитие индийского движения за автономию.
В январе 1919 года Тилак обращается к лидерам союзников, к Ллойду Джорджу, к Клемансо, но прежде всего, конечно, к американскому президенту Вудро Вильсону, обещания которого вызвали в Индии широкий позитивный отклик: «Надежды всего света на мир и справедливость направлены на Вас, на человека, провозгласившего важнейший принцип самоопределения». К письму он прикладывает листовку: «Самоопределение для Индии». На ней изображена карикатура гигантского океанского лайнера. Люди со всех континентов поднялись на борт, чтобы совершить путешествие «от автократии к свободе». У старшего офицера черты Ллойда Джорджа. Индия, изображенная в виде женщины в сари, тоже хочет отправиться в путешествие. Но у офицера нет для нее билета.
В качестве ответа от личного секретаря Вильсона приходит только письмо со словами благодарности и некоторыми прохладными обещаниями. Вплоть до возвращения в Индию в ноябре 1919 года Тилаку не удается даже получить от британского правительства паспорт, который позволил бы ему отправиться из Лондона в Париж. Впрочем, цель официальной индийской делегации добиться для Индии места в содружестве народов была достигнута. Результат парадоксален: представители Индии могут теперь голосовать за независимость других народов, но их собственная страна независимой не является.
В редакции у Луизы Вайс скрещивают шпаги делегации, прибывшие на Версальские переговоры. Разумеется, великие мужи международной политики являются к ней не собственной персоной. Однако, привлеченные именем газеты и репутацией ее издательницы, к ней толпами идут консультанты, сотрудники и специалисты, чтобы получить самую новую информацию и через газету повлиять на общественное мнение. Ей показывают географические карты, делятся самыми дерзкими планами, приглашают на закрытые ужины. Луиза Вайс, несомненно, становится довольно влиятельным человеком в Париже. Однако мать Луизы не в силах смириться с популярностью дочери: «Если она поддерживала мои начинания, то только из идейных соображений, а не из симпатии. Ей хотелось, чтобы я всю жизнь соблюдала рамки приличий, и она огорчалась, что мое имя, все более окутывавшееся сиянием славы, было в то же время и ее именем». Это — продолжение длившейся всю жизнь драмы матери и дочери, которую внезапно затмила трагедия еще более страшная. Луиза Вайс узнает ужасную новость из газет.
Четвертого мая Милан Штефаник садится в самолет, чтобы лететь из Италии в Чехословакию. Границу Богемии они уже пересекли. Но при посадке самолет теряет управление, разбивается, и Милан погибает. Несмотря на горькую предысторию их отношений, для Луизы рушится весь мир. Для кого ей теперь делать всю эту нескончаемую работу, проводить ночи в типографии, а воскресенья — с политиками на приемах? Как ей существовать дальше без друга и всего того, что было с ним связано, даже если этот друг ее сильно разочаровал? Плача по Милану, Луиза плачет и по себе самой. Она подчинила свою жизнь служению ему и его делу. Что теперь придаст смысл ее существованию? Первым ее побуждением было полностью переключиться на свое личное счастье, как это делали многие женщины ее времени. Все честолюбие, культивируемое годами, исчезает. Политика во мгновение ока теряет для нее всякий интерес. Луиза чувствует себя выброшенной из жизни. Но неужели она теперь замкнется в своем горе и «вместо того, чтобы пожирать планету, будет пожирать самое себя»? В таком случае она превратится в другого человека. То есть — по-прежнему вперед? Но во имя чего, под чьим именем? Луиза подталкивает саму себя и придумывает девиз: во имя памяти! «Полная решимости и несчастья, я стала опираться на это внутреннее оправдание».
В тот же вечер, когда Луиза маялась от бессонницы, ее посетила незнакомка. В комнату для гостей вошло утонченное создание с блестящими черными глазами. Дама бросилась в объятия Луизы и прошептала на ломаном французском: «Я Джулиана. Милан сказал мне, что, если у меня будет горе, я должна обратиться к тебе. Я специально приехала из Рима. Ах! Я так его любила». Луиза сразу поняла, кто перед ней. В сущности, ей надо было тут же отправить эту особу подальше. Но самый облик скорбящей молодой женщины растопил ее сердце. Луиза Вайс предлагает ей ночлег и выслушивает ее. Джулиана показывает подарки, которые Милан привез ей из Японии. Итальянка уверяет, что она не забудет Милана никогда и останется безутешной.
Во время своего путешествия по Транссибирской магистрали на восток Марина Юрлова знакомится с тремя молодыми русскими дамами. Они одеты в элегантные платья с глубоким декольте и выдают себя за курсисток из Смольного института в Петербурге. Во время поездки эти мнимые воспитанницы Института благородных девиц безо всякого стеснения заводят шашни с каким-то богатым русским, да и после прибытия в русско-китайский Харбин их больше всего интересуют местные мужчины.
«Уже девять», — призывно кричит Катя, все трое вскакивают и начинают переодеваться. Такого дорогого белья Марина за всю свою жизнь никогда не видела. Превращаясь в соблазнительные существа категории люкс, все трое обмениваются совсем не утонченными русскими ругательствами. «Пошли с нами, — зовет ее Надя, — мы приглашены на китайскую вечеринку. Море удовольствия». У Марины нет никакого желания всю ночь сидеть в этом скудном пристанище, где она оказалась благодаря своим новым знакомым. Поэтому она тоже встает с постели и начинает одеваться, хотя, кроме казачьей формы, у нее ничего нет.
По темным улицам ночного Харбина четыре юные дамы идут к респектабельному ресторану. Швейцар провожает их в роскошный обеденный зал, где стол уже накрыт и украшен цветами. Откинута портьера, и пять изысканно одетых китайских господ входят в зал. Марина чувствует себя неловко в тяжелой армейской шинели. Официант приносит крепкие напитки, разговор далее ведется по-французски, и вот наконец начинается ужин, состоящий из бесконечной череды сменяющих друг друга мисочек с китайскими и европейскими деликатесами. Марина французского не знает, сигаретный дым заползает в легкие, а от спиртного голова начинает кружиться.
Голова ее медленно склоняется на стол между двумя чайными чашками.
Когда Марина через какое-то время открывает глаза и нетвердо встает на ноги, сцена уже совершенно изменилась. Надя наигрывает на пианино танго, мужчины сидят на подушках, прислонившись к стене, а Катя под музыку начинает потихоньку раздеваться. В своей розовой нижней юбке она делает похотливые телодвижения, шелковый чулок сполз по ноге вниз, распущенные волосы обрамляют раскрасневшееся в танце лицо, а мужчины бросают банкноты, стараясь ее распалить.
Соня, заметив Марину, подходит к ней той собранной походкой, какая бывает у очень пьяных людей, берет ее за руку, тащит к толстому мужчине и толкает к нему на колени. Мужчина начинает тискать Марину, ощупывая ее всю от плеч до коленей, а Надя за пианино принимается играть марш. Подходит второй мужчина и начинает возиться со средней пуговицей на Марининой шинели. Она непомерно долго исполняла в жизни мужскую роль и совершенно не ожидала, что кто-то может воспринимать ее как женщину. Именно в этот миг принудительного превращения обратно в женщину Марина вдруг совершенно трезвеет. «Я тебя не хочу!» — кричит она и вскакивает. «Выведите меня отсюда», — шепчет она своим спутницам. «Ты, мелкая потаскушка, сама понять не можешь, чего тебе надо!» — разражается бранью Соня. Но провожает Марину к выходу и там находит ей рикшу. Поскорее прочь отсюда, ближайшим же поездом — во Владивосток.
Джеймс Риз Юроп после увольнения из армии развивает лихорадочную деятельность. Ему ясно, что момент славы в первые месяцы после демобилизации он обязан использовать. «Гарлемские дьяволы» по-прежнему — кумиры чернокожих в той же степени, как и белой Америки, а их оркестр до сих пор называют «фанфарами победы». В марте 1919 года, через несколько недель после большого парада Победы в Нью-Йорке, бывший полковой оркестр 269-го полка совершает десятинедельное турне по Восточному побережью Америки и по Среднему Западу. Первый концерт проходил на престижной сцене Манхэттенского оперного театра Хаммерстайна. Любимец публики, певец Нобл Сиссл, исполнил ряд сольных номеров. Концерт имел грандиозный успех. Публика неистовствовала и кричала «бис» снова и снова. Газеты заходятся в восторге от этого «эха бивачной жизни». Из Нью-Йорка оркестр едет в Филадельфию, а оттуда в Бостон, где встречает прием не менее восторженный.
После этого в двух автобусах они отправляются на Запад, чтобы выступить в Чикаго, Буффало, Кливленде и Сент-Луисе. Повсюду на родине джаза экстравагантные композиции, квакающие звуки духовых с сурдиной, мастерство и увлеченность исполнителей биг-бенда вызывают бурные овации. Репертуар очень широк: от французских маршей и американских народных песен до сочиненного Ризом хита военного времени «On Patrol in no Man’s Land», где с помощью звуковых и световых эффектов имитировались грохот бомб и стрекот пулеметов. Публике предлагались даже синкопированные версии классических композиций, вроде сюиты «Пер Гюнт». «Чикаго Дефендер» ликует: «Игра „дьяволов“ достойна сравнения с лучшими оркестрами мира». Во многих смыслах эта игра оставляет позади всех: ведь никакая группа в мире не может тягаться с этой в интерпретациях блюза, джаза и «черного фолка». Во время одного из выступлений в местечке Терре-Хот к этой грандиозной бочке меда подмешивается ложка дегтя. Директор местного оперного театра настаивает на том, чтобы чернокожие и белые зрители сидели в театре раздельно, как это всегда у него заведено. Общественность гневно реагирует на эту несправедливость, противоречащую миссии, которую несет полковой оркестр вместе со своей уникальной музыкой: эмансипации чернокожих американцев. В вечер представления разъяренные женщины собрались перед зданием театра и раздавали листовки, направленные против «позора расовой сегрегации». В результате Джеймс Риз Юроп и его оркестр играли перед публикой, состоящей из двухсот белых и лишь двух чернокожих зрителей, которых пресса назвала «предателями». На 10 мая 1919 года был запланирован заключительный концерт в Гарлеме. Джеймса Риза Юропа ждал оглушительный успех. В тридцать девять лет композитор и лидер биг-бенда достиг вершины своей славы, комета его успеха, начавшая восходить во время войны, продолжала сиять на небе и в мирное время. Но это успех чернокожего мастера шоу-бизнеса, а не чернокожего солдата и уж подавно не чернокожего гражданина.
Для вернувшегося домой после большого парада в Нью-Йорке Генри Джонсона тоже расстилают красную ковровую дорожку. Америка хочет видеть бойца по прозвищу Черная Смерть, который способствовал победе американской армии на полях сражений во Франции. Некий агент предлагает ему 10 тысяч долларов за поездку с докладами по Америке. Но Джонсон отказывается. Он не доверяет белому агенту.
Но слава ему по душе. В марте 1919 года он сопровождает полковника Хейварда, командующего его подразделением, на представление, во время которого продаются облигации. Чуть позже он соглашается выступить в Сент-Луисе за 1500 долларов. Там при большом стечении публики должен был праздноваться вклад американцев в победу. Джонсон прежде всего требует себе гонорар, пока со сцены священник разговаривает с толпой. Он отмечает подвиги чернокожих солдат как начало новой эпохи в Америке, причем важной не только в военное, но и в мирное время. Он рисует картину будущего, в котором черные и белые американцы будут жить гармонично, признавая заслуги друг друга. Когда Джонсон, с орденом на груди, ковыляет по сцене, ликованию публики нет предела. В этот миг он кажется символом новой Америки. Он подходит к микрофону. Но уже с первых фраз каждому становится ясно, что Джонсон ни в коей мере не собирается поддержать гармонию общего благостного хора. Он хочет поделиться правдой о войне. И начинает рассказывать публике все, что ему довелось испытать с самого начала, с призыва: как плохо велось обучение, как не хватало обмундирования, сколько было презрения со стороны белых солдат, не хотевших сидеть в окопах рядом с чернокожими. На фронте, говорит он, тоже не было солидарности между белыми и черными. С солдатами из Гарлема обращались как с малоценной рабочей силой, пригодной для вспомогательных работ да еще в качестве пушечного мяса. Их допускали до передовой только тогда, когда ситуация для белых казалась слишком опасной. «Пошли этих негров на фронт, и тогда в Нью-Йорке их станет меньше», — слышал он из уст одного офицера. Накопившаяся ярость, воспоминания об унижениях и обидах хлынули потоком: «Да, я видел мертвых. Я видел такие груды мертвых тел, что если потом встречал живого, поверить не мог, что он настоящий».
Он считает себя героем, но не хочет быть лживым героем белых, и у него есть сомнения, что Америка поблагодарит его за его заслуги. «Если бы я был белым, то стал бы сейчас губернатором Нью-Йорка», — выкрикивает он в толпу. Чем дольше он говорит, тем более явным становится недовольство публики. Сначала раздается ропот, потом выкрики и свист. Когда Джонсон заканчивает, зал взрывается громом возмущения. Собравшиеся здесь чествуемые герои войны со всего города и священники пытаются угомонить толпу. Они приносят извинения за разгневанного оратора, пытаются разрядить обстановку.
Только после завершения всего мероприятия становятся слышны голоса, которые до этого в зале были почти неразличимы. На выходе Джонсона встречают громом аплодисментов и ликующими криками. К нему протягивают руки, его поднимают на плечи и проносят через весь город как трофей. Женщины осыпают его цветами и поцелуями. В зале он был предателем, но на улицах Сент-Луиса он — герой. На следующий день пресса обвиняет Джонсона в том, что он спровоцировал «расовые волнения» в Сент-Луисе.
Этому выступлению Джонсона суждено было стать последним большим публичным выходом на сцену. После того, как его освистали в Сент-Луисе, ни один устроитель мероприятий не хотел предоставить ему возможность выступать. Он перебивается случайными заработками. Боль в искалеченном теле и в израненной душе он начинает глушить алкоголем. В 1923 году от него уходит жена. С этого момента Генри Джонсон, Черная Смерть, остается один на один со своими воспоминаниями и обидами.
Один из последних концертов в ходе турне, которое Джеймс Риз Юроп провел по Северной Америке, состоялся 9 мая в Бостоне. Холод и дождь затянули все восточное побережье. Поскольку Бостонский оперный театр был занят, оркестру пришлось выступать в старом и продуваемом насквозь Механикс-холле на Хантингтон-авеню. Вот уже несколько дней, как Джеймс Риз Юроп чувствует нарастающие симптомы гриппа, но он полон решимости выполнить план выступлений этого успешного турне. Утром они отработали хорошо, и Юроп еще раз собрал все силы, чтобы сыграть вечерний концерт.
То, что происходит в этот вечер, описано в отпечатанной на машинке рукописи тенора Нобла Сиссла: концерт идет как надо до самого перерыва. Но когда музыканты покидают сцену, два ударника — Стив и Герберт Райт — отправляются прямиком в гардеробную к Джеймсу Ризу Юропу. Они разъярены, и Юроп пытается найти нужные слова, чтобы их урезонить. Тишина, после чего Герберт взрывается: «Я работаю на вас, и я стараюсь! Посмотрите на мои руки, они распухли, потому что я делаю все возможное, чтобы держать такт. Но Стив то и дело ошибается, а вы ему ничего не говорите». Герберт получает в ответ гору комплиментов, на которые сам только что напросился, и выходит, но вскоре возвращается к Юропу абсолютно вне себя. Он швыряет свой барабан в угол гардеробной и орет: «Я укокошу всякого, кто плохо со мной обращается, Джим Юроп, я укокошу тебя!» Все, замерев, смотрят, как Герберт достает из кармана перочинный нож. Юроп хранит спокойствие и хладнокровно говорит взбесившемуся ударнику: «Герберт, проваливай!» В это мгновение Райт кидается на Юропа и вонзает ему в горло нож.
Форменная рубашка Юропа пропитывается кровью, рану кое-как заматывают полотенцем и вызывают карету «скорой помощи». Лидер биг-бенда успевает отдать распоряжение, чтобы концерт доиграли до конца под руководством его ассистента: Сиссл должен следить и за тем, чтобы подготовка к следующему концерту прошла гладко. Мол, до того, как поднимется занавес на следующий день, он вернется назад.
Но этого не будет. Врачам не удается остановить кровотечение. Когда Нобл Сиссл после выступления приезжает в клинику, членов оркестра просят срочно сдать кровь для своего дирижера. Но через несколько минут выясняется, что даже это уже не может помочь. Джеймс Риз Юроп мертв.
Во время свадьбы Элвину Йорку становится ясно, что и у себя на родине в горах он тоже стал героем. Более тысячи гостей приходят на торжество и рассаживаются за самым длинным праздничным столом, какой деревушка Пэл-Мэл когда-либо видала. Люди со всей округи заботятся о том, чтобы столы ломились от жареной козлятины, свинины и индюшатины, яиц, маисовых лепешек, молока, варенья и пирогов.
Когда все гости разъезжаются, Элвин Йорк принимается за работу. Он понял, что отнюдь не слепой случай призвал его на войну и забросил в бескрайний мир, что он недаром выжил. Бывший пацифист пришел к убеждению, что в войне есть свой смысл. Однако это не тот смысл, который пытаются приписать войне политики и полководцы, а некий абсолютно личный смысл. Господь подверг его опасности и потом спас, чтобы внушить ему свое поручение: Йорк должен был увидеть смерть, чтобы понять, насколько ценна жизнь. Ему предстояло объехать весь мир, чтобы обнаружить, как узок и замкнут тот мир, из которого он родом. Он должен был уразуметь, как мало он понимает, и сделать из этого свои выводы.
Прежде всего Йорк отправляется в дорожное управление штата Теннесси и убеждает ответственных лиц построить дорогу в Пэл-Мэл. До сих пор он считал, что горы защищают жителей долины от опасностей мира. Теперь ему стало ясно, что из-за этого его земляки лишены многих веяний современной жизни. Дорога, строительство которой вот-вот начнется, должна положить начало установлению связи с миром.
Еще более значимым оказалось для Элвина осознание того, почему он так потерялся, когда покинул тесный мирок своей родины. Элвин Йорк прочувствовал на войне меру своего невежества и своей необразованности и хотел бы, чтобы детям в его местечке жилось лучше. Он собирает деньги на строительство новой школы и оплату новых учителей. Через несколько месяцев действительно появляются новые здания, учителя и учебные пособия. Элвин Йорк приглашает в свою школу окрестных детей, из которых многие не умеют ни читать, ни писать. Позже он собирается открыть еще профессиональное училище и библиотеку, построить детскую площадку, организовать медицинское обеспечение. Дети должны получать знания, они должны учиться, чтобы узнать, как прокормить себя квалифицированным трудом. И в один прекрасный день они изменят жизнь в горах: появятся дороги, современные дома, медицинские учреждения, электричество. Пусть им живется лучше, чем ему, потому что он чувствовал себя маленьким и глупым перед величием войны, перед многообразием людей, встреченных им на войне, перед Бостоном, Парижем и Нью-Йорком. Вот так он решил воплотить в жизнь то знание, которое открыл ему Господь во время войны.
В Веймарском княжеском дворце, где располагается правительство немецкой республики, Маттиасу Эрцбергеру удается снискать к себе еще большую нелюбовь, чем было и без того уже с момента подписания Компьенского соглашения. Хотя в январе 1919 года он избран депутатом Национального собрания от швабских земель и включен в качестве министра в состав кабинета Филиппа Шейдеманна, но его позиция на Парижских мирных переговорах вызывает сильное возмущение как во внутренних кругах немецких политиков, так и у немецкой общественности. Инициативы Эрцбергера, исходящие из реального положения дел, кажутся некоторым недопустимыми. Самое позднее с момента встречи с Фердинандом Фошем ему стало ясно, что Германия в мирных переговорах не может рассчитывать на послабления. То, что сообщают ему надежные американские источники из Парижа, подтверждает самые худшие его опасения. Похоже на то, пишет Эрцбергер в своих воспоминаниях, что Германия обречена на «вечную рабскую службу» державам-победительницам.
В мае 1919 года представителям германской делегации в Париже вручают условия заключения мира. Прихватив с собой этот документ, возлагающий всю вину за ведение войны на Германию, посланники едут в Веймар: «После того как стали известны вражеские условия заключения мира… это сначала вызвало какой-то ступор, но потом раздался крик возмущения по поводу нарушения торжественных обещаний учредить правовой мир на основе принципов Вильсона». Вопрос о том, как следует реагировать Германии на предложение Парижа, раскалывает веймарское правительство. Одна сторона, к которой принадлежит рейхсканцлер Шейдеманн, хочет громко заявить о том, что эти условия для Германии «неприемлемы» и рассматриваться не могут. В Национальном собрании канцлер высказался еще менее дипломатично: «Чья рука не отсохнет, налагая на нас такие кандалы?»
Эрцбергер, напротив, выступает за объявление условий «трудновыносимыми и малоосуществимыми». Он опасается, что слово «неприемлемые», хотя и вызовет в немецком обществе «мощное однодневное ликование», но за это через несколько недель придется заплатить высокую цену, если — в виду отсутствия политических альтернатив — подпись под мирным договором окажется неизбежной.
Эрцбергер бросает на весы весь свой политический вес и грозит отставкой, если мирный договор не будет подписан. В особом меморандуме он излагает причины, по которым он выступает за подписание: Германия абсолютно не в состоянии возобновить войну. С подписанием договора, по мысли Эрцбергера, улучшится экономическое положение и отступит голод. Только если Германия сегодня в Париже покажет свое благоразумие, завтра может возникнуть перспектива для обсуждения как репараций, так и роли Германии в мире, в частности в содружестве народов. В многодневных горячих дебатах с верхушкой государства Эрцбергер подчеркивает однозначность своей позиции: «Если кто-то, приставив мне револьвер к виску и заковав руки в кандалы, потребует от меня подписать клочок бумаги, согласно которому я обязуюсь за 48 часов вскарабкаться на Луну, то любой мыслящий человек, — чтобы спасти свою жизнь, — подпишет бумажку, однако открыто предупредит, что указанное требование невыполнимо».
Лица, принимающие политические решения в Веймарском дворце, находятся под сильным давлением, и не только со стороны правой прессы. Ночью накануне прибытия делегации из Парижа заключенные Веймарской тюрьмы устраивают побег и пытаются проникнуть во дворец. В последнюю минуту удается перекрыть ворота. Беглые узники открывают стрельбу из винтовок по окнам дворца. Пули попадают в спальни министров Носке и Бауэра, находящиеся прямо под комнатами Эрцбергера. При этом беглецы кричат, что всех министров надо повесить.
Девятнадцатого июня 1919 года Шейдеманн распускает рассорившийся кабинет, бывший министр труда Густав Бауэр формирует новое правительство, в котором Эрцбергер занимает пост министра финансов. Он осознает, что это одна из самых неблагодарных должностей во всей немецкой политической системе. Потому что, находясь в новой должности, он вынужден будет требовать у немцев деньги для выплаты репараций. До самого конца Эрцбергер надеется хотя бы на небольшое смягчение договора — так же как в Компьене ему удалось в последний момент выторговать послабления. Но в этой напряженной атмосфере бомбами взрываются две оглушительные новости.
Первая приходит с севера Европы, с Оркнейских островов, из гавани под названием Скапа-Флоу. Там находился под наблюдением держав-победительниц переданный им в ноябре 1918 года германский флот. Двадцать первого июня 1919 года в 11 часов утра командующий флотом, как и прежде, немецкий контр-адмирал Людвиг фон Ройтер отдает приказ своим офицерам затопить суда. Забортные клапаны открывают и затем уничтожают, водонепроницаемые переборки раздраивают и блокируют. Пока суда уходят на дно в спокойную воду, экипажи на спасательных шлюпках перебираются на близкий берег. Этим упрямым и своевольным приказом Ройтер реагирует на новости о содержании мирного договора и его предстоящем подписании. Если вновь разразится война, в распоряжении англичан уже не будет немецкого флота. Хуже момента просто нельзя было выбрать.
Вторая — с точки зрения Эрцбергера, катастрофическая — новость приходит из Берлина и со скоростью света распространяется по всему миру: в качестве реакции на новости из Версаля в столице бывшей Германской империи публично сжигают французские флаги, некогда завоеванные в ходе Франкопрусской войны 1870/1871 года. Получив эти сообщения, державы-победительницы заявляют, что время для принятия решения истекло. Германия должна немедленно подписать договор, в противном случае военные действия будут возобновлены немедленно.
Веймарское правительство перед лицом грозящей вражеской интервенции развивает вдруг лихорадочную активность. Разве не очевидно, что союзники первым делом совершат авианалеты на Берлин и Веймар? Одновременно до Эрцбергера доходят сигналы из офицерского корпуса, что рейхсвер не готов защищать правительство, если оно подпишет договор. На принятие решения остается менее двадцати четырех часов. Двадцать второго июня Национальное собрание наконец принимает решение согласиться на мир. Незадолго до этого ручную гранату кидают в окно, за которым, как полагают, находится спальня Эрцбергера. Нового министра финансов ради безопасности перевозят в другое место из этого веймарского адского котла.
После смерти Милана Луиза Вайс начинает свыкаться с потерей в свойственной ей манере: она с головой погружается в работу. С величайшей тщательностью готовит она номер «Л’Эроп нувель», посвященный мирному договору. Номер должен быть таким, каким его хотел бы видеть Милан. Ведь он был из тех, кто задает тон в новой Европе, которая, казалось, вот-вот появится. «Моя работа станет самой прекрасной, хотя и тайной надгробной речью Милану. Может быть, в один прекрасный день эта работа залечит мои раны?» Но Луиза Вайс — не наивный ребенок. Она прекрасно знает, погружаясь всецело в подробности дела, что люди, ставящие последнюю точку в переговорном процессе, не святые. Они борются за интересы своих стран, своих правительств и ради успеха готовы поступиться идеалами лучшего мира. В своих материалах она отражает и эти внутренние коллизии, которые с самого начала осложняли переговоры.
Любой ценой Луиза Вайс хотела добиться того, чтобы ей разрешили лично присутствовать в тот исторический момент, когда в Зеркальном зале, где почти пятьдесят лет назад прусский король Вильгельм I унизительным актом провозгласил Германскую империю, будет подписан мирный договор с этой Германской империей. Двадцать восьмого июня 1919 года Луиза Вайс садится в поезд, который из Парижа везет ее вдоль Сены в Версаль. Погода неустойчивая, белые облака, лучи солнца и редкие капли дождя то появляются, то исчезают над дворцом Людовика XIV, где — в знак уважения к проигравшим — не вывешены вообще никакие флаги.
Фердинанд Фош на церемонии не присутствует. Он не согласен с некоторыми ключевыми пунктами договора. Непростительной ошибкой он считает то, что Франция не сделала Рейн своей восточной границей. Нескончаемая вереница чествований, которые выпали на его долю после окончания войны, ни на йоту не изменила его позицию в отношении Германии.
Из протеста этот инженер общей союзной победы не появляется в Версале, хотя в договоре к главному врагу Франции — Германии — выдвинуты достаточно жесткие требования. Первый параграф договора устанавливал, что Германская империя несет единоличную вину за развязывание войны. В следующих пунктах договор предусматривал возврат Эльзаса и Лотарингии — Франции, а также расширение территории Польши за счет Западной Пруссии и Познани. Саарский бассейн и его угольные копи поступают под мандат Лиги Наций, в Рейнскую область вводятся оккупационные войска союзников. Профессиональная армия Германии ограничивается 100 тысячами человек. Возмещение ущерба противники Германии в войне получат в виде репараций, размер которых еще предстоит установить.
Луизе Вайс этот вариант мирного исхода кажется не шагом к примирению сторон, а продолжением войны другими средствами. Насколько нов этот новый мировой порядок, о котором так много говорят? Разве во всем мире не сохранилась прежняя политика интересов, нечестная возня вокруг влияния в колониях? Разве в задающем тон совете Лиги Наций за тайные ниточки дергают не все те же старые мировые державы? И разве эта неповоротливая конструкция, не оснащенная настоящими исполнительными органами, будет когда-нибудь в состоянии предотвратить войну?
«Зеркала играют свою привычную роль, повторяя в вечности одно и то же мгновение, в данном случае: эфемерные жесты управления миром». Представители Германского рейха, которым надлежало подписать договор первыми, вызывают у Луизы жалость. Учитывая рост немецкой экономики, им, этим «болванам», стоило лишь немного подождать, и лидеры Европы безо всякой войны кинулись бы к ним на поклон. Но и французского премьер-министра Клемансо, ведущего церемонию, ей жаль тоже. Несмотря на свой триумф, президентом он не станет никогда. Даже положение Вильсона вызывает у нее беспокойство. Во время войны, когда нужны были солдаты, к нему еще прислушивались. Но теперь его игнорируют вместе с его возвышенными планами и Англия, и Франция. Наконец, сочувствие Луизы Вайс распространяется и на английского премьера Дэвида Ллойда Джорджа. Разве он в данный момент не занимается отделением своего острова от континента, вместо того чтобы сделать его частью новой Европы?
В «сочувствии», которое ощущает Луиза Вайс, отражается неоднозначность мирного исхода: неприкрытая политика преследования собственных интересов со стороны победителей; шок проигравших, которым только сейчас суждено по-настоящему понять, что поражение будет иметь для них необратимые последствия; обманутые надежды всех тех государств, которые поверили в «право на самоопределение» по Вильсону. Разве не были в таком случае и победители в каком-то смысле проигравшими, даже те, кто получит репарации и сможет закрепить свои позиции мировой державы? И те и другие не сочли возможным отнестись друг к другу после завершения боевых действий в новом конструктивном духе равенства. Мечта о более справедливом и более мирном мировом порядке была принесена в жертву на алтарь государственных интересов. Сильных механизмов защиты мира не было выработано и после Версальского договора, зато остались тлеющие конфликты, из которых в будущем разгорится пламя новой войны.
Вирджиния Вулф с восторгом наблюдает, как на прилавки в первые же месяцы после заключения перемирия возвращаются товары, исчезнувшие ближе к концу войны: глазированные пироги, булочки с изюмом и горы сластей. Ассортимент по сравнению с довоенным пока еще скудноват. Послужит ли мирный договор верным признаком возвращения к нормальной жизни? Вулф упоминает версальские события в своем дневнике только вскользь, походя и с некоторым опозданием. Празднование окончания войны тоже мало вдохновляет писательницу; она сомневается в том, что «стоит ради этого так стараться». Праздничное шествие в своем родном городке Ричмонде, происходящее под проливным дождем, Вирджиния Вулф наблюдает из окна. Она чувствует себя «покинутой, пыльной и утратившей иллюзии». Только после обеда она собирается с силами, чтобы высунуть нос на улицу. Дождь тем временем прекращается. В ресторанчике на углу пьяные поющие пары кружатся в танце. С холма Вирджиния и Леонард Вулфы наблюдают фейерверк или, точнее говоря, то, что дождевая сырость от него оставила. «Красные и зеленые и желтые и голубые шары медленно поднимаются в воздух, лопаются, расцветают в ореоле огней, которые крошечными точками опускаются вниз и гаснут. <…> Красивое зрелище, когда они вот так поднимаются над Темзой, среди деревьев».
От праздничных мероприятий в Лондоне Вирджиния Вулф держится подальше. И отмечает только орнаменты из мусора в окраинных районах, остающиеся после торжественных церемоний. А еще служанки с восторгом рассказывают о своих приключениях на Воксхолльском мосту, где «генералам и солдатам и танкам и медсестрам и оркестрам потребовалось два часа, чтобы промаршировать мимо них. Они говорят, что это было самым грандиозным спектаклем в их жизни». На Вирджинию Вулф все это произвело впечатление «праздника посыльных; чего-то, что затеяли, чтобы удовлетворить и успокоить „народ“… В этих мирных радостях есть что-то заданное сверху и политическое и нечестное. Кроме того, они проявляются без какой-либо доли красоты и без малейшей спонтанности. Флаги там и сям. <…> Вчера в Лондоне обычная липкая, неряшливо скомканная масса людей, хитрых и тупых, как гроздь промокших пчел, ползущих через Трафальгарскую площадь, и пульсирующая туда-сюда по боковым улицам». Писательница чувствует себя крайне неважно со своим критиканством по поводу столь важного события. Но стоит ли делать хорошую мину при плохой игре, как на «детском дне рождения»?
В это время бывший кронпринц Пруссии влачит свои однообразные дни в голландском изгнании за кузнечными работами. Деревенский кузнец Ян Лёйт, посвятивший его в свое ремесло, был одним из первых, с кем потомок Гогенцоллернов познакомился на острове Виринген, где он провел на тот момент уже около полугода. Завязались также и первые дружеские отношения с семьей пастора, в доме которого был размещен Вильгельм. Кронпринц читает, немного пишет, купается в море, время от времени принимает гостей.
Отчетливое неприятие со стороны жителей острова, с которым принц столкнулся поначалу, постепенно смягчается. Кронпринц выказывает простонародные манеры, даже ходит в кломпах, голландских деревянных башмаках, и знает, что при входе в дом их полагается оставлять перед дверью. Скука — злейший враг Вильгельма, и злее ее только страх перед тем, что союзникам удастся добиться от Нидерландов его выдачи.
Тот факт, что бывший наследник германского трона здесь не на курорте, как все остальные, подтверждается интересом, который проявляют охотники за сувенирами к продуктам кузнечного мастерства Вильгельма. Сначала является некий американец, который платит кузнецу двадцать пять фунтов за подкову, которую выковал Вильгельм, снабдив ее вензелем «W». Кузнец тут же понял, что открылось новое поле деятельности и новый источник дохода; вскоре ему приходится по ночам тайком выковывать подковы с вензелем принца, чтобы удовлетворить растущий спрос. Принц, узнав об этом, только качает головой: «Люди неизменно готовы взращивать манию величия у таких, как мы, — даже если мы находимся вдали от ярмарки жизни, на маленьком зеленом острове в море. Раньше они собирали сигаретные окурки, которые я швырнул в сторону, а сейчас какой-нибудь сноб вышвыривает на ветер сумму, которая на родине помогла бы бедному человеку вырваться из нужды. <…> Меня не удивляет, что кое-кто из них стал таким, так и должно было случиться в конце концов!» Однако торговля сувенирами вновь порождает недовольство: как же так, разве можно допустить, чтобы избалованный сынок Гогенцоллернов, всю свою жизнь сидевший на горбе своих подданных, даже после свержения умудрялся обогащаться таким способом? Лишь позже всем становится известно, что выручка за подковы наполовину доставалась кузнецу, а вторая половина шла на поддержание нуждающихся семей в Вирингене.
В летний покой островов Северного моря грозой врываются известия о Версальском мире. Вильгельм в отчаянии от «версальского диктата», от условий договора, подобных «шпицрутенам», которые изготовила «слепая жажда мести. <…> Непомерные требования, которые невозможно выполнить как ни старайся, грубые угрозы, которые предусматривают немедленную удавку для тех, у кого не хватает сил. Ко всему этому глупость беспримерная — документ, увековечивающий войну, несуразность и горечь». Если же говорить о том, на что Версальский договор позволял надеяться, так это лишь на то, что изгнанник сможет снова вернуться на родину. Хотя кронпринц в ноябре 1918 года по собственному желанию уехал в Голландию, но решение о его возвращении зависит от доброй воли голландцев, а также от нового правительства Германии. Надолго ли он прикован к этому острову? И что ждет его на родине? Если смотреть на ситуацию трезво, новая власть будет терпеть его только в том случае, если он откажется от любой публичной роли.
Кэте Кольвиц благодарна маю 1919 года за предвестие весны и в отчаянии от предвестия мира: «Ласточки прилетели! Возвращаясь с заседания академии, я прошлась под липами. <…> Все было чудесно, небо пронизано светом, зелень еще нежна, кругом все лучезарно. Я снова ощутила, что Берлин — это родина, которую я люблю. Как давно уже я все это знаю… А что теперь, когда нам грозит этот чудовищный мир? Дворец еще даже не привели в порядок, балкон, с которого когда-то говорил кайзер, наполовину разрушен выстрелами, фасады повреждены ужасно. Символ разрушенного блеска». Новости из Версаля приносят в Берлин, где только начала устанавливаться мирная повседневность, очередную волну беспокойства. В мае через центр города снова начинают шагать толпы людей. Позиция властей никому не ясна. Идут демонстрации за и марши против принятия условий мира, диктуемых союзниками, и в этой ситуации раскола и эмоциональной взвинченности столкновения интересов неизбежны.
Берлинская художница не участвует в публичных выступлениях. Она пытается отразить опыт времени в искусстве: ее темы теперь — это утрата, смерть, горе и голод. Но эта работа дается ей несказанно тяжело. Раньше она могла часами предаваться одному и тому же занятию, вдохновенно погружаясь в творчество. Теперь она ощущает беспокойство, озабоченность, и каждое произведение кажется ей неудачным еще до того, как она его закончила.
Двадцать девятого июня 1919 года газеты объявляют, что новое правительство рейха подписало мирный договор. Как долго она с нетерпением ждала этого дня, и каким горьким он кажется ей теперь. «Как я раньше представляла себе этот день! Флаги на всех окнах. Я все время думала, какой флаг мне хотелось бы вывесить, и пришла к выводу, что лучше всего было бы вывесить белый флаг и на нем красными буквами написать: „Мир“. А на древке и на острие его должны висеть гирлянды и цветы. Потому что я полагала, что это будет мир взаимопонимания, и день его провозглашения станет днем „постижения истины в слезах“, днем плачущего счастья, что мир есть». Плакать ей сейчас и вправду хочется, но не от счастья.
Но ей ничего другого не остается, только продолжать свой труд. Ее мужу приходится приноровиться к возрастающему числу пациентов, из которых большинство страдает от нужды, а не от болезней. Жизнь должна продолжаться. Она приводит в порядок комнату своего погибшего сына, чтобы разместить в ней мать, больную деменцией. «Это такая печальная работа». В красном шкафу она находит его кисти для живописи, блокноты с эскизами, свидетельства его интересов, его жизни, его таланта. «Его комната была священной». Теперь она становится повседневной.
Со дня подписания мирного договора Маттиас Эрцбергер становится «самым ненавистным из всех немецких политиков», как сформулировал это его современник, богослов и философ Эрнст Трёльч. Коллекционер искусства граф Гарри Кесслер рассказывает, как однажды в поезде какой-то пожилой господин громко бранил Эрцбергера и грозил сунуть рейхсминистру финансов «пару гранат под дно вагона». Впрочем, самые разнузданные нападки принадлежат депутату от Народной партии немецкой нации Карлу Хельфериху, который публикует большую серию статей в консервативной газете «Кройццайтунг». В них он припоминает Эрцбергеру не только политические решения последних лет, но и упрекает в том, что он на высоких постах занимался личным обогащением. Эрцбергер, который, будучи министром финансов, должен подготовить сейчас самую масштабную финансовую реформу за всю немецкую историю, защищается, как может, от обвинений Хельфериха. Согласно трактовке последнего, он несет главную ответственность за «позорный мир», изображается как исчадие ада, средоточие всего негодного в новой республике, как «разрушитель рейха» и даже как «раковая опухоль». В августе 1919 года тирады Хельфериха выпускаются отдельной брошюрой под заголовком: «Эрцбергер — вон!»
Вскоре после подписания мирного договора Арнольду Шёнбергу на его квартиру в венском округе Мёдлинг приходит письмо от некоего господина Фромейжо из швейцарского городка Винтертура, который приглашает венских композиторов к участию в движении, ширящемся в Париже. Целью движения является восстановление того «интернационала духа», который был разрушен военной мобилизацией всех художественных и интеллектуальных сил. Ответ Шёнберга подробен и отличается тем циничным остроумием, с которым композитор высказывался всегда, когда что-то в корне противоречило всему его нутру, — а это бывало часто. С внешним дружелюбием Шёнберг в своем ответном письме выражает радость по поводу того, что движение примирения исходит от Парижа, ибо «именно оттуда с самыми агрессивными намерениями от начала войны и до самого ее конца, да и помимо войны, делалось все, чтобы уничтожить этот интернационал, особенно что касается Германии». Но только не так-то просто это восстановить. Нельзя делать вид, будто ничего не произошло, и выступать с обычным приглашением, которое выглядит почти как знаменитый «допуск» в Лигу Наций. Ибо кое-что с тех пор случилось! А случилось то… что Сен-Санс и Лало совершенно определенным образом высказались о немецкой музыке и «дурном влиянии, проникавшем из-за Рейна»; да и Клодель уже после объявления перемирия говорил о «бошах». Шёнберг допускает, что и в Германии кое-кто «не без греха». Но никогда и нигде никто еще не заходил так далеко, как это случилось в Париже. Он готов участвовать лишь в начинаниях таких интеллектуалов, которые не держатся за ошибки недавнего прошлого. Все остальные должны быть исключены «из сообщества, в котором может иметь место только одна война — война против подлости, и использоваться только один метод борьбы — умение отворачиваться». О месье Фромейжо Арнольд Шёнберг больше никогда не слышал.
Когда Луиза Вайс после подписания мирного договора в Зеркальном зале видит пустое помещение и в беспорядке сдвинутые стулья, ей становится ясно, что это не только конец света, но и для нее лично что-то кончается. Пережив эту весну, когда все надежды превратились в разочарования, она внезапно понимает, что не может себе представить дальнейшую жизнь в тесных комнатах редакции. Она хочет оставить Париж и собственными глазами увидеть Европу, о которой так много писала. Она хочет узнать всю планету и работать где и как угодно ради мира, в который она верит и в который верил Милан.
У Луизы Вайс почти нет сбережений, но это не может помешать ее планам. Ее ценят как журналистку, и у нее хорошие связи. Газета «Ле пти паризьен» ежедневно продает более миллиона экземпляров, ее открытая поддержка какого-нибудь политика может оказаться решающей на выборах. Луиза Вайс встречается и беседует с главным редактором газеты Эли Йозефом Буа, которому ее рекомендовал новый министр иностранных дел Чехии Эдвард Бенеш. Буа с недовольным видом поднимает глаза от заваленного бумагами письменного стола: «Чем я могу быть вам полезен?» Луиза Вайс понимает, что у нее мало времени и переходит прямо к делу: «Сделайте меня своей корреспонденткой в Праге, и “Пти паризьен”, которая здесь на первых местах, станет первой и там». Буа поднимается со стула и начинает ходить взад-вперед. Потом он берет ее за плечи: «Нет, это не обсуждается!» В места, где идут военные действия, он не может послать репортера в юбке. «Но у меня есть талант!» — парирует Луиза Вайс. Это главный редактор вынужден признать. Ну, так и быть, и да благословит ее Господь! «Но я ничего не могу вам обещать. Отправьте мне несколько статей. Если шефу понравится, я буду вас публиковать».
Большой парад Победы 14 июля 1919 года — последнее, что видит Луиза Вайс накануне отъезда из французской столицы. Войска союзников парадным строем проходят от Триумфальной арки по Елисейским Полям в направлении Лувра. Это апофеоз славы маршалов Жоффра и Фоша. Но Луиза Вайс испытывает стыд перед чернокожими солдатами из колоний, перед индийскими войсками, которые были призваны в Европу, чтобы убивать и умирать за дело, которое не было их делом. Она не знала как, но знала, что все должно измениться. Культивировать войну, «приводить ее в систему, ограничивать ее, ухаживать за ранеными, торжественно чтить убитых, „гуманизировать“ саму войну — ну что за комедия! Войну нельзя уважать. Она должна быть уничтожена».
Теплым августовским вечером Луиза садится в поезд на парижском вокзале Гар де л’Эст, направляясь в Прагу. Некоторые вагоны в поезде еще остались бронированными. У журналистки нет иного вооружения, кроме «тысячи пятисот франков сбережений, двадцати шести лет и ее веры». До вокзала ее никто не провожает. Не пришли даже родители, чтобы пожелать ей удачной поездки.
Двадцать первого октября 1919 года Вирджиния Вулф получает по почте шесть экземпляров своего романа «Ночь и день». «Разве я нервничаю? Нет, совсем чуть-чуть. Скорее волнуюсь и горжусь, чем нервничаю. Во-первых, вот он наконец вышел и довольно; потом я немножко почитала и мне понравилось; и тогда я поверила в то, что людям, чье мнение для меня хоть что-то значит, это тоже может понравиться; и вдобавок я знаю, что даже если это не так, я все-таки опять начну и напишу свою новую историю».
Первые отклики, которые доходят до Вирджинии Вулф в письмах, дают повод надеяться. «Бесспорно, это гениальное произведение», — пишет ее свекор Клив Белл. «Скажу честно, я обрадовалась; но не уверена, что все так, как он пишет. Тем не менее это знак: я права, что не боюсь». То, что в узких литературных кругах ее звезда начинает восходить, Вирджиния Вулф замечает еще и потому, что от заказов на рецензии ей уже некуда деваться… Она печатает двумя руками, разбирает иногда по роману в день, а руки у нее ноют, как от ревматизма. Появляются первые рецензии и на нее, почти сплошь хвалебные, но есть и обзоры, где ей ставят в упрек, что ее литературные занятия ниже уровня ее собственных запросов. Сможет ли она когда-нибудь перестать заниматься поденной работой ради хлеба насущного? Пока Леонард лечится от очередного обострения малярии, которой он заразился когда-то на Цейлоне, Вирджинии Вулф в очередной раз становится ясно, в какой полной мере ее вес «зависит от опоры на него (Леонарда)», писательница шаг за шагом фиксирует свой профессиональный взлет, сдабривая описание иронией и самокопанием. Позже у лорда и леди Сесил состоится ее «первое выступление в качестве маленькой знаменитости». Кроме сына хозяев присутствует также князь Антуан Бибеско и его супруга Элизабет, дочь бывшего премьер-министра Герберта Генри Асквита. Они хотят, наконец, познакомиться с романисткой, о которой все так много пишут. Наследница одного из лучших домов Англии не на шутку волнуется, когда они с Вирджинией Вулф уединяются в эркере, чтобы поболтать. Она не дает себе труда высказать остроумные замечания, хотя обладает в высшей степени натренированным умом, а одна ее тетка — тоже писательница. Она не отваживается возражать Вирджинии Вулф, как будто не желая связываться с «интеллектуалами». Вирджиния Вулф не может избавиться от приятного чувства превосходства. Похоже, это успех.
Той же осенью 1919 года Рудольф Гесс с тысячей фрайкоровцев добровольческого корпуса Росбаха отправляется в путь по направлению к Балтике, хотя имперское правительство в октябре 1919 года строжайше запретило дополнительным немецким соединениям участвовать в боях к югу от Балтийского моря, и министр рейхсвера Носке даже пригрозил расстрелом каждому, кто пересечет границу. Но нелегальные формирования это предписание игнорируют. Когда они подходят к восточным границам рейха, то направляют свои пулеметы на пограничные посты, а те в ответ отдают салют и пропускают солдат через заставы. Такое своевольное поведение позже приводит к роспуску добровольческого корпуса Росбаха, который затем продолжает существовать нелегально.
В Прибалтике группы фрайкоров примыкают к русским подразделениям и к отрядам прибалтийских немцев и имперских немцев, входящим в Западнорусскую освободительную армию. Они хотят сражаться против новоиспеченной республики Латвии и против русской революции. О боях в Прибалтике Гесс будет вспоминать до конца дней своих из-за чудовищных зверств по отношению к гражданскому населению, хотя он, разумеется, приписывает их исключительно противнику. «Схватки отличались какой-то дикостью и ожесточенностью, какой я не видел ни до того во время мировой войны, ни после во всех добровольческих боях. Фронта как такового не было, враг был всюду. И там, где дело доходило до столкновения, начиналась мясорубка вплоть до полного уничтожения». Гесс видел, как поджигали дома и как жители сгорали живьем. Картина выжженных домов и обугленных человеческих тел преследует Рудольфа Гесса до конца жизни. «Тогда я еще мог молиться — и молился».
6. Конец начала
Мы были больны Германией. Процесс перемен мы воспринимали как физические страдания… Мы всегда стояли в факельном свете взрыва, мы всегда стояли там, где происходил акт сжигания… И встав вот так меж двух порядков, старым, который мы уничтожаем, и новым, который мы помогаем созидать… мы стали беспокойными, бездомными, проклятыми носителями страшных сил, крепки своей жаждой вины.
Эрнст фон Саломон. Опальные, 1930Вальтер Гропиус
Памятник «Мартовским павшим», 1922
Двадцать шестого января 1920 года около 14 часов 30 минут Маттиас Эрцбергер покидает Земельный суд первой инстанции на площади Юстиции в районе Берлин-Моабит, где при большом стечении слушателей проходило судебное разбирательство по обвинениям, выдвинутым против него Карлом Хельферихом. Эрцбергер опускается на заднее сиденье своего лимузина, когда некий молодой человек вскакивает на приступку автомобиля и с близкого расстояния дважды стреляет в министра финансов. Одна пуля попадает Эрцбергеру в плечо, вторая отскакивает от цепочки часов. После секундного замешательства стоящие вокруг люди сбивают преступника с ног и хватают его. Эрцбергера, у которого из раны хлещет кровь, доставляют в больницу. Он остается в живых, но полученную травму, ощущение своей уязвимости, ему уже никогда не удается изжить.
Двенадцатого марта 1920 года в Земельном суде первой инстанции БерлинМоабит оглашается приговор по делу о клевете, которое Маттиас Эрцбергер возбудил против Карла Хельфериха. За оговор Хельферих обязан выплатить денежный штраф в размере трехсот марок. Однако настоящим потерпевшим в ходе процесса является Хельферих, поскольку суд устанавливает, что упреки, которые выдвинул Хельферих против Эрцбергера, по большей части не лишены оснований. Таким образом, Эрцбергер оказывается политиком, который из собственного положения способен извлечь выгоду для себя и близких к нему предпринимательских кругов. Эрцбергер решает оставить свой пост, пока новое судебное разбирательство не проверит правомочность обращенных к нему претензий. Его временная отставка стала праздником для правой прессы. Кэте Кольвиц тоже верит, что «Эрцбергер, кажется, и вправду мошенник».
В пору, когда заканчивается лето 1919 года и история движется к началу 1920 года, мы покидаем «Волшебную страну времен перемирия», по выражению Эрнста Трёльча, мы покидаем ядро кометы, в мареве которой рождались и гасли видения. Судя по сообщениям в многочисленных дневниках, письмах и мемуарах, после подписания Версальских мирных документов настрой меняется. Постепенно будни вступают в свои права. Правда, это будни, полные неуверенности, а порой и опасностей, особенно в тех странах, где окончание войны принесло с собой глубокие перемены. Кажется, что тяжелые времена никогда не прекратятся. Все отчетливее просыпаются теперь черные надежды — разрушительные, преисполненные ненависти мечты и планы, осуществить которые можно лишь, вновь и вновь прибегая к насилию. Тоталитарные идеологии, грозящие друг другу уничтожением, поднимаются в свой полный, смертоносный рост. Эпоха чрезвычайных событий стучится в дверь.
«Переворот… убитые — неразбериха и страх». В марте 1920 года Альма Малер приезжает в Веймар к своему пока-еще-супругу Вальтеру Гропиусу. Она останавливается в отеле «Элефант», из окна которого она 13-го числа невольно наблюдает тревожные сцены: «Передо мной рыночная площадь, сумерки, невероятное возбуждение. Молодых бойцов в прусских шлемах из партии Каппа встречают плевками рабочие. Они стоят не двигаясь. Толпа ревет». В Веймаре, в штаб-квартире Национального собрания, она может совсем близко наблюдать попытку путча против молодой республики. Не только здесь, но и в Берлине контроль над городом берут в свои руки отряды фрайкоровцев. Военно-морская бригада Эрхардта прибыла в бывшую столицу, многие солдаты белой краской нарисовали на шлемах свастику. Имперское правительство под руководством Эберта принимает решение бежать из города, одновременно призывая ко всеобщей забастовке. Один из предводителей путча, чиновник администрации Вольфганг Капп, избран путчистами в рейхсканцлеры.
Из окна отеля «Элефант» Альма Малер видит также бесплодные попытки одного парламентера от правительства наладить диалог между правыми путчистами и левыми протестующими демонстрантами. Наступает ночь: «Ни огонька. Масса людей во мраке производит еще более жуткое впечатление, чем днем. Там и сям вспыхивает спичка, зажигая сигарету. <…> Страх перед разбоем и грабежами сидит у нас в гортани. Мы не решаемся говорить громко». Никто открыто в эти дни о своих взглядах не заявляет. Альму Малер за ее «еврейскую любовь» к Францу Верфелю осыпает бранью Василий Кандинский, которого чуть позже приглашают преподавать в Баухаус. Кандинский и его жена «обзывали меня еврейской прислужницей и далее в таком духе». Парадоксальным образом это случается именно с Альмой Малер, которая — в точности, как и Вальтер Гропиус, — не скрывала своей неприязни к еврейству и в то же время была не только со многими евреями дружна, но на протяжении своей жизни за двумя из них — Густавом Малером и Францем Верфелем — была замужем.
Уже на следующий день начинается всеобщая забастовка, самая большая за всю немецкую историю; чтобы ее действие было понятно, вот пример: «Каналы не очищаются, мерзкий запах висит над улицами. Воду приходится доставлять издалека. Но самое ужасное, что рабочие не дают похоронить мертвых. Студентов, которые ночью тайком пробирались к кладбищенской стене, где просто сгружали трупы, прогоняли превосходящие силы рабочих, которые там дежурили. И так трупы лежали незахороненными на улице несколько дней. Сегодня проходило захоронение тел павших в борьбе рабочих. Процессия шла под моим окном. Бесконечные ряды транспарантов с лозунгами: „Да здравствует Роза Люксембург“, „Да здравствует Карл Либкнехт!“ Баухаус присутствовал в полном составе, и Вальтер Гропиус, заметивший в колонне нескольких министров, сожалел, что поддался на мои уговоры и не настоял на моем участии. Я же хотела только, чтобы он не терял от политики голову. Убитых офицеров закопали, как паршивых собак. А они ведь тоже были всего лишь наемными рабами. Да, мир полон „справедливости“». Через пять дней, когда Вольфганг Капп уже бежал в Швецию, путч проваливается. Сдержанности не хватало не только населению, но и прежде всего государственному аппарату. Но мартовские дни в Германии показали, что о революции мечтают не только левые. Революционная энергия, чувство сопричастности общей идее, сила строго скоординированного движения, мобилизация масс, желание все перевернуть — все это обнаруживается на обоих полюсах политического спектра, в точности, как и убежденность в том, что безжалостное насилие может служить средством уничтожения противника. Так или иначе, Веймарская республика выдержала еще одну пробу на прочность, но ей не суждено было стать последней.
Кэте Кольвиц находится в Берлине, когда происходит путч против Веймарской республики: «Теперь в борьбу вступила контрреволюция. Сегодня верные королевской власти войска под черно-бело-красными флагами начали наступление от Деберица. Правительство в бегах, административные здания в осаде, „Форвертс“ и „Фрайхайт“ под запретом. На улицах люди собираются стайками, все как громом поражены. Как всё теперь будет? Снова март, беспокойный месяц!» Художница живет в страхе перед новыми «братскими битвами». «Свинцом легло мне все это на грудь, когда я об этом услышала, ужасно тяжело».
Через несколько дней она разговаривает с Хеленой, молодой женщиной из дружеского окружения. Редко ей доводилось с такой ясностью, так открыто обсуждать с молодым поколением разломы в общественной жизни. Хелена не относится к той части молодежи, которая тут же впадает в состояние восторга, как только старая империя рушится в войне и революции. Она жалеет, что в такие неспокойные времена у нее нет мужа и детей. Она воспринимает все с чувством неизбежности, хочет, чтобы ею управляли, возможно, хочет отправиться в путешествие, стать игрушкой в руках времени. «Редкая девушка ее поколения способна разбередить мою душу так сильно, как она, — записывает Кольвиц в дневник. — Как по-разному пытаются все проложить дорогу по сложной, судорожной сегодняшней жизни». Для нее, пожилой женщины, это так и есть, но, по крайней мере, думает она про себя, у нее есть воспоминания о лучшей жизни. Война сделала Кэте пацифисткой, разразившаяся революция породила теплящуюся надежду на новую Германию, в равной мере социалистическую, республиканскую, но и гуманную, более справедливую. Но от этого теперь ничего уже не осталось: остается лишь тоска по прошлому.
Новость о Капповском путче разрушила все надежды бывшего кронпринца Вильгельма на предстоящее возвращение. В начале 1920 года в немецкой политике, казалось, все упокоилось настолько, что его присутствие в качестве частного лица в Германском рейхе могло в принципе рассматриваться. Но с новостью о путче мечта лопнула. Это грандиозное разочарование, хотя кронпринц мог бы подобное предполагать. Ведь для правых он, как и раньше, оставался символической фигурой. Как иначе объяснить тот факт, что кукловоды Капповского путча еще задолго до попытки мятежа наладили с ним связь? Они прозондировали почву на случай, если путч удастся: готов ли он тогда возглавить восстановленную германскую монархию? Вильгельм — как и путчисты — был убежден в том, что республика — непригодная форма правления для Германии. Он верил, что должен существовать центр стабильности, который выше партийных дрязг, и это король или кайзер. Кроме того, он считал себя — в большей мере, нежели его отец, — способным придать монархическому государству новое лицо и новую легитимность. Но в то же время, с учетом опыта войны и революции, было ясно, что новую монархию нельзя создать против воли народа. Такой ясный ответ он и дал заговорщикам, наверняка втайне надеясь, что их плану не суждено воплотиться в реальность.
Союзники и голландская сторона, принимавшая Вильгельма, оценивали политический риск, в случае возвращения принца в Германию, как очень серьезный. Это была конкретная опасность, тем более что не затихали слухи о планах бегства принца — на корабле, на подводной лодке или на самолете. Когда новость о Капповском путче добралась до Европы, у побережья Вирингена поставили на стоянку торпедную подлодку. Во время мятежа в Берлине команда подлодки действительно берет под прицел приближающийся самолет, и в результате самолет падает. Позже, правда, выясняется, что самолет был нидерландский, и, таким образом, он попал под «дружеский обстрел».
Утрату надежды на скорое возвращение кронпринц воспринимает как «пору жесточайших испытаний в своей жизни».
Узнав о путче, бывший наследник трона другими глазами смотрит на небольшой сад возле дома, где он коротает свои дни изгнанника. До сих пор он вообще не заботился о маленьком кусочке земли, и там буйствовала сорная трава. Так что первые лучи весеннего солнца падают на спутанные ветви и неухоженные грядки. Теперь же, когда он знает, что ему здесь, возможно, придется провести еще годы, Вильгельм ощущает необходимость возделать свой сад. Он берет лопату и вонзает ее в землю до тех пор, «пока поясницу не разломило».
Двадцатого марта 1920 года Теренс Максвини узнает, что один из его ближайших соратников, старинный друг Томас Маккуртан, казнен силами специального назначения. Ранним утром к нему в дом ворвались люди с измазанными сажей лицами. Они схватили жену Маккуртана, а сами открыли огонь по тому, кого искали, — ровно в день его тридцатишестилетия. Изрешеченный пулями, лорд-мэр Корка рухнул с лестницы — и отошел в мир иной.
Максвини становится его преемником. Он знает, что отныне еще больше обращает на себя внимание, чем прежде, и что ему не миновать участия в акциях возмездия, которые готовит движение сопротивления против убийц Маккуртана. Это и есть, как позже устанавливает Майкл Коллинз, начало «дьявольского круга, смертельных гонок», в которых борцы за ирландскую независимость сражаются не только против британцев, но и против ирландцев, верных Англии.
Десятого апреля 1920 года Вирджиния Вулф записывает в своем дневнике: «Планирую начать работу над „Комнатой Джейкоба“». Теперь наконец должен появиться роман, который будет соответствовать установленным ею самой высоким канонам «современного романного искусства» — роман, который ухватывает суть жизни по-настоящему. В специально начатой по этому случаю записной книжке она уточняет: «Главное, я думаю, он должен быть свободным». Под этой фразой она записывает эскиз первой сцены романа, в которой читатель знакомится с главным героем, Джейкобом, в детском возрасте. Джейкоб с матерью и братом на курорте. Ребенок рвется к песку и морю, ракушкам и крабам — к неудовольствию матери, которая в беспокойстве, огорченная поведением сына, ищет его вместе с братом. Уже на фоне пляжной идиллии возникают зловещие предзнаменования: шипящие волны, черные скалы, белый череп мертвой овцы. В ходе повествования жизнь Джейкоба разворачивается как нескончаемая череда ограничений, налагаемых семьей, воспитательными учреждениями и армией. Наконец, в 1914 году след молодого человека, фамилия которого не случайно «Фландерс», теряется на полях Первой мировой войны. В заключительной сцене романа мать скорбит о нем в его пустой прибранной комнате, где о существовании Джейкоба свидетельствует только пара старой обуви. Всю жизнь ему не хватало пространства, места, разбега, и те разнообразные «помещения», которые он на протяжении своей короткой жизни обживал, были для него тесными тюрьмами. В конце концов они его пережили.
Седьмого марта 1920 года Фейсал I коронован в Дамаске и становится королем Сирии, после того как сирийский Национальный конгресс объявил независимость арабской монархии. Но к этому часу информированные наблюдатели уже знают, что окно надежды, распахнувшееся было для независимого сирийского государства на краткий срок после парижского единения, теперь снова начинает захлопываться.
Томас Эдвард Лоуренс уже вскоре после того, как отправляет приподнятое письмо британскому премьеру, осознает, что все его надежды были призрачными. После отъезда из Парижа он по большей части пребывает в родном Оксфорде. Но мать, у которой он живет, волнуется за состояние сына. После тягот войны и беспокойств мирного времени Лоуренс все чаще впадает в некое элегическое состояние. После завтрака он неподвижно и без малейших изменений в лице сидит на одном и том же месте. В колледже Всех Душ он неизменно читает длинную поэму Чарльза Монтегю Даути под названием «Адам нынче изгнан». Речь идет об изгнании Адама и Евы из садов Эдема.
Неустойчивое состояние Лоуренса усугубляется еще и тем, что после смерти отца мать посвятила его в доселе свято оберегаемую семейную тайну. Он узнает то, о чем раньше подозревал: что его отец был не тем, за кого он себя выдавал. Его настоящее имя было Томас Роберт Тайг Чапмэн. Чапмэны были семьей из кланов англо-ирландского дворянства, с обширными владениями под Дублином. Как наследник рода, отец еще в молодом возрасте мог претендовать на безбедное будущее. Он женился на Эдит Саре Гамильтон, которая, со своей стороны, также происходила из хорошей семьи, и прижил с ней четверых дочерей. Однако брак не был счастливым. Супруга с религиозным рвением старалась содержать дом в праведности, а Чапмэн стал прикладываться к бутылке. Отец семейства становился все более брюзгливым, и лицо его светлело лишь тогда, когда в комнату входила няня детей, шотландка Сара Лоуренс. Между ними началась любовная связь, и в 1885 году служанка забеременела. Чапмэн попытался скрыть дело, сняв для Сары и новорожденной дочки комнату в Дублине, где он ее постоянно навещал. Но когда жена узнала об измене и о внебрачном ребенке, она предложила ему сделать выбор. Решение далось Чапмэну нелегко, но в конце концов он все-таки покинул благородный дом и начал простую жизнь с бывшей служанкой, происходившей из низших слоев общества. Официально родители никогда не поженились, жили непризнанно и скромно в разных местах, и у них родилось девять детей, из которых шестеро достигли совершеннолетия. Одним из них и был Томас Эдвард Лоуренс, который в 1919 году наконец-то понял, почему его отец редко работал, предпочитал охоту, свободно говорил по-французски и вообще был широко образован. Теперь Лоуренс видит источник своих внутренних противоречий в том обстоятельстве, что он одновременно был дворянским отпрыском и бастардом.
Пока он пребывал в этом состоянии, его настигли шокирующие новости с Ближнего Востока. Судьба королевства Сирия решается на заседаниях конференции в Сан-Ремо в апреле 1920 года, где устанавливается структура правления в восточной части Средиземноморья. Инструментом для этого является так называемая «система мандатов», которую вводит новоиспеченная Лига Наций. В итоге система эта представляет собой компромисс между сформулированным Вильсоном (и взятым на вооружение многими народами мира) требованием национального самоопределения и властными амбициями великих держав. С одной стороны, тем самым теперь запрещается простая дележка колоний рухнувших империй между победителями в Первой мировой войне. С другой стороны, и независимости эти колонии не получают. Им приходится под патронатом Лиги Наций постепенно набирать «зрелость» для самостоятельного существования в будущем. Для контроля над соответствующими странами Лига Наций выдает так называемые «мандаты», выполняемые отдельными государствами: мандат для Сирии и Ливана должна получить Франция. Великобритании вручается контроль над совсем другими территориями — Палестиной и Месопотамией, будущим Ираком. Франция не скрывает, как она собирается реализовывать свою функцию защитника. Вскоре после принятия резолюций в Сан-Ремо она начинает интервенцию в Сирии и нападает на недавно образованное арабское государство, которое, с точки зрения международного сообщества, нелегитимно. В битве при Майсалуне Франция одерживает решительную победу. Только что коронованный король Фейсал лишается трона и бежит в Великобританию. Так выглядит стратегическая расстановка сил на Ближнем Востоке, сложившаяся под воздействием взаимоисключающих надежд и интересов и сохраняющаяся до наших дней. И если у Томаса Эдварда Лоуренса еще оставались надежды на воплощение арабской мечты, то в тот момент они рухнули окончательно.
Тем временем на голландском острове Виринген настало лето. Вильгельм Прусский остается пленником острова и иеремитом-затворником у себя в хижине. В вялотекущий ритм летних знойных будней врывается новое горькое известие из родного Потсдама: младший брат Вильгельма Иоахим покончил с собой на вилле Лигниц, находящейся в дворцовом комплексе парка Сан-Суси. После провала Капповского путча принц, и без того склонный к депрессиям, утратил последнюю надежду на возвращение к власти династии Гогенцоллернов и больше не видел впереди будущего, ради которого стоит жить. Восемнадцатого июня 1920 года он направляет на себя револьвер и наносит тяжелое ранение, от которого вскоре умирает. Вильгельм, однако, проанализировав свои ощущения, приходит к выводу, что даже такое страшное известие не умаляет его желание жить. Даже в условиях теперешних обстоятельств жить все равно лучше, чем от всего отказаться. И ведь даже после краха и установления республики потеряно не все, что у Гогенцоллернов когда-то было. У семьи осталась солидная часть прежних владений, а в глубине души по-прежнему теплится искорка надежды на иные времена. А вдруг революция 1918 года была не последней?
В августе 1920 года ближайшим соратникам Теренса Максвини становится ясно, что у нового лорд-мэра Корка запас сил на исходе. Работа в независимом ирландском парламенте, неустанное участие в жизни родного региона и постоянный страх перед арестами и покушениями измотали его. Он уже много месяцев не спал в собственной постели. Перед его бюро ИРА выставила охрану. Для дочери Майры он давно уже превратился в голос из телефонной трубки; малышка с восторгом тянется к аппарату всякий раз, когда тот звонит. Но угрозы подступают все ближе. Наконец до Максвини доходит даже слух о его собственной смерти. Врачи советуют ему взять отпуск.
Но этому уже никогда не суждено случиться. Двенадцатого августа 1920 года армейские подразделения, несколько сотен человек, начинают осаду городского концертного зала Корка, где находится офис Максвини. Он пытается скрыться через черный ход, но, когда выходит из здания, его арестовывают и доставляют в казармы «Виктория». Там у него отбирают личные вещи и якобы находят дешифрующие коды местной полиции. Это рассматривается как доказательство его нелегальной активности. Чуть позже Мюриэл Максвини видит своего мужа в кузове армейского грузовика, который должен доставить его в военный суд. Мюриэл слышала от вышедших на волю бойцов ИРА, что ее муж сразу после ареста начал призывать сокамерников к голодовке. Она знает его достаточно хорошо, чтобы не сомневаться: сам он с тех пор — вне зависимости от того, последовали ли остальные его примеру, — отказывался от любой еды. Для нее было ужасным испытанием смотреть на его осунувшееся лицо и не иметь возможности ему помочь. Даже если бы она кинула ему кусочек хлеба, он не стал бы его есть. «С того дня, когда я услышала, что мой муж объявил голодовку, я думала, что он умрет».
Шестнадцатого августа 1920 года под пристальным вниманием ирландской и британской прессы открывается процесс против Теренса Максвини, который стал тем временем знаменитой фигурой. Во время перерывов на процессе Мюриэл может коротко поговорить с ним по-ирландски. Хотя голодовка уже через пять дней явно пагубно сказывается на его силах, воля его кажется несгибаемой. Когда он встает со стула, чтобы ответить на обвинения, то он без тени страха возражает судьям и ясно дает понять, что весь процесс против него незаконен. «Ирландская республика существует», — гласит его кредо, а посему представители старого ирландского режима пусть даже не пытаются устраивать процессы над представителями республики.
Когда оглашают приговор, два года тюрьмы, Максвини снова подает голос: «Что бы там ваше правительство ни решило, а через месяц я буду свободен». Он сам определил условия своего содержания в тюрьме, когда за пять дней до суда начал голодовку, и тем самым установил конец своего пребывания там.
Восемнадцатого августа 1920 года Мойна Майкл видит в газете «Атланта конститьюшн» заметку, которая может переменить ее жизнь. Со времени ее отъезда из Нью-Йорка и первых успехов ее проекта «Маки поминовения» прошло уже полтора года. Но несмотря на неустанные усилия и предприимчивость дизайнера Ли Кидика, вложившего немало денег в национальную рекламную кампанию, маки не расцвели. Мойна Майкл близка к тому, чтобы отчаяться и посвятить себя не ветеранам войны, а исключительно только своей профессии.
Но газетная заметка дает новую надежду. Она до сих пор не знала, что американские ветераны, еще будучи на французской земле, организовали Американский легион. Из газеты Мойна Майкл узнает, что подразделение легиона от Джорджии проведет свою встречу в Аугусте, — в каких-нибудь ста милях от ее родного городка Атенса, — и надежда вновь забрезжила! Она не колеблется ни секунды, берет с собой полный ящик матерчатых маков, а также иллюстрацию со стихотворением Джона Маккрея, которое когда-то вдохновило ее, и спешит в Атланту, где как раз готовятся к отъезду трое уполномоченных от Американского легиона. Одного из них ей удается убедить в том, чтобы внести в повестку дня предстоящего заседания подготовленную ею резолюцию.
Последующие дни Мойна Майкл проводит в величайшем напряжении, пока наконец не узнает оглушительную новость из Аугусты: подразделение Американского легиона от Джорджии объявило цветок мака официальным символом памяти жертв Первой мировой войны. Помимо этого, съезд постановил вынести на ближайшее заседание Национального конгресса предложение о том, чтобы цветок мака признали символом всех действий Американского легиона по всей стране. Тут же были переброшены мосты и на другие берега. Потому что на заседании присутствовала француженка Анна Герин, основательница Американо-французской детской лиги. Она еще с конца войны собирает в США пожертвования в помощь детям разоренных областей Франции. Анна Герин по достоинству оценила возможности этой кампании. По ее инициативе французские дети начинают мастерить значки с красными маками, которые потом продают в Америке. Выручка направляется во Францию нуждающимся детям.
Анна Герин в глобальном масштабе добивается успеха начатого Мойной Майкл дела. На следующий год продавать маки в Лондоне она направляет французских женщин. Кроме того, она уговаривает Дугласа Хейга, главу Королевского Британского легиона, приобщить к новому символу и британцев. Наконец, через посредников ей удается задействовать для распространения цветка с боевых полей Фландрии доминионы Британского содружества, сначала Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Вскоре большинство стран англоязычного мира, по крайней мере в рамках ноябрьских празднеств, проходивших ежегодно начиная с 1921 года, уже объединены символом мака. Мечта Мойны Майкл, которую она лелеяла с ноября 1918 года, обратилась в реальность. Победное шествие «мака поминовения» началось.
Теренса Максвини через Уэльс перевозят в Лондон, в Брикстонскую тюрьму, где он как заключенный № 6794 содержится в тюремной больнице. После целой недели голодовки, когда он пил только воду, путешествие далось ему нелегко. Почти сразу после его прибытия одна из газет пишет, что он вряд ли сумеет пережить следующую ночь. Тюремный персонал без устали приносит ему в больничную палату самые вкусные блюда. Но Теренс Максвини к ним не прикасается. Большую часть времени заключенный проводит в постели, экономя силы. Он хочет оставаться в живых как можно дольше. Ибо, с одной стороны, есть надежда, что английское правительство дрогнет; с другой стороны, он надеется, что таким образом внимание к его случаю в прессе будет приковано дольше.
Но голод начинает требовать свою дань. Кожа у Максвини крайне чувствительна и начинает трескаться в некоторых местах. У него появляются боли в суставах, а сами суставы распухают; организм тем временем, чтобы чем-то питаться, съедает мышечную массу. Призывают священника, чтобы помолиться вместе с заключенным и совершить помазание ослабевшего тела.
Но ирландец оказывается гораздо выносливее, чем предполагали врачи. Через четыре недели после ареста он по-прежнему еще жив, и каждый день начинается с очередных крупных заголовков в ирландских, английских и североамериканских газетах. Майкл Коллинз, боец ИРА, прямо в Дублине готовит освободительную операцию. В это время очевидцы сообщают, что тело Теренса Максвини уже почти совсем неподвижно. Экономя последние силы, он говорит только самое необходимое, борясь за каждый день жизни. Одна за другой к королю Георгу V поступают петиции, призывающие его воспользоваться правом помилования. Но британское правительство ничего о подобных шагах и слышать не хочет. Это не первая голодовка ирландского борца за свободу, и если Британия пойдет на уступки, то может показаться, что ею можно манипулировать. Потому что Максвини ясно дал понять, что закончит голодовку только в одном-единственном случае: при немедленном освобождении из тюрьмы. И тем не менее правительство озабочено не столько судьбой отдельного человека, посвятившего всю свою жизнь борьбе с империей, сколько ситуацией в Ирландии. Авторитетные мнения склоняются к тому, что в случае смерти Максвини весь юг Ирландии перейдет к открытому восстанию, а лорд-мэр Корка превратится в мученика на знаменах этого движения. В начале сентября уже собралась процессия из четырех тысяч дублинских рабочих, чтобы присутствовать на церковной службе в честь лорд-мэра Корка. С другой стороны, следовало опасаться и того, что в случае освобождения героя преданные Англии силы правопорядка Ирландии потеряют веру, прекратят борьбу за корону и империю и могут даже влиться в силы вооруженного протеста. Но вот в середине сентября состояние Теренса Максвини оказывается настолько тяжелым, что поддержать его жизнь невозможно даже с помощью принудительного питания, как это делали в случаях прошлых голодовок.
Одиннадцатого октября 1920 года после мучительных лет отчуждения и долгих месяцев, пока длились переговоры между адвокатами, развод Вальтера Гропиуса и Альмы Малер становится наконец-то официальным. Чтобы обеспечить суду убедительное основание для принятия решения и ускорить ход дела, была искусственно сымитирована супружеская измена. В логике, совершенно противоположной истинному положению дел, нанятый исключительно с этой целью частный детектив дает показания о том, что застал Вальтера Гропиуса с его любовницей в гостиничном номере, так сказать, на месте преступления. Суд охотно вводится в заблуждение, и таким образом этот многолетний брак-война, существовавший в основном на бумаге, перестает существовать.
Развод, который означает в том числе и потерю права растить общую дочь Манон, оставляет в душе Вальтера Гропиуса горькие следы. Хотя он между делом успел завести платонические отношения c одной молодой замужней художницей, он остро чувствует одиночество и страдает от резких перемен настроения. В письмах он вновь называет себя «падающей звездой»: «Я снова раскинул во вселенной длиннющий шлейф и взмыл в космос на несколько эонов дальше. Так я гарцую между опасностями всю свою жизнь, которую я то и дело ставлю на карту, и она протекает меж двух зарядов динамита. Я между тем уже десять раз взорвался, но ошметки души каждый раз остаются невредимы, и сила их даже прибывает. Между тем я развелся со своей женой в разгар любви. <…> Теперь я еще больше, чем когда-либо, кочующая звезда на небосклоне и безбрежно тону в стихии женского начала».
Одновременно Баухаус требует от Гропиуса всего его внимания. Он колесит по республике, собирая пожертвования на строительство кампуса. Основы школы искусств еще только закладываются, а уже ощущается сильная внутренняя напряженность. К примеру, один из преподавателей, приглашенных в Баухаус, швейцарский художник Иоганнес Иттен, собирает вокруг себя кружок преданных учеников. Он ведет себя как носитель особого знания и вплетает в художественную работу учение Заратустры. Своим ученикам он предписывает строго размеренный образ жизни, чесночную диету, медитацию и эвритмию. Они должны брить затылки и носить придуманную им монашескую рясу. Сопровождаемый своими апостолами, он претендует на то, чтобы в ущерб позициям других преподавателей стать определяющей фигурой Баухауса. Дело доходит до выяснения отношений. Гропиусу приходится признать: «Исполненная еврейского духа группа Зингер-Адлер слишком много о себе возомнила и, к сожалению, заморочила голову Иттену. Похоже, они хотят взять в свои руки весь Баухаус. По понятной причине арийцы начали возмущаться». «Евреи» против «арийцев» — и это в передовом Баухаусе! На этот раз Гропиусу удается избежать конфликта.
В начале октября 1920 года, когда Теренс Максвини преодолел шесть недель голодовки, его сторонники уже готовы были поверить в чудо. Противники подозревали, что ему тайно доставляют еду. Но, как свидетельствуют врачи, его подкладное судно всегда пусто. И хотя его физическое состояние необратимо, он пока еще жив, может немного двигаться, и разум его абсолютно ясен. Так что опыт расставания тела с этим миром он ставит на себе осознанно. На спине у него появились отечности. Сердце стало биться слабее. Максвини жалуется на покалывание и зуд в руках; кроме того, врачи находят у него туберкулез.
Семнадцатого октября 1920 года, когда позади шестьдесят один день без еды, до Теренса Максвини доходит известие, что один из соратников, схваченных одновременно с ним и тоже объявивших голодовку, скончался. В Ирландии массово начинаются вооруженные столкновения между борцами за независимость и полицией и растет число смертельных жертв с обеих сторон.
Теренс Максвини все чаще впадает в состояние делирия, и ему кажется, что врачей используют для того, чтобы вливать в него подкрепляющий бульон. Вечером 24 октября 1920 года, на 73 день голодовки, его брату Шину и священнику разрешают провести ночь в тюрьме. Когда они на следующий день рано утром подходят к постели Максвини, тот лежит неподвижно, без сознания, с открытыми глазами. Священник шепчет ему на ухо молитвы. Врачи пытаются реанимировать больного с помощью инъекции стрихнина. Но истощенное тело больше не отзывается ни на что, и через несколько минут слабое дыхание окончательно исчезает. Последняя фраза Максвини, по свидетельству присутствовавших, была: «Вы должны подтвердить, что я умер как солдат республики Ирландия. Да хранит Господь Ирландию!»
Смерть лорд-мэра Корка эхом пронеслась по всему миру. Во многих городах Северной Америки, в Париже и Белфасте прошли демонстрации в его честь. Он был похоронен на кладбище Сент-Финбарр в Корке при большом стечении сторонников. Его соратники в Корке продолжали голодовку.
Нгуен Ай Куок тоже потрясен смертью лорд-мэра Корка и одновременно исполнен восхищения перед несгибаемостью его убеждений. Путь Нгуена как борца за независимость к тому времени пока другой. После неудачи в Версале он явно начал придерживаться принципов марксистско-ленинской идеологии и — будучи членом социалистической партии — объявил колониализм формой капиталистической эксплуатации. Радиус его действий в Париже очень ограничен, потому что французская тайная полиция следует за ним по пятам. У него отобрали паспорт, так что страну он покинуть не может. А в круги вьетнамского сопротивления внедрили целый ряд осведомителей. Часть каждого тиража революционной литературы, которую выпускают Нгуен и его товарищи, предусмотрительно скупается полицией. Находясь под колпаком, в изоляции и вдалеке от родины, ради которой он отдает все силы, Нгуен все свои надежды обращает на победу мировой революции, о которой говорят в революционной России и во французском левом движении. Если поднимутся угнетенные всех стран на земле, думает он, тогда и Вьетнам обретет в борьбе свою свободу.
В декабре 1920 года Согомон Тейлирян, прожив некоторое время в Париже и затем ненадолго остановившись в Женеве, прибывает в Берлин. Как позже он показывает на суде, он поселяется у своего соотечественника, проживающего на Аугсбургерштрассе, 51 и, согласно сообщению полиции, при регистрации выдает себя за студента, приехавшего в столицу Германского рейха изучать механику.
В феврале 1921 года, проходя мимо зоологического сада, он слышит турецкую речь. Звучит слово «паша». Обернувшись, Тейлирян узнает бывшего министра внутренних дел Османской империи, человека, который нес ответственность за бойню, учиненную над армянами. Он следует за этой группой людей вплоть до входа в кинотеатр. Когда Тейлирян заходит с ними внутрь, ему становится плохо, перед его мысленным взором всплывают картины кровавой расправы. Он вынужден уйти. Так или иначе, на этот раз нет судорог, сотрясавших его во время прежних припадков; ему удается удержаться на ногах. С тех пор как за несколько недель до этого он потерял сознание прямо посреди улицы, он наблюдается у профессора Кассирера.
В первые дни марта 1921 года воспоминания одолевают Тейлиряна с новой и доселе не виданной настойчивостью. Он чувствует себя хуже, чем когда-либо раньше: «…картины бойни все время стоят у меня перед глазами. Мне мерещится тело моей матери. Мать встает, подходит ко мне и говорит: ты же видел, что Талаат здесь, и пальцем не пошевелил? Ты мне больше не сын!» В этот момент, как признается Тейлирян позже во время процесса, он и решил убить Талаат-пашу, которого считал ответственным за гибель всей своей семьи. Он снимает комнату на улице Харденбергштрассе, 37, как раз напротив жилища Талаат-паши. Однако теперь, когда жертва находится прямо у него перед глазами, его начинают одолевать сомнения: «Я засомневался; я сказал себе: как ты можешь убить человека? <…> Я сказал себе: ты не в состоянии убить человека». Так он отказывается от мысли об убийстве и обращается к повседневным занятиям: уроки языка у мадемуазель Бейленсон, время от времени — посещение театра и кино, чтение газет.
По прибытии в Прагу Луиза Вайс поселяется у еврея-антиквара. Новый политический режим предоставил ей офицера, который должен был служить при ней охранником и проводником. Он был воспитанником Прекрасной эпохи, включая манеру галантно целовать ручки, и был полон решимости познакомить парижанку прежде всего с красотами его родной природы. Но через несколько недель, которые изобиловали лесами и охотничьими замками, Луизе Вайс надоела столь пристальная опека. Она стремилась заняться наконец тем, ради чего она сюда, в Прагу, приехала: сообщать читателям о Чехословакии в эпоху перемен.
Будучи сторонницей бывшего чешского правительства в изгнании и как возлюбленная Милана Штефаника, который после своей гибели больше ни у кого не стоял на пути, корреспондентка из Парижа легко переступает порог резиденции нового правительства. Президент Масарик принимает ее во дворце в Колодеже, стены которого заново оштукатурены и освобождены от габсбургского декора. С точки зрения Луизы Вайс, бывший дворец выглядит теперь как «демократический монастырь». Масарик сидит в нем как воплощение новых ценностей — трезвых и разумных, еще всецело тот самый профессор, каким он в 1916 году сбежал в эмиграцию в Париж. Но руководство новым государством — это все что угодно, только не академическая деятельность, и у Масарика в изгнании не было никакого представления о ее масштабах. «Он знал свою Чехословакию только теоретически». Поэтому теперь предстояло так быстро, как только возможно, получить общее представление обо всех сведениях, цифрах и фактах. Следует принять на работу армию новых чиновников, рассчитать госбюджет, и все это осуществить в разных частях страны, сильно отличающихся одна от другой: в Богемии, где так очевиден отпечаток Германии; в Моравии; в славянской Словакии и в Карпатской Рутении, которая когда-то принадлежала Венгрии. Особенно в последней из упомянутых местностей проживают беднейшие крестьяне-русины, а также евреи и цыгане, которых только с большими сложностями можно интегрировать в новую республику. Во время перемирия, рассказывает президент журналистке, в Рутении царил голод. Он посылал на восток составы с продовольствием, куда среди прочего входил какао-порошок из Америки. Крестьяне тех мест, находясь в неведении, использовали коричневый порошок, чтобы красить свои деревянные хижины. И повсюду он наталкивался на сопротивление бюрократии, которая, казалось, пришла к нам из Средних веков.
Луиза Вайс представляла себе прорыв в новое совершенно иначе.
Статьи, которые журналистка посылает в Париж из Праги, у всех на устах. Филуз непременно хочет, чтобы она вернулась в «Л’Эроп нувель». Он готов забыть прежние обиды и недоразумения. Луиза Вайс тоже готова рассмотреть его предложение, но при определенных условиях: Филуз должен наконец-то начать выплачивать жалованье, которое изначально было ей обещано, она хочет иметь голос в совете директоров, она хочет работать в должности главного редактора, контролировать подписку и иметь доступ к бухгалтерии издательства. Кроме того, ее отец должен стать главой Наблюдательного совета. Филуз, помертвевший при ознакомлении с первыми ее требованиями, возвращается к жизни, узнав о последнем. Поль Луи Вайс — состоятельный человек. Он мог из своих частных средств помочь терпящей убытки газете выбиться обратно в таблоиды. «Л’Эроп нувель» со времени завершения Версальских переговоров заметно растеряла читателей.
Так Луиза Вайс возвращается обратно в свой голубой кабинет с твердым намерением никогда уже не отдавать в чужие руки собственный хлеб с маслом. Она проходится железной метлой по редакции, разбирает хаотично разбросанные папки с материалами, знакомится с прискорбной финансовой ситуацией, приводит в порядок бухгалтерию и приучает к дисциплине сотрудников редакции, привыкших появляться у себя на рабочих местах крайне редко. Вскоре ей становится ясно, что деньги утекают из редакционной кассы по каким-то мутным каналам. Филуз пытается у нее за спиной держать управление в своих руках. Но на этот раз Луиза Вайс полна отчаянной решимости удержаться в седле, несмотря на мелкие интриги. Когда в редакции вновь разгорается местного разлива война, у Луизы лопается терпение. Она совершенно точно знает, что будущее газеты зависит от денежной поддержки, и не в последнюю очередь от ее отца, и что у нее в руках есть кое-какие материалы против основателя газеты, который так долго над ней издевался. На этот раз сила на ее стороне, и она выставляет Филуза за дверь, устроив ему сцену, достойную хорошего кинофильма.
Позже Луиза вновь едет в Прагу, а потом в Будапешт. Затем она посещает Вену и Бухарест. Но везде повторяется одно и то же: то, что из Парижа кажется Луизе Вайс настоящим прорывом в лучшее будущее, куда уверенно движутся молодые, свободные нации, при ближайшем рассмотрении предстает фарсом — а то и вовсе трагедией. Возникают не новые державы в блеске и сиянии свободы, а истощенные кризисом, уязвимые государства. Энтузиазм, с которым были написаны ее статьи времен перемирия, сменяется начиная с осени 1919 года горьким, а иногда и циничным реализмом.
Согомон Тейлирян ощущает внутренний разлад между повелительным голосом своей матери, которую ежедневно видит во сне, и голосом своей совести. 15 марта 1921 года он мечется туда-сюда по комнате, когда бывший министр внутренних дел Османской империи выходит из дома напротив. В тот же миг у него перед глазами всплывает все былое: колонна, выстрелы, сестра, топор, наконец, образ матери и ее призывные, почти угрожающие слова. Еще в 1919 году, в Тифлисе, Тейлирян купил себе револьвер, по-видимому, для того, чтобы обороняться в случае новых нападений турок. В Берлине он достает это оружие, хранившееся у него в чемодане, завернутое в одежду. С револьвером в кармане он спешит на улицу и видит, как Талаат-паша удаляется в сторону зоологического сада. Он бежит по противоположной стороне улицы, и сразу после пересечения с Кнезебекштрассе оказывается ровно напротив своей жертвы. Тогда он переходит мостовую Харденбергштрассе и приближается к Талаат-паше сзади. Он направляет дуло револьвера точно в затылок и спускает курок.
От выстрела череп жертвы раскалывается, Талаат-паша падает на землю, лицо его заливает кровь. Пока собираются люди, Тейлирян отбрасывает револьвер в сторону и, словно не в себе, пытается убежать. Но далеко уйти ему не удается. На улице Фазаненштрассе его опознает свидетель. Вскоре беглеца окружают люди, которые его крепко держат. Один из них ударяет его гаечным ключом по голове, другой обшаривает карманы в поисках оружия. Все пытаются призвать его к ответу. Он говорит только: «Я армянин, а он турок. Для Германии никакого позора!» Позже, когда его приводят в полицейский участок у зоологического сада, он закуривает сигарету. В это мгновение он вновь обретает самообладание. Он осознает, что только что сделал, и ощущает «удовлетворение сердца». Он мечтал о мести; его мечта исполнилась.
В июне 1921 года Арнольд Шёнберг отправился на летний отдых в австрийское местечко Маттзее. Хотя попутно во время своих прогулок он изучает окружающую местность, прежде всего композитор ищет здесь тот необходимый для творчества покой, которого у него нет в австрийской столице. Шёнберг наслаждается этим покоем, как пишут его гости.
Чего он на тот момент еще не знает, так это того обстоятельства, что среди австрийских курортов Маттзее славится тем, что здесь не принимают еврейские семьи. Дачное местечко Маттзее впервые ввело эти ограничения в сезон 1920 года. Вышло постановление, что община отныне будет принимать на летний отдых исключительно «немцев-арийцев». Зальцбургская хроника от июня 1921 года указывает на успешное проведение в жизнь этого постановления, которое обеспечило превращение Маттзее в место, «свободное от евреев», «хотя… из-за известной назойливости евреев стоило некоторого труда выгнать их прочь». Возможно, Шёнберг тоже слышал об этих ограничениях, но полагал, что его они не затронут, ибо он давно уже обратился в христианство. Помимо этого, квартиру ему снимала невестка, отец которой в ту пору был бургомистром Зальцбурга.
Летнее пребывание Шёнберга и его гостей в Маттзее было наглой бесцеремонностью, с точки зрения некоторых влиятельных персон в местечке. Возможно, им не хватило правовых оснований, чтобы указать нежеланным гостям из Вены на дверь. Поэтому они прибегли к мерам публичного давления и вывесили повсюду в городке афиши, где сообщалось о заседании муниципального комитета, темой которого были еврейские гости: «Муниципальное представительство в полном составе обращается ко всему населению Маттзее с настоятельной просьбой по доброй воле… последовать принятому решению, чтобы избавить наш прекрасный городок от последствий пребывания евреев, каковые способны учинить немецко-арийскому населению Маттзее козни разного рода в случае сдачи и съема жилья».
Когда Арнольд Шёнберг видит такой плакат, он испытывает потрясение до глубины души. Он решает немедленно покинуть местечко. В этом решении его укрепляет письменное требование муниципалитета доказать, что он — не еврей. Шёнберг хочет уехать сразу, но не привлекая внимания. Общественность не должна об этом узнать. Тот факт, что композитор не сразу претворил в жизнь свое решение, можно объяснить вмешательством отца его невестки, который, по крайней мере на короткое время, унял волны возмущения. Складывалось такое впечатление, что Шёнберги решили пробыть здесь на отдыхе чуть ли не до запланированной даты отъезда. Но затем в одной венской ежедневной газете появляется статья об этом происшествии с указанием на то, что Шёнберг якобы оттуда уже уехал. «Нойе фрайе прессе» встает, однако, на сторону Шёнберга и задается вопросом, как это возможно, чтобы маленький австрийский городок нарушал австрийские законы. Теперь уже и правая пресса ввязывается в схватку. Зальцбургская газета «Фольксруф» публикует статью под заголовком «Еврейская колония на Маттзее». В ней еврейским гостям курорта неприкрыто грозят расправой. Следуют и другие публикации в том же духе, и 5 июля Шёнберг получает открытку, адресованную «знаменитому композитору Шёнбергу, в наст. время, к сожалению, находящемуся в Маттзее».
При таких обстоятельствах Арнольд Шёнберг и его близкие не могут больше находиться в Маттзее, местечке, которое композитор избрал как место уединения и покоя. Поскольку семья рассчитывала на несколько месяцев отдыха, пришлось паковать много чемоданов. Четырнадцатого июля Шёнберги в сопровождении друзей и учеников добрались до Траункирхена, где композитор остается до осени, пытаясь оправиться от шока, испытанного в ходе изгнания из Маттзее.
Маттиас Эрцбергер летом 1921 года тоже отправляется в путешествие. Он — вместе с женой и дочерью Габриэле — хочет еще раз отдышаться, прежде чем снова, после долгой абстиненции, окунуться в политику. По завершении процесса против Хельфериха, когда временно он был отстранен от сферы политической ответственности, он ожесточенно боролся за свою реабилитацию. В ходе целого ряда дальнейших судебных процессов с него было снято множество прежних обвинений. Теперь он решается вновь завоевать ведущую роль в немецкой политике. Но перед этим хочет провести несколько спокойных недель в кругу семьи.
В Шварцвальде, в местечке Бад-Грисбах, Эрцбергеры снимают апартаменты в католическом санатории, откуда совершают дальние прогулки, изучая местность. Двадцать шестого августа 1921 года в гости к ним приезжает Карл Диц, товарищ по партии из Констанца. Семейство Эрцбергеров как раз сидит за завтраком, когда появляется Диц. Это день накануне отъезда, поэтому госпожа Эрцбергер вскоре уходит собирать чемоданы, а мужчины, несмотря на плохую погоду, решаются на прогулку. На проселочной дороге, ведущей в сторону Книбиса, Дицу бросаются в глаза двое прилично одетых молодых людей, которые идут за ними следом, затем, поравнявшись с ними, безо всякого приветствия их обгоняют.
Оба политика не подозревают, что обогнавшие их люди — члены правой подпольной организации «Консул», которая поставила перед собой задачу «бороться со всеми антинациональными и интернациональными, еврейскими, социал-демократическими и леворадикальными партиями», а также «с антинациональной Веймарской конституцией». После Капповского путча отряды фрайкоровцев, к которым принадлежали Генрих Тиллессен и Генрих Шульц, были распущены. Как и многие старые бойцы, эти двое ушли в праворадикальное подполье. Теперь оба числились в фиктивной компании, некоей деревообрабатывающей фирме. Они были убеждены в том, что Эрцбергер — не только воплощение «мерзейшего предателя Родины» и «политика на побегушках», но и находится, помимо этого, в одной упряжке с жидомасонами, «где управляют иуды». От своего начальника, бывшего капитан-лейтенанта, они однажды получают письмо, точное содержание которого Тиллессен позже воспроизводит по памяти: «В соответствии с проведенной руководством жеребьевкой вы… назначаетесь исполнителями в деле устранения рейхсминистра финансов в отставке Эрцбергера. Выбор орудия исполнения остается за вами. Рапорт об исполнении не требуется. <…> Братья, в случае вашего разоблачения на поддержку со стороны ордена вы можете рассчитывать».
Когда Эрцбергер и Диц направляются обратно, молодые люди тоже разворачиваются, догоняют путников и становятся перед ними лицом к лицу. Один из них достает из кармана куртки револьвер, направляет его Эрцбергеру в лоб и тут же нажимает на курок. Второй выстрел поражает Эрцбергера в грудь. Тяжелое тело в судорогах опускается на землю. Диц с зонтом в руках набрасывается на стрелка, и тот теперь направляет оружие на него. Раненый Диц падает на землю и слышит еще несколько выстрелов, которые звучат глухо, словно дуло прижато к чему-то мягкому. После этого уже ничего не слышно. Диц ранен в плечо, раздроблена кость, и еще одна пуля прошла в легкое, застряв совсем рядом с позвоночником. Когда Дицу удается поднять голову, Эрцбергера рядом с ним не видно. Он с большим трудом привстает и различает на траве широкий кровавый след, который тянется от обочины в сторону большой ели невдалеке. Там с залитым кровью лицом лежит Эрцбергер. Он больше не дышит.
Диц бредет по проселочной дороге до ближайшей деревни. По пути он встречает женщину, которой рассказывает о случившемся и просит о помощи. Но она отказывается помогать, говоря неприязненно: «И вы еще могли гулять с Эрцбергером!» Собрав последние силы, Диц добирается до Бад-Грисбаха и сообщает другу семьи Эрцбергеров о произошедшем, чтобы тот как можно более мягче и осторожнее передал трагическую весть жене погибшего. И только тогда Диц обращается к врачу.
В последний путь Эрцбергера провожают в его родном городке Биберахе, но одновременно по всей стране проходят манифестации, направленные против политического террора. Тысячи людей выражают тем самым свое участие. Несмотря на всю критику, многие признают, что Эрцбергер как политик, твердо стоящий на земле, а также как надежный соратник честно пытался представлять интересы Германии в мире. Но еще громче этих трагических голосов звучала ярость его врагов, которые даже несмотря на факт зверского убийства публично выражали свое удовлетворение. В «Олецкоер цайтунг» было написано: «Эрцбергер, этот предатель родины, который своими переговорами привел Германию к позорному Версальскому миру, получил по заслугам».
Первые месяцы вскоре после того, как Гарри Трумэн открывает свой мужской магазин, приносят хорошую прибыль. Когда ему предлагают продать процветающее предприятие, он благодарит, но отказывается. Однако в январе 1920 года краткий всплеск активности американской экономики, начавшийся после заключения перемирия, сходит на нет. Теперь заявляют о себе последствия войны: отток рабочей силы, для которой после возвращения с полей сражений из Европы зачастую не находится работы на родине, кроме того, резко падает спрос на продукцию военной промышленности. В течение восемнадцати беспокойных месяцев Соединенные Штаты Америки поражает сильнейший экономический кризис. Если европейским странам приходится бороться с высокими цифрами инфляции, то в США неуклонно повышается курс национальной валюты, что приводит к падению цен более чем на тридцать процентов. Для таких розничных торговцев, как Гарри Трумэн, это означает, что теперь он должен продавать товары дешевле, чем купил их сам. Друзья-ветераны по-прежнему заходят к нему в магазин поболтать о том о сем, но никто больше не может позволить себе шелковую рубашку или галстук. А если что-то и покупают, то для Трумэна это все равно в убыток.
Гарри Трумэн пытается удержать покупателей личными связями и рекламой. С большим воодушевлением он принимает участие в создании Американского легиона. В ноябре 1921 года он помогает организовать в Канзасе грандиозную церемонию открытия памятника жертвам войны. На ней присутствует даже Фердинанд Фош, совершающий в это время турне по Северной Америке. Сотни тысяч человек стекаются в Канзас, чтобы увидеть марш ветеранов. Гарри Трумэну выпадает честь представлять прибывшим военачальникам союзных войск знамена Американского легиона.
Самые тяжелые месяцы экономического кризиса позади. И все же Трумэн и Джонсон в сентябре 1922 года вынуждены закрыть свое заведение. У героя войны Трумэна теперь 12 тысяч долларов долга. Но он отказывается объявить себя банкротом. Вместо этого он пытается месяц за месяцем оплачивать проценты по кредитам. Более десяти лет потребовалось Трумэну, чтобы полностью освободиться от долгов. Мечта о личном семейном счастье, мечта о собственном доме и поездках на форде лопнула.
Поездки в Прагу и Будапешт произвели на идеалистку Луизу Вайс отрезвляющее действие. Она так беззаветно верила в будущее национальных революций, в свободу и самоопределение стран бывшей Габсбургской монархии, что теперь с трудом воспринимает суровую реальность. Но нигде разочарование не оказалось таким горьким, как в Москве, которую она посетила в 1921 году. В «измученном городе», где царили подозрительность и недоверие, она окончательно теряет некогда столь мощную веру в силу революции. Опираясь на чешское представительство в Москве, парижская журналистка пытается составить впечатление о положении дел в городе. Несмотря на все предупреждения, она уверена в том, что для спецслужб, для ЧК, она не представляет никакого интереса.
Однажды вечером она направляется к некоей Вере Б., с которой познакомилась в поезде из Риги в Москву. Вера живет в убогой комнатенке, которая разделена занавеской на две половины. За занавеской слышен плач ребенка. «Бедный, — говорит Вера, — никак не может привыкнуть к такой кормежке. Видите?!» Вера поднимает над головой бутылочку с теплой жидкостью, которая пахнет капустой.
Они садятся возле чайника, и Вера говорит, что ждет гостей. Уже поздно, но Вера уверена, что друзья придут; ведь они знают, что она привезла продукты из Латвии. Вскоре комната заполняется людьми. «Это товарищи, — говорит Вера, — настоящие коммунисты», и некоторых из них Луиза Вайс знает еще по Парижу.
Но постепенно настроение меняется. Беседа больше не затрагивает общих тем, а вращается вокруг пребывания Луизы в Москве. В какой-то момент ей начинает казаться, что она сидит перед трибуналом, она вдруг начинает понимать, что ни ее присутствие здесь, ни их приход сюда не случайны. В воздухе разлито напряжение, и Луиза впервые за всю поездку начинает ощущать, что ее свобода в опасности.
«Товарищ!» — обращается к ней женщина, с которой она познакомилась еще в Париже. «Я вам не товарищ, мадам! — резко отвечает Луиза. — Пожалуйста, говорите со мной в том же тоне, как вы говорили в Париже!» Потом она обращается к некоему товарищу Могилевскому, которого знала по русскому представительству в Риге: «Пожалуйста, скажите этим людям правду. Вы видели в Риге мой паспорт. Мы с вами говорили о моей работе. Вы знаете, кто я». Могилевский требует от нее, чтобы она назвалась сама. «Хорошо, если вы так настаиваете. Дамы и господа, перед вами представительница буржуазии, которая к тому же работает в известной буржуазной газете “Пти Паризьен”. Вы все знаете эту газету, потому что все говорите по-французски». «Тогда вы наш враг!» — сурово бросает некая гостья. «Так или иначе, я уважаю ваши взгляды и бедствия, перенесенные Россией, слишком сильно, чтобы лгать». Луиза Вайс встает, демонстративно достает из сумочки яркую губную помаду и начинает подводить губы. «Чтобы лгать, мадам… — Луиза Вайс опять обращается к своей знакомой, — так, как лжете вы». Ведь несмотря на то, что эта женщина только что вернулась из Парижа, она распространяет здесь слухи о том, что Франция, как и другие страны Европы, стоит на пороге революции. Почему же она не говорит правду, что во Франции позиции буржуазии как победительницы в мировой войне укрепились, и нет никаких признаков того, что буржуазия выпустит эту победу из рук. Видимо, опасно здесь, в Москве, иметь другую точку зрения, а надо подогревать надежду на то, что скоро полмира примкнет к России.
Находясь под подозрением, что она шпионка, Луиза разбередила самую больную рану здешних активистов. Задвигались стулья, люди начали обмениваться понимающими взглядами, и тут же разгорелась дискуссия о том, как может и может ли вообще начаться мировая революция, загоревшись от очага в России. Ибо русская революция, согласно тезису Ленина, достигнет своей цели только тогда, когда на всем земном шаре пролетариат возьмет власть в свои руки. Оборонялась Луиза Вайс под девизом «Лучшая защита — нападение», и делала это хоть и грубовато, но эффективно. Из обвиняемой она быстро превращается в обвинительницу. Ей удается полностью завладеть вниманием присутствующих. Наконец один из «товарищей» предлагает отвезти ее домой. На обратном пути ее на секунду пронзает ужас, когда шофер останавливается возле здания, которое ей слишком хорошо знакомо: здесь располагается ЧК. «Конец прогулки», — говорит он с садистской ухмылкой.
Водитель упивается ее страхом, а потом снова нажимает на газ. После возвращения в Париж Луиза Вайс встречается с коллегой в «Латинвилле», знаменитой кондитерской в квартале Сент-Огюстен. Она сидит за чашкой горячего шоколада и перед глазами у нее пробегают воспоминания о долгой поездке по Восточной Европе. Воспоминания эти кажутся ей невыносимыми — слезы наворачиваются у нее на глаза. Посетители кафе убеждены, что у девушки сердечные проблемы, они не ошибаются и в этом: «Я видела прекрасных мужчин, сражающихся с ужасающей нуждой, я видела замечательный народ, который полюбила за мужество и величие, я видела верность идеалам, которые вызывали у меня неизбывную ностальгию». Луиза Вайс оплакивает свои мечты о революции, о новой Европе, о новом мире, где царят мир и свобода, от которых действительность не оставила камня на камне. И слабым утешением было то, что Эли Йозеф Буа ежедневно публиковал присылаемые в Париж репортажи на первой странице «Пти Паризьен».
Восьмого февраля 1922 года до Махатмы Ганди, который находится в это время в Бардоли, доходят новости, причиняющие ему телесные и душевные страдания. В провинциальном городе Чаури-Чаура у движения «несотрудничества», вдохновленного идеями Ганди, с самого начала было много сторонников. Теперь оно призывало к маршу протеста против ареста активистов. Перед городской тюрьмой собралась большая толпа народа и стала требовать освобождения политических заключенных, после чего процессия двинулась к центру города, выкрикивая лозунги против правительства. Местные силы правопорядка не выдержали и открыли огонь. Но демонстранты не дали маленькому отряду полицейских себя запугать, сами перешли в наступление и загнали полицейских в участок. Здание участка подожгли, и двадцать три человека сгорели заживо. Ганди вновь пришел в отчаяние оттого, что его учение привело к таким катастрофическим последствиям. Он снова начинает сомневаться в том, готов ли индийский народ к такой непростой форме протеста. Сам он выражает свой протест шестидневным постом. Чуть позже индийский Национальный конгресс решает отказаться от движения «несотрудничества». Колониальное правительство вводит в Чаури-Чаура чрезвычайное положение, а месяц спустя Ганди арестовывают и — за его подстрекательские сочинения — приговаривают к шести годам тюрьмы. Исполнение его мечты — стать главой мирного сопротивления британскому колониальному режиму — отодвигается в далекие дали.
Первого мая 1922 года на историческом кладбище Веймара торжественно открывается монумент, созданный Вальтером Гропиусом в честь жертв Капповского путча в марте 1920 года. Он посвящен памяти десяти рабочих, отдавших свои жизни в борьбе против добровольческих отрядов в Веймаре. Понятие «мартовские павшие» напоминает при этом о событиях революции 1848 года, когда восставшие были расстреляны королевскими войсками.
Формой памятник похож на молнию. Но Гропиус объясняет иначе. Каменный зигзаг, в его трактовке, не указывает сверху вниз, а наоборот, с земли обращен в небо. Он должен символизировать устремленность человека ко всему возвышенному. Все попытки левых трактовать монумент как символ развития социализма, Гропиус отверг. Он хотел, чтобы этот памятник был для людей, а не для идеологий. Зимой 1918 года он еще горел идеей революции в политике, обществе, архитектуре и искусстве. Горькие личные, профессиональные и общественные испытания все равно оставили в его душе надежду на человеческую устремленность к добру — и поиск новых форм для нового общества.
Летом 1922 года Жорж Грос едет в Советский Союз. Он сопровождает датского писателя Мартина Андерсена-Нексё, который получил задание написать восторженную книгу о советской России. Грос, которого молва считает пламенным революционером, должен эту книгу иллюстрировать. Так искусство втягивают в разгорающуюся борьбу западного мира и Советского Союза — причем с обеих сторон: незадолго до того в американских кинотеатрах начинают крутить фильм «Новая луна». В нем рассказывается история русской княжны Марии Павловны, которая в вихре революции борется за свою свободу и свободу тысяч русских женщин, обязанных зарегистрироваться в качестве «государственной собственности» и стать покорными прислужницами номенклатуры.
Оба деятеля искусства, призванные прославить революцию, встречаются в Дании и оттуда едут на крайний север Норвегии — в Вардё. Писатель Нексё договорился с новым русским правительством, что за ними придет моторный катер, посадит на борт художников и доставит в Мурманск на севере России. Но оба художника неделю за неделей проводят в ожидании на краю Европы, ни разу не увидев даже бортовых огней хоть какого-нибудь русского судна. Отчаявшись дождаться, они решают отправиться в Россию своим ходом. Они платят местному рыбаку, который подряжается не только подбросить их в восточном направлении, но и сделать ради них крюк, чтобы высадить их там, где надо. Прихватив шоколад, галеты и шнапс, они отплывают.
Рыбачий баркас входит в Кольскую бухту темной ночью. Он причаливает в рыбачьей гавани Мурманска, где поначалу ни одна живая душа и знать не хочет о прибытии художников. Когда забрезжило утро, они с удивлением озираются вокруг и понимают, что попали в место поистине странное и удивительное.
Строительство новой гавани явно было остановлено на середине. «Лодки были либо полузатоплены, либо плавали в воде вверх дном, можно было различить недостроенный мол, окаменевшие мешки с цементом. Повсюду валялись искореженные, проржавевшие железяки. Виднелся перевернутый буй с колоколом, упавший башенный кран, который собирались установить в воде. Дальше мы увидели целую подводную лодку днищем вверх, похожую на большую рыбину, обросшую ракушками и водорослями, с облупившейся краской. Полузатопленные деревянные баркасы, доверху наполненные камнями, застывшие в грязной воде; горы пустых бочек из-под нефти; целые вереницы железнодорожных вагонов, по большей части без колес, но зато жилые. Это было похоже на большую свалку».
То были невероятные декорации для невероятного спектакля, который начинает разыгрываться, как только восходит солнце. Внезапно вокруг доставившего их сюда баркаса, где они провели не самую удобную в своей жизни ночь, начинает собираться толпа. И тут вперед выходят люди в новых кожанках и высоких сапогах, в военных фуражках с серпом и молотом на околыше. Их сопровождает матрос со свирепым взглядом, который направляет на гостей револьвер.
Оба комиссара говорят о чем-то с рыбаками и вскоре уходят, оставив матроса охранять двух подозрительных субъектов, прибывших из-за границы. Их въездные документы комиссары уносят с собой. Потом долгое время ничего не происходит, потому что «в России нужно ждать долго». Позже появляется переводчица, разговор с которой им оптимизма не добавляет. Проверка документов может длиться несколько дней. Но вот через несколько часов приходит известие, что их ждут в местном совете.
«Признаюсь, — пишет Грос в мемуарах, — тогда было очень сложно найти в России что-нибудь утешительное. В 1922 году все было словно после долгой войны. Куда бы мы ни приезжали, вся страна, по западноевропейским представлениям, находилась в состоянии ужасающего упадка». По железной дороге они едут сквозь леса, где чередуются пихты, ели и сосны.
В Ленинграде Гроса принимают лучше. Он вынужден присоединиться к международной группе художников, собирающихся основать журнал, благодаря которому превосходство советского искусства станет известно всей Европе. Побывав однажды в ресторане, Грос видит роскошь, каковой окружают себя функционеры нового режима, что разительно отличается от условий жизни простых людей, встретившихся ему в самом начале.
В Ленинграде Грос знакомится с Владимиром Татлиным, одним из ведущих мыслителей в сфере советского конструктивистского искусства. Татлин показывает ему пятиметровую модель башни — «Монумент Третьего Интернационала». Когда-нибудь эта башня будет построена, и она превзойдет по высоте Эйфелеву башню, а также Вулворт-билдинг в Нью-Йорке — в ту пору самый высокий небоскреб в мире. Будучи памятником революции, здание должно вращаться и двигаться, чтобы выражать энергию преобразований. Только Троцкий, самый любимый среди вождей революции, не был в восторге от проекта. Увидев модель, он не воспылал энтузиазмом, а стал задавать занудные вопросы: «А почему эта штука должна вращаться и почему все время вокруг своей оси и на одном месте?» Как такая конструкция может символизировать революцию, если революция все время стремится дальше? Вот так гигантский проект, а вместе с ним и сам Татлин, одержимый грандиозными идеями советского искусства, полностью исчезают, погрузившись в забвение.
Если требовалось еще одно событие, чтобы всецело омрачить светлый образ Советского Союза в представлениях Гроса, то это, безусловно, прием в Кремле, на который он был приглашен в качестве иностранного гостя. Ленин явился на прием лично и приветствовал присутствующих довольно невнятными словами. Речь свою он произносил по-немецки, но от Гроса не ускользнул шепот в его окружении. Он не придал этому никакого значения, но потом один журналист объяснил ему, что великий вождь революции в последнее время стал слаб и немного забывчив. Поэтому люди из его окружения привыкли подсказывать ему нужные слова и выражения, иначе велика опасность, что он упустит нить смысла.
«Моя поездка в Советский Союз удачной не была», — подытожил Грос свои впечатления о России. Под этим он подразумевал не только тот факт, что книга, которую они собирались создать вместе с Нексё, никогда не будет написана. Он скорее имеет в виду свое знакомство с Советским Союзом и сам Советский Союз как таковой. Когда американский журналист Линкольн Стеффенс в 1921 году путешествует по России, он восторженно пишет: «Я видел будущее, и это работает». Грос тоже видел будущее, но оно явилось в образе кладбища кораблей с грозными комиссарами, ресторанов для приближенных к власти, бессмысленного мегаломанического архитектурного проекта и больного диктатора. Для него советское будущее не работало; ни советское будущее, ни — глядя в корень — будущее вообще. Но чего можно было еще ожидать от дадаиста? Разве он когда-нибудь по-настоящему верил в революцию?
В октябре 1922 года роман Вирджинии Вулф «Комната Джейкоба» выходит в ее собственном издательстве «Хогарт пресс». Писательница ожидает первую реакцию публики, нервы у нее на пределе: «Какие у меня прогнозы по поводу продаж „Джейкоба“? Думаю, экземпляров 500 мы продадим; затем все замедлится и к июню дойдет до 800. Кое-где будут слишком восторженно говорить о „красотах“; а тех, кто ищет человеческие характеры, эта красота смутит. <…> Я плохо переношу, когда люди видят, как меня публично унижают. <…> Но я говорю абсолютно всерьез, что ничто не изменит моей решимости продолжать писать, и мое удовольствие не уменьшится, что бы ни случилось, и если даже возмущение повредит внешнюю оболочку, сердцевина все равно защищена». Объемы продаж она недооценила, впрочем, эхо в газетах оказалось более категоричным, чем она подозревала. На нее обрушивается град разгромных статей, хотя суждения друзей из их литературного круга сплошь положительные. Инсайдеры литературного авангарда укрепляют ее веру в то, что в «Комнате Джейкоба» она совершила настоящий художественный прорыв. И естественно, лондонское светское общество просто вьется вокруг Вирджинии Вулф.
Но в не меньшей степени, чем литературный успех, ее жизнь вскоре изменит одна встреча. «Цветущая, с гривой роскошных волос, ярко одетая, со всей ее аристократической гибкостью и непосредственностью, но без искусственного лоска», — так описывает она писательницу Виту Сэквилл-Уэст после первой встречи с ней на одном обеде, после которого она «слишком оглушена», чтобы «что-то соображать». На фоне этой сильной женщины — «настоящий гренадер, жесткая; привлекательная; мужественная; с намечающимся вторым подбородком», — Вирджиния чувствует себя «непорочной, робкой школьницей». Эта встреча — еще один прорыв, еще один шаг в новые сферы для художницы, для новатора романного жанра, шаг к страсти, во всех смыслах отличающейся от той, которую Вирджиния ощущает к Леонарду Вулфу. Отношения двух женщин пройдут свои пики и спады, продлятся долгие годы, и, решаясь на эти отношения, Вирджиния Вулф окончательно покидает пространство общественного признания, которое до тех пор обрамляло ее жизнь.
Нгуен Ай Куок добирается до Советского Союза в июне 1923 года. Было непросто ускользнуть от недреманного ока французской тайной полиции. Только благодаря международной подпольной сети левых ему удается тайком выбраться из Парижа, сесть на поезд в Германию и потом переплыть на корабле Балтийское море. Друзьям и товарищам в Париже он оставил прощальные письма, из которых явствует, что он не собирается возвращаться. Детям своего друга, «племяннице» и «племяннику», к которым он был привязан всей душой, он пишет: «Дядю Нгуена вы долго еще не увидите. Вы не сможете больше сидеть у меня на коленях или забираться ко мне на плечи, как вы делали это всегда, и пройдет много времени, прежде чем я увижу мою Алис и моего Поля. Когда мы встретимся снова, я уже, возможно, буду стариком, а вы станете такими же большими, как ваши мама и папа. <…> Когда вы вырастете, вы будете бороться за свою страну, как ваши родители, как дядя Нгуен и как его товарищи».
Прибытие в революционную Россию борец за свободу представлял себе иначе. По приезде большевики его задержали. Проверка личности длится несколько недель. Только после этого ему разрешают ехать дальше, в Москву. Собственно говоря, он думал, что проведет в столице русской революции несколько месяцев. Но получился целый год, и даже больше. Год, в течение которого он учится выживать в жестокой, зачастую смертельной схватке в рядах коммунистической партии, год, в который его идеологические позиции продолжают укрепляться. Постепенно он пробивается во внутренние руководящие круги партии и ближе знакомится с Лениным. Нгуен неустанно напоминает своим соратникам по партии, что вьетнамский народ угнетен вдвойне: во-первых, как народ рабочий, с которым обходятся как с рабочими всего мира, во-вторых, из-за своей расы, на которую белые смотрят как на расу неполноценных. Борьба вьетнамцев за независимость — как и борьба всех колониальных народов — это часть мировой коммунистической революции, которая последует за революцией отдельных народов. В 1924 году ему наконец удается убедить однопартийцев, что его следует послать с миссией в Китай.
Купив билет на поезд, идущий по Транссибирской магистрали, и взяв с собой немного денег, он отправляется в город Кантон.
В апреле 1923 года Арнольд Шёнберг получает от художника Василия Кандинского, переехавшего из Москвы в Веймар, приглашение занять освободившееся место директора Высшей музыкальной школы Веймара. Но Шёнбергу дают понять — скорее всего, Альма Малер и ученик Арнольда Эрвин Ратц, — что в стенах обновленной школы сильны антисемитские настроения и что даже сам Кандинский допускает неуважительные высказывания о евреях. Со времени происшествия на Маттзее Шёнберг никогда ничего не упоминал о своем столкновении с антисемитизмом, но тут он взрывается и сам переходит в наступление. Так, 20 апреля он пишет Кандинскому: «Тот урок, который я вынужден был воспринять в этом году, я наконец усвоил и теперь никогда его не забуду: то, что я, собственно говоря, не немец, не европеец, да и вообще вряд ли человек (по крайней мере, европейцы худших представителей своей расы предпочитают мне), а я — еврей. <…> Я слышал, что и некто Кандинский видит в действиях евреев только плохое, а в их плохих действиях — только еврейское, и тут я уже не в силах надеяться на взаимопонимание. Это была мечта. Мы — два разных человека! Определенно!»
Кандинский отвечает сразу, признается, что он потрясен, и пытается сгладить недоразумение. Впрочем, его письмо подтверждает, что Шёнберг не случайно обвиняет его в антисемитизме. Потому что в своих ответных строчках Кандинский начинает говорить о «еврейской проблеме» и называет евреев «нацией, одержимой дьяволом». «Это болезнь, которую можно вылечить. Во время этой болезни появляются два ужасных свойства: негативная (разрушительная) сила и ложь, которая тоже действует разрушительно». Об этом, пишет Кандинский, он с удовольствием поговорил бы с Шёнбергом. Ему следовало бы написать сразу, как только до него дошли вести из Веймара. Несмотря на это, все, что в общем говорят и думают о еврействе, не касается его друга, исключительной личности, венского композитора Арнольда Шёнберга.
Шёнберг отвечает повторно и еще резче обрушивается на своего коллегу по искусству: «Как такой человек, как Кандинский… может разделять мировоззрение, следствием которого являются Варфоломеевские ночи!» Как Кандинский отваживается выступать с самым худшим из всех аргументов, а именно когда говорит, что Шёнберга-еврея он отвергает, но его же как выдающегося деятеля искусства отделяет от своих предрассудков относительно евреев! «К чему может привести антисемитизм, как не к насилию? Разве трудно представить это себе? Вам, наверное, достаточно лишить евреев всех прав? Тогда Эйнштейн, Малер, я и многие другие будут так или иначе уничтожены». Шёнберг не поедет в Веймар. Его опыт переживания войны и ее завершения, который приводит его к осознанию религиозности, теперь перерастает в опыт дискриминации как предполагаемого представителя религиозной общины, к которой он на самом деле давно уже не принадлежал.
В том же 1923 году, когда он отклоняет предложение, поступившее из новой имперской столицы, Шёнберг публикует свои эпохальные «Методы композиции с 12 соотнесенными между собой тонами». Тем самым он обосновывает свои вариации двенадцатитональной музыки, которую он начал разрабатывать еще в «Лестнице Иакова» и которую в ярко выраженной форме он использует в «Пяти пьесах для фортепиано». Это попытка освободить атональную музыку от упрека в том, что она произвольна.
Двенадцатитональные ряды и их систематические изменения в ходе пьесы прочно связывают музыку Шёнберга, являющуюся испытанием для слуха, с концепцией композиции, которая позволяет проанализировать и объяснить каждый такт и каждую ноту. Шёнберг был убежден в том, что создал нечто революционное и поставил технику музыкальной композиции на совершенно новые основы. Еще в июле 1921 года он писал своему ученику Йозефу Руферу о двенадцатитональной композиции: «Сегодня я открыл нечто такое, что обеспечит немецкой музыке превосходство в последующие сто лет».
В ночь на 31 мая 1923 года Рудольф Гесс вместе со своими боевыми товарищами шагает по дороге в районе Пархима в северогерманском Мекленбурге. Бойцы «Рабочего содружества Росбах» навеселе и в состоянии нервного возбуждения. Несколько дней назад один из них, Альберт Лео Шлагетер, был приговорен к смерти французской оккупационной армией в Рейнланде и казнен. Ему вменили в вину акты саботажа, но прежде всего — теракты с применением взрывчатки, направленные против оккупационного режима. Фрайкоровцы считают, что нашли человека, который выдал Шлагетера французам. Речь идет об их товарище из «Рабочего содружества» по имени Вальтер Кадов, которого все недолюбливали, считая шпиком. Новая республика и силы ее правопорядка вызывают у старых бойцов исключительно презрение. Они уверены, что новое правительство, которое сотрудничает с французами, не заинтересовано в выяснении причин истории со Шлагетером. Так что теперь они браво шагают вершить «самосуд, руководствуясь старинными немецкими образцами».
Кадов тем временем сидит с несколькими товарищами в Пархимском трактире и кутит. Гесс и его соратники рассматривают это обстоятельство как удобный случай устроить голгофу завравшемуся товарищу. Когда они добираются до трактира, Кадов, пьяный в стельку, уже лежит на диване. Гесс вооружен револьвером, у остальных кастеты и резиновые дубинки. Они хватают бесчувственного Кадова и кидают в машину. По проселочной дороге доезжают до леса, где выбрасывают предателя из машины. Он пытается бежать, но Гесс предупреждающим выстрелом останавливает его. Тогда все они начинают бить Кадова. Гесс даже обламывает молодое дерево и бьет им Кадова по голове.
Что теперь делать с окровавленным, полумертвым человеком? Вымыть и отвезти в больницу? У Гесса совсем другая идея, и он принимает решение, что Кадова надо закопать в лесу. Завернутую в собственную шинель жертву кладут в багажник машины и забираются глубже в лес. В подходящем месте тело кладут на землю. Один из фрайкоровцев ножом перерезает жертве сонную артерию. Когда оказывается, что Кадов по-прежнему жив, Рудольф Гесс убивает его выстрелом в голову. Преступники наскоро прикрывают труп и моют машину. На следующее утро они возвращаются на место преступления, чтобы закопать труп в лесу и убрать следы своих ночных экзекуций. Даже в написанных после 1945 года в заключении мемуарах Гесс не отказывается от своего деяния, считает его справедливым и объясняет его мотив: «Я был и тогда — и сегодня по-прежнему убежден в том, что этот предатель заслужил свою смерть. Поскольку было понятно, что никакой немецкий суд не признает его виновным, приговор ему вынесли мы, согласно неписаному закону, который мы, родившиеся в лихие времена, установили себе сами».
Эпилог: Хвост кометы
Смерть не есть событие жизни.
Смерть не переживают.
Людвиг Витгенштейн. Логико-философский трактат, 1918Жорж Грос
Гитлер, спаситель, 1923
Осенью 1919 года Марина Юрлова все-таки вырывается из тисков гражданской войны в России, которую большевики завершили своей победой только в 1922 году. С палубы корабля она смотрит на исчезающие за горизонтом крыши Владивостока, конечной станции Транссибирской железнодорожной магистрали. Ее цель — Япония, куда она вскоре и добирается. Именно в Японии Марина Юрлова окончательно превращается из солдата в молодую женщину и пробует себя в исконно женских профессиях: сначала она устраивается няней, потом работает секретаршей и наконец, благодаря частным урокам, находит свое настоящее призвание: став танцовщицей, добивается она первого успеха на частных вечеринках, в качестве танцовщицы она получает визу для деятелей искусства в Соединенные Штаты и именно как танцовщица приобретает известность в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Она уходит из жизни в 1984 году.
Теренс Максвини оказался лишь одной из тысячи с лишним жертв, которые принесены были на алтарь ирландской борьбы за независимость. Ибо пока партия «Шинн Фейн» закладывала в ирландском независимом парламенте фундамент нового государства, Ирландская республиканская армия вела партизанскую борьбу против представителей британской верхушки. Это была повседневная война без четких разграничительных линий и фронтов, война, в которую вовлечено было гражданское население. Налеты, взломы и убийства, а также взаимные нападения как акты мести множатся и растут. В ноябре 1920 года, через несколько недель после смерти Максвини, дублинское «Кровавое воскресенье» явилось очередным витком обострения борьбы. Но ни борцам за свободу не удается окончательно победить британцев и их сторонников, ни империя не может остановить революционное насилие. В июле 1921 года приходит понимание того, что война может продолжаться еще годы и годы, не приводя к победе ни одну из сторон. Заключается перемирие, в ходе которого идет подготовка к объявлению независимости Южной Ирландии. Теренс Максвини становится национальным героем. В 1964 году ему устанавливают бронзовый бюст перед муниципалитетом Корка.
Армянского преступника Согомона Тейлиряна в июне 1921 года судит Берлинский суд присяжных. Процесс вызывает широкую дискуссию в обществе о политике Османской империи, союзника Германского рейха в Первой мировой войне, по отношению к армянам. Во время слушаний перевес оказывается на стороне тех, кто с симпатией относится к жертвам бойни и к Тейлиряну. Процесс заканчивается оправдательным приговором, основанием для которого стало прежде всего экспертное заключение невролога и психиатра Рихарда Кассирера. Он уверен, что обвиняемый не замышлял преступление, а совершил его в состоянии аффекта, и что преступление явилось дальним отзвуком прежней травмы.
Лишь позже выясняется, что Согомон Тейлирян был участником тайного заговора в рамках так называемой операции «Немезида». Эта тайная организация преследовала цель с помощью особой группы возмездия наказать главных виновных в резне, учиненной над армянами. Убийство Талаат-паши было не первым заданием Тейлиряна, он уже участвовал в акциях в Константинополе от имени армян-мстителей. Вопреки своим утверждениям на суде, он не был свидетелем резни, жертвой которой пала его семья. В последующие месяцы и годы участникам операции «Немезида» предстоит совершить убийства в Риме, Берлине, Тифлисе и Константинополе.
Убийцам Маттиаса Эрцбергера, Шульцу и Тиллессену, удается после совершения преступления в августе 1921 года бежать за границу. Там они и остаются, пока в 1933 году новый режим в Германии не позволяет им вернуться на родину и сделать карьеру. Только после 1945 года их наконец судят. В Федеративной республике Германии Эрцбергера все выше ценят как создателя парламентской демократии в стране и даже чтят как «мученика немецкой демократии». В 2017 году в его честь одно из зданий немецкого Бундестага в Берлине получило название «Дом имени Маттиаса Эрцбергера».
Томас Эдвард Лоуренс после неудач в его борьбе за независимую Аравию решает больше не вмешиваться в судьбы мира. С 1923 года, через два года после того, как британцы сделали его друга Фейсала королем Ирака, он служит под чужим именем как простой солдат в британских военно-воздушных силах. 13 мая 1935 года он умирает от последствий мотоциклетной аварии.
Фердинанд Фош скончался 20 марта 1929 года после долгой болезни. Его бренные останки были захоронены в Доме инвалидов, недалеко от гробницы Наполеона Бонапарта. Эта почетная процедура не меняет того факта, что после триумфа в ноябре 1918 года звезда Фоша довольно быстро закатилась. Уволившись с военной службы, он играл роль консультанта при различных правительствах. Однако его суждения как сторонника жесткого политического курса все больше отдалялись от официальной линии Франции, которая шаг за шагом шла к сближению с бывшим врагом — Германией. На заключительной фазе войны маршал проявил себя как герой, но битву за мир он проиграл.
В том же 1929 году, в Вашингтоне, умирает в больнице и в полном одиночестве Генри Джонсон. Инвалид, которому только с 1927 года начали выплачивать постоянную пенсию, не смог найти себя после войны в мирной гражданской жизни. Спиртное, бедность, одиночество и туберкулез свели его в могилу. Только в 2015 году президент Обама награждает героя посмертно медалью Почета.
Гарри Трумэн к началу 1930 года выплачивает все долги, которые принес ему магазин мужской одежды. Но вскоре после краха как бизнесмена начинается его политическая карьера, которая основывается опять-таки на его контактах армейского времени. Сначала он выступает как окружной судья, чтобы затем шаг за шагом подняться вверх по карьерной лестнице. В 1945 году Гарри Трумэн становится 33-м президентом Соединенных Штатов и занимает этот пост до 1953 года. К президентским решениям бывшего артиллерийского офицера относится атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. В 1918 году он еще уверял, что больше никогда не сделает ни единого выстрела.
Двадцать первого марта 1933 года, в так называемый День Потсдама, бывший кронпринц Вильгельм стоит рядом с Гитлером в потсдамской гарнизонной церкви. В конце 1923 года Вильгельм Прусский прибыл в Германию как частное лицо. Через несколько недель после захвата власти национал-социалистами создается впечатление, что фюрер хочет исполнить свое обещание и дать возможность Гогенцоллернам вернуться на трон в Третьем рейхе. Но мечты быстро рассеиваются. В действительности Гитлер придерживался невысокого мнения о бывших немецких властителях, которые были слишком слабы, чтобы противостоять революции. Гитлеру вполне на руку, что смещенный кайзер закончит свои дни в голландском изгнании. Да и о старшем сыне Вильгельма, о регентстве которого ползут слухи, он тоже не особенно высокого мнения: ведь тот интересуется исключительно женщинами и лошадьми. Так что мнимо-символическая инсценировка в потсдамской гарнизонной церкви не возымела для Гогенцоллернов никаких последствий, и бывший кронпринц не играет в высших властных кругах Третьего рейха никакой роли. Его отец, последний немецкий кайзер, никогда больше не возвращается на родину. Согласно правилам оформления личных имен немецкой республики он зовется просто: Фридрих Вильгельм фон Гогенцоллерн. Он умирает в 1941 году в голландском изгнании.
Тюремное заключение Рудольфа Гесса вместо десяти положенных лет продлилось всего четыре. Бывший боец-фрайкоровец был выпущен из тюрьмы в рамках всеобщей амнистии. Оказавшись на свободе, он усердно занимается сельским хозяйством и вновь принимает активное участие в праворадикальных объединениях. Только с приходом к власти Гитлера в его жизни начинаются серьезные перемены. Он становится эсэсовцем, а через некоторое время и членом отрядов «Мертвая голова», охранявших концлагеря. В этом качестве он служит в различных концлагерях, пока в 1940 году его не назначают начальником лагеря смерти Освенцим. Как комендант лагеря Гесс несет ответственность за осуществление в Освенциме «окончательного решения еврейского вопроса». Под его началом здесь появляются газовые камеры, в которых с помощью смертельно ядовитого газа «Циклон Б» уничтожено более миллиона человек, большинство из которых — евреи.
В 1946 году Гесс, скрывавшийся после окончания войны под чужим именем, был арестован и отправлен в Польшу для вынесения судебного решения. На следующий год в Варшаве состоялся процесс, в результате которого Гесс был приговорен к смертной казни. Через две недели после оглашения приговора бывший комендант концлагеря был казнен через повешение перед своей бывшей резиденцией, от которой открывался вид на лагерь Освенцим.
Когда в Германии приходят к власти национал-социалисты, Жорж Грос находится в Соединенных Штатах Америки. Он и до этого жил в Нью-Йорке, сделавшись стипендиатом некоего объединения искусств, а 12 января 1933 года принял решение окончательно покинуть родину. Через несколько недель Адольф Гитлер становится рейхсканцлером. Новый режим громит берлинское ателье Гроса, намереваясь схватить самого художника. Но им его уже не достать. Чуть позже Жоржа Гроса лишают гражданства, а его картины, оставшиеся в Германии, признают «дегенеративным искусством». Находясь в Америке, художник может строить свой успех на том, что уже было достигнуто в Европе. Только в 1959 году, под давлением своей жены Евы, он возвращается в Германию. Но уже через несколько недель после приезда Грос, страдавший депрессией и алкоголизмом, падает с лестницы и умирает.
Арнольд Шёнберг, который в 1920-е годы был профессором композиции в Берлине, покидает Германию в 1933 году. В Париже он вновь переходит в иудаизм, прежде чем бежать из Франции в США. Он на какое-то время останавливается в Нью-Йорке и Бостоне, а потом занимает место профессора в Калифорнии. В 1941 году он получает американское гражданство и живет недалеко от четы Малер-Верфель на Беверли-Хиллз. В 1956 году он умирает от сердечного приступа.
Когда Мойна Майкл в 1938 году в возрасте шестидесяти девяти лет уходит на пенсию, ей есть что вспомнить из удивительных событий ее жизни. Она не только прошла путь от деревенской школьной учительницы до профессора университетского колледжа в ту пору, когда женщины в университетах еще были редкостью. Ее идея продавать искусственные красные маки в честь ветеранов Первой мировой войны завоевала весь англоязычный мир и вышла за его пределы. В США, Великобритании и в пятидесяти двух других странах каждый год 11 ноября продают цветы мака и носят их в петлице или на лацкане пиджака. С 1921 по 1940 год ежегодно по всему миру за маки выручали семь миллионов долларов, которые шли на помощь ветеранам. Что подумала эта когда-то энергичная, а в старости болезненная женщина, когда в последние годы ее жизни ей довелось узнать, что на полях сражений Второй мировой войны снова миллионы молодых людей теряют жизнь и здоровье? Конца нового массового смертоубийства Мойна Майкл не дождалась. Она умерла 10 мая 1944 года.
В 1941 году после завершения своего романа «Между актов» Вирджиния Вулф вновь впадает в состояние тяжелой депрессии. Леонард привозит ее к врачу в Брайтон. Но у Вирджинии Вулф нет больше сил противостоять мрачному безумию. Двадцать восьмого марта она покончила с собой, утопившись в реке Уз. Будучи прекрасной пловчихой, она кладет тяжелый камень в карман пальто. В прощальном письме к Леонарду она пишет: «Всё оставило меня, кроме уверенности в твоей доброте. Я просто не могу больше портить твою жизнь. Я не думаю, что в этом мире кто-то был счастливеe, чем были мы».
Кэте Кольвиц наблюдает в 1933 году приход к власти национал-социалистов, которые также объявляют ее искусство «дегенеративным». В 1940 году умирает ее любимый муж Карл. Убежденная пацифистка переживает Вторую мировую войну, но не дожидается второго мира. От бомбежки она бежит в Морицбург под Дрезденом, где умирает 22 апреля 1945 года, за несколько дней до капитуляции.
Нгуен Ай Куок после отъезда из Москвы несколько лет проводит в Китае, где в одном прогрессивном учебном заведении учит молодых вьетнамцев основам социалистической политики. И это, как и его деятельность в Париже и в Москве, служит подготовкой к осуществлению главной цели его жизни: добиться независимости Вьетнама. Возможности для этого появляются только во время Второй мировой войны, когда повстанцам удается военными средствами победить вишистскую Францию и ее союзника — Японию. В ходе августовской революции Вьетнам завоевывает независимость и становится демократической республикой. Нгуен, который принимает теперь имя Хо Ши Мин, 2 сентября 1945 года выбран ее первым премьер-министром и одновременно ее президентом. Во вьетнамской войне он поведет свой народ против могущественных Соединенных Штатов Америки.
Махатме Ганди пришлось ждать осуществления своей цели еще два года: независимость Индии была провозглашена в 1947 году. Однако вместе с ней приходит и раздел страны, которого Ганди пытался избежать. Так возникают преимущественно индуистская Индия и преимущественно мусульманский Пакистан. Через несколько месяцев после основания государства, ради которого он трудился всю свою жизнь, 30 января 1948 года, в семидесятивосьмилетнего политика попадает пуля убийцы Натхурама Годзе. Индуистский экстремист возлагал на Ганди ответственность за раздел Индии и был убежден в том, что Махатма предал интересы индусов.
Вальтер Гропиус, как Шёнберг и Грос, вынужден бежать от национал-социалистов, которые атакуют Баухаус как «храм марксизма». Через Англию он попадает в США, где становится профессором архитектуры в Гарвардском университете. Только в 1950-х годах Вальтер Гропиус вновь начинает курировать архитектурные проекты в Германии. Девятиэтажный блочный жилой дом с вогнутым фасадом в берлинском районе Ганзафиртель был вкладом Гропиуса в Международную выставку Баухауса в 1957 году. Гропиус умирает в 1969 году в Бостоне.
Бывшая супруга Гропиуса Альма Малер в это время уже пять лет как умерла. В последний период жизни, когда ее былая красота поблекла под натиском возраста и алкоголя, многократная вдова живет в Нью-Йорке. Родную Вену они с Францем Верфелем покинули незадолго до аншлюса Австрии с нацистской Германией в 1938 году. Любовь к Верфелю подвигла ее на то, чтобы пройти весь путь эмиграции вместе с ним. Через Пиринеи они уходят в Барселону, потом дальше в Лиссабон и оттуда в Лос-Анджелес, где к тому времени уже образовалась колония беженцев. Альма Малер хранит верность Верфелю до самой его смерти. В 1951 году вдова переселяется в Нью-Йорк, где проводит последние годы своей жизни.
После Второй мировой войны Рихард Штумпф живет в Тюрингии, в Хайлигенштадте, в советской зоне оккупации. По окончании той, первой войны он прежде всего находит работу, потом женится и становится отцом четверых сыновей. После первой пробы пера в войну, когда он писал дневник, Рихард продолжает писать и в послевоенное время, публикуя очерки о военно-морском флоте и на политические темы. Когда проходят времена фрайкора, Штумпф снова сближается с умеренными левыми и выступает против крепнущего национал-социализма. Соответственно, начиная с 1933 года ему сложно найти приличную работу. Печатную версию его дневника времен Первой мировой, красиво изданную в годы Веймарской республики, нацисты жгут на площадях. Когда в 1953 году рабочие выходят на улицы, протестуя против режима ГДР, Рихард Штумпф — в их рядах. Так он попадает в тюрьму и отныне находится под подозрением как противник режима. Он умирает в 1958 году гражданином ГДР.
Элвин К. Йорк умирает в 1964 году в госпитале ветеранов в Нэшвилле. Основанная им школа становится между тем публичным учебным заведением штата Теннесси. До сего дня шоссе Теннесси-стейт-хайвей, 127, строительство которого когда-то начал ветеран, так и называется — шоссе Элвина К. Йорка. Сопротивляться тому, чтобы его подвиг был увековечен на экране, он в конце концов прекратил. В фильме «Сержант Йорк» (1941) главную роль сыграл Гэри Купер, который получил за нее «Оскара».
Луизу Вайс, в довершение всей ее жизни как журналистки и как борца за единую Европу, а также за права женщин, в 1979 году избирают депутатом от французских голлистов в Европейский парламент. К тому времени европейке первого призыва уже восемьдесят шесть лет. До самой своей смерти 26 мая 1983 года она остается почетным председателем Европарламента, здание которого в Страсбурге с 1999 года носит ее имя.
Вместо послесловия
Воспоминания, слава богу, нельзя фотографировать. <…> Нет, если честно: если бы даже у меня был перед глазами весь материал — заметки времен Первой мировой войны, письма, паспорта, семейные фотографии, любовные письма, то есть все, что в течение оживленной жизни оседает вокруг каждого, как ракушки на днище корабля, — даже тогда я не смог бы использовать это так, как от меня ожидают. <…> Да, я люблю полутьму. И пожалуйста, не путайте полутьму с расплывчатостью или с размытостью.
Жорж Грос. Маленькое «да» и большое «нет», 1946Повествование в этой книге заканчивается взглядом Рудольфа Гесса назад, на содеянное им убийство в 1923 году. Но был ли это конец прорыва, конец тех лет, что начинаются яркой вспышкой кометы в 1918-м? Образуют ли они вообще отдельную эпоху? После которой в 1923 году наступает перерыв — так ли это? В пользу этой точки зрения говорит тот факт, что в последнее время некоторые историки, как, например, Роберт Герварт, чья книга вошла в прилагаемый список литературных источников, рассматривает годы с 1917 по 1923 как отдельную эпоху. Она берет отсчет с революции в России и заканчивается 1923 годом, когда после кризисов и переломов послевоенного времени во многих странах мира наступила определенная стабильность.
К человеку вроде Рудольфа Гесса образ канатоходца, приведенный в начале этой книги, на первый взгляд, наверное, не совсем подходит. Но даже если он не легконогий циркач, вдохновенно парящий над пропастью, параллели все равно есть: Гесс опьянен ранними вариантами тоталитарной идеологии и опытом смертоносного насилия, который он впервые вынес из своей солдатской жизни. В его поступках прослеживается развитие от обманчивого мира до диктатуры и войны. Вторая мировая война не только унесла, по сравнению с Первой, в три раза больше жизней, она стала также контекстом для систематического и массового убийства мирных жителей в таких размерах и в такой форме, каких в Первую мировую войну не существовало.
Но было бы неверно сравнить с хвостом кометы исключительно только всеобщее бегство в 1939 году. Позитивные представления о том, что ожидает мир впереди, которые породил 1918 год, тоже воздействовали на ближайшее и на далекое будущее. Даже если Веймарская республика, за которую боролся прагматик Маттиас Эрцбергер, была в Германии стерта с лица земли и сметена тоталитарными движениями, ее наследие осталось важным для строительства федеративной республики в послевоенное время — даже по принципу негатива, от которого приходилось отталкиваться. Даже если Лига Наций не смогла воспрепятствовать заострению международных конфликтов вплоть до новой мировой войны, ее деятельность накладывает отпечаток на мировую политику до сих пор, поскольку ООН в различных смыслах является ее наследницей. Равноправие народов, на которое чернокожие американцы напрасно надеялись после Первой мировой войны, во второй половине XX века завоевало решающие позиции. Надежды на свободу и независимость тех народов, которые до 1919 года еще не могли вскочить в этот поезд, такие как ирландцы, индийцы или вьетнамцы, наконец-то воплотились. Даже стиль жизни послевоенного времени стал образцом для подражания, особенно представления о свободной любви и сексуальности, которые провозглашала своей жизнью Альма Малер, или образ новой, равной мужчинам по рождению и равноправной с ними женщины, который освоила на собственном опыте Луиза Вайс.
Можно сказать, что это хоть в какой-то мере утешительная весть из 1918 года в наше смутное время — на сто лет позже. С 1989 года мир то и дело переживает полные надежд переломы и фундаментальные кризисы, а на небе высвечиваются как лучезарные, так и опустошительные очертания будущего. Но некое новое начало может завершиться и крахом, и может показаться, что по всему миру верх берут опасные, разрушительные силы — авторитарные режимы, популистские движения, терроризм, новые войны, все более разнузданный капитализм, — и все же особенно светлые моменты 1918 года учат нас, что все страшное нам не заповедано и не является неизбежным. Потому что в конечном счете в истории и в жизни всё и всегда находится в движении, любое состояние преходяще, и кометы — как это видно в изображении Клее — гонятся по кругу за своим собственным хвостом.
К вызовам, которые бросает нам «время кометы», наверное, относится ответ на вопрос, какую меру субъективности может позволить себе историк, — если речь идет и об очевидцах, и о нем самом, — когда эта субъективность невольно подмешивается к любому взгляду на прошлое. Я осознанно пошел на то, чтобы личные высказывания главных героев оказались в центре повествования и отчасти именно им отдавалось предпочтение даже в самых скандальных случаях, — совсем в духе процитированного выше изречения Жоржа Гроса: «Воспоминания, слава богу, невозможно сфотографировать». Я шел по этому пути даже по отношению к таким фигурам, как Марина Юрлова или Жорж Грос, когда очевидно, что личные воспоминания подверглись литературной обработке и впоследствии были драматизированы, или включая такие тексты, как воспоминания Хо Ши Мина, когда авторство расплывчато, или таких фигур, как кронпринц Вильгельм, или убийцы Согомон Тейлирян и Рудольф Гесс, которые однобоко отражают или вообще подтасовывают факты с тем, чтобы оправдать самих себя. Не слишком ли велика цена за содержательность повествования, когда неоднозначные фигуры под их собственным пером предстают в выигрышном свете, — это решать читателю, как и вопрос, позволит ли он автору применить в нужном месте силу воображения, чтобы объемнее и ярче представить сцены, найденные в источниках. Ни в коем случае не следует считать эту книгу объективным изложением исторических фактов, это скорее коллаж, собранный из свидетельств и рассказов о том, как самые разные действующие лица проживают время до и после 1918 года, вспоминают, оценивают и истолковывают, и при этом смотрят на все это, как говорится, со своей собственной колокольни.
По той же причине для меня важно было перечислить литературные источники, положенные в основу этой книги, чтобы читатель мог обратиться к ним и сравнить с научными исследованиями, где содержатся точно выверенные исторические сведения. Приводя этот список, я признаю тем самым свою вину по отношению к упомянутым фундаментальным трудам, среди которых, например, работа Реджинальда Исаака о Вальтере Гропиусе, биография Теренса Максвини Франсиса Костелоса, а также книга, написанная Нурией Ноно-Шёнберг в память об ее отце, — именно эти труды познакомили меня и с героями повествования, и с литературой о них.
Благодарности
На создание этой книги меня вдохновил кинопродюсер Гуннар Дедио. Он не только предложил мне внести свой вклад в виде книги в грандиозный инициированный им проект по истории межвоенного времени, но и несет ответственность за то, что по ходу совместной работы с ним над многочисленными сценариями у меня родилась другая, сценически ориентированная манера повествования. Обсуждения и беседы с киногруппой, которая одновременно с возникновением этой книги работала над десятисерийным телевизионным фильмом «Война мечтаний», где в центре внимания находились те же темы и мотивы, были для меня в высшей степени продуктивными. Моя благодарность за это прежде всего режиссеру и автору Яну Петеру, автору Фредерику Гупилу, а также продюсеру Регине Бучери.
Делая первые шаги по незнакомой территории повествования другого рода, другого способа приближения к истории, я постоянно ощущал поддержку Тобиаса Шёнпфлуга, который вдохновлял меня. Селин Довернь открыла мне глаза на взаимодействие истории и изобразительного искусства. Мой агент Барбара Веннер от начала и до конца помогала мне своей чуткостью и участием.
За веру в мой труд и за превосходную работу над изданием, от первых набросков и до окончательного варианта, я хотел бы поблагодарить издательство С. Фишер — в качестве полномочных представителей всего коллектива хочу назвать руководительницу программы Нину Силлем и редактора Таню Хоммен. Счастлив тот автор, которому в его издательстве выпало на долю такое плодотворное интеллектуальное общение и такая внимательная редактура!
Меня поистине окрыляла работа в кругу настоящих интеллектуалов Научной коллегии Берлина. Членам коллегии 2015–2017 годов я благодарен за это искренне, так же как и моим коллегам (среди них представители и моего пола, и противоположного) за вдохновение и поддержку, в особенности на завершающем этапе работы. Неоценимые услуги оказала мне библиотека этой организации, которая в кратчайшие сроки предоставляла даже самые редкие публикации, поддерживая мои поиски.
Большая часть рукописи была написана благодаря стипендии Канадского центра европейских исследований университета Монреаля, и многое в книге обязано вдохновенному диалогу с учеными этого университета. Моя сердечная благодарность директору центра Лоуренсу Макфоллсу, а также сотрудникам центра — ученым Тиллу ван Радену и Барбаре Териол.
Коллеги-историки читали отдельные главы рукописи и помогали своими идеями и конструктивной критикой. За это я особенно благодарен Штефану Малиновски, Барбаре Ковальзиг и Торстену Риотте. Их комментарии были в высшей степени ценными и помогли сделать книгу лучше — так же как и критический просмотр рукописи моими коллегами Николя Вилленберг и Карин Хильшер. Все недостатки остаются целиком и полностью на совести автора. Особого упоминания заслуживает мой отец Вольфганг Шёнпфлуг, который неоценимыми советами поддерживал этот труд и ту тему, которой он посвящен.
Примечания
1
ИМКА (от англ. Young Men’s Christian Association, YMCA — «Юношеская христианская ассоциация») — молодежная волонтерская организация. Стала известна благодаря созданию детских лагерей. Основана в Лондоне в 1844 году Джорджем Вильямсом (1821–1905), насчитывает около 45 миллионов участников в более чем 130 странах мира
(обратно)2
«Ladies Home Journal».
(обратно)3
Среди крестов, встающих из земли, О нас напоминая. И с небес Песнь жаворонка слышится окрест Сквозь рокот пушек, глохнущий вдали. Мы все мертвы — не досмотрев зари Иль отблесков закатных, полегли, Любимые и любящие, здесь — На нивах фландрских. Но жив огонь борьбы, что мы зажгли. Возьмите же его, пока враги Не затоптали угли. Нашу честь Несите высоко, иначе несть Нам сна, как буйно б маки ни цвели На нивах фландрских.Полный текст перевода с англ. выполнен Алексеем Шестаковым для настоящего издания.
(обратно)4
«Finie la guerre?» (франц.) — «Конец войне?».
(обратно)5
Перевод для настоящего издания выполнен Алексеем Шестаковым.
(обратно)



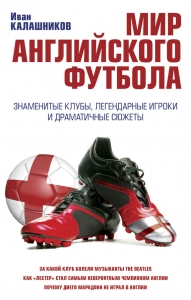

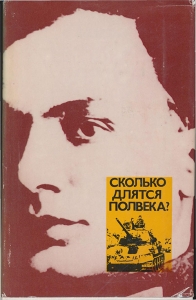

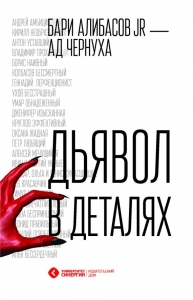
Комментарии к книге «Время кометы. 1918: Мир совершает прорыв», Даниэль Шёнпфлуг
Всего 0 комментариев