Себастьян Хаффнер Под маской англичанина
Разговор с Юттой Круг об изгнании
с послесловием Уве Соукупа
btb
www.btb-verlag.de
Группа издательств Random House fsc-deu-100
1-е издание
Одобренное издание карманного формата, декабрь 2008
btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2002 Deutsche Verlags-Anstalt,
München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Оформление обложки: semper smile, München
Фото на обложке: ullstein-bild/teutopress
Печать и переплёт: CPI–Clausen & Bosse, Leck
SL Herstellung: BB
Отпечатано в Германии
ISBN 978-3-442-73855-7
"Это повествование является не только подведением личных итогов автора, но и предоставляет также взгляд на его стиль работы и его политическое мышление. Оно может служить путеводной нитью для чтения значительных журналистских и писательских произведений Себастьяна Хаффнера". Neue Zürcher Zeitung
Книга
В лондонском изгнании Хаффнер в 1939 году написал "Историю одного немца". Спустя 50 лет молодая журналистка Ютта Круг посетила автора книги, которому было тогда уже за 80, и беседовала с ним о его жизни в Берлине и в изгнании. В получившемся из этих бесед интервью Себастьян Хаффнер излагает причины, по которым он покинул Германию и рассказывает о трудностях, которые у него сначала были в Англии. Кроме того, он рассказывает о своей журналистской работе в издававшейся на немецком языке эмигрантской газете "Die Zeitung" и позже в известной "Observer". "Под маской англичанина" не только захватывающее, личное повествование одной жизни, но и важное свидетельство того времени.
"Себастьян Хаффнер вновь представляется здесь с искрящимся интеллектом и изысканным юмором, так что чтение просто доставляет радость". Deutsche Welle
Авторы
Себастьян Хаффнер, родившийся в 1907 году в Берлине, был дипломированным юристом. В 1938 году он эмигрировал в Англию, где работал журналистом для ""Observer". Свою "Историю одного немца" он сочинил в 1939 году в лондонском изгнании. В 2000 году эта посмертно изданная книга стала бестселлером. В 1954 году он вернулся в Германию, писал сначала для "Die Welt", позже для "Stern". Хаффнер является автором ряда исторических бестселлеров, среди которых "Заметки о Гитлере". Он умер в 1999 году.
Ютта Круг, родившаяся в 1964 году, является редактором WDR в Кёльне. В 1994 году она получила германо-французскую журналистскую премию.
Уве Соукуп, родившийся в 1956 году — свободный журналист, опубликовал в 2001 году биографию Хаффнера "Я же теперь немец" (Ich bin nun mal ein Deutscher").
© Перевод с немецкого языка Кузьмин Б.Л., август 2014 — март 2015
Предисловие
Жизнь между времен
Дружелюбный белый снег выпал на серый Берлин в тот день 19 февраля 1989 года. Это была очень английская вторая половина дня, которую я провела с Себастьяном Хаффнером. Учтиво, изысканно он принял меня на чаепитие, во всём достоинстве преодолевшего восьмидесятилетний рубеж человека, в жизни которого отпечатались события 20 века. В нашем разговоре речь должна была пойти об одной главе этой столь динамичной жизни. Концентрированный, интеллигентный тон беседы, которым столь хорошо владел Хаффнер, тотчас же пленил и меня. Мне казалось, что каждый его взгляд из окна его квартиры в берлинском районе Далем был как бы взглядом в прошлое — на Берлин тридцатых годов, на эмиграцию и на его жизнь в Англии во время войны. Он пытался объяснить Германию англичанам — в то время, когда сам он её вероятно уже не совсем понимал.
Мне представлялось трудным делом — склонить Хаффнера к интервью, которое не должно было никогда быть опубликованным. Ему должно было показаться весьма странным то, что некая студентка приехала из Мюнхена, чтобы поговорить с ним об изгнании и написать об этом дипломную работу. Годы и десятилетия едва ли кто проявлял интерес к этому времени. Когда же Хаффнер давно снова жил в Германии и стал одним из влиятельнейших людей, создающих общественное мнение, речь шла уже о совершенно иных вещах: западная интеграция, строительство берлинской стены, кубинский кризис, скандал вокруг "Шпигеля". Хаффнер высказывал своё мнение по важнейшим общественным дискуссиям ФРГ. Он внес свой вклад в подъём общества в конце шестидесятых годов; в то же время он не оставлял и историю. Будь это его колонки в "Штерн" или его исторические книги — его стремлением было: объяснить Германию — в этот раз для самих немцев.
Когда я его встретила, у Хаффнера уже давно наряду с его английским паспортом снова в кармане был паспорт германский. Но в своих произведениях по истории он остался полностью англичанином: не академически чопорный, а эссеистически приверженный тезисам, "направленным на суть дела" — как он сам говорил — часто провоцирующим, всегда в поиске оригинальной перспективы.
Всё же темой моей дипломной работы был Хаффнер, сам теперь представлявший исторический интерес. В английских архивах я искала его статьи из лондонского периода, хотела знать, что им тогда двигало, как он раздумывал над Германией и как он, будучи эмигрантом, приобрёл политическое влияние. Разговор с ним должен оцениваться по методам "устной истории". Я хотела внести вклад в исследования эмиграции, в которых имелся большой дефицит. Моё желание взять интервью и моё исследование источников в Англии, моё стремление задокументировать его изгнание и тем самым запечатлеть то, что следовало ещё запечатлеть — это могло быть для Хаффнера маленьким удовольствием. Он этого не показал.
Когда после почти трехчасового разговора я заправила шестую кассету, наше путешествие медленно подошло к концу. Сумерки заполнили эту комнату, которая со своими книгами, ковриками и зимним садом давала некоторое ощущение нахождения вне времени. Наш разговор об эмиграции был образным и оживлённым до последней детали. Через послевоенное время мы всё же спешили всё убыстряющимися шагами. Себастьян Хаффнер устал, взгляд назад на долгую жизнь истощил его, и мне стало ясно, что я скоро должна прощаться.
Запись этого разговора пережила затем свою собственную историю: долгое время она таилась в подвалах мюнхенского универститета, пока Уве Соукуп при поисках материалов для своей биографии Хаффнера не обратил на неё внимание весной 2001 года. Таким образом я попросила его написать послесловие к этой книге, в котором он объясняет, сколь решающую роль играли годы ссылки в жизни и в писательской деятельности Себастьяна Хаффнера.
Когда же затем в конце лета 2001 года фальшивыми упреками в адрес Хаффнера "История одного немца" была представлена в совершенно сомнительном свете, то наш тогдашний разговор неожиданно приобрёл ещё и новое и совершенно другое значение.
Здесь Хаффнер рассказал об этой книге, которую он начал в 1939 году в Лондоне, но так и не закончил. Это была его первая попытка писательства в эмиграции. Тот, кто и впредь желает подвергать сомнению год создания "Истории одного немца", может интерпретировать высказывания Хаффнера за 10 лет до его смерти как сознательный обман. Дебаты о фальшивке превратились в газетную мимолетную вспышку. Себастьян Хаффнер мог бы лишь подивиться этому, возможно и повеселиться. Едва ли он стал по этому поводу волноваться — и в этом оставаясь совсем британцем.
Кёльн, 24 января 2002 года, Ютта Круг
Интервью
В 1938 году Вы решили эмигрировать. В краткой биографии об этом говорится так: "В Третьем Рейхе Себастьян Хаффнер более не стремился к карьере судьи". Вместо этого Вы начали писать для газет и журналов. Как проходил процесс принятия решения, который вёл к Вашей эмиграции?
В 1936 году я ушёл из юриспруденции. Я сдал экзамены на должность асессора как раз в 1933 году, это был мой второй юридический государственный экзамен. То, что с карьерой у меня ничего не выйдет, во всяком случае, пока существует Третий Рейх, это было для меня ясно с самого начала. Я тогда взял свой первый отпуск, который большей частью провёл в Париже, уже с задней мыслью возможно не вернуться, где написал свою докторскую диссертацию. Это был 1934 год. Но с тем, чтобы не вернуться, ничего не получилось. Так что я снова был здесь и ещё в течение двух лет, с середины 1934 до середины 1936 года, занимался разными делами, преимущественно замещал адвокатов, но также при случае работал в суде. Однажды пару недель я был в палате по разводам 1‑го земельного суда Берлина, это было весной 1936 года. Но всё это было очень "временно" по существу. Ведь в конце концов надо искать и где-то зарабатывать себе деньги. А я ведь был как раз юристом. Я изучал ведь юриспруденцию совершенно искренне в надежде, что затем стану когда-нибудь юристом в администрации и быть может попаду в какое-нибудь министерство. Но всё это рухнуло с приходом Гитлера. Что же касается писательства — я всегда немножко писал, уже и раньше, так, между прочим. Перед Третьим Рейхом я написал два романа. Так что я тогда находился в состоянии своего рода двойной жизни:
Я хотел стать высшим чиновником и влиять на практические вещи, а попутно писать романы, что в Германии безусловно не является обычным делом, но например во Франции явление повсеместное. Так что я остановился на писательстве и начал писать для газет. Романы я в то время больше вовсе не писал, это всё было слишком многословно. У меня также не было чувства, что роман такого рода, какой я бы охотно написал, мог бы быть опубликован. В этом не было ничего политического, но это больше не вписывалось в культурную атмосферу. Но написать безвредную статью, по большей части несколько снобистского характера, это ещё как раз проходило. В годы перед 1938 можно было, во всяком случае в Берлине, в целом ещё отчасти стоять в стороне от гитлеризма, вращаться в кругах, где не было нацистов и где продолжали жить как прежде. Это было возможно ещё долгое время даже в "Ульштайне[1]", не столько в газетах. Хотя — начал я в литературном приложении к газете "Vossischen Zeitung", когда она ещё существовала, зимой 1933-34 гг. однако после того, как " Voss" прекратила существование, я работал в основном как раз для газет, для " Dame", для " Koralle". Редакции — это были еще вовсе не нацистские редакции — состояли из старых сотрудников "Ульштайн". Дух издательства "Ульштайн" ещё довольно долго продолжал жить внутри. Атмосфера на третьем этаже "Ульштайн" была ещё очень не-нацистской, я хочу сказать — не анти-нацистской, но не-нацистской. Там можно было написать весьма безобидную, снобистскую вещицу, что я и делал затем ещё пару лет. Некоторое время я был своего рода редактором моды. Был вновь основанный, объединённый из нескольких журнал, который назывался "Neue Modenwelt" ("Новый мир моды") и у которого было приложение "Die kleine Zeitung" ("Маленькая газета"). Это была несколько снобистская, немного о моде, немного о том, что тогда считалось женскими вопросами, упорядоченная "маленькая газета" литературной направленности. Её редактором был я. Это был 1937 год. Поэтому жилось вовсе не плохо, и действительно было ещё ощущение того, что живёшь в не-нацистском мире.
В начале тридцатых годов также не верили, что это будет продолжаться двенадцать лет. Думали, ах, это всё ещё может пройти. Всё еще возлагали определённые надежды на вермахт, на рейхсвер, как он тогда ещё назывался. Были же и консервативные люди, которые позже, 20 июля [1944 года] частично приняли участие в путче. Тогда всё ещё имело место совершенно другое настроение.
Как раз лишь в 1938 это стало по-настоящему серьёзным. Только в 1938 правильно заметили, во всяком случае внутри страны, что Германия стала очень могущественной, что она приблизилась к войне, во всяком случае к захвату, что приведёт к войне. Тогда была Австрия, тогда был также большой кризис Бломберга-Фритча, так сказать, лишение рейхсвера власти. Это стало серьёзно, и я думал, теперь ты должен действительно видеть, что ты сюда не вписываешься. Также как раз ещё по моим личным причинам, поскольку я ведь жил здесь в "осквернении расы". Ведь я же стал неожиданно наказуемым, поскольку у меня были совершенно безобидные дружеские и любовные взаимоотношения с уже изгнанной со своей работы в высшей школе политики дамой, которая для Гитлера была еврейкой, в действительности же этого вовсе не было. С другой стороны дело обстояло и так, что мы ни в коем случае не жили в постоянном страхе, поскольку там, на Брайтенбахплатц, где тогда жила моя дама, и куда я приходил и откуда уходил, нацисты не жили. Было ещё другое окружение. Это была прежняя колония людей искусства, там не доносили. Всё же весьма интересно, что мы жили так в течение нескольких лет и ничего не произошло. Это было возможно, окружение состояло не только из доносчиков.
Со своей тогдашней подругой я вращался в кругу людей, которые позже стали знаменитыми, например Хухель, Айх, Хорст Ланге и его жена, Ода Шэфер, которая вскоре умерла. Это всё были явно выраженные не-нацисты, даже анти-нацисты. Естественно, все единодушно поносили политику. С другой стороны, это всё были молодые люди в том возрасте, в котором начинают основывать своё существование, зарабатывать деньги и вступать в брак, или уже состоят в браке. Это всё были интеллектуалы, которые могли зарабатывать деньги только своей головой, то есть на радио, в прессе или написанием романов, как Хорст Ланге. Не всё можно было писать так, как хочется, но тем не менее можно было избежать того, чтобы писать что-то против своей совести. Были ещё такие странные серые зоны, куда можно было втиснуться. Для меня это было издательство "Ульштайн", на третьем этаже в этом журнале о модах и прочем. Естественно, нельзя было писать: "Гитлер омерзителен", но можно было также не писать: "Фюрер чудесен". Писали именно о модах и лошадях, и писали снобистские книги.
Что было для Вас запомнившимися впечатлениями, которые привели к отрицанию национал-социализма и в конечном итоге к эмиграции?
Без обеих моих школ моя жизнь, особенно политическая, проходила бы безусловно совершенно иначе. То, что евреи для меня стали столь важны и что нацистский антисемитизм привёл меня к эмиграции, основано на моей первой школе, Кёнигштадтише Гимназиум поблизости от Александерплатц. Со мной в школе учились высокоинтеллигентные евреи, сыновья еврейских предпринимателей. Они были духовной элитой гимназии, и среди них я нашёл своих друзей и родственные души. Моя первая школа учила меня: евреи — лучшие, это интеллектуальная и культивированная Германия. Хорст Вессель[2] тоже был моим соучеником там, но только другом моим он не был.
В моей второй школе, гимназии Шиллера, я узнал вторую элиту, которая также всегда на меня влияла и к которой я ещё и сегодня немного привязан, а именно Малый Потсдам. Мы в 1924 году переехали в Лихтерфельде, а это был Малый Потсдам. В Потсдаме были генералы, там были полковники, средние и высшие чиновники, офицеры среднего звена. Там задолго до Гитлера жил дух 20-го июля [1944 года]. Это были люди, которые были совершенно против Веймарской республики, но которые были также против нацистов — они были против всякого варварства, они были именно элитой Германии. В Кёнигштадтише Гимназиум под влиянием еврейской элиты я был весьма левым, здесь я стал правым. Вся моя жизнь определилась моими опытами в этих школах.
Исходя из какой духовной позиции, из какой политической позиции Вы отвергли национал-социализм?
Политической позиции в определённом смысле я собственно вовсе не могу себе приписать. Я не принадлежу ни к какой партии, я никогда не был весьма решительным левым или демократом. Если бы правительство Папена — Шляйхера осталось надолго, я возможно был бы против по многим точкам зрения, но я не уехал бы.
Что меня реально определяло, то были две вещи: одна была то, что больше не было правового государства. В конце концов я ведь был юрист, и это не совсем случайно. Правовое государство — это было то, во что я верил. И все чудовищные нарушения права, которые немедленно произошли в 1933 году — устройство концентрационных лагерей, куда помещали людей без решения суда, без указания причины и содержали сколь угодно долго, и об условиях в них, царивших с самого начала, об этом ведь слышали — это было одно дело. Другим делом была история евреев.
Я не был евреем, но со школы у меня были очень близкие еврейские друзья и, когда я несколько повзрослел, также подруги. Я не хотел жить в стране, где я не мог искать себе ту компанию, какую я хотел. Я также с самого начала находил обращение с евреями возмутительным. Я не хотел иметь с этим ничего общего. Некоторое время даже ещё дела шли так, что можно было не эмигрировать. В середине тридцатых годов, особенно в 1936 ко времени Олимпиады, где ведь многое неожиданно было ослаблено, можно было этак несколько жить рядом со всей историей, как будто бы её не существовало, если ограничить себя соответствующим кругом. Однако затем в 1938 году всё это прошло окончательно.
То, что я ушёл из юстиции, связано также с принятием Нюрнбергских законов. Начиная с этого момента я был наказуемым, поскольку тогда уже у меня была подруга, на которой я затем женился, после того как я с ней эмигрировал. Кроме того, я возможно должен был бы применять такие законы. Это могло бы мне предстоять делать, останься я на юридической службе. Этого я не хотел. У меня также было ощущение, что в писательстве есть нечто интернациональное. Хотя я писал лишь по-немецки, но ведь существуют же переводы, и можно же лучше изучить другой язык.
Одним словом, в 1938 году это стало серьёзным, и тогда я решил всё же уйти. Это было вовсе не так просто. Моя подруга и я эмигрировали так сказать раздельно. Она эмигрировала официально: она уехала, даже с некоторым количеством денег, для чего она правда другую половину денег должна была оставить здесь в качестве налога на бегство из рейха. Мне пришлось искать какой-то иной способ, как мне суметь прокрасться в Англию, что я сделал при помощи наполовину фиктивного задания от издательства "Ульштайн". Я должен был что-то написать о больших благотворительных акциях лорда Нуффилда, автомобильного промышленника, который был тогда весьма знаменит из-за своих учреждений. Такого большого частного меценатства в сегодняшней Германии едва ли найдёшь, а тогда его и вовсе не было, и таким образом тема имела определённую сенсационную ценность. Это казалось мне безобидным, ни нацистским, ни предосудительным.
Люди в издательстве "Ульштайн", которые давали мне задание, знали: в действительности я не хочу его выполнять, я хочу уйти. Затем до этого задания также дело не дошло, поскольку в Англии я с самого начала стремился найти себе там средства к существованию.
Так что в 1938 году с некоторыми усилиями и трудностями мы выехали, впрочем, в различные даты. Моя подруга и в будущем жена уехала в июне, я в августе. 1-го сентября мы поженились в Кембридже, куда мы сначала отправились, поскольку там у нас было несколько знакомых и родственников, которые были связаны с университетом. В мыслях у меня было, что возможно будет снова начать что-то академическое. Из этого однако ничего не вышло. Тогда вначале у меня были очень скверные времена, потому что я основал семью — мой сын родился в конце 1938 года, моя дочь в начале 1940 — а у меня собственно не было ничего, чем я мог бы зарабатывать на жизнь. Когда затем в середине 1939 года я получил заказ на книгу от издательства "Варбург"[3] с авансом в 2 фунта в неделю, то чувствовал себя невероятно счастливым. Теперь у меня всё-таки была какая-то, пусть даже и скромная основа, на которой можно было начать как-то начинать существовать.
Тогда я также начал сначала старое занятие, какое ещё у меня было — продавать в Швейцарию статьи на немецком языке. Это приносило немного денег. И я начал писать для английских газет также такие незначащие, безобидные вещи. Это пошло ещё хуже. Я немного знал английский язык, у меня был мой школьный английский. Я взял также, прежде чем уехать, ещё несколько частных уроков, но то, что я писал, должно было быть с точки зрения языка затем переработано настоящим англичанином. Это не был настоящий, журналистский английский язык.
Когда разразилась война, я оставил ту книгу, которую мне предложило издательство "Варбург" и посчитал, что теперь следует писать нечто такое, что полезно и важно для войны. Таким образом я написал книгу, которая затем была издана в Англии и в Америке под названием: "Германия: Джекилл и Хайд". В ней я попытался столь хорошо, как я это мог тогда, дать анализ различных настроений народа и народных течений в Германии. Задним числом я должен сказать, что хотя многие наблюдения были вполне верными, книга была слишком оптимистичной. Я просто исходил из того, что есть огромное количество людей, которые вовсе не были нацистами, не все они великие борцы, однако имеет значение как раз то, что нацизм всё же поддерживается едва ли половиной народа. При этом я во-первых недооценивал развитие в Третьем Рейхе — что было верным в 1933-34 гг., в 1938-39 уже не было таковым. А во-вторых, я переоценивал силу истинной враждебности. Это была слишком оптимистическая книга, однако она не была совсем уж глупой, поскольку я нашел много отличий, в том числе внутри пронацистских кругов. Она вышла и имела определенный успех, и принесла моему имени таким образом некоторую известность на сцене.
Почему вы выбрали Великобританию в качестве страны эмиграции?
В 1934 году я ведь был уже во Франции, когда работал над своей докторской диссертацией, и я был там с удовольствием. Франция — прекрасная страна. Уже тогда Франция была переполнена немецкими эмигрантами и в принципе не хотела их принимать. Меня вовсе не удивило то, что во Франции с эмигрантами из Германии позже с началом войны обращались как с враждебными иностранцами и интернировали их, частично с ужасными последствиями, поскольку они тем самым преподнесли их нацистам на блюдечке с голубой каёмочкой. Хорошо, столь далеко в 1934 году мы ещё не зашли, но я заметил: Франция — это страна не для эмиграции. Франция очень хороша для людей, которые имеют с ней связи, принадлежат к ней, имеют деньги. Но если приходишь как немецкий эмигрант, то тогда прежде всего ты немец, что во Франции тогда не слишком пользовалось уважением. До Америки наших денег попросту не хватало. Америка была очень далеко, также туда было очень затруднительно попасть. Требовались поручители, а это было невозможно.
Между тем была ещё Англия, а в Англии уже была часть семьи моей жены. Было также весьма приятно, что там мы будем со своими, хотя они все как раз сначала весьма много чего пережили, однако всё же кого-то знали и не совсем уж были самим себе предоставлены. Чего-либо гораздо большего собственно и не было. Ладно, Англия симпатичная, цивилизованная страна, у неё хорошая литература, хорошие газеты, хорошие университеты. Быть может, к чему-то и получится привязаться. Так что не было такого, что я планировал там что-то определённое. Однако решение оказалось впоследствии очень счастливым, потому что во Франции люди оказались затем всё же снова под нацизмом, и там им было хуже, чем в Германии. Англия же сохранилась, всё же они были на острове.
Тем не менее в Англию попасть было очень трудно. Когда я сказал, что хочу сюда, чтобы жениться, поскольку в Германии я не мог жениться на женщине, на которой хотел жениться, то англичане заявили, что я сумасшедший: "На какие же средства Вы хотите здесь жить, у нас безработица". Во время войны это изменилось. Однако перед войной было тяжелее куда-то вписаться, чем отсюда уехать.
Как Вы получили информацию о Великобритании, как стране эмиграции? Какую картину Вашей эмиграции Вы создали из того, что Вы там ожидали?
Я уже бывал однажды в поездке в Англию. При этом я уже немного расспрашивал о жизни там, например брата моей жены и обеих её сестёр. Одна из них была актриса и у неё было какое-то занятие, а другая была в Лондоне в берлинском союзе неарийских христиан. Так что у неё тоже было какое-то дело. Позже она установила связь с квакерами, которые меня спасли.
Собственно говоря, в Германии знали довольно много об условиях для немецких эмигрантах в той или другой стране, в особенности, если сами намеревались эмигрировать. Некоторым образом ведь у меня всегда была эта мысль. Кроме того, прислушивались к тому, о чём говорят вокруг. Например, в олимпийском 1936 году, когда всё здесь было очень ослаблено, были еврейские эмигранты, которые временно возвращались сюда, смотрели олимпийские игры — с ними также ничего не случалось — и они естественно также рассказывали, как обстояли дела вне Германии. Общее впечатление тогда во время Олимпиады было такое: здесь давно уже не так плохо, как мы думали, а там гораздо тяжелее, чем мы предполагали.
Было два мнения. В кругах, о которых я рассказываю, я уже тогда говорил — и Ольга Шэфер даже повествует об этом в своих воспоминаниях — что следовало уезжать, здесь так или иначе ты будешь во всё вовлечён. Ведь нужно жить, для этого нужно работать, а мы все можем лишь писать или работать на радио, а это особое царство Геббельса, и там не избежать определённого сотрудничества, хочешь ты этого или нет. Некоторые были другого мнения, и они оставались. Но эти также вовсе не были нацистами, напротив. Эмиграция была непростым решением также и для анти-нацистов, а именно среди интеллектуалов, которые зависели от своего языка. И кто знает, что сделал бы я, не будь у меня также ещё и моих особых причин.
Как Вы оцениваете возможность внутренней эмиграции?
Внутренняя эмиграция, то есть когда ни в чём не принимают участия, не становятся членами никаких организаций — это половинчатое решение. Можно было внутренне быть совершенно против, внешне же всё же действовать на пользу режима. Это я впрочем описал в своей самой последней книге и при этом имел перед глазами определённый пример, человека, который тогда работал в киноиндустрии и в своих воспоминаниях ставил себе в заслугу то, что все фильмы были абсолютно такими, как если бы нацизма вовсе не существовало. Эти фильмы киностудии UFA тридцатых годов были совершенно аполитичными, никто ведь не произносил слов "Хайль Гитлер". При этом он оценивает это как своего рода сопротивление, однако это было именно то, чего желал Геббельс. Фильмы должны были быть безобидными, люди здесь должны иметь свои развлечения, а люди во внешнем мире должны видеть, что в Германии всё лишь наполовину так скверно, даже всё совершенно нормально. Всё это было для меня несколько сомнительным.
Я часто разговаривал об этом со своей теперешней женой, моей второй женой. Она была в то время здесь журналистом, и она всегда защищает это. Она говорит, что ведь здесь были также и не только нацисты, и люди ведь хотели читать хоть немного приятных вещей. Да и о себе следует думать тоже. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что это была обоюдоострая позиция, и при этом невозможно иметь совершенно чистую совесть, именно в том числе и когда приуменьшают опасности жизни здесь и приукрашивают её. Это относится также к дирижёрам — Фюртвэнглеру, Бёму — которые остались здесь и вообще говоря, делали высоко ценимые концерты симфоний Бетховена. Естественно, тем самым они дарили радость многим не-нацистам и анти-нацистам, однако одновременно они украшали Третий Рейх и вносили вклад в преуменьшение его опасности, желая того или нет. Однако об этом сегодня можно думать по-разному. С другой стороны, если бы выехали все не-нацисты, какой стала бы тогда жизнь здесь?
В чём состояли главные проблемы Вашего начального периода в Великобритании?
Они были финансового плана. В определённом смысле то, что я начал, было безумием. Я эмигрировал и основал семью в стране, языком которой я не владел, где я никогда не имел постоянного вида на жительство.
Нашли ли Вы в свой начальный период поддержку Организаций?
Когда в мае 1939 года меня намеревались снова выслать, поскольку ведь я приехал под фальшивым предлогом, то сколь ни смешно — мне помогли квакеры, которые тогда вообще очень помогали и приняли участие в довольно большом количестве подобных экстренных случаев.
Так вот, теперь ведь у меня было достаточно времени, чтобы писать репортажи для "Ullstein", а то, что я между тем женился и что не могу больше вернуться, да, это было моим делом. Я совершенно не воспринимаю это как зло со стороны англичан. Им не нравилось это наполовину мошенничество, на которое я был обречён, им бы и сегодня это не понравилось, и это ведь достойная черта у них. Мне это весьма угрожало. Так что одна дама из квакеров пошла в министерство внутренних дел и сказала, посмотрите же, мужчина основал здесь семью и сделал невозможным свое возвращение в Германию. Мы же не можем отослать его назад. Она аргументировала свою позицию ещё другими подобными гуманитарными причинами. Так я получил на год вид на жительство, и я этим был уже совершенно успокоен. Затем весной, летом 1939 года уже было видно, что в течение года начнется война, и тогда тебя не смогут больше выслать обратно в Германию. Так что собственно после этого я не пользовался поддержкой эмигрантских организаций.
Рассматривали ли Вы с самого начала свою эмиграцию как ограниченную во времени? Приехали ли Вы в Великобританию с мыслью, что возможно очень скоро снова вернётесь в Германию?
Таких мыслей у меня тогда больше не было. В 1934 году они у мене не только были, но я также их выполнил и поехал во Францию под половинчатым предлогом. Требуемые исследования для своей докторской диссертации о международном праве при необходимости я мог бы выполнить также и здесь. Однако я осознанно производил их за границей с задней мыслью: быть может, потом возможности не представится.
Однако тогда всё это было ещё не очень серьёзно, и у меня было чувство, кто знает, что произойдёт в Германии и сколь долго вся эта нелепица продержится. И вот так я и вернулся. Однако в 1938–1939 гг. такого больше не было. Тогда знали, что дело идёт к войне. И были ведь также мои внутренние побудительные мотивы, кроме практических и очень срочных — то, что я хотел уйти из сферы понятий об "осквернение расы" и хотел жениться, и хотел быть нормальным гражданином где-нибудь в другом месте, пусть даже и иностранцем.
Непосредственно мне угрозы не было, поскольку я разлучился со своей подругой, со мной в Германии совершенно ничего не произошло бы, но я должен был бы принимать участие в войне Гитлера на его стороне, и вероятно в качестве писателя, поскольку я был более годен в таковом качестве, нежели в роли солдата. Принимать участие в войне для Гитлера — даже если и вряд ли с оружием в руках: мне было тридцать лет, я никогда не служил, но с пером в руке — нет, этого я не хотел. Я не заходил настолько далеко, что я буду участвовать в войне с пером в руке на другой стороне — это пришло позже. Однако я не желал вносить какой-либо вклад в это на стороне Гитлера. Внутреннее это также сыграло свою роль.
Каким было Ваше самоощущение в качестве эмигранта? Видели ли Вы себя в качестве политического эмигранта или вы отвергаете это определение?
Политическим эмигрантом в узком смысле (то есть то, что я эмигрировал, поскольку был социал-демократом, коммунистом или даже монархистом — да, была и правая политическая эмиграция) я не был, это не так. Однако в этом отношении я всё же был политическим эмигрантом, поскольку я эмигрировал из-за политического развития в Германии. По отношению к себе у меня не было никаких причин для эмиграции из Германии, где мне жилось хорошо, меня не преследовали, но я был против всего этого политического развития, особенно такого, каким оно вырисовывалось с 1938 года, а именно агрессивного, воинственного и также внутренне гораздо худшего. Антисемитизм присутствовал всегда, и с 1933 года начались многие подлости в отношении евреев, однако преследование евреев в том смысле, когда это может им стоить жизни — оно было лишь с 1938 года.
Таким образом, ситуация в Германии казалась Вам более внушающей опасения и более угрожающей, чем путь на чужбину и в неизвестность?
Да. Развитие ситуации в Германии было внушающим опасения и угрожающим, и я не хотел принимать в этом участия. Естественно, у меня были опасения, и я думал о том, чем ты теперь рискуешь — созданием семьи плюс эмиграция в чужую страну плюс потеря денег.
С другой стороны, у меня были определённые надежды. Англия предлагала разнообразные возможности. Мы поехали в Кембридж, отчасти потому, что брат моей жены занимал скромный пост в Кембриджском колледже — позже он стал вполне успешным профессором. Возможно, думал я, я тоже смогу там начать что-то подобное. Правда, ему было это легче сделать: он был математиком — а я юристом. Математика — это нечто интернациональное, однако юриспруденция целиком и полностью привязана к стране. Именно английское право оставалось мне всегда весьма чуждым, поскольку ведь в своей основе оно совершенно другое, чем германское и любое континентальное. На континенте право и закон — это практически одно и то же. Что не указано в законе, в конституции, на бумаге — то не является действующим правом. В Англии право длительно развивалось на прецедентах и уже имевшихся подобных приговорах в подобных случаях. Оно всегда развивалось дальше само по себе судьями. Впрочем, и сегодня дело обстоит так же. Английское и американское право — это постоянно развивающееся, живое, не кодифицированное право. Там мне надо было бы заново полностью изменить мышление, и собственно говоря, учиться с самого начала. Это было невозможно, я видел это с самого начала. Юристом там я стать не мог.
Кембридж был Вашей первой станцией, когда Вы поехали в Лондон?
В Кембридже мы сначала сняли домик. Когда моя мысль о работе в университете оказалась нереалистичной, то я в течение 1939 года снова переключился на писательство. То, что я тогда писал, относилось к очень личному. Я не хочу назвать это автобиографией — в автобиографиях я уже тогда не видел смысла. Я писал о том, что я лично видел и пережил, о разговорах, которые я вёл. Я описывал круги, в которых я вращался, и какая жизнь была в Германии, а именно ни в коем случае не так, что все немцы были нацистами, но с другой стороны и не так, что в повседневности едва ли существовал нацизм. Я описывал это так, как я это пережил, что можно было немножко стоять в стороне от всего этого. Всё это было тесно связано с моими личными впечатлениями во время работы в издательстве "Ульштайн" или в суде. Я писал о неприятных вещах и что при этом было ещё поразительно нормальным. Этот текст был моей первой затеей.
Я мысленно взвешивал — а что же ты собственно можешь написать. И мне бросилось в глаза то, что тем самым возможно получится найти в Англии публику, потому что отношения с Германией в свете витавшей в воздухе войны приобрели важность. Во многих кругах задавали вопрос — что же собственно говоря представляет из себя эта Германия, мы же её знали. Что же, немцы сошли с ума, действительно они все сошли с ума?
Хотел бы сказать, что и сегодня ещё в Германии едва ли известно, что жизнь в Германии, во всяком случае до 1938 года, была ещё очень дифференцированной, что можно было вести ничем не ограниченную жизнь, во всяком случае в Берлине, и как я слышал, также и в других больших городах, особенно в Гамбурге — в кругах, в обществах, где не встречалось ни одного нациста. С другой стороны нацизм естественно воздействовал на всё: люди теряли свою работу, служащих увольняли, существовали Нюрнбергские законы — это уже было вмешательство в частную жизнь.
Сегодня уже трудно себе представить жизнь в течение шести мирных гитлеровских лет, с поразительными ограничениями, однако ни в коем случае не так, что человек существовал в тоталитарном государстве, где невозможно было сделать движение, не произнеся слов "Хайль Гитлер". Естественно, что это было по-разному в различных регионах. В малых городах вероятно было тяжелее жить своей жизнью, и в особенности в сельской местности. Знали точно, что в Германии существуют местности, которые были очень пронацистскими, а другие нет, и это также по-разному. В Берлине, и позже я заметил, также и в Гамбурге был ещё очень силён "Дух Веймара", дух либеральной, полулевой, немецко-еврейской культуры. Где-нибудь в другом месте тоже был своего рода анти-нацизм, однако снова совершенно иной, это было в дворянских поместьях в восточной Померании, где говорили: эти дебоширы, эти пролетарии. Другие области были очень нацистскими, в сторону южной Германии, например, ситуация становилась хуже.
С конспектом этих воспоминаний Вы обратились в издательство "Secker & Warburg"?
Да, причём Секера тогда уже не было, он сохранялся ещё только на вывеске. Однако книга так и не была закончена. Рукопись всё ещё лежит в ящике письменного стола. Когда разразилась война, у меня было чувство, что теперь наступило слишком серьёзное время для этих личных, воспринимавшихся литературно воспоминаний. Я принялся писать систематически.
У меня ведь помимо всего прочего было ощущение того, что англичане знают о внутренних немецких делах и чего не знают. Они знали очень немногое. Существовало либо мнение, что все немцы стали нацистами, либо мнение, что в Германии существует чудесная оппозиция, которая в скором времени возьмёт власть. Оба мнения были распространены, и оба я находил ошибочными.
Я попытался написать дифференцированный, однако же объективный, серьёзно обдуманный анализ массовых настроений в Германии. Из этого получилась книга "Германия: Джекилл и Хайд". "Варбург" весьма охотно согласился на моё предложение написать эту книгу и платил мне далее мои два фунта в неделю. Рукопись на немецком, впрочем, оказалась потерянной. Мне теперь несколько раз предлагали разрешить перевести английский текст обратно на немецкий, но я этого не очень хотел бы. Я написал эту книгу для англичан того времени; для нынешней немецкой публики она не задумывалась.
Так что книга была создана в первую военную зиму, когда война, так сказать, ещё была ненастоящей. Мне очень повезло, потому что я как раз её закончил, когда меня интернировали в первый раз. Это было в феврале 1940 года. Англичане пытались быть очень пунктуальными с эмигрантами. Существовали так называемые "трибуналы", следственные трибуналы, состоявшие из одного человека, в которых немножко трясли отдельных эмигрантов. Проверялись взгляды и обстоятельства жизни, чтобы увидеть, не подвергались ли люди какому-либо искушению, поскольку у них не было надёжного существования. Не следует представлять себе это как немецкий судебный процесс. Людей выслушивал этот один человек, опрашивал, и притом не очень обстоятельно. Большей частью это был адвокат, не судья — в Англии это очень редкая и высокая должность — однако всё же как правило кто-то с юридическим образованием.
Со мной этот человек, что вёл трибунал в Кембридже, не смог начать ни с чего. Он вероятно думал, это вовсе не еврей, его не преследовали, теперь он здесь женился на еврейке, однако это могло также быть предлогом, возможно он всё же германский агент — посадим-ка мы его лучше за решётку и интернируем. Так в феврале 1940 года меня в первый раз интернировали. Мою жену тогда не интернировали, ведь она была для Гитлера еврейкой. Тем самым в глазах англичан у неё было основание эмигрировать. Кроме того, она ведь должным образом вступила в брак. Однако со мной вставал вопрос — кто же это собственно такой, чего он искал в Англии и на что он собственно говоря живёт — ведь по сути два фунта в неделю не были основой для жизни.
Так я попал в очень смешной лагерь — Ситон в графстве Девон. Собственно, это был "лагерь для отдыха" с маленькими хижинами и большим зданием, где можно было питаться. Он был рассчитан в первую очередь на лето. Теперь же была довольно суровая зима. Все эти хижины не отапливались, и потому в них было некомфортно. Однако с нами обращались очень порядочно и прилично. Я не могу пожаловаться на оба моих интернирования. Еды также было достаточно, и кроме того, комичным образом мы были избавлены от забот. Теперь обязанность заботиться о моей семье лежала на англичанах. Ведь из лагеря для интернированных я не мог больше ничего сделать.
Лагерь был настоящим срезом с общества тогдашней Германии. Были настоящие про-нацисты, были также крупные анти-нацисты, было довольно много коммунистов — Россия и Германия были ведь тогда почти союзниками, и коммунисты так или иначе не были уважаемыми в Англии и их очень охотно интернировали. Была также команда и пассажиры с судна организации KDF[4], захваченного с началом войны где-то в мировом океане и интернированного, и это также снова было срезом немецкого общества. Когда-то это были совершенно нормальные, аполитичные немецкие рабочие или обыватели. Однако естественно, что на судне была также ячейка гестапо, которая должна была наблюдать за этими людьми, и это были настоящие нацисты. Так что мы все сидели в этом лагере, домик рядом с домиком. Я снова был почти что немножко в Германии, разве что только под надзором англичан.
В этом лагере я очень дружил с сыном или пасынком Зигфрида Якобсона, основавшиго еженедельный журнал "Вельтбюне" (Weltbühne). В этом лагере были также люди с правыми убеждениями, которые на свой лад также были анти-нацистами, однако которые, будучи националистами, к англичанам относились с подозрением.
Мой издатель Варбург вытащил меня из этого лагеря. Он пошёл в министерство внутренних дел и сказал: этот человек написал чрезвычайно интересную книгу, которая может стать для нас во время войны очень полезной. Почему вы его интернируете, мы должны его использовать лучше и зачислить на службу, а не запирать. Ему это удалось сделать, и уже в середине апреля я вышел на свободу.
Тем самым он, не зная этого, спас мне жизнь, потому что лагерь в Ситоне, графство Девон, который действительно был частично пропитан нацизмом, в июне был эвакуирован в Канаду. Судно "Arandorra Star" было торпедировано и большое число моих товарищей по заключению при этом утонуло, среди них один, который мне очень нравился, молодой человек по имени Мельхиор, сын немецкого промышленника. Он приехал в Англию, как и я, без внешне достоверных оснований. Он не был евреем, его не преследовали, возникал вопрос: чего желает здесь такой человек, возможно, он всё-таки агент, и таким образом его интернировали. Он утонул.
Когда меня отпустили, моя книга ещё не была издана, однако раздавалась в небольших количествах в виде предпродажного тиража, и неожиданно в конце апреля, в начале мая я начал быть немного известным в политических кругах, среди депутатов и журналистов, прежде же я был Никто. Это было прекрасно, у меня был маленький успех; так что это было начало в мае 1940 года.
Затем 10 мая на Западе началась настоящая война, и 12 мая все люди, которые жили в определённых полосах побережья, к которым принадлежал также Кембридж, были интернированы, в этот раз все без исключения и без трибунала. Это было воскресенье троицы. Меня забрали утром и также снова интернировали, мою семью лишь сначала ещё не забрали, но затем позже забрали и их. Я оказался в лагере Дуглас на острове Мэн.
Это второе интернирование было массовым; в первом же, в отличие от него, были действительно всякие отобранные люди. Во втором лагере сначала всех подвергли чистке. Возможно, частично это даже делалось с хорошими намерениями. Тогда вполне считались с возможностью немецкого вторжения, и те, кто жил поблизости от побережья, могли бы вероятно уже вскоре снова попасть в руки немцев. На острове Мэн люди по крайней мере находились несколько дальше на запад.
Неприятным во втором интернировании было то, что не было сделано нужных приготовлений для таких масс людей. Лагерь не был правильно устроен, не было управления, не было регулярного подвоза продуктов питания. Воспринималось это тяжело, не потому, что англичане делали это со зла, но потому что ничего не ладилось. Первые недели были очень неуютными, позже всё урегулировалось, и собственно говоря, после этого жизнь на острове Мэн была совершенно идиллической, ведь было лето.
Варбург снова немедленно меня вытащил, между тем вышла моя книга, и как раз в тот день, когда пал Париж. На неё был определённый отклик. Были запросы в парламенте. В этой ситуации, где собственно другое было более насущным, в Англии было много политиков, которые говорили, что мы совершаем неправое дело, заключая под стражу "беженцев", это же преследуемые Гитлером люди. Мой случай совершенно подходил для них: вот человек, который как раз написал книгу, важную книгу, в соответствии с которой мы, возможно, сможем немного подкорректировать нашу пропаганду, а мы этого человека помещаем в заключение. Таким образом, я стал одним из первых, кого снова выпустили, чтобы этим парламентариям, так сказать, заткнуть рот.
Как раз в день, когда меня выпустили, произошёл первый воздушный налёт на Лондон. Так что в Лондоне я оказался среди бомбардировок, что однако для меня не имело большого значения. У меня не было большого страха перед бомбами. За одну бомбардировку погибало примерно четыреста человек из населения в примерно восемь миллионов. Тем самым шансы выжить были весьма высоки. Лондонцы также воспринимали всё это с определённой флегматичностью, без пафоса, в чём разумеется есть также определённое мужество.
Была ли у Вас в обоих лагерях культурная активность?
Разумеется, была культурная активность, собственно преимущественно это были разговоры, частично также немного высокого искусства. Были люди, которые очень хорошо играли на рояле, и они время от времени устраивали вечер игры на рояле. В Ситоне я ведь был не очень долго, и публика там была также слишком несоответствующая, к тому месту это не подходило. Однако на острове Мэн позже был настоящий лагерный университет. Но я этого уже не застал, ведь оба раза я был интернирован лишь очень кратко, каждый раз примерно на два месяца. Пока всё это начало правильно функционировать, я был уже снова выпущен на волю.
Ваше интернирование у Вас не вызывает возражений или же оно продукт ошибочного, недопустимого образа действий?
Для меня понятно уже, что касается моего первого интернирования. У англичан были как раз определённые категории. Они ведь знали немного об отношениях внутри Германии. Кто эмигрировал в качестве еврея, был "беженцем", преследуемым — это было понятно; равным образом, когда кто-либо эмигрировал как политик, зарегистрированный член СДПГ или коммунист, причём коммунисты вначале были под особым подозрением. Однако если кто-то эмигрировал, когда он с таким же успехом мог оставаться в Германии, то в этом случае возникал вопрос: "Чего он хочет здесь?"
Ваша книга "Германия: Джекилл и Хайд" была попыткой дать англичанам возможность понять немцев. Вы приписываете национальному характеру немцев в отношении политики тенденцию к варварству, политика для немцев — это сфера бессовестного.
Да, немцы так рассматривали международную политику, и это было так собственно уже со времени основания рейха. "Великие вопросы времени разрешаются не постановлениями парламента, но железом и кровью[5]", и это подтверждалось каждый раз. Так я вижу это и сегодня, оглядываясь назад. Существует непрерывность.
В своей последней книге я обсуждаю также и вопрос, был ли Третий Рейх чем-то действительно совершенно новым и иным, или же перевесила всё же непрерывность. Я прихожу к выводу, что перевесила непрерывность. Существовали новые стремления, которых прежде не было, но это следствие развития.
Частично книга "Германия: Джекилл и Хайд" была пророческой в тех советах, которые я дал англичанам. Потому что я предлагал федерализацию, или ещё более, чем федерализацию — создание земель позднейшей Федеративной республики, разумеется, я так сказать "распускаю" Федеративную республику. Следовало создать германские земли и из них своего рода объединённую Европу, и ничего между ними. Тогда я ещё был того мнения, что англичане выиграют войну. То, что они к концу очень мало будут участвовать в разговоре, не было мне понятно.
В английском послевоенном планировании по Германии снова и снова всплывает идея федерализации. В литературе Вас называют её инициатором.
Всплывает ли эта идея снова и снова потому, что я написал об этом, мне неизвестно. Это называлось бы переоценкой моего влияния. Верно то, что в немецкоязычной литературе в первый период войны эта идея по большей части не играет никакой роли, потому что настроенные против Гитлера немцы в Англии были преимущественно социал-демократами или коммунистами, или же своего рода монархистами.
В своей последней книге я снова возвращаюсь к этому вопросу. Действительно правильное и по сути хорошее развитие, которое было в послевоенное время, это то, что Германского Рейха как такового больше нет, причём я думаю меньше об обоих германских государствах, естественно и об этом, но о многих землях Федеративной республики, которые я как и прежде считаю реальностью, которые даже развивались всё больше и больше. В отношении новых земель были настроены скептически и считали, что из этого выйдет — это искусственные образования и создания оккупационных властей. Однако из этого кое-что получилось. Северный Рейн-Вестфалия действительно уже реальность, со своего рода собственным сознанием, с собственной политикой. Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн — это тоже региональные сущности с собственным сознанием. Я считаю это гораздо лучшим, чем то утрированное германское национальное сознание времён рейха, которое и дало Гитлеру возможности манипулирования.
Уже немецкий национализм, в котором я вырос ребёнком во время Первой мировой войны, имел нечто гипертрофированно истерическое и опасное — Германия, Германия превыше всего! Тем самым никогда не имелось в виду, что Германия должна над всем господствовать, но то, что Германия должна быть для нас превыше всего. Но когда это так интерпретируется, то это означает: национализм как высшая религия, в чём есть нечто болезненное. Это было своего рода вырождение. Когда-то я написал, что с 1918 года немцы — политически душевнобольной народ, и такими они были до 1945 года. Так что не лишь при Гитлере, но также уже во время Веймарской республики существовала политически чудовищная истерическая атмосфера. Этот ужасный национализм и это "мы не виновны в войне, и мы ее, в сущности, выиграли" — это было страшно.
Как бы Вы объяснили название книги "Германия: Джекилл и Хайд"?
Название намекает на двуличие немцев. Ведь существует эта история Стивенсона, о докторе Джекилле, который днём — обыкновенный обыватель, а вечером становится преступником — мистером Хайдом. Немцы сами по себе — великий культурный народ с единственной в своём роде музыкой и внушающей большое уважение литературой, с неповторимым изобразительным искусством, и однако затем они способны на такие вещи, как Холокост. В качестве аргумента в пользу федерализма в своей книге я привёл то, что они в качестве жителей отдельных малых, в крайнем случае средних государств очень уживчивы и приличны, однако как жители великой державы они становятся несимпатичными.
Впоследствии я впрочем нашёл очень большую поддержку в этом вопросе у Ханса-Ульриха Велера, который написал эту толстую книгу по немецкой истории, причём он наверняка не знает моей книги. Он говорит, что основание рейха испортило немецкий политический характер. Как представители великой державы немцы были невыносимы, в то время как ранее, будучи государственным союзом малых и средних государств они были совершенно милыми людьми. В качестве великой державы они всё-таки потеряли определённое чувство меры. Так, как вели себя немцы, не вела себя никакая другая из европейских великих держав. Они стали причиной Первой и Второй мировых войн.
Название "Германия: Джекилл и Хайд" происходит впрочем от Варбурга. Я назвал текст "Германия — обзор", но для него это было слишком сухо. Придуманные мной названия всегда считались слишком сухими, и поэтому они переформулировались иногда немного гипертрофированно.
"Соглашение с дьяволом" или "Семь смертных грехов Германского Рейха в Первой мировой войне" — это, естественно, кричащие газетные заголовки, которые однако не мной придуманы.
Как объясняете Вы для себя успех книги ""Германия: Джекилл и Хайд"? Былоли нечто сравнимое в то время в Англии?
В интересующихся кругах я нашёл определённый интерес, книга стала своего рода визитной карточкой, но естественно, что она никогда не была массовым бестселлером. Были также сопоставимые книги, например книга Хайнриха Фрэнкеля "Народ Германии против Гитлера" [1940], однако её тезис был, как видно уже из названия, точно противоположным моему. Он писал, что Гитлер угнетает весь славный немецкий народ. Это тоже верно, что касается его противников. Однако не весь немецкий народ был против Гитлера, он был в подавляющем большинстве большую часть времени за Гитлера, как раз также и в 1938 году. Аншлюса Австрии желали все, некоторые хотели его под другими символами, однако уже в Веймарской республике настроение стало абсолютно великонемецким. Сам Гитлер никогда не смог бы сделать в Германии свою карьеру, если бы не было этого чувства, что австрийцы — это те же истинные немцы.
Позже я написал здесь свою книгу о Гитлере, которая является абсолютно пронемецкой по основному содержанию. Это можно понять так, что тогда немцы подвергались этим искушениям. Однако в этой книге я говорю, что в целом были времена, в которые за Гитлера были от восьмидесяти до девяноста процентов немцев.
В книге "Атака на Германию[6]" Вы пишете, что следует воодушевить немецкую оппозицию посредством пропаганды, чтобы смогло возникнуть своего рода пассивное сопротивление.
Я писал эту книгу в начале 1941 года, то есть после падения Франции, когда ведь очень изменилось всё настроение. Когда я писал "Германия: Джекилл и Хайд" — это было в первую военную зиму во время так называемой "странной войны" — то тогда верили, что Англия и Франция естественно выиграют войну, если даже и медленно. Во вторую военную зиму надеялись скорее на то, ну скажем так, что авось немцы не придут, а войну выиграем. Я назвал эту вторую книгу и сказал, что единственная "атака", какую теперь ещё можно предпринять, это атака моральная. Следует пытаться тем людям, которые в Германии не восхищаются национал-социализмом, дать своего рода позитивную цель. Я ещё раз подчеркнул значение идеи "Объединенной Европы".
"Атака на Германию" собственно говоря, является слабой книгой, кроме того, она была написана быстрее и более "на злобу дня". В этом есть несколько приспособленчества, и кроме того редактор в "Варбурге" слишком много в ней переделал. Книгу эту я не особенно защищал. Напротив же, книгу "Германия: Джекилл и Хайд" я рассматриваю как достоверное свидетельство самого себя, каким я тогда был и как я тогда думал.
"Атака на Германию" появилась в серии, в которой также был издан Джордж Оруэлл. Был ли у Вас с ним личный контакт?
Хотя он и был одним из издателей, однако в действительности этим занимался Файвелл, английский литератор еврейского происхождения, а Оруэлл дал этому проекту своё имя. Он написал первую книгу этой серии, второй появилась моя книга, а как дальше развивалась серия, я вовсе не знаю.
Естественно, что я узнал тогда Оруэлла и был знаком с ним в течение всей войны. Позже он тоже был сотрудником " Observer ". Так что я знал его весьма хорошо, однако, к сожалению, я должен сказать, что мы не были особенно хорошими друзьями, и я тогда не предчувствовал, что Оруэлл станет знаковой фигурой столетия. Когда в 1944 году вышла в свет "Ферма Животных", то я вовсе не ожидал от него такой хорошей книги. Как человека я воспринимал его собственно сварливым, прирождённым ворчуном. Он всегда находил во всём нечто, на что можно напасть. Сам его патриотизм был пронизан множеством затаённых обид.
Вы инициировали основание "Газеты [Die Zeitung]". Как протекала история её основания?
Я не был соучастником её основания, а я был зачислен в штат основателем Гансом Лотаром, который впрочем позже покончил с жизнью по личным мотивам. Он также был сотрудником издательства "Secker & Warburg", и он просматривал мою первую книгу, возможно также и вторую. Она ему весьма понравилась, и он подумал, вот новое, незатасканное имя, человек с определённым политическим сознанием, определённо вполне образованный в своём роде. Он принял меня на работу в качестве "политического редактора". Я писал передовые статьи.
Однако в литературе снова и снова указывается на то, что у Вас самих была идея основания "Die Zeitung", или быть может эту идею предложил Ганс Лотар в лагере для интернированных. Затем он предложил её на рассмотрение министерства информации.
Это всё не так. Я вовсе не знал Лотара в лагере для интернированных, и эта идея была совершенно его собственной. Однако у меня была другая идея, ещё более проникнутая манией величия: ведь в Лондоне во время войны было много национальных комитетов. Был австрийский комитет, был уже несколько выше оценивавшийся чешский комитет, и естественно были поляки в изгнании, у которых было настоящее правительство в изгнании, и были свободные французы, у которых не было настоящего правительства, но которые однако создали маленькую армию.
Я думал, почему бы не основать также нечто подобное среди немецких эмигрантов. Однако прежде всего большая масса эмигрантов состояла из людей, которые не желали больше иметь дела с Германией. Это были еврейские беженцы, которые теперь отряхивали со своих ног пыль Германии и не хотели ничего иного, кроме как стать англичанами или отправиться далее и стать американцами. Он думали не о том, чтобы как-то представлять немцев в изгнании, за что на них вовсе нельзя обижаться. Что я полностью недооценивал в отношении политических эмигрантов, это разобщённость. Частично это были коммунисты, частично социал-демократы — они ненавидели друг друга, как братья — частично были также правые немцы, которые не желали иметь никаких дел с обоими.
Когда была основана "Die Zeitung", у меня ещё было чувство, что быть может возможно на этих страницах вызвать к жизни нечто своего рода всеобъемлющий, внутриполитически более или менее нейтральный, однако готовящийся для какого-либо сотрудничества немцев в послевоенное время германский комитет в изгнании, совершенно не обязательно правительство в изгнании. У меня была надежда, что "Die Zeitung" станет маленьким очагом, вокруг которого все возможные политические, но не привязанные к партиям эмигранты будут собраны в немецкий комитет в Лондоне. Однако это было совершенно безнадёжно. Это была утопическая идея, от которой я вскоре затем также отказался. То, что у меня вообще была эта идея, не обязательно говорит о моём тогдашнем политическом мнении. Единственные, кто тотчас ухватились за это и кто попытался тотчас же угнездиться в "Die Zeitung", это были коммунисты, поскольку они хотели поселиться везде. Социал-демократы были категорически против, от них я тогда слышал весьма серлитые слова, они называли меня "политическим аферистом". Возможно, что в этом даже кое-что было.
Таким образом, различия между отдельными группами эмигрантов были слишком большими, чтобы "Die Zeitung" смогла привести их к своего рода собранию?
Да, причём никогда не было групп. Ладно, была СДПГ, и была своего рода маленькая КПГ, но остальные люди были собственно почти все индивидуумами, естественно Раушнинг и ещё другие из правых. То, что я очень быстро вынужден был оставить свои надежды, означает также то, что я мало-помалу терял интерес к "Die Zeitung".
Кроме того, мы все в ходе войны отошли от того — это пожалуй также было следствием ситуации — чтобы представлять какое бы то ни было будущее Германии. Прежде всего надеялись на то, что англичане вообще пройдут это испытание и выживут, и затем надеялись на то, что они так сказать при победе станут присутствовать, что исполнилось лишь в весьма слабой форме. Они присутствовали при победе, но лишь как слабейшие из трёх держав-победительниц и без возможности осуществить свои великие идеи.
Поскольку Вы не инициировали основание "Die Zeitung", то нельзя также протянуть соединительную линию к Вашим обеим книгам и выраженным в них целям?
Это будет представлено гипертрофированно. Естественно, в этом отношении существует определённая связь, как например то, что без обеих моих книг Лотару не пришло бы в голову обратиться ко мне, я же в Англии был никем. Лишь посредством обеих книг я стал небольшим именем.
Лотар представлял себе, что это будет распространяемая среди эмигрантов как бы маленькая "Frankfurter Zeitung", благородная, либеральная газета, которую можно будет читать любому, по возможности политически совершенно не связанному с партиями. Однако это была слишком высоко поставленная цель, столь широкими наши таланты не были.
Как Вы оцениваете "Die Zeitung" в ретроспективе?
В течение всего времени, что я там работал, я никогда не знал, что должна делать эта газета, для чего она собственно существует. Несомненно, что она должна была поднимать дух эмигрантов и говорить, что Англия ещё не проиграла. Однако и это не было первоочередным делом, поскольку моральный дух эмигрантов ведь не был тем, что должно было помочь Англии пройти испытания.
Так что я просто был сотрудником газеты, частично также потому, что это была первая настоящая работа. Это было впервые, когда у меня был всё ещё очень скромный, однако достаточно приличный заработок. Прежде ведь я получал лишь два фунта от Варбурга, вынужден был занимать у родственников и быть должником в магазинах, что в Англии было очень легко делать. Здесь [в Германии], когда в магазине не платят сразу наличными, то покупают в кредит, что всегда болезненно. В Англии этого нет, и естественно, что сразу не платят. Затем когда-нибудь приходит счёт, и, к сожалению, я часто был в задолженности по этим счетам. Позже, когда я стал зарабатывать деньги, я оплачивал всё так прилежно, как мог. Однако, как мне кажется, и сейчас ещё есть магазин в Кембридже, своего рода универсальный магазин, которому я всё ещё должен 14 фунтов, вплоть до сего дня. Это часто меня угнетает.
Глядя в прошлое, я должен сказать, что "Die Zeitung" была для меня разочарованием. Я думал, что она станет политически действенным органом, что позволит сгруппироваться вокруг неё своего рода либеральной политической эмигрантской элите, однако об этом не было речи с самого начала.
Означает ли это, что "Die Zeitung" в эмигрантских круга просто не привлекла достаточно внимания?
Нет, её уже читали немецкоговорящие люди в Лондоне. Однако что понимается под эмигрантами? В большинстве своём они были действительно "беженцами", а не эмигрантами, в основном изгнанные евреи, которые хотели по возможности как можно меньше иметь дел с Германией и политикой, и они пытались создать своего рода среду существования. Во всяком случае, они не хотели иметь никаких дел с большой политикой. А те, которые желали этого, были полностью разобщены, и у каждого было своё собственное мнение.
Было также очень много нападок в отношении "Die Zeitung", также в особенности против Вас самих.
Со стороны социалистов, но не со стороны коммунистов. Те приходили и хотели договариваться с нами. Возможно, что я мог бы тогда даже быть введён в искушение, однако некоторые другие сотрудники редакции сказали: "Нет, если ты дашь коммунистам маленький пальчик, они отхватят обе руки, и мы неожиданно станем коммунистической газетой". Так что из этого ничего не вышло.
Социал-демократы были против меня. Люди со старым сознанием, такие как Олленхауэр, говорили: чего же хочет этот молодой человек, почему собственно говоря он эмигрировал, и чего он здесь хочет. Я думал про себя, что со своей точки зрения они отчасти были правы. Я же не был явным немецким политиком, я не принадлежал ни к какой партии, не имел никаких твёрдых внутриполитических целей, не говоря уже о правильных внешнеполитических целях. Я хотел лишь того, чтобы Гитлер по возможности не выиграл войну, наоборот — чтобы в результате войны он исчез. Сверх этого у меня не было никаких прочных политических взглядов. Они называли меня "политическим аферистом", "политическим дилетантом" — это были недружелюбные выражения для своего рода полуправды. Ведь политику я собственно узнал лишь в Англии. Ладно, прежде я был против Гитлера, но в Германии у меня не было никакого активного политического настроя, кроме как против Гитлера. То, что политика — это очень интересное и очень дифференцированное дело, впервые я узнал лишь в Англии, в основном лишь в "Observer".
Упрёки в отношении Вас увенчивались тем, что про Вас говорили: "До своей эмиграции он писал в нацистских газетах".
В этом смысле мне вовсе нельзя этого приписать. Кроме того, я не писал в нацистских газетах. Ладно, всё, что издавалось в Германии, можно было так или иначе назвать своего рода нацистской газетой, однако я никогда не писал в "Фёлькишер Беобахтер", в "Ангрифф" или в "Штюрмер", а писал я в этих безобидных иллюстрированных журналах — "Дама", "Коралл", "Новый мир моды" — на третьем этаже издательства "Ульштайн".
"Die Zeitung" финансировалась британским министерством информации. Какие интересы связывало с ней министерство информации?
Этого я точно не знаю ещё и сегодня. С одной стороны, возможно, хотели поддерживать моральный дух эмигрантов и "беженцев", с другой стороны, возможно, хотели в немецких "общинах" тогда ещё нейтральных стран Южной Америки по возможности создать нечто антинацистское. Нечто другое я не могу себе представить, потому что то, что мне представлялось, своего рода немецкий комитет, группировалось вокруг "Die Zeitung", что определённо Вам никогда не могло померещиться, за что я на Вас никак не могу обижаться.
Англичане не хотели преждевременно установить себе — с полным на то основанием — какую-либо определённую линию поведения в отношении послевоенной Германии. Они ещё не знали, что получится из Германии, и они должны были также думать о русских и об американцах. Тем, что они вообще разрешили существование чешского и австрийского комитетов — права решающего голоса у них не было — они давали понять, что хотят после войны самостоятельной Австрии и возрожденной Чехословакии. Что они планировали в отношении Германии, то они желали оставить при себе. Они не хотели иметь германского комитета; что должно получиться из Германии, они хотели решать сами, во всяком случае — участвовать в решениях. Также они ещё не знали, какие у них планы. Моя идея — федерализация или разделение внутри европейской федерации — наверняка играла некую роль во внутренних английских дискуссиях, не потому, что это была моя идея — я не столь заносчив, чтобы поверить в это. Того, что затем получилось — два государства, которые были организованы в противостоявших друг другу крупных союзах — этого, я полагаю, тогда не желал никто.
В какой мере министерство информации пыталось оказывать влияние на" DieZeitung"?
Они пытались непременно сделать это. У нас с самого начала был своего рода надзиратель. Он приходил на редакционные совещания. Это был симпатичный, вежливый человек. Он ненадолго вмешивался во всё и также охотно разрешал по возможности многое, но по определённым темам он говорил: этого мы предпочли бы не делать. Устанавливались границы.
Когда летом 1941 года умер Вильгельм II. — тогда я ещё был в "Die Zeitung" — я написал передовую статью и сказал в ней, что собственно говоря, следует весьма сожалеть о судьбе германской монархии. Если бы она была у нас, возможно мы были бы избавлены от Гитлера. Этого он не хотел видеть в газете. Это было слишком монархически и не было бы напечатано. Я вспоминаю об этом ещё потому, поскольку думаю, что это была очень оригинальная и хорошо написанная передовая статья, и мне было жаль её.
Курт Хиллер в своих мемуарах упоминает подобный случай цензуры.
Это была мимолётная и на самом деле печальная история. Хиллер не был глупым человеком, но он был ужасным склочником. Свое мировоззрение, которое по духу было аристократическим, антидемократическим, отчасти ни к чему не обязывающим (короли должны стать философами, а философы королями) он хотел положить в основу политики "Die Zeitung". Он написал цикл из трёх статей. Обе первых были ещё такими, что их можно было напечатать, и они также прошли у нашего надзирателя. Они были очень абстрактными. В третьей же статье он хотел действительно сказать, как должны дальше развиваться события, по возможности с ним в качестве президента новой Германии. Это не прошло у нашего надзирателя. Однако Хиллер с этим никогда не примирился. Он настаивал на том, что мы должны напечатать также и третью статью, и если мы уже не можем её взять, то мы должны ему по крайней мере заплатить за неё. Это мы тогда сделали, это была очень неприятная ситуация, и после этого мы расстались.
Вспоминаете ли Вы ещё о других случаях цензуры?
Постоянно происходили другие случаи. Был один, по имени Эрнст Йоханнсен (имя, может быть, было и другим). В двадцатые годы он написал успешную книгу о войне по следам Ремарка и Ренна. Я вовсе не знал, что он стал эмигрантом. Он мог писать очень хорошо и был чистым арийцем, что было почти что редкостью. Я его немножко вытягивал. Однако затем он писал с очень сильной личностной окраской. У него наш мистер Харе также что-то не пропустил.
Я не могу назвать слишком много случаев, однако влияние было, были установлены границы. Мистер Харе был на месте, и статьи должны были предъявляться ему. В основном они проходили, однако с другой стороны у людей было ощущение того, что не пройдёт, и в первую очередь совсем не писали этого. Назойливой цензуры не было, хотя человек всегда был на месте.
Что меня скорее подвигло к уходу, была определенная ревность со стороны Лотара, который хотел препятствовать моей деятельности за пределами "Die Zeitung", среди которой была также начинавшаяся от случая к случаю работа для "Observer", а этого я не хотел. Поскольку в "Die Zeitung" я так или иначе не был полностью счастлив, то я не хотел, чтобы моя свобода ограничивалась "вне дома".
К этому добавилось ещё то, что "Die Zeitung" издавалась в качестве ежедневной газеты лишь три четверти года — с марта до конца 1941 года. Затем она была преобразована в еженедельную газету. После этого у меня было ощущение, что для этого редакция была слишком большой, они могут прекрасно обойтись меньшей редакцией. Поскольку я и так приглядывался к английской прессе — не только в "Observer", также в "Evening Standard" и в "Picture Post" — то я подумал, что я не хочу отказаться от всего этого из-за этой газетки. Я ещё не знал, где я затем буду работать. Это могла бы быть также и "Picture Post", однако "Observer" был самым привлекательным и высококлассным из того, что мне было предложено. Моё время работы в "Observer" стало затем гораздо более важной главой в моей жизни, чем моя работа в "Die Zeitung".
В последнем номере" Die Zeitung" Райхенхайм отрицает, что" Die Zeitung" была газетой эмигрантов. Факт состоит в том, что" Die Zeitung" делалась преимущественно эмигрантами и читалась прежде всего эмигрантами. Как это объяснить?
Этого я не знаю. После того, как я оставил "Die Zeitung", я больше не следил за ней. Райхенхайм был симпатичным человеком, к сожалению, он рано умер. Он сам был эмигрантом, изгнанным евреем, с некоторым пониманием политики, однако без прочных политических взглядов. Я не знаю, что он этим имел в виду.
Были ли у Вас ещё контакты с членами редакции после Вашего ухода из "Die Zeitung"?
У меня были свои родственники. С одним или двумя людьми из "Die Zeitung" у меня возникли личные дружеские отношения. С ними я потом поддерживал личные контакты, но в этом не было ничего политического. Был один человек по имени Мильх. Это был настроенный очень пронемецки еврей, но в нём не было ничего еврейского, а был он преисполнен любви к Германии и к Силезии. Он был из Силезии. Он писал в "Die Zeitung", правда не под именем Мильх, которое было очень дискредитировано. Его дальний родственник был германским фельдмаршалом. Сразу после 1945 года или даже ещё в 1945 году он вернулся в голодающую Германию и очень быстро стал здесь профессором. Однако затем он очень рано умер. С ним у меня были хорошие отношения. Это был трогательный человек, как раз в том числе в своём силезском патриотизме.
Как бы Вы охарактеризовали политическую линию "Die Zeitung"?Говорят, что в редакции преобладала буржуазно-консервативная монополия.
Буржуазная — да, а консервативная я бы не сказал. Были представлены все гражданские оттенки. Я бы скорее сказал, что "Die Zeitung" была буржуазно-либеральной, причём ведь определение "либеральный" также может включать в себя почти всё. Во всяком случае, она не была социалистической, также не была резко военно-реакционной (20 июля[7]). Она была где-то между ними.
В литературе говорится, что Ваш уход из" Die Zeitung" был политически мотивирован. Тем не менее вы назвали скорее личные причины.
Политическим уход был самое большее потому, что я не понимал достоверно — и чем дальше, тем меньше — для чего собственно существует "Die Zeitung" и что она должна делать. Однако не было никакой политической причины в том смысле, что я что-либо отвергал из того, что было в "Die Zeitung". Политические причины существовали самое большее постольку, поскольку я видел шанс влиять на английскую политику в английской прессе под маской англичанина, и это было для меня политически гораздо интереснее, чем "Die Zeitung", в которой я совершенно не знал, для кого она пишется, на кого я должен там собственно влиять.
Как установился контакт с "Observer"?
Зимой 1941-42 гг. на меня обратили внимание Асторы, а именно Давид Астор, частично из-за книг, частично вследствие моей работы в "Die Zeitung", которую они разумеется вряд ли читали, поскольку она издавалась на немецком языке. Однако кое-что всё же о ней говорили.
В это время в "Observer" случился кризис в руководстве, поскольку многолетний, очень могущественный главный редактор Гарвин рассорился или во всяком случае разошёлся во взглядах с семьёй владельцев газеты — после чего Гарвин ушёл. Давид Астор должен был так сказать мимоходом перенять газету и искать людей. Он сказал тогда — и вот это высказывание, которое я очень хорошо запомнил — что нормальные английские журналисты, которые что-то могли бы делать, все находятся на военной службе, не обязательно на фронте, однако в каких-либо штабах. Они недоступны. Что у нас есть, это старики, женщины и иностранцы. Он склонился в сторону иностранцев.
Так что в середине 1942 года я покинул "Die Zeitung", и после этого был принят на работу в "Observer", где я уже до этого немножко писал от случая к случаю. То, что мне было там предоставлено место, в одной из самых уважаемых английских газет, я воспринял действительно как подарок небес. Влиять оттуда на английскую политику — об этом я никогда не смел и мечтать. Я говорил себе, теперь ты должен действительно показать, что ты можешь, и что ты можешь писать на английском языке. Этому я в состоянии самовнушения научился за несколько недель, то есть на каждом предложении, ещё до того, как написать его, я спрашивал себя — выразился ли бы так англичанин, правильно ли это звучит. Если есть что-то в моей жизни, о чём я сам высокого мнения, то это то, как я за пару недель выучился по-настоящему писать на журналистском английском языке.
В "Observer" однако были не только немцы, был например также ставший позже известным Исаак Дойчер, который не был немцем[8], а был он польским евреем-троцкистом. Он был за мировую революцию, и это должно было также ликвидировать всё еврейство. Он был за Троцкого, и тем самым для него всё было гораздо труднее, чем для меня, поскольку я тогда искренне был проанглийски настроен и становился таким всё больше с ходом войны. Он также играл большую роль в "Observer".
Затем был человек, который в глубине души в сущности был сионистом, это был Йон Кимче. Он особенно интересовался стратегическими, военными вопросами. Некоторое время мы трое были важнейшими людьми в том "Observer", каким он стал после Гарвина, причем я был самым английским.
Вследствие сотрудничества с "Observer", а также именно вследствие внутренних разногласий с Дойчером и Кимче, которые преследовали свои особые цели, будь это мировая революция или будь это сионизм, я не хотел больше никаких особых целей. Я думал — что получится из Германии, это мы увидим. Пока же всё зависит от того, чтобы желать самого лучшего для Англии, тем более что Англия ведёт себя по отношению к нам столь прилично и в определенной степени позволяет нам выступать под маской англичан и принимать участие в её судьбе. Так я стал своего рода английским патриотом, задолго до того, как я натурализовался.
Что Вы в основном писали в "Observer"?
Я писал всё, что только можно. Некоторое время я даже был своего рода правой рукой редактора. Так что я писал в основном политические передовые статьи, политические статьи "главной страницы", подписываясь псевдонимом "Студент Европы". Затем я писал стратегические статьи вместе с Кимче и с одним американцем под псевдонимом "Либерейтор[9]". Кроме того, я писал информационные справки, комментарии, краткие заметки и дипломатические истории, подписываясь "От специального корреспондента".
Позже, когда закончилась война, я совершенно официально стал "Наш дипломатический корреспондент" и запросто был вхож в "Форин Офис[10]". Некоторое время я писал, сколь ни странно это звучит, критические музыкальные статьи под псевдонимом "Мартин Раймонд". Затем я естественно писал также рецензии на книги. Я действительно делал немного всего, я заполнял газету. У неё было тогда только лишь шесть страниц, правда больших газетных страниц, но едва ли была хоть одна страница, возможно кроме только спортивной страницы, на которой каждое воскресенье не появлялось бы что-либо из моих творений. Это было самое прилежное время моей жизни. Столь много восторга от своей работы и желания сделать её как можно лучше у меня не было никогда больше.
Во время своей работы в "Observer" я внутренне стал англичанином, английским патриотом, и всё же естественно правильным англичанином я не стал. Это я заметил после 1948 года, когда я натурализовался. Хотя я и научился писать с правильными намёками, от цитат из Шекспира до детских стишков, и я также читал очень много английской литературы и поэзии, однако нельзя стать настоящим англичанином, если ты там не рождён и не ходил в школу. Я был очень правдоподобным подражанием англичанина, и я был очень про-английски настроенным, однако я не был англичанином. Человек остаётся тем, кем он родился и кем он ходил в школу.
Как дело дошло до ухода из "Observer"?
Я поссорился с "Observer", и это преследует меня ещё иногда во сне. Я очень привязался к нему. И моя дружба с Давидом Астором какое-то время была более тесной, чем она когда-либо была с Лотаром. Лотар был для меня счастливым случаем — человеком, который меня продвинул. Давид Астор некоторое время был тем, влиять на которого было для меня заветным стремлением. Когда это мне больше не стало удаваться, я стал лишённым большой части содержания моей жизни.
У нас были политические разногласия. В заключение, когда мы в конце концов окончательно расстались, к этому комичным образом привела политика в отношении Германии и России, которые тогда всё ещё были очень близки друг к другу. Что же нас однако внутренне сделало чужими, была его расовая политика, которая в основе своей была именно против белых людей и за чёрных: "Чёрный — это хорошо, а белый — это плохо". Давид Астор был также первым в мире, кто начал большую кампанию против Южной Африки, в которой я никогда не принимал участия. Я всегда говорил, что же тогда делать белым южноафриканцам, они построили себе очень хорошее государство, и если они там станут обречены на вечное меньшинство, то у них будет судьба евреев в Германии.
Как бы Вы охарактеризовали тогдашний "Observer" с политической точки зрения?
Это было точно так же, как позже комичным образом произошло с журналом "Stern": в начале у меня были примерно те же взгляды, что и у Давида Астора, на которого я также несколько влиял. Однако в конце я был крайне правым. "Observer" очень сильно ушёл влево, а я не пошёл с ним. Со "Stern'ом" произошло позже то же самое, только это было ещё более гротескно. Там я сначала был крайне левым, а закончил крайне правым, и не я сильно изменился, это "Stern" изменился.
В какой мере обсуждалось в Англии движение Народного Фронта, и насколько Вы сами об этом дискутировали?
Сам я собственно едва ли об этом дискутировал. Настоящим политическим вопросом Народный Фронт в моё время, при Черчилле и при Эттли, никогда не был. До моего времени, в период испанской гражданской войны, в левом крыле партии лейбористов, особенно при Стаффорде Криппсе (но не позже, когда он стал министром) — были люди, которые хотели Народный Фронт. Однако и тогда из этого ничего не вышло, противоречия между лейбористами и коммунистами были всё же слишком глубокими. Что было во время войны — это большая признательная популярность России, включая Сталина. Сталин расценивался в качестве спасителя Англии, кем он в определённом смысле был. То, что русские выстояли под этими ужасными ударами, которые они пережили сначала, это было воспринято в Англии с большой благодарностью. Однако это не привело ни к какому движению Народного Фронта, ни к какому усилению собственно коммунизма.
В чём отличие Вашей идеи Собрания эмигрантов от идеи Народного Фронта?
Я был больше за Собрание либерального толка, которое возможно могло бы каким-то образом опираться на социал-демократов и на часть правых. С коммунистами было скорее наоборот. Они были единственными, кто пытался примазаться к "Die Zeitung" или проникнуть в неё. И я с сожалением должен признаться, что это собственно было предотвращено не мной, а сотрудниками редакции из страха перед тем, что коммунисты затем станут в редакции доминирующей фракцией. Это предотвращал также мистер Харе, но сначала настолько далеко дело вовсе не заходило.
Таким образом, Министерство информации также было очень антикоммунистическим?
Не только Министерство информации, но и всё английское правительство. Оно было за анти-гитлеровскую коалицию, включая Сталина, по меньшей мере с 1943 года, однако оно не было за внутрианглийский Народный фронт или какое-либо влияние английских коммунистов на английскую политику, которые образовывали ведь совсем крошечную партию.
Вы говорили о себе, что не были типичным эмигрантом, поскольку не были ни членом какой-либо партии или организации, и не были евреем. Был Свободный Немецкий Культурный Союз и был PEN. Вы сознательно решились не участвовать в этих организациях или это было сделано без умысла?
Сказать, что тут был умысел — это чересчур. В течение всей моей жизни у меня был очень глубокий инстинкт против вступления в какую-либо организацию. Я и теперь не состою в PEN-клубе, хотя меня дважды туда приглашали.
В то время о Вас писал Керр, что он отклонил предложенное Вам членство в PEN-клубе по причине политической линии "Die Zeitung".
Это мне никогда не было известно. Мне очень жаль, что Керр был настолько против меня, я не был против него. Впоследствии я всегда очень удивлялся, почему мы собственно никогда не просили Керра сотрудничать с нами. Он ведь был же одним из лучших немецких литераторов в Лондоне. "Die Zeitung" не была моей газетой, я был служащим в ней, это была газета Лотара, а Лотар к моему удивлению никогда, как я полагаю, не приглашал Керра. Возможно, он и из-за этого был против меня. Но я вовсе не так уж отслеживал все эти дела. Это меня вовсе не интересовало особенно, что писалось в мою пользу или против меня.
Культурной жизнью в эмигрантских кругах Вы также не интересовались?
Не очень. Во всяком случае не интересовался больше после того, как выяснилось, что мои политические надежды на эмигрантские круги полностью потерпели крах, и после того, как я благодаря "Observer" стал своего рода поддельным англичанином. Я действительно был настроен очень, очень проанглийски, в отношении же лучшей доли для Германии уже больше не так сильно. В этом я был пожалуй и прав, поскольку это было единственным, где можно было на что-то влиять. Что меня интересовало — это то, как Англия выйдет из войны, выйдет ли вообще целой и невредимой и по возможности с достаточным влиянием.
А членство в партии Вы принципиально отвергали?
Я не отвергаю это принципиально, но это мне не подходит. Если люди хотят действовать политически, например в сегодняшней Федеративной Республике, то мой совет им был бы — непременно вступить в партию.
В 1980 году я написал книгу "Размышления непостоянного избирателя (Überlegungen eines Wechselwählers)", в которой я рассматривал положение дел в эру Шмидта как идеальное — две больших народных партии, которые очень во многом перекрывались в своих программах, не были совсем уж несовместимыми, вполне могли сменять друг друга, без того, чтобы тотчас же всё поставить вверх ногами; и по возможности вовсе никакой третьей партии, не говоря уже о четвёртой и пятой.
Вашим большим успехом здесь были "Заметки о Гитлере". В какой мере Вы использовали в этой книге свои взгляды из сороковых годов и насколько модифицировали их?
Я очень смягчил их в языковом отношении. Когда пару лет назад ещё раз перечитал главу о Гитлере в книге "Германия: Джекилл и Хайд", то я был прямо-таки поражён тем, с какой ненавистью и ядом я писал тогда о Гитлере, в то время как теперь я рассматриваю его всё ещё как отрицательный персонаж, однако всё же с определённым уважением перед его энергией и исполнением обязательств. Сегодня я бы точно так же абсолютно отверг бы Гитлера и попытался бы помочь ему потерпеть поражение, как тогда, однако я делал бы это с меньшим вовлечением души, с меньшей настоящей ненавистью, чем была у меня тогда — вследствие дистанции времени и из мудрости возраста.
Обдумывали ли Вы возвращаться в Германию после 1945 года?
Нет, сначала не думал. В 1945 году я полагал, что буду натурализоваться в Англии, что я и сделал затем в 1948 году. Я думал, что стану англичанином, останусь англичанином и окончу там свою жизнь. Для этого было несколько причин. Во-первых, я действительно стал большим патриотом Англии и желал ей всех благ, больше, чем какой-либо иной стране. Во-вторых, я думал — ты же всё время писал как англичанин и пытался говорить с англичанами так, как если бы ты был одним из них, теперь и станешь одним из них. И в-третьих, я думал, что утратил расположение немцев, ведь я был в войне на другой стороне, немцы никогда больше не примут меня как одного из них.
Внутренняя политика Германии послевоенного времени имела очень мало общего с моими личными решениями. То, что я всё же в конце концов — сначала в 1953 году как корреспондент "Observer" и затем в 1961 году уже больше не в качестве такового, но в качестве квази-немца — вернулся назад, это сравнительно мало было связано с внутринемецкими отношениями.
Моей последней и окончательной размолвкой с "Observer" и тем самым и с Англией, поскольку другого фундамента у меня там не было, был второй берлинский кризис, ультиматум Хрущова и очень вялая позиция английского правительства, и ещё более вялая и поистине трусливая позиция, которую принял "Observer". Я не желал принимать в этом участия. И именно из-за причин, связанных с Англией, не столько потому, что я был за единство немцев — хотя я и был занят этим некоторое время; я часто менял свои взгляды или по меньшей мере сильно их модифицировал.
Настоящей причиной было то, что я как англичанин чувствовал себя опозоренным, если англичане здесь в Берлине покорно пошли на уступки, это бесчестье, я не хочу разделять за это ответственность. Во многих отношениях я был "more English than the English[11]". И ещё я не желал всей этой деколонизации, поборником которой был Давид Астор.
Как происходило Ваше медленное сближение с Федеративной Республикой?
Решение остаться здесь созревало медленно, приблизительно во время второго берлинского кризиса. С другой стороны я не видел также своего возвращения в "Observer", поскольку существовало слишком много различий в мнениях об общей направленности. Это было уже странно. Во второй половине войны и в первые послевоенные годы я пытался влиять на английскую политику как всё ещё немец, и для этого притворился англичанином. Затем наступило время, когда я здесь в своей собственной стране писал как англичанин для английской газеты и с английской точки зрения. Это играло роль снова и снова до сих пор…
Лишь в 1972 году я натурализовался здесь обратно в германское гражданство, однако сохранил британское гражданство. Между тем у меня больше нет ощущения, что я имею право чувствовать себя англичанином или быть может вовсе туда вернуться. Кроме того, моя нынешняя жена не желает принимать в этом участия.
В Германии я затем в шестидесятые годы весьма резко освещал в "Stern" германскую внутреннюю политику как Всё-Ещё-Англичанин.
И хотя я не стыжусь своей жизни — почти что наоборот, за многое я частным образом немножко горжусь — у меня нет никакого желания описывать это и бросать это любому на съедение. Против меня можно очень легко полемизировать. Я всегда писал лишь то, что я в тот момент считал правильным.
Как бы Вы сформулировали своё самоощущение — видите ли Вы себя публицистом, журналистом или историком?
"Публицист" для меня — это слишком высокопарное выражение. Большую часть своей жизни я с некоторым изумлением всё же ощущал себя журналистом. С историком же дело обстоит так. Я всегда очень интересовался историей, не всей историей, а определёнными периодами, среди которых прежде всего последние. Однако все свои книги я также всегда писал немножко как журналист с акцентом на нечто, иногда очень отчётливо, или, как в моей последней книге, с невысказанной мыслью, на которую мягко намекается лишь в одном предложении, которое читатель должен сам для себя выискать, а именно: мы вовсе не хотим снова иметь Германский Рейх, мы вовсе не должны его снова хотеть, это не было счастьем для нас, в том числе и до Гитлера. Так что я своего рода журналист, пишущий об истории, причём я не мечтал о том, что это станет моей жизнью. Гораздо охотнее я был бы высшим служащим в министерстве, пишущим романы.
Без эмиграции это возможно и стало бы Вашим жизненным поприщем.
Без Гитлера. Так что эмиграция была также лишь следствием Гитлера и обеих моих школ, в которых я научился ценить обоих основных противников Гитлера: евреев и людей с приставкой к фамилии "фон".
Каково Ваше нынешнее отношение к Англии?
Полное любви и немножко сострадательное с совсем небольшой долей пренебрежения. Однако с другой стороны я также очень уважаю британцев из-за качеств, которые они проявили во время войны. Но то, что они проявили теперь в последние послевоенные годы, в годы упадка при Макмиллане и Вильсоне, это не может вызвать у меня настоящего уважения, самое большее всё же снова эти флегматичность и недоговорённость, с которыми они восприняли распад своей власти.
Вы часто меняли свои политические позиции и уже очень рано стали требовать признания ГДР.
Я на самом деле довольно долгое время, в том числе и когда я уже снова был здесь, был сторонником воссоединения. Однако затем я пришёл к выводу, что признание ГДР — это второй из лучших вариантов и единственный, который может быть, и из этого выходит также очень приличное немецкое существование — развиваться в мирном сосуществовании. Я считаю, что Хонекер совершенно прав: оба немецких государства, какие они теперь есть — это огонь и вода. Одно из них должно так изменить свою сущность, что практически откажется от себя; а это недопустимо.
Некоторое время я был в очень дружеских отношениях с Вольфгангом Венором, крупным немецким националистом, который всем своим существом за то, чтобы снова возникла объединённая Германия с Берлином в качестве столицы. Я всё ещё понимаю его, но я считаю это теперь неверным. Мои перемены были также очень редкими и никогда в первую очередь не были переменами по причине эмоций.
Очень актуальный вопрос: какие выводы Вы сделали из свое личной судьбы в отношении политики предоставления политического убежища?
Как человек, который однажды жил благодаря готовности другой страны предоставить политическое убежище, я не могу быть против политического убежища. Так думать — это было бы мелко. С другой стороны, формулировка в Основном Законе юридически просто неправильна. Право на политическое убежище — это не индивидуальное право людей, которые хотят иметь это убежище. Это право государства — предоставить политическое убежище. Если это толкуется так, как это делает Основной Закон, то практически это означает, что все люди могут прибыть в Федеративную Республику. Однако ведь это невозможно, для этого она слишком мала. Но в принципе я за политических беженцев, и также я очень поддерживаю турок, к которым питаю слабость. Это очень дельный, древний, имперский народ.
Вы публично высказывались по поводу дела Хёфера и очень сильно его защищали.
Прежде всего, это был акт личной благодарности. Хёфер был самым первым, кто привлёк меня, когда я как раз только вновь оказался в Германии, и я долгое время был главной опорой его радиопередачи "Утренние встречи", причем всегда охотно принимал в ней участие. У меня всегда было чувство, что он пытался порядочно обращаться со всеми нами. Кроме того, я находил эти "Утренние встречи" — не говоря о личной благодарности — очень хорошим мероприятием. Слово "перевоспитание" имеет ведь скверный отзвук, однако поскольку речь шла о том, чтобы привить немцам несколько больше здравого смысла, понимания и объективности, то "Утренние встречи" в годы Хёфера действовали очень благодатно. Я действительно придерживаюсь того мнения, что людям, которые однажды совершили какие-то вещи, которые не хотели бы снова видеть, следует засчитывать добрые дела, сделанные позже. Мы все когда-то однажды написали нечто такое, о чём позже думаешь: лучше бы я этого не писал. И я тоже принадлежу к их числу.
И механизм Вашего вытеснения Вы не ставите Хёферу в упрёк?
Он же не донёс на бедного Крейтена и не приговорил к смерти. Он написал то, что тогда писали, возможно, даже то, что следовало писать. Он ведь утверждал — я всё ещё верю в это — что его статья была выправлена. Однако даже если бы у него были выправлены специфические ссылки на Крейтена, что можно себе представить, то тогда общая направленность статьи естественно несмотря на всё была печальной апологетикой нацистского правосудия.
Однако — это было как раз и моим ощущением — тот, кто оставался здесь и писал здесь, в том числе и если он этого вовсе не желал, каким-то образом служил Геббельсу. Это лишь разница в степени, действовал ли он при этом в качестве украшения или же прямым апологетом. Следует также действительно многое прощать людям, особенно если они, как Хёфер, показывают исправление. Искупление — это нечто такое, что допускается и должно признаваться. Хёфера, которого мы охотно слушали каждое воскресенье в течение тридцати лет, теперь неожиданно отталкивать как прокажённого — это я нахожу подлым.
Главным упрёком было то, что он признал эти дела лишь тогда, когда ему на них указали.
Но ведь такова суть человеческая. Кто будет охотно и добровольно обнажаться и показывать свои неприятные стороны, в особенности, если с тех пор прошло уже много времени. Очень многие люди, которые сегодня в Федеративной республике кое-что значат в том числе и в публицистике, во времена нацизма писали вещи, о которых они неохотно вспоминают. Я никогда не писал ничего прогитлеровского, однако в своём антигитлеризме я иногда заходил слишком далеко и тоже писал вещи, особенно в 1942 году, когда стала доходить информация о холокосте, о которых я сегодня сожалею, однако я не выхожу и не говорю, боже мой, что тогда я страстно хотел истребить всё СС. Мне бы хотелось, чтобы это было забыто. Это был именно срыв — простительный.
Я приверженец действия срока давности. Срок давности — это исходный, древнейший принцип правосудия. Не только потому, что прошедшие сорок или пятьдесят лет не позволяют более доказывать, как это точно было, но и потому, что уже нельзя восьмидесятилетнего привлекать к ответственности за то, что сделал тридцатилетний. Это два различных человека, хотя у них одинаковые имена.
Дело Хёфера дало волю столь многим эмоциям, потому что оно рассматривалось как симптом того, что не произошло переработки нацистского времени.
Бурке писал: "You can not indicta who lenation" ["Нельзя обвинять всю нацию"]. К сожалению, это верно. То дело, в котором столь многие — одни более, другие менее — принимали участие и содействовали ему, в то время каким-то образом и из добрых побуждений, пусть и из ложных побуждений — его невозможно полностью ликвидировать. Теперь это часть немецкой или всеобщей истории и его так и следует рассматривать. Люди ведь вымирают, я бы даже сказал — слава богу, включая и меня.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Сим удостоверяю я, Себастьян Хаффнер, что вышеизложенное интервью имело место в этой форме 19 февраля 1989 года.
Берлин, 2 февраля 1990 года [подпись Хаффнера]
Парадоксальная жизнь
Автор: Уве Соукуп
Редко какая книга, ещё до того, как читатель держит её в руках, проходит столь запутанный и полный приключений путь, как "История одного немца" Себастьяна Хаффнера. Потому едва ли удивителен тот неожиданно большой отклик, который нашла эта книга и которая обратила взгляд общества на столь переплетённую и полную приключений жизнь автора. Однако и лишь немногие книги имели в жизни их автора столь огромное значение: "История одного немца" спасла её автору жизнь, помогла найти ему в конце концов убежище, позже новую родину, дала ему новую профессию, если кратко: она превратила молодого немецкого беженца по имени Раймунд Претцель в Себастьяна Хаффнера. Всё это произошло в 1939–1940 гг. в Англии.
Этот Себастьян Хаффнер, родившийся ещё в 1907 году, стал известен немцам лишь в пятидесятые годы — в качестве скорее маленького и упитанного англичанина с высоким лбом, высоким голосом и коротко подстриженными усами, который был желанным гостем студии в воскресной передаче Вернера Хёфера "Международные утренние встречи" с "шестью журналистами из пяти стран". Для англичанина — Хаффнера представляли там как корреспондента английской газеты "Observer" в Германии — он правда говорил на довольно хорошем, очень хорошем, если не сказать: на отличном немецком языке. Едва ли кто знал тогда, какая судьба у этого немца некогда была в Англии. Что было за душой у этого англичанина, который говорил на немецком языке безо всякого акцента, публике никогда не объяснялось.
Постепенно британец становился немцем-британцем, и лишь в шестидесятые годы постепенно отпала приставка "британец". Что же некогда происходило с "британцем Себастьяном Хаффнером", знала быть может пара посвященных, меньшинство. И возможно точных деталей и вовсе не хотели знать в стране, которая примерно в это же время приготовила постыдный приём для Марлен Дитрих при её первом после войны появлении в родном Берлине, которая также сбежала от Гитлера и получила прозвище "предательница".
И Хаффнер тоже думал, что он лишился расположения немцев. "Международные утренние встречи" Хёфера, национальное учреждение с международной командой и таким образом представлявшее собой нечто вроде предтечи "ток-шоу" немецкого телевидения, были для Хаффнера как раз идеальной возможностью после его фантастической журналистской карьеры немца в Англии теперь для преуспевания в качестве англичанина в Германии. Так почти незамеченным Себастьян Хаффнер обосновался в публицистике той страны, которую он некогда скрытно покинул. Бежать он был вынуждён потому, что любил "неправильную" женщину, а она ожидала от него ребёнка. Для нацистов эта любовь была преступлением: осквернением расы. Уже по этой причине Хаффнер не был готов примириться с теми отношениями в Германии, которые господствовали в ней с 1933 года.
Вскоре после своего возвращения в Германию в 1954 году Хаффнер получил регулярную колонку в "Die Welt" и писал корреспонденции в консервативный берлинский "Christ und Welt". В это время он приобрёл славу поборника холодной войны. Однако лишь через несколько лет он атаковал заплесневевшую республику шестидесятых и конфронтационный курс федерального правительства по отношению к ГДР в иллюстрированном "Stern". Это привлекло огромную известность из-за ежедневных колонок Хаффнера в журнале и множества очень популярных исторических анализов, в числе которых — о Пруссии, о Парижской Коммуне, о Первой мировой войне, о германской революции 1918 года и о Второй мировой войне.
Тем, что ему причинили немцы — естественно, не все — когда он молодым человеком был вынужден покинуть свою родину, он никогда их не попрекал. Лишь однажды у него кончилось терпение, тоже в "Stern", когда Вилли Брандта снова стали попрекать тем, что тот во время войны перешёл к противнику и носил норвежскую форму. "Мы всё-таки проявили лучшее политическое суждение, мы приобрели жизненный опыт, мы сохранили непредвзятое отношение к внешнему миру; нам нечего утаивать или сожалеть о чём-либо; мы познали, как выглядит Германия извне и сможем лучше понять, когда она снова начнёт сходить с рельс — и своевременно потянуть за тормоз. Это немножко больно — когда вынужден всё это говорить недвусмысленно. Возможно, нас следует упрекнуть в том, что мы раньше этого не говорили. Однако тогда, после 1945 года, не хотелось побеждённым, голодающим людям давать ещё и нагоняй. А позже проявляли такт и охотно позволяли забыть происшедшее. Однако теперь оказывается, что возможно мы были чересчур тактичными и что прошедшее не настолько миновало, как думают" — так высказался он в 1965 году несколько не по-британски, но тем самым и более впечатляюще.
Своё "лучшее политическое суждение" Хаффнер проявил не только своим решением на эмиграцию, он также его сформулировал: во множестве книг и в бесчисленных статьях. Первая книга в этом длинном ряду — это "История одного немца". Написание этой книги было ранней и драматической кульминацией в жизни Хаффнера. Хотя он её наполовину готовой отложил в сторону в конце лета 1939 года и она не была напечатана, пока был жив Хаффнер, это было исходным пунктом для его дальнейшего развития в "возможно самого увлекательного и раздражающего публициста старой Федеративной республики" (как написал Герман Рудольф в берлинской " Tagesspiegel". Поэтому ни одна рецензия на "Историю одного немца" не обходилась без краткого описания биографии. Невозможно писать об "Истории одного немца", не описывая жизненный путь Хаффнера, на котором отразился ход событий 20‑го столетия.
Подобное произошло уже также в 1996 году, когда написанная также в Англии непосредственно вслед за "Историей одного немца" книга Хаффнера "Германия: Джекилл и Хайд[12]" через пятьдесят шесть лет впервые была издана не немецком языке. Сам Хаффнер долго оттягивал публикацию на немецком языке этой книги, написанной непосредственно после начала войны для английской публики. "Жизнь не следует заканчивать тем, чтобы издавать заново свои ранние произведения" — так звучало его обоснование этого решения.
В конце концов в 1995 году он всё же одобрил перевод. Хотя Хаффнер написал книгу на немецком языке, её пришлось переводить с английского на немецкий обратно, поскольку законченная весной 1940 года оригинальная рукопись на немецком языке была утрачена. Когда в конце концов книга была издана, её обсуждали почти в каждой немецкой газете. То, что Себастьян Хаффнер много лет прожил в Англии и что у него было британское гражданство, должно было быть пояснено, чтобы объяснить историческое значение книги "Germany: Jekyll and Hyde".
Поскольку эта книга всё же в отличие от "Истории одного немца" действительно была издана в Лондоне в 1940 году, то "Germany: Jekyll and Hyde" считается первенцем Хаффнера. Никому тогда не приходило в голову, что книга могла бы быть возможно написана к другому, нежели указанному издательством моменту или что позже она могла бы быть ещё раз переработана. При презентации немецкого издания в декабре 1996 года в Берлине тем не менее Петер Штайнбах, управляющий музея немецкого Сопротивления, спросил присутствующего переводчика, не было ли при обратном переводе что-либо добавлено — настолько он был впечатлен пророчеством Хаффнера. Во всяком случае, у него было достаточно оснований для таких подозрений: ведь в конце концов Хаффнер в книге "Germany: Jekyll and Hyde" предсказал самоубийство Гитлера. "Конец Гитлера — это не вопрос для размышлений", — писал Хаффнер в 1940 году. "У него определённо есть и смелость, и малодушие для самоубийства по причине отчаяния. […] Гитлер — это потенциальный самоубийца в полном смысле этого слова."
Таким образом "Germany: Jekyll and Hyde" — если не считать двух написанных ещё в Германии произведений молодости — не была первой из написанных Хаффнером книг, но она была его первой книгой, которая была действительно напечатана. Одновременно она была его первой книгой по теме политики, для которой он после основательных размышлений выбрал псевдоним "Себастьян Хаффнер". Это имя — Себастьян от Иоганна Себастьяна Баха, Хаффнер — по названию Хаффнер-симфонии или серенады Моцарта — должно было сигнализировать английскому читателю, что речь идёт об авторе немецкого происхождения, который покинул Германию по политическим, а не по "расовым" причинам (Хаффнер: "Себастьян — это не еврейское имя"). "С тех пор это имя ко мне прилипло", — говорил Хаффнер спустя десятилетия, — "и я его оставил, и старался завоевать ему авторитет".
"Germany: Jekyll and Hyde" и "История одного немца" — это книги-близнецы. Хотя они настолько различны по концепции, тем не менее они похожи в своих политических высказываниях и они написаны (почти) в одно время. Уже эта схожесть написанной при пока неоднозначно выясненных обстоятельствах и отложенной наполовину законченной книги — "Истории одного немца" — и действительно опубликованной в Англии примерно в это же время книги "Germany: Jekyll and Hyde"- должна была бы призвать критиков к осторожности, но всё же произошло обратное. Берлинский историк Хеннинг Кёлер и отставной дрезденский историк искусств Юрген Пауль в августе 2001 года решились на то, чтобы подвергнуть сомнению подлинность "Истории одного немца", к чему мы ещё вернёмся.
Теперь годы, проведённые Хаффнером в изгнании, и подавно стали в центре внимания. В конце концов "История одного немца" была "первой затеей" Хаффнера для того, чтобы в 1939 году найти выход из во многих отношениях тягостной ситуации в еще чужой стране. Уже эта "первая затея", как называет Хаффнер начатую "Историю одного немца" в публикуемом здесь разговоре, происшедшем в 1989 году, открыла ему путь к необычной карьере, вероятно наиболее успешной, какой мог достичь неизвестный эмигрант и "враждебный иностранец" в годы войны в английском изгнании: не прошло и трёх лет, как он стал ведущим сотрудником солидного "Observer".
Не имея в руках ничего, кроме первой главы и конспекта, Хаффнер обратился к тогда столь же неизвестному и не имевшему средств издателю Фридрику Варбургу, который ему тотчас же предложил договор на "Историю одного немца" и стал платить аванс в два фунта в неделю. Таким образом Варбург стал первым восторженным читателем книги (или её частей) — и примерно на шестьдесят лет остался и единственным. Хаффнер, которому тогда был тридцать один год, тотчас же почувствовал, что то, что он в изгнании нашёл издателя, было гораздо важнее для его будущего, чем скромный аванс. Хотя книга тогда не была издана, поскольку Хаффнер её не закончил, всё же у Варбурга было достаточно терпения, чтобы дождаться второй попытки Хаффнера, дальше платить аванс и в конце концов напечатать книгу.
Книга привлекла большое внимание и сделала Хаффнера, который как раз в это время во второй раз с начала войны был интернирован в качестве "враждебного иностранца", известным на политической и журналистской сцене Англии. Различные политики, даже министры, просили Варбурга предоставить им возможность познакомиться с автором. Черчилль был настолько под впечатлёнием от книги, что он приказал всем своим министрам изучить её, как позже вспоминал его сын Рандольф. Хаффнер по прибытии в Англию между иными делами улучшал свой английский тем, что он проглатывал одну за другой тогда уже многочисленные исторические произведения Черчилля и относился к нему с большим восхищением (однако никогда не был ему представлен). Этого особого отличия — принудительной лекции перед военным кабинетом министров — Хаффнер так никогда и не испытал. Это признание его чрезвычайно обрадовало и глубоко тронуло. Более того: никакое признание не было для него важнее, чем именно это, которого он так и не изведал.
У Хаффнера, наряду с его родным отцом, было два учителя или образца для подражания: Уинстон Черчилль и Томас Манн. Посредством книги "Germany: Jekyll and Hyde" Хаффнеру удалось произвести впечатление не только на важнейшего политика тех лет в Англии — а именно на Черчилля, но также и на своего второго учителя. Потому что одним из первых восторженных читателей — ещё до собственно опубликования — книги "Germany: Jekyll and Hyde" — был в мае 1940 года не кто иной, как Томас Манн, который 15 мая в своём дневнике отметил: "Внимательно читал одну английскую книгу >Germany: Jekyll and Hyde< С.Хаффнера (псевдоним?), отлично." Несколько дней спустя: "Превосходный анализ".
Томас Манн тотчас же занялся поиском издательства для опубликования книги в США. Книга была издана там в 1941 году, хотя и не в том издательстве, в которое писал Томас Манн. Он писал в издательство "Harpers & Brothers" в Нью-Йорке сразу же по прочтении книги: "Эта книга — энергичный анализ всего феномена нацизма — одна из наиболее поучительных, которые написаны о немцах в их современной ситуации".
Однако всё же наибольшее воздействие книга "Germany: Jekyll and Hyde" естественно имела в Англии. Там она была упомянута в обеих палатах парламента, на Би-Би-Си и высоко оценивалась в некоторых газетах. Писатель Дж. Б.Пристли пожелал книге, чтобы она достигла миллионного тиража. До этого хотя и не дошло — Варбург говорит о 3000 экземплярах, которые он продал — всё же благодаря этой книге и вниманию, которая она нашла, Хаффнер был дважды освобождён из интернирования: в апреле и в августе 1940 года. Второе интернирование Хаффнера летом — массовое интернирование почти всех живших в Англии "враждебных иностранцев" — окончилось для него вскоре после того, как в нижней палате парламента депутатом Джоном Паркером министру внутренних дел был подан запрос, в котором Паркер высказался против того, чтобы интернировали таких "враждебных иностранцев", как Хаффнер, вместо того, чтобы использовать их "важную поддержку военных усилий союзников".
Уже в апреле 1940 года — книга ещё не была издана — издатель Варбург справился с тем, чтобы вытащить её автора из лагеря для политически особенно подозрительных иностранцев. Тем самым он одновременно спас Хаффнеру жизнь, не подозревая этого: в начале июля все обитатели этого лагеря были отправлены морем в Канаду, однако судно было торпедировано немецкой подводной лодкой и затонуло. Большая часть невольных пассажиров утонула в Атлантическом океане — вода в нем к северу от Британских островов была и летом ледяной. В течение всей жизни Хаффнер был уверен, что он не принадлежал бы к числу выживших, поскольку, как он писал спустя десятилетия Варбургу, "моё телесное состояние в то время не было особенно крепким".
* * *
Для поразительного успеха Хаффнера в Англии имеется несколько причин. Несколько предпосылок он вынес из Германии. Прежде всего — это фон буржуазного воспитания, близость к литературе, которыми он обязан, как и столь многому другому, своему происхождению, а точнее: своему отцу, берлинскому директору народной школы и активному реформистскому педагогу. Только лишь попутно следует здесь заметить, что старший брат Хаффнера Ульрих Претцель, который унаследовал обширную библиотеку отца, после Второй мировой войны основал в Гамбурге семинар по германистике. Когда он умер, в некрологе во "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" говорилось: "Он знал буквально всё, не только в своей узкой области, и на что он не мог ответить с первого раза, то он находил, несколько раз протянув руку в почти безграничные массы своей личной библиотеки, одной из величайших личных библиотек в нашей стране". Два больших произведения, сожалеет автор Петер Вапневский, остался должен Претцель себе и своим ученикам, никто из которых не мог бы разработать их столь компетентно, как он: большой средневерхненемецкий словарь и историю немецкой филологии.
Себастьян Хаффнер вырос последним из четырёх детей в этой буржуазно-либеральной семье и с самого детства сталкивался с политикой, искусством, музыкой и литературой. Уже рано у него было ощущение, что он может писать, и вёл дневник, писал новеллы и два романа, и некоторые говорят о том, что если бы не было обусловленного Гитлером драматического поворота судьбы, то Себастьян Хаффнер сделал бы себе (другое) имя в качестве писателя. Всё же это должно оставаться предположением.
Ситуация в эмиграции в Англии за весьма короткое время свела на нет писательские амбиции Хаффнера и вынудила его стать автором политических произведений, который, так сказать из своих собственных интересов берётся за перо. "История одного немца" в этом преобразовании является поворотным моментом — от автора романов к политической журналистике. Выбранное им самим название книги — производящее выразительное действие — позволяет догадываться, что Хаффнер знал о том, какое особое положение он как немец может занимать в приютившей его стране, которая находилась в тяжёлой и всё более изолированной ситуации по отношению к агрессивной Германии: как своего рода транслятор, тот, кто сделает понятным для англичан по всей видимости сошедших с ума противников в войне. От того, чтобы англичане не проиграли эту борьбу, зависит и его собственная жизнь. Хаффнер хватается за соломинку: возможно у него получится, как раз потому, что он немец, поделиться кое-чем с англичанами, что им станет полезным в борьбе с Германией? И ещё: возможно тем самым он сможет помочь себе и своей семье на некоторое время преодолеть затруднения? В октябре 1938 года родился их общий сын Оливер, у его жены был кроме того восьмилетний сын от первого брака и она снова была беременна… Одновременно он надеялся, не совсем по праву, но и не совсем без оснований, что его публицистическая работа сможет послужить тому, чтобы защищать его от интернирования в качестве враждебного иностранца.
Эта роль Хаффнера в Англии в качестве транслятора — которую он уже занимал, поскольку он реже был вынужден отдавать на перевод свои книги и статьи — была следующей основой его успеха. Хаффнер знал о военном противнике больше, чем многие другие — и он был в состоянии так это описать, что английская публика могла кое-что из этого извлечь. Главной целью Хаффнера была ведь одинакова с целью страны его пребывания: победить Гитлера. И всё же не содержится ли в этой общности между Хаффнером и Англией уже зародыш конца "чудесной дружбы", которая охладеет, когда общий враг будет побеждён?
На первых страницах "Истории одного немца" Хаффнер намекает на то, в чём он видит пользу своей книги, возможно также и своей личности: "Мой случай — самый что ни на есть средний. По нему легко понять, на что человек сегодня может рассчитывать в Германии." Несколько менее литературно и уже очень целенаправленно звучит по сравнению с этим написанный лишь несколько месяцев спустя первый абзац в книге "Germany: Jekyll and Hyde": "Эта книга преследует тройную цель. Она желает закончить дискуссию; совсем скромным образом помочь выиграть войну; обсудить предпосылки дл продолжительного мира".
* * *
В политически, психологически и финансово тяжелой ситуации первых месяцев в эмиграции "Воспоминания тридцатилетнего", написание смеси из романа становления героя, автобиографического рассказа от первого лица и политического анализа становится попыткой близкой к решению квадратуры круга: политическая история, рассказанная лично. Или: личная история, рассказанная политически. Не именно ли эта отвага, пойти на такой риск, производит особое очарование "Истории одного немца", от которого едва ли кто может освободиться? И естественно, что в руках читателя, перед его глазами глубоко замороженный в 1939 году текст оттаивает.
Уже от момента написания книги читатель будет испытывать ощущение привнесённой позже мудрости. "Любой умнее, когда выходит из ратуши[13]", как гласит пословица, которую Хаффнер охотно использовал. И всё же его История одного немца" подкупает ясностью ещё до входа в ратушу, и главным образом об этих ранних ясности и понимании ломали корья критики в достопримечательных дебатах о Хаффнере летом 2001 года. Логично — с точки зрения обоих профессоров, которые нападали на книгу Хаффнера — было подвергнуть сомнению то, что Хаффнер в действительности мог написать в 1939 году "Историю одного немца" в том виде, как она была опубликована летом 2000 года. "Ясновидение или взгляд в прошлое?" — так был поставлен вопрос, вокруг которого проходили дебаты по Хаффнеру.
Разговор об эмиграции
Впервые публикуемое в этой книге интервью с Хаффнером тогдашней студентки факультета журналистики Ютты Круг, имевшее место в 1989 году, было в этом кратком, однако ожесточённом споре важнейшим свидетельством о раннем моменте времени — 1939 годе, когда возникла "История одного немца". На примере Хаффнера Ютта Круг исследовала в своей дипломной работе, как история жизненного пути может отразиться на отдельном человеке. Утрата родины, корней и выживание в эмиграции были темами, которые её при этом особенно интересовали. Хаффнер является интересным представителем профессиональной группы, которые в эмиграции столкнулись с особой проблемой чужого языка, изучение которого было базовой предпосылкой для любой дальнейшей журналистской или писательской деятельности.
Вдобавок к этому работа представляет собой вклад в уменьшение дефицита исследований эмиграции, чему поразительно долгое время в Германии не уделялось должного внимания. Уже сегодня, спустя тринадцать лет, интервью с даже весьма юными к моменту эмиграции беженцами едва ли уже возможны. "Люди ведь умирают один за другим", — сказал Хаффнер в этом интервью о своём поколении. Он сам в 1989 году из-за возраста не был более в состоянии провести разговор столь обстоятельно, как прежде намеревался. Уже последняя книга Хаффнера "От Бисмарка до Гитлера" за два года до этого была надиктована на магнитофонную ленту, а не сочинена им самим в процессе "добросовестного написания", как он это сформулировал в послесловии. В предлагаемом интервью Хаффнер излагает — более детально, чем когда-либо прежде или после этого — сведения о своих причинах, по которым он покинул Германию, о пути, который он для этого избрал и о трудностях, которые у него были сначала в Англии. Он повествует о своих проектах книг, о своём сотрудничестве с издававшейся сначала ежедневно немецкоязычной лондонской эмигрантской газетой "DieZeitung" и о своей роли в редакции уважаемой английской воскресной газеты "The Observer". Он описывает встречи с такими соратниками, как Джордж Оруэлл, Исаак Дойчер, Фридрик Варбург и с умершим в декабре 2001 года прежним издателем "Observer" — Давидом Астором.
Хаффнер говорит также о годах в Берлине до его бегства в конце лета 1938 года, так что читатель может получить представление о проблемах и трудностях, с которыми он столкнулся в те годы, и которые, к сожалению, не были отображены в "Истории одного немца". Получаешь также представление о различных путях, которые испробовал Хаффнер, чтобы в неизвестной ситуации диктатуры — никто не знал, сколь долго продержится "нечистая сила" — справиться с этим.
Хаффнер явно планировал описать в "Истории одного немца" также и эти тяжёлые годы перед эмиграцией, как он это нам выдаёт в двух местах текста. На странице 10 Хаффнер пишет, что увидят, "как он в конце прекратил борьбу — или, если угодно, должен был перенести её на другой уровень", под чем единственно могло подразумеваться последующее бегство. Ещё отчётливее указание на странице 100: Хаффнер повествует там о своей способности к мышлению в "административной логике", которой он научился во время своего юридического образования, что ему и его жене пару лет спустя "буквально спасло жизнь". И здесь также наиболее вероятно речь идёт об обстоятельствах бегства. Ещё важнее следующий аспект: едва ли Хаффнер вставил бы мимоходом в книгу свою жену, если бы он не намеревался позже вернуться к ней; к дискриминации, которой она подвергалась, и к трудностям, которые они совместно выстрадали. То, что он в своей книге, которая на его собственном примере должна была проинформировать английского читателя об отношениях в Германии, не поделился бы своим собственным опытом знакомства с Нюрнбергскими расовыми законами и начавшимся преследованием евреев, было бы совершенно немыслимо.
Решение Хаффнера бежать политически мотивировано в широчайшем смысле. "Нелегальные" отношения с женщиной, ставшей позже его женой, играют в совокупности причин для бегства большую роль, которые всё же по праву можно внести в рубрику "личные причины". "С ужасными угрозами это государство требует от этого частного лица, чтобы он отказался от своих друзей, покинул свою подругу, отказался от своих взглядов, принял предписанный образ мыслей", — пишет Хаффнер в прологе к "Истории одного немца". Там трудно провести границу между политикой и частной жизнью, поскольку ведь тоталитарное государство само постоянно эти границы нарушает. К особенностям тех лет принадлежит то, что сначала следовало выучить, как пишет Хаффнер, "что нацистская революция устранила старое разделение между политикой и частной жизнью, и что невозможно трактовать её просто как политическое событие". Первая и возможно естественная, весьма распространённая по крайней мере в Германии реакция — уйти в частную жизнь, если "снаружи" становится неуютно — была закрыта. "Куда бы ни уходили — повсюду находили снова как раз то, от чего хотели убежать".
Единственно возможный вывод
Эмиграция — это никогда не добровольный процесс. Она является результатом противопоставления отдельного человека обществу, в котором он живёт, и он начинает рассматривать вопрос о том, чтобы уехать, поскольку не видит никакого иного выхода. Этот процесс принятия решения занял у Хаффнера более пяти лет.
Не то, чтобы ему требовалось это долгое время, чтобы выяснить для себя характер Гитлера или нацизма — первые мысли об эмиграции были у него уже в 1933 году. В "Истории одного немца" Хаффнер описывает компромисс, о котором он в конце концов договорился со своим отцом, как альтернативу эмиграции: он едет в Париж, чтобы получить там степень доктора по международному частному праву. Одновременно он хотел выяснить возможности остаться во Франции. В действительности Хаффнер в 1933 году не находился в Париже, а сначала провёл время в упомянутом им в "Истории одного немца" военизированном оздоровительном лагере для юристов-стажеров в Ютерборге. Вслед за этим он поступает в редакцию "Vossischen Zeitung" и таким образом своей кожей переживает конец этой традиционной газеты в начале 1934 года. Лишь после этого он едет в Париж. Однако одно дело — находиться в глубоком внутреннем антагонизме к угрожающему политическому развитию своей страны, и совсем другое дело — действительно покинуть эту страну, к которой чувствуешь свою принадлежность по языку, культуре, работе и образованию, и возможно, навсегда. Это имеет значение лишь тогда, когда не чувствуешь для себя непосредственной угрозы.
Гитлер не сделал проще решение своим "психологическим мастерством", как Хаффнер представил спустя десятилетия в "Заметках о Гитлере" исходя из своего собственного опыта: "Сначала возбуждение страха посредством беспорядочных угроз, затем суровые, однако остающиеся за уровнем угроз меры террора и после этого постепенный переход к почти нормальности, однако без полного отказа от некоторого террора на заднем плане".
Решение на эмиграцию было без всякого сомнения самым драматическим и важнейшим в жизни Хаффнера. Он использовал своё положение редактора литературного приложения журнала мод, чтобы получить необходимые документы для заграничного репортажа из Англии. Когда он в конце концов ночью с 28 на 29 августа 1938 года поднялся в Берлине на поезд в Хук-ван-Холланд[14], то на границе не ожидалось никаких трудностей, поскольку министерство пропаганды одобрило поездку.
Его беременной подруге уже в июне со второй или даже с третьей попытки наконец удалось легально выехать. Хаффнер оставался в Берлине, тщательно готовил своё собственное бегство и организовал перевозку мебели своей подруги в Кембридж, причём он справился с трюком — поместить свои собственные пожитки в домашнее имущество своей будущей жены. По утрам до работы Хаффнер, говоривший по-французски гораздо лучше, чем по-английски, брал частные уроки, чтобы улучшить свой школьный английский. Англия была собственно "неправильной" страной эмиграции для Хаффнера, но всё же она уже скоро должна была оказаться правильной. Он был избавлен от ужасной судьбы многих немецких беженцев во Франции.
Лишь очень немногие были посвящены в план бегства. Ни разу об этом не сказали его матери — что он планировал остаться в Англии. В "Немецком Издательстве" (до 1937 года издательство "Ульштайн") было несколько посвященных: те, кто помогли ему получить выдуманный запрос на выезд. Если угодно, они были помощниками в бегстве. Молодой человек по имени Гельмут Киндлер должен был уже через несколько дней сесть на его стул. Хаффнер сам предложил его кандидатуру своим начальникам, которые знали о его планах бегства и поддерживали его.
Гельмут Киндлер был собственно помощником режиссёра в театрах Берлина, при случае работал актером, и в последнее время написал несколько статей и примечаний для "Маленькой газеты", приложения к "Новому миру моды", который редактировал Хаффнер. В августе 1938 года они столь же мало могли знать о том, что ещё встретятся — как и о том, что спустя десятилетия они совместно задумают весьма заметную книгу о том человеке, благодаря которому они оказались в тогдашней ситуации: "Заметки о Гитлере".
Неудержимое восхождение Гитлера не в первый раз вынудило Хаффнера, как раз достигшего к тому времени возраста тридцать лет, пересмотреть свои планы. Уже изучение права было в этом неправовом государстве весьма обесцененным, если человек не был готов сотрудничать с ним, что уже развивалось в правосудии с 1933 года. Хотя Хаффнер некоторое время пытался работать в той части юстиции, в которой ещё имел силу Гражданский Кодекс, всё же позже, начиная с Нюрнбергских расовых законов ему стало ясно, что он как юрист однажды сможет попасть в положение, когда придётся применить закон, который он в высшей степени отвергал. Эта оговорка была применима естественно лишь для карьеры правительственного юриста в учреждении, возможно также в министерстве. Свои прекрасные планы он мог так или иначе на необозримое время положить в долгий ящик. Между тем он мог зарабатывать писательством, среди прочего также и рекламных текстов.
Отказ от юстиции не стал для него особенно тяжёлым, поскольку он и так ощущал себя больше литератором, чем юристом. Ведь уже в сентябре 1929 года он заключил договор на написание книги. Однако мировой экономический кризис решил судьбу его романа "Дочь". По крайней мере одна гамбургская газета напечатала с продолжениями это произведение, даже если и сильно сокращённое и искажённое. Существование писателя было бы для Хаффнера наиболее желанным; изучение права он начал ради своего отца. Разрешение Хаффнером этого конфликта интересов состояло в том, чтобы делать одно, не оставляя другого. Он учился и наряду с этим писал романы и рассказы, что планировал делать также и после окончания учёбы.
Его отец, сам сын деревенского учителя, начал свою карьеру в восьмидесятых годах 19 века в качестве учителя народной школы в Померании, что послужило трамплином для головокружительной карьеры в столице рейха и наконец принесло место директора школы в берлинском округе Пренцлауэр Берг, включая служебную квартиру в школьном дворе — невероятное восхождение для человека, чей дед в конце концов был ещё крестьянином. В кайзеровской Германии для него — страстного педагога-реформиста, который надеялся оставить после себя мир немного лучше, чем тот, в который он вступил — большего роста нельзя было ожидать.
Попутно отец Хаффнера вступил в Немецкий союз учителей и сделал себе имя школьными реформами. Его представления состояли в том, что передача знаний должна осуществляться не зубрёжкой и заучиванием наизусть, но посредством проработки учебного материала самим учащимся. Однако в кайзеровском рейхе о таких представлениях не желали ничего знать. Удовлетворялись культивированием научной элиты, весьма впрочем в международных кругах уважаемой. Эта ситуация изменилась лишь в Веймарской республике. Отец Хаффнера сделал вторую карьеру, круто поднялся в иерархии прусского образования и общался по службе с прусским министром образования Конрадом Хенишем (СДПГ). Он закончил свою карьеру правительственным директором в министерстве по делам культов и председателем Немецкого союза учителей. После 1933 года нацисты повернули вспять прусскую школьную реформу, как только получили для этого возможность. Приговорённый к тому, чтобы беспомощно наблюдать, как ненавидимые им нацисты разрушают дело его жизни, удрученный Карл Луис А.Претцель умер в сентябре 1935 года в Берлине. Уже в начале тридцатых годов он завернул в газету почётную грамоту Союза учителей и вернул её через Хаффнера в берлинское учреждение — тщётный протест против всё более усиливавшихся нацистских тенденций в союзе. Мир, который он покинул, был всё же не лучше того, в который он вступил семьдесят лет ранее — параллель с Себастьяном Хаффнером, которого в последние годы жизни огорчала мысль, что он жил "напрасно".
С профессиональным ростом отца в двадцатые годы был связан переезд семьи из служебной квартиры в другую: из жилого дома директора во дворе народной школы в северо-восточном округе Берлина Пренцлауэр Берг — в район Берлин-Лихтенфельде. Профессиональный и общественный рост отца, которому он был обязан молодой республике, познакомил сына с другим миром — миром "фон" Малого Потсдама. Прежде, "в гимназии Кёнигштадта среди еврейской элиты я был весьма левым", подводит Хаффнер итог своего опыта обеих гимназий в интервью с Юттой Круг, в Лихтенфельде "я стал правым". Вся его жизнь была определена этими двумя школами — а впрочем, этим можно объяснить и невозможность приписать Хаффнера к определённому политическому лагерю. Хаффнер знал различные политические лагери и мог свести воедино их кажущиеся противоположными образы мышления, дать им поспорить и всё взвесить, и прийти таким образом к новым, непривычным результатам. Для Хаффнера не существовало проблемы — симпатизировать Розе Люксембург и Карлу Либкнехту, и одновременно оплакивать безмолвное свержение монархии в 1918 году, поскольку это отняло "у высших классов их традиции и их опору".
* * *
До 1933 года развитие Хаффнера проходило без особенных сюрпризов. Школьные годы он провёл без усилий и окончил гимназию Шиллера в Берлине-Лихтенфельд с наилучшими результатами. Вместо того, чтобы погрузиться в подготовку к выпускным экзаменам, он отшлифовывал инсценировку пьесы Софокла "Король Эдип", которая в конце учебного года шла несколько вечеров на немецком и на древнегреческом языках для почти всех учителей и учащихся.
Время обучения также в целом следовало предписанным рамкам и в соответствии с разработанным планом. Хотя после своего успеха с инсценировкой Эдипа он и решился стать театральным режиссером, всё же этому снова воспротивился его отец, который принудил его изучать нечто "благоразумное". Ведь он мог бы попробовать заниматься писательством или театром попутно. Хаффнер, как уже сказано, принял это предложение.
Поскольку все старшие братья Хаффнера стали учителями, а его не особенно волновала эта профессия, он решил для себя заняться изучением права, с намерением позже избрать карьеру высшего чиновника. Юридическое образование, как он надеялся, открывало ему доступ к сферам власти. Быть может, он мог бы позже стать государственным секретарём в министерстве и "представить правительству солидные изменения в законах". То, что его отец общался с некоторыми большими величинами в политике, внесло свой вклад в это решение. Таким образом, хотя он и исполнил желание отца, который также хотел дать возможность учиться своему младшему сыну, и мог полностью финансировать его, последнего ребёнка, однако он — единственный из четверых детей — отверг педагогическое наследие отца.
Надежда путём изучения права проникнуть в "сферы власти" после 1933 года превратилась для Хаффнера в свою противоположность. Он даже решился не сдавать более последние экзамены. Это казалось ему бессмысленным. И снова это был его отец, который настоял на том, что окончание обучения не следует ставить в зависимость от сиюминутных политических обстоятельств. Сколь не соответствующим моменту это не казалось бы, не отшвырнет ли Хаффнер своим импульсивным решением более далёкую перспективу? Тем не менее, завершение его юридического образования, на которое его уговорил отец, спустя десятилетия дало ему пенсию от Берлина, поскольку Хаффнер был признан политическим беженцем, который вследствие политических обстоятельств не смог осуществить карьеру юриста.
В действительности Хаффнер не работал в области юстиции даже двух лет. Всё же оставление юстиции в 1936 году с тем, чтобы теперь целиком и полностью посвятить себя журналистике, не решило проблемы. Как можно заниматься журналистикой, не работая над фасадом нормальной, симпатичной Германии, которой в действительности вовсе не существовало более? Хаффнер снова встал перед неразрешимой проблемой.
Разумеется, он решил никогда не писать ничего такого, в чём позже могли бы его упрекнуть, ни единого слова. Разумеется, можно было, особенно в литературном приложении к газете, писать не на тему Гитлера. Следовало избегать всего, что пахло политикой. Таким образом, Хаффнер некоторое время занимался школами моды, так возникла, например, исправленная статья Раймунда Претцеля в журнале "Die Dame" ("Дама") — "На спине лошади". Пропагандистская империя Геббельса предлагала бесконечное множество ниш, в которых множество писателей, актёров, режиссеров и журналистов могли каким-то образом попытаться пережить эти времена. Это делалось прежде всего в мирные годы Третьего Рейха как раз для того, чтобы придать видимость нормальности. Хаффнер также попытался это сделать.
Возможность работать в издательстве Ульштайна на третьем этаже очень подошла Хаффнеру. Третий этаж: там делались газеты. Это означало также: большое поле деятельности вне политики. Здесь он попытался построить себе своего рода "промежуточное существование".
Следовало ли это пробовать? Эти годы принесли ему, когда он уже долгое время снова жил в Берлине и посредством своей книги "Заметки о Гитлере" стал весьма известен в Федеративной республике, острую полемику в "Die Zeit" (выпуск от 10 декабря 1979 года): "Всё-таки следует представлять себе, что происходило в то же самое время, в которое — спрятавшееся в этом времени неведение — Вольфганг Штаудте снимал бойкие фильмы — позже даже сыграл роль в фильме "Еврей Зюсс (JudSüß)[15]", — Макс Бенсе сочинил введение к произведениям Керкегарда или издатели Штомпс и Ровольт в предвоенном Берлине встречались на Курфюрстендамм с Хорстом Ланге и Гюнтером Айхом под джазовую музыку. Карл фон Осецки был там уже избит до полусмерти. "Новелла живёт" — взывал в 1937 году Себастьян Хаффнер в журнале "Дама". Эрих Мюэзам был мёртв". Автор, тогдашний литературный шеф газеты "Die Zeit" Фриц Й.Раддац, писал далее: "Возможно, это фарисейски преувеличено. Однако я хотел бы постоянно спрашивать: пардон, как это собственно тогда было? Наверняка пили и шампанское, выходили из дому, флиртовали — никто ведь не может длительное время быть подавленным; пожалуй, устраивали вечеринки, имели элегантные дома. Однако там не хватало ведь пары коллег? Которые прежде были там?" Наверняка выходили из дома и флиртовали. Были ли на длительное время подавлены? Шампанское? Можно прочесть книгу Хаффнера как опередивший на сорок лет ответ на вопросы Раддаца.
Расовые законы Гитлера, с тех пор как они были приведены в действие — причем точно в тот месяц, когда умер отец Хаффнера — вмешались также и в совершенно частную жизнь Хаффнера. Он, который к этому времени ещё в течение дня в основном замещал адвоката, время от времени даже судью, например в палате бракоразводных процессов Берлинского земельного суда, неожиданно оказывался, когда он прибывал домой, в противозаконном положении. Абсурдная ситуация. В том, что противозаконные любовные отношения, в которых жили Хаффнер и его подруга, оставались незамеченными, заслуга прежде всего управляющего квартала в колонии художников в берлинском округе Вильмерсдорф. Он, хотя и был членом партии, очевидно не видел непосредственной угрозы от "осквернения расы" несколько необычной семьёй, проживавшей на Боннер Штрассе 1А, и не только закрывал оба глаза, но даже успокаивал подозрительных соседей тем, что "Фрау Ландри ведь лишь наполовину еврейка".
Хаффнер познакомился с Эрикой Хирш, бывшей почти на девять лет старше его, в 1934 году. Она жила со своим тогда четырехлетним сыном Петером в колонии художников на Брайтенбахплатц в юго-западном Берлине. Она узнала Хаффнера через своего мужа, Харальда Шмидта-Ландри, бывшего редактора "Фоссишен Цайтунг", с которым она была в разводе. Эрика Ландри происходила из ассимилировавшейся уже на протяжении многих поколений еврейской семьи, которая даже перешла в протестантскую веру. Её отец был кройцбергским фабрикантом.
Однако документы первой половины 19 века "выдали" нацистам их происхождение. В апреле 1933 года по этой причине Эрика Ландри потеряла своё место библиотекаря в высшей школе политики, что не смог предотвратить даже депутат рейхстага от Немецкой Демократической партии Теодор Хойсс, одновременно бывший её последним главой и начальником высшей школы, хотя он пытался сделать это по мере сил. Сопротивление, впрочем, пришло слишком поздно: Хойсс тоже голосовал 23 марта 1933 года за закон о предоставлении чрезвычайных полномочий Гитлеру.
Причин для эмиграции в последующие годы не стало меньше. Когда Эрика весной 1938 года забеременела, решение покинуть страну стало невозможно более затягивать. Однако для Себастьяна Хаффнера существовала не только эта причина для эмиграции. Можно было видеть, слышать и чуять, к чему приближались Германия и мир. Простой и доступной для каждого возможностью было прочитать "Майн Кампф" Гитлера, что Хаффнер сделал в 1933 году. Требовалось лишь поверить человеку, что он написал в качестве политического аутсайдера во времена Веймарской республики. И разве военные планы Гитлера не соответствовали слишком хорошо неслыханному вооружению последних лет?
В 1938 году Гитлер правил уже более пяти лет. "Майн Кампф" было программой правительства. Кроме НСДАП с лета 1933 года не существовало более других партий. Потребовалось лишь полгода, чтобы из остатков Веймарской республики создать государство во главе с фюрером, после того, как Гинденбург, какие бы причины за этим не стояли, сделал Гитлера рейхсканцлером. Гитлер был канцлером как раз четыре недели, когда в Берлине "за восемь дней до выборов неуклюжее происшествие с пожаром в рейхстаге" (Виктор Клемперер) привело к важнейшему удару Гитлера с целью изоляции оппозиции. Вызывающе быстро Гитлер ввёл чрезвычайное положение, которое старый рейхспрезидент без сомнений подписал. Одним росчерком пера большая часть конституции перестала действовать, и основные права граждан были ограничены. Ещё в ночь пожара были произведены поразительно хорошо подготовленные аресты по давно подготовленным спискам.
Сам по себе факт, что эти аресты были произведены в огромных масштабах, когда здание рейхстага ещё дымилось, на что нацисты столь быстро отреагировали, что казались заранее к этому подготовленными, заставляет сомневаться во всё ещё и ныне господствующей исторической теории об одиночном преступлении Маринуса Ван дер Люббе. Пожар рейхстага был "решающим событием, которое до сего дня реально не раскрыто", писал Хаффнер примерно через пятьдесят лет после своего бегства из Германии в своем произведении "От Бисмарка до Гитлера", названном ретроспективным взглядом, по вопросу, как Гитлер после легальной передачи ему власти смог в течение нескольких месяцев зачистить политическое поле. Начиная с этого момента, у Гитлера были развязаны руки для реализации правительственной программы. Это означало войну.
Хаффнер не хотел сражаться за Гитлера в этой войне, которая теперь придвигалась всё ближе — "в том числе не желал соучаствовать и пером". Однако то, что в случае войны его попытка внеполитического промежуточного существования пришла бы к концу, было очевидно. Надежду на сопротивление со стороны военных, возможно полную иллюзий, пришлось оставить самое позднее после интриги Бломберга-Фритча в феврале 1938 года.
* * *
Ещё было возможно, если даже и не совсем просто, выехать из Германии. Большей проблемой было — куда. Вследствие постоянно увеличивавшегося потока беженцев — ещё раз усилившегося аншлюсом Австрии к гитлеровской Германии в марте 1938 года — стало ещё труднее вообще найти страну, их принимающую. Франция не рассматривалась не только из-за мало ободряющего опыта Хаффнера в 1934 году. Исход войны в 1918 году — удар кинжалом в спину! Ноябрьское предательство! — в течение двадцати лет было в центре каждой националистической пропаганды. Реванш был само собой разумеющимся, и война против Франции казалось лишь вопросом времени — затем даже возможно также против Англии, хотя всё же двадцать-тридцать миль пролива Ла-Манш между британскими островами и европейским континентом могли весьма успокоить того, кто искал защиты от сильно вооружённой страны с жаждущим реванша диктатором. Как оказалось, пролива в качестве своего рода крепостного рва оказалось именно достаточно.
То, что в Англии сначала можно было бы объясняться лишь более-менее косноязычно, было по отношению к этому ожидаемому преимуществу второстепенным. Кроме того, братья и сёстры Эрики уже были в Англии; так что имелась очевидная причина для подачи заявления о посещении. Кроме того, по меньшей мере знали, где найти прибежище на первое время. Намного более трудным вопросом однако было, достаточно ли этого также для въездной визы для Эрики, поскольку много стран отгородилось от потока беженцев из Германии. Это угрожало срывом выезда Эрики. Однажды её прошение уже было отклонено. Хаффнер уговорил свою жену всё же ещё раз попробовать обратиться в английское посольство, накраситься и взять с собой сына… На этот раз всё получилось.
Инициированная президентом США Рузвельтом международная конференция по вопросу беженцев в Эвиане летом 1938 года также не улучшила ситуацию желающих выехать немецких евреев — скорее наоборот. Сам Рузвельт объявил, что для США останется действующей ранее установленная годовая квота в 27370 беженцев из Германии и Австрии. Швейцария — которая возражала в начальной стадии против того, чтобы конференция проводилась в месте нахождения Лиги Наций в Женеве, то есть на территории Швейцарии, поскольку не хотела утрачивать торговые отношения с Германией — предложила себя по крайней мере в качестве транзитной страны. В конце концов, не хотели "оевреиваться". Представитель Австралии заявил, что до сих пор они не имели "никаких расовых проблем" и так и должно оставаться. Делегат от Франции выразил сожаление, что примерно 200 000 уже принятых беженцев исчерпали возможности его страны. Представитель Англии завершил удручающую картину, заявив, что его страна не является местом для переселения. Легко представить себе, как немецкая пропагандистская машина простейшим образом исказила причину и следствие — ведь кто же вызвал проблему беженцев политическими преследованиями и расистскими законами? — в результате постыдного, а для многих преследуемых убийственного результата конференции в Эвиане.
Сам Хаффнер едва ли мог бы представить основание для прошения об убежище в Англии. Он ведь не был преследуемым, и как раз то обстоятельство, что он по доброй воле эмигрировал, не будучи в действительности преследуемым, создало ему позже большие трудности. Тот, кто преследовался по "расовым" или политическим основаниям и каким-то образом пробился в Англию, мог рассчитывать на получение вида на жительство. Эрика Хирш также относительно без проблем получила вид на жительство, после того, как она пересекла Ла-Манш. Никогда она не рассматривалась как нежелательная или даже опасная иностранка. Правда, летом 1940 года её с детьми, как всех немцев, интернировали на острове Мэн, отдельно от мужа. Всё же никто не был в опасности снова быть высланным из страны.
Однако таких людей, как Хаффнер, кто преодолел препятствия тем, что прибыл в Англию под предлогом, затем женился и больше не желал или не мог вернуться обратно в Германию, английские власти не очень приветствовали. А собственно, на какие средства он живёт? Как можно узнать, что речь идёт не о шпионе или что бы там ни было? Странных типов из Германии в конце концов уже было в стране более чем достаточно. Так и вышло, что через несколько месяцев Хаффнер — он между тем женился и стал отцом — оказался под угрозой высылки и после начала войны был интернирован. Поскольку он видел, что его ожидают эти проблемы, то он надеялся, что его возможно могла бы защитить от опасностей предпринятая открытая публицистическая деятельность, как ведь затем собственно и произошло. Его знакомство с Варбургом уже помогло ему в случае угрожавшей высылки в июне 1939 года, а книга "Германия: Джекилл и Хайд" в июне 1940 года стала его пропуском на свободу, когда он был интернирован во второй раз.
После своего второго интернирования 24 августа 1940 года он прибыл в Лондон и остановился в пансионе на площади Брунсвик в Блумсбери. В ту же ночь на Лондон упали первые бомбы. "Это может ведь стать обычным делом", — подумал он. Со временем Хаффнер привык к этому, и позже часто случалось, что Хаффнер, который прежде уже за несколько дней до визита к зубному врачу впадал в панику, при воздушной тревоге не уходил со своей семьёй в подвал, а оставался сидеть за своим письменным столом и продолжал работать. Вероятность встретиться с немецкой ракетой, говорил он, слишком мала, чтобы часами быть оторванным от работы.
* * *
Уже через несколько дней после своего возвращения из лагеря для интернированных Хаффнер со своим прежним сотрудником по "Frankfurter Zeitung" Гансом Лотаром сформулировал концепцию газеты на немецком языке. Лотар после своей эмиграции в 1938 году стал сотрудником издательства "Secker & Warburg", в котором также была издана книга Хаффнера. Лотар предложил Хаффнеру принять участие в планируемом выпуске "Die Zeitung". Первый номер вышел 12 марта 1941 года. На первой странице была напечатана передовая статья Хаффнера о текущем военном положении, под ней приветственная телеграмма от Томаса Манна: "Похоже, что Англия ещё не думает о своём поражении, что могли бы подтвердить и нацисты, поскольку там спокойно и уверенно разрабатывают и претворяют такие планы".
Себастьян Хаффнер работал в "Die Zeitung" всего лишь примерно год. Для скорого окончания имелось несколько причин: быстро развеялись иллюзии построить вокруг газеты некую политическую группировку — не правительство в изгнании, но своего рода "Комитет свободной Германии". Тем более предложение "Observer" пришло Хаффнеру в нужный момент. Хаффнер схватился за него обеими руками. Возможность перейти в уважаемую лондонскую воскресную газету "Observer" означала для Хаффнера, что теперь он будет писать не с точки зрения немецкого эмигранта и для эмигрантов, но "под маской англичанина" сможет войти в английскую политику. Для этого он выбрал новый псевдоним: "Студент Европы". Здесь, в старинной традиционной газете, он не мог бы предстать перед читателями в качестве немца, как он сделал себя узнаваемым псевдонимом "Себастьян Хаффнер".
Хаффнер усилил отныне свои старания, чтобы писать на "правильном английском". Это стало своего рода самовнушением, как он определил по прошествии лет это время. Каждое предложение он предварительно прочитывал по меньшей мере десять раз, чтобы услышать, действительно ли оно звучит по-английски. Ему на помощь пришла и его страсть к чтению, которой он обязан своему отцу. Он читал не только классиков английской литературы, но и все уже изданные к тому времени книги Уинстона Черчилля, что кроме всего прочего позже ему очень помогло проникнуть в ход мыслей Черчилля. Он часто верил в то, что может предсказать следующий шаг Черчилля — вовсе не плохая предпосылка для работы в качестве журналиста.
Пока познания Хаффнера в английском всё же были недостаточными, то Давид Астор, сын издателя "Observer", перерабатывал его статьи для этой газеты — а при случае также этим занимался Джордж Оруэлл, как повествовал Давид Астор. Давид Астор, как и многие другие, обратил внимание на Хаффнера после выхода его книги "Germany: Jekyll and Hyde". Ему понравилась дифференцированная картина Германии, которую нарисовал Хаффнер, и он оценил его тонкое чутьё. Он стал лучшим автором "по Германии", какого он мог бы найти. Перед обоими теперь, весной 1942 года, лежала долгая совместная дорога, которая закончилась лишь в июле 1961 года с увольнением Хаффнера из "Observer". В это время Хаффнер стал сначала британским журналистом, позже гражданином Великобритании, и он долгое время верил, что закончит свою жизнь англичанином. Снова всё вышло по иному. У Хаффнера всё всегда выходило по-другому, чем он планировал. Однако то, что он не держался упрямо своих планов, было предпосылкой для столь полного приключений течения этой долгой жизни. Вовсе не без оснований он для своей обдумывавшейся после войны автобиографии, в которую также должны были быть переработаны части "Истории одного немца", преимущественно рассматривал название "Моя парадоксальная жизнь".
Давид Астор был также тем, кто окончательно привёл Хаффнера в "Observer". После того, как семья издателя Астор поссорилась с многолетним главным редактором Дж. Л.Гарвином, Давид Астор столкнулся с задачей посреди войны выстроить новую редакцию для планировавшейся еженедельной газеты, что было непросто, поскольку множество хороших журналистов находились на военной службе. Новым главным редактором стал в конце концов Айвор Браун, который был в "Observer" не политическим редактором, а театральным критиком.
Таким образом возникла свобода рук. Вместе с двумя другими сотрудниками Хаффнер скоро стал определять политическую линию газеты — "враждебный иностранец", который ещё менее двух лет тому назад был интернирован. Давид Астор хотя и держал тесный контакт с редакцией, однако едва ли мог там присутствовать, поскольку он также был призван на военную службу. В такой ситуации, которую сам Хаффнер в вышеприведённом интервью описывает как "самое усердное время в моей жизни", Хаффнер работал сначала примерно пять лет. Его современники свидетельствуют, что он в это время стал интеллектуальным стержнем газеты. Когда же Давид Астор вернулся в гражданскую жизнь и приготовился к тому, чтобы стать в "Observer" "своего рода всемогущим властелином" — Хаффнер при этом играл на двойственной роли Давида Астора как владельца и главного редактора — дело дошло до первых трений между Себастьяном Хаффнером и Давидом Астором. Хаффнер привык к тому, чтобы в том, что он писал для газеты, пользоваться очень большой свободой, и не хотел больше отдавать эту свободу. К этому добавились политические разногласия. Имевшиеся вначале тончайшие трещинки спустя годы развились в разрыв между ними, что вылилось в возвращение Хаффнера в 1954 году в Германию и что вначале маскировалось под перемещение Хаффнера в Берлин в качестве корреспондента газеты. В 1961 году, за две недели до возведения стены, Хаффнер окончательно уволился из "Observer", поскольку газета, для которой он писал из Берлина, показалась ему слишком мягкой в берлинском вопросе. Длившееся почти десять лет развитие событий вплоть до окончательного разрыва с Давидом Астором было для Хаффнера прямо таки травматическим процессом, которого тем не менее нельзя было избежать, если он хотел сохранить свою независимость.
Наряду с трудностями с Давидом Астором при возвращении в Германию нечто другое играло для Хаффнера важную роль: в отличие от других успешных в Англии или в США эмигрантов Хаффнеру не удалась полная ассимиляция. Это тянуло его — с некоторой задержкой — обратно в Германию, прежде всего, после того, как отношения с Давидом Астором стали непоправимо испорчены.
После расставания с "Observer" он окончательно прибыл в Федеративную Республику Германия. Работа для "DieWelt" и "Christ und Welt" была теперь в центре его деятельности, пока он в результате скандала с "DerSpiegel" с шумом не расстался с обеими газетами и не ушёл в "Der Stern". Главные редакторы обеих газет не хотели печатать гневные комментарии Хаффнера, направленные против Штрауса, по причине чего Хаффнер — ещё раз — выбрал единственно возможное следствие. Его радикально-демократические, для тогдашнего времени часто прямо таки еретические комментарии в "Der Stern" часть республики приводили в негодование, у другой же части вызывали бурю аплодисментов. Они отличались прежде всего тем, что задевали неписанные законы и нарушали табу. Особенно в этой связи выделяется подготовка Хаффнером позднейшей восточной политики Вилли Брандта, его речи в защиту взаимопонимания с "Панковом[16]", как тогда обозначали правительство ГДР.
Дебаты по Хаффнеру
Чем это было собственно для того, кто столь рано распознал нацистов и кроме того — уже тогда — сумел своими знаниями столь чётко, да прямо таки занимательно поделиться? Как появилась эта оставшаяся неоконченной книга — "История одного немца"? И ещё: действительно ли она появилась в обозначенное издательством и потомками Хаффнера время? "Столь рано он не мог это распознать", — говорили некоторые; "всё же можно было это распознать столь рано", — думали многие другие.
Возможно, что летом 2001 года речь собственно шла именно об этом вопросе, когда по всей стране разразились типичные немецкие дебаты — короткие, бурные и без осязаемого результата — по вопросу аутентичности "Истории одного немца": многие затем задавали себе вопрос, что это собственно было. От частично весьма абсурдных упрёков в адрес Хаффнера, его детей или издательства не осталось буквально ничего, кроме корректировки сравнительно ничтожной неточности в примечании редактора к "Истории одного немца". Возможно, что тот или иной из критиков книги и усомнился в её подлинности, но всё же тема была закрыта и осталось лишь неясное впечатление того, что с книгой что-то не так. Быть может, критики рассчитывали на это воздействие — другое предположение с трудом воспринимается в свете убожества их высказываний.
Интервью, которое провела Ютта Круг с Хаффнером в 1989 году, дало защитникам Хаффнера в этих дебатах важнейшие аргументы. Все указания на момент возникновения "Истории одного немца", которые с тех пор добавились, подтверждают свидетельство Хаффнера, которое он сделал в феврале 1989 года Ютте Круг. К этому добавляются дальнейшие высказывания в 1983 году перед тогдашним редактором немецкого радио Германом Рудольфом (ныне издатель берлинского "Tagesspiegel"). Всё вместе сводится в убедительную картину, что правда возможно ещё не может казаться тому или иному скептику неуязвимой, поскольку всё это основано на высказываниях Хаффнера — то есть небеспристрастных.
Иначе однако выглядит дело, когда вникаешь в пассажи из книги английского издателя Хаффнера — Фридрика Варбурга, который в своих изданных в 1973 году воспоминаниях "All Authors are equal(Все авторы равны)" воспроизводит, как он познакомился с Хаффнером и что Хаффнер намеревался писать в 1939 году — а именно "политическую автобиографию". Хаффнер повествует далее: "Книга так и не была закончена. Когда Хаффнер закончил её наполовину, разразилась война, и он почувствовал, что ему следует писать нечто менее личное и более непосредственно политическое. Поздней осенью 1939 года он послал мне несколько глав из "A Survey of Germany". Варбург пишет далее, что он сам инициировал изменение название книги на "Germany: Jekyll and Hyde". Здесь в связи с борьбой вокруг "Истории одного немца" важно то, что осенью 1939 года Хаффнер был занят уже новым проектом книги — "Germany: Jekyll and Hyde".
Это высказывание соответствует таким образом точным описаниям, которые Хаффнер и его жена Эрика осенью и зимой 1939–1940 гг. дали в письмах бывшему мужу Эрики Гарри Шмидт-Ландри, так что рассуждая здраво, никаких сомнений более не может быть в появлении "Истории одного немца". Как говорилось в письме Эрики от 5 января 1940 года (продолженного 8 января 1940), "что Раймунд [т. е. Себастьян Хаффнер; примечание издательства] — охваченный неожиданным вдохновением — уже несколько недель как прекратил работу над своей большой книгой в пользу малой, которая называется "Германия, поперечный разрез […]." За этим следует перечисление глав, которое почти идентично таковому в книге "Германия: Джекилл и Хайд". Под словом "недель" другой рукой, которую однозначно можно идентифицировать как принадлежащую Хаффнеру, в скобках написано слово "месяцев!". Это крохотное добавление означает, что в начале января 1940 года Хаффнер высказывание о том, что он начал работу над своей малой книгой "за несколько недель до этого" посчитал настолько неточным, что он захотел исправить его — он ведь малую книгу начал "за несколько месяцев до этого". Это довольно точно указывает на дни и недели около начала войны.
В более раннем, в этот раз напечатанном на машинке письме Хаффнера Шмидту-Ландри от 20 августа 1939 года, в котором он просит также о возврате одолженных денег, чтобы "избежать долговой тюрьмы за неуплату процентов" и которое между прочим оканчивается словами "Не будет ли у нас войны дней через восемь?", Хаффнер пишет: "Я работаю, однако не слишком воодушевлённо и медленно продвигаюсь вперед. Позавчера я как раз окончил третью главу".
В том, что речь идёт о книге "История одного немца" (чьё название Хаффнер правда нигде не упоминает), не может быть более никакого сомнения. Это означало бы зайти весьма далеко, утверждая, что Хаффнер уже тридцатилетним искусственно создал легенду для своего посмертного успеха книги. И в интервью с Юттой Круг Хаффнер даёт описание своего неоконченного проекта книги от 1939 года, который точно соответствует "Истории одного немца".
Почти за двадцать лет до того Хаффнер назвал Герману Рудольфу тогдашний проект "небольшой политической биографии", в которой он описал бы, что он до того "уже столь многое пережил": "Первую мировую войну, революцию, Веймар, Гитлера, теперь Вторая мировая война и так далее — это же целая живая область тем, которые я описывал". Здесь отчетливо видно, что работу над книгой Хаффнер возможно продолжал ещё короткое время после начала войны ("теперь Вторая мировая война"), однако из другого высказывания также отчётливо видно, что довольно скоро после начала войны он прервал работу над "Историей одного немца". В какой точно день это было, никто более не может сказать, и всё же в письме Шмидту-Ландри от 6 октября 1939 года Хаффнер сообщает, что он уже "наряду со своей изначальной книгой, из которой написаны (лишь) 4 главы и 270 страниц, начал другую маленькую книгу, в которой должно быть не более 200 страниц […]". Здесь также следует перечисление глав, которые мы снова находим в книге "Германия: Джекилл и Хайд". Из этого с убедительной логикой выходит, что в промежутке времени с 20 августа до 6 октября 1939 года — однако очевидно раньше, поскольку ведь Хаффнер уже начал "маленькую книгу" — была написана четвёртая глава, которую следует считать утраченной. Все эти письма с конца лета 2001 года находятся во владении Оливера Претцеля, которые он получил из наследства Ландри. Если бы все эти детали стали известны ранее, то не была бы допущена неточность в примечании издателя к "Истории одного немца", в которой говорится, что написание "Истории одного немца" можно датировать началом 1939 года. Но всё же если и было это так сделано: борьба идет не вокруг этого примечания.
* * *
Аргументов, свидетельств и указаний на истинность "Истории одного немца" имеется в избытке. И всё же сомнения относительно момента возникновения "Истории одного немца" не рассыпались под грузом свидетельств об аутентичности воспоминаний Хаффнера, гораздо более с самого начала они пострадали от своей собственной слабости и неосновательности. Немногое, что вообще могло рассматриваться в качестве аргументов, было опровергнуто в течение нескольких дней, и в особенности дрезденский историк искусства Пауль, который много месяцев занимался печатанием своих поразительно наивных текстов, а он мог бы в течение нескольких часов при помощи нескольких словарей и телефонного аппарата проверить свои собственные утверждения и тем самым избежал бы ненужного и болезненного инцидента.
После того, как он начал наступление в газетной статье, Пауль хотел бы, чтобы он "ничего не писал". Однако почему, следовало бы спросить, он издал эту примечательную критику? Тем не менее было интервью с ним, которое 10 августа 2001 года передавалось Немецким радио Берлина, ставшее началом этих дебатов. В этом интервью, которое было проведено по инициативе Михаэля Грота, тогдашнего корреспондента радиостанции в Саксонии и знакомого Пауля, Пауль собрал свои преимущественно сомнительные замечания: невозможно, чтобы Хаффнер уже в 1939 году мог использовать слова "окончательная победа" и "виртуальный[17]", равно как и выражение "business as usual". Лингвисты и историки быстро опровергли эти и другие пункты.
Пауль в течение нескольких месяцев пытался убедить какую-либо редакцию в Германии в обоснованности своих размышлений, однако долгое время никто не хотел напечатать его критику, содержавшуюся в нескольких страницах. В августе 2001 года он в конце концов дал интервью на радио. Однако оно должно было быть транслировано лишь после опубликования его текста в берлинской "Tagesspiegel". Пауль явно полагал, что его текст появится там в конце той недели. И он отметил для "Sächsischen Zeitung", что его критика — сокращённая на несколько уже опровергнутых обвинений — будет спустя несколько дней напечатана как вклад в дебаты. Согласно Паулю, "Tagesspiegel" отказалась печатать его вклад, после того как его интервью на Немецком радио стало началом столь бурной реакции в прессе.
В посланном в несколько газет и в конце концов напечатанном лишь в "Sächsischen Zeitung" тексте Пауль заявляет про "изобилие объективных невероятностей и нелепостей, которые при последовательном чтении снова и снова ставят вопрос об истории возникновения этого текста". Постоянно встречаются такие выражения Пауля, как: "… что же ведь не соответствует", "так не могло происходить в марте 1933 года" или "так не могло быть". Эскалаторов на станциях берлинской подземки, которые упомянул Хаффнер в "Истории одного немца", тогда ещё не было. В действительности они существовали с 1 июля 1927 года, что можно узнать в берлинском музее техники. Чтобы получить эту информацию, ему потребовался бы примерно час.
Становится абсурдным, когда Пауль критикует то, что в тексте Хаффнера отсутствуют "конкретные указания на места или персоны". "Невозможно узнать, возле какой казармы СС, в которой день и ночь били в барабаны, жил его отец" (Пауль: "Тут задаёшься вопросом: разве эсэсовцы вовсе не спали по ночам?"), равно как то, что Хаффнер не делится сведениями о том, для какой газеты он писал "или кто были те "поэты внутренней духовной жизни, которых он лично знал" и которые скоро узнали, что такое для них нацистское господство. Большинство всплывающих имён это либо клички, либо они звучат скорее искусственно придуманными". Разве Паулю не ясно, что книга Хаффнера, появись она в Англии, немедленно нашла бы дорогу в центральное учреждение гестапо? Что он бы подвёл под нож друзей, семью и коллег? Быть может, Пауль никогда не задумывался о том, почему Хаффнер в Англии выбрал для себя псевдоним? "Себастьян Хаффнер", сколь бы удачно не казалось выбранным это имя, не является таким, какое обыкновенно представляют для имени человека искусства. Разве тот факт, что все имена анонимны, не говорит ещё более в пользу того, что Хаффнер в 1939 году должен был защитить своих друзей и знакомых в Германии?
Собственно говоря, эти дебаты вокруг Себастьяна Хаффнера уже закончились, прежде чем они начались по-настоящему. Уже во время Первой мировой войны Черчилль использовал формулировку "business as usual", а Людендорф — слова "окончательная победа". Как раз на эту тему вышла уже упоминавшаяся статья берлинского историка Хеннинга Кёлера в газете "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", появившаяся 16 августа 2001 года — относительно сомнений профессора Пауля. Выводы Пауля частично основывались ещё на том, что оговорки издателя относительно Хаффнера слабо аргументированы. Кёлер в своей статье отвергает отныне всяческие попытки на этот счёт.
Статья Кёлера начинается словами: "То, что ожидалось уже долгое время, теперь сбылось: сомнения в аутентичности посмертно опубликованной рукописи Хаффнера "История одного немца" были высказаны. Они многословны, но в них мало аргументации". В действительности же все утверждения Пауля, с точки зрения аргументации стоявшие на слабых ногах, были впечатляющими и изложены с избытком аргументов.
В то время, как Пауль объяснял поражённой публике, какие слова Хаффнер не мог знать в 1939 году, Кёлер поучал, какие мысли не могли бы быть в 1939 году у Хаффнера: "В 1939 году он [Себастьян Хаффнер] наверняка знал немного о политической конъюнктуре зимы 1918–1919 гг., ведь переворот [sic!] 1918 года был давно забыт, а литературы об этом практически не было. То, что он пишет здесь [в "Истории одного немца", примечание издательства] о революции, соответствует не его уровню знаний в 1939 году, а его агрессивной позиции из периода внепарламентской оппозиции, которая в 1969 году была изложена в книге "Преданная революция". Видно, что профессор Кёлер похоже весьма хорошо разбирается в истории развития мыслей Себастьяна Хаффнера.
Ещё более сомнительной и сконструированной представляется "аргументация" Кёлера в связи с высказываниями Хаффнера в "Истории одного немца" на тему пожара рейхстага. Кёлер: "Эмигрант, который спустя шесть лет пишет об этом в Лондоне, должен был быть без обиняков уверен в виновности нацистов. Хаффнер, напротив, в своём посмертно опубликованном сочинении представляет совершенно иную точку зрения и утверждает: «Самое интересное в деле о пожаре в рейхстаге возможно было то, что в вину коммунистов верили почти повсеместно. Даже сомневающиеся не находили это всё-таки совершенно невозможным»". Разве Хаффнер в этой цитате, которую здесь представляет Кёлер, хотя бы одним слогом дал понять, что он сам разделяет предположение, что коммунисты подожгли рейхстаг? Никоим образом.
Кёлер однако пишет: "Для полностью невероятного предположения, что приписывание вины коммунистам в Германии тогда было всеобще принятым, имеется объяснение: когда Хаффнер записывал этот пассаж, борьба вокруг пожара в рейхстаге уже шла, так что это было самое раннее в 1960 году. Хаффнер не считал тогда более подходящим возлагать вину за пожар на нацистов".
Всё же Хаффнер пишет в "Истории одного немца" просто обратное тому, что Кёлер по причине востребованности для своей аргументации хотел у него прочитать. Буквально Хаффнер пишет об объявлении инсценированного "бойкота евреев" 1 апреля 1933 года следующее: "Обоснование этой меры позволило оценить тот прогресс, который нацисты сделали в течение одного месяца. Легенда о планировавшемся коммунистическом путче, которую тогда рассказывали, чтобы ограничить конституционные и гражданские права, была ещё хорошо сконструированной, достоверно выдуманной историей; да, даже посчитали необходимым создание своего рода наглядного свидетельства, тем, что позволили гореть рейхстагу".
Это высказывание не может быть более однозначным. Хаффнер, как уже было изложено в другом месте, не смог придать пожару в рейхстаге новое значение, как это позже в пятидесятые годы пытался сделать Фритц Тобиас в журнале "Spiegel", тем, что он старался доказать, что Маринус Ван дер Люббе всё же поджёг рейхстаг без чьей-либо помощи. Кёлер многие годы относится к самым решительным защитникам того тезиса, что Маринус Ван дер Люббе был единственным поджигателем. Тем не менее существовал вопрос, не скрывались ли всё же возможно за поджогом нацисты. Суждение о времени возникновения "Истории одного немца" разумеется не уводит нас в сторону от этого вопроса, совершенно не говоря уже о том, что Хаффнер никогда не судил о том, что именно могло бы быть "своевременным", а что нет.
Всё это малоубедительно. "Süddeutsche Zeitung" иронизировала: "Процесс аргументации в его тексте напоминает об определении Ницше, что философы — это люди, «которые кладут под деревом камень и затем идут его искать». Кёлер не приводит обоснованного тезиса". В действительности же возникает вопрос о мотивации атаки на Хаффнера. Он прочитал книгу Хаффнера "История одного немца" и находит её "плохой, как и всё у Хаффнера" — как выразился Кёлер 23 октября 2001 года во время дискуссии на сцене в Штутгарте, однако позже исключил всё же из этого приговора "Заметки о Гитлере" и биографию Черчилля, написанную Хаффнером.
Отрицательное (выражаясь осторожно) отношение Кёлера к Хаффнеру, которому бывшие коллеги Института Фридриха Майнеке в Берлине умели петь песни, как раз ведёт его в статье в газете "Frankfurter Allgemeinen" к запутанным подтасовкам: сев однажды на этого конька, он пишет далее: "Ввиду противоречий [которые Кёлер старательно сконструировал в связи с пожаром рейхстага — примечание издательства] возникает вопрос: что это за рукопись, с которой мы собственно имеем дело? […] Хаффнер явно позже переработал текст и сделал вставки.
Вероятно, это было его желание, чтобы рукопись была найдена и опубликована лишь после его смерти. Эта находка, в лучшем случае обнаруженная в тайном ящике его письменного стола, возможно как он рассчитывал, могла лишь усилить к ней интерес и тем самым и продажи". Лишь через несколько строк далее Кёлер, до этого пользовавшийся сослагательным наклонением, наконец-таки с пылом нападает на свою жертву: "Хаффнер сознательно в последние годы своей жизни задумал эту работу как посмертное произведение, как переработку и расширение исходного текста". Тяжеловесная атака на честность Хаффнера, как говорится, также без каких-либо следов свидетельства. Поражаешься легкомысленно вброшенной подтасовке фактов, прежде всего, если знаешь, как возникла "История одного немца".
В настоящее время критики Хаффнера притихли, сражённые грузом впечатляющих свидетельств. Их можно расценивать как полностью побеждённых, как это констатировал Фолькер Ульрих в "DieZeit" от 8 ноября 2001 года, также после того, как по поручению издательства "Deutschen Verlags-Anstalt" федеральная криминальная служба установила возраст бумаги и использованную для печатной рукописи печатную машинку. Разумеется: теоретически Хаффнер мог раздобыть топку старой бумаги английского формата, и какой автор расстанется со своей любимой первой печатной машинкой? Как известно, фантазии нет границ, и всё же тот, кто пытается преднамеренно навредить Хаффнеру, должен задаться лежащими за этим мотивами. То, что услышишь, далее следует старательно подвергнуть расследованию; так что следует быть осторожным.
Бросается ведь в глаза то, что здесь была произведена критика критики, которая произошла единственно из враждебности по отношению к Хаффнеру. Или, как сформулировал сын Хаффнера Оливер Претцель в издании "Die Zeit" от 23 августа 2001 года в статье "Эта критика стремится к дискредитации": "Противники бросают упреки книге без каких-либо объективных оснований, в том, что она якобы фальшивка и напечатана задним числом. Они разбрасывают утверждения и их совершенно не заботит, если их тезисы опровергаются, ведь можно всегда найти новые". Бросается в глаза также то, что критики книги Хаффнера вызвали неприемлемый тон в Германии, например, когда Хенниг Кёлер в газете "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" сожалеет о том, что многие немцы "прямо-таки страстно желают культивировать враждебность по отношению к собственным землякам и к общей истории". Какое обращение с периодом нацизма предлагает немцам Кёлер? Сохранение традиций — достаточно скверных — как в случае бундесвера?
То, что эти нападки относятся как лично к Себастьяну Хаффнеру, так и к его произведению, не только было отчётливо заметно участникам полемики. Жизнь Хаффнера, как она прошла, была невозможна в ином варианте. Книги Хаффнера всегда были отражением его личной жизненной ситуации и его политических убеждений. Но ведь это так: то, что в этой жизни восхищает одних, раздражает других. В ней полно парадоксов: жизнь, состоявшая из обломков, в которой тем не менее можно найти много непрерывности; полная приключений жизнь изначально мало отважного человека, политическая жизнь изначально скорее аполитичной личности.
Примечания
1
Издательство Ullstein Verlag, основанное Леопольдом Ульштайн в Берлине в 1877 году. (Здесь и далее примечания переводчика).
(обратно)2
Хорст Вессель: национал-социалистический функционер, погибший в 1930 году и ставший для нацистов символической жертвой-мучеником.
(обратно)3
Secker & Warburg— британское издательство. Основано в 1936 г. Политическая направленность издательства была как антифашистской, так и антикоммунистической. Одним из известнейших авторов издательства был с 1938 г. Джордж Оруэлл.4
(обратно)4
KDF, "Kraft durch Freude" ("Сила через радость") — Национал-социалистическое объединение в нацистской Германии, занимавшееся вопросами организации досуга населения Рейха в соответствии с идеологическими установками национал-социализма.
(обратно)5
Слова из первой речи Бисмарка в качестве премьер-министра, которые служат поводом для обвинений в агрессивности т. н. "прусского милитаризма".
(обратно)6
В оригинале приведено название на английском языке: »Offensive Against Germany«
(обратно)7
Речь идет о попытке покушения на Гитлера и военного переворота 20 июля 1944 года.
(обратно)8
Здесь игра слов: фамилия персонажа Дойчер (Deutscher) означает в переводе "немец".
(обратно)9
Liberator: освободитель (англ. язык)
(обратно)10
Foreign Office — министерство иностранных дел Великобритании.
(обратно)11
"Более англичанин, чем сами англичане".
(обратно)12
"Germany: Jekyll and Hyde "
(обратно)13
Русский примерный эквивалент: "Крепок задним умом" или "Умён задним числом".
(обратно)14
Голландский город, район города Роттердам и порт на юго-западе Нидерландов, расположенный на побережье Северного моря у начала канала Ньиве-Ватервег
(обратно)15
"Еврей Зюсс" — антисемитский национал-социалистический игровой фильм Файта Харлана (1940 год)
(обратно)16
Панков (Pankow) — район Берлина.
(обратно)17
В оригинальном тексте использовано слово "virtuell", что имеет значения в переводе на русский язык: виртуальный; потенциально возможный, вероятный; предполагаемый; мнимый (например, об изображении).
(обратно)
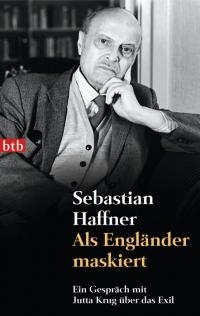


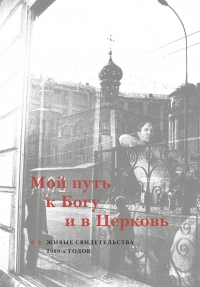

Комментарии к книге «Под маской англичанина», Себастьян Хаффнер
Всего 0 комментариев