Дэвид Боданис Самая большая ошибка Эйнштейна
Издание опубликовано по соглашению с Conville & Walsh, Ltd. и Литературным агентством «Синопсис»
Деривативное электронное издание на основе печатного аналога: Самая большая ошибка Эйнштейна / Д. Боданис; пер. с англ. А. Капанадзе. – М.: Лаборатория знаний, 2017. – 304 с.: ил. – ISBN 978-5-00101-078-4.
В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации
Copyright © David Bodanis, 2016
© Перевод на русский язык, оформление, Лаборатория знаний, 2017
* * *
Universum
О науке, ее прошлом и настоящем, о великих открытиях, борьбе идей и судьбах тех, кто посвятил свою жизнь поиску научной Истины
Моему сыну Сэму
Эйнштейн идет домой. (Принстон, 1953 г.)
Пролог
Туристы, приезжавшие в Принстон в 1953 году, обычно останавливались на тротуаре напротив обшитого вагонкой дома на Мерсер-стрит, выкрашенного в белый цвет. Улицу они, как правило, не переходили, но лишь с большим трудом сдерживали возбуждение, едва завидев старика, медленно бредущего домой из университетского кампуса. Часто на нем было длинное пальто, а если нью-джерсийский ветер оказывался особенно пронизывающим, то и темная вязаная шапочка поверх его знаменитой растрепанной шевелюры.
Самые отважные туристы иногда все-таки пересекали улицу, чтобы выразить восхищение или попросить автограф. Но большинство предпочитало держаться на почтительном расстоянии, поскольку явно чувствовало робость – или чрезмерный восторг. Ибо этот старик, идущий в каких-то метрах от них, был не кто иной, как Альберт Эйнштейн, величайший гений всех времен и народов.
Да, Эйнштейн по праву считался самым знаменитым из живших тогда ученых, однако, несмотря на свою славу, он обычно ходил один – ну, или со своим давним другом. Да, его продолжали время от времени публично чествовать, по-прежнему постоянно приглашали на торжественные обеды и даже на кинопремьеры (голливудские звезды обожали фотографироваться с ним), но действующим ученым уже много лет не было до него никакого дела. И не из-за его возраста. Великому датскому физику Нильсу Бору было в то время шестьдесят восемь (не так уж мало по сравнению с Эйнштейном, которому исполнилось семьдесят четыре), однако Бор оставался настолько открытым по отношению к новым идеям, что талантливые аспиранты буквально ломились в его блистательный копенгагенский институт, чтобы поработать под его руководством или просто пообщаться с ним. А вот Эйнштейн уже несколько десятков лет оставался изолирован от магистральных путей научных изысканий. Разумеется, во время его редких семинаров в Институте перспективных исследований всегда раздавались вежливые аплодисменты, но такими рукоплесканиями могли бы встречать седовласого ветерана, выезжающего в своем инвалидном кресле рассказать о давней войне. Идеи Эйнштейна больше не принимали всерьез даже многие из его ближайших друзей.
И он наверняка чувствовал эту изолированность, отъединен-ность, отчужденность. Бывало, в его доме толпились коллеги, заполнявшие комнаты гулом голосов, так и пышущие молодой энергией. Но сегодня все было тихо. Его вторая жена, все более дородная и все более болтливая Эльза, скончалась несколько лет назад, как и Майя, его сестра, которую он так любил.
Смерть сестры стала особенно сильным ударом для Эйнштейна. Еще в детстве, в Мюнхене 1880-х годов, они были неразлучны; часто поддразнивали друг друга и любили строить карточные домики, похожие на замки. И когда особенно затейливое сооружение рушилось от порыва ветра, Альберт тотчас же принимался возводить его снова. «Может, у меня и меньше умений, чем у других ученых, зато у меня ослиное упрямство», – любил повторять он.
Эйнштейн и в старости сохранил юношеское упорство, но его здоровье было уж не то, что в молодые годы. Комната, которую он считал главной и в которой держал свои книги и бумаги, располагалась на втором этаже, неподалеку от спальни Майи. Он карабкался вверх по лестнице не спеша, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух. Может, это и неважно, с какой скоростью двигаться. Когда он устроится в своем кабинете, ему незачем будет спешить. К его услугам будет безграничное время.
Как величайший ум XX века оказался в таком одиночестве?
* * *
Берлин, 1915 год. Идет Первая мировая война. Эйнштейн только что вывел удивительное уравнение: не свое знаменитое E = mc²(оно появилось десятилетием раньше – в 1905-м), а нечто еще более мощное – уравнение, лежащее в самой основе того, что именуется общей теорией относительности. Это – одно из самых выдающихся достижений человечества, столь же ошеломляющее, как произведения Баха или Шекспира. Эйнштейновское уравнение 1915 года опиралось лишь на два основных параметра, однако позволяло выявить невообразимые прежде свойства пространства и времени, объяснить, как зародилась Вселенная и каким образом она, скорее всего, погибнет. Эйнштейн сам был поражен. «Сбылись мои самые дерзкие мечты», – писал он в том же году своему лучшему другу.
Но в его мечтания вскоре вмешалась реальность. Уже через два года, в 1917-м, он осознал, что астрономические данные о форме Вселенной как будто противоречат его общей теории относительности. Не в силах объяснить такое расхождение, он смиренно внес поправки в свое новое уравнение, введя дополнительный параметр, лишивший это соотношение былой простоты.
Как выяснилось, компромисс сей оказался временным. По прошествии еще некоторого количества лет появились новые научные данные, подтвердившие справедливость его первоначальной идеи, гениальной и очень изящной, так что Эйнштейн вернул своему уравнению исходный вид. Эту временную модификацию он назвал «величайшей глупостью в моей жизни», поскольку она разрушила красоту уравнения, которое он вывел в 1915 году. Но главная ошибка Эйнштейна была еще впереди.
После того случая Эйнштейн решил, что зря пошел на поводу у столь зыбких экспериментальных свидетельств – ему просто следовало подождать, пока астрономы не поймут, что они сами заблуждались. Сделал он и еще один вывод: в самых важных вопросах больше не доверять экспериментальным данным. Когда в дальнейшем критики пытались представить эмпирические доказательства, противоре-чавшие его более поздним теориям, ученый игнорировал эти факты: он был уверен, что его выкладки рано или поздно снова подтвердятся.
Реакция по-человечески очень понятная. Однако она привела к катастрофическим последствиям, ибо все больше подрывала доверие ко всему, за что бы ни брался Эйнштейн, особенно в быстро развивавшейся новомодной науке о сверхмалых объектах – квантовой механике. Друзья (например, тот же Нильс Бор) пытались его вразумить. Они знали, что исключительной мощи интеллект Эйнштейна способен вновь перевернуть мир, если только великий физик смирится с новыми открытиями очередного поколения экспериментаторов – с теми из этих открытий, которые действительно вполне реальны и достоверны. Но этого Эйнштейн сделать не мог.
Порой его втайне посещали сомнения, но он безжалостно с ними расправлялся. В своей теории 1915 года он вскрыл структуру, лежащую в основе нашей Вселенной, и оказался прав, когда все остальные ошибались. И теперь он никому не позволит увлечь себя по неверному пути.
Эта убежденность отгородила его от интереснейших работ в сфере квантовой механики и разрушила его репутацию среди серьезных специалистов. Вот почему в кабинете на Мерсер-стрит он оказался столь одинок.
Как это произошло? Как гений достигает взлета и как он угасает? Как мы справляемся с неудачей и старением? Как утрачиваем привычку доверять другим и можем ли мы вернуть ее? Вот темы этой книги – наряду с идеями Эйнштейна (верными и неверными) и теми шагами, которые привели его к ним. В каком-то смысле перед вами двойная биография: история гения, не застрахованного от заблуждений, но заодно и рассказ о них – о том, как они возникли, как росли, как укоренялись в его сознании, причем столь глубоко, что даже Эйнштейн, при всей своей мудрости, уже не мог освободиться от них.
Гениальность и спесь, триумфы и неудачи зачастую неразделимы. Эйнштейновское уравнение 1915 года и та теория, основой которого оно стало, явились, быть может, главным достижением в его жизни, но при этом они посеяли семена его самого впечатляющего промаха. Чтобы понять, чего же достиг Эйнштейн в 1915 году и как рождались его заблуждения, необходимо обратиться к годам его молодости и к тем тайнам, которые уже тогда будоражили его ум.
Часть I Истоки гениальности
Эйнштейн в университете (ок. 1900 г.)
Глава 1 Викторианское детство
В 1879-м, в год рождения Эйнштейна, в европейской науке доминировали две великие идеи, и обе они сыграли немалую роль при создании величайшей из его работ, обеспечив ей должный контекст и фон. Первая идея – признание того, что силы, движущие великими промышленными цивилизациями (сжигание угля в топках громадных паровозов; взрывы пороховых зарядов в пушках боевых кораблей, удерживающих в подчинении колонизированные народы; даже слабенькие электрические импульсы в подводных кабелях, разносящих телеграфические послания по всему миру) представляют собой различные проявления фундаментальной сущности под названием Энергия. И это стало одной из основополагающих научных идей Викторианской эпохи.
Ученые конца XIX века знали, что энергия ведет себя согласно неким неизменным принципам. Шахтеры добывали уголь, вырубая его из земли. Инженеры научились под давлением закачивать газы, которые получали при спекании этого угля, в особые трубки, применяемые в уличных фонарях тогдашнего Лондона. Но при несчастном случае энергия взрыва светильного газа (энергия разлетающихся осколков стекла, плюс акустическая энергия воздушной волны, плюс энергия всех металлических кусков фонаря, залетевших на близлежащие крыши) будет в точности равняться энергии, присущей самому газу. А если потом один из этих кусков свалится вниз, на мостовую, то звук и энергия его падения плюс возникшие при этом порывы ветра будут в точности равняться энергии, которая подняла этот кусок в воздух.
Смириться с мыслью, что энергию нельзя создать или уничтожить, а можно только преобразовать, нетрудно. Но из этого постулата следуют самые неожиданные выводы. К примеру, один из выездных лакеев королевы Виктории открывает дверцу ее кареты, когда монарх прибывает в Букингемский дворец. Энергия, содержащаяся в плече слуги, начинает покидать это плечо… и при этом точно такое же количество энергии проявляется в движении изукрашенной дверцы экипажа и даже в вызванном трением (и весьма незначительном) повышении температуры петли этой дверцы. Когда же правительница сходит на землю, кинетическая энергия, которую заключало в себе августейшее тело, передается земле под ее ногами, в результате чего ее величество в конце концов встает возле кареты неподвижно, а вот наша планета успевает чуть-чуть дрогнуть на своей околосолнечной орбите.
Все виды энергии связаны между собой, и все виды энергии очень тонко сбалансированы. Сию простую истину назвали законом сохранения энергии. К середине XIX века этот закон получил весьма широкое признание. Когда Чарльз Дарвин продемонстрировал, что традиционный Бог вовсе не обязателен для создания живых видов на нашей планете, доверие к религии серьезно пошатнулось, и тогда представление о неизменности совокупной энергии стало своего рода утешительной альтернативой. Столь волшебная сбалансированность энергии казалась свидетельством того, что некая Божественная десница все же некогда коснулась нашего мира – и, более того, по-прежнему действует среди нас.
К тому времени когда сохранение энергии удалось осознать и понять, ученые Европы успели обзавестись еще одной великой идеей, доминировавшей в физике XIX века, – идеей о том, что материя тоже никогда не исчезает полностью. Например, во время Великого лондонского пожара 1666 года крупнейший в то время город Европы подвергся натиску огненной стихии: вначале вспыхнули смола и дерево в одной пекарне, затем языки пламени с ревом стали перескакивать с одной крыши на другую, выбрасывая гигантские клубы едкого дыма и обращая жилища, лавки, конторы, конюшни и даже чумных крыс в горячий пепел.
В XVII веке это воспринимали просто как всепоглощающий хаос. Но к 1800 году (за век до Эйнштейна) ученые осознали: если бы кто-нибудь сумел с абсолютной точностью взвесить все, что находилось в Лондоне до начала пожара (все деревянные половицы во всех строениях, все кирпичи, всю мебель, все пивные бочонки и даже всех шныряющих повсюду крыс), а затем, предприняв еще более невероятные усилия, определил бы массу всего дыма, пепла, золы, кирпичной крошки и т. п., порожденных пожаром, оказалось бы, что эти две массы совершенно одинаковы.
Этот принцип назвали законом сохранения вещества, и с конца XVIII столетия он становился все очевиднее. В разное время для его формулировки использовались разные термины, но суть закона от этого не менялась. Сожгите дрова в камине, и у вас получится зола и дым. Но если вы сумеете накинуть огромный непроницаемый мешок поверх каминной трубы и всех щелястых окон, а затем определить массу всего уловленного таким способом дыма и всей золы, а затем еще и учесть, сколько кислорода поглощалось из воздуха в процессе горения, – тогда вы обнаружите, что общая масса всего этого, опять-таки, в точности равна массе сгоревших дров. Материя способна менять форму, превращаясь из дерева в золу, но в нашей Вселенной она никогда не исчезает.
Эти две идеи – о сохранении вещества и о сохранении энергии – сыграют основополагающую роль и в образовании, и во впечатляющих достижениях юного Эйнштейна.
* * *
Эйнштейн появился на свет в 1879 году в немецком городе Ульм, примерно в 75 милях от Мюнхена, в семье, которую лишь несколько поколений отделяли от жизни средневекового еврейского местечка. В христианской Германии XIX века евреи воспринимались как странные чужаки, а иногда даже в некотором роде как недочеловеки. Неудивительно, что евреям, которые практически поголовно придерживались самых строгих правил иудаизма, внешний мир представлялся чем-то угрожающим и тревожным, особенно когда само христианство начало слабеть, тем самым расшатывая границы между двумя религиями и позволяя идеям, родившимся в век Просвещения (XVIII век) (о свободе предпринимательства, о настоящей науке, о том, что изучение внешнего мира может принести мудрость и ценные познания), проникать в еврейское сообщество – сначала робко, а затем со все нарастающей скоростью.
К тому времени когда выросло поколение родителей Эйнштейна, эти идеи, похоже, успели принести немецким евреям немало пользы. Отец Альберта Герман и его брат Якоб были электроинженерами-самоучками. Они занимались самыми передовыми технологиями своего времени, конструируя моторы и системы освещения. В 1880 году, когда Эйнштейн был еще младенцем, Герман с Якобом переехали в Мюнхен и открыли там фирму «Якоб Эйнштейн и компания». Они надеялись удовлетворять растущие потребности города в электротехнике. Якоб представлял более прагматичную часть тандема, Герман же был более склонен к мечтательности. С ранних лет он обожал чистую математику, но подростком вынужден был уйти из школы – нужно было работать, чтобы помогать содержать семью.
В доме Эйнштейнов было тепло и уютно, и Альберт всегда знал, что родители его очень любят и о нем заботятся. Года в четыре, когда ему разрешили гулять по мюнхенским улицам одному, кто-то из родителей (чаще это была его мать Паулина) всегда незаметно шел за ним, пристально следя за тем, как юный Альберт переходит улицы, полные конных экипажей, дабы убедиться, что он в безопасности.
* * *
Когда Альберт подрос и уже мог кое-что понимать, отец, дядюшка и гости, регулярно посещавшие их дом, постепенно объяснили ему, как работают двигатели и почему светятся электрические лампочки, и каким образом Вселенная делится на две части – Энергетическую и Массовую. Альберт жадно впитывал знания, а также проникался сознанием того, что дух иудаизма, живший в их семье, – наследие, которым следует гордиться, и этому нисколько не мешала уверенность его родителей в том, что почти весь Ветхий Завет и почти все ритуалы, отправляемые в синагоге, – в сущности, просто суеверие. Они полагали, что если оставить все это в прошлом, современный мир примет тебя как достойного гражданина.
Но вскоре Альберт понял, что, как бы ни пытались члены его семьи вписаться в мюнхенское общество, город не проявлял к ним особую гостеприимность. Еще когда мальчику было шесть лет, отцовская фирма заполучила контракт на создание первой системы электрического освещения для городского Октоберфеста. Но в последующие годы получалось так, что контракты на новые осветительные системы и генераторы уходили нееврейским фирмам, даже если их изделия оказывались хуже, чем предлагаемые братьями Эйнштейнами. Поговаривали, что электротехническим бизнесом выгоднее заниматься в процветающей Павии, городе на севере Италии, близ Милана. В 1894 году в надежде заново устроить дело туда перебрались его родители вместе с его сестрой Майей и его дядей, а пятнадцатилетний Альберт остался в Мюнхене – ему нужно было закончить школу.
Для него это было не самое счастливое время. Мягкость, к которой он привык в собственном семействе, очень контрастировала с грубыми и суровыми нравами школ, где ему пришлось учиться: «Учителя… казались мне какими-то фельдфебелями», – вспоминал он десятилетия спустя. От учеников требовалась непрестанная зубрежка, направленная на то, чтобы сделать их вечно запуганными и вечно послушными. Как известно, однажды, обращаясь к пятнадцатилетнему Эйнштейну, которому уже сильно наскучило сидеть на таких занятиях, доктор Дегенхарт, его преподаватель греческого, гневно заорал: «Эйнштейн, из тебя никогда не выйдет ничего путного!» Вечно преданная ему сестра, записавшая эту историю, позже заметила не без иронии: «И в самом деле, Альберт Эйнштейн так и не стал профессором греческой грамматики».
В шестнадцать лет Эйнштейн бросил школу, но поскольку этот поступок стал его собственным решением, он не считал его неудачей. Более того, он даже гордился им как своего рода бунтом. Он самостоятельно добрался до Италии, где воссоединился с семьей. Некоторое время он работал на фабрике, принадлежавщей отцу и дяде, и при этом уверял обеспокоенных родителей, что подыскал университет, где преподавание ведется по-немецки и где не требуется аттестат о среднем образовании, а кроме того, нет и требований к минимальному возрасту абитуриентов. Это было Высшее техническое училище (Политехникум) в Цюрихе. Он без лишних колебаний подал туда заявление. Хотя на вступительных экзаменах он получил отличные оценки по математике и физике (семейные беседы о науке и технике не прошли даром), ему все-таки следовало в свое время побольше слушать Дегенхарта: сам Эйнштейн вспоминал, что вообще совершенно не готовился к поступлению и что его подвели результаты экзаменов по французскому и химии. Итак, в швейцарский Политехникум его не приняли.
Родители не очень удивились. «Я давно привык, – писал Альберт отцу, – получать не очень хорошие отметки наряду с очень хорошими». Эйнштейн признал, что зря решился поступать в таком юном возрасте – и его «неготовность к поступлению» была порождена некоторой самонадеянностью. И тогда он нашел в долинах Северной Швейцарии, под Цюрихом, семью, где мог бы жить год, занимаясь с репетиторами, а затем снова пытаться поступить в Политехникум.
Хозяева дома, семейство Винтелеров, полагали, что Эйнштейн, конечно же, будет в часы досуга посиживать с ними за столом – во время чтения вслух или обсуждения каких-нибудь увлекательных предметов. У них устраивались совместные музыкальные вечера: Эйнштейн был талантливый скрипач, что отмечали еще школьные инспектора в Германии. Более того, у Винтелеров имелась дочь Мари лишь немногим старше Альберта. Поначалу Эйнштейн счел вполне удобным выразить свою симпатию к ней, предложив, чтобы она стирала его белье и одежду, как это всегда делала его мать. Однако вскоре он освоил более утонченные методы ухаживания. Так началось его первое романтическое увлечение. По-видимому, именно оно спровоцировало его мать на первый приступ маниакальной любознательности. Однажды, когда он приехал на каникулы домой и написал Мари Винтелер: «Моя обожаемая и любимая… ты значишь для моей души больше, чем значил для нее весь мир», фрау Паулина старательно вывела на конверте неубедительное уверение, что она, мол, не читала содержимого.
* * *
Со второй попытки Эйнштейн сумел-таки поступить в цюрихский Политехникум. Это случилось в 1896 году, и ему исполнилось к тому времени семнадцать. Его зачислили на курс, предназначенный для подготовки будущих учителей старших классов. Альберту хватало образования, чтобы понимать лекции. При этом немалый жизненный опыт, который он успел приобрести, позволял воспринимать то, что говорили его профессора, критически. Все это создавало идеальные предпосылки для выработки независимости мышления.
Хотя преподаватели цюрихского Политехникума по большей части были превосходны, некоторые из них отличались известной старомодностью воззрений, и Эйнштейн постоянно ухитрялся раздражать их. Так, профессор физики Генрих Вебер поначалу был полезен Эйнштейну, однако, как выяснилось позднее, он совершенно не интересовался современными теориями и категорически отказывался включать в свои лекции революционные труды шотландца Джеймса Клерка Максвелла, увязывавшие между собой электрическое и магнитное поле. Это очень злило Эйнштейна, который уже тогда понимал, сколь важны максвелловские изыскания. Вебер, подобно многим физикам 1890-х годов, полагал, что все фундаментальные принципы и законы природы уже открыты и задача современных ученых – лишь заполнить некоторые еще оставшиеся пробелы; следующим поколениям физиков предстоит несколько усовершенствовать свою измерительную аппаратуру, чтобы точнее описать уже известные процессы. В общем, никаких новых грандиозных открытий в будущем науке ждать не приходится.
Кроме того, Вебер отличался невероятной педантичностью. Однажды он заставил Эйнштейна целиком переписать отчет об исследовательской работе на том основании, что первый вариант был подан на листах не совсем правильного размера. Эйнштейн с издевкой именовал его «герр Вебер», а не «профессор Вебер», и на долгие годы сохранил обиду на него. Полвека спустя этот бывший студент писал о своих университетских годах: «Просто чудо, что [наши] современные методы обучения все-таки пока не до конца задушили священную любознательность обучаемых».
Поскольку ходить на лекции Вебера особого смысла не имело, Эйнштейн проводил много времени, знакомясь с кафе и пивными Цюриха, – часами потягивая кофе со льдом, покуривая трубку, читая и обмениваясь слухами. При этом он находил время самостоятельно изучать труды Гельмгольца, Больцмана и других столпов тогдашней современной физики. Но читал он бессистемно, и когда пришла пора годовых экзаменов, он понял, что кто-то должен ему помочь наверстать упущенные занятия, проводившиеся в строгом соответствии с учебным планом герра Вебера.
Эйнштейну требовалось найти какого-то собрата-студента, к которому он мог бы обратиться за помощью. Его лучшим другом был Мишель Анджело Бессо, итальянский еврей несколькими годами старше нашего героя, недавний выпускник Политехникума. Бессо был человек доброжелательный и довольно утонченный: они познакомились на музыкальном вечере, где оба играли на скрипке. Однако на занятиях Бессо любил считать ворон почти так же, как и Эйнштейн. А значит, завсегдатаю кофеен требовалось найти кого-то еще, чтобы одолжить конспекты – если, конечно, он хотел получить какой-то шанс перейти на следующий курс. Дополнительную трудность представляло то, что к его предварительным результатам было приложено зловещее «порицание декана за недостаточное прилежание во время практикума по физике».
Мишель Бессо, лучший друг Эйнштейна (1898 г.). Описывая их интеллектуальное партнерство, Бессо как-то заметил: «Орел-Эйнштейн взял воробья-Бессо под свое крыло, и воробей сумел взлететь чуточку повыше».
К счастью, еще один знакомец Эйнштейна, по имени Марсель Гроссман, оказался идеальным приятелем для всякого первокурсника, предпочитающего сидеть в кафе, а не таскаться на всякие ненужные лекции. Подобно Эйнштейну и Бессо, Гроссман был евреем, недавно прибывшим в страну. Университеты Швейцарии придерживались полуофициальной политики антисемитизма, переправляя евреев и других чужаков на «менее престижные» (как тогда считалось) факультеты – скажем, теоретической физики, а не прикладной физики или инженерии, где зарплата выпускников, как полагали, будет в конечном счете значительно выше. (Впрочем, для Эйнштейна это было не очень страшно: лишь благодаря теоретической физике он сумел как следует освоить понятия энергии и материи, давно занимавшие его.) Гроссман и Эйнштейн понимали, что к ним относятся в Политехникуме с одинаковой предвзятостью, и оттого их дружба стала еще крепче.
Когда наступила сессия, конспекты Гроссмана (где он аккуратно вычертил все необходимые графики и схемы) стали для Эйнштейна настоящим спасением («Трудно представить, как бы я обошелся без них», – напишет Эйнштейн жене Гроссмана много позже), позволив ему, в частности, сдать геометрию с почтенными 4,25 баллами из 6 возможных. Конечно, его результат не шел ни в какое сравнение с результатом Гроссмана, получившего высший балл – 6,0 (чему никто не удивился). Впрочем, никто из друзей Эйнштейна не удивился и такой разнице в их баллах: у Альберта имелись в жизни другие дела.
Речь идет об одном студенте, вернее, студентке, с которой Эйнштейн проводил время. Пожалуй, она была еще более, чем Эйнштейн и его друзья, чуждой тогдашней университетской среде Цюриха: сербка, православная христианка, единственная женщина на курсе, Милева Марич отличалась острым умом и мрачно-чувственной внешностью, так что не один цюрихский студент хотел бы завязать с ней близкое знакомство. Милева, на несколько лет старше большинства однокурсников, была одаренным музыкантом и художником, а кроме того, знала много языков и до того, как переключиться на физику, изучала медицину. Эйнштейн к тому времени давно порвал с дочерью своего бывшего квартирного хозяина, а потому был вполне готов к новым отношениям.
Гроссман и Эйнштейн через несколько лет после окончания университета (начало 1910-х гг.)
Милева Марич (конец 1890-х гг.). В 1900 году он писал ей: «Вместе мы будем самыми счастливыми людьми на земле, это уж точно».
В юности Эйнштейн был весьма привлекателен, что могло бы удивить тех, кто знал его в старости: черные кудри, уверенная улыбка, то и дело озарявшая лицо. Тесная дружба с сестрой Майей одарила его легкостью в отношениях с женщинами и помогла ему, когда он начал ухаживать за Милевой. В течение нескольких университетских лет они очень сблизились. «Без тебя, – писал он ей в 1900 году, – мне не хватает уверенности в своих силах, удовольствия от работы, удовольствия от жизни…» Зато если заживем вместе, говорил он ей, то будем «самыми счастливыми людьми на земле, это уж точно». Отбросив всякую осторожность, он даже послал ей в письме абрис своей ступни, чтобы она связала ему носки.
Некоторое время они с Милевой скрывали от остальных свой роман, но это никого не могло обмануть. В очередной раз навещая родителей в Италии, Эйнштейн писал ей: «Мишель уже заметил, что ты мне нравишься, потому что, хотя я ему почти ничего о тебе не говорил, когда я сказал, что должен снова поехать в Цюрих, он ответил: ну да, тебя туда одно тянет». И в самом деле, зачем бы ему еще туда ехать?
В годах накануне нового века есть что-то притягательное и возбуждающее. Круг Эйнштейна явно ощущал это возбуждение. Четверка друзей (Мишель Бессо, Марсель Гроссман, Альберт Эйнштейн и Милева Марич) разделяла мнение многих своих собратьев-студентов: что большинство их преподавателей – реликты другой эпохи, пережитки прошлого, к которым незачем относиться серьезно, – а вот новое, наступающее XX столетие сулит чудеса. И, разумеется, принесет эти чудеса в мир именно молодое поколение. В этом, похоже, никто из них не сомневался.
У каждого из друзей имелся свой источник уверенности. К примеру, Мишеля Бессо поджидала в Италии процветающая инженерная фирма его семейства, и он уже сейчас проводил там немало времени. При своей общительности и умении налаживать контакты он, в конце концов обосновавшись на одном месте, несомненно сумеет внести вклад в успешное развитие семейной компании. Гроссман обладал немалыми математическими талантами, которые признавали все в его колледже. Милева Марич еще в будапештской технической школе считалась блестящей ученицей; более того, она стала одной из первых женщин в Австро-Венгрии, поступивших в высшее учебное заведение, а к тому же – одной из немногих представительниц женского пола, обучавшихся в швейцарских университетах. Согласитесь, немалое достижение в стране, где до полного официального признания женского равноправия оставалось еще семь десятилетий!
Все они так и рвались совершать открытия – и Эйнштейн, вероятно, сильнее всех. Хотя университетские штудии отнимали у него много времени, его личные интеллектуальные труды набирали обороты. Часами прохлаждаясь в цюрихских кафе за чтением газет, он нередко изображал из себя лентяя и балагура, но при этом тратил столько же времени на изучение трудов величайших физиков тогдашней Европы, самостоятельно обучаясь всему, что упорно игнорировал закоснелый ретроград профессор Вебер.
Эйнштейна зачаровывали идеи Майкла Фарадея и Джеймса Клерка Максвелла о том, что пространство, возможно, пронизано невидимыми полями, где смешиваются электричество и магнетизм, и что эти поля влияют на все, находящееся в пределах их досягаемости. Его поражали и более недавние открытия: так, Джозеф Джон Томсон у себя в Кембридже измерял характеристики электрона, крошечной частицы, которая, судя по всему, существовала внутри атомов, а значит, во всяком веществе; Вильгельм Рентген открыл рентгеновские лучи, позволявшие видеть, что находится внутри живой плоти; Гульельмо Маркони посылал радиосигналы через пролив Ла-Манш. Эйнштейн задавался вопросом: как и почему происходят все эти явления? Он размышлял над ними начиная с того года, который провел вместе с семьей перед отъездом в Швейцарию, но тогда так и не смог прийти к каким-либо результатам.
Теперь же он стремился расширить не только собственные познания, но и пределы физики как таковой. Косвенной причиной этого рвения послужило желание помочь отцу, чьи новые фирмы в Павии и Милане, несмотря на то, что эти края не отличались антисемитизмом, принесли не больше успеха, чем мюнхенские. Деньги, которые посылали родители Альберту, значили для семейного бюджета очень много, и Альберт это понимал. Еще одна причина заключалась, так сказать, в духовном наследии его предков. Хотя он уже в двенадцать лет отказался соблюдать религиозные формальности, он все-таки верил, что во Вселенной таятся истины, которые словно бы ждут, чтобы их открыли, пока же человечеству удалось бросить лишь беглый взгляд и лишь на немногие из них. Это и станет его целью в жизни, поклялся он в 1897 году в письме матери и Марии Винтелер.
«Усиленная интеллектуальная работа и изучение божественной Природы, – писал он, – суть… ангелы, которые проведут меня сквозь все жизненные невзгоды… Но это путь особенный… Человек создает для себя тесный мирок, прискорбно незначительный по сравнению с постоянно меняющимися размерами сущего, но при этом можно ощущать свое величие и важность – это ли не чудо?»
Для большинства его друзей такие чувства грядущего «величия» простирались не дальше, чем их собственные довольно скромные планы. А вот Эйнштейн теперь начал подвергать сомнению ту картину мира, которой его учили. Вселенная делилась на два царства: энергии, несомой порывами ветра по хорошо знакомым ему улицам Цюриха, и материи – витрин его любимых кафе, глотков пива или мокко, которыми он наслаждался, размышляя обо всем этом. Но, думал Эйнштейн, ограничивается ли этим такое единство? Может быть, удастся пойти дальше?
Впрочем, на тогдашнем этапе своей жизни он мог лишь задаться таким вопросом. Да, он был умен, но проблемы, которые он ставил, казались неразрешимыми. Представление о Вселенной, состоящей из двух не связанных между собой частей, никуда не делось. Ну ничего. Он достаточно молод, чтобы пока просто принять это. Он уверен: позже он к этому вернется.
Глава 2 Возмужание
Друзьям по университету нравится думать, что они останутся вместе навсегда, но так бывает редко. В 1900 году подошло к концу четырехлетнее пребывание Эйнштейна, Гроссмана и Ми-левы в цюрихском Политехникуме. Бессо, который был несколькими годами старше, уже вернулся в Италию, где он планировал влиться в ряды сотрудников родительской инженерной фирмы, и хотя Эйнштейн пытался его отговорить («Какая напрасная трата его поистине выдающегося интеллекта», – писал он Милеве в том же году), он все же уважал решение Бессо, которое позволило бы ему перестать быть финансовым бременем для семьи. Между тем Гроссман собирался преподавать в старших классах, хотя и не исключал исследовательскую работу. В конце концов он избрал себе тему диплома, лежащую в области чистой математики, что озадачило куда более практичного Эйнштейна. Ну, а Милева Марич разрывалась между желанием остаться в Швейцарии, где можно было продолжать обучение (и где оставался ее любимый человек), и необходимостью вернуться к своей семье, жившей под Белградом.
Эйнштейн тоже не знал, как ему быть дальше. Ему очень хотелось стать настоящим ученым-исследователем, но за эти годы он успел так рассердить преподавателя физики (уже упоминавшегося профессора Вебера) непокорностью и прогулами, что теперь тот отказывался дать ему рекомендательные письма к другим профессорам или к директорам школ: обычно именно так выпускники получали работу. И тогда Эйнштейн, с потрясающей самонадеянностью, сам написал профессору Гурвицу, одному из своих бывших преподавателей математики. Хотя он особенно и не озаботился посещением большей части гурвицевских занятий, признавался Альберт, он все же «смиренно интересуется», нельзя ли ему устроиться ассистентом профессора. По какой-то необъяснимой причине Гурвица эта просьба не впечатлила, так что нашему герою пришлось продолжить свои эпистолярные упражнения («Скоро я осчастливлю моими предложениями всех физиков от Северного моря до южной оконечности Италии»), но в ответ он получал лишь отказы.
Ему это было особенно неприятно из-за того, что он понимал: его семье по-прежнему не хватает денег. Чуть раньше он признавался Майе: «Разумеется, больше всего меня огорчают [финансовые] неурядицы наших бедных родителей. Меня глубоко печалит, что я, взрослый мужчина, вынужден праздно болтаться, не в силах хоть чем-нибудь им помочь».
Некоторое время проработав учителем старших классов и даже побыв репетитором одного молодого англичанина, жившего в Швейцарии, Альберт в 1901 году вернулся в Италию, под родительский кров. И тогда его отец, понимая тягостное положение сына, отважился написать Вильгельму Оствальду, одному из величайших ученых тогдашней Германии. «Моему сыну Альберту 22 года, – объяснял он, – и он… чувствует себя совершенно несчастным… В нем все сильнее укореняется мысль, что он покинул накатанную дорогу, ведущую к успешной карьере, и теперь прозябает где-то на обочине бытия». Герман Эйнштейн просил профессора написать Альберту «несколько ободряющих слов, чтобы он вновь смог радоваться жизни. Если же вы сочтете возможным приискать ему место ассистента с нынешней или следующей осени, моя признательность будет поистине безграничной». Разумеется, все это должно оставаться между двумя почтенными мужами, ибо «сын ничего не знает о моем необычном поступке». Просьба, выраженная с немалым чувством, но довольно сбивчиво, оказалась столь же неэффективной, как и большинство деловых операций Эйнштейна-старшего. Оствальд так и не ответил на это послание.
Что касается отношений Альберта с возлюбленной, то дело обстояло так. Его мать не была знакома с Милевой, однако – заочно – уже возненавидела эту Марич, о которой ее мальчик столько говорит (потому что, если вдуматься, ну какое существо женского пола может быть достойно ее бесценного сыночка?). Паулина использовала неудачи Альберта в его поисках достойного заработка как еще один предлог для того, чтобы он прекратил переписываться с этой гойкой. После трех недель нравственных мучений Эйнштейн в отчаянии написал Гроссману. Он, Альберт, уже просто не в состоянии жить с родителями, может, Гроссман найдет какой-то выход? И тогда тот, подключив родственные связи, записал Эйнштейна на собеседование в Бернском патентном бюро. Альберт тут же ему ответил: «Прочитав твое послание, я очень растрогался: ты не забыл своего невезучего друга».
Собственно, Эйнштейн мечтал не совсем о такой работе, но он понимал, что служба в патентном бюро (если он ее получит) станет неплохим источником дохода и тем самым защитит отношения с Милевой от его матери. Помогло и то, что в том же 1901 году, чуть раньше, Эйнштейн получил швейцарское гражданство. После подачи заявления за ним даже какое-то время следил частный сыщик, отметивший, что герр Эйнштейн ведет размеренный образ жизни, почти не пьет и заслуживает того, чтобы его просьбу удовлетворили. И все равно эта должность казалась ему каким-то шагом назад – просто способом получать надежное жалованье, пока он будет пытаться вновь встроиться в академическую систему. Ему пришлось убедить родителей, что все отлично и эта работа не затормозит его научную карьеру.
По крайней мере, все по-прежнему шло хорошо с Милевой: он еще жил с родителями на севере Италии, а она оставалась в Швейцарии, но ведь это не так уж и далеко. Они могли переписываться, рассуждать о науке и о любви. И готовиться к встрече…
Май 1901
Куколка моя милая!.. Сегодня вечером 2 часа сидел у окна и думал о том, как сформулировать закон взаимодействия молекулярных сил. У меня есть на сей счет очень неплохая идея. Расскажу тебе о ней в воскресенье…
Ладно, все это писание – глупость. В воскресенье я наконец смогу тебя поцеловать. До нашего счастливого воссоединения!
Обнимаю, твой Альберт.P. S. Люблю!
Что ж, они действительно поцеловались, наконец-то встретившись в Швейцарских Альпах, высоко над озером Комо. В письме своей лучшей подруге Милева рассказывала о том, как ей с возлюбленным пришлось перебираться через перевал, заваленный шестью метрами снега:
Мы наняли крошечные [конные] сани, из тех, какими пользуются местные жители, и там как раз хватает места для двух влюбленных, и возница стоит на приступочке сзади… и называет тебя синьорой, – что может быть прекраснее?..
Кругом был один только снег, куда ни погляди… Под нашими пальто я крепко сжимала в объятиях моего милого…
Видимо, Эйнштейн сжимал ее не менее крепко. «Это было прекрасно, – писал он ей, – когда ты позволила мне прижать всю себя, милую крошку, самым естественным образом». В результате всех этих упражнений к концу их общих каникул, в мае 1901 года, она оказалась беременна. При нравах того времени Милеве, узнавшей о своем положении, оставался один выход: вернуться к своему семейству и оставаться там до самых родов. Девять месяцев спустя Эйнштейн напишет ей:
Берн, вторник [4 февраля 1902 года]
Все-таки оказалось, что это девочка, как ты и мечтала! Она здорова? Она кричит как полагается? Какие у нее глазки? Она голодная?
Я уже так ее люблю, а ведь я даже еще никогда ее не видел!
Сохранились лишь немногочисленные свидетельства касательно их дочери: в то время для пары их происхождения и статуса, не состоящей в браке, было почти невозможно сохранить «незаконнорожденного» ребенка при себе. Они назвали девочку Лизерл (от «Элизабет»). Косвенные данные позволяют предположить, что они отдали ее приемным родителям – вероятно, кому-то из друзей семьи Милевы, проживавших в Будапеште. Судя по всему, Эйнштейн больше никогда о ней не упоминал.
* * *
После череды собеседований Эйнштейн все-таки устроился в патентное бюро – не в последнюю очередь благодаря тому, что за него замолвил словечко отец его друга Гроссмана. Бюро располагалось в Берне: конечно, не Цюрих, но все равно место вполне приемлемое. Однако жалованье не оправдало надежд Эйнштейна. Он подавал заявление на должность технического специалиста второго класса, но суперинтендант Галлер, глава патентного бюро, разочарованный «нехваткой технических способностей» соискателя, предложил ему менее высокооплачиваемую должность технического специалиста третьего класса.
Молодой человек согласился и на такую должность, однако решил поискать дополнительный заработок. Эйнштейн унаследовал от отца известную предприимчивость и уже в 1902 году поместил в местной газете следующее объявление:
Частные уроки по МАТЕМАТИКЕ и ФИЗИКЕ
для студентов и учащихся школ дает самым тщательным образом
АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН,
обладатель диплома учителя фед. Политехникума Герехтигкайтсгассе, 32
1-й этаж
Пробные занятия бесплатно
Эйнштейн, как и его отец, обладал изрядной энергией, однако излагал деловые условия весьма туманно: он действительно заполучил нескольких учеников, но при своей жизнерадостной натуре и общительности вскоре подружился с большинством из них, после чего почувствовал, что не в состоянии взимать с них плату за уроки. Каким-то образом он все-таки ухитрился скопить кое-что, в том числе и благодаря одному студенту, с которого продолжал брать деньги. Этот студент оставил нам описание тогдашнего Эйнштейна: его учитель «был ростом 5 футов 9 дюймов [175 см], широкоплечий… с большим чувственным ртом… Голос у него… по тональности напоминал виолончель».
Эйнштейн пытался продолжать собственные исследования, но это оказалось нелегко. В патентном бюро работали по 6 дней в неделю, а единственная приличная научная библиотека в Берне была по воскресеньям закрыта. Гордость не позволяла Альберту пожаловаться кому-нибудь на тяготы жизни – и уж тем более извиниться перед профессором Вебером и попытаться смиренно вернуться к настоящей научной жизни.
Может, в профессиональном отношении Эйнштейн и страдал, зато его романтическая жизнь стала осуществлением всех его мечтаний. Семья Милевы давала ей кое-какие деньги, и влюбленные знали, что теперь могут позволить себе квартиру, где хватило бы места им обоим. Милева вернулась в Швейцарию, и в январе 1903 года они поженились в бернской ратуше. Жениху было почти 24, невесте – 28. Наверняка он надел на церемонию клетчатый костюм, который, как настаивал суперинтендант Галлер, был ему необходим для службы в патентном бюро. Конечно, они скучали по своей дочери (иначе они не были бы людьми, правда?), но Эйнштейн в полном восторге писал: «Вместе мы готовы до конца жизни оставаться вечными студентами. Наплевать на весь мир».
Мать по-прежнему на него злилась за этот выбор, норовя при каждом удобном и неудобном случае сообщить всем (особенно своему сыну), как она ненавидит эту фройляйн Марич. Его верная младшая сестра Майя неустанно пыталась воздействовать на мать, убеждая не относиться к молодой жене Эйнштейна столь предвзято. Сама же Милева была уверена: в конце концов она непременно завоюет расположение семьи мужа. Она говорила собственной подруге: нужно просто найти кого-то, кого фрау Паулина уважает, и сделаться полезной этому человеку. И тогда мать Эйнштейна непременно увидит ее благие намерения, верно?
В Берне счастливые молодожены обзавелись новыми друзьями, чему немало способствовали музыкальные таланты Альберта. Эйнштейна часто приглашали семейства, где не хватало скрипача для очередного музыкального вечера. Кроме того, они с Милевой могли теперь снова общаться с веселым, непринужденным и всегда расположенным к ним Мишелем Бессо, который вскоре вернулся в Швейцарию из Италии и тоже устроился в Бернское патентное бюро. Эйнштейн говорил ему: «Стало быть, теперь я человек женатый… [Милева] чудеснейшим образом обо всем заботится, она хорошо готовит и всегда в отличном настроении». Бессо тоже успел жениться, в чем Эйнштейн сыграл свою роль: именно он познакомил Мишеля с семейством своей бывшей подружки Мари, которое так понравилось Мишелю, что он сделал предложение Анне, старшей сестре Мари (и вскоре у Мишеля и Анны родился сын). Две пары с удовольствием проводили время вместе. «Мне он очень по душе, – писал Эйнштейн о Бессо, – потому что у него острый ум и при этом он очень простодушен. Анна мне тоже нравится. Особенно же мне нравится их ребенок». К концу 1903 года Альберт с Милевой поселились в квартирке с маленьким балкончиком, откуда открывался прекрасный вид на Альпы. Они стояли там, тесно прижавшись друг к другу, иногда вместе с друзьями, иногда одни, и были счастливы, ведь им пока так везло в жизни!
* * *
С подростковых лет Эйнштейн часто чувствовал себя одиноким. Даже теперь, в окружении тех, кого он очень любил, Альберт осознавал незримые барьеры, разделяющие людей, даже если они поддерживают тесные отношения или живут в одном доме. Он признавался Милеве, что и с собственной сестрой они «стали настолько непостижимы друг для друга, что оказались не в состоянии… чувствовать, что движет другим» – и иногда «все окружающие кажутся мне чужими, словно их отделяет от меня невидимая стена». Даже удивительно, что Милеве удавалось проникать сквозь эту преграду.
Когда в 1904 году появился на свет Ганс Альберт (их первое законное дитя), доходы у юных супругов оставались весьма невеликими. «Рассуждая об опытах с часами, расположенными в разных частях поезда, – позже вспоминал Эйнштейн о работе, к которой он вскоре приступит, – сам я имел в своей собственности лишь одни-единственные часы!» Но у молодой семьи имелось все необходимое. Эйнштейн хорошо умел работать руками и вместо того, чтобы покупать сыну дорогие игрушки, импровизировал со спичечными коробками и веревочками. Однажды он соорудил действующую модель фуникулера: его сын вспоминал об этом даже несколько десятилетий спустя.
То было счастливое время. Любовь Альберта и Милевы пережила расставание с новорожденной дочерью, профессиональные разочарования, призрак бедности. Казалось, эта любовь способна пережить что угодно.
Глава 3 Annus mirabilis[1]
Именно работая в Бернском патентном бюро, Эйнштейн сделал в 1905 году свои первые великие открытия, совершившие настоящий переворот в науке.
Во многих отношениях патентное бюро, как и опасался Эйнштейн, оказалось учреждением, где царил формализм и вечные ограничения. Оно входило в состав Федеральной гражданской службы Швейцарии, и в нем поддерживалась строгая должностная иерархия. Эйнштейн был всего лишь одним из нескольких десятков более или менее вымуштрованных сотрудников, под неустанным контролем просиживавших за почти неотличимыми высокими столами долгие дни.
Однако эта работа оказалась на удивление интересной и могла принести некоторую пользу молодому человеку, мечтавшему вернуться в академический мир. Так, Эйнштейну полагалось оценивать заявки на новые приборы, особенно в области электроинженерии, и решать, достаточно ли эти разработки оригинальны и заслуживают ли они патентования. Чем-то это походило на то, как если бы сегодня вам предоставили возможность раньше времени взглянуть на новейшие изобретения в сфере высоких технологий, придуманные в Силиконовой долине. Многие принципы, которые он сформулировал при оценке этих заявок, пригодятся ему в дальнейшем.
Еще одним преимуществом новой службы стала относительная свобода. Начальник Альберта герр Галлер отличался немалой педантичностью, однако он терпимо относился к тому, что Эйнштейн в рабочее время занимается собственными делами и пишет научные статьи. Когда Галлер проходил поблизости его стола, Эйнштейн поспешно отодвигал в сторону бумаги или запихивал их в ящик стола (который жизнерадостно окрестил своим «отделением теоретической физики»), чтобы вновь вернуться к конторским делам.
Хотя Эйнштейн знал, что только убедительные научные результаты помогут ему получить место в университете, никто не требовал от него публиковать незавершенные работы, а ведь это неизбежно пришлось бы делать, получи он должность в университете, предполагающую неустанное карабканье вверх по карьерной лестнице. («Этому искушению поверхностностью, – напишет он позже, – могут противиться лишь сильные натуры»). Если перед ним встанет настоящая большая задача, он до поры до времени никому о ней не расскажет – кроме разве что его жены. А между тем Милева очень мучилась и переживала: все ее мечты о собственных исследованиях были разбиты: ей не удалось получить место в каком-либо научном учреждении, и теперь она торчала дома с сыном. Любящие супруги вполне могли бы делиться друг с другом своими неприятностями, только вот из-за несопоставимости причин их страданий трещина в их отношениях медленно, но неуклонно расширялась.
Вечерами Эйнштейн отправлялся на долгие прогулки с Бес-со и другими спутниками, в число которых вошел его новый друг – Морис Соловин, молодой румын, когда-то пожелавший брать у Эйнштейна уроки физики (тот по-прежнему предлагал их всем желающим). (После одного-двух эйнштейновских уроков Соловин решил отказаться от физики и переключился на философию.) Иногда в этих прогулках участвовала и Милева, но чаще компания была исключительно мужской. Они заходили в сельские пивные поесть сыру, попить пива или мокко (одного из любимых напитков Эйнштейна). Они беседовали о здоровой пище, о новомодных занятиях аэробикой, которые повсюду рекламировались. И конечно, о политике, философии, о своих мечтах и планах на будущее.
Если летом эти разговоры затягивались до очень уж позднего часа, они взбирались на гору близ Берна, куда Эйнштейн иногда отправлялся и днем вместе с семьей Бессо. «Зрелище подмигивающих звезд, – писал Соловин, – производило на нас сильное впечатление». Они ждали, когда можно будет «подивиться, как солнце медленно поднимается к горизонту и наконец появляется во всем своем блеске, окутывая Альпы таинственным розовым сиянием».
В такие минуты казалось вполне естественным поговорить о физике и об основах устройства мира. Тем более что в той области, которой так интересовался Эйнштейн, со времени его выпуска из Политехникума наблюдалось неустанное движение. Маркони сумел передать радиоволны не только через Ла-Манш, но и через Атлантику. Мария Кюри в Париже открыла колоссальный и, по-видимому, неисчерпаемый источник энергии в породах, содержащих радий. Макс Планк в Германии, похоже, показал, что энергия истекает из постепенно нагреваемых объектов не плавно, а порциями: позже это явление назовут квантовыми скачками. Ученые пытались разгадать тайны термодинамики: как Вселенной удается перемещать теплоту столь точно и тонко? Да и вообще все сущее странным образом укладывается в эти два, казалось бы, идеально уравновешивающих друг друга царства – царство энергии и царство материи: ученые все чаще считали их единым царством массы. (Ученые прошлого частенько использовали термины, чьи значения несколько отличаются от нынешних. Для Лавуазье и других исследователей, живших в XVIII веке, было вполне естественно размышлять, используя понятие «материя», а сегодня мы стали бы рассуждать о тех же вопросах, учитывая количество атомов в объекте. Постепенно научный подход менялся, и к началу XX столетия ученые стали рассматривать соответствующие явления с точки зрения закона сохранения массы. В чем разница? Понятие «массы» легче всего представить себе как меру сопротивления объекта ускорению. Карандашу легко придать ускорение, а огромной горе – не очень-то, так что у горы масса больше. Штука в том, что эти два подхода тесно связаны друг с другом: горам труднее придать ускорение не в последнюю очередь именно из-за того, что в них больше атомов.) Эйнштейн, Соловин и их ближайшие друзья полагали: за всем этим должна стоять какая-то единая сущность, несколько глубинных принципов, которые объяснили бы, почему Вселенная устроена именно так и почему ее устройство позволяет всему на свете существовать и функционировать.
Но что это за единая сущность?
После долгих прогулок и горных размышлений они наскоро пили кофе в ближайшем кафе, а потом вместе возвращались в город, тоже пешком. Затем каждый начинал свой рабочий день на своем рабочем месте. «Нас так и переполняло вдохновенное настроение», – вспоминал Соловин. Им незачем было спать.
Только вот самоуверенность Эйнштейна была напускной. Он сознавал, что его собственный отец так никогда и не достиг того, на что надеялся. Новые и новые деловые предприятия не принесли желанного успеха, и родители Эйнштейна вечно зависели от милости более обеспеченной родни. К тому же он видел, как его ближайшие друзья отказываются от своих амбициозных мечтаний ради надежды на хоть какую-то стабильность. Милева перестала заниматься собственными исследованиями из-за рождения Ли-зерл (и последующего отказа от девочки). Точно так же поступил и Бессо: сначала он вернулся в семейную фирму, а затем, как мы уже знаем, поступил в патентное бюро, где трудился и Эйнштейн.
Работа в бюро оказалась интересной, но недостаточно творческой. Не о такой они когда-то мечтали. Эйнштейн знал, что в 1660-е годы сэр Исаак Ньютон, этот великий англичанин, еще совсем юным – в 22 года! – не только предложил идею дифференциального и интегрального исчисления, но и сделал первые шаги (на линкольнширской ферме матери, во время легендарного эпизода с падающим яблоком) к своей великой теории, согласно которой единый и единственный закон всемирного тяготения объем-лет все – и глубины самой Земли, и яблоневые сады на ее поверхности, и Луну в небесах, что движется по своей орбите в четверти миллиона миль от нас. Альберту исполнилось столько же. Ну и где его великое открытие?
Неужели Эйнштейну суждено стать одним из тех, кто так и промыкается всю свою жизнь где-то на задворках бытия, лишь восхищаясь чужими достижениями? Младшая сестра Майя считала его гением: по ее мнению, брат мог сделать решительно все. Но сам Эйнштейн взирал на свое будущее более мрачно, и его можно понять. В свободное от основной работы время он пытался собрать воедино свои идеи и подготовить их для публикации. Но вот ему исполнилось 24, а вот уже и 25, между тем ни одна из этих идей не оправдывала его надежд, ни одна из них не казалась достаточно глубокой. Он изучал силы, которые способствуют вспучиванию поверхности жидкости внутри соломинки, однако не пришел ни к каким особенно оригинальным выводам. И если бы он в конце концов не стал «великим Эйнштейном», эти статьи наверняка забылись бы.
А потом, ближе к 26 годам, случилось нечто необычайное. В припадке активности, продолжавшемся всю весну 1905-го, его творческий ступор прекратился, и Эйнштейн приступил к целой серии статей. Их будет пять, и вскоре они произведут настоящий переворот в физике.
* * *
В то время когда Эйнштейну исполнилось 26, его интересовали в науке самые разные вещи. Молодой человек размышлял о пространстве и времени, о свете и частицах – и начал набрасывать статьи, посвященные этим темам. При этом он обнаружил, что снова задается вопросом: нет ли во Вселенной какого-то иного, более глубинного единства, о котором ему не рассказывали преподаватели.
Воспитание Эйнштейна, может, и не дало ему предпринимательскую хватку, однако позволило подойти к этой проблеме со свежей головой. Торстейн Веблен, американский экономист норвежского происхождения, однажды описал, какие огромные преимущества дает появление на свет в семье, находящейся на грани между приверженностью традиционной религии и переходом к обучению детей чисто светским предметам. Такие дети часто вырабатывают в себе скептическое отношение ко всем «истинам в последней инстанции», будь то утверждения религиозных авторитетов, ученых или кого бы то ни было. Натуру Эйнштейна, по сути, сформировал именно такой скептицизм – как и его близких, особенно сестру Майю, чей необычный взгляд на все и вся проявлялся в подчеркнуто ироническом отношении к жизни. (Позже она вспоминала, как однажды в припадке дурного настроения Альберт кинул ей в голову тяжеленный мяч. «Из этого можно сделать вывод: сестре интеллектуала следует обзавестись прочным черепом», – замечала она.)
Скептицизм Майи выражался в остроумных подначках, а ее брата эта семейная черта побуждала усомниться во всем, что он узнавал, – будь то в мюнхенской школе, или в цюрихском Политехникуме, или в ходе самостоятельного чтения научных работ. Скептицизм очень полезен при опровержении научных основ; присущий Эйнштейну мятежный дух тоже пригодился.
По мере того как продвигалась вперед его невероятная работа 1905 года, Эйнштейн начал всерьез задумываться, не связаны ли друг с другом те два царства, которые его викторианские предшественники полагали совершенно отдельными друг от друга. В то время преобладала точка зрения, которую ему в детстве растолковывали отец, дядя и друзья семьи, а в юности вдалбливали в Цюрихе: Вселенная делится на две части. Существует область энергии, которую ученые условились обозначать буквой Е, от слова energy. И существует область материи (или, точнее, массы) – ее символизирует буква М, от слова mass, масса.
До Эйнштейна ученые полагали, что весь мир словно разделен на два громадных города, каждый из которых накрыт непроницаемым куполом. Внутри города Е обитает энергия, там мерцают языки пламени, ревут ветра и т. п. Другой накрытый куполом город расположен вдали от первого и существует отдельно от него. Это страна М, то есть царство массы. И в ней пребывают горы, локомотивы и все прочие тяжелые и весомые штуки, которые имеются в нашем мире.
В Эйнштейне крепла уверенность: есть способ объединить эти два мира. Господь (в которого он, впрочем, не очень-то верил) не имел никаких причин произвольно прекратить создание Вселенной после того, как появились эти две ее части. Если в созданном заключался хоть какой-то смысл, Он непременно пошел бы дальше, сотворив более глубокое единство, и все, что мы наблюдаем в мире, стало бы лишь различными проявлениями этого единства.
Часто говорят, что наука обедняет небеса, лишая их мистических сил и существ, давая нам мир, для объяснения которого достаточно лишь холодного рассудка. Но Эйнштейну довелось изучать историю науки, и он знал, что не одинок в своем ощущении «существования чего-то еще». Ньютон тоже намекал в своих трудах, что прозревает в открытых им законах намерения Бога.
Ньютон захватил и XVII, и XVIII век. Он не видел никаких различий между своими исследованиями в области, которую мы называем физикой, и в областях, которые нам теперь кажутся совершенно отдельными от нее, – в теологии и библеистике. Великий англичанин полагал, что в Библии скрыты истины, заповеданные Богом, и это помогало ему поверить, что и Вселенная содержит скрытые истины, заповеданные Им же.
С течением времени большинство ученых стало рассматривать религиозные гипотезы Ньютона просто как часть детства науки, как своего рода строительные леса, которые, вероятно, поначалу и были нужны, но с возмужанием науки их смело можно убрать, позволив машине научного исследования работать самостоятельно, без всяких религиозных подпорок. Постепенно возобладало представление о Вселенной как о часовом механизме, детали которого сложнейшим образом взаимосвязаны. Может быть, в самом начале этот механизм и завел Бог, но с тех пор часы эти работают совершенно самостоятельно, и всякая потребность в Божественном присутствии (или «гипотезе Бога») все больше ослабевает, уходя в прошлое. К ученым XVIII и особенно XIX столетий, чувствовавшим что-то иное, относились как к наивным мечтателям, в юности впитавшим архаические идеи. Возможно, эти специалисты и внесли немалый вклад в науку, но поскольку их верования явно не могли повлиять на их расчеты, их, эти верования, очевидно, не следовало принимать во внимание.
Эйнштейну такой подход не нравился. Как он однажды заметил, для ученых высочайшего уровня наука стоит выше религии и даже заменяет ее: «[Их] религиозное чувство принимает форму изумления перед гармонией законов природы, отражающей ум, который настолько превосходит наш, что по сравнению с ним все систематическое мышление и все действия человеческого существа – лишь жалкое подобие этого божественного разумения». Тот, кто лишен этого чувства восхищения, «все равно что мертв, и взор его замутнен». Ньютон показал: наша Вселенная организована благодаря законам таким же лаконичным, как и Божественные предписания, изложенные в Библии. Двадцатишестилетний Эйнштейн готов проделать то же, что и Ньютон: он сформулирует краткие и всеобъемлющие закономерности мироздания. Как он их понимает.
Что, если Вселенная все-таки не разделена на две независимые составляющие? Что, если (воспользуемся образом, приведенным выше) два города, под своими куполами, не пребывают в полной изоляции, на отдельных участках гигантского континента, а соединены между собой потайным ходом, через который то, что имеется в одном городе, может проходить, обретая иную форму, в другой город? Как если бы мы представили себе, что энергия – скажем, пламя, гложущее полено, – по своей природе не отличается от дерева, из которого это полено состоит, то есть от материи. И что древесина может, так сказать, взорваться, обратившись в пламя, или же, наоборот, огонь можно сжать, вновь обратив его в древесину. Иными словами, это означает, что энергия способна превратиться в массу, а масса – в энергию. То есть Е может стать M, а M может стать Е.
* * *
Идея о том, что энергия и масса – одно и то же, пока еще не была вполне ясна Эйнштейну. Но летом 1905 года, завершая другие свои работы, он пошел дальше. Представление о взаимо связи энергии и массы (о туннеле, соединяющем город Е и город М) как раз и легло в основу последней статьи той эйнштейновской серии 1905 года. Но перед обнародованием столь радикальной теории следовало ответить на вопрос: как этот туннель между М и Е действует в нашем реальном мире? Может, он непосредственно передает всякие штуки взад-вперед? Или каким-то образом увеличивает их, когда они движутся в одном направлении, и сжимает, когда они движутся в обратную сторону? Первый случай вызывает в воображении мир, где есть лишь два города (скажем, Мюнхен и Эдинбург), между которыми проложен тайный ход, и по нему люди снуют туда-сюда, не меняясь в размерах: они прибывают в пункт назначения, таинственным образом обретя способность говорить на местном языке. Во втором же случае обитатели каждого города меняются в размерах, прибывая в другой: чем-то это напоминает Алису в Стране Чудес. Но жители какого города будут уменьшаться в ходе путешествия, а какого – расти?
Эйнштейн выяснил это в конце лета 1905 года. Как он показал, Вселенная устроена так, чтобы нам казалось, будто объекты в Городе массы расширяются при трансформации в энергию. В нашем примере с Мюнхеном и Эдинбургом рыхлые бюргеры города М будут попадать в трансформационный туннель, обладая обычными размерами тучных пассажиров, но затем, окончив свое удивительное путешествие в Эдинбурге, они выйдут из туннеля как невероятно огромные «энергетические существа» ростом в сотни футов, эдакие ходячие небоскребы, способные одним махом перешагнуть полгорода. А если эдинбуржцы летят по туннелю в Мюнхен, они сжимаются, так что когда эти изумленные съежившиеся пассажиры вынырнут в Мюнхене, они будут меньше, чем мельчайшие фрагменты свиных сарделек высокой плотности, которыми искушают прохожих уличные торговцы.
Насколько сильно меняются жители каждого города при таком преображении? Решая эту задачу, Эйнштейн применил совершенно невиданный подход, который пришел ему в голову в тот же удивительный год: идея столь же неожиданная, как, например, гениальный шахматный ход. Мы привыкли думать, что если мы сидим в припаркованном автомобиле и включаем передние фары, их лучи будут двигаться с определенной скоростью, и если мы затем начнем движение и достигнем, к примеру, 90 километров в час, лучи света будут двигаться быстрее на те же 90 километров в час.
Однако, исходя из некоторых глубинных принципов, Эйнштейн пришел к выводу, что это не так. Путем еще кое-каких изобретательных выкладок он сумел показать, что энергия и масса превращаются друг в друга и что это, в сущности, просто два обозначения одной и той же штуки.
К тому времени ученые уже давно выяснили, что скорость света очень велика. Она составляет примерно 670 миллионов миль в час [около 300 тысяч километров в секунду]: этого вполне достаточно, чтобы сигнал, посланный с Земли, достиг Луны менее чем за 2 секунды, а всю Солнечную систему пересек за какие-то часы. Эту величину (670 миллионов миль в час, или 300 тысяч километров в секунду) обозначили буквой c, от латинского слова celeritas («быстрота»).
Если массу, путешествующую по туннелю, просто умножить на эту большую величину, такая масса даст колоссальное количество энергии. Но расчеты Эйнштейна показали, что даже этого недостаточно. Возведите с в квадрат, и вы получите (если исходили из скорости, выраженной в милях в час) примерно 449 000 000 000 000 000 000. Вот во сколько раз любой клочок массы будет увеличиваться, превращаясь в энергию. Итак, масса способна становиться энергией, порождая при этом невероятно огромные количества этой самой энергии. Огромное число c² точно показывает, каково это изменение. Короче говоря, Е = mc².
Почти все время энергия, присущая массе, остается скрытой, поскольку почти все вещества на Земле весьма малоподвижны. Энергия, которая таится внутри обычного камня или металла, подобна (Эйнштейн часто обращался к этому сравнению) огромной груде монет, которые хранит у себя богач-скряга: они способны оказать очень большое воздействие, если пустить их в дело, но деньги эти держат в запертом подвале, и окружающему миру они не видны. Впрочем, уже в 1905 году некоторые специалисты нащупывали пути к тому, чтобы выпустить кое-что наружу.
В Париже Мария и Пьер Кюри прославились благодаря своим опытам, в ходе которых они обнаружили радиоактивность: из крупиц радиевой породы неустанно сочится тепло – час за часом, день за днем, год за годом. При этом сама радиевая руда с виду совершенно не менялась, хотя теперь-то мы понимаем, что вся эта энергия излучалась благодаря трансформации весьма небольшого количества атомов: при умножении на величину c² (449 и пятнадцать нулей, если выражать скорость света в милях в час, или 9 с десятью нулями, если выражать скорость света в километрах в секунду) возникает заметное тепловое излучение. Эйнштейн, конечно, слышал о работах супругов Кюри. В конце своей финальной статьи 1905 года (будучи еще достаточно скромным, дабы понимать, что всякая великая идея нуждается в каких-никаких доказательствах) он предположил: «Не исключено, что окажется возможным проверить эту теорию на материалах, чье энергетическое содержание колеблется в широких пределах: например, на солях радия».
Лето перешло в осень, и Эйнштейн, внеся последние исправления в свою пятую и последнюю статью в этом цикле, отослал ее в немецкий журнал Annalen der Physik. Он понятия не имел, что ждет человечество впереди. Всего 40 лет спустя ученые одной великой страны придумают, как сделать так, чтобы целые унции очищенного урана претерпевали трансформацию согласно его уравнению: каждый грамм массы «усиливался» благодаря огромному множителю с², «исчезая» как материя и тут же являя себя в виде чистой энергии. В результате энергия, взметнувшаяся над Хиросимой, разрушила весь город, породив пожары, ураганы и вспышку света столь интенсивную, что она достигла даже Луны, после чего, отразившись от нее, снова дошла до Земли. Когда эмигрировавший в США Эйнштейн услышал в 1945 году эту новость по радио, ученый печально сказал своей верной секретарше: если бы он знал, что такое случится, он и пальцем бы не пошевелил, чтобы этому поспособствовать.
Но все это лишь далеко в будущем, а пока молодой физик доволен своей работой. В предпоследней статье, отосланной в Annalen der Physik, он показал основополагающую роль, которую скорость света играет в самых разных идеях и понятиях. Статья вышла в сентябре 1905-го, и изложенные в ней взгляды позже стали называть специальной теорией относительности. Через день после выхода журнала редакция получила его последнюю в этой серии статью – демонстрирующую впечатляющий вывод, основанный на предыдущей статье: масса и энергия могут превращаться друг в друга. Это следствие специальной теории относительности опубликовали 21 ноября 1905 года, и оно стало завершением его annus mirabilis – самого необычайного года и для Эйнштейна, и для всей мировой науки.
За какие-то месяцы 1905 года никому не ведомый 26-летний Эйнштейн опубликовал статьи, которые можно смело отнести к числу наиболее выдающихся во всей истории науки. Он увидел, как четко организован внутренний механизм Вселенной, разглядев невообразимый прежде туннель между массой и энергией, который столь точно описывается уравнением E = mc². Эти и другие идеи его статей 1905 года постепенно приведут к полному пересмотру царивших тогда представлений обо всем – от действия света до природы пространства и времени. Постепенно осознавая всю значимость этой работы, физики дадут ее автору почувствовать вкус уважения коллег, которого он так жаждал. Но когда осенью 1905-го вышла последняя статья цикла, Эйнштейн мог лишь гадать, что ждет его впереди – и какой большой путь ему еще предстоит пройти.
Да, его уверенность в себе росла, но высокомерия и самодовольства в нем отнюдь не замечалось. Когда ему впервые пришла в голову идея последней статьи (о связи Е и М), он написал одному из друзей: «Идея забавная и очень заманчивая. Впрочем, не знаю, потешается надо мной Господь или же ведет меня по тайной тропе в райский сад».
И еще он безмерно устал: сказывались долгие месяцы изнурительных трудов. Всего перечисленного он добился, по-прежнему работая в своем бюро по 6 дней в неделю, по 8 часов в день. Когда он наконец закончил свой труд, они с Милевой отправились выпить, что случалось у них чрезвычайно редко: Эйнштейн нечасто позволял себе больше одной кружки пива, и обычно они оба просто пили за столом чай или кофе. Их недостаточный опыт в этой сфере демонстрирует сохранившаяся открытка, подписанная ими обоими и несущая в себе следующее откровение: «Увы, мы оба, вдрызг пьяные, валялись под столом».
Глава 4 Это лишь начало
Летом 1907 года Макс фон Лауэ, личный ассистент великого физика Макса Планка, работавшего в Берлине, был откомандирован в швейцарский Берн. Ему поручили встретиться с человеком, который в 1905 году опубликовал в почтенном журнале Annalen der Physik весьма необычайные статьи.
Прибыв на место и проведя необходимые разыскания, фон Лауэ обнаружил, что этот ученый, которого, как он предполагал, именуют как-нибудь вроде «герр доктор профессор Эйнштейн», вовсе не работает в Бернском университете, а обитает, судя по всему, в здании местного почтамта, где заодно располагается и Бернское патентное бюро. Фон Лауэ пришел туда пешком и попросил позвать герра профессора. Несколько минут спустя в приемную вошел вежливый молодой человек. Фон Лауэ не обратил на него никакого внимания, ведь он ожидал профессора. Юноша казался смущенным: почему его позвали, когда никто здесь с ним даже не здоровается? Затем он вернулся на третий этаж, за свой рабочий стол.
Посетитель снова обратился с просьбой о встрече: ведь профессору явно не требуется так много времени, чтобы спуститься вниз? Гость подождал еще некоторое время, и вскоре Эйнштейн снова вошел в приемную. Тогда-то ассистент Планка и осознал, что это, должно быть, и есть тот великий мыслитель – не профессор и даже не доктор, а просто мелкий служащий, который работает в здании почтамта.
Майя вспоминала об этом периоде: брат полагал, что на его публикацию в «Анналах» тут же обратят внимание, и явно испытал разочарование, когда ее совершенно проигнорировали: в следующих номерах о его работах не говорилось ни единого слова. Отчасти это объяснялось тем, что он не дал себе труда облечь результаты в общепринятую научную форму, со множеством ссылок на предыдущие работы всяких прославленных профессоров. В его основной статье имелось лишь несколько сносок, зато в последнем абзаце он тепло благодарил своего друга Мишеля Бессо, который так помог ему с этими глубокомысленными дискуссиями о физике во время их долгих прогулок под Берном. Отчасти же такое молчание объяснялось тем, что открытия Эйнштейна как следует осознать было совсем нелегко.
Эйнштейн разработал свои теории, используя весьма общие принципы. У себя в патентном бюро он как раз и научился применять принципы более высокого уровня, чтобы определить, будет ли работать то или иное изобретение. К примеру, если изобретатель заявлял, что устройство, схему которого он присылает, действует по принципу вечного двигателя, Эйнштейн понимал, что может сразу же отклонить такую заявку. Вечный двигатель невозможен – во всяком случае, в нашем бренном мире, где есть трение и энтропия. Так что всякий прибор, якобы демонстрирующий противоположное, никогда не будет работать. Но когда этот простой, но довольно абстрактный подход Эйнштейн применял в более амбициозных целях, это часто приводило к тому, что его теории оказывались трудными для восприятия современниками-учеными – не говоря уж о том, чтобы серьезно рассуждать об этих теориях.
В своих трудах 1905 года Эйнштейн задействовал широкий спектр подобных принципов высшего порядка, дабы в итоге выдвинуть идеи, поражавшие всех странностью и необычностью. Среди них оказалось уравнение E = mc² из его ноябрьской статьи, упорно настаивавшее (и в общем-то справедливо), что энергия – лишь весьма рассеянная форма массы, тогда как масса – лишь чрезвычайно уплотненная энергия. Всякому эйнштейновскому современнику, натасканному в традиционной викторианской науке, уже одно это утверждение могло показаться шокирующим. Но это уравнение явилось только частью целой теории: оно стало лишь одним из следствий специальной теории относительности Эйнштейна, основы которой излагались в его более ранней, сентябрьской статье. Эта теория коренным образом пересматривала представления о том, как наблюдать объекты во времени и пространстве.
Из специальной теории относительности вытекало множество других выводов, не менее причудливых и неожиданных, чем те, к которым позволяло прийти уравнение E = mc². В своей сентябрьской статье Эйнштейн показал: наши представления о пространстве, по существу, ошибочны. Если наблюдать за поездом, движущимся достаточно быстро, то мы увидим, что он будет укорачиваться в направлении движения, и при достаточно большой скорости самые внушительные локомотивы окажутся не толще почтовой марки. Но и наши представления о времени тоже не соответствуют действительности. Мы привыкли думать, что время всегда «течет» для всех с одинаковой скоростью. Однако наблюдатель, достаточно быстро удаляющийся от Земли, увидит, как человечество скользит сквозь века в течение периода, который кажется этому наблюдателю минутами, тогда как мы на Земле, обладай мы возможностью следить за жизнью космических путешественников, увидели бы, как их жизнь все больше замедля-я-я-яется – почти замирает. Каждая группа наблюдателей ощущала бы собственную жизнь нормальной, полагая, что жизнь другой группы переменилась.
Может ли что-то настолько странное происходить на самом деле? Поначалу многие физики (по крайней мере, из тех, кто вообще дал себе труд ознакомиться с теорией Эйнштейна) воспротивились положительному ответу на такой вопрос. Теоретическая физика являлась тогда весьма узкой областью науки, и один из немногих специалистов в ней, почтенный мюнхенский профессор Арнольд Зоммерфельд, в конфиденциальном письме другу отмечал: «Мне кажется, этот необъяснимый и недоступный для визуализации догматизм содержит в себе нечто почти нездоровое. Англичанин едва ли создал бы такую теорию. Возможно, она отражает… свойства семитской натуры, склонной к абстрактным умопостроениям».
Но даже Зоммерфельд, разобравшись в рассуждениях Эйнштейна, увидел их неопровержимость. Мы не замечаем этих явлений (этих странных следствий из специальной теории относительности), поскольку они, как правило, различимы лишь при высоких скоростях или же в тех редких случаях, когда сами атомы столь хрупко сконструированы, что могут с легкостью разлететься (как и получилось с атомами радия в образцах, так озадачивших Марию Кюри). Но если все-таки проникнуть в миры высоких скоростей и энергий, мы увидим, что все описанные Эйнштейном причудливые явления происходят в действительности.
По-видимому, физики начали постепенно разбираться в эйнштейновских рассуждениях к середине 1907-го, примерно спустя полтора года после выхода последней статьи его annus mirabilis. Фон Лауэ стал первым крупным ученым, который его посетил. Эйнштейн с готовностью ухватился за выпавшую ему возможность не только бегло соприкоснуться с научной элитой, но и выяснить при этом, сумеет ли он как-то выбраться из своего патентного бюро и занять какую-нибудь научную должность из тех, что так долго ускользали от него.
Эйнштейн получил от начальства разрешение устроить перерыв, и эти двое, Альберт и фон Лауэ, отправились на прогулку по улицам Берна, обсуждая новейшие открытия, сделанные в Берлине, Гейдельберге и других серьезных научных центрах того времени. Эйнштейн, как всегда, попыхивал своими дешевенькими сигарками и даже настолько расщедрился, что предложил одну фон Лауэ. Тот привык к более качественному табаку и ловко «уронил» ее с удачно подвернувшегося моста. Но несмотря на все намеки Эйнштейна и последовавший обмен вежливыми письмами, никаких предложений о более подходящей работе Альберт так и не получил.
Так что создатель специальной теории относительности остался в своем патентном бюро, за своим письменным столом, продолжив трудиться на суперинтенданта Галлера. Уже пять лет он тут проработал. И теперь, расстроенный и разочарованный, он молил давнего друга своих первых бернских дней вернуться и присоединиться к нему. «Возможно, удастся пристроить тебя среди других патентных рабов, – с энтузиазмом писал ему Эйнштейн. – … Имей в виду, что каждый день кроме восьми часов работы содержит в себе еще и восемь часов дуракаваляния… Я был бы очень рад, окажись ты здесь, рядом». Но друг не внял предложению.
Достижения 1905 года казались Эйнштейну все более далекими, а работа в патентном бюро по-прежнему требовала присутствия на службе 6 дней в неделю, и единственная приличная научная библиотека в Берне по-прежнему была закрыта по воскресеньям. Эйнштейн вновь стал чувствовать, что постепенно удаляется от мира настоящей науки. И ведь не то чтобы он не старался найти себе более подходящую должность. Он знал, что преподавание в старших классах даст ему больше свободного времени. Агонизируя у себя в патентном бюро, он бомбардировал своего друга Марселя Гроссмана вопросами о том, как заполучить постоянное место в какой-нибудь швейцарской школе. Существенно ли, что он говорит на обычном немецком, а не на швейцарском диалекте? Следует ли ему упомянуть о своих научных публикациях? Нужно ли явиться к руководству школы лично – или же ему помешает ярко выраженная еврейская внешность? Советы Гроссмана (если таковые были) мало ему помогли. Когда он подал заявление в одну из школ, расположенных поблизости, в Цюрихе, с ним соперничали еще 20 соискателей. Трех отобрали для дальнейших собеседований. Патентного клерка Эйнштейна среди них не оказалось.
Эйнштейн пытался устроиться преподавать и в Бернский университет. При первой такой попытке, в июне 1907 года, ему сообщили, что прежде он должен закончить диссертацию. Поскольку диссертации у него вообще никакой не было, он выслал копии своих статей 1905 года. Заметим, что по меньшей мере три были достойны Нобелевской премии. Среди них – конечно же, та сентябрьская статья, где излагалась специальная теория относительности, как и та ноябрьская, где из этой теории выводилось уравнение E = mc². Упомянем и работу, где он показал необычайное понимание фотонов. Вероятно, четвертая статья того же года, доказывавшая существование атомов на основании простых микроскопических наблюдений, также заслуживала нобелевки. Но университетская администрация написала ему ответ, где очень четко разъясняла: возможно, герр Эйнштейн не вполне понимает ситуацию. Речь идет о Швейцарии. Речь идет о формальных требованиях. Он обязан послать копию своей диссертационной работы, а не какой-то пестрый ворох статеек. Его заявление отклонено.
* * *
Застряв в своем патентном бюро, с редкими визитерами вроде фон Лауэ, Эйнштейн все-таки не отчаивался. Он знал, что его влекут проблемы, лежащие на самом краю познанного. Он знал, что даже великие умы допускают ошибки. Но он знал и то, что в 1905 году он уже разрешил одну из величайших проблем науки – разобравшись в вопросе, делится ли Вселенная на обособленные «части». Он дал замечательный ответ: нет, это не так. Масса и энергия находятся в столь глубокой взаимосвязи, что одну можно рассматривать как аспект другой – и наоборот. Он даже открыл, каким именно образом Вселенная устроила переходы массы и энергии друг в друга. Все это объясняла формула E = mc².
Обнаружив, что эти, казалось бы, не связанные друг с другом сущности на самом деле взаимозависимы, Эйнштейн тем самым невольно подготовил себя к новым свершениям, которые вывели его на еще более впечатляющие научные высоты. Если вся масса и энергия во Вселенной связаны друг с другом (выразимся так: «Все Вещи взаимосвязаны»), почему же в ней остается, казалось бы, отдельная область – Пустое Пространство? Эта вторая область, существующая наряду с такими вещами, как масса и энергия (со всеми локомотивами, планетами, огнями и звездами Вселенной), как-то портила картину всеобщего объединения. Должна ли наука с неприятным скрежетом тормозить, отказываясь дать объединенную теорию всего Пространства и всех «Вещей» в нем?
Он начал задумываться о более широком ландшафте, где копошилась бы вся энергия и вся масса – все «Вещи» во Вселенной. Что-то должно направлять их, служить им проводником. Правда, в окружающем нас пустом, скучном, неискривленном пространстве это кажется невозможным. А что, если все-таки существует какое-то объяснение того, почему и каким образом масса и энергия перемещаются в пространстве, которое кажется нам пустым? Может быть, пространство на самом деле вовсе не такое пустое и неискривленное?
Для благоразумных мыслителей задача казалась невыполнимой. Мы знаем, что кривизна океанской волны может наклонить корабль. Но это имеет понятный смысл: волна – поверхность более крупного, трехмерного, водяного объекта, который ее и искривляет (то есть вокруг которого она искривляется). Если предположения Эйнштейна верны и пустое пространство действительно искривлено, возникает вопрос: вокруг чего оно может искривляться?
Чтобы понять решение, предложенное Эйнштейном, и ту уверенность, которую оно в него вселило, а также те ошибки, к которым оно его привело, не помешает обратиться к одному тихому викторианскому директору школы по имени Эдвин Эбботт. Именно он обнаружил: хотя мы не в состоянии представить себе измерения выше тех трех, в которых мы обитаем, нетрудно уловить, каким образом мы можем, не ведая того, существовать в рамках вселенной более высокого порядка (то есть такой, где имеется большее количество измерений).
Часть II «Самая счастливая мысль в моей жизни»
Эйнштейн и Милева со своим первым сыном Гансом Альбертом (Берн, ок. 1904 г.)
Интерлюдия 1 Многомерная история
В 1884 году Эдвин Эбботт, в ту пору – директор Школы Лондонского Сити, проделал нечто такое, что в викторианском обществе считалось для почтенного руководителя учебного заведения даже скандальнее, чем выйти на улицу без шляпы. Он опубликовал роман, герой которого имеет в длину лишь 11 дюймов и всю свою жизнь проводит на огромном листе бумаги, «где Прямые Линии, Треугольники, Квадраты… Шестиугольники и другие фигуры свободно перемещаются на поверхности или внутри нее, не имея возможности ни подняться над нею, ни нырнуть под нее». Этот мир был назван Флатландией (Плоским миром). На обложке книги лондонцы прочли псевдоним автора – А. Square («А. Квадрат»). Эбботт стал создателем этого необычного мира, повествование же ведется от лица А. Квадрата – одного из его обитателей. Книга несла в себе заряд социальной сатиры и предлагала оригинальный способ представить физический мир, который мы не способны увидеть.
Самые презренные из обитателей Флатландии – прямые линии, чьих острых концов следует всеми силами избегать. На следующей ступеньке социальной иерархии – рабочие, представляющие собой вытянутые треугольники с длинной стороной в 11 дюймов. У них скверное образование, и они становятся довольно опасными, если их спровоцировать. Впрочем, обычно они ведут себя достаточно мирно, без пререканий выполняя то, что им прикажут вышестоящие. Над рабочими – специалисты из среднего класса, врачи, учителя и другие респектабельные граждане. Они имеют форму квадратов, и скромный повествователь принадлежит к их числу. Уровнем выше – элита, имеющая еще больше сторон: пятиугольники, шестиугольники и т. п. На верхушке социума – жрецы-круги, скользящие по поверхности куда им заблагорассудится; низшие классы вроде прямых и треугольников научились держаться от них подальше.
В начале истории мистер А. Квадрат вполне доволен своим плоским миром, только вот его все тревожит сон, который ему однажды приснился: о каком-то странном другом мире, где все существа обитают на одной и той же одномерной линии, подобно крошечным поездам, вечно ограниченным одной железной дорогой. Бедняги могут понять идею движения вперед и назад, однако, в отличие от мистера Квадрата, не в состоянии представить себе существование дополнительного, «второго» измерения, которое позволяет двигаться слева направо. Когда он пересекает их линию, они видят лишь его фрагменты – там, где его двухмерное тело входит в их одномерный мир и затем покидает его.
Сон мистера Квадрата ясно дает понять, что такая особенность предоставляет визитерам из более «высоких» измерений немалую власть. Если существо наподобие А. Квадрата доберется до линии, где они живут, и выхватит какого-то из его обитателей, оставшиеся жители «Лайнландии» не поймут, куда подевался их собрат. Если же затем А. Квадрат милостиво вернет лайнландца на родину, поместив его в иное место, собратья невольного путешественника не сумеют понять, как он оказался в этом новом месте, не пройдя через промежуточные области доступным им методом[2].
Мистер Квадрат просыпается и с удовольствием обнаруживает себя дома, в родной Флатландии. Он человек достаточно благополучный, у него собственный двухмерный дом, довольно внушительный. В доме имеется вход для него и для сыновей, а также (поскольку речь идет о сексистском обществе, где женщины считаются существами низшего порядка) дополнительная, куда более узкая дверь, через которую полагается проскальзывать его жене и всем прочим женщинам[3].
Дом мистера А. Квадрата
Жизнь могла и дальше идти самым замечательным образом. Но, как позже вспомнит мистер Квадрат в тюрьме:
Это был последний день 1999 года нашей эры. Стук дождя [барабанящего только в стены флатландских домов, поскольку в этом мире нет понятия крыши] давно возвестил приход ночи. Я сидел в обществе жены, размышляя о былом и о том, каким… будет наступающее столетие…
А потом в доме раздается странный звук, и вдруг… «к нашему неописуемому ужасу… мы увидели перед собой некую Фигуру!». Она не проскользнула в какую-то из двух дверей, ведущих в дом. Она просто возникла в их комнате, и ни Квадрат, ни его жена не могли понять, каким образом это произошло. Загадочный посетитель быстро начал преображаться, превращаясь из очень маленького кружка в большой. Жена Квадрата приходит в ужас, заявляет, что ей пора спать, и быстренько выскальзывает из комнаты. Мистер Квадрат остается с незнакомцем наедине. С должной любезностью он осведомляется, откуда изволил прибыть достойнейший посетитель. Тот отвечает, что явился из Третьего Измерения: «Оно наверху, а также внизу».
Наш Квадрат смущен. Вероятно, говорит он своему гостю, тот имел в виду, что пришел с севера или с юга, а может быть, слева или справа. Но гость непреклонен: «Я ничего такого не имел в виду. Я имею в виду направление, в котором вы не можете посмотреть».
Бедный мистер Квадрат думает, что гость пытается таким образом пошутить, но тот непреклонен: «Послушайте, сэр. Вы живете на Плоскости. То, что вы именуете Флатландией, являет собой огромную ровную поверхность… на которой суетитесь вы и ваши соотечественники, не поднимаясь вверх и не падая вниз».
Чтобы доказать это, посетитель заявляет, что намерен сейчас же пройти сквозь Флатландию, поднимаясь вверх, и затем воспарить над нею. Квадрат с изумлением наблюдает, как гость, которого он видит как круг, стремительно уменьшается в размерах, и наконец остается лишь крошечная точка:
Отбытие и прибытие Шара
Затем процесс идет вспять. Мы-то понимаем, что гость – сфера, которая прошла сквозь поверхность Флатландии снизу вверх и затем обратно. Но мистер Квадрат сумел увидеть лишь череду сечений. Он озадачен. Его не удивило, когда жители одномерной Лайнландии поразились внезапному появлению среди них нежданной линии. Ведь они не знают, что на самом деле существуют в более обширном мире – в двумерной Флатландии. Но мистер А. Квадрат убежден, что двумя измерениями все и ограничивается, и даже не представляет, что и сам существует в пространстве более обширном – трехмерном.
Гость понимает, что должен продемонстрировать что-то еще. Мистер Квадрат держит свои бухгалтерские книги у себя в кабинете (см. схему). Странный посетитель просит хозяина запереть дверь в эту комнату. Затем он сообщает, что поднимается вверх, в третье измерение, которое существует «над» Флатландией невидимо для ее обитателей. Оттуда он спустится в запертое помещение (которое, разумеется, не имеет крыши, поскольку в двухмерном мире такой штуки вообще не существует) и возьмет оттуда эти книги с финансовыми выкладками.
Мистер Квадрат ему не верит. Да, в своем собственном сне о Лайнландии он сумел брать там предметы, которые из-за этого казались презренным лайнландцам внезапно и необъяснимо исчезающими. Но это благодаря тому, что он свободно двигался вокруг них в замечательной двухмерной Флатландии, а они зажаты в ограниченном одномерном пространстве. Здесь же, уверен он, ничего такого случиться не может, ибо за пределами Флатландии ничего нет! Гость уменьшается в размерах, а затем вовсе исчезает. Мистер Квадрат принимается действовать:
Я кинулся к кабинету и отодвинул дверцу. Одна из бухгалтерских табличек исчезла. С издевательским смехом Незнакомец возник в другом углу комнаты, и одновременно на полу появилась моя табличка. Я подобрал ее. Никаких сомнений – это была та моя исчезнувшая табличка. Я в ужасе застонал. Быть может, я лишился рассудка?
В этот момент Квадрат наконец готов осознать истину. Странный посетитель объясняет:
– То, что вы зовете Пространством, на самом деле всего лишь огромная Плоскость. Это я нахожусь в [истинном] Пространстве, взирая сверху вниз на внутренние части предметов, у которых вы видите лишь внешние части. Вы сами можете покинуть Плоскость. Легкое движение вверх или вниз позволит вам увидеть все то, что вижу я.
И незнакомец тотчас же поднимает его «вверх».
«Невыразимый ужас охватил меня, – вспоминает мистер Квадрат. – Наступила тьма. Потом у меня возникло головокружительное, тошнотворное ощущение».
Шар велит ему открыть глаза и попытаться смотреть не отрываясь. А когда Квадрату это удается…
Я взглянул [вниз] – и узрел новый мир!.. Мой родной город, с внутренним устройством всякого дома, со всеми их обитателями, лежал, открытый моему взору, словно картинка-миниатюра.
Наконец он видит, что весь мир, который он прежде знал, целиком состоит из маленьких геометрических фигур, скользящих в разные стороны по поверхности плоскости. Живя там, внизу, он этого не осознавал: вся эта картина приобрела смысл, лишь когда он поднялся в более «высокое» измерение. Таков общий принцип: то, что кажется странным обитателю мира с неким количеством измерений, делается совершенно осмысленным и понятным, если этот мир удается представить с точки зрения мира, где измерений на единицу больше. Жители королевства прямой линии не могли понять, как лайнландцы (движимые Квадратом) внезапно исчезают и затем внезапно появляются на новых местах, но все это имело простой и понятный смысл при наблюдении с точки зрения Флатландии. Точно так же и с приключениями А. Квадрата, в которые его вовлек трехмерный посетитель. Волшебное исчезновение предмета из запертой комнаты легко объясняется, если осознать, что существуешь не только во Флат-ландии, к которой ты привык и которую всегда можешь видеть, но и в куда более обширной Сферландии, которую никогда не мог себе и вообразить.
Однако, вернувшись домой, Квадрат сталкивается с тем, что никто из родных или знакомых не верит его рассказам о том, что ему, Квадрату, довелось увидеть. С течением времени он и сам с тревогой осознает, что понемногу забывает свое приключение, ставшее для него откровением:
Примерно через 11 месяцев после возвращения из Страны Пространства я попытался увидеть Куб, закрыв глаза, но у меня ничего не получилось. И хотя затем я все-таки в этом преуспел, я до конца не уверен, что в точности понял оригинал (этой уверенности мне с тех пор так и не удалось обрести), что еще больше усилило мою меланхолию.
История мистера Квадрата заканчивается печально. Его приводят в Высший Совет, где он обнаруживает: жрецы Флатландии отлично знают, что существуют в мире всего двух измерений. Но поскольку они не желают, чтобы весть об этом широко распространялась, и, кроме того, не считают, что мистеру Квадрату можно доверять, нашего отважного героя сажают в тюрьму.
«С тех пор прошло семь лет, а я по-прежнему в заточении», – пишет он на последней странице книги. Он лишь надеется, что «эти мемуары, быть может, каким-то неведомым мне образом станут доступны человечеству… и, быть может, позволят вырастить породу бунтарей, которые откажутся вечно томиться в ограниченном количестве Измерений».
* * *
Конечно же, здесь прослеживается аналогия с нашим собственным миром. Эбботту хотелось, чтобы англичане задумались о привилегиях правящего класса, которые принимаются как должное, а потому часто кажутся почти невидимыми. Отрезки, живущие в Лайнландии, не способны увидеть, что вокруг них существует более обширный мир – двумерный. Квадраты, пятиугольники и треугольники Флатландии не способны увидеть, что и вокруг них существует более обширный мир – трехмерный.
Вот почему читателям не следует расстраиваться из-за того, что они не в силах вообразить себе искривленное пространство. Это не может никто, будь вы даже новый Эйнштейн. На самом деле Эбботт просто хотел показать: даже величайшие ученые могут страдать от такой же зашоренности, как и население Флатландии. Поскольку Эбботт был к тому же и весьма ревностным христианином, он не имел ничего против того, чтобы читатели отыскали в его иносказаниях и религиозные параллели. То, как «в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн 1:1); чудеса Христа; его Вознесение, – все это может показаться невозможным, если мы ограничены трехмерным пространством.
Как раз примерно в то время, когда вышла «Флатландия», кое-какие немногочисленные математические рассуждения о различных геометриях уже проникли в общественное сознание и культуру. Так, в рассказах о Шерлоке Холмсе преступный профессор Мориарти, при всей своей низости и подлости, обладает ученой степенью по математике и, вероятно, слыхал о неевклидовой геометрии. В «Братьях Карамазовых» Иван так пытается объяснить простодушному брату Алеше проблему зла:
Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Алеша, а пуще всего насчет Бога: есть ли он или нет? Всё это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях[4].
Однако для большинства физиков того времени вопрос о реальном существовании этих «других геометрий» казался лишенным всякого смысла. Иван Карамазов – персонаж Достоевского. Профессора Мориарти никогда не существовало. Ученые могли преспокойно продолжать свою работу, не смущаясь видениями, которые так встревожили А. Квадрата, некогда – обыкновенного обывателя-буржуа, вполне довольного жизнью.
Но тайный мир, тот, что сумели увидеть эти персонажи, как раз и требовался Эйнштейну, дабы решить проблемы, над которыми он бился у себя в патентном бюро после того как наконец оправился от переутомления, вызванного трудами, породившими в конечном счете его знаменитую формулу E = mc².
Глава 5 Первый проблеск решения
Год 1907. Прошло уже два года с тех пор, как Эйнштейн опубликовал свою серию статей – два года с тех пор, как он объединил царства массы и энергии, показав, что их можно воспринимать как единую категорию взаимосвязанных «Вещей», при необходимости трансформирующихся в строгом соответствии с его уравнением E = mc².
Да, Эйнштейн предложил очень впечатляющие теории, способные объяснить многое, но оставался открытым вопрос: почему единство Вселенной не простирается еще дальше? К 1907 году на этот вопрос ученым так и не удалось получить ответа. Все эти Вещи, наделенные массой и энергией, существуют в окружающем их царстве Пустого Пространства. Зачем бы Богу (или еще каким-то силам, обустроившим Вселенную) решить: пускай будут две совершенно не связанные между собой категории – Вещи и Пустое Пространство? Если энергия и масса взаимосвязаны, тогда, может быть, Вещи и Пространство тоже взаимосвязаны?
Эйнштейну (в чьем сознании еще оставались пережитки религии, где одно-единственное Божество сотворило все на свете) такое разделение казалось бессмысленным, а потому он вернулся к своим изысканиям.
У себя в патентном бюро он приступил в 1907 году к новой стадии работы – над тем, что позже будет названо общей теорией относительности, тогда как более узкие исследования, результаты которых он опубликовал в сентябре и ноябре 1905-го, касались специальной теории относительности и некоторых ее следствий.
Эти более широкие исследования Эйнштейна произведут переворот в физике, и их влияние мы даже сейчас не можем полностью осмыслить. Изыскания этого периода выведут его на творческие высоты, намного превосходящие даже его работы над E = mc², но они же в конечном счете приведут к его падению.
* * *
Гений редко действует напрямую. Сидя в бюро, Эйнштейн любил поразмышлять, закрыв глаза и изгнав из сознания окружающие звуки – шуршание перьев в конторе, постоянное цыканье герра Галлера, патрулирующего столы конторских служащих. Но в 1907 году он, размышляя подобным образом, однажды оставил глаза открытыми. И либо увидел, как рабочие взбираются по приставной лестнице на край близлежащей крыши, либо представил себе их на этой крыше. Произошло, должно быть, какое-то непонятное замыкание нейронных связей, внезапно породившее, как он сам позже выразился, «самую счастливую мысль в моей жизни».
Он задумался о падении с крыши дома. Если дом очень высокий, то после того, как вы сорветесь с кровли, ни вы сами, ни ваши собратья по падению не смогут определить, падаете вы или нет, – если не смотреть на окружающее и не обращать внимание на воздушные потоки, которые вы ощущаете. Если спрыгнуть с крыши вместе с такими же безрассудными смельчаками, держась за руки, ваши спутники останутся в том же положении, они будут казаться вам такими же «стационарными», как и вы сами. Вы будете ощущать себя невесомым, и они тоже.
Такова будет точка зрения падающих. Но если кто-нибудь из стоящих на земле поднимет голову, он увидит, как вы стремительно несетесь вниз. Более того, сам он, разумеется, не будет находиться в невесомости. Вес этого наблюдателя составит ровно столько же, сколько он составлял за мгновение до того, как вы соскользнули с крыши.
Но почему (спросил себя Эйнштейн) этот наблюдатель будет ощущать силу тяжести, а вы вдруг перестанете ее чувствовать?
Ведь гравитация вокруг вас не исчезает, когда вы начинаете падение с крыши.
Должен существовать способ разобраться в этом получше. И тут весьма полезна «Флатландия» Эбботта. Многие из ее персонажей пребывают в мире, где больше измерений, нежели они способны уловить. А значит, в привычном им мире с меньшим количеством измерений существуют некие направляющие «кривые», которые объясняют события, кажущиеся жителям этого мира загадочными. Сравним бедных обитателей одномерной Лайнландии с крошечными поездами на чрезвычайно узком железнодорожном полотне. Даже самые блистательные лайнландские умы не сумели бы понять, как после долгого путешествия путник оказывается в том же месте, откуда он начал странствие. Но это будет вполне понятно для наблюдателя из мира с более высоким количеством измерений, например, для того же мистера А. Квадрата: он отлично видит, что железная дорога, на которой обитают лайнланд-цы, в двухмерном пространстве искривляется, образуя круг. «Все мы, – пишет Эбботт во введении к «Флатландии», – склонны к одним и тем же ошибкам, все мы – рабы предрассудков, свойственных нашим Измерениям».
Отсюда следует недвусмысленный вывод. Если объекты движутся сквозь «более высокие» измерения, их движением можно управлять способами, непостижимыми для них самих. Тут, на Земле, в нашей трехмерной Вселенной, мы думаем, будто невидимая сила тяготения исходит вверх из центра нашей планеты и тянет нас вниз. Но, может быть, на самом деле, падая, мы скользим вдоль какого-то искривленного пространственного пути? Эту кривую мы не способны воспринять непосредственно, однако математический анализ, быть может, ее выявит. Тогда удалось бы обнаружить поистине чудесную связь между Вещами и Пространством, своего рода выверт или канал, существующий в Пространстве: вдоль него-то и скользят Вещи, когда они движутся.
Даже великий Ньютон никогда не был до конца уверен в том, что понимает, как работает гравитация. Если Эйнштейн сумеет придумать собственные теории насчет невидимых каналов в Пространстве, управляющих каждым нашим движением (в том числе и нашими кувыркающимися падениями под действием гравитации), он превзойдет самого Ньютона!
Сказочная перспектива. В большой обзорной статье 1907 года он начал развивать свои идеи 1905 года, касающиеся специальной теории относительности, с тем, чтобы включить в эту теорию некоторые новые мысли о гравитации. Впрочем, Эйнштейну пришлось прерваться, не успев как следует развить свои концепции. Выяснилось, что в патентном бюро совершенно невозможно заниматься наукой, даже несмотря на то, что Эйнштейну не требовалось полной тишины для того, чтобы сосредоточиться. Майя замечала, что, бывало, развлекаясь в шумной компании, брат порой «ретировался на диван, хватал перо и бумагу, рискованно пристраивал чернильницу на подлокотнике и погружался … в какую-нибудь очередную задачу». Когда Альберту было уже двадцать с лишним, один из гостей молодых супругов видел (и затем описал), как Эйнштейн сидел в большом кресле, качая своего младенца на левой руке, а правой записывая уравнения на подвернувшейся плоской поверхности, при этом не давая сигаре погаснуть благодаря энергичным попыхиваниям прямо над головой ребенка, чему ничуть не мешали ни его выкладки, ни гость.
Но поиск связи между Пространством и Вещами требовал времени и сил. Работы урывками, в эти случайные вечерние часы, здесь уже не хватало. Иногда на службе Альберту все-таки удавалось укрыться от бдительного взора суперинтенданта Галлера, и он тайком открывал ящик стола, чтобы извлечь бумаги из своего «отделения теоретической физики». Но Галлер все строже приглядывал за своими клерками, и Эйнштейну слишком часто приходилось закрывать заветный ящик, не успев сделать что-нибудь существенное. Нужно было искать себе более подходящее место работы. Была и еще одна причина, более личного свойства, уйти из патентного бюро.
Хотя визит фон Лауэ (как мы помним, это случилось в 1907 году) формально не поспособствовал карьере Альберта, его слава как ученого с тех пор неуклонно росла, неуклонно увеличивалось и количество визитеров. Эти посетители уже не походили на друзей молодых супругов, которыми они обзавелись в первые годы после свадьбы, друзей, с которыми можно вместе погулять или поужинать, не говоря уж о таких, как Гроссман, их однокурсник по Политехникуму, с которым их связывали общие студенческие воспоминания. Эти новые посетители хотели общаться с Эйнштейном – и только с ним одним. Милева их не интересовала.
А ведь в студенческие годы ее воспринимали как невероятно умную и образованную женщину! Теперь же она просто госпожа Эйнштейн. Конечно, гости мужа были с ней вежливы, когда она подавала пиво или чай, но затем на нее уже никто не обращал внимания.
Милева терпела такое положение дел с большим трудом. В математике она уступала Гроссману, но в университете отлично училась, и ей вполне по плечу были интегральное и дифференциальное исчисление, статистическая механика и другие весьма сложные вещи. В студенческие годы они с Эйнштейном мечтали, как будут работать вместе. И даже в 1905 году она «снова и снова перепроверяла» выкладки в самых важных его статьях – он знал, что она блестяще умеет находить математические ошибки, и полностью доверял ей в этом смысле. Закончив статью, они отмечали это в каком-нибудь заведении – не как степенные бюргеры, а как восторженные студенты (о чем свидетельствует их открытка с рассказом о падении под стол после изрядных возлияний).
Вероятно, ее задевало и то, что другая супружеская научная команда, парижане Пьер и Мария Кюри, прекрасно работали вместе и только что получили Нобелевскую премию: Милеве эту мечту пришлось оставить, ведь у нее был сын, требовавший столько внимания… Однако она все-таки старалась не унывать. Подруге она писала: «При такой славе у него остается мало времени на жену… Ничего не поделаешь!»
И в любом случае им не помешали бы дополнительные деньги на уход за ребенком: они высвободили бы время для работы, которого так не хватало и Эйнштейну, и Милеве. В конце концов Эйнштейн смирил гордыню и снова вышел на связь с Бернским университетом. Как мы уже знаем, когда-то там отвергли его первое заявление, где он просил о месте преподавателя: поданные им статьи о специальной теории относительности не удовлетворяли требованиям университетского руководства. Теперь же он, все-таки вняв условиям университета, представил диссертацию, оформленную достаточно традиционно, и ему позволили читать лекции низшего уровня. Жалованья за них не полагалось, он мог рассчитывать лишь на добровольные пожертвования студентов, которые будут посещать эти занятия, так что Эйнштейну пришлось параллельно продолжать работу в патентном бюро. Но все равно это была какая-то новая жизнь…
Он начал читать лекции весной 1908 года. Его время было по вторникам и субботам, в безнадежно ранний час – 7:00. Когда казалось, что никто не придет его слушать, спасали верный Мишель Бессо (и еще два его друга из патентного бюро). По завершении лекции они наскоро пили кофе и спешили вниз по холму – на работу в бюро.
Во время зимнего семестра к ним присоединился настоящий студент, что очень воодушевило Альберта. Когда же этот слушатель перестал появляться в аудитории, ему на смену пришла Майя, сестра Эйнштейна – она начала посещать лекции брата, чтобы университетское начальство не отменило его курс. Ясное дело, Майя не понимала ни слова из того, что он говорил. Конечно же, Эйнштейн не брал деньги с Бессо и сестры, а потому финансовая ситуация в его семействе оставалась непростой. «Неужели кому-то не ясно, что мой муж урабатывается до полусмерти?» – вопрошала его верная жена, когда подруга заметила ей, что им следовало бы нанять служанку, чтобы у Милевы было побольше свободного времени.
Впрочем, вскоре они узнали, что в Цюрихском университете, то есть всего в 60 милях, может появиться платное местечко. Однако требовалось, чтобы кто-нибудь из цюрихских профессоров приехал послушать лекцию Эйнштейна. А это вызывало определенное беспокойство. Эйнштейн сам всегда признавался, что «из-за скверной памяти» иногда ему лекция удается, а иногда – нет, и никогда нельзя угадать заранее, каким будет его очередное выступление. И вот решающий день настал. Эйнштейн вернулся домой, и Милева спросила его, как все прошло. Ответ звучал неутешительно. «Этот тип в аудитории действовал мне на нервы, – признался Альберт. – Я прочел лекцию отнюдь не блестяще».
Однако в конце концов Цюрих уступил – главным образом потому, что все большее число европейских ученых признавало ценность Эйнштейновых работ. Более того, когда местный, цюрихский, кандидат на место преподавателя физики узнал, что факультет все-таки может отклонить заявку Эйнштейна, этот претендент (Фридрих Адлер, его старый знакомец еще по Политехникуму) проявил себя весьма достойно и снял свою кандидатуру. «Если имеется возможность заполучить для нашего университета такого человека, как Эйнштейн, нелепо вместо него назначать меня», – заявил он.
Так что в 1909 году, после семи лет патентного рабства Эйнштейн наконец-то покинул царство герра Галлера и получил свою первую по-настоящему научную должность в университете. Кстати, герр Галлер, явно равнодушный к растущей славе Эйнштейна, все-таки повысил его – в соответствии с бюрократическими законами продвижения по службе – до почтенной должности технического специалиста второго класса. Впрочем, перед уходом Эйнштейна из бюро Галлер намекнул ему (вероятно, в надежде удержать ценного сотрудника), что Альберту светит и возможность подняться до сияющих высот технического специалиста первого класса!
Покинув патентное бюро, Эйнштейн наконец-то обрел возможность продолжать свои исследования – выяснить, действительно ли самые глубинные составляющие Вселенной связаны какими-то путями или кривыми, о которых никто до сих пор и не догадывался.
Глава 6 Время обдумывать
Итак, в 1909 году Эйнштейн переходит из патентного бюро в Цюрихский университет. Альберту 30 лет, Милеве – 34.
Берн, при всей своей привлекательности, был глубоко провинциальным, оторванным от большой жизни захолустьем. А вот Цюрих – настоящий город. Там до сих пор живут многие их друзья по Политехникуму. Сам этот факт как-то обнадеживает супругов.
Переезд в Цюрих взбодрил Эйнштейна и его жену. Какое-то время их жизнь протекала так же бурно, как и в первые годы после женитьбы. Они познакомились с Карлом Юнгом, что особенно понравилось Милеве, поскольку ее первой областью научных интересов, еще до физики, была медицина. Но когда Юнг пригласил Эйнштейнов на ужин, он почти не обращал внимания на Милеву и сосредоточился на Эйнштейне, пытаясь убедить его в своих психологических идеях. Альберту это не доставило никакого удовольствия, и больше они к Юнгу не ходили.
Удачнее сложились отношения с Генрихом Зангером, университетским специалистом по медицинской криминалистике, весьма изобретательным человеком, одним из отцов-основателей медицины экстренной помощи. Широта интересов Зангера произвела на Эйнштейна большое впечатление. Повезло Эйнштейнам и с жильем – они поселись в том же многоквартирном доме, что и Адлеры: совсем недавно Фридрих Адлер заступился за Эйнштейна перед университетской администрацией, теперь же он не преминул отметить, что в квартире молодой четы всегда теплая, легкая атмосфера. «Они живут над нами, и мы с ними [с Эйнштейнами] в очень хороших отношениях… – писал Фридрих отцу. – У них настоящий богемный дом».
Эйнштейн одевался не так, как другие факультетские преподаватели, и выглядел иначе: слишком короткие брюки, слишком взлохмаченные волосы. Но и ему, и Милеве нравилось, что они не похожи на обычную буржуазную семью. Жалованье Альберта в Цюрихском университете оказалось побольше, чем в патентном бюро, и супругам совсем не хотелось, чтобы Эйнштейна выгнали из-за того, что он плохо читает лекции. Впрочем, он готовился к своим лекциям гораздо тщательнее, чем в Берне. Теперь он уже не во всем доверял своей скверной памяти: по воспоминаниям одного из студентов, доктор Эйнштейн приносил с собой «клочок бумаги размером с визитную карточку, где заранее записывал пункты, которые намеревался изложить».
Однако важнее было то, что Эйнштейн относился к своим студентам очень благожелательно. В определенных кругах Европы накануне Первой мировой войны поддерживались очень строгие иерархические взаимоотношения, и профессора отнюдь не поощряли вопросы, особенно от «простых студентов». Эйнштейн же всегда с презрением отзывался о тех, кто ведет себя надменно и смотрит на всех свысока, полагая, что им это позволяет общественное положение. В Цюрихе он призывал студентов прерывать его в любой момент, когда им захочется что-то спросить. Частенько после лекции он приглашал их в кафе, дабы продолжить начатое обсуждение или просто ближе познакомиться. Часто он приводил их и к себе домой, чтобы рассказать о своих последних результатах. Студентам все это очень нравилось. Следует отметить, что Эйнштейн неизменно боролся с травлей и унижениями в студенческой среде. Несколько лет спустя одна его студентка вспоминала, как она волновалась перед выступлением на семинаре. Эйнштейн, сидевший в аудитории, ободряюще кивнул ей, как бы говоря: «Давай, у тебя все получится». А когда ее сокурсник попытался заработать баллы, высмеяв ее доклад, Эйнштейн остановил его, бросив: «Умно, но неверно», после чего попросил девушку продолжать.
Новая цюрихская квартира Эйнштейнов оказалась побольше бернской, и благодаря расширившемуся пространству и вновь вспыхнувшей страсти у них вскоре родился второй сын, которого назвали Эдуардом. Один из студентов, захаживавших к ним, вспоминал: когда два мальчика поднимали шум, мешавший Эйнштейну сосредоточиться, молодой профессор улыбался, брал в руки скрипку, это безотказное отцовское оружие, и успокаивал детей, наигрывая их любимые мелодии. Они с Милевой любовно называли своих сыновей die Bärchen – «медвежата».
В 1911 году Эйнштейну подвернулась более выгодная работа, в пражском Немецком университете, так что семейство снова переехало. Выросший заработок Альберта позволил им поселиться в огромной квартире (их первом жилище с электрическим освещением). А еще здесь, в Праге, в этом Немецком университете, у него появилось больше времени для размышлений.
Прага в чем-то стала для Эйнштейна городом-передышкой, но для славянки Милевы, говорившей по-немецки, город оказался не столь приятен: между пражскими немцами и пражскими чехами существовали весьма натянутые отношения. Чешский национализм набирал силу, но немецкое меньшинство сохраняло контроль над многими высшими постами. Чехи, отлично владевшие обоими языками, часто отказывались говорить по-немецки, чтобы смутить таких, как Милева, то есть тех, кто дерзал в их городе отправиться за покупками, не владея чешским. Немецкоговорящие жители, что выглядело еще более зловеще, стали открыто третировать всех славян, а в эту категорию, разумеется, входила и Милева. Само существование в Праге какого-то «Немецкого университета» лишь подливало масла в огонь, поскольку его создали, когда от исходного учебного заведения отделился «Чешский университет», и теперь (хотя Эйнштейн принципиально разрешил студентам-чехам посещать свои лекции) большинство профессоров даже отказывались разговаривать с кем-либо из конкурирующего университета. В городе имелось небольшое сообщество образованных евреев, пытавшихся сохранить нейтралитет. Эйнштейн посещал один из литературных салонов, где беседовал на философские темы и музицировал. Там он однажды встретил Франца Кафку, хотя Кафка, судя по всему, был слишком застенчив, чтобы сказать что-нибудь этому непринужденному, уже весьма уважаемому иностранцу. Можно лишь догадываться, о чем они могли бы поговорить.
* * *
Может быть, в Праге супругам жилось и не очень легко, но, по крайней мере, в этом городе Эйнштейн мог продолжить и расширить свои мысленные эксперименты. У него уже имелись кое-какие идеи о том, что само пространство каким-то образом искривлено; это объяснило бы представления Альберта о гравитации, но пока он не мог уяснить себе все необходимые детали. Кроме того, он полагал, что из-за таких искривлений свет отдаленных звезд будет отклоняться, пролетая мимо Солнца. Но и детали этого процесса оставались пока не очень-то ясны.
Как ни странно, помог ему жанр приключенческих романов, где героический первопроходец напивается или накачивается наркотиками, а потом просыпается и никак не может сообразить, где он, между тем как время поджимает и ему угрожает смертельная опасность. Эйнштейн использовал этот образ. Допустим, некто очнулся в закрытой комнате без окон. Ему ввели какой-то наркотик, и он совершенно не помнит, как сюда попал. Он не чувствует силы тяжести, он просто парит в этой комнатке.
Сумеет ли он каким-то способом определить, где находится? Есть ли такой метод?
Отважный путешественник начинает размышлять. Может быть, он где-то в космосе, за пределами Солнечной системы, вдали он всех крупных источников гравитации вроде нашего Солнца или даже Юпитера (куда более скромного по размерам). Но есть и другая возможность – что он попросту внутри лифта, какие сооружают в этих новомодных американских небоскребах. Какой-то подлый злодей перерезал трос, и вот бедняга падает в этой кабине с самого верха лифтовой шахты. Но если помещение совершенно замкнутое и если он в нем свободно плавает, то узник не сможет определить, какая из этих двух версий справедлива. Вспомним рабочих, которых Эйнштейн представил себе сорвавшимися с бернской крыши. Пока они падают (если вообразить, что они не могут смотреть по сторонам и ощущать движение воздуха), они знают лишь то, что пребывают как бы в невесомости. Но они не способны определить, на каком расстоянии от поверхности земли в данный момент находятся – нескольких миль или всего нескольких дюймов.
Теперь же Эйнштейн понял: все-таки есть способ, который позволит нашему отважному герою понять, где он, при этом не выглядывая из своей замкнутой комнатки. Ему потребуются лишь два яблока. Нужно взять по одному яблоку в каждую руку, развести руки в стороны и затем уронить плоды.
Если оба яблока будут спокойно парить в воздухе, герой поймет, что находится где-то очень далеко от Земли, в бескрайних просторах космоса, и поблизости нет никаких сколько-нибудь крупных небесных тел (в том числе планет, изрытых метеоритами). У него масса времени на то, чтобы соорудить двигатель и добраться до безопасных мест.
А вот если после того, как он разожмет пальцы, яблоки не повиснут неподвижно, а начнут медленно, но неуклонно скользить по направлению к нему (и если он знает, что это происходит не из-за воздушных потоков или его собственного взволнованного дыхания), тогда он волей-неволей должен заключить, что дела его плохи. Лишь одна вещь способна сделать так, чтобы два яблока, которые вначале двигались более или менее параллельно узнику, стали загадочно и зловеще приближаться к нему. Эта вещь – центральный источник гравитации, находящийся где-то внизу. К нему-то и стремится каждое яблоко, исходя из своей собственной стартовой точки:
Эффект будет заметнее, если представить себе несчастного над Землей:
Следует неутешительный, но недвусмысленный вывод: когда такой эффект происходит в миниатюрных масштабах, герой явно находится внутри свободно падающего лифта. И в любой момент он вместе с яблоками и со всей кабиной может весьма болезненно столкнуться с поверхностью земли. Это неизбежно.
Наблюдение за движением яблок – оригинальный способ определить, находится путешественник близ крупного гравитационного источника вроде нашей планеты или же он где-то в далеком космосе. Но тут есть своя загвоздка. Находясь в свободном парении, герой вообще не ощущает действия какой-либо силы тяготения. Однако нечто заставляет столь же свободно парящие яблоки двигаться к нему. Но если он не ощущает действия какой-либо силы, то логично предположить, что и яблоки ее не «ощущают».
Каким образом пустое пространство внутри воображаемого лифта вынуждает объекты вроде свободно парящих яблок сближаться друг с другом, хотя наблюдателю, который заключен с ними в одну кабину, они кажутся просто висящими в воздухе?
Сражаясь с этой проблемой, Эйнштейн многое понял о собственном мыслительном процессе. Мыслителей часто делят на «гольфистов» и «теннисистов». Гольфист действует один, а теннисисту нужен партнер. В этом смысле Ньютона можно отнести к гольфистам, а Уотсона с Криком (а также, например, многих композиторов и поэтов-песенников) – к теннисистам. Эйнштейн уже долго был гольфистом. Он мог бы еще чуть-чуть продвинуться по пути решения этой проблемы, работая в одиночку, но чтобы сделать существенный рывок, ему потребовался коллега…
К кому же обратиться? Милева больше не могла ему помочь: хотя ей удавалось проверять некоторые выкладки в его ранних работах (за время их учебы в цюрихском Политехникуме она неплохо освоила математику и физику), нынешние проблемы лежали далеко за пределами того, что они когда-то выучили в Цюрихе. Бессо не годился по той же причине. Он, по выражению Эйнштейна, являл собой «лучшего собеседника в Европе для обкатки научных идей», однако его недостаточная амбициозность и чересчур эксцентричное отношение к серьезным исследованиям означали, что и он недостаточно сведущ для того, чтобы помочь (и недостаточно упорен, чтобы узнать нужные вещи).
А вот Марсель Гроссман, эйнштейновский друг еще со студенческих времен, когда-то одалживавший ему конспекты лекций, тут идеально подошел бы. Он бы сумел помочь Альберту продвинуться по этому долгому и медленному пути, который в конце концов приведет его к общей теории относительности. После окончания цюрихского Политехникума Гроссман, некоторое время поработав учителем старших классов, пошел в аспирантуру, где изучал высшую математику, и с тех пор не оставлял научную работу. В конце концов он стал профессором математики в своей альма-матер, недавно произведенной в ранг настоящего университета (и получившей гордое название Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) – Швейцарская высшая техническая школа в Цюрихе). За десяток лет, протекших после окончания Политехникума, Эйнштейн и Гроссман пересекались несколько раз (припомним, как Гроссман добывал приятелю работу в Бернском патентном бюро или по мере сил помогал с прошениями о месте учителя старших классов, которые постоянно отклоняли), но вообще они успели за это время как-то отдалиться друг от друга. Однако Эйнштейн по-прежнему относился к его талантам с огромным уважением. Если бы в Швейцарии удалось подыскать приличное место, Эйнштейн только выиграл бы от соседства с другом.
Для отъезда из Праги имелся и еще один мотив – опять-таки, личного свойства. Расставание с цюрихскими друзьями не в лучшую сторону сказалось на браке Альберта и Милевы. Прохладное отношение со стороны пражских чехов и пражских немцев также не способствовало приятной жизни. И Альберт, и Милева чувствовали растущее отчуждение. Когда в Брюсселе затеяли конференцию, где планировалось собрать большинство ведущих физиков тогдашней Европы, Эйнштейн не взял с собой Милеву, хотя там она оказалась бы в обществе великих умов, которыми так восхищалась: из Манчестера приезжал Резерфорд, из Берлина – Планк, не говоря уж о блистательной женщине-физике, которой сама она так и не стала (у нее просто не было такой возможности), – о парижанке Марии Кюри. Во время конференции Милева писала ему (паровые почтовые экспрессы стремительно развозили корреспонденцию по всему континенту): «Я бы с огромной радостью чуть-чуть послушала всех этих замечательных людей, посмотрела бы на них. Тебя так давно не было… Сумеешь ли ты меня узнать, когда мы встретимся?»
Может быть, возвращение в Цюрих воскресит былую пылкость чувств? Конечно, Милева очень обрадовалась, когда Эйнштейн все-таки добыл себе место на одном из факультетов ETHZ, заведения, которое совсем недавно не желало иметь с ним ничего общего. Семейство собрало вещи и в 1912 году снова перебралось в Швейцарию.
Вскоре после того как они добрались до Цюриха, Эйнштейн ворвался в кабинет своего друга и провозгласил:
– Grossmann, Du musst mir helfen, sonst werd' ich verrückt![5]
Гроссман только рад был внять этому призыву. К тому же теперь Эйнштейн получил работу в ETHZ (бывшем Политехникуме), и его офис – совсем рядом с офисом его давнего друга и покровителя. Теперь они официально стали коллегами.
Глава 7 Затачивая инструменты
Первым делом Гроссману предстояло помочь Эйнштейну наверстать отставание по части математики: в студенческие времена тот пропустил слишком много занятий. Если в пустом пространстве имеются какие-то кривые, понадобится метод их четкого и недвусмысленного описания. Эйнштейн поразился, когда Гроссман (этот человек, похоже, знал все!) продемонстрировал ему, сколько соответствующих инструментов уже разработано.
Принцип работы этих математических инструментов основывался на том, что давно осознали картографы, бороздившие планету, измеряя долготы и широты. Когда топографы и геодезисты XVIII века делали промеры между деревянными вехами, разделенными десятками миль, то (даже если земля между ними казалась просто пустынной равниной, сплошь засыпанной снегом и совершенно плоской) по угловым параметрам они могли установить, насколько в действительности искривлена поверхность между этими пунктами.
На плоской равнине любые огромные прямоугольники из таких геодезических вех обладали бы действительно прямыми углами – ровно в 90° каждый. А вот на гораздо более искривленной поверхности такие прямоугольники «вспухали» бы, так что их углы превышали бы 90°.
Поверхность Земли, чья сравнительно незначительная кривизна не позволяет путешественникам обнаружить эту кривизну невооруженным глазом, способна порождать удивительные эффекты. Вообразим, к примеру, что от Финляндии до Северного полюса простирается совершенно гладкая ледяная равнина. Двух конькобежцев из маленького финского городка расставляют в одной-двух милях друг от друга, а затем по сигналу оба начинают скольжение на север по абсолютно прямым линиям.
Вначале им кажется, что это легко. Из своего опыта катания по плоским замерзшим озерам родных краев они знают, что два конькобежца, начинающие двигаться параллельно, могут, казалось бы, скользить так сколько угодно.
Теперь же, по мере того, как они все больше удаляются от дома, прилежно и неутомимо следуя полученным инструкциям, постоянно сверяясь с компасом и стараясь не отклониться вбок ни на один дюйм, они с удивлением замечают, как что-то «тянет» их друг к другу по мере того, как они все больше приближаются к полюсу, пока на «макушке» планеты они попросту не врежутся друг в друга.
С их точки зрения это необъяснимо. Почему два спортсмена, начавшие свой путь в милях друг от друга и старательно придерживавшиеся параллельных курсов, в конце концов столкнулись? Как такое могло получиться? Но если взглянуть на них с достаточной высоты (скажем, с гигантского воздушного шара, откуда открывается вид на эти две фигурки, упорно скользящие по льду), ответ станет ясен. То, что конькобежцы ощущают как неотвратимое тяготение, влекущее их друг к другу, на самом деле вовсе не проявление какой-то таинственной силы. Наша планета – это, грубо говоря, шар. Поэтому движение по таким вот параллельным прямым линиям, мысленно пролагаемым по поверхности этой сферы, неизбежно приведет к тому, что наши конькобежцы рано или поздно столкнутся.
Именно такое явление Эйнштейн и вообразил себе в рамках своего мысленного эксперимента с таинственно сближающимися яблоками (просто нам кажется, что история с яблоками происходит не на плоскости). Однако в ту пору мало кто верил, что подобные причудливые эффекты и искривленные пути могут существовать (или, по крайней мере, иметь практическое применение) вне поверхности нашей планеты: иными словами, что космическое пространство, которое кажется нам пустым, на самом деле может обладать какой-то скрытой структурой, способной оказывать влияние на движущиеся в нем объекты. Напротив, все полагали, что само пространство, где находятся звезды и планеты, полностью соответствует представлениям Ньютона: это пустынная и довольно скучная штука, темная голая сцена, куда пока не вышли актеры.
Теперь же Гроссман объяснил Эйнштейну, что некоторые математики представляют отрадное исключение в этом хоре единообразия мнений. Еще за несколько десятилетий до того, как Эбботт написал свою сказку о Флатландии, они уже предположили: а не существует ли наша планета в рамках какой-то более обширной геометрии, нежели та, что доступна нашему непосредственному восприятию? Венгерскому офицеру Яношу Бойяи эта идея показалась столь заманчивой, что, перебрав кое-какие ее логические следствия, он (как сам Бойяи писал в 1820 году) почувствовал, что «создал новую вселенную из ничего!». Немецкий математик Карл Фридрих Гаусс, хоть и занимался вполне академической наукой, то и дело обращался к таким идеям на протяжении десятилетий и отмечал, что «теоремы [из области криволинейной геометрии] кажутся парадоксальными, а непосвященным – даже абсурдными, однако взвешенное и неуклонное размышление позволяет обнаружить, что они вовсе не содержат в себе ничего невозможного».
Однако никто не сумел отыскать экспериментальные подтверждения таких возможностей, и эта область науки заглохла. Учась в Кембридже, Эдвин Эбботт слышал отголоски сих тщетных усилий, о них время от времени упоминалось в научной литературе, но большинство физиков не принимало их всерьез. О тех математиках, которые все-таки продолжали рассматривать такие возможности, обычно говорили, что они зря тратят время. Даже Эйнштейн некогда присоединился к такому осмеянию. Еще в 1902 году он писал Милеве: «Гроссман затеял диссертацию на тему, которая связана со всякими плясками вокруг неевклидовой геометрии. Уж не знаю, что это такое». Но теперь, в 1912-м, взгляды Эйнштейна успели перемениться. «Я проникся глубоким уважением к математике!» – признавался он.
* * *
Давно забытые инструменты, которые математики-первопроходцы еще в XIX столетии разработали для изучения геометрии искривленных пространств, теперь могли принести ему неоценимую пользу. Они идеально подходили для той задачи, которую пытались решить Эйнштейн с Гроссманом. Это стало особенно очевидным, когда кто-то из них вспомнил, что математик Бернхард Риман, один из протеже Гаусса, на своей лекции 1854 года (которую посетил и престарелый Гаусс) продемонстрировал, как «существа, обитающие на [любой] поверхности, могут открыть кривизну своего мира и вычислить ее в любой точке». Эта идея, по сути, просто развивала наблюдения, уже сделанные картографами. Если треугольники «вспучиваются», это означает, что поверхность, на которой они существуют, подобна поверхности нашей сферической Земли. Если же треугольники «усыхают», сжимаясь внутрь, это означает, что речь идет о вогнутой поверхности – и все это можно увидеть, не выходя за пределы поверхности. Мистер А. Квадрат, обитающий в двухмерной вселенной, мог бы применить эти операции для того, чтобы выяснить, что он живет на плоской поверхности, еще до того, как зашедший к нему в гости Шар поднял его, чтобы Квадрат увидел свой мир сверху.
Эйнштейн осознал: если тщательно следовать процедурам Гаусса и Римана, мы тоже (измеряя углы на огромных расстояниях) сумеем выяснить, заставляет ли что-нибудь вспухать или сжиматься наше трехмерное пространство. Правда, без соответствующего измерительного оборудования этого не выявить: пространство перед нашими глазами кажется неискривленным. Человек лишен врожденной способности «видеть» более высокие измерения, будь он даже Эйнштейн. Однако при помощи особого рода расчетов мы все-таки можем узнать, есть ли в пространстве какая-то «кривизна», какие-то «кривые».
Основная идея оказалась столь простой и красивой, что позже Эйнштейн легко объяснил ее своему младшему сыну Эдуарду. Представь себе, говорил он, маленькую гусеницу, которая кружит по очень большому стволу дерева. Она не знает и не может знать, что ствол под ней – не плоская, а выпуклая поверхность, и что, ползя, она проделывает в пространстве некую кривую. Лишь мы, глядя на это с некоторого расстояния, способны видеть, что происходит на самом деле. Эйнштейн растолковывал сыну, что проводит столько времени у себя в кабинете, потому что пытается придумать способ, каким гусеница, ползающая по стволу и не покидающая его, могла бы понять, что ее мир на самом деле искривлен.
Эйнштейн по-прежнему много занимался интеллектуальным «гольфом», но Гроссман время от времени оказывал ему большую помощь в качестве партнера по интеллектуальному «теннису». «Сейчас я занимаюсь исключительно проблемой гравитации, – писал Эйнштейн в Мюнхен физику Арнольду Зоммерфельду (некогда относившемуся к нему с подозрением, но теперь полному восхищения). – И я убежден, что с помощью моего здешнего друга-математика сумею преодолеть все трудности».
Гроссман с Эйнштейном оказались хорошим научным тандемом, хотя и любили обыгрывать свои несходства. Гроссман, подмечал Эйнштейн, был «вовсе не таким рассеянным чудаком», как он сам. В те два неполных года, что они вместе провели в ETHZ, Эйнштейн расхаживал в мятой, но удобной одежде, тогда как Гроссман всегда щеголял в безукоризненном костюме, в белоснежной рубашке с высоким воротничком. Когда Эйнштейн, поддразнивая друга, замечал, что предпочитает держаться подальше от математики, ибо она «разбита на бесчисленные специальные области, на каждую из которых может уйти целая жизнь, а ведь наша жизнь так коротка», Гроссман отвечал, что физика до смешного проста и в ней имеется лишь одна полезная идея: до изучения этой науки он, «садясь в кресло и чувствуя остаток тепла того, кто сидел там до меня, всякий раз брезгливо вздрагивал. Теперь это прошло. Физика научила меня, что теплота – вещь совершенно безличная».
От того периода сохранилась, в частности, записная книжка, куда Эйнштейн заносил свои идеи. Это маленький томик в коричневом кожаном переплете, заполненный аккуратными чернильными значками, причем все они чуть наклонены вправо. На первой странице владелец книжки решает всякие забавные задачки: к примеру, рисует схему железнодорожных путей и параллельных вагончиков, которая должна помочь ему решить более сложные проблемы. А потом он углубляется в серьезные расчеты. Уже через несколько страниц появляется молящее «zu umstaendlich» («слишком запутанно»): Эйнштейн чувствует, что застрял, пытаясь перечислить искривления так, чтобы те имели смысл для наблюдателя, глядящего на поверхность с любого направления. В другом месте появляется обнадеживающее «Гроссман»: его друг предложил важнейшую идею, которая очень помогла.
В 1913 году они с Гроссманом представили свои первые находки в совместной статье, остроумно разбитой на две части: Гроссман подписал математическую, а Эйнштейн – физическую. Но Эйнштейн быстро шел дальше. К концу года он договорился о том, что в начале следующего займет престижную должность в Берлине (на полной ставке). Гроссман уже сделал для него все, что мог.
Дальше Альберт двигался один.
* * *
Завершение того, что они начали вдвоем, стало тяжелейшей работой в жизни Эйнштейна. «По сравнению с этой проблемой исходная теория относительности [1905 года] – просто детская игра, – писал он. – Никто из тех, кто не прошел через подобные терзания и обманчивые надежды, не поймет, из чего слагается такой труд».
Коллеги видели, насколько глубоко он погрузился в свои исследования. «Эйнштейн так погряз в гравитации, что глух ко всему остальному», – сообщал Арнольд Зоммерфельд одному из коллег. Шли месяцы. «Никогда в своей жизни я так себя не истязал», – признавался Альберт. Все это время он чувствовал: вот-вот проклюнется нечто гораздо более великое, чем E = mc², нечто словно бы ожидающее, когда его наконец увидят. «Природа показывает нам лишь кончик львиного хвоста, – писал он в Цюрих давнему другу-криминалисту Генриху Зангеру. – Но у меня нет никаких сомнений, что он принадлежит льву, хотя из-за своих колоссальных размеров зверь не может непосредственно явить себя наблюдателю».
Имелось и еще одно затруднение. Переезд в 1912 году из Праги обратно в Цюрих ничем не помог их с Милевой браку. Отчасти причиной стал сексизм эпохи, подталкивавший умную и образованную Милеву к жизни, целиком сосредоточенной на домашних заботах. К тому же, увы, Эйнштейн увлекся своей дальней берлинской родственницей Эльзой Ловенталь, вдовой с двумя взрослыми дочерьми.
Актриса по образованию, эта обладательница прекрасных голубых глаз имела неплохие связи в мире берлинской богемы. Она бойко говорила по-французски, куда лучше Эйнштейна (что, впрочем, не составляло особого труда: один сочувствующий ему француз, с которым он познакомился во время войны, замечал, что Эйнштейн не только калечил язык парижан чрезмерной артикуляцией, но и вечно «подбавлял туда немецкого»). Эльза разделяла пристрастие Эйнштейна к музыке и театру, а еще хохотала, когда он высмеивал ее высокомерных и напыщенных друзей. А поскольку она получила образование в сфере искусства, а не науки, то совершенно не чувствовала себя обделенной, если гости-ученые лишь бегло приветствовали ее, прежде чем обратиться к Эйнштейну.
В 1912 году настал момент, когда Эйнштейн понял: следует прервать эти отношения. Он написал Эльзе письмо о том, что все кончено; его жена поняла: эта женщина – не просто дальняя родственница, а реальная угроза. Но при этом он оставил Эльзе свой обратный адрес, и когда в начале 1913-го она непринужденно написала ему под предлогом того, что ей нужен совет, какое популярное пособие по теории относительности стоит почитать, он не смог противиться искушению, и переписка возобновилась.
Милева пришла в ярость, когда Эйнштейн принял предложение переехать из Цюриха в Берлин, поскольку знала, что там ее муж будет ближе к женщине, угрожающей их браку. Их юные сыновья понятия не имели о происходящем. Когда семья все-таки вновь перевезла все свои пожитки в Берлин весной 1914-го, мальчиков этот громадный современный город поразил. Но для Альберта и Милевы дни упоения переездом, сидения в обнимку на балконе, наслаждения видом Альп остались в каком-то невозможном прошлом. Друзья заметили, какими подозрительными, холодными и обидчивыми они стали. В те их первые берлинские недели Эйнштейн жестко предупредил Милеву, что намерен соблюдать лишь видимость дружелюбия «в случае крайней социальной необходимости», хотя только он один был виноват в грозящем им разрыве.
К июлю 1914-го ситуация обострилась. Милева не могла смириться с тем, что муж столь явно увлечен другой женщиной. Она по-прежнему считала, что их союз можно спасти, но была слишком горда, чтобы оставить все как есть. Эйнштейн попал в западню: в глубине души он полагал, что их брак больше не существует (он даже начал называть дочерей Эльзы своими падчерицами), но хотел общаться с сыновьями, так что на официальном разводе он не настаивал. В конце концов благородный Бессо приехал из Цюриха, чтобы помочь Милеве с мальчиками вернуться в Швейцарию. Эйнштейн согласился высылать ей половину своего жалованья. Повсхлипывав на берлинском вокзале при виде уезжающих детей, он затем подыскал себе квартиру поменьше, где как раз хватало места на тот случай, если мальчики приедут к нему в гости.
Разрыв вымотал его, как и непрестанная работа. Не прошло и месяца после разрыва с Марич, как в Европе разразилась война. Условия жизни в Берлине стремительно ухудшались. Вскоре ввели ограничения на продукты, электричество и топливо. Начался подъем истерического национализма. Эйнштейн писал своему старому другу Бессо: «Разговаривая с местными жителями, я чувствую в их сознании нечто патологическое». А в письме голландскому знакомому он замечал: «Убежден, что здесь всех охватила какая-то психологическая эпидемия».
Личная жизнь Эйнштейна погрузилась в хаос, но ничто не могло заставить его прекратить свои изыскания. Он просто обязан распутать проблему гравитации, над которой, с перерывами, бился начиная с 1907 года. Он должен раскрыть самую глубинную, самую важную тайну Вселенной.
И в ноябре 1915 года он это сделал.
Глава 8 Величайшая идея
В ту промозглую военную берлинскую зиму Эйнштейн совершил величайший со времен Ньютона переворот в понимании физического устройства Вселенной. Его открытие стало одним из главных научных достижений всех времен. Пожалуй, если бы Эйнштейн никогда не родился, кто-нибудь другой наверняка вывел бы формулу E = mc², причем ненамного позже, чем в 1905 году, когда он сделал это сам. Так, француз Анри Пуанкаре и голландец Хендрик Лоренц отставали от него самое большее на несколько лет. Но никто в ту пору и близко не подошел к достижениям Эйнштейна 1915 года. Хотя подробности достаточно сложны (кое-какие мы постараемся бегло осветить в Приложении, где покажем, в частности, что искривляется не только пространство, но и время), основную идею можно изложить следующим образом.
Уподобим по-настоящему пустое пространство поверхности громадного батута. Пускай она будет плоской, без всякой кривизны, без впадин или всхолмий. Если запустить по такому батуту крошечный металлический шарик, он совершенно не исказит поверхность и будет просто двигаться по прямой.
А теперь поместим на наш батут небольшой камень. Его вес заставит поверхность батута несколько прогнуться. Если снова запустить шарик и если он пройдет близ этого камня, то он чуть отклонится в сторону камня из-за этой вмятины.
Масса камня заставляет батут искривляться. Это искривление меняет траекторию других объектов (скажем, нашего шарика), оказывающихся поблизости.
Так видел это Эйнштейн. В этом, по его мнению, и состоит объяснение того, откуда берется искривление пространства. (Он пытался объяснить эту кривизну с тех самых пор, как вообразил себе искателя приключений, попавшего в лифт.) Причина искривленности – все эти штуки (массы и энергия), которые разбросаны по всему пространству! Там, где сосредоточены масса или энергия, они искажают пространство вокруг себя, подобно тому, как камень прогибает наш батут. Перемените положение объекта какой-то небольшой массы (скажем, взмахните рукой, изменив ее положение в воздухе на несколько дюймов) – и вы словно нажмете на невидимые резиновые листы, так что конфигурация пространства вокруг объекта (вашей руки) слегка изменится. А если свое положение изменит тело огромной массы (представим себе Землю, мчащуюся по орбите), это породит куда более серьезные искажения в невидимом пространстве вокруг нас.
Это была блистательная и очень смелая идея, во многих смыслах созвучная более ранним работам Эйнштейна по обнаружению туннеля между двумя городами М и Е, каждый из которых накрыт куполом. Эйнштейн осознал: да, энергию и массу соединяет незримая связь, но при этом они неразрывно вплетены и в окружающее их пространство, в то пространство, которое они занимают. Он всегда полагал, что во Вселенной есть глубинное единство, и теперь он еще на один шаг приблизился к тому, чтобы это единство описать.
Теория Эйнштейна об искажении пространства стала поворотным моментом в истории физики, но это лишь половина его открытия. Выявив воздействие, которое вещи оказывают на окружающее их пространство, он к тому же сумел понять и то, как это измененное (искривленное) пространство влияет на другие вещи, находящиеся поблизости.
Что происходит, когда батут прогибается? Искажения его геометрии заставляют объекты, оказывающиеся поблизости от прогиба, изменять свою траекторию. Шарик, который катится по провисающему батуту, не находится под действием какой-то загадочной силы со стороны камня. Он просто следует кратчайшим – со своей точки зрения – путем.
Идея интуитивно понятна. Создайте в каком-то месте искаженную геометрию, и в результате все движущиеся объекты, что окажутся неподалеку, будут следовать по новому пути, не объяснимому никак иначе. Мы уже видели: именно поэтому два недоумевающих финских конькобежца неизбежно будут все сильнее сходиться по мере приближения к Северному полюсу, ведь они катятся по двухмерной поверхности, которая обернута вокруг нашей трехмерной планеты. Вот почему два яблока, отпущенные в свободно падающей кабине лифта, начнут медленно сближаться друг с другом, если внизу имеется источник гравитации. Они движутся по трехмерному пространству, которое, по мысли Эйнштейна, должно как бы представлять собой искривленную поверхность невидимого для нас четырехмерного пространства, вокруг которого «обернуто» трехмерное. И бедный узник лифта, парящий между яблоками, просто видит, как они движутся вдоль этой кривой.
Эйнштейн радикально пересмотрел взгляды человечества на пространство. Итак, совершенно незачем воображать себе дополнительную силу – силу гравитации. Гравитация, по его мнению, – просто результат искривления пространства. Заснеженный Северный полюс вовсе не посылает какую-то незримую силу, которая тянет конькобежцев друг к другу. Если ничто не отталкивает их друг от друга, объекты всегда следуют по кратчайшим («наиболее прямолинейным») каналам, которые перед ними находятся. Более того, ни к чему даже представлять себе ледяной Север или падающий лифт. Поглядите, как серфингист взмывает на своей доске на несколько футов. Если бы мы не видели волны под ним, этот подъем казался бы нам величайшей загадкой – как и последующий спуск вниз. Но как только вы увидите воду, для вас все станет ясно.
Эйнштейн понял: и геометрия пространства, и движение объектов в нем определяются его искажениями, а причина этих искажений – сами же объекты. Если в пространстве ничего нет, то нет и никаких искажений: это неискривленный геометрический объект вроде совершенно ровной плоскости. Если же на этой «плоскости» появится хоть одна планета, обязательно возникнет некоторое искажение, поскольку планета заставит окружающее пространство «прогибаться». А если появятся десятки планет, возникнет еще больше искажений, поскольку все эти объекты будут воздействовать на окружающее их пространство.
Осознание этого феномена коренным образом изменило наше понимание самой ткани Вселенной. В 1816 году немецкий математик Гаусс писал: «Быть может, в другой жизни мы сумеем постичь природу пространства, которая сейчас для нас совершенно непредставима». Не прошло и столетия, как Эйнштейн это сделал. Оказывается, царство Вещей и Геометрия пространства, окружающего эти Вещи, вовсе не отделены друг от друга. Между ними существует глубинная взаимосвязь. Разместите где-нибудь гигантскую каменную глыбу (скажем, позвольте нашей планете Земля занять некое место в Солнечной системе) – и ее колоссальная масса вызовет прогиб пространства, достаточный для того, чтобы крепко прижать к поверхности людей, и яблони, и целые горные хребты; для того, чтобы направлять движение самолетов, и космических челноков, и даже далекой Луны. Именно так Солнце управляет движением Земли: оно словно бы прорыло вокруг себя незримую борозду, и мы по ней летим. Нам кажется, будто мы всегда движемся прямолинейно, но это лишь иллюзия, просто мы не в силах «отступить назад и увидеть» гигантскую кривую, вдоль которой скользим. Но Эйнштейну это удалось – он сумел разглядеть ее мысленным взором.
* * *
Символы порой точнее слов. Фраза «Масса и энергия вызывают прогиб пространства» – лишь очень грубое приближение. То, что написал Эйнштейн, можно (хотя и по-прежнему очень приблизительно) передать так: в некоем месте есть вещи, обозначим их как T (от английского Th ings). Возле себя они вызывают искажение геометрии. Обозначим эту искаженную геометрию как G.
Идея Эйнштейна (упрощенно изображаемая нашими картинками с батутом) состоит в том, что любое новое расположение вещей (Т) порождает новую геометрию (G) окружающего их пространства, и это изменение геометрии можно заметить. Предметы или части предметов, которые существуют в том или ином месте (будь то руки, горы или вспыхивающие солнечные протуберанцы), искривляют или смещают геометрию окружающего их пространства. Выражаясь языком символов, любое новое расположение Т порождает вокруг себя новую G, то есть T → G.
Простота этого объяснения ошеломляет, к тому же Эйнштейн сумел выразить его необычайно кратким уравнением. Как узнать, когда вещи собираются прийти в движение? Как предсказать характер движения объектов? Достаточно взглянуть на искаженную геометрию окружающего их пространства. Сокращая запись все сильнее, получим следующее:
Геометрия пространства (провисающий батут) управляет движением вещей
Геометрия управляет Вещами
G управляет T
G → T
G = T
А как определить, насколько искажено пространство? Достаточно посмотреть на вещи, которые в нем таятся. Снова прибегнем к череде все более кратких выражений:
Вещи искажают геометрию пространства (то есть нашего провисающего батута) вокруг них
Вещи искажают Геометрию
T искажает G
T → G
T = G
Каким необыкновенно симметричным оказалось уравнение, описывающее устройство Вселенной! В нем заключена почти вся ее структура и динамика – в этих двух уравновешивающих друг друга выражениях: Вещи искажают Геометрию, а Геометрия направляет Вещи. Используйте знак равенства для краткой записи всех этих операций, и вы получите всеобъемлющее G = T. На самом-то деле уравнение Эйнштейна выглядит чуть сложнее. Выражение G = T мы используем как метафору, но она вполне точна и отлично передает суть теории Эйнштейна.
Это было поистине потрясающее открытие. То, что казалось нам, нашему разуму странным и случайным (например, движение планет в космосе), на самом деле подчинено весьма ясным и строгим законам. А главное, человеческий разум способен во всем этом разобраться.
Эйнштейн всегда старался держаться скромно, рассуждая об этом уравнении, которое стало краеугольным камнем его общей теории относительности. Позже он заметил: «Когда после долгих лет поиска набредаешь на мысль, приоткрывающую завесу тайны над красотами нашей таинственной Вселенной, незачем требовать персональных лавров». Но в то время он не мог удержаться – в 1915 году он гордо написал: это открытие принесло ему «величайшее удовлетворение в жизни». А в письме своему верному Мишелю Бессо выразился еще откровеннее. «Сбылись мои самые дерзкие мечты», – сообщал он другу после того, как в ноябре 1915 года распутал эту загадку. В конце он подписывался так: «…поклон от твоего довольного, но kaput [зд.: измотанного] Альберта».
Часть III Слава
Эйнштейн и его вторая жена Эльза Ловенталь. (Берлин, начало 1920-х гг.)
Глава 9 Истинно или ложно?
Эйнштейн всегда полагал, что наша Вселенная наделена какой-то невидимой структурой, которую нам еще предстоит обнаружить, и что сия структура – эта космическая архитектура – должна быть очень простой, очень четкой, очень ясной. А что может быть проще, четче и яснее, чем идея, суть которой отражает уравнение G = T? Эйнштейновская теория пространства и гравитации просто не имела права быть неверной.
Сразу же после знаменательного ноября 1915 года Эйнштейн не выказывал никаких признаков сомнений в себе, но он отлично сознавал, что другие-то прежде очень даже сомневались в его открытиях. Его первые идеи насчет гравитации, родившиеся во времена его достопамятных размышлений в патентном бюро в 1907 году, оказали сравнительно небольшое влияние на мировую науку. И даже его пражские работы оставались по большей части делом частным. Но по мере того как ширилось признание Эйнштейна в кругах физиков, стало расти и сопротивление его работам в данной области. Когда в 1913 году он представил расширенную версию своих предварительных теоретических выкладок на венской конференции, казалось, вся аудитория, состоявшая из выдающихся университетских ученых, в едином порыве заявила, что он, конечно же, заблуждается. Эйнштейн пытался сохранять хладнокровие, но позже признался, что его это неприятие потрясло: «Коллеги соизволили обратить внимание на мою теорию… – вспоминал он, – лишь для того, чтобы растоптать ее». Даже Макс Планк, наиболее почитаемый ученый тогдашней Европы, питал сомнения по поводу его теории. Он писал Эйнштейну: «Как старший друг я должен посоветовать вам не публиковать [эту новую теорию]… Вы не добьетесь успеха, да вам никто и не поверит».
Эйнштейн сознавал, что ему нужно убедить коллег в справедливости теории, но больше всего, вероятно, ему требовалось убедить не других, а себя. Ньютоновская теория всемирного тяготения столетиями служила незыблемой основой научной мысли. В этой теории ничего не говорилось о каком-то искривленном пространстве. Эйнштейн признавался голландскому физику-теоретику Хендрику Лоренцу, одному из своих главных конфидентов, которого он почитал едва ли не как отца: «В моем деле остается столько серьезных неувязок, что моя уверенность в себе… колеблется».
Эйнштейн был еще сравнительно молод. Он только совсем недавно получил какое-никакое профессиональное признание. При помощи своей формулы G = T он пытался продемонстрировать невероятно смелую идею. В сущности, он пытался сообщить коллегам, что они, подобно обитателям Флатландии, не замечают, что живут в пространстве, где больше измерений, нежели они в состоянии непосредственно воспринять. По сути, он провозглашал, что открыл это новое измерение. Неудивительно, что к такому заявлению все отнеслись скептически.
Ему требовалось провести проверку – отыскать какой-то метод, позволяющий подтвердить существование этого «более высокого» измерения, которое нас всех окружает. Но как произвести проверку соотношения вроде G = T, кажущегося совершенно абстрактным?
В сущности, у него уже имелся один способ доказать справедливость теории. Дело в том, что благодаря своему новому уравнению Эйнштейн мог утверждать: планета Меркурий должна двигаться несколько иначе по сравнению с предсказаниями Ньютона. К сожалению, астрономы к тому времени уже и так знали, что Меркурий перемещается не совсем по Ньютону. И хотя до Эйнштейна никто не сумел этого объяснить, циники всегда могли заметить, что Эйнштейн исходил из этих известных фактов, а потом уже подогнал под них свою теорию.
Куда более впечатлило бы научную общественность, сумей он показать, что его новая теория предсказывает некое явление, в реальность которого никто не верил. Проверьте прогноз и убедитесь, что он справедлив. Уже в 1912 году, в Праге, Эйнштейн подумывал об этом. И понял: пожалуй, такое возможно!
* * *
Вспомним металлические шарики, бодро катящиеся по туго натянутому батуту. Скользя по плоским участкам, они двигались по стремительным прямым линиям. Приближаясь же к прогибу в центре батута (там, где его проминает небольшой камень, представляющий наше Солнце), эти шарики отклоняются в его сторону, покоряясь геометрии прогиба. Наше светило настолько массивно, что вызывает колоссальный «прогиб» в окружающем пространстве, вдоль которого и скользит Земля – подобно шарику в рулеточном колесе. И только сила, изначально увлекающая нашу планету вперед, препятствует тому, чтобы Земля при таком вращении столкнулась с Солнцем (рулеточный шарик все время норовит приблизиться к центру колеса).
Размышляя о том, как бы проверить свою теорию гравитации, Эйнштейн понял: такому воздействию кривизны пространства подвергаются не только планеты. Свет также может «изгибаться» под влиянием гравитации.
На первый взгляд это кажется невозможным. Нас учат: если посветить фонариком из корзины одного воздушного шара в корзину другого, свет всегда пойдет по прямой, и неважно, где находятся эти шары – высоко над пустынным Тихим океаном или близ Эвереста. Луч света всегда будет двигаться по прямой, он и не подумает отклоняться всего лишь из-за того, что рядом с ним высится массивная гора.
Однако, предположил Эйнштейн, представление о том, что свет движется всегда по прямым линиям, на самом деле только иллюзия, в основе которой лежит тот факт, что мы живем на планете со сравнительно слабой гравитацией. Если же мы сумеем заглянуть в области, где гравитация гораздо сильнее, у нас появится возможность обнаружить там, в таком пространстве, невидимые траншеи, изгибающие свет, который летит мимо них – или по ним.
Почему так должно происходить? Вернемся к простейшему мысленному эксперименту Эйнштейна, описанному выше, и слегка изменим его условия. Представьте себе, что вы очнулись в замкнутой кабине, не паря в ней, а ощущая силу, прижимающую вас к полу. Ситуация, опять же, неоднозначная. Она может означать, что вы благополучно приземлились на родную планету, ваше ужасное путешествие окончено и когда откроется люк, вы гордо выйдете навстречу ликующей толпе, которая вас с нетерпением ожидает. Однако может она означать и то, что вы находитесь в космосе, просто вашу кабину захватили космические пираты, прикрепили к ней крюк и теперь безжалостно тащат ее к своему кораблю [для вас это направление – «вверх»]. Если правильно подобрать ускорение пиратского корабля, вас будет прижимать к полу с той же силой, как и пассажира лифта, привычно едущего на первый этаж. Этот эффект нам знаком и по ситуации, когда машина, в которой мы сидим, внезапно разгоняется, и нас вдавливает в спинку кресла. Закройте глаза, не обращайте внимания на рев мотора и представьте себя на планете, чья мощная гравитация могла бы с той же силой прижимать вас к креслу.
Вернемся к нашему мысленному эксперименту. Если вашу кабину захватили пираты и вы все-таки ухитрились найти в ней иллюминатор, поднимите его металлическую крышку: может статься, в окошко ударит луч космического маяка с высокоразвитой планеты, как раз подвернувшейся на пути. Если вы не движетесь, то увидите, как луч проникает в иллюминатор и отражается от стенки – в точности напротив того места, куда он вошел. Но если ваши похитители ускоряют кабину, упорно волоча ее «вверх», то по мере того, как луч света будет пересекать кабину, она несколько сместится вперед, так что он будет ударять в противоположную стенку уже не строго напротив иллюминатора, в который проник: ему придется искривиться, ударив в стенку чуть ниже.
Эта вторая часть мысленного эксперимента отражает одно из основополагающих воззрений Эйнштейна, которое можно назвать наблюдательской демократией: убежденность в том, что в обычной жизни никто автоматически не заслуживает большего права, чем другие, и никакой наблюдатель не может сказать, что его точка обозрения некоего события автоматически «лучше», чем у всех прочих. В нашем мысленном эксперименте это означает, что при подходящем ускорении никто не в состоянии определить, тянут его (находящегося в кабине космического корабля) куда-то из одних космических далей в другие или же он неподвижно стоит в запертой комнате на Земле. Внутри одного такого помещения мы должны видеть точно то же, что видели бы внутри другого.
Как такое может быть? Сравним две ситуации: то, как мы видели бы космический маяк из стационарной кабины на Земле – и из кабины, захваченной пиратами и мчащейся в просторах космоса. В кабине, где вас прижимает к полу с силой 1 g (потому что вас влекут за собой злобные пираты), луч света изгибается по мере своего движения через помещение. В статичной кабине на Земле, где вас также прижимает к полу с силой 1 g (потому что Земля порождает «настоящую», «естественную» гравитацию), свет тоже должен бы изгибаться, проходя сквозь помещение. (Почему?
Если бы изгиб луча не был одинаков, вы сумели бы отличить эти два места, а мы условились, что это невозможно.)
На основе этого простенького мысленного опыта Эйнштейн сделал вывод: свет в гравитационном поле изгибается… причем точно так же, как если бы мы наблюдали его с какой-то ускоряющейся точки. А такое предположение он вполне мог проверить. Основная схема этого подхода брезжила в его мозгу в течение долгих лет, приведших к созданию общей теории относительности, хотя детали стали ему ясны, лишь когда в 1915 году он создал окончательный вариант теории.
Реальный эксперимент, который представил себе Эйнштейн, тоже отличался простотой – во всяком случае, по научным меркам. Требовалось просто найти какой-то объект колоссальной массы, достаточно крупный и тяжелый для того, чтобы создать в окружающем пространстве огромный прогиб, и затем останется лишь посмотреть, будут ли отклоняться от курса ускоряющиеся лучи света, пролетающие рядом, – подобно тому, как гоночный болид прижимается к внутреннему краю трека, входя в вираж. Эйнштейн предсказывал: наблюдая лучи света, видимые на периферии подобного массивного объекта, можно будет разглядеть и то, что находится за ним, – благодаря тому, что кривизна пространства, обусловленная гравитацией, перенаправит свет от «спрятанного» объекта в глаза наблюдателя.
Эйнштейну было ясно: в нашей Солнечной системе имеется для этого лишь один подходящий кандидат – само Солнце. Оно достаточно массивно, чтобы сильно искривлять пространство и, следовательно, оказывать заметное влияние на лучи света, проходящие рядом с этим светилом. Но обычно такой эффект засечь очень трудно. Если лучи и искривляются, то лишь ненамного – всего на какие-то доли градуса. В дневное время, когда мы привычно наблюдаем Солнце, его лучи и протуберанцы слишком ярки, чтобы дать нам возможность различить свет далеких звезд – свет, который может отклоняться, проходя близ нашего светила.
А вот во время полного солнечного затмения, когда Луна закрывает солнечный диск? Небо темное… но при этом Солнце по-прежнему висит над головой. По его краям вдруг становятся различимы звезды. И если их свет изгибается, мы могли бы это увидеть.
Эйнштейн придумал этот эксперимент еще тогда, когда пытался установить связь между G и T (он наконец установит ее в своей ноябрьской статье 1915 года). Впрочем, имеется причина, по которой Эйнштейн в конце 1915 года не сумел сообщить о результатах подобной проверки, официально представляя свою общую теорию относительности (с уравнением G = T в ее основе) на суд лучших умов Германии. Дело в том, что незадолго до этого Эйнштейн поручил тест своей теории амбициозному молодому астроному по имени Эрвин Фрейндлих, который впечатлил его как своими знаниями, так и готовностью помочь (недаром его фамилия в переводе с немецкого означает «дружелюбный»). Но Фрейндлих оказался поразительно невезуч, его неудачи были столь часты, что, можно сказать, почти опровергали теорию вероятностей.
Первым делом он предложил Эйнштейну не дожидаться затмения, а начать загодя – с анализа старых фотопластинок, хранящихся в Гамбургской обсерватории. Может быть, на них окажутся случайно запечатлены затмения, как раз отвечающие эйнштейновским условиям? В ответном письме Эйнштейн выразил согласие с такой идеей. Фрейндлих получил разрешение от директора обсерватории, принялся за просмотр и измерение… и обнаружил: хотя в архивах обсерватории великое множество фотопластинок, астрономы постоянно упускали возможность зафиксировать как раз те отклонения звездного света, которые могли бы доказать справедливость теории Эйнштейна и принести Фрейндлиху славу и почет.
Но герр Эрвин отличался несокрушимым оптимизмом. Может быть (вероятность мала, но кто знает?), далекие звезды удастся разглядеть в дневное время? И тогда, сделав нужные измерения, можно будет не дожидаться, пока дневное небо почернеет при затмении? Идея эта так его воодушевила, что он даже нарочно отправился в Цюрих, чтобы лично обсудить ее со своим новым другом Эйнштейном. К сожалению, дело происходило во время медового месяца Фрейндлиха, и его молодой жене пришлось вежливо высидеть эйнштейновскую лекцию по теории относительности, которую прилежно слушал ее муж, после чего они пообедали с Эйнштейном и затем втроем отправились на прогулку. Видимо, этот день показался юной фрау Фрейндлих очень долгим.
В течение нескольких недель после отъезда четы Фрейндлих неутомимый Эйнштейн успел сделать кое-какую проверку. Блеск Солнца и неба оказался в дневное время слишком ярким, и никакой телескоп (даже громадины, установленные на калифорнийской горе Вильсон, как подтверждал в своем письме директор тамошней обсерватории) не сумел бы выполнить предложенную Фрейндлихом операцию.
Следующая идея молодого энтузиаста казалась более удачной. Приближалось время полного солнечного затмения, причем не так уж и далеко – не в джунглях и не в арктических льдах, а в прекрасном Крыму, близ Севастополя. Там располагалась штаб-квартира военно-морского флота Российской империи, а значит, наверняка имелись рестораны и отличные отели. Будет где отметить триумф, когда они все-таки получат нужные изображения. В то время Россия и Германия уже много лет пребывали в мире, так что не было никаких причин считать, будто что-то может пойти не так.
Энтузиазм Фрейндлиха, рвавшегося подтвердить идеи Эйнштейна, внезапно натолкнулся на консерватизм ученых более почтенных лет, представлявших официальную астрономическую элиту Германии, а потому правительственные организации, которые занимались финансированием науки, совсем не стремились выделять на исследования требуемые суммы. Эйнштейн поражался их реакции – казалось бы, идея Фрейндлиха великолепна, а ведь на подготовку остается совсем мало времени! Он писал Фрейндлиху, что «если [до конца 1913 года] Академия не захочет нам помочь, мы привлечем частные средства… Если ничего не получится, я заплачу за это предприятие из собственных скромных сбережений… [но] приступайте не мешкая, заказывайте фотопластинки… Не тратьте время на финансовую сторону вопроса».
Сбережений Эйнштейна, однако, не хватало, но предприимчивый Фрейндлих сумел выбить кое-какие деньги из семейства Круппов, этих баснословно богатых и наводящих ужас на весь мир торговцев оружием. По всему миру продавались пушки и другое военное оборудование, произведенное на заводах Круппов. Их демонстративный патриотизм сделал их становым хребтом германской армии.
Во второй половине июля 1914 года Эрвин Фрейндлих прибыл в Крым, а несколько дней спустя грянула Первая мировая война. Германия и Россия оказались по разные стороны фронта. Фрейндлих, оснащенный чрезвычайно мощными телескопами, к тому времени уже разбил лагерь на природе, довольно близко от штаб-квартиры русского военно-морского флота. Трудно вообразить себе более подозрительную личность, да еще немца, особенно если учесть, что во всех его документах значилось: экспедиция осуществляется при поддержке фонда Круппа. Неудивительно, что Фрейндлиха и его помощников вскоре окружили русские солдаты. Его прекрасное оборудование, подготовленное с такой тщательностью и любовью, конфисковали. Как и было предсказано, 21 августа случилось затмение. Звезды безмятежно сияли вдали от яростных вспышек пушечных разрывов, гремевших по всей Европе, а Фрейндлих в тот день томился в русской тюрьме.
К счастью, сравнительно скоро Эйнштейну (вместе с другими доброжелателями) удалось его выручить в рамках обмена военнопленными. Конечно же, и тогда Фрейндлих не отчаивался. Выход есть: ему просто нужно самому создать больше возможностей для того, чтобы найти свежие доказательства! До ближайшего подходящего солнечного затмения несколько лет: слишком долго. Может быть, не зацикливаться на Солнце, а придумать, как измерить звездный свет, падающий в одну из невидимых гравитационных долин, которые должны существовать близ планеты Юпитер? Отклонение будет меньше, чем для звездных лучей, попадающих в большие пространственные кривые около Солнца (подобно тому, как мелкие камешки заставляют батут прогибаться слабее, чем здоровенные булыжники). Но Юпитер явно легче фотографировать для таких целей, чем Солнце.
Идея не такая уж безумная. Но когда Фрейндлих начал добывать нужное оборудование, директор Гамбургской обсерватории, где он работал, как видно, решил: «С меня хватит». Эйнштейн написал в министерство образования, прося его руководство преодолеть бюрократические препоны и оказать поддержку Фрейндлиху. Министр переправил эту просьбу директору обсерватории, а тот был не просто профессор, а еще и член Тайного совета, и очень гордился, что к нему полагается обращаться «Geheimrat», то есть, по сути, «Ваше превосходительство». Он явно не считал себя бюрократической препоной, которую нужно преодолеть. Фрейндлих же, по его мнению, был лицом низкого звания, сомнительной компетентности и с совершенно неприемлемым отношением к субординации. Директор весьма жестко и едко написал Эйнштейну: «Даже «множество изощреннейших измерений», произведенных опытными наблюдателями, не говоря уж о тех исследователях, которые не входят в эту категорию, не дадут сколько-нибудь полезных результатов и приведут лишь к неоправданной трате времени и усилий». (Надо полагать, язвительное замечание об «исследователях, не входящих в эту категорию» относилось не только к Фрейндлиху.)
Сопротивление со стороны начальника Фрейндлиха было лишь одной из целого ряда проблем. Годы шли, а война не утихала. Морская блокада, которой Британия подвергла Германию, становилась все суровее. Казалось, у Эйнштейна и его верного Фрейндлиха не было никаких возможностей провести задуманную ими астрономическую проверку, а у смелой теории Эйнштейна – никакого будущего, если только не найдется кто-то, кто ему поможет…
Глава 10 Полное затмение
В мае 1919 года подтянутый потный англичанин вышел из хижины на островке близ западного побережья Африки и с тревогой посмотрел на солнце. Приближалось солнечное затмение, но если гроза, идущая со стороны Конго, не свернет с пути, дорогостоящий телескоп и дорогостоящие фотоаппараты, которые он привез из Англии (морским путем, а затем по суше), окажутся бесполезными.
Он все равно велел помощникам установить аппаратуру, несмотря на моросящий дождь (он прикрыл линзы собственной курткой), – и не зря: всего за несколько минут до момента полного затмения тучи разошлись.
Край солнца сверкал нестерпимо ярко. Где-то на краешке этого сияния, как считало предыдущее поколение астрономов, располагалась быстро кружащая по своей орбите планета Вулкан. Такое предположение выдвинули из-за того, что с орбитой Меркурия было явно что-то не так. Ньютоновская теория тяготения предсказывала для Меркурия весьма четкую орбиту, но она не совпадала с наблюдаемой – даже после внесения поправок, учитывавших незначительное тяготение со стороны других планет Солнечной системы, способное сказываться на движении Меркурия. Дополнительная планета, вращающаяся на своей орбите даже ближе к Солнцу, чем Меркурий, как раз и могла бы (предполагали эти астрономы) объяснять «неправильный» путь Меркурия.
Однако другие исследования, проведенные с помощью телескопов, не обнаружили эту воображаемую неведомую планету.
Если большие фотопластины, которые подготовлены к установке в телескоп англичанина, покажут то, что он ожидает, то он получит убедительные доказательства, что планеты Вулкан не существует. И проделает он это не путем фиксации отсутствия Вулкана на пленке или фотопластинке, а собрав факты, которые, быть может, станут подтверждением теорий одного пока еще почти никому не известного немецкого физика-теоретика, добродушного берлинца, с которым он никогда не встречался, но работа которого как раз и сподвигла англичанина приехать на этот далекий остров.
Позже он подробно все описал, поэтому мы знаем, что было дальше.
Взгляд вверх. Тучи снова сгущаются. Придется быстро менять множество пластинок. Англичанин снова наклоняется, пытаясь не обращать внимания на полчища комаров. У него еще будет время поразмышлять об этой теории. Потом, когда он сделает снимки.
Если только фотоэмульсия выдержит тропическую жару.
* * *
В 1917 году коллеги кембриджского астронома Артура Стэнли Эддингтона оказались в затруднительном положении. Они хорошо знали его решительность и целеустремленность: эти его качества чувствовали на собственной шкуре все, кто пытался не отстать от него во время велосипедных поездок. Он был всегда элегантен и даже в таких случаях выглядел весьма прилично, заправляя безукоризненные брюки своего костюма в столь же безукоризненные гетры. Он колесил по сельским дорогам с почти безумным выражением лица, все быстрее и быстрее, долгими часами, оставляя своих спутников далеко позади.
Они знали, что решимость Эддингтона проявляется и в его религиозных воззрениях. Убежденный квакер, он принципиально не желал защищать Британскую империю во время мировой войны (которая все никак не кончалась), даже когда прошел уже не один год после ее начала. Многие кембриджцы погибали в битвах на континенте. В их числе оказался Генри Мозли, один из самых выдающихся молодых физиков университета, бессмысленно павший под огнем турецких пулеметов на полуострове Галлиполи. Эддингтону светило блестящее будущее – он мог стать ведущим или даже лучшим астрономом своего поколения, а потому коллеги не хотели, чтобы он повторил судьбу их безвременно ушедших собратьев.
Вот почему администрация Кембриджа попыталась добиться для Эддингтона разрешения не участвовать в боевых действиях и написала в министерство внутренних дел о том, что его, Эдингтона, вклад в науку, останься он в университете, лишь усилит военную мощь страны, но все пошло наперекосяк. Из министерства прислали Эддингтону документы об освобождении от призыва. Ему оставалось лишь поставить свою подпись. Он честно проделал это, а затем еще более честно приписал, что, будучи добрым квакером, он бы, не получив освобождения по перечисленным основаниям, требовал бы его по основаниям религиозного порядка. Один из современников вспоминал: «Этот постскриптум поверг министерство внутренних дел в логический ступор, ибо лицо, отказывающееся служить по религиозным мотивам, надлежало отправить в лагерь». Коллеги Эддингтона «очень возмущались».
К счастью для него (и для Эйнштейна), друзья Эддингтона придумали решение, которое не подразумевало ни боевых действий, ни лагерей для военных преступников. Впрочем, оно задействовало Германию, врага Британии, и те странные научные теории, что просачивались из этой вражеской страны даже в разгар противостояния.
Прямые контакты с немецкими учеными прервались после начала войны. Цензоры не любили курсирующие между двумя странами телеграммы, полные непонятных формул и наборов цифр. Британское общество неодобрительно относилось ко всему германскому, что иногда приводило к беспорядкам. Некоторые встревоженные эмигрантские семейства даже меняли фамилию. Но отрывочные сведения о новых идеях Эйнштейна все-таки проникали с континента через доверенных посредников в Нидерландах. Королевский астроном[6] сэр Фрэнк Дайсон, главный покровитель и заступник Эддингтона, не мог разобраться во всех деталях (и не был даже убежден, что теория справедлива), но он понимал, какой удачей будет, если именно кембриджский специалист подтвердит правоту этого странного немецкого ученого. В случае успеха Эддингтон не только сумел бы продемонстрировать, что наука способна преодолевать варварство войны: он сумел бы сохранить те немногие драгоценные связи, которые еще соединяли Британию и Германию.
Эддингтон в молодости (ок. 1914 г.)
Дайсон переговорил со своими знакомыми в Адмиралтействе и вместе с ними выработал соглашение, составленное столь хитроумно, что ему не смог бы противиться и самый истовый квакер. В тексте соглашения говорилось, что Эддингтону предстоит принять участие в важнейшей правительственной операции, так что ни при каких обстоятельствах он не может быть отправлен на фронт или даже помещен в лагерь. Получилось, что Эддингтон «добровольно» вызвался возглавить астрономическую экспедицию, дабы раз и навсегда выяснить, справедливы ли теории Эйнштейна.
Эддингтона это устраивало: ведь экспедиция должна была носить сугубо научный, а не военный характер. Возможно, он даже лучше Дайсона понимал, какое благотворное воздействие наука способна оказывать на общество в эти военные годы. Рут Фрай, современница Эддингтона, видный деятель английского квакерства, писала, что «человек, возглавляющий поход во имя исцеления ран страждущих и борьбы с разорением, вызванным войной, сильнее, нежели батальон вооруженных людей». Для Эддингтона было бы идеальным такое путешествие, предпринимаемое, по сути, для пропаганды взглядов мыслителя, работающего в столице той самой страны, которую Британия считала злейшим своим врагом. «Линии широты и долготы не замечают государственных границ», – писал Эддингтон. Охота на истину должна сплотить человечество.
И вот, посреди воюющей Британии, где ощущалась нехватка почти всех материально-технических средств (не только научного свойства) и где в окрестных морях рыскали смертоносные германские подводные лодки, он начал планировать, как преуспеть там, где потерпел неудачу помощник Эйнштейна – невезучий немецкий астроном Фрейндлих.
Эддингтон знал, что подходящее затмение должно произойти 29 мая 1919 года, и решил использовать его для проверки эйнштейновской теории. Каждое затмение можно наблюдать только из определенных областей земного шара. Майское соответствовало траектории, проходящей через Атлантику, от Северной Бразилии до Африки. Эддингтон и Дайсон спланировали две одновременные экспедиции: следовало попытаться попасть в городок Собрал, расположенный в бразильских джунглях, и на остров Принсипи – в португальскую колонию близ западных берегов Африки, рядом с экватором. Обе точки находились на пути затмения.
Никто, даже лондонская компания «Ллойд», занимавшаяся, в частности, страхованием судов, не мог предоставить сведений о каких-либо пароходах, отправляющихся непосредственно на Принсипи, так что второй команде предстояло найти способ подобраться к пункту назначения как можно ближе, а затем уже разрабатывать дальнейший маршрут, надеясь, что они сумеют как-то достичь цели. К тому же при ограниченности средств, отпущенных Эддингтону, в эти две экспедиции сумели отправить лишь четырех англичан: двух коллег Эддингтона – в Бразилию, а на остров Принсипи – собственно Эддингтона и мистера Э. Т. Коттингема, одаренного инженера из Гринвичской обсерватории (этого молодого человека Эддингтон выбрал сам).
К участию в подобных экспедициях иногда привлекали и иностранных экспериментаторов, чтобы они помогали исследователям из страны-спонсора, но в данном случае один иностранный кандидат явно отпадал: война не прекращалась, поэтому не могло быть и речи о том, чтобы взять Фрейндлиха. Даже после того, как в ноябре 1918 года воюющие стороны подписали перемирие, такое межгосударственное сотрудничество оказалось бедным ученым не по карману. Сам Фрейндлих наверняка понимал, что май 1919-го предоставляет ему, по сути, последний крупный шанс, поскольку при его жизни уже не случится другого затмения, при котором Солнце оказалось бы на пути лучей от столь плотного звездного скопления. Поскольку почти всю корреспонденцию между Германией и Великобританией по-прежнему пресекали, Фрейндлих чуть ли не до самой весны питал надежды, что его все-таки пригласят участвовать в одной из британских экспедиций, ведь он сносно говорил по-английски, к тому же мог заручиться рекомендацией самого Эйнштейна. Но к февралю 1919-го уже стало абсолютно ясно, что этого не произойдет, – англичане не возьмут его ни в одну, ни в другую экспедицию.
* * *
В Англии подготовка к этим двум экспедициям поначалу тянулась нестерпимо долго, но война понемногу заканчивалась, и дело набирало обороты. Невозможно добиться, чтобы изготовители [инструментов, произвели для нас хоть что-нибудь до заключения перемирия», – писал Эддингтон. И наконец, уже в ноябре, боевые действия все-таки прекратилась. У астрономов оставалось всего три месяца на подготовку к экспедиции. Незадолго до того, как ее британские участники покинули Англию, один астроном (некий отец А. Л. Корти, первоначально записавшийся на бразильский этап исследований, но затем не сумевший принять в нем участие) предложил, чтобы ученые взяли с собой, помимо основного оборудования, еще и сравнительно компактный четырехдюймовый телескоп – как запасной вариант, на случай, если что-то пойдет не так. Эддингтону и его коллегам и без того предстояло везти множество всяческих устройств, но Корти настаивал, так что прибор в итоге все-таки оказался в багаже группы, следовавшей в Бразилию.
В феврале 1919 года, надежно упаковав телескопы, ящики, брезент, зеркала, сигареты, два метронома и другие необходимые вещи (в том числе, несомненно, немалое количество чая), четверо исследователей нашли в ливерпульском порту корабль «Ансельм». После недолгих переговоров он поступил в их полное распоряжение. Как выяснилось, корабль особенно хорошо подходил для плавания в опасных водах, лишь недавно очищенных от германских подлодок. Итак, исследователи отплыли из Англии 8 марта 1919 года.
Близ Мадейры, португальского острова у берегов Марокко, две группы разделились. Одна поплыла в Бразилию, а другая, направлявшаяся на Принсипи, осталась на берегу: Эддингтон искал попутный корабль. Поиски заняли почти месяц. Коттингем томился скукой, но Эддингтон, хоть и, увы, лишенный велосипеда, использовал время вынужденного досуга для походов по окрестным горам, а кроме того, он захаживал и в местное казино. Матери он писал, что посещает это заведение отнюдь не из-за азартных игр, просто там подают неплохой чай. Если бы Эддингтон все-таки решился сыграть, его математическая сноровка наверняка существенно укрепила бы финансовые активы экспедиции.
И вот в начале апреля они наконец нашли транспортное средство, которое должно было доставить их на юг, в тропики. Мир оправлялся после войны, но слишком медленно. Покидая гавань португальской Мадейры, наши путешественники видели затонувшие корабли, чьи перекрученные металлические мачты торчали из воды, горестно наклонившись. В открытом море их не извещали ежедневно о положении судна, поскольку, несмотря на перемирие, мирное соглашение с Германией пока не подписали, и война формально продолжалась.
Дайсон не до конца понимал новую идею Эйнштейна, но он достаточно разбирался в сферической геометрии, чтобы в своем гринвичском кабинете вычертить примерный маршрут, каким должны следовать Эддингтон с Коттингемом. Маршрут сей тоже демонстрировал прогресс, которого достигли геометры. Будь Земля плоской, прямой путь от Мадейры до Принсипи оказался бы куда короче. Но его не существовало, а потому приходилось смириться с более длинным – следуя искривленной поверхности нашей планеты.
Эддингтон тоже это знал. Но поскольку Земля велика, то, если смотришь с корабля и находишься очень близко от поверхности моря, всегда кажется, что горизонт прямо по курсу, и колеблется он, лишь когда волны слегка поднимают и опускают судно. Неприятно пахло сжигаемым топливом. Моторы толкали их все вперед и вперед. Тянулись тоскливые дни. И наконец Эддингтон отметил в своем дневнике: «Утром 23 апреля впервые увидели Принсипи».
Остров стремительно вырос перед ними. В центре, над горами высотой в полмили, ползли тяжелые массы туч. Повсюду виднелись густые леса. Кое-где бурные волны бились о подножия утесов, иные из которых вздымались на пять сотен футов. Но имелись и пещеры, проточенные морской водой в вулканической породе. В одной из таких бухточек они попытались пристать к берегу.
Температура здесь составляла около 27 °С: от экваториальных тропиков невольно ждешь большего. Зато здесь было очень влажно. Путешественники прибыли незадолго до конца сезона дождей, и над островом часто гремели мощные грозы. В промежутках между ними воздух кишел комарами. Эддингтону с Кот-тингемом приходилось, несмотря на жару, оставлять как можно меньше открытых участков тела, иначе эти противные насекомые им не давали спокойно работать. Ученые ежедневно принимали хинин, а еще они велели местным рабочим выстроить хижины, которые были хотя бы частично водонепроницаемы, и постоянно отпугивали обезьян (иногда – винтовочными выстрелами). Все говорило о том, как далеки они от родины. Особенно остро они почувствовали это, когда один из островных плантаторов пригласил их к себе на обед и небрежно выставил на стол, в виде угощения, несколько полных сахарниц. Из-за жестких ограничений на продукты, введенных в военное время, англичане уже пять лет почти не видели сахара.
Прошло чуть больше трех недель после их прибытия, и вот наконец настал решающий момент: пора было готовиться к затмению. Основные ливни прекратились несколько дней назад, но в виде дополнительной меры предосторожности исследователи отодвинулись как можно дальше от горного массива, занимавшего центральную часть острова, и выбрались на высокое плато на его северо-западной оконечности. Внизу, в сотнях футов, у отвесного утеса, где они расположились, бушевали волны Атлантики. Лес тут оказался настолько непроходимым, что на протяжении последнего километра оборудование тащили на себе местные носильщики: навьюченные мулы здесь пройти уже не могли. Наконец исследователи нашли подходящую поляну, откуда им и предстояло вести наблюдения, ради которых они сюда прибыли.
А потом наступило 29 число.
Эддингтон записал все подробности, невозмутимо занеся в дневник утренние метеорологические данные: «Утром очень сильная гроза примерно с 10 до 11:30. Для этого времени года событие необычное». Затем Солнце появилось на несколько минут, но потом снова собрались тучи. Ученые еще несколько раз ловили обнадеживающий проблеск Солнца. К двум часам летучие облачка лишь слегка закрывали его.
Оставалось не больше 5 минут до полного затмения (по астрономическим прогнозам, оно должно было достигнуть максимума в 14:13:05). Эддингтон наверняка твердил про себя, что облакам, закрывающим Солнце, следовало бы поскорей убраться. Если Эйнштейн прав, Солнце уже сейчас искажало пространство над головами исследователей – подобно нашему камню на туго натянутом батуте, – так что лучи света, идущие от далеких Гиад (так называется одно из звездных скоплений), должны были довольно сильно изгибаться, пролетая по этому искривлению. Подходя к Солнцу, свет от этих звезд уже прошел бы триллионы миль. Но если его заслонят облака, плывущие всего в нескольких сотнях футов над телескопом Эддингтона, он никогда не сумеет ничего доказать.
Коттингем привел в готовность метроном (важнейший прибор для этих исследований). Вот до начала полного затмения остается 58 секунд, сообщал он Эддингтону, вот 22 секунды, 12 секунд. Когда исчезла последняя видимая полоска солнца и лес вокруг их поляны погрузился в почти полную темноту, он выкрикнул: «Давай!». Эддингтон уже держал наготове первую фотопластинку и теперь быстро вставил ее в щель – как можно более плавно, чтобы не трясти телескоп. Коттингем продолжал отсчет, давая сигнал на каждой десятой и двенадцатой секунде, чтобы Эддингтон знал, когда вынимать очередную пластинку (следовало соблюдать определенное время экспонирования).
Эти пять минут стали большой нервотрепкой для обоих, а когда наблюдение закончилось, команда пребывала в мрачном настроении. Эддингтон вспоминал: «Нам приходилось выполнять фотографирование, по сути, вслепую». Поскольку ему требовалось постоянно менять пластинки, он почти не видел собственно затмения. Один раз, примерно в середине этого периода, он взглянул на небо, чтобы оценить степень облачности. В итоге они сделали 16 снимков, но из-за сравнительно сильной облачности было пока не ясно, пригодны ли какие-то из этих фотографий для дальнейшей работы. Все были разочарованы. А чуть позже, буквально через несколько минут после окончания полного затмения, словно дразня исследователей, небо совершенно расчистилось.
Однако нужно было заняться обработкой полученных снимков. Проявляли шесть ночей, по два за ночь, а днем пытались обнаружить на проявленных пластинках те смещения звезд, за которыми они сюда приехали. Но из-за облачности результаты оказались во всех смыслах туманными. Никакой уверенности в том, что им удалось подтвердить предсказания Эйнштейна, не было.
В телеграмме, которую Эддингтон поручил отправить с Принсипи Дайсону, он изложил максимум того, что считал возможным: «СКВОЗЬ ОБЛАЧНОСТЬ ТЧК ЕЩЕ НАДЕЮСЬ ТЧК ЭДДИНГТОН». Но прежде чем он завершил тщательные измерения возможных смещений (эффекта, который проявлялся бы на его фотопластинках как сдвиг на доли миллиметра – немногим больше, чем на толщину человеческого волоса), им пришлось покинуть остров. Один из плантаторов сообщил, что, по слухам, намечается пароходная забастовка. «Нам не хотелось торчать на острове несколько месяцев, поэтому пришлось вернуться ближайшим же судном», – вспоминал Эддингтон. Морское плавание могло повредить проявленные фотопластинки, но исследователи уже и так слишком много времени провели вдали от Кембриджа.
Если Эддингтона после возвращения в Англию и опечалили результаты его исследований, он мог утешаться хотя бы тем, что и другой группе нелегко дались необходимые измерения. Экспедиция, посланная в Бразилию, добралась до родных берегов позже. Со своим большим телескопом ученые испытали еще большее разочарование. Правда, небеса над ними были достаточно чистыми, да и условия наблюдений – гораздо лучше, чем на острове Принсипи, терзаемом непогодой. Для перевозки оборудования пришлось использовать чуть ли не первый автомобиль, который местные жители видели в этой части Бразилии. Вскоре исследователи аккуратно разместили свои приборы на подходящей плоской поверхности – беговых дорожках Собралского жокейского клуба. Для проявки пластинок имелась в наличии прохладная (пусть и не холодная) вода. В дни накануне 29 мая заинтересованные местные жители даже выстраивались в очередь, чтобы купить билетик, дающий право заглянуть в телескоп.
Но и тут исследователям природа устроила козни, на сей раз помешала безоблачность небес. Они находились всего в 40 от экватора, было ужасно жарко, вследствие чего повредился телескоп, что уменьшило точность наблюдения. В своих заметках ученые писали о проявке фотопластинок, экспонированных в тот день. Их уже тогда мучили дурные предчувствия, что наблюдения могут оказаться неудачными: «3:00… При съемке произошел серьезный сдвиг фокуса, звезды видны, но разрешение слишком мало. Сдвиг фокуса можно объяснить лишь неравномерным расширением зеркала телескопа под действием солнечного нагрева…»
Главный телескоп не помог бразильской экспедиции. Но отец Корти не зря настаивал на том, чтобы они захватили с собой еще и четырехдюймовый. Руководствуясь в том числе и просто чувством долга, бразильская группа все-таки вставила набор запасных пластинок в плоскость идеальной фокальной точки этого небольшого оптического прибора. Они-то и принесли самые удачные результаты всего проекта – лучше, чем полученные на тяжелом телескопе, установленном в жокейском клубе, и лучше, чем полученные на столь же внушительном эддингтоновском телескопе, с таким трудом привезенном из Англии и водруженном высоко над Атлантикой, на диких скалах Принсипи.
Анализируя эти пластинки, Эддингтон и его кембриджские ассистенты действовали по отдельности, независимо друг от друга, чтобы исключить влияние индивидуальных особенностей работы каждого специалиста. Две из островных пластинок оказались все-таки не столь неудачными, как он опасался, так что он сумел включить в итоговый отчет и данные, полученные на Принсипи. Все это время они знали, что Эйнштейн в своих заключительных расчетах 1915 года дал такую оценку: свет, идущий от далекой звезды, будет при прохождении мимо Солнца смещаться на очень малую величину – по сравнению с тем, как бы этот луч проходил, будь на этом месте не Солнце, а неискривленное пространство. Вытяните руку с оттопыренным мизинцем: ширина мизинца составит примерно один угловой градус. Астрономы делят градус на 60 угловых минут, а каждую угловую минуту – на 60 угловых секунд. Эйнштейн предсказал, что звездный свет, проходя мимо Солнца, отклонится всего лишь на 1,70 угловой секунды (это записывают как 1,70") по сравнению с тем, как он проходил бы через пустое неискривленное пространство. Это меньше, чем самая крошечная царапинка на вашем мизинце. Такие изменения трудно обнаружить. Подтвердят ли результаты экспедиций прогнозы Эйнштейна – или же они раз и навсегда похоронят его смелую теорию?
* * *
Дайсон и Эддингтон любили драматические эффекты, а потому планировали держать результаты в секрете, пока не соберут подходящую аудиторию. Многие ученые, до которых уже дошли самые разные слухи об экспедициях, очень стремились выяснить, что же там случилось на самом деле. Эйнштейн (который потом делал вид, будто и так знал, что его правота подтвердится) с фальшивой непринужденностью написал из Берлина своему другу-физику, жившему в Нидерландах: «Ты там случайно не слышал о недавних английских наблюдениях солнечного затмения?»
В ноябре 1919 года, примерно через полгода после затмения, Эддингтон был уже готов сделать официальное сообщение. Условились, что его доклад пройдет на совместном заседании Королевского научного общества и Королевского астрономического общества, в величественной обстановке Берлингтон-хауса на лондонской Пикадилли – в особняке, где размещались штаб-квартиры обоих обществ. На карту было поставлено многое. Ведь вскоре мир узнает, опровергнуты ли теории Ньютона (больше двух столетий царившие в науке), или же странные предсказания швейцарско-германского теоретика по фамилии Эйнштейн не заслуживают никакого внимания. Общий ажиотаж подогревался еще и тем, что сам Ньютон некогда являлся председателем Королевского научного общества и его незримое присутствие по-прежнему сильно ощущалось в рядах достойнейших ученых, пришедших в тот день послушать доклад Эддингтона.
Чай, как всегда, подали в четыре. Придерживаясь английского этикета, гости изо всех сил делали вид, будто нисколько не волнуются по поводу того, что должно вот-вот произойти. Наконец, примерно в половине пятого, пришло время начинать. Фрэнк Дайсон прошествовал к трибуне. Философ Альфред Норт Уайтхед, один из тех, кто присутствовал на том историческом собрании, позже говорил: «Атмосфера напряженного интереса заставляла вспомнить какую-то греческую драму… В самой постановке выступления виделось нечто театральное: подчеркнуто традиционное действо, портрет Ньютона на заднем плане, призванный напомнить нам, что величайшее из научных обобщений теперь, по прошествии более чем двух столетий, может получить первое серьезное уточнение. Чувствовался неподдельный личный интерес собравшихся. Казалось, великое путешествие мысли наконец-то пришло к своему благополучному завершению».
Заговорил Дайсон, затем – руководитель экспедиции в Бразилию. Наконец пришел черед Эддингтона огласить общие результаты двух экспедиций, итоги более чем года работы. От них зависело, тщетны или нет многолетние усилия Эйнштейна.
Окажись Эйнштейн в этом зале, он был бы разочарован. Предсказанное Эйнштейном отклонение, объявил Эддингтон, составляло 1,70". Самые достоверные результаты, полученные в ходе обеих экспедиций, дали значение 1,60" ± 0,15". Дайсон выразился просто: «После тщательного изучения пластинок я готов заключить: они полностью подтверждают предсказание Эйнштейна», – предсказание, согласно которому свет будет искривляться, проходя близ Солнца. Эти новейшие научные результаты стали доказательством открытой Эйнштейном геометрической схемы того, как достаточно массивные Вещи искривляют пространство, причем настолько, что мы в состоянии это заметить.
Тем не менее одного из собравшихся сказанное Эддингтоном не убедило, и он, указав на портрет Ньютона, заявил: «Мы должны чтить память этого великого человека и лишь с большой осторожностью предпринимать попытки как-либо изменить его закон всемирного тяготения». Однако официальный председатель собрания (пожилой нобелевский лауреат Дж. Дж. Томсон, первооткрыватель электрона) в своем заключительном слове поддержал Эйнштейна: «Это самый важный результат, полученный применительно к теории гравитации со времен Ньютона, – объявил он собравшимся. – Это… плод одного из величайших достижений человеческой мысли».
А между тем автора «одного из величайших достижений человеческой мысли» по-прежнему никто в широких кругах общественности не знал, зато научная элита наконец-то отдала ему должное: его теория была официально признана и высоко оценена. А скоро и весь мир узнает это имя – Альберт Эйнштейн.
Интерлюдия 2 Будущее и прошлое
Десятилетие спустя после своей эпохальной экспедиции на Принсипи Эддингтон сидел перед камином в общей комнате для преподавателей кембриджского Тринити-колледжа. Рядом с ним в креслах устроились Эрнест Резерфорд, в ту пору возглавлявший лучшую физическую лабораторию университета, и несколько других ученых. В разговоре всплыла тема славы, публичной известности. И тогда один из молодых преподавателей задал вопрос: как так получилось, что всего за считанные годы Эйнштейн получил такое широкое признание общественности, между тем мало кто из неспециалистов слышал имя Резерфорда, невзирая на его Нобелевскую премию. В конце концов, Резерфорд столько сделал для исследования структуры атома!
«Это ваша вина, Эддингтон», – шутливо заметил Резерфорд.
Не все сразу поняли, что он имеет в виду. Впрочем, многие (в том числе один талантливый молодой индиец, который позже и рассказал об этом случае) знали, что отлично срежиссированное выступление Эддингтона в Королевском научном обществе в ноябре 1919 года несомненно повлияло на репутацию Эйнштейна, но почему этот эффект стал столь ошеломляющим?
Они откинулись на спинки своих уютных кресел, и Резерфорд снова заговорил, на сей раз гораздо серьезнее. Когда Эддингтон объявил о своих результатах, как раз только закончилась война, произнес он. Астрономия всегда владела воображением публики. Теперь же публика прослышала, что астрономическое предсказание одного немецкого ученого подтвердили британские экспедиции в Бразилию и Западную Африку, причем эти поездки готовились еще во время войны между Британией и Германией. А значит, гармония возможна. Возможен истинный мир. Открытие «отозвалось во многих душах», заключил Резерфорд. «А потом тайфун известности пересек Атлантику».
И в самом деле, то был настоящий тайфун. После сенсационного заседания двух Королевских обществ с Эйнштейном произошло нечто невиданное, невообразимое – по крайней мере, для тогдашнего времени.
Началось с прессы (сегодня такое случается частенько). Лондонская Times скромно воздержалась от каких-либо сообщений на сей счет, но ее соперницы по ту сторону Атлантического океана повели себя иначе. Хотя у New York Times имелись в Англии превосходные корреспонденты, они сумели срочно направить в лондонский Берлингтон-хаус лишь Генри Крауча, своего главного специалиста по гольфу. Крауч предполагал, что в Британии он будет проводить время лишь на поле Сент-Эндрю и других столь же заманчивых площадках. Он первым признал бы, что отнюдь не является специалистом по математике четырехмерного пространства-времени. Впрочем, Крауч, настоящий журналист, понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее, и его энтузиазм долетел до ведущих авторов New York Times. И вот, всего через 6 дней после исторического заседания, эта уважаемая американская газета извещала своих многочисленных читателей:
НЕБЕСНЫЕ ОГНИ НАБЕКРЕНЬ
Ученые мужи поражены результатами наблюдения солнечного затмения
ТРИУМФ ТЕОРИИ ЭЙНШТЕЙНА
Звезды – не то, чем они кажутся, наши расчеты неверны, но волноваться незачем
КНИГА ДЛЯ ДЮЖИНЫ МУДРЕЦОВ – больше никому в мире не понять это, сказал Эйнштейн, отдавая рукопись отважным издателям
Впечатляюще, но неверно. Звезды остались на тех же местах, что и предсказывал Эйнштейн: собственно, в подтверждении этого факта и состояла главная цель двух экспедиций. Крауч ни разу не говорил с Эйнштейном и сам придумал мнимую цитату о том, что новую теорию способны понять лишь «дюжина мудрецов».
Но все это не имело никакого значения. Резерфорд оказался прав, когда говорил о том, что людям нравится гармония в международных отношениях, которую и продемонстрировала экспедиция Эддингтона. После Первой мировой войны нашлись и другие примеры гармоничного международного сотрудничества (в области географических исследований и медицины), но в ту пору лишь Эйнштейна торжественно везли в открытом автомобиле перед десятками тысяч ликующих американцев; лишь ради него огромные лекционные аудитории Праги и Вены заполнялись за несколько часов до прихода ученого; лишь его так осаждали охотники за автографами на кинопремьерах. В Берлин, где он тогда жил, ему постоянно приходили письма, сотни писем, а потом – тысячи. Однажды ему даже приснилось, будто он задыхается из-за того, что «почтальон с криками кидает в меня груды посланий».
Тут сыграли свою роль демократизм, а также приветливость и непринужденность Эйнштейна, так контрастировавшие со снобизмом представителей высших классов, руководивших миром в годы Первой мировой. Репортеры с наслаждением рассказывали такую – конечно же, – правдивую историю: когда Эйнштейну предстояло выступить с официальным обращением в Венском университете, делегация, прибывшая на вокзал, дабы торжественно встретить ученого, никак не могла дождаться, пока великий человек выйдет из купе первого класса. Но вдруг (отголосок визита Макса фон Лауэ в патентное бюро в 1907 году) они увидели вдали знакомый силуэт. Выдающийся физик спокойно шел по платформе в полном одиночестве, покинув вагон третьего класса, в котором предпочел ехать: в одной руке футляр со скрипкой, в другой – вересковая трубка и чемодан.
Но его слава имела и более глубокие причины. Одна из них – в том, что взгляд на звезды в чем-то сродни взгляду на нечто божественное, недаром в обоих случаях смотрят вверх. Человечеству всегда хотелось постичь пути Господни: понять, отчего возникает хаос и каков его глубинный смысл (нам хочется верить, что такой смысл существует). Мир был убежден: именно это открыл некий тихий и задумчивый швейцарско-немецкий физик.
А главное, слава Эйнштейна в каком-то смысле явилась результатом страшного потрясения, которое только что перенес мир. Во время войны погибли миллионы. Множество семей потеряли отца, сына, брата. В обществе ощущалось отчаянное желание найти способ как-то вернуть утраченное. Набирали популярность спиритические сеансы, хотя постоянно выяснялось, что их проводят шарлатаны. Да, любой медиум мог оказаться не заслуживающим доверия, но как же мучительно было думать, что умершие окончательно покинули наш мир, что с ними нельзя установить контакт, что из потустороннего мира не долетает даже шепот. В новую эпоху такая связь казалась более вероятной, чем прежде: на кухнях и в гостиных начали появляться большие электрические устройства – первые радиоприемники. Посредством этих приборов удавалось расслышать голоса, волшебным образом преодолевавшие огромные расстояния. Может быть, сигналы из потустороннего мира тоже незримо странствуют по миру нашему, ожидая лишь случая, чтобы мы услышали их?
Казалось, работы Эйнштейна сулят и это, ведь он показал, что, по крайней мере, некоторые формы путешествий во времени явно возможны. До Эйнштейна считалось само собой разумеющимся, что мы живем в трех измерениях, а более или менее отдельно от них (так сказать, под прямым углом) лежит четвертое измерение – время, сквозь которое мы равномерно движемся, с неизменной скоростью, все вперед и вперед. Однако ход эйнштейновских рассуждений, приводящий к предсказанию о том, что вблизи Солнца свет звезд искривляется, предсказывал и то, что время тоже «искривляется» – в зависимости от мощи окружающей его гравитации. Обычно мы этого не замечаем, поскольку соответствующие эффекты почти не заметны в сравнительно слабом и однородном гравитационном поле, окружающем нас на Земле, притом, что мы передвигаемся со скоростями значительно меньше световой. Эйнштейн вовремя открыл эту нежданную истину.
А экспедиция Эддингтона успешно подтвердила ее. Теперь все знали, что это правда. Получалось, что при определенных условиях некоторые из нас способны мчаться в будущее, двигаясь сквозь время быстрее, чем остальные.
Отсюда, из этих открытых Эйнштейном особенностей природы, вытекают странные следствия. Представьте, что будет, когда наш узник замкнутой кабины, похищенный космическими пиратами и с высокой скоростью увлекаемый ими по галактике, наконец освободится. Путешественник жил во времени, которое с его точки зрения двигалось медленнее, чем для его спасителей. А те, в свою очередь, жили во времени, которое с их точки зрения шло быстрее, чем у путешественника. Разумеется, если они поспешат освободить пленника, вряд ли успеет накопиться заметная разница. Но если пираты протаскают его за собой по всей галактике, прежде чем узника наконец освободят благородные герои, вполне может оказаться, что эти герои успели постареть на десятки лет, тогда как для бывшего узника, подвергавшегося достаточно большим ускорениям, прошло лишь несколько дней. Если в ходе путешествия он переживет по-настоящему огромное ускорение, может оказаться так, что в момент своего спасения он постареет всего на неделю, тогда как его спасители, когда-то отправившиеся ему на выручку, к этому моменту давно успеют состариться и умереть, и его спасут их далекие потомки.
И то были не какие-то абстрактные представления и недоказанные утверждения. Эйнштейн продемонстрировал, что этот эффект сказывается не только на нашей измерительной аппаратуре, но и на самой реальности. Звездный путешественник может вернуться спустя два-три «своих» года (для него пройдет именно столько) еще вполне молодым человеком, однако на Земле за это время пройдут тысячелетия, и все, кого он знал, его родственники и друзья, давно умрут. А может, умрет и сама цивилизация, которую он некогда покинул.
Если бы эти эффекты удалось усилить так, чтобы мы замечали их даже при обычных для Земли скоростях и гравитационных полях, кто-нибудь, спешащий на своей машине в тренажерный зал, провел бы в этой поездке всего минуту (по своим измерениям), тогда как друзья, поджидающие его в пункте назначения, наблюдали бы, как он едет полчаса (по их времени). Родители, которые могут себе позволить снять квартиру на верхнем этаже высокого небоскреба (где гравитация слабее), старели бы гораздо медленнее, чем дети, которых они отдали в школу-интернат на уровне земли. Родители провели бы у себя наверху лишь неделю, а за это время дети успели бы пройти через все изнурительные годы от первых младенческих шагов до выпускного вечера.
Именно такого рода результаты стали причиной озадаченных, а порой и откровенно раздраженных откликов вроде замечания видного ученого и деятеля сионистского движения Хаима Вайсма-на: «Эйнштейн неделями растолковывал мне свою теорию относительности, и в конце концов я убедился, что он ее понимает». Но результаты Эддингтона показали, что эта теория странным образом оказывается верной. Свет далеких звезд огибает Солнце не только из-за того, что прогибается само пространство. Тут играет роль и то, что время тоже движется с разной скоростью. (Это трудно себе представить. Вообразите, что идущий к нам звездный свет состоит из параллельных лучей, которые мчатся к нам, словно несколько бегунов, стартовавших одновременно. Бегущим по внешней дорожке потребуется больше времени, чтобы преодолеть нужную дистанцию, поэтому траектория таких спортсменов искривляется, вот почему и весь ряд бегунов начинает изгибаться.)
Далеко ли можно зайти в таких рассуждениях? Тот факт, что при наличии подходящей технологии мы способны ускориться, оказавшись в будущем раньше срока, впечатляет. Но после войны многие предпочли бы иметь возможность путешествовать в другом направлении – в прошлое: если и не для того, чтобы вернуть умерших, то хотя бы для того, чтобы провести с ними еще какое-то время, пусть даже один последний час, прежде чем пуля или снаряд оборвут их жизнь.
Хотя ряд недавних разработок последователей Эйнштейна дает основания предполагать, что такое путешествие тоже может оказаться реальным, сразу после эддингтоновской экспедиции ни один физик, даже сам Эйнштейн, не понимал, каким образом это осуществить. Впрочем, они уже тогда признавали: есть еще один вариант, еще одно утешительное применение эйнштейновской теории. Это не совсем путешествие в прошлое, но и не совсем признание того, что умершие окончательно для нас потеряны.
В доэйнштейновском мире все полагали: два события, которые один наблюдатель воспринимает как одновременные, конечно же, должны оказаться одновременными и для всех остальных. Однако Эйнштейн показал: это не так. Даже через несколько лет после того, как – в нашем счете времени – кончилась Первая мировая, за пределами нашей Галактики оставались места, с «чьей» точки зрения все эти бессчетные трагедии на полях сражений еще не произошли.
И это не особенность измерительного процесса и не фантазия мистиков, как в блейковких строках «И Прошлое, и Настоящее, и Будущее – / Всё зрю я пред собой единовременно». Окажись мы в одном из таких отдаленных мест прямо сейчас, мы тоже попали бы в то время, когда наш застреленный друг или родственник был еще жив. Трудность в том, что для попадания в такие места потребуются столь немыслимые скорости и ускорения, что (как показывают уравнения Эйнштейна) мы туда не доберемся, поскольку попросту никогда не сумеем двигаться с нужной быстротой.
Но само знание о том, что такое в принципе возможно, пусть даже и чисто теоретически, утешило многих, в том числе и самого Эйнштейна. Много лет спустя, когда умер Мишель Бессо, давний его друг, а сам семидесятишестилетний Эйнштейн страдал от сердечных и других недугов, он, отлично сознавая, что близится и его собственный конец, написал родным Бессо: «Он оставил наш странный мир чуть раньше меня. Однако это ничего не значит. Для нас, правоверных физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим – лишь назойливая иллюзия».
Конечно, многие из идей Эйнштейна публика поняла весьма превратно – несмотря на их растущую славу, а скорее всего, благодаря ей. Почти сразу же после обнародования результатов Эддингтона появилась масса книг, лекций, радиопередач, посвященных работе великого физика, и немалая их часть несла в себе сильно искаженные сведения. Однако достаточная доля того, что удалось достичь Эйнштейну, все же дошла до сознания общества.
Никакой ученый в мире, за всю историю человечества, не добивался такой невероятной славы. Никто (ни Резерфорд, ни сам Эйнштейн) толком не понимал, в чем ее причины, но как бы там ни было, практически в одночасье в общественном сознании Эйнштейн стал восприниматься как человек, сумевший разглядеть то, что человечество ранее не могло себе и представить. В глазах самых разных людей отныне он был тем, кто дотянулся до небес и принес оттуда если и не спасение, то, по крайней мере, проблеск понимания сокровенных тайн – того, какой может быть реальность в своих потаенных глубинах.
Глава 11 Трещины в фундаменте
Эйнштейну следовало бы чувствовать себя счастливым. После того, как в 1919 году Эддингтон подтвердил справедливость его теории, его почитали по всему миру. В 1921 году он получил Нобелевскую премию за свои работы в области теоретической физики. Кинозвезды и особы королевской крови жаждали говорить с ним. Целые толпы по-прежнему собирались всюду, где бы он ни появлялся. Однако в душе его покоя не было – Эйнштейна очень беспокоило некое следствие его прославленной теории, и это беспокойство лишь усиливалось из-за растущих напряжений в личной жизни.
Развод с Милевой Марич (он все-таки произошел – в 1919 году) даровал ему свободу, но и отдалил его от любимых сыновей. Он пытался писать им веселые многословные послания, но его отпрыски пребывали не в том настроении, чтобы правильно воспринимать отцовские шутки. Когда ему удалось ненадолго залучить их к себе в Берлин, он купил телескоп и установил его для них на балконе, но даже это не очень-то помогло в налаживании отношений. А когда Эйнштейн сам приезжал к ним в Швейцарию, чтобы в эти дни ходить в походы, которые они так любили прежде, все казалось вымученным, фальшивым, ненатуральным. Однажды он раздраженно написал Гансу Альберту из Берлина, упрекая его в холодности. Но Ганс Альберт возмутился: ведь это отец их бросил, как же он может теперь ждать от них тепла и добрых чувств? Позже Ганс Альберт, вспоминал, что чувствовал «какой-то мрачный покров», словно бы опустившийся на их семейную жизнь.
И хотя Эйнштейн злился на Милеву за то, что она явно настраивала детей против него, он наверняка понимал, что сам отчасти несет ответственность за сложившееся положение вещей. И ради чего? С Эльзой Ловенталь тоже получилось не так, как он надеялся. Он намеревался держать эту связь в строго определенных рамках, продолжать ее на своих собственных условиях. В 1915 году он писал Бессо, что это «превосходные и по-настоящему приятные отношения… стабильность которых гарантируется уклонением от брака». Впрочем, Эльза придерживалась иных взглядов, и в июне 1919 года (когда Эддингтон еще торчал на тропическом острове Принсипи) они все-таки поженились. Почти тотчас же после свадьбы что-то изменилось. Да, Милева иногда ревниво относилась к тому, что ее оставляют за бортом его научных дискуссий, но она, по крайней мере, в общих чертах понимала основные направления его работы. Отсутствие у Эльзы научного образования казалось ему очень милым, пока он злился на Милеву. Но постепенно Эйнштейн начал понимать, что в Эльзе почти ничего нет кроме природной бойкости. «Она не какой-то там светоч интеллекта», – признавался он позже.
В начале их романа Эльза соглашалась с Эйнштейном насчет удовольствий неформальной связи, и ей как будто даже нравилось, когда он вышучивал богатых чопорных берлинцев. Но как только они вместе зажили в ее огромной семикомнатной квартире, в доме с гигантским вестибюлем и швейцаром в ливрее, он почувствовал себя среди этих персидских ковров, громоздкой мебели, бесчисленных шкафчиков с дорогим фарфором словно в западне. Некоторые из знакомых Эльзы иногда не прочь были поразмышлять, однако большинство, как он все больше убеждался, относились к породе беспечных светских болтунов. Но хуже всего было то, что жена стала его опекать, словно ребенка! «Помню, – писала ее дочь, – как мать частенько говорила за обедом: Альберт, хватит мечтать, ешь!» Все это выглядело совсем не романтично.
Вскоре Эйнштейн стал заводить интрижки на стороне. Уже само его присутствие, как вспоминал один архитектор, неплохо его знавший, «действовало на окружающих дам словно магнит на железные опилки». Некоторые из этих дам были моложе Эльзы, некоторые – богаче, а некоторые сочетали в себе оба качества. Они видели перед собой одного из самых знаменитых людей на планете, который при этом не походил на стереотипный образ черствого, сухого интеллектуала. Он по-прежнему пребывал в хорошей физической форме, был широкоплеч (это отмечали друзья, видевшие его без рубашки), любил еврейские анекдоты и грубый швабский юморок. Некоторые актрисы (например, знаменитая Луиза Райнер) вскоре пожелали, чтобы их видели в его обществе. Он проводил вечера у одной богатой вдовы на ее берлинской вилле. Вместе с другой дамой, модным антрепренером, ездил на концерты или в театр, охотно пользуясь принадлежащим ей лимузином с шофером.
Эйнштейн с Луизой Райнер, американской актрисой немецкоавстрийского происхождения (середина 1930-х гг.). Ее ревнивый муж был уже в ту пору убежден, что у парочки страстный роман, хотя пик этих отношений пришелся на середину 1920-х.
Контраст между приятельницами Эйнштейна и Эльзой с ее беспрерывной болтовней и нарастающим разочарованием, оказался болезненным для всех участников этой драмы. Эйнштейну нравилось ходить под парусом, и когда ему удавалось выкроить свободное время, он отправлялся в их загородный дом на озере под Берлином, где ого ждала небольшая яхта Tümmler («Морская свинья»). Часами он в одиночестве кружил на ней по озеру, задумчиво шевеля рулем, пока ветер носил посудину туда-сюда. Его тамошняя экономка описывала одну его частую гостью, регулярно появлявшуюся в доме в отсутствие Эльзы: «Австрийская дама, моложе, чем фрау профессор, очень привлекательная, живая, обожала смеяться, в точности как сам герр профессор». В один памятный денек Эльза обнаружила на яхте «деталь туалета» другой женщины, и у супругов вспыхнули с виду холодные, но весьма яростные препирательства, тянувшиеся, с перерывами, несколько недель. Мужчины и женщины не созданы для моногамии, настаивал он, а Эльза признавалась близким подругам: жить с гением нелегко, о нет, очень даже нелегко.
Этот брак отнюдь не стал воплощением его или ее мечтаний. В письме, где Эйнштейн утешал взрослых детей Бессо после его кончины, он признавался: «По-человечески я в нем больше всего восхищался тем, что он сумел много лет прожить со своей женой не только в мире, но и в неизменной гармонии; к стыду моему, мне это не удалось, причем дважды».
Все бы ничего, будь это единственная трудность в жизни Эйнштейна. Но еще в 1917 году, когда, казалось бы, он мог вовсю наслаждаться триумфом после своего великого открытия, Эйнштейн обнаружил – как ему представлялось – катастрофический недостаток в своем великом уравнении (которое мы передаем здесь просто как G = T). И в 1920-е годы эта ошибка угнетала и мучила его все больше и больше.
* * *
В декабре 1915 года, выведя свою гениальную формулу G = Т, Эйнштейн с полным правом мог торжествовать, но эта работа его вымотала невероятно. Лишь к середине 1916-го он взялся за новую задачу, и лишь к концу года нашел в себе силы вернуться к G = Т.
До сих пор он рассматривал, как это уравнение описывает индивидуальные звезды и планеты (например, орбиту Меркурия или траекторию света далеких звезд, проходящего близ Солнца). Теперь же Эйнштейн решил «заняться более обширными участками физической вселенной». Ему хотелось понять, как его уравнение может применяться для рассмотрения всей Вселенной в целом.
Здесь-то он и углядел то, что счел катастрофической ошибкой. Ученые того времени полагали Вселенную чем-то статичным, фиксированным, неизменным – пространством, простирающимся на огромные расстояния, в котором существует бесчисленное множество звезд. Некоторые из них иногда могут слегка перемещаться, однако в целом Вселенная никогда не меняется. Но когда Эйнштейн пристально взглянул на свое соотношение G = T, ему стало ясно: оно предсказывает совсем иное. Если «Вещи», парящие в пространстве, достаточно отделены друг от друга, его уравнение позволяет им всем разлетаться под действием собственного хаотического движения. Мало того, уравнение как будто допускало и другой возможный сценарий. Если «Вещи», в определенном количестве плавающие в космосе, окажутся в достаточной близости друг от друга, они начнут «слипаться», и кривизна пространства, которую они при этом создадут, заставит еще большее количество объектов смещаться в их сторону, тем самым порождая неудержимый коллапс (схлопывание).
Это как если бы в Тихий океан рухнул гигантский объект, породив колоссальный водоворот, затягивающий в себя все на планете: воды, потом – острова, а вскоре – целые континенты. В масштабах Вселенной это означало бы постепенное появление раскинувшейся на все небо «долины», всасывающей в себя все вокруг. Более того, долина вскоре начала бы сворачиваться, поскольку плотность Вещей в ней (всех масс и энергий, которые в нее устремляются) еще сильнее увеличила бы геометрическую кривизну этой области, так что само пространство стало бы схлопываться.
Такое следствие его теории казалось невозможным. Не будучи астрономом, Эйнштейн все-таки знал основы этой науки. Считалось, что наша звездная система состоит из планет, вращающихся вокруг центра – Солнца. А наша Галактика (Млечный Путь) полна подобных звезд: некоторые больше Солнца, некоторые меньше, но все находятся в более или менее фиксированном положении. А больше ничего нет. Иммануил Кант называл это «Вселенной-островом»: чем-то фиксированным, стабильным, вечно неизменным. Вот почему те созвездия, о которых упоминали древние (Дева, Стрелец и т. п.), по-прежнему занимают примерно такое же положение на ночном небе, как и в Античную эпоху. Теперь же Эйнштейн увидел, что если его простое соотношение G = T, выведенное в 1915 году, справедливо, то такого не может быть: все во Вселенной должно находиться в постоянном движении.
Он оказался перед лицом непростой дилеммы. Да, он любил свое уравнение за простоту и ясность. Приятно было думать, что Вселенная устроена согласно столь несложному и красивому закону. Уравнение позволяло делать замечательно четкие предсказания о происходящем в Солнечной системе (скажем, о том, как звездный свет будет отклоняться, проходя близ Солнца). Однако это же уравнение, судя по всему, предсказывало и то, что в гораздо более широких масштабах Вселенная как целое меняется: все звезды в космосе когда-нибудь или навсегда разлетятся, или сольются в единый сгусток. Но каждый уважаемый астроном скажет, что такая картина неверна, ибо все наблюдения показывали: Вселенная стабильна и никогда не меняется в размерах. Неужели общее мнение ведущих астрономов мира ошибочно?
Кто-то должен уступить, решил Эйнштейн. И если наблюдаемые факты касательно Вселенной не изменятся, то ему придется изменить свою теорию. Раз его уравнение 1915 года предсказывает, что Вселенная меняется, он должен исправить уравнение, чтобы оно не давало такого прогноза. При этом останется в силе все то, что оно говорит об эффектах меньшего масштаба – скажем, о том, что наше Солнце заставляет пространство прогибаться в достаточной степени, чтобы отклонять проходящий рядом свет от звезд. Но то, что говорилось о более крупномасштабных эффектах (о тех, которые характеризуют структуру Вселенной в целом), надлежит поправить. И вот в феврале 1917 года Эйнштейн написал в Берлин, в Прусскую академию наук: «Я пришел к выводу, что в гравитационные уравнения, которые я представлял ранее, следует внести поправки, дабы избежать этих фундаментальных затруднений…» Да, он хотел изменить свое изящное соотношение G = T. Но как это сделать?
Эйнштейн уже довольно долго размышлял над этой проблемой. В своем послании 1917 года он сообщил о единственной поправке, какую смог придумать. В исходное уравнение пришлось ввести еще один параметр, который как бы ослабил левую часть формулы (где описывается геометрия пространства), слегка скомпенсировав гравитационное воздействие (подобно тому, как Атлас сдерживал тяжесть небес, чтобы звезды не упали на землю). Эйнштейн обозначил этот новый параметр греческой буквой «лямбда» (Λ). Позже его назовут космологической постоянной, поскольку он представлял собой фиксированное число (константу), действующее на космическом уровне. И вместо прекрасного в своей простоте и симметричности G = T у него получилось прихрамывающее G – Λ = T.
Не станем вдаваться в подробности того, как Эйнштейн пришел к своей космологической постоянной. Упрощенно говоря, G представляет геометрию нашей Вселенной, и Вселенная так сильно искривлена, что этот параметр достаточно велик для того, чтобы заставить звезды летать – подобно громадным камням, падающим в пропасть. Но если слегка уменьшить эту силу, звезды не будут падать, они по-прежнему будут парить в пространстве более или менее неподвижно: почти все тогдашние астрономы полагали, что на самом деле звезды именно так себя всегда и ведут. Эйнштейн словно бы заново нарисовал эту пропасть, так что теперь она уже не зияла такой страшной глубиной, и камни больше не катились в нее очертя голову. Вот какое действие произвело добавление лямбды.
Ему она никогда не нравилась. «Этот параметр, – говорил он с берлинской кафедры, – необходим лишь для того, чтобы обеспечить возможность почти статичного распределения вещества, как того требуют низкие скорости, с которыми движутся звезды; такие скорости – установленный факт». Астрономы заверяли его, что все звезды, которые мы наблюдаем, движутся относительно друг друга сравнительно медленно и/или случайным образом, однако подобное «почти статичное распределение вещества» отнюдь не вытекает из его исходного уравнения. Лишь благодаря поправке, которую он скрепя сердце ввел в это соотношение, Эйнштейн мог добиться того, чтобы оно соответствовало наблюдениям – вернее, тому, что они вроде бы показывали.
Может, лямбда и казалась необходимой для приведения эйнштейновского уравнения в соответствие с реальностью, но он чувствовал, что поправка «значительно ухудшила формальную красоту» его теории. Для Эйнштейна простота и красота уравнений служили основными признаками их справедливости. Он не верил, что какое-то божество или сила природы может, создав Вселенную согласно нескольким очень простым принципам, затем неуклюже добавить в них такие вот дополнительные поправки. В исходном G = T, выведенном в 1915 году, сквозил почерк Бога, наслаждающегося простотой своего творения. Эти два символа словно бы коренились в самой природе Вселенной: параметр G отражал суть того, как искривляется пространство, а параметр T – само существование Вещей в пространстве. Введенная же громоздкая лямбда служила лишь случайным дополнением к левой части уравнения, добавкой, призванной чуть ослабить силу тяготения (то есть сделать «пропасть» нашей Вселенной менее глубокой, а ее края менее отвесными, чтобы звезды – «камни» в нашем сравнении – не падали в нее).
В струнных квартетах, которые так любил играть Эйнштейн, каждая нота занимает определенное место, каждый инструмент вносит определенный вклад в общее звучание. И так рождается гармония. Никто не стал бы втаскивать в комнату громадную тубу и в произвольный момент дуть в нее, нарушая нормальное течение мелодии. А ведь именно это проделал Эйнштейн, заменив простое и недвусмысленное G = T на неловкое G – Λ = T.
Но приговор ведущих астрономов мира был единодушен. Наше Солнце – часть звездного острова, именуемого Млечным Путем. Он не расширяется и за его пределами простирается лишь бесконечная чернота. Если бы Эйнштейн не так верил в необходимость откликаться на эмпирические доказательства, он бы, возможно, и не внес эту поправку. Но в тот период его жизни они казались ему столь же важны, как и игра интуиции. А поскольку его уравнение 1915 года предсказывало нечто противоположное тому, что демонстрируют факты, значит, уравнение неверно, поэтому следует добавить в него лямбду, разрушающую красоту.
Это стало первой крупной ошибкой Эйнштейна.
Последствия его заблуждения обнаружились лишь спустя много лет, пока же Эйнштейн пытался убедить себя, что его изначальная теория все-таки не совсем провальна. Ведь эффект, для компенсации которого потребовалась лямбда, будет заметен лишь на чрезвычайно больших пространствах. И можно задать настолько малое значение этой поправки, что на уровне нашей Солнечной системы правильно будет по-прежнему пользоваться исходным уравнением G = T. Вот почему Эддингтону и удалось доказать его справедливость.
Эйнштейн мог сколько угодно черпать утешение в результатах Эддингтона, однако примириться с тем, что его прекрасная исходная теория в основе своей неверна, было очень непросто. Особенно его мучил вопрос: зачем Вселенной вообще понадобился этот лишний параметр? Почему она должна быть устроена именно так?
Несмотря на гложившие его внутренние сомнения, он принялся защищать неуклюжее выражение G – Λ = T, признавая, что смертный человек не в силах узреть столь совершенную гармонию, какая ненадолго увиделась ему в сияющем, необычайно простом равенстве G = T, и что это слишком простое равенство не отражает работу Вселенной. Ему не нравилась эта лямбда, вторгшаяся в его прекрасное, поистине совершенное уравнение, но постепенно он стал к ней привыкать.
Результаты, полученные Эддингтоном в 1919 году, принесли Эйнштейну мировую славу, вылепив образ совершенного человека. Мир видел Эйнштейна скромным добряком, легко относящимся к тому, как повернулась его жизнь. Но в реальности все было несколько иначе, а вернее, совсем не так: его второй брак не оправдывал надежд, а сыновья, которых он так любил, все больше от него отдалялись.
Мир полагал, что Эйнштейн создал уравнения необычайной глубины, приблизившись к мудрости самого Творца. Но Эйнштейн, введя эту проклятую лямбду, знал, что это неправда: либо он пока не достиг самого высокого уровня истины, либо Вселенная лишена той простоты, в которую ему так хотелось верить.
Часть IV Расплата
Эйнштейн на своей любимой яхте. (Германия, 1920-е гг.)
Глава 12 Возникает напряжение
Эйнштейн был не одинок в своих сомнениях насчет необходимости поправки-лямбды для его гравитационного уравнения. Такие сомнения испытывал и русский математик Александр Александрович Фридман.
Ветеран Первой мировой войны, Фридман был мрачным человеком, и наружность его (висячие усы, маленькие круглые очоч-ки, кислое выражение лица, которое словно бы говорило: «Я так и знал, что дело обернется скверно») вполне соответствовала его унылому характеру. В конце 1914 года, через несколько месяцев после начала Первой мировой, Фридман писал своему любимому профессору Владимиру Андреевичу Стеклову, работавшему в Санкт-Петербургском университете: «Жизнь моя течет довольно ровно, если не считать таких случаев, как взрыв австрийской бомбы в полуметре от меня и последующее падение осколков на лицо и на голову. Но ко всему этому привыкаешь». Фридман решил учиться на пилота, поскольку, в несвойственном ему приступе оптимизма, «уверился, что сие занятие перестало нести в себе опасность». В ответном письме Стеклов замечал, что это, как ему кажется, чрезвычайно неудачная мысль.
Затем в переписке наступает перерыв, но вскоре Фридман уже благодарит жену профессора за теплые вещи, которые она ему прислала: они «действительно оказались весьма кстати» для регулярных полетов на большой высоте сквозь морозный зимний воздух. Совет профессора он проигнорировал. Впрочем, поблагодарил Стеклова за некоторые интересные дифференциальные уравнения, отправленные ему в письме. Правда, Фридман извинялся за недостаточную четкость решений, несколько поспешно отосланных им профессору: «Пожалуй, в моих обстоятельствах не так-то легко заниматься научными изысканиями». Зато он описал Стеклову те расчеты, которые предпринял, дабы определить наилучшие точки сброса бомб, которыми он угощал огромную австрийскую крепость в Перемышле (Пшемысле). Точность бомбардировки впечатлила (хотя и, конечно, встревожила) австрийских и немецких обитателей крепости.
Фридман отмечал также, что командование поручает ему вступать в воздушные бои с германским воздушным флотом – составной частью армии, где «организация и снаряжение превосходны», в отличие от русских войск, где «не хватает ни того, ни другого». Однажды германский самолет обрушил на Фридмана огонь нового оружия – скорострельного пулемета. («Расстояние между нашими машинами было чрезвычайно малым… Это создает ужасное ощущение».) Единственным оборонительным средством на самолете Фридмана оказался старинный карабин, который приходилось держать на расстоянии вытянутой руки из-за мощной отдачи, которую он порождал, выпуская единственную пулю. После завершения полетов Фридман получил за храбрость Георгиевский крест.
Пережив войну, революцию, контрреволюцию, контрконтрреволюцию, нищету, нехватку продуктов и топлива, эпидемии, он каким-то чудом наткнулся на статьи Эйнштейна. К тому времени Фридман уже преподавал в Институте инженеров путей сообщения, одновременно работая в Геофизической обсерватории – в городе, который еще недавно назывался Санкт-Петербургом, но теперь был переименован в Петроград (потом, все в том же XX веке, он станет Ленинградом и в конце концов вновь сделается Санкт-Петербургом). Фридман очень быстро разглядел в эйнштейновских статьях о теории относительности то, что показалось ему ошибкой. Но как ему, скромному питерскому преподавателю, прозябающему в далекой России, убедить хоть в чем-либо всемирно известного немецкого профессора?
Еще в 1917 году Эйнштейн понял, что его уравнение G = T предсказывает изменение размеров нашей Вселенной. Его такой сценарий не устраивал, а потому он вставил в уравнение поправку – пресловутую лямбду (Λ)… Между тем Фридман, пессимист по природе, в 1922 году обнаружил, что первоначальное уравнение Эйнштейна, исходное G = T, еще без всяких добавок, содержит в себе тысячи, миллионы возможных сценариев для самых разных, невероятных, вселенных.
И он принялся исследовать эти сценарии.
* * *
Из исходного эйнштейновского соотношения G = T неутомимый Фридман вывел ошеломляющий спектр возможных изменений пространства и «вещей» в нем во времени. В рамках некоторых таких сценариев, обнаружил Фридман, вселенная неуклонно растет – подобно вечно раздувающемуся шару. Но нашлись и другие сценарии (все они таились в математике исходного уравнения), при которых вселенная увеличивается в объеме до некоего конечного размера, а затем начинает уменьшаться, как если бы ее вещество со свистом выходило из нее через какой-то клапан. Все, что создали люди (или другие разумные обитатели такой вселенной), в конце концов исчезло, уничтожилось бы, и все их усилия стали бы совершенно бесполезными и бессмысленными.
Имелись и сценарии, по которым этот крах вселенной отнюдь не являлся ее концом: после схлопывания в точку она снова начинала расти. Все творения цивилизации к этому моменту окажутся безнадежно разрушенными, но зато теперь имелось сырье для того, чтобы начать снова. Фридман сделал прикидочные расчеты, и у него получилось, что такие пульсации могут повторяться примерно каждые 10 миллиардов лет.
Человек не впервые представлял себе такую последовательность событий – смерть и новое рождение Вселенной. Как писал сам Фридман, это «приводит на ум индуистскую мифологию, где говорится о циклах существования». Речь идет о вере в то, что Вселенная много раз создавалась и разрушалась. Фридман добавлял, что его решения, конечно же, носят предположительный характер и пока не подкреплены реальными результатами астрономических наблюдений.
С помощью друзей он изложил свои смелые предположения в краткой статье и (после того как лучший лингвист в их кругу исправил его ошибки в немецком, который у Фридмана был под стать французскому Эйнштейна) отправил ее в самый престижный физический журнал тогдашнего мира – Zeitschrift für Physik. Журнал быстро принял статью в печать (это произошло в 1922 году). Автор самонадеянно полагал, что его статья Эйнштейну очень понравится, ведь он, Фридман, показывал, что исходное эйнштейновское уравнение 1915 года (пресловутое G = T, без случайного тормоза в виде лямбды), по сути, уже содержит в себе эти необыкновенные результаты. И если Эйнштейн с ним согласится, то наконец сумеет избавиться от докучного и такого некрасивого параметра Λ.
Однако, добравшись в том же году до новых номеров Zeitschrift für Physik (в послереволюционной России это было нелегко), Фридман и его друзья с огромным изумлением обнаружили, что Эйнштейн, прочитав статью, написал ее автору настоящую отповедь! Результаты этого русского совершенно неприемлемы, отмечал создатель теории относительности. И дело тут не в какой-то небольшой ошибке. Эйнштейн просмотрел расчеты Фридмана и обнаружил в них серьезные промахи. «Содержащиеся в работе [Фридмана] результаты, которые касаются нестационарного мира, – гласило письмо Эйнштейна, опубликованное в журнале, – представляются мне сомнительными. Я абсолютно уверен, что приведенное решение не удовлетворяет [моим] уравнениям теории поля».
Фридман пришел в отчаяние. Подобный комментарий разбивал всякие надежды на дальнейшее продвижение в науке. Как этот великий человек мог так с ним поступить? Однако отправить в редакцию жалобу казалось непростительной дерзостью. И тогда Фридман и его друзья решили, что будет тактичнее написать Эйнштейну на его берлинский адрес. Фридман очень старался, сочиняя это послание (несомненно, вновь обратившись к друзьям за помощью по части немецкого).
Письмо Эйнштейну было вежливое, но ясное: «Позвольте мне представить Вам расчеты, которые я сделал… Если Вы найдете верными приведенные в моем письме выкладки, прошу Вас не отказать в любезности сообщить об этом в редакцию Zeitschrift für Physik. Возможно, в таком случае Вы сочтете нужным опубликовать поправки к своему заявлению».
Ответа он не получил – однако не по той причине, которой опасался.
Дело было вот в чем. Чуть раньше, но в том же 1922 году, произошло убийство Вальтера Ратенау, министра иностранных дел Германии, еврея по происхождению. Это событие вызвало неприкрытую радость в консервативных кругах всей страны. Уже тогда Эйнштейн осознал, что выдающимся евреям в Германии теперь грозит опасность. Вот ведь учредили какую-то Рабочую партию «Германские ученые за сохранение чистоты науки», призванную бороться с эйнштейновскими идеями. Ее первое собрание состоялось в берлинской филармонии. В коридоре повсюду виднелись свастики, а в фойе торговали антисемитскими брошюрками. Кое-кто из ненавистников Эйнштейна имел некоторое касательство к науке, но большинство из них не могли похвастаться образованностью. «Науке, которой мы некогда так гордились, сегодня учат евреи!» – возмущался несостоявшийся студент школы искусств по имени Адольф Гитлер.
Александр Фридман (начало 1920-х гг.) «Позвольте мне представить вам расчеты, которые я сделал…» – писал он Эйнштейну, не зная, к чему приведет подобная дерзость.
Чтобы дать ситуации время остыть, Эйнштейн откликнулся на давнее приглашение предпринять длительное морское путешествие. Когда письмо Фридмана пришло в Берлин, создатель теории относительности уже отплыл из Марселя в Японию (откуда писал сыновьям: «Из всех, с кем мне довелось встречаться, мне больше всего по душе японцы… Они скромны, умны, благожелательны, к тому же отлично чувствуют искусство»). Письмо Фридмана Эйнштейну не переслали. Но и после возвращения в Берлин (на следующий год) он русскому ученому не ответил.
Одной из причин стало обилие корреспонденции, которую Эйнштейн стал получать после того, как ему присудили Нобелевскую премию: эти груды писем затмевали его былой кошмар с орущим почтальоном. Но имелась и еще одна причина – противоречивая смесь славы и гордости.
Когда в 1917 году Эйнштейн впервые вставил в свое уравнение G = T лямбду, этот неуклюжий тормоз, он в глубине души полагал, что поступает неправильно. Ведь Творец не мог, создав Вселенную столь близкой к абсолютной простоте (ибо эти два математических параметра, G и T, с такой простотой объясняли все о структуре Вселенной), затем явить ее человечеству как нечто иное, нечто такое, что потребовало бы добавления лишней «произвольной» константы, необходимой для того, чтобы законы творения действовали.
Но все-таки, несмотря на дурные предчувствия, Эйнштейн внес поправку в свое уравнение. Теперь он оказался в тупике. На карте стояла его репутация, ведь все профессиональные физики ныне знали его уравнение именно в модифицированном виде. Играла тут роль и его собственная гордость. Он сам, сам лично внес пресловутую поправку, он сам все это проделал, пусть и после больших терзаний. И уже не может с легкостью отказаться от этой поправки, объявив во всеуслышание, что проявил слабость, что ошибался.
Вот почему он так небрежно просмотрел статью Фридмана: ему хотелось лишь отыскать в ней какие-то недочеты. И после того, как он нашел (или решил, что нашел) ошибку, он больше не проявлял никакого видимого интереса к этой теме.
Однако в мае 1923 года Юрий Александрович Крутков, коллега Фридмана, сумел выследить Эйнштейна в Нидерландах – через одного из эйнштейновских сотрудников, некогда преподававшего в России. Крутков был вежлив, но настойчив. Он гордо рассказывал сестре о том, что произошло дальше: «7 мая 1923 года, в понедельник, я вместе с Эйнштейном читал фридмановскую статью в Zeitschrift für Physik». Наступает 18 мая. «В пять часов… я разбил Эйнштейна в дискуссии о Фридмане. Честь Петрограда спасена!»
Эйнштейн поступил достойно: он вновь обратился к фридма-новской статье – и увидел, что в свое время отреагировал на нее чересчур бурно и на самом деле Фридман не допустил никаких математических ошибок. Эйнштейн написал в редакцию журнала, чтобы уладить дело: «В моем предыдущем письме я критиковал [работу Фридмана «О кривизне Пространства»]… Однако мои замечания… оказались основаны на ошибке, вкравшейся в мои собственные расчеты».
Впечатляющее, хоть и лаконичное признание. Однако Фридман в далекой России понимал, что ему следует по-настоящему привлечь Эйнштейна на свою сторону, если он, Фридман, хочет, чтобы его новые космические сценарии принимали всерьез. Но как это сделать? Единственный способ – предоставить Эйнштейну больше доказательств. Астрономических подтверждений фридмановской гипотезы пока нет, но… может быть, есть иной путь?
* * *
Ломая голову над тем, как бы убедить Эйнштейна в том, что лямбда не нужна, Фридман использовал остроумный метод решения задач, который мог бы показаться знакомым его немецкому коллеге. Новая фридмановская идея сводилась, по сути, к тому, что миниатюрные обитатели плоской поверхности (мы снова обращаемся к Флатландии) не в состоянии «сделать шаг назад» и увидеть весь свой мир в целом, зато они могут осуществлять всевозможные расчеты и предпринимать путешествия, не покидая своего мира, и эти расчеты и путешествия дают им нужную информацию. Фридман представил себе, что будет, если один из научно-исследовательских центров такого вот плоского мира отправит путешественника в экспедицию, призванную выяснить, как в действительности устроена их вселенная. «Постоянно придерживаясь одной и той же прямой линии и неустанно двигаясь в одном и том же направлении, – писал Фридман, – наш путешественник будет наблюдать, как характер окружающего ландшафта постепенно меняется на протяжении его странствия». Он набредет на незнакомые пейзажи, попадет в незнакомые города, мало напоминающие поселения его родины. Однако, приближаясь к родному городу, откуда он начал свой путь, путник заметит, что окрестности становятся все более похожими на те места, откуда он некогда пустился в свое долгое странствие. И наконец он войдет в свой город – с противоположной стороны!
Фридман отмечал: «Вернувшись в исходную точку, путешественник благодаря собственным наблюдениям обнаружит, что пункт, которого он достиг, в точности совпадает с пунктом, из которого он начал движение…» – тем самым доказав ограниченность сферы Вселенной, на поверхности каковой все они живут. С другой стороны, отмечал Фридман, если странник не увидит, что незнакомые города сменяются знакомыми, он поймет, что его мир не замыкается подобным образом. Тот факт, что он никогда таким способом не вернется в исходную точку, станет доказательством того, что его вселенная не является сферой.
Приключения флатландца (или наших двух воображаемых конькобежцев на финском льду) явно позволяют провести аналогию с нашей собственной трехмерной Вселенной, куда более крупной. Если мы снарядим посланцев и отправим их в путь, чтобы они произвели необходимые измерения (в будущем – при помощи сложнейших исследовательских кораблей, а сегодня – просто при помощи телескопов), по результатам этих измерений мы сумеем определить, какова истинная форма Вселенной. А это, в свою очередь, поможет выяснить, какие из обнаруженных Фридманом сценариев, подразумеваемых простым эйнштейновским уравнением G = T, описывают наш мир, а какие – не описывают. Да, в реальности мы не сможем осуществить это долгое и увлекательное путешествие, придуманное Фридманом. Но если наша Вселенная не искривлена, то все четыре угла каждого из гигантских прямоугольников, мысленно вычерченных в пределах Солнечной системы, окажутся прямыми. Если же имеет место вздутие, как у сферы (разумеется, мы не можем увидеть это невооруженным глазом или даже представить себе с помощью своего мозга, чьи возможности весьма ограничены), то все эти углы окажутся чуть больше 90°. И по мере увеличения или уменьшения степени этой кривизны углы также будут меняться. (См. рисунки из Главы 7.)
Фридман понимал, что физически слаб и хил. Нелегкий процесс выживания в России начала 1920-х отнюдь не способствовал исцелению от привычной депрессии. Но ведь в свое время он как-то пережил и участие в бомбежках австрийских крепостей, и воздушные бои с германскими асами. Он обладал немалыми душевными и умственными силами, к тому же верил, что его представления в чем-то совпадают с эйнштейновскими, ведь немецкий физик сам поговаривал некогда о подобных локальных измерениях углов и расстояний – измерениях, которые помогут разобраться в устройстве куда более обширных пространств. Они видели перед собой одну и ту же воображаемую картину! Может быть, если Фридман сумеет пересечь Европу и встретится со своим кумиром, этим великим мыслителем, вместе они продвинутся дальше?
И вот летом 1923 года Фридман решил, уподобившись своему миниатюрному путешественнику, в одиночку отправиться в Берлин. Он обязательно найдет господина Эйнштейна, поговорит с профессором и вновь пробудит в нем доверие к исходному равенству 1915 года.
Двадцать третий год оказался не таким уж плохим временем для путешествий по сравнению с началом Первой мировой, когда бедняга Фрейндлих предпринял свою астрономическую экспедицию в Крым. Впрочем, разница была невелика. В Веймарской республике уже началась бешеная инфляция. «Курсы валют устраивают какую-то дикую свистопляску, – писал Фридман домой. – …Три дня назад за доллар давали миллион марок, а сегодня он стоит 4 миллиона!». Плюс бедность, плюс нехватка продуктов, хотя и не на уровне послереволюционной России. Ему было в Европе неуютно. Тут все было иное. Даже пейзаж говорил, как далеко Фридман уехал от родины. «Германский лес наблюдать особенно грустно: деревья выстроены ровными шеренгами», – писал он. Сохранилась фотография Фридмана того периода: как всегда, уныло висящие усы и вид, как у побитого пса, но при этом дорогой двубортный пиджак и странная беретообразная шапочка, балансирующая на голове; слева под мышкой – растрепанная пачка бумаг, тогда как правая рука по-наполеоновски стискивает рубашку, словно он не очень представляет себе, куда ему эту руку девать. И при этом он пытается улыбаться.
Но вот наконец-то Фридман добрался до Берлина и даже до улицы, где проживал Эйнштейн. Но… «19 августа. Мое путешествие проходит не очень удачно: оказывается, Эйнштейн… отбыл из Берлина отдохнуть. Не думаю, что мне удастся с ним увидеться». Две недели спустя, в очередном письме друзьям, он сообщал, что все-таки надеется увидеть Эйнштейна. Но осуществиться его надежде было не суждено. Правда, в самом конце поездки в Германию, накануне возвращения в Россию, он посетил другого ученого, который отлично понимал, что такое горькое разочарование. 13 сентября 1923 года Фридман сумел попасть в Потсдамскую обсерваторию. «Я встретился там с астрономом Фрейндлихом. Это очень интересный человек. Мы поговорили с ним о строении Вселенной… Всех очень впечатлила моя борьба с Эйнштейном и то, что в конце концов я победил. Мне это очень приятно…»
Эйнштейн в это время находился не так уж далеко – вероятно, в своем загородном доме под Берлином. Но даже если бы Фрейндлих сообщил ему о приезде Фридмана, вряд ли Эйнштейн вернулся бы в город ради встречи с гостем из России. Он по-прежнему слишком цеплялся за «заплатку», которую прицепил к своей формуле в 1917 году. И он почти убедил себя самого в ее необходимости. В конце концов, неужели какой-то Творец (или даже набор законов физики) устроит Вселенную так, чтобы она столь безумно нарушала равновесие? Ведь если Фридман все-таки прав и исходное уравнение Эйнштейна верно, тогда Вселенная расширяется, а это означает, что в конце концов все выродится в бескрайнюю пустыню выгоревших звезд и безжизненных планет, которые будут все дальше разлетаться в стороны. Но как можно поверить в такой исход?! Ведь получается, все мечты, все планы людей в конце концов обречены на гибель – как и они сами, как все человечество. С другой стороны, если верен противоположный фридмановский вариант, иной предлагаемый им сценарий, эйнштейновское уравнение демонстрирует схлопывание Вселенной, из чего следует, что когда-то в будущем ночное небо засияет ужасающе ярко: все звезды галактики устремятся к ее центру. В это, честно говоря, тоже не хотелось верить.
В напечатанном на машинке черновике самоопровержения, подготовленного им для публикации в Zeitschrift für Physik, Эйнштейн замечал: невзирая на математическую корректность фри-дмановских выкладок, огромную долю описанных российским ученым разнообразных решений «составляют такие, для которых едва ли можно отыскать физический смысл». Потом он вычеркнул эту фразу. Но ему явно хотелось, чтобы Фридман оказался неправ.
Вся эта сумятица выматывала Эйнштейна. Как было бы хорошо найти четкое и ясное доказательство, которое навсегда освободило бы его от этой двусмысленности, показав, способны ли искривления пространства (предсказанные его исходным уравнением) жить по сценариям Фридмана! Но для этого потребовалось бы провести измерения в самых отдаленных участках космоса и установить, как там ведут себя звезды – удаляются от нас, приближаются к нам или же сохраняют неподвижность. Казалось, осуществить измерения для столь отдаленных объектов невозможно. Звезды – исполинские небесные жаровни, однако на Земле человек видит их лишь как крошечные точки света. Похоже, мы просто не в состоянии пронаблюдать какое-либо их движение: нам они кажутся неподвижными.
Вот если бы кто-нибудь сумел выяснить, как на самом деле живут далекие звезды… Но кому под силу решить эту задачу?
Интерлюдия 3 Свечи в небесах
В своем дневнике итальянский путешественник Антонио Пига-фетта так вспоминал ту минуту, когда он решил отправиться на поиски неведомого:
Оказавшись в Испании в год от Рождества Спасителя нашего тысяча пятьсот девятнадцатый, при дворе самого мирного из королей… я отважился… предпринять путешествие, дабы своими глазами увидеть некоторые из великих и страшных вещей, таящихся в океане.
Это решение привело к тому, что в 1519 году он пустился в далекое плавание вместе с Фернаном Магелланом. Предполагалось, что их флотилия достигнет восточноазиатских «островов пряностей» необычным путем – двигаясь не на восток, а на запад, через Атлантику, отыскав затем проход на другую сторону Американского континента, в неведомый океан, который, как полагали, там несет свои воды. Если все пройдет удачно, мореплаватели обогнут земной шар – впервые в истории человечества.
В каком-то смысле экспедиция действительно прошла успешно: Пигафетта вернулся в Испанию примерно через 3 года после отплытия. Правда, ему здорово повезло: из 240 путешественников уцелело лишь 18. А ведь одной из немаловажных целей экспедиции было благополучное возвращение назад всех ее участников… Плавание началось неплохо. На Атлантическом побережье Южной Америки они увидели настоящие чудеса: новые разновидности людей, невообразимые в Европе; рыб, способных выпрыгивать из воды («они летели дальше, нежели стрела, выпущенная из лука»), и этих прыгучих рыб преследовали хищники, которые упорно следовали за их тенью и хватали их, когда они плюхались обратно в воду. («Необычайное зрелище, которым пожелает насладиться всякий», – отмечал Пигафетта в своем дневнике.)
Но потом начались невероятной силы штормы, казалось, прошла целая вечность, когда Пигафетта наконец-то сделал запись, которую все они так ждали: «В среду, 28 ноября года 1520-го, мы вышли из вышеуказанного пролива [близ южной оконечности Южной Америки] и оказались в Тихом море».
Поначалу, вероятно, перспективы представлялись радужными, ведь путешественники плыли среди безбрежной морской глади, с виду совершенно спокойной. Но эта гладь никак не кончалась, на горизонте не было ни малейшего клочка суши («мы проделали не менее 4 тысяч лиг в открытом море[7]»). На кораблях начался голод. («Мы съели старые галеты, обратившиеся в пыль и полные личинок… – пишет Пигафетта. – Мы съели бычьи шкуры, хранившиеся под парусами, и древесные опилки, и всех крыс».)
Как отыскать правильный путь? По звездам, как это обычно проделывали тогдашние мореплаватели? Но в ночном небе виднелись лишь немногие из знакомых созвездий, и путеводной Полярной звезды, этой верной подруги всех путешественников, там, конечно, не было, ведь они находились в Южном полушарии. Однако, глядя в незнакомое ночное небо, мореплаватели обнаружили, как отмечал Пигафетта, «два облака, несколько отстоящих друг от друга и слегка размытых». Эти облака светились «с немалой яркостью».
Что это – дар Господень? Какова бы ни была причина их возникновения, эти два таинственно сияющих облака ночь за ночью сохраняли одно и то же относительное положение, что и позволило уцелевшим участникам экспедиции, ориентируясь по ним, в конце концов найти путь домой. Сам Магеллан не вернулся: туземцы закололи его насмерть копьями на прибрежной отмели Мактана, одного из островов Филиппинского архипелага. Но эти сверкающие небесные маяки в итоге назвали в его честь – Большим и Малым Магеллановыми Облаками.
Четыре столетия спустя именно эти облака Эйнштейн намеревался использовать для того, чтобы решить, возвращаться ли к своему исходному уравнению (что настоятельно рекомендовал ему сделать российский математик Александр Фридман). Но это произойдет, лишь когда Магеллановы Облака удастся исследовать, прояснив некоторые их тайны. И тут на сцене появляется новое, довольно неожиданное лицо, тоже своего рода первопроходец.
* * *
Невдалеке от Бостона 1890-х годов, в одном из помещений верхнего этажа достославного здания Гарвардской обсерватории, располагались многочисленные вычислители. С их помощью анализировали большие стеклянные фотопластины, запечатлевшие ночное небо. Пластины держали в глубоком подвале и доставляли наверх механическим подъемником.
Впрочем, эти вычислители отнюдь не были электронными приборами. Так называли группы молодых женщин, сидевших за деревянными столами на втором этаже обсерватории. Работа этих дам состояла в том, чтобы обмерять детали, видимые на пластинках, и тщательнейшим образом заносить результаты обмеров в таблицы.
Эдвард Пикеринг, директор обсерватории, гордился своими очаровательными «компьютерами», которые он описывал почти как машины: «Можно добиться огромной экономии средств, прибегая к помощи неквалифицированной, а значит, недорогой рабочей силы. Конечно же, необходим внимательный надзор». Чтобы среди рабочей силы не возникало недовольства, он настаивал, чтобы его сотрудницы (кстати, из числа первых выпускниц американских университетов – ранее девушкам там не разрешалось учиться) не получали такого математического образования, которое могло бы вызвать у них искушение проделать работу за астрономов-мужчин. Кроме того, он им очень мало платил – всего лишь 25 центов в час, тогда как работницы хлопчатобумажной фабрики получали 15.) Его коллеги снисходительно выражали сложность астрономических расчетов в «девушко-часах» – или, если работа требовала заполнения большого количества таблиц, «килодевушко-часах».
Но, как известно, требуется двое, чтобы вы ощутили себя униженно: тот, кто вас унижает, и вы сами – кто волей-неволей принимает это. Лишь очень небольшая доля женщин разделяла мужское мнение по отношению к своему труду. Это видно по довольно неуклюжей, но бойкой песенке, которую они сочинили на мотив «Мы плывем по голубому океану» из оперетты Гилберта и Салливана «Корабль ее величества «Пинафор», или Возлюбленная матроса»:
Трудимся мы от зари до зари, вычисляем прилежно – смотри! Всё считаем в жизни мы так бе-зу-ко-риз-нен-но!Из всех вычислительниц, трудившихся под началом Пикеринга, самой непокорной оказалась Генриетта Суон Ливитт. Никакой администратор, любитель манипулировать безответными созданиями, не мог ее приструнить и испортить ей настроение.
Среди работниц Пикеринга не поощрялась чрезмерная образованность, но Ливитт училась в Оберлинской консерватории (штат Огайо), а кроме того, в Рэдклиффском колледже (тогда это учебное заведение называлось Обществом высшего женского образования), где она получила отличные оценки по интегральному и дифференциальному исчислению и аналитической геометрии. Она прекрасно заполняла скучные таблицы, за которые засадил ее Пикеринг: на это у нее вполне хватало квалификации. Однако мисс Ливитт вовсе не устраивало то положение, которое она занимала, ей хотелось большего, что в конце концов и привело к столкновению с Пикерингом – и навсегда изменило течение жизни самого Эйнштейна.
Ливитт всегда испытывала приятное предвкушение, когда в Гарвардскую обсерваторию прибывали тщательно упакованные ящики из далекой Арекипы, что в Перуанских Андах. Именно там располагался гарвардский 24-дюймовый фототелескоп, «самый мощный инструмент подобного класса в мире», как горделиво замечал один из его операторов.
Некоторое время работой телескопа руководил брат Пикеринга, но после того, как бедняга начал присылать сообщения о гигантских реках и озерах на Марсе (которых больше никто не мог разглядеть при помощи тех же телескопов), Пикеринг заменил его другим своим коллегой мужского пола. Края были опасные: в Арекипе (по описанию американского туриста, зараженного империалистическими взглядами, типичными для того времени) обитали страшные метисы, а в не такой уж далекой Амазонии – и вовсе дикари. К тому же высота в 8 тысяч футов над уровнем моря угнетала. Да и работа была очень сложная. Никому и в голову не могла прийти мысль о том, чтобы отправить в Арекипу женщину, а уж позволить ей управлять телескопом…
Между тем, работая в обсерватории под Бостоном, вычисли-тельница Ливитт заметила кое-что любопытное касательно фотопластинок, присылаемых из Арекипы, особенно тех, которые изображали детали светящихся облаков, некогда направлявших путь Пигафетты и Магеллана. Мы привыкли, что наше Солнце всегда светит довольно-таки одинаково – то есть интенсивность его свечения день ото дня в общем-то не меняется. Так происходит из-за того, что слои «солнечного горючего» выгорают более или менее равномерно. А вот некоторые звезды, те, что сильно отличаются от Солнца, горят отнюдь не столь равномерно. Как в кипящем котле, давление, накопившееся в глубине, заставляет «крышку» (верхние слои звезды, состоящие из расщепленных атомов) «подскакивать», порождая длительные вспышки повышенной яркости. В каком-то смысле это «ослабляет давление», и поверхностные слои успокаиваются, так что лишь через несколько часов (или дней) температура снова повышается, приводя к новому всплеску яркости.
Генриетта Ливитт (1910-е гг.)
Ливитт заметила в меньшем из двух Магеллановых Облаков огромное количество звезд, которые горят именно таким образом. Сопоставляя пластинки, снятые с промежутком в несколько дней или недель, она обнаружила, что сияние этих звезд вовсе не так стабильно, как у нашего Солнца. Некоторые из них в какой-то момент сверкали ярко, затем меркли, а спустя несколько дней или недель снова разгорались. Первые пульсирующие звезды такого рода нашли в созвездии Цефея, поэтому подобные небесные объекты (переменные звезды) назвали цефеидами.
Если бы оказалось, что цефеиды, эдакие космические свечи, мерцают случайным образом, это означало бы, что Ливитт просто нашла в космосе нечто забавное, хоть и малопонятное. Но, похоже, тут была некая закономерность. И Генриетта стала думать об этих странных звездах всерьез. Когда она просила выслать ей больше снимков Магеллановых Облаков (эти запросы, разумеется, шли через Пикеринга, поскольку он больше никому не позволял связываться с начальником своего андского телескопа), неизменно приходили пластинки, которые показывали области, весьма насыщенные звездами: при каждом новом увеличении можно было разглядеть все больше и больше светил. Ливитт предположила, что Облака вовсе не находятся вблизи Земли: возможно, они принадлежат к звездному скоплению, расположенному на далеком расстоянии от нашей планеты.
Но вот насколько далеком? До Генриетты Ливитт никому не удавалось придумать линейку для измерения расстояний от Земли до самых дальних краев Вселенной, поскольку никто не сумел разработать метод оценки истинной яркости какой бы то ни было отдельной звезды. Непросто узнать подробности об отдельном огоньке, ненадолго вспыхивающем ночью посреди темного поля. Не очень яркий свет может идти от сильного фонаря, расположенного далеко, но с таким же успехом его мог породить более слабый фонарик, расположенный гораздо ближе к нам. Великое открытие Ливитт как раз и позволяло решить эту проблему, неизбежно возникающую при наблюдении звезд.
Склоняясь над фотопластинками в кирпичном здании обсерватории близ Бостона, Ливитт обнаружила, что можно рассортировать переменные звезды-цефеиды, как разные категории фонарей. Допустим, Малое Магелланово Облако очень далеко от нас. Сравним его с некоторым количеством фонариков, которые держат люди, стоящие в разных местах отдаленного луга. С нашей точки зрения кажется, что все они находятся на примерно одном и том же расстоянии от нас.
Ливитт заметила, что некоторые цефеиды пульсируют медленно – с периодом около 10 суток. Другие же мерцали быстрее – с периодом около 3 суток. Важнее всего то, что звезды, пульсировавшие относительно медленно, казались ярче на фотографиях, присланных из Арекипы. Поскольку она предположила, что все они находятся примерно на одном и том же расстоянии от Земли, это означало, что медленно пульсирующие звезды должны давать больше света, чем звезды, пульсирующие быстрее. Если вернуться к нашей аналогии с фонариками на далеком лугу, получится, что если те, которые включаются и выключаются с меньшей частотой, чем другие, выглядят ярче прочих, можно предположить, что они и на самом деле ярче.
Этого еще не достаточно для того, чтобы мы могли определить реальное расстояние до луга. Но допустим, мы сумели заполучить в свои руки один из этих фонариков (скажем, мигающий медленно) и выяснили, что он испускает свет, имеющий мощность два ватта. Если мы теперь, взглянув на этот дальний луг, заметим на нем огонек, пульсирующий с такой же частотой, мы будем знать, что он обладает мощностью два ватта. И в зависимости от того, насколько тусклым он покажется нам на расстоянии, мы сможем оценить это расстояние.
Так и с переменными звездами-цефеидами. По счастью, астрономы сумели измерить яркость одной цефеиды, находящейся на гораздо меньшем (и уже известном) расстоянии от Земли, и установить, сколько света она испускает на самом деле. Это позволило Генриетте Ливитт проградуировать свою космическую линейку. Если новооткрытая цефеида пульсировала с периодом, скажем, семь суток, то цефеиды, пульсирующие с таким же периодом в далеких Магеллановых Облаках, должны обладать такой же истинной яркостью. В зависимости от того, насколько тусклой эта далекая цефеида казалась по сравнению с близкой, Ливитт могла рассчитать, насколько далеко Магеллановы Облака находятся от Земли.
Замечательно было научиться проделывать это «в уме», не выходя из бостонской обсерватории. Когда поведение одной из звезд, которые изучала Ливитт, показалось ей особенно непонятным, она шутливо сказала коллеге: «Остается найти способ забросить в небо сеть и затащить эту штуковину к нам, иначе мы никогда в ней не разберемся!» Однако Ливитт понимала, что вообще-то ей не полагается проводить такие исследования. Одна из ее коллег-вычислительниц отмечала в дневнике: «Если бы мы только могли все время продолжать оригинальные исследования, смотреть на новые звезды, изучать их особенности и изменения, у нас была бы не жизнь, а мечта. Но мы вынуждены откладывать в сторону самое интересное».
Впрочем, Ливитт научилась обходить такие преграды. Однажды она сообщила Пикерингу, что собирается ненадолго уехать из Бостона на отцовскую ферму в Висконсине, но будет очень ему признательна, если он пришлет ей все ее личные записные книжки, чтобы она могла продолжать оказывать помощь обсерватории. Разумеется, незачем было сообщать ему, над чем она в действительности работает.
В 1906 году (Эйнштейн еще наслаждается семейной жизнью с Милевой, пытаясь при этом избавиться от работы в патентном бюро и подыскать себе что-нибудь более подходящее) Ливитт собрала воедино свои главные находки в статью, озаглавленную «1777 переменных звезд Магеллановых Облаков». Она показала, как наблюдение этих небесных объектов позволяет обрести «линейку» для измерения Вселенной; как ее цефеиды мерцают согласно четкому расписанию и как это мерцание соотносится с их истинной яркостью.
Это было фантастическое достижение. Пикеринг пришел в ярость. Генриетта была его подчиненной, простой вычислитель-ницей, всего лишь женщиной. Он пытался хотя бы частично опубликовать ее открытия под собственным именем (или выступить с докладом о них на конференции), но слухи об этом быстро распространялись в научном сообществе. Один из принстонских астрономов восхищался: «Как энергично мисс Ливитт расправляется с переменными звездами! За ее новыми открытиями трудно уследить!»
Пикеринг не мог этого вынести и попросту отстранил Ливитт от ее исследований, велев ей навсегда забыть о каком-то там изучении этих так называемых переменных звезд Магеллановых Облаков. Ей следует заняться тщательнейшим вычислением звездных координат в области Полярной звезды, заявил он. Вероятно, другие астрономы не считали эту работу такой уж важной, но Пикеринг отличался большой педантичностью и полагал, что эти таблицы непременно прославят его.
Ливитт неоднократно пыталась вернуться к любимому занятию. В 1912 году (в этот год Эйнштейн начинает сотрудничать с Гроссманом, который помогает ему заложить математические основы теории гравитации) ей удалось опубликовать статью, где излагалось еще больше подробностей о том, как использовать цефеиды для измерения истинных расстояний в дальнем космосе. После столь вопиющего нарушения служебной субординации Пикеринг поступил еще более жестоко. Он распорядился, чтобы впредь ей отказывали в новых фотопластинках из Анд, если на этих пластинках содержались изображения проклятых Магеллановых Облаков.
В 1921 году Ливитт умерла, так и не побывав в обсерватории, о которой мечтала много лет. Годом позже одна из ее коллегвы-числительниц предприняла эту поездку за нее. Пикеринг больше не директорствовал в Гарвардской обсерватории, и строгость тамошних порядков несколько ослабла.
Эта ее подруга доплыла до Южной Америки на пароходе, а дальше двинулась в глубь материка – по железной дороге, а затем в конном дилижансе. Наконец она добралась до верхней части долины, которая вела к Арекипе, городу, выстроенному из белого вулканического камня. Один из современников отмечал: «Издали кажется, будто весь город сделан из мрамора». На северо-востоке высился четырехмильный вулканический конус Эль-Мисти, на востоке громоздился вулкан Пичу-Пичу. Воздух уже был довольно разреженный, но ей предстояло подняться еще дальше: обсерватория находилась высоко над городом. Наконец добравшись до нее, она оказалась в полутора милях над уровнем моря, среди кристально-чистого андского воздуха.
Солнце зашло. Наступила прохладная ночь, и на темном небе стали появляться звезды – они сияли словно бриллианты. И тогда верная подруга Генриетты вынула дневник и записала: «Магелланово Облако (Большое) такое яркое! Глядя на него, я всегда вспоминаю бедную Генриетту. Как она любила Облака…»
Глава 13 Когда червонная дама черна
С осени 1923 года Эйнштейн пребывал в тумане некоторого замешательства и неуверенности. Его поразила нежданная статья Фридмана, где предполагалось, что его, эйнштейновские, первоначальные идеи об исходном уравнении G = T верны и кривизна всей Вселенной во времени меняется, так что скопления звезд и планет могут отдаляться друг от друга в ходе процесса, который и есть бесконечное расширение. А может быть, эта кривизна меняется иным образом, и в древних индуистских мифах заложена глубокая истина: вся Вселенная обречена проходить бесчисленные циклы расширения и сжатия, как если бы мы пребывали в невидимой замкнутой сфере, которая то надувается, то сдувается.
И в этой сложной ситуации Эйнштейн не нашел ничего лучше, как отложить размышления о статье Фридмана (по крайней мере, изгнать их из своего сознания), сделав вид, что обнаруженное русским ученым – всего лишь некая математическая возможность, не имеющая никакого реального физического смысла. Однако позже, в 1927 году, через 4 года после неудачного визита Фридмана в Берлин и через 5 лет после того, как коллега бедной Генриетты Ливитт добралась до гор близ Арекипы, эта передышка кончилась. В 1927 году Эйнштейн вновь попал в Брюссель на конференцию. Впервые он оказался на брюссельской конференции еще совсем молодым человеком, и приехал он тогда в столицу Бельгии из Праги, где в то время жил, мало кому известный, с Милевой. Теперь же его встречали как героя, и он легко забыл о гложущих его сомнениях насчет своего гравитационного уравнения – или, по крайней мере, попытался это сделать. Ему и без того было на чем сосредоточиться. Но в один из первых дней конференции к нему подошел хмурый грузный бельгиец лет тридцати с лишним и объявил, что обладает математическим доказательством расширения Вселенной.
Эйнштейн и Леметр (ок. 1930 г.)
Профессоров, даже менее известных, чем Эйнштейн, часто осаждают всякие сумасброды, а уж с Эйнштейном такое происходило постоянно. С годами он отлично научился немедленно давать им от ворот поворот, вежливо, но твердо. Здесь, в Брюсселе, это умение особенно ему требовалось, поскольку думал он совсем о другом – о новых областях науки. Но этого незнакомца оказалось не так-то легко отшить.
Мало того, что докучного собеседника Эйнштейна, как выяснилось, официально пригласили на конференцию (а значит, он наверняка имел хотя бы диплом в области физики), так он еще и носил высокий белый воротничок и черный шерстяной пиджак, что обличало в нем католического священника. Более того, он оказался иезуитом, а члены этого ордена, несмотря на догматичную преданность папе, столетиями проявляли большую активность в области астрономии.
Смирившись, Эйнштейн позволил этому толстяку (его звали Жорж Леметр) приступить к объяснениям. Оказывается, падре Леметр опубликовал статью в одном бельгийском журнале (может быть, профессор слышал о нем?), где разбирал следствия, вытекающие из эйнштейновских идей, пытаясь подставить в его формулу самые разные значения Λ. Наиболее интересные результаты получились при Λ = 0, так что уравнение возвращалось к своему исходному виду – к простому и столь изящному G = T.
Вспоминая об этой встрече несколько десятков лет спустя, Ле-метр заметил, что Эйнштейн с одобрением отозвался тогда о деталях его математического разбора, сказав, что они кажутся ему очень изобретательными и оригинальными. Но это были, по сути, не более чем вежливые банальности, какими знаменитый ученый пытался завершить надоевшую беседу. Не успел Леметр договорить, как Эйнштейн его прервал. Может, ваши расчеты и точны, сказал ему великий физик, «mais votre physique est abominable» («но ваши физические рассуждения совершенно неприемлемы»). С этими словами Эйнштейн уже хотел взять такси, чтобы поехать в лабораторию к Огюсту Пикару, прославленному специалисту по стратостатам, которого он условился посетить.
Большинство собеседников сочли бы это отказом от продолжения разговора. Но, как и почти все его европейские ровесники мужского пола, Леметр участвовал в Первой мировой войне (в его случае – копая траншеи, стреляя из пулемета и в конце концов дослужившись до артиллерийского офицера). Ему уже ничего не было страшно в жизни. И ничто не могло его смутить. А потому явную бестактность самого знаменитого ученого в мире, норовящего захлопнуть перед его носом дверцу такси, он решил рассматривать как возможность, а не как отказ. Иезуит ускорил шаг, прыгнул в то же такси и уселся рядом с Эйнштейном. Вероятно, профессору интересно будет узнать, каким образом он, Леметр, уже принял во внимание подобные замечания?
Профессору волей-неволей пришлось его выслушать: из едущего такси сбежать нелегко. А Леметр объяснил, что в его статье (и если Эйнштейн оказался бы подписан на почтенное издание Annales de la Société scientifi que de Bruxelles, он бы наверняка уже все это знал) приводится подробное экспериментальное подтверждение справедливости его выводов.
Сообщение встревожило Эйнштейна, и он прислушался к тому, что говорил этот странный иезуит, внимательнее. Когда-то он пренебрег работой Фридмана, провозгласив, что выкладки никому не ведомого русского – всего лишь математическая игра ума, которую не подкрепляют никакие астрономические факты. Теперь же другой образованный господин убеждал его: существует веское доказательство в пользу того, что Вселенная расширяется.
Объяснение пришлось скомкать, поскольку до лаборатории Пикара было недалеко. Леметр говорил о дипломной работе, которую он недавно сделал в Америке – одновременно в Гарварде и Массачусетском технологическом институте. Там он узнал удивительные вещи о переменных звездах под названием цефеиды. Он не знал, кто впервые их обнаружил, но эти звезды, разъяснял он, обладают способностью регулярно менять яркость, что дает нам вполне определенную информацию о происходящем в глубинах космоса. Похоже, они демонстрируют (представленные доказательства фрагментарны, но профессор наверняка поймет, насколько важным может оказаться это открытие), что звездные скопления удаляются друг от друга!
Эйнштейн не делал никаких грубых замечаний, но Леметр почувствовал, что его собеседник думает теперь о чем-то другом. «Казалось, он вообще был не очень-то хорошо осведомлен по части астрономических фактов», – позже вспоминал бельгиец. Такси остановилось. Эйнштейн вылез. Леметр так и не понял, удалось ли ему донести до великого физика свою идею.
Оказалось, что и да, и нет. Пятью годами раньше, в 1922-м, Эйнштейн отмахнулся от статьи Фридмана, заявив, что это всего лишь математика. Теперь же, в 1927-м, когда Леметр сообщил, что у него имеются подробные данные, подтверждающие гипотезу о расширении Вселенной (как раз то, что Эйнштейн просил у Фрид мана), великий физик отмахнулся и от них – как от неприемлемых с точки зрения физики. Эйнштейн понимал, что Леметр объяснил свои выкладки не очень-то ясно, к тому же сам великий физик вел себя так, словно не желал слышать никаких подробностей, как будто неполнота услышанных фактов и то, что их получили не самые знаменитые астрономы, означало, что на эти находки можно не обращать никакого внимания.
Нет, дело тут явно обстояло непросто. Вот одно полезное сравнение.
В рамках некоего гарвардского эксперимента по социопсихологии группе студентов быстро показывали набор специальных игральных карт с обращенными цветами – то есть черви и бубны были черными, а пики и трефы – красными. Таким способом исследовали человеческое восприятие. Когда карты демонстрировали медленно, студенты с легкостью замечали, в чем подвох. Когда же карты мелькали очень быстро, не позволяя разглядеть детали, студенты не замечали, что перед ними необычная колода, и чувствовали себя столь же непринужденно, как и в первом случае. Но когда карты показывались с некоей промежуточной скоростью (при которой испытуемые все-таки могли успеть заметить то, что им показывают, но им не хватало времени полностью проанализировать увиденное), результаты оказывались иными. Студенты ощущали ужасный дискомфорт. Они жаловались на головокружение или на внезапную усталость, а иногда по непонятным им самим причинам у них возникало острое желание выйти из комнаты. И все они хотели, чтобы эксперимент поскорее завершился.
В подобной ситуации как раз и оказался Эйнштейн после того, как он услышал о работе Фридмана, и теперь, после того, как он узнал об еще более детальных исследованиях Леметра. Их результаты угнетали его. Пока он еще не до конца уяснил себе все тонкости, но знал: что-то тут не так. И очень хотел, чтобы это ощущение поскорее прошло.
* * *
И дилемму эту Эйнштейну никак не удавалось разрешить. Слишком уж он был не готов признать свою ошибку. Слишком уж он зациклился на своей лямбде. Ему требовался кто-то с более высоким авторитетом, нежели никому не ведомый бельгийский священник или столь же безвестный русский математик. И такой человек был. В мировых астрономических кругах 1927 года имелся почитаемый едва ли не больше всех своих коллег директор знаменитой обсерватории, расположенной на вершине калифорнийской горы Вильсон, – Эдвин Пауэлл Хаббл. Во многом его можно считать полной противоположностью Эйнштейну.
Хаббл, как полагали многие, прошел суровую, мужскую школу жизни. В юности он, поговаривали, был настолько серьезным боксером, что чикагские спортивные антрепренеры даже выясняли, не желает ли он выступить против чемпиона мира в тяжелом весе – могучего Джека Джонсона. Хаббл тогда отклонил это заманчивое предложение; позже он стал строевым офицером и ближе к концу войны принял участие в едва ли не самых ожесточенных сражениях Первой мировой, потрясших Францию.
Он не очень любил говорить о войне, но иногда, поздними вечерами, признавался обожавшим его студентам и дипломникам, что «тяжелее всего было видеть, как падают раненые, и все равно продвигаться вперед, даже не останавливаясь, чтобы им помочь». По словам Хаббла, в войну его не раз оглушало взрывом, были тяжелые ранения (видимо, этим объяснялся его поврежденный правый локоть). Однажды, рассказывал Хаббл, он запутался в оснастке покачивающегося на ветру разведывательного воздушного шара, на котором летел. Конечно, он перепугался, но все-таки как-то вернул себе то, что некоторые именуют храбростью (сам-то он знал, что это обычный здравый смысл), и продолжал наблюдать сверху происходившее на поле битвы, зарисовывая расположение вражеских войск.
Увлекательное жизнеописание, но, похоже, назвать его абсолютно правдивым можно с большими натяжками. Хаббл был действительно человек высокий, крепкого телосложения, однако боксом он занимался лишь один семестр, когда учился в Чикагском университете, превосходном учебном заведении, которое при этом не славилось выдающимися спортивными победами своих студентов. Вряд ли спортивные менеджеры посчитали бы возможным выставить такого студента, как Хаббл, против чемпиона-тяжеловеса.
Армейские приключения Хаббла тоже не совсем соответствовали его рассказам. Да, его призвали в действующую армию, но его подразделение так никогда и не вступило в бой. В его военной карточке, которую он получил при демобилизации, есть графы «Бои», «Медали», «Ранения», и везде проставлено аккуратное чернильное «нет». Травма локтя, вероятно, была софтбольной, и получил он ее, когда недолгое время преподавал в старших классах одной кен-туккийской школы.
Но все-таки мечты в духе Уолтера Митти могут стать отличной мотивацией для реальных жизненных достижений[8]. Хаббл действительно изучал астрономию и страстно хотел в ней преуспеть. В конце концов он оказался директором обсерватории, расположенной на горе Вильсон. Его предшественник умел ловко добывать деньги для обсерватории у богатых благотворителей (в их числе оказался бизнесмен Джон Д. Хукер), и на дикой вершине теперь гордо высились мощнейшие телескопы в мире, включая массивный стодюймовый телескоп, названный в честь Хукера. Телескоп был настолько тяжелый, что бесчисленные изогнутые фермы и противовесы, удерживавшие его в нужном положении, заставляли при взгляде на внутреннюю часть его купола вспомнить футуристический фильм Фрица Ланга «Метрополис», как раз вышедший на экраны в 1920-е годы.
Хаббл был настроен на успех еще и из-за того, что у него имелся соперник, у которого была мерзкая способность – он прекрасно видел истинное лицо Хаббла сквозь весь флер романтичного и героического образа, который он, Хаббл, старательно и на протяжении многих лет создавал. Ибо, несмотря на преувеличенный акцент англичанина (все эти «ну и ну-у» и «чер-ртовски отменно», которыми он обильно уснащал речь, изображая английского аристократа), на самом-то деле Хаббл родился на ферме в округе Озарк (штат Миссури). И в том же штате появился на свет Харлоу Шепли, еще один ведущий американский астроном. Шепли с подозрением относился к позерству Хаббла, но тоже жаждал успеха и признания.
Хаббл в ватной стеганой куртке – для наблюдений холодными ночами (1937 г.)
Соперничество между Хабблом и Шепли частенько подталкивало их к тому, чтобы использовать свое положение для распространения идей, которые каждый из них предпочитал называть собственными. К примеру, в 1924 году один шведский математик написал в Гарвардскую обсерваторию, сообщая, что континентальной Европы достигла новость о потрясающих работах профессора Ливитт по использованию переменных звезд-цефеид для измерения расстояний. Не могла бы госпожа Ливитт связаться с ним, чтобы изложить подробности?
Обычно такое послание из Швеции означает, что ученого-адресата рассматривают (по крайней мере, предварительно) как кандидата на Нобелевскую премию. Шепли к тому времени сменил Пикеринга на посту директора обсерватории. В ответ он написал, что, к несчастью, мисс Ливитт уже скончалась, но (поскольку ему известно, что Нобелевские премии не присуждаются посмертно), по счастливой случайности, именно он, Шепли, проделал основную работу по цефеидам, тогда как мисс Ливитт служила лишь, по сути, пассивным инструментом, выполнявшим его указания.
То была откровенная неправда, но поскольку Шепли теперь очень стремился всем сообщить об исследованиях Ливитт, якобы проведенных под его руководством, ее открытие переменных звезд-цефеид получило широкое признание. Это помогло Хабблу, все еще работавшему в обсерватории Маунт-Вильсон, сделать следующий шаг в изучении цефеид.
Астрономы того времени знали, что в нашей Галактике (Млечном Пути) имеется несметное количество звезд, парящих в пространстве практически стационарно. Однако никто не знал, имеется ли что-то за ее пределами. Уже удалось обнаружить странные световые клочки, названные туманностями: они не вписывались ни в какую очевидную классификацию, и большинство специалистов считало их газовыми облаками, существующими там и сям среди многочисленных звезд Млечного Пути.
Стодюймовый телескоп, установленный на горе Вильсон, был столь мощным, что Хаббл и другой астроном, его коллега Милтон Хьюмасон сумели получить весьма подробные снимки этих клочковатых туманностей. Некоторые из них, похоже, представляли собой все-таки не газ, а звездные скопления. Возник неизбежный вопрос: насколько далеко от нас они находятся?
Если бы загадочные туманности располагались сравнительно близко от Земли, это бы означало, что они – просто еще какие-то звезды, входящие в состав Млечного Пути. Тогда подтвердилась бы гипотеза о том, что Вселенная состоит из одной-единственной неизменной островной Галактики – нашей собственной. Если же таинственные «клочья тумана» располагаются гораздо дальше, можно было бы предполагать, что мы не так одиноки во Вселенной, как нам представлялось.
Хаббл отличался немалым трудолюбием, ибо понимал, что разрыв между его побасенками и реальными обстоятельствами его жизни ширится, и ему нужно побыстрее добиться чего-то значительного, иначе он уже не выберется из тупика, в который сам себя загнал. Он хорошо умел работать руками, а Хьюмасон еще лучше: это был весьма аккуратный и благоразумный человек, в подростковые годы зарабатывавший на жизнь в качестве погонщика мулов, доставляя на гору, по малопроходимым извилистым тропам, материалы для сооружения этой самой обсерватории. С помощью нескольких доброжелательных астрономов он занялся самообразованием, постепенно обучившись обращаться и с тяжелой техникой, и с деликатной фотографической аппаратурой.
Милтон Хьюмасон (ок. 1940 г.)
В 1925 году Хьюмасон и Хаббл, сопоставляя несколько снимков особенно клочковатой туманности в известном многим созвездии под названием Андромеда, увидели, что там имеется одна звезда, чье сияние меняется в точности как у переменных звезд, тщательно проанализированных Ливитт (или Шепли?). Период пульсации этой звезды составлял 31 день, то есть оказался настолько большим, что звезде, согласно таблицам Ливитт, полагалось обладать необычайной истинной яркостью. Но даже при наблюдении в мощнейший стодюймовый телескоп с его огромным увеличением она казалась крайне тусклой.
Как объект с такой большой истинной яркостью может выглядеть столь тусклым? Объяснение существовало только одно: сияние звезды ослабевает по мере того, как свет проходит колоссальное расстояние, отделяющее данный объект от Земли. Хаббл проделал необходимые вычисления. Астрономы часто пользуются единицей расстояния, именуемой световым годом (несмотря на название, это не мера времени, а дистанция, которую проходит свет за один год: около 9,5 триллиона километров). Наш Млечный Путь имеет в поперечнике, по-видимому, приблизительно 90 тысяч световых лет. В то время большинство астрономов сходились во мнении, что здесь-то и содержится вся сколько-нибудь значимая материя Вселенной. Но цефеида в Андромеде, согласно расчетам, находилась примерно в одном миллионе световых лет от нас!
Таким образом, получалось, что наша Галактика во Вселенной не одинока. Этот клочок светящейся материи представлял собой не облачко межзвездного газа и не кучку близких к нам звезд. Выходило, что Хаббл и Хьюмасон обнаружили целую колоссальную галактику, горделиво раскинувшуюся вдалеке от нашей и, несомненно, являющуюся частью исполинской небесной флотилии, причем эта флотилия растянулась в космическом океане гораздо дальше, чем мы представляли себе ранее.
Более того, существовал способ измерения того, насколько быстро движутся далекие галактики. Для этого следовало использовать эффект Доплера, хорошо известный ученым. Вначале его заметили применительно к звуковым явлениям. Когда мимо вас проносится по улице «скорая», вам кажется, что высота тона ее сирены меняется: если машина мчится в вашу сторону, тон выше, а как только машина начинает от вас удаляться, тон внезапно понижается. В каком-то смысле то же самое происходит и со светом, хотя здесь меняется уже не звук, а цветовые составляющие. Космический корабль, мчащийся к вам, будет казаться чуть голубее, чем если бы он оставался в неподвижности. Начав же удаляться от вас, он будет казаться чуть краснее (так называемое красное смещение). При небольших скоростях эффект проявляется слабо, но по мере их роста он становится все заметнее.
В то время некоторые астрономы уже начали изучать характер цветового смещения в различных звездных скоплениях. Именно этот эффект использовал Леметр в своих первых прикидках, которые он пытался растолковать Эйнштейну в брюссельском такси. Чем дальше звездные скопления, тем краснее их цвет, и это можно заметить с Земли. Объекты дальнего космоса действительно удаляются от нас.
Хьюмасон и Хаббл попросту проработали гипотезу Леметра о движении звезд более детально. У бельгийца не было таких точных сведений о космических расстояниях, как у них. Огромный телескоп, установленный на горе Вильсон, позволял американским астрономам идентифицировать пульсирующие цефеиды в настолько далеких галактиках, что эти подробности никогда не удалось бы разглядеть с помощью телескопа, который Фридман притащил в Крым, или с помощью телескопа, который приехал с Эддингтоном на остров Принсипи. Кроме того, полученные в обсерватории Маунт-Вильсон данные (к вящей радости Хаббла) едва ли удалось бы добыть, глядя в некогда считавшийся очень мощным 24-дюймовый телескоп, установленный на гарвардской исследовательской станции в Арекипе, куда Шепли посылал указания из своего Бостона. Диаметр зеркала хюьмасоновского телескопа составлял 100 дюймов, а значит, прибор мог собирать и фокусировать больше света. Хаббл не мог удержаться от колкостей в адрес своего вечного соперника Шепли, написав тому: «За прошедшие 5 месяцев я поймал 9 новых и 2 переменные… Следующий сезон тоже обещает быть увлекательным».
К 1929 году они завершили исследования. Хьюмасон, человек легкий, ничего не имел против того, чтобы Хаббл, этот видавший виды боксер и герой войны, опубликовал результаты лишь под одной, своей, фамилией (впрочем, печатно отдав должное и «большой поддержке» со стороны своего «ассистента» Милтона Хьюмасона). В статье приводилась аккуратная таблица, показывавшая, насколько далеко от нас располагаются 24 различные галактики. Кроме того, сообщались наиболее впечатляющие результаты по части того, как сдвиги в окраске этих объектов позволяют определить скорость их движения. Данные отличались немалой разрозненностью, но основной посыл казался вполне ясным: галактики разлетаются от нас, и чем дальше они от Земли, тем быстрее разгоняются.
Поскольку представленные доказательства были полнее, чем у кого-либо еще, а также благодаря убедительному голосу Хаббла и его умению создавать себе рекламу, о работах американцев узнало множество людей – и в США, и в Европе. О такой паблисити скромные Annales de la Société scientifi que de Bruxelles, в свое время опубликовавшие статью Леметра, могли только мечтать.
Новость пересекла Атлантический океан и настигла Эйнштейна в Берлине. Что ж, этому он сопротивляться уже не мог.
И тогда Эйнштейн дал всем понять, что лямбда умерла. Ее убил Хаббл – или, по крайней мере, он придал авторитетности открытиям, которые показывали: в этом параметре больше нет необходимости. Исходное уравнение Эйнштейна вновь засияло во всей своей первозданной красоте. Но душа Эйнштейна так никогда и не оправилась от этого потрясения.
* * *
Путешествовать в то межвоенное время было потруднее, чем сегодня. Лишь через два года Эйнштейн сумел добраться до Калифорнии. Он долго плыл на пароходе – сначала до Нью-Йорка, а потом через Панамский канал. Ему хотелось лично воздать должное Хабблу. Но и ему тоже воздали должное. Когда они с Эльзой в декабре 1930 года прибыли в Калифорнию, их судно встречали тысячи восторженных местных жителей, бесчисленные фотографы и даже оркестр, исполнивший песню, специально написанную в честь Эйнштейна.
Если Хаббл и раньше был вполне доволен, всего лишь притворяясь героем войны и чемпионом по боксу, то теперь, когда он оказался рядом с величайшим физиком мира, его гордость не знала удержу. Он рассылал приглашения на встречи с Эйнштейном почти всем сколько-нибудь значимым астрономам США. Эльза сводила мужа на огромное количество обедов с голливудскими звездами, отбирая эти мероприятия весьма эффективно, хотя и не очень вежливо: приглашения лились рекой, она все их принимала, а затем, в последнюю минуту, сама решала, какой из одновременных банкетов муж сочтет более престижным, и отказывалась от прочих. Однако приглашения от главных голливудских знаменитостей всегда воспринимались благосклонно. Эйнштейн посетил голливудскую премьеру «Огней большого города» вместе с Чарли Чаплином, звездой фильма. Разумеется, их окружали толпы поклонников и фотографов.
Эйнштейн и Чарли Чаплин на премьере «Огней большого города» (январь 1931 г.). Когда Эйнштейн осведомился у него, что означает весь этот ажиотаж, Чаплин кратко ответствовал: «Ничего».
Хаббл понимал, что на его собственное приглашение Эйнштейн непременно откликнется. Когда настал долгожданный день (29 января 1931 года, четверг), Хаббл оделся с большой тщательностью: как следует начистил ботинки; облачился в свои лучшие «оксфордские» брюки гольф (длиной чуть ниже колена, с широкими штанинами, которые снизу стянуты манжетами) и твидовый пиджак, захватил трубку, наверняка в последний момент проверил галстук, – и вот он был готов.
Посетителей обычно доставлял на вершину горы Вильсон старенький грузовичок, громко стрелявший глушителем. Ради Эйнштейна неугомонный Хаббл нанял изящный прогулочный седан «Пирс-эрроу». Фотографы и репортеры с киноаппаратами, проталкивавшиеся поближе, чтобы запечатлеть Эйнштейна и его жену в этом роскошном авто, видели рядом с великим физиком, справа, лучащееся неимоверным довольством лицо Эдвина Пауэлла Хаббла.
Он не отлипал от Эйнштейна в течение получаса, пока машина преодолевала крутые повороты дороги, карабкающейся вверх, да и позже, когда они осматривали 150-футовой высоты башню, где располагался солнечный телескоп (впрочем, встревоженному Хабблу ненадолго – и неохотно – пришлось расстаться с почетным гостем, когда тот отправился наверх в открытом одноместном лифте: тонкий трос тянул кабину на высоту 15-этажного дома). Когда же Эйнштейн благополучно спустился с верхушки башни (тем самым избежав газетных заголовков «Величайший гений мира погиб из-за некомпетентности астронома»), Хаббл уж больше не отпускал его. Он ни на минуту не отходил от Эйнштейна, пока они посещали главное здание обсерватории, а также помещения, где находились другие телескопы. И вот настала пора вступить под громадный купол, там размещался гигант со 100-дюймовым зеркалом. Едва Эйнштейн начал ловко взбираться по лесенке на самый верх (внизу порой открывался красивый вид на Лос-Анджелес, чья отдаленность устрашала), Хаббл тут же стал карабкаться рядом с ним. Фотографы остались внизу, бешено щелкая затворами. «Он буквально просочился туда, – позже написал один из коллег Хаббла. – Ему хотелось, чтобы его сфотографировали именно там, рядом с великим человеком».
После ужина, когда солнце наконец зашло и стали видны звезды, Хаббл препроводил Эйнштейна обратно под купол стодюймового телескопа, на сей раз уже не с целью съемки для прессы, а чтобы посмотреть в этот оптический прибор на планеты, туманности и звезды. И только Хаббл знал, что для него стало главным удовольствием – помогать Эйнштейну или знать, что Шепли придется в ближайшие дни прочесть об этом в газетах (ибо ему Хаббл почему-то «забыл» отправить приглашение).
Хаббл любил славу, однако все-таки не был таким уж эгоистом и понимал, что будет нечестно, если в торжествах того знаменательного дня не примет участия и Хьюмасон. Когда он рассказал Эйнштейну, что вот этот чер-ртовски отменный парень выполнил съемку для последующего расчета красного смещения (то есть получил те самые данные, которые показали, как быстро движутся галактики), Эйнштейн тут же устроился рядом с Хьюмасоном в еще одном из помещений обсерватории, дабы изучить исходные фотопластинки. Как мы помним, Эйнштейн провел немало лет в Бернском патентном бюро. Он всегда обожал мастерить, к тому же его отец и дядя, разумеется, всю его юность были буквально погружены в инженерное дело. Эйнштейн всегда с уважением относился к людям, умеющим работать руками. А у Хьюма-сона руки были такие же грубые и мозолистые, как и у Эйнштейна в молодости, когда он много занимался физическим трудом. Когда они уселись просматривать снимки, Эйнштейну стало ясно: этот человек не относится к своей работе спустя рукава – он работает честно, на совесть. Смещения не вызывали никаких сомнений. Целые галактики разлетались в стороны – с неуклонно возрастающей скоростью.
На следующий день, в библиотеке обсерватории, при огромном стечении фотографов и репортеров, Эйнштейн принес публичное покаяние. Читая свои записи вслух, на своем по-прежнему не очень-то совершенном английском он объявил: «Новые наблюдения Хаббла и Хьюмасона… касающиеся красного смещения света в отдаленных туманностях, заставляют предположить, что общая структура Вселенной не статична. Теоретические изыскания, предпринятые Леметром… демонстрируют гипотезу, которая хорошо вписывается в общую теорию относительности».
Это была впечатляющая новость. «Все, кто был в библиотеке, разом потрясенно охнули», – написал основной из репортеров Associated Press, отправленных освещать событие (агентство прислало несколько корреспондентов, ибо страну тогда начала охватывать маниакальная страсть к теории относительности). В статье, где официально сообщалось о том, что он изменил свои взгляды, Эйнштейн писал: «Примечательно, что новые факты, полученные Хабблом, делают общую теорию относительности менее запутанной (то есть лишают ее параметра Λ)…» Произошло возвращение к той красоте уравнений, которую он так любил.
Эйнштейн признал кончину лямбды, как только в 1929 году открытия Хаббла оказались достоянием научной общественности. Но его путешествие на гору Вильсон два года спустя, в 1931-м, официально закрепило это признание, ибо он заявил о нем во всеуслышание. В далекой Англии юмористический журнал Punch вскоре вышел с такими стишками:
Когда жизнь тебе кажется дряблой, Обратись, дружок, к доктору Хабблу, Вмиг изменит ее доктор храбрый И вернет ей упругость и стать!Это наверняка пришлось по душе англофилу Хабблу, любителю пощеголять в брюках гольф. Но мы-то знаем, что на самом деле он был мальчишкой с фермы из округа Озарк (штат Миссури). Через несколько недель на страницах почтенной миссурийской газеты Springfi eld Daily News появился еще более отрадный заголовок:
Юноша, покинувший плато Озарк ради изучения звезд, заставил передумать самого Эйнштейна!
Глава 14 Наконец успокоиться
Да, Эйнштейн избавился от лямбды и наконец-то успокоился. «С тех пор как я ввел этот параметр, меня не переставала мучить совесть, – объяснял он позже. – Я никак не мог поверить, что такая уродливая штука может оказаться воплощенной в природе». Он испытал огромное облегчение, когда получил возможность признаться в этом не только самому себе.
Было уже слишком поздно извиняться перед Фридманом, поскольку этот печальный и скверно питавшийся русский несколькими годами раньше умер от тифа, так никогда и не узнав, насколько убедительно подтвердятся его идеи. Но тучный Леметр был еще жив, и Эйнштейн проявил по отношению к нему беспримерное великодушие. В 1933 году (через два года после событий на горе Вильсон), на калифорнийской конференции, Эйнштейн встал и объявил последние работы Леметра «самой красивой и наиболее удовлетворительной интерпретацией… из всех, какие мне доводилось слышать».
Позже, в том же 1933-м, снова оказавшись в Брюсселе, где они с Леметром познакомились в 1927-м, Эйнштейн уже не пытался захлопнуть перед священником дверцу такси: он провозгласил на очередной конференции, что отец Леметр «имеет нам сообщить нечто весьма интересное», чем заставил иезуита волей-неволей развить бешеную деятельность, ибо преподобный вообще понятия не имел, что собирается выступать. Когда Леметр все-таки сварганил импровизированный доклад и стал представлять его собравшимся, из аудитории послышался громкий шепот Эйнштейна, все еще говорившего по-французски с чудовищным швабским акцентом: «Ah, très joli; très, très joli» («Чудесно, просто чудесно»).
Эйнштейн радовался не только тому, что все-таки в конце концов подтвердилась справедливость его изначального простого и симметричного выражения G = T. Он увидел, что находки Хаббла позволяют нам ощущать себя флатландцами, которым удалось заглянуть за пределы своего мирка и узреть, что же происходит на самом деле. Мистеру Квадрату из сказочки Эдвина Эбботта понадобился для этого визит Шара. Фридман предлагал (тоже вполне метафорически) отправить путешественника по совершенно прямой линии, чтобы установить, сумеет ли тот таким манером вернуться домой. Ни этот, ни другой подход здесь, пожалуй, не годился. Однако несложная – и довольно давняя – идея картографов о том, чтобы просто заняться тщательным измерением треугольников и прямоугольников, дабы выяснить, не вспучены ли они, – эта идея (которую Гроссман некогда объяснил Эйнштейну) оказалась ближе к реальному решению, которым теперь мог воспользоваться Эйнштейн.
Сам Хаббл не совсем мог уяснить себе это решение. Он понимал, что его переменная звезда-цефеида в Андромеде предоставляет нам способ продемонстрировать, что наша Галактика является лишь одной из многих галактик (исполинских островов, каждый из которых состоит из миллиардов звезд), и они простираются в глубины космоса, до самых пределов чувствительности его новенького стодюймового телескопа, установленного в горах посреди безводной калифорнийской пустыни. А красные смещения, изученные Хьюмасоном, показали, что эти галактики движутся прочь от нас, причем весьма быстро, и что чем дальше они от нас, тем быстрее они летят.
На более глубокое понимание Хаббл не был способен: он первым признался бы, что отнюдь не теоретик. Из теорий Эйнштейна и без того можно было вывести множество странных следствий. Вряд ли многие сочли бы естественным, скажем, представление о ткани пустого пространства, которая сминается, если «проткнуть» ее, забравшись по приставной лесенке (не говоря уж о том, что взмах руки в воздухе заставляет окружающее пространство прогибаться и провисать). А эти новые открытия стали еще более ошеломляющими. Обнаруженное при помощи стодюймового телескопа разбегание от нас далеких галактик имело бы смысл, будь Вселенная создана именно на вершине калифорнийской горы, после чего (как при катастрофическом выбросе магмы) все стало бы двигаться «вовне», больше никогда не прекращая этого процесса. Но даже Хаббл, при всей своей нескромности, все-таки не мог до конца поверить, будто все далекие галактики нашей Вселенной знают, где он находится, и что он пребывает в центре всех будущих событий и, по сути, наблюдает, как эти события все больше удаляются от него.
Реальное объяснение заставляет смирить гордыню. Допустим, вы держите в руке ненадутый воздушный шарик белого цвета. Произвольным образом нанесите на него красным маркером десяток точек. Начните надувать шарик, и вы увидите, как точки станут удаляться друг от друга. Причем точки, находящиеся поблизости друг от друга, будут расходиться сравнительно медленно, а точки, отстоящие далеко друг от друга, – быстрее.
И неважно, откуда вы смотрите. Примите за отправной пункт точку, которая оказалась на верхушке шарика, рядом с вашим ртом. По мере надувания ближайшие к ней точки проделают сравнительно небольшой путь. А вот точки на противоположном полюсе будут двигаться гораздо быстрее, ибо их будет толкать весь объем выдыхаемого вами воздуха. А теперь зацепимся взглядом за какую-нибудь из этих далеких красных точек. Ближайшие к ней будут сдвигаться лишь на небольшое расстояние. Между тем самые далекие от нее будут преодолевать гораздо более значительную дистанцию.
Такие эффекты выглядят куда серьезнее, если вообразить, что вместо шарика мы имеем дело со всей Землей. Допустим, вы стоите близ лондонского парламента и видите на другом берегу Темзы чудесный буколический район Баттерси. Он начинает медленно уплывать от вас. Это не так уж удивительно, ибо вы наблюдаете, как Темза расширяется с чинной скоростью одна миля в час. Но по радио вы слышите сообщения о том, что Дублин при этом уносится прочь от вас со скоростью 100 миль в час, а Нью-Йорк (город еще более отдаленный) – со скоростью 3000 миль в час.
Картина имела бы физический смысл, обнаружься под Темзой какой-нибудь мощный лавовый поток, распирающий Землю: тогда центром такого процесса стал бы Лондон. Но поступают и другие сообщения, очень странные: нью-йоркский репортер Би-би-си настаивает, что ощущает, будто именно он сохраняет неподвижность. Берег Нью-Джерси неспешно отдаляется от него со скоростью миля в час, по мере того, как Гудзон медленно расширяется. Но город Торонто, находящийся дальше от Нью-Йорка, чем Нью-Джерси, удаляется со скоростью 300 миль в час, а еще более далекий Лондон – со скоростью 3000 миль в час.
Непонятно, каким образом и Лондон, и Нью-Йорк могут ощущать себя неподвижным эпицентром какого-то планетарного извержения лавы. Такое возможно, лишь если наша планета расширяется по всему объему. Происходящее на поверхности может показаться странным (все эти города, так неодинаково удаляющиеся друг от друга), но если представить себе Землю как большой воздушный шар или пляжный мяч, которые расширяются, картина выйдет вполне осмысленная. Города, находящиеся поблизости друг от друга, всегда раздвигаются медленно. А далекие города (далекие друг от друга точки на поверхности планеты) по мере расширения всей сферы отодвигаются друг от друга быстрее.
В сущности, именно это Милтон Хьюмасон и наблюдал, обратив телескоп в глубины космоса. Далекие галактики в этом смысле подобны точкам на нашем шарике или городам на поверхности нашей планеты. Мало того, что они раздвигаются: вне зависимости от того, в какой точке вы находитесь, близлежащие к вам точки движутся медленно, а более далекие – быстрее. Этот факт может означать лишь одно: трехмерное пространство, в котором мы обитаем и которое кажется нам нашей Вселенной во всей ее полноте, на самом деле представляет собой как бы поверхность чего-то еще – чего-то колоссального, ужасающего и, вероятно, невообразимого для нашего ограниченного ума. Двухмерная поверхность воздушного шарика расширяется в трехмерном пространстве: это мы понять можем. Но получается, что и наша трехмерная Вселенная, со всеми ее галактиками и планетами, должна расширяться в четырехмерном пространстве. С этим логическим следствием не в силах справиться наш ограниченный ум: по крайней мере, мы вряд ли сумеем наглядно представить себе, как все это происходит.
Открытие Хьюмасона стало для Эйнштейна воплощением давних надежд. Предсказание, содержавшееся в его исходном уравнении (которое он по ошибке отверг, несмотря на все попытки Фридмана и Леметра убедить его), оказывалось верным. Наша Вселенная – лишь поверхность чего-то наподобие гигантской сферы. По всей поверхности этой «сферы» разбросаны галактики, и в настоящее время они разлетаются – по мере того, как расширяется «сфера». Мы у себя в Млечном Пути не обладаем никакой уникальностью или избранностью – как и никакая другая галактика. По сути, мы лишь точки на поверхности расширяющегося воздушного шарика. Вообразить это трудно. Но нет никаких сомнений: измерения, проведенные в обсерватории Маунт-Вильсон, недвусмысленно показали нам, «флатландцам», что это именно так.
* * *
Тот период (1929-й и несколько последующих лет) ознаменовался для Эйнштейна сравнительным спокойствием и в личной жизни. Они с Милевой наконец достигли взаимопонимания, во многом благодаря Мишелю Бессо, выступившему в качестве посредника-умиротворителя. Эйнштейн считал, что будет только справедливо, если он отдаст Милеве всю свою Нобелевскую премию (он получил эти деньги в 1922 году). Основную часть суммы она вложила в недвижимость, сдаваемую внаем. Финансовая стабильность уменьшила ее раздражение, в результате чего и сам Эйнштейн сумел теснее сблизиться с сыновьями. После одного выходного, проведенного с мальчиками, Эйнштейн писал Милеве, что их хорошее поведение дает понять: «Ты знаешь, что делаешь, ты это доказала».
Его жизнь с Эльзой тоже налаживалась. Едва познакомившись с ней, он писал: «Я должен кого-нибудь любить, иначе мое существование беспросветно. И этот «кто-нибудь» – вы». После их женитьбы в 1919 году первоначальный всплеск страсти поугас, но с годами в их отношения постепенно вернулись теплота и любовь – неожиданно для них обоих. И хотя Эйнштейн продолжал заводить интрижки на стороне, он никогда не унижал ее, всегда проявлял щедрость, а кроме того, обладал как раз таким чувством юмора, какое ей нравилось. Эйнштейн осознал, что даже несовершенный брак (начавшийся как отношения, выстроенные с досады на другую женщину) может постепенно обрести свои приятные стороны. Эльза восхищалась им, была превосходной хозяйкой, гости при ней чувствовали себя непринужденно, к тому же у нее тоже имелось чувство юмора, очень милая ироничность, которая пришлась ему по душе.
Вот один пример. В декабре 1930 года, когда они прибыли в Калифорнию для того, чтобы он ознакомился с результатами Хаббла, в поджидавшей толпе имелось несколько десятков девушек-чирлидеров (в США они обычно входят в группы поддержки местных футбольных команд и т. п.). Это зрелище показалось супругам настолько нелепым, что Эльза решила провести смотр этих восторженных девиц – как если бы перед ней вытянулся в струнку почетный караул. Она прошествовала мимо них, одобрительно бормоча: «Хорошо. Очень хорошо», – чем немало позабавила мужа.
Ее ничто не могло смутить или озадачить. Однажды, посещая вместе с Эйнштейном Чикагский университет, она бойко рассказывала, как им с мужем понравился их недавний визит в Принстон, несмотря даже на трудности с летучими змеями (fl ying snakes). Интервьюеры замялись, и Эльза объяснила: эти летучие змеи кусали ее за руки. Смущение нарастало, и она добавила: эти змеи даже залетали ей под юбку! В этот момент сочла нужным вмешаться хозяйка мероприятия, владевшая и немецким, и английским. «Вы действительно говорите о летучих змеях?» – поинтересовалась она у фрау Эйнштейн по-немецки. Эльза отрицательно покачала головой: эти американцы бывают такими наивными! «Nein! – сказала она. – Ich spreche von Schnaken!» («Нет! Я говорю о комарах!»).
Дома, в Берлине, она старалась окружить мужа всевозможными удобствами. К примеру, Эйнштейн обожал свежую землянику, и жена старалась, чтобы земляника всегда была в их доме. На кухне их радовал голубой попугай. Они устраивали музыкальные вечера. К тому же Эйнштейн любил отдохнуть от занятий наукой, сидя за пианино или взяв в руки свою любимую скрипку. Правда, соседи не одобряли его энергичную ночную игру на кухне, облицованной кафелем и дававшей гулкое эхо.
И даже загородный дом, помнивший многочисленных эйнштейновских любовниц, часто приносил супругам отраду. Эйнштейн любил гулять, наслаждаясь прекрасными видами вместе с Эльзой и падчерицами – а также сыном Гансом Альбертом, который теперь более или менее примирился с отцом и однажды прикатил к ним на мотоцикле, к полному восторгу всех. Они ходили в лес за грибами. Соседский сынишка разрешал им позабавиться странной игрушкой под названием «йо-йо». Плодовые деревья, тенистая терраса, благоухание орегонской сосны и галисийской ели (в свое время Эйнштейн заказал для строительства дома именно эти материалы)… Когда-то Эйнштейн заметил в беседе с Гансом Альбертом, что его (вторая) жена – «не какой-то там светоч интеллекта», теперь же он с удовольствием отмечал, что «тем не менее у нее чрезвычайно доброе сердце».
Дочери Эльзы, судя по всему, в конфликтах матери и ее мужа приняли сторону отчима, сочтя, что с «папой Альбертом» вполне можно сосуществовать, не обращая внимания на его романы: плюсов от такого положения вещей оказывалось намного больше, чем минусов. Тем более что при острой необходимости Эйнштейн всегда готов был отступить, чтобы защитить свой брак. К примеру, в 1924 году он написал по уши влюбленной в него молоденькой выпускнице университета, что их отношения не имеют будущего и ей следует просто «найти кого-нибудь на десять лет моложе меня, кто будет любить тебя так же сильно, как я».
Семейная жизнь Эйнштейна стабилизировалась. Он достиг равновесия и в других областях жизни – или, по крайней мере, ему так казалось. Так, он теперь уже совершенно иначе реагировал на научные предположения человека, который некогда приводил его в такое раздражение своими доводами. Речь идет о Леметре.
В 1927 году, еще до того, как Эйнштейн принял решение избавиться от лямбды, он грубо обошелся с Леметром, не придав его работе сколько-нибудь серьезного внимания. Это обидело неопытного в научных спорах бельгийца, заставило его почувствовать некоторую отвергнутость. Но после того, как поддержка Эйнштейна (а также Эддингтона и других авторитетных специалистов) принесла священнику мировую и вполне мирскую славу, он вновь обрел уверенность в себе. И начал глубже всматриваться в динамику, которую извлек из первоначального уравнения Эйнштейна. Да, возможно, Вселенная расширяется, а может быть (согласно «индуистской» гипотезе Фридмана), она постоянно претерпевает циклы расширения и сжатия, словно пульсируя. Но все эти образы подразумевают, что процесс шел всегда – то есть что сотворения мира не было, как не будет и конца мира.
Если это так, то почему?
До конца жизни Леметр настаивал: то, что он тогда сделал, не имело никакого отношения к его религиозным убеждениям, ибо религия – это один путь к истине, а наука – другой. И та, и другая в общем-то могут действовать независимо друг от друга. Но бумаги, обнаруженные после его смерти, показывают: в юности, обучаясь в семинарии, еще только готовясь принять сан, он уже записал для себя: «Как подсказывает Книга Бытия, Вселенная началась со света».
Теперь, обретя новую уверенность в годы после памятного 1929-го, он начал различать очертания этой идеи за исходным уравнением Эйнштейна. Нельзя ли просто отправиться в прошлое и посмотреть, с чего все началось? Узнав о результатах, полученных в обсерватории Маунт-Вильсон, уже не следовало считать этот вопрос чисто теоретическим. Как показал Хьюмасон, некоторые галактики летят от нас так стремительно, что еще вчера они, быть может, находились к нам на миллиард миль ближе, а позавчера – на два миллиарда. Все галактики, лежащие за пределами нашей, когда-то были ближе. Словно бы когда-то давно в космосе разорвалась исполинская граната, и во все стороны полетели осколки – галактики. Мы прибыли на место происшествия очень поздно, и мы видим лишь эти разлетающиеся фрагменты. Но мысленно мы можем повернуть время вспять и добраться до исходного момента – до момента взрыва. Леметр назвал этот момент «Днем, когда не было Вчера».
Свои новые расчеты Леметр опубликовал в 1931 году. Разумеется, они более сложны, чем приведенное выше краткое изложение, ведь вместо того, чтобы представлять себе первородный «атом» как кусочек материи внутри какой-то области пространства, нам следует воображать себе само пространство и время, схлопывающиеся в куда более компактную и плотную точку. Наши математические расчеты, может, и точны, но наши образы (и слова, которые их описывают) вынуждены оставаться чем-то зыбким и метафорическим. Впрочем, Леметр все же попытался изобразить нужную картину: «Эволюцию Вселенной можно уподобить только что завершившейся череде фейерверков: мы видим немногочисленные клочья дыма, обрывки бумаги, горстки золы. Стоя среди остывшего пепла, мы наблюдаем, как гаснут светила, и пытаемся вспомнить исчезнувший блеск начала миров». Собственно, именно это Эйнштейн в 1933 году назвал «самой красивой и наиболее удовлетворительной интерпретацией из всех, какие мне доводилось слышать».
Гипотеза Леметра о происхождении Вселенной ошеломляла. Она сулила настоящий переворот в науке. И, подобно многим другим ключевым достижениям в теоретической физике XX века, она всем была обязана соотношению G = T.
Из этой реабилитации исходного гравитационного уравнения Эйнштейна проистекали и плюсы, и минусы. Хорошая новость состояла в том, что Эйнштейн (и все, кто понимал его уравнение) теперь явственно осознал одну из самых поразительных вещей, на какие способна наука: человек порой способен вывести формулу, которая оказывается умнее своего создателя. Иными словами, такие уравнения могут позволить давать потрясающе точные предсказания, о которых создатели уравнений даже не подозревали. Простой смертный, сидя в своем кабинете или бродя по улицам Цюриха и Берлина, при помощи чистого разума сумел прийти к идее равенства G = T… Но этот человек по имени Альберт Эйнштейн, и представить себе не мог, какие сногсшибательные предсказания начнут словно из рога изобилия сыпаться из этого выражения.
Еще больше Эйнштейну пришлось по душе, что его размышления вроде бы действительно показали: Вселенная устроена аккуратно и упорядоченно, в ее основе лежат необычайно четкие и ясные принципы. Эйнштейну всегда очень нравилась эта архитектурная цельность, это единство. Избавившись от лямбды, он получил подтверждение, что сия аккуратно устроенная реальность действительно существует вокруг нас, лишь ожидая, пока человек ее откроет.
Другое следствие носило куда менее позитивный характер.
Гению, как правило, приходится отчаянно биться, разрабатывая и продвигая свои идеи. Гений почти всегда выходит далеко за пределы общепринятых представлений, и ему нужны упорство и уверенность в том, что он прав. Однако при этом не помешает и известная гибкость: ваши первые революционные открытия должны соответствовать всей уже полученной исследователями фактической информации, относящейся к делу, а ваши дальнейшие работы не должны противоречить новым открытиям других ученых. Нужно уметь должным образом скользить по этой грани между гибкостью и упрямством.
Эйнштейн мог вот-вот нарушить это хрупкое равновесие. Когда-то он добавил в свое уравнение неуклюжий тормоз в виде лямбды лишь из-за того, что Фрейндлих и другие астрономы, работавшие в 1915–1916 годах, еще ничего не знали о расширении Вселенной. Если бы они тогда владели всей необходимой информацией, они бы не стали ему противоречить, и ему не понадобилось бы вводить поправку в свое уравнение. Он поклялся себе, что больше никогда не попадется на такую удочку. Он больше никогда не позволит, чтобы ограниченность эмпирических знаний заставила его разрушить то, что он считает чистой и прекрасной теорией.
Годы спустя он якобы признался коллеге: добавление лямбды стало «величайшей глупостью в моей жизни». Но насчет этого он заблуждался. Куда более серьезной ошибкой Эйнштейна стало возникшее у него после истории с лямбдой ощущение, будто он может игнорировать все эксперименты, которые, как кажется, опровергают то, что он считает верным. Он допустил эту ошибку, возражая Фридману и Леметру, но и во многом другом он ошибался точно так же. На протяжении дальнейших лет Эйнштейн не раз будет сталкиваться с эмпирическими данными, заставлявшими предположить, что Вселенная куда менее аккуратна и упорядоченна, чем он считал. И он ни разу не захочет поверить в эти доказательства. История с лямбдой сделала его необычайно упрямым, даже непреклонным и абсолютно не способным признавать противоречившие его теории факты – факты, касающиеся реального устройства космоса.
Часть V Величайшее заблуждение
Эйнштейн (начало 1930-х гг.)
Глава 15 Сокрушить выскочек
В те годы, когда Эйнштейн работал над крупномасштабными проблемами структуры Вселенной, физика добилась больших успехов в области сверхмалых объектов – на уровне атомов и электронов. Это происходило и в то время, когда Эйнштейн придумывал свое выражение G = T, и позже, когда он ввел в него поправку-лямбду, и в те десять с небольшим лет, когда он неохотно мирился с введением этого нежелательного параметра. Между тем в науке постепенно складывалась новая парадигма, суля такой же мощный сдвиг в понимании мира, какой викторианцы вызвали в физике столетием раньше – и какой принесли в XX веке эйнштейновские специальная и общая теории относительности. Наметившаяся революция угрожала всему, что Эйнштейн считал истиной. Его отклик на нее в конечном счете и приведет к той научной изоляции, которую ему будет суждено переживать в Принстоне.
Каковы же были прежние теории, с которыми Эйнштейн, как и многие другие физики, успел свыкнуться (хотя другие ученые в это время уже вовсю работали над тем, чтобы коренным образом все переменить)? В эйнштейновской молодости (и даже когда ему уже было за 30 и он так многого достиг благодаря своим идеям, позволившим ему вывести гениальное уравнение G = T) мыслители полагали: при рассмотрении любых объектов, больших или малых, можно отыскать четкие законы, объясняющие характер их движения. Но в начале XX века появлялось все больше свидетельств в пользу того, что это не так, хотя многие ученые собратья Эйнштейна поначалу лишь с большой неохотой признавали и соглашались с подобными предположениями.
Вот один пример. В 1908 году, работая в Манчестере, самонадеянный молодой исследователь – новозеландец по имени Эрнест Резерфорд – обнаружил нечто странное и непонятное. Он стрелял крошечными частицами по тончайшим слоям вещества (состоящим, разумеется, из атомов), и хотя большинство таких снарядов спокойно пролетало слой насквозь (или отклонялось от курса на несколько градусов), нашлось некоторое количество частиц, которые отскакивали назад.
«Пожалуй, это стало самым невероятным событием в моей жизни, – писал Резерфорд. – Почти таким же невероятным, как при стрельбе 15-дюймовыми ядрами по листу бумаги получить удар в лоб от отскочившего ядра».
Открытие Резерфорда бросало вызов сложившимся представлениям о том, как должны вести себя субатомные частицы. Но такой рикошет все-таки не положил конец воззрению, согласно которому все в мире можно понять с предельной точностью и определенностью. После всего нескольких недель смущения Резерфорд пришел к выводу, что полученные им результаты означают следующее: внутри атома нет какого-то «случайного хаоса», на самом деле там просто имеется нечто очень твердое. Он понял, что эту твердую частицу в центре атома можно представить себе как своего рода миниатюрное солнце. А вокруг него летают миниатюрные планеты – электроны, чья масса гораздо меньше, чем масса этого «солнца». Те частицы, которыми он обстреливал атомы, по большей части попадали в пустое пространство между крошечными «планетами», но иногда тот или иной снаряд попадал в прочное «солнце» в центре (он назвал этот объект ядром атома), и тогда такие частицы отскакивали назад.
Это было утешительное и привычное объяснение: микромир устроен и действует просто как миниатюрная копия макромира, и мы, люди, живем на планете, находящейся в большой Солнечной системе, а внутри нас имеется множество куда более мелких «солнечных систем», представляющих собой атомы, из которых мы состоим и в которых электроны вращаются вокруг центра – ядра. Ничто в этой гипотезе не нарушало устоявшегося представления о прогрессе науки: проводя все более углубленный анализ и применяя все более мощные инструменты, ученые продолжают с абсолютной точностью наблюдать явления природы, независимо от того, заберутся ли они в глубь материи или отправятся в далекий космос.
А потом, в 1912–1913 годах, датский ученый Нильс Бор выяснил еще более тонкие подробности насчет атомных миниатюрных «солнечных систем». Резерфорд походил на типичного крепкого новозеландского фермера. Бор очень отличался от него внешне. У него была огромная голова и необычайно большие зубы. Когда они с братом еще пребывали в младенческом возрасте, какой-то прохожий (по семейной легенде) вслух посочувствовал его матери, которую судьба наделила столь уродливыми детьми. Однако впоследствии Бор прекрасно играл в футбол. На защите его диссертации сотрудники факультета Копенгагенского университета не без смущения осознали, что многие из присутствующих – это попросту другие футболисты, явившиеся поддержать своего выдающегося товарища по команде. Брат Нильса, еще более одаренный спортсмен, стал звездой национальной олимпийской сборной. По некоторым сведениям, когда Нильс получил Нобелевскую премию, в одной спортивной газете появился заголовок: «Брату футбольной знаменитости присуждена премия по физике».
Нильс Бор на отдыхе в Норвегии, (1933 г.)
Бор очень плохо говорил – обычно он что-то медленно мямлил. Но он был добрейшим человеком, с глубоким творческим умом и всегда наслаждался общением с друзьями, разделявшими его способность смотреть на жизнь с неожиданной стороны. В ту пору, когда Нильс Бор начал заниматься орбитами электронов, он учился вместе с Эрнестом Резерфордом и жил в манчестерском пансионе. Студенты, обитавшие там, заподозрили, что их хозяйка использует недоеденное в воскресенье жаркое, пуская его в блюда, подаваемые несколько дней или даже недель спустя, что делает эти блюда совершенно несъедобными. Один из студентов, венгр Дьёрдь де Хевеши, после некоторых раздумий решил сбрызнуть остатки их воскресной трапезы радиоактивным маркером из лаборатории Резерфорда. Пару дней спустя они тайком притащили в пансион прибор, действующий по принципу счетчика Гейгера, и убедились, что их подозрения справедливы. Бор и де Хевеши стали друзьями на всю жизнь (кстати, спустя годы де Хевеши удостоился Нобелевской премии как раз за работу с радиоактивными маркерами).
Занимаясь изучением строения атомов, Бор сделал открытия, которые не укладывались в рамки традиционной «рациональной» физики. Выяснилось, что электроны все-таки не могут вести себя как «планеты миниатюрной солнечной системы», которые воображал Резерфорд. Если электрон начнет вращаться вокруг ядра, он вскоре свалится на него, и в конечном счете все атомы схлопнутся. Но поскольку мы, и наша планета, и основная часть Вселенной состоим из атомов, которые отнюдь не схлопнулись (ведь наши тела пока не съежились в кучку сверхплотных частиц праха), должно происходить что-то еще – что-то такое, что удерживает носящиеся вокруг ядра электроны в состоянии относительной стабильности.
Но и эту странную особенность орбит электронов можно было, подобно открытому Резерфордом ядру, объяснить в более или менее привычных и традиционных понятиях. Бор предположил, что электроны вращаются по фиксированному набору возможных орбит и не в состоянии произвольным образом «соскальзывать» ближе к центру – ядру. В своих перемещениях такого рода они ограничены крошечными «скачками» от одной конкретной орбиты к другой. Это как если бы Нептун мог внезапно очутиться несущимся вокруг Солнца где-нибудь рядом с Землей (или, скажем, рядом с Марсом или другой планетой), однако никогда не мог бы оказаться в других участках Солнечной системы. Подобные перемещения (как и концепцию Резерфорда) поначалу многим было нелегко понять, но когда ученые все-таки приняли эту идею, оказалось, что картину происходящих явлений можно описать в мельчайших деталях: «внутреннего предела» детализации не возникнет. Перемещения электронов назвали квантовыми скачками: термин подчеркивает, что они происходят дискретно (то есть что электроны могут перемещаться лишь на некоторые фиксированные расстояния).
* * *
Да, это создавало натяжки в (уже классическом) представлении, которое некогда предложил Эйнштейн, однако все же не нарушало его. Собственно, Эйнштейна можно считать главным игроком во многих из этих первых научных достижений по части сверхмалых объектов, игроком настолько важным, что даже Нобелевскую премию ему присудили не за его «крупномасштабные» исследования (не за специальную и общую теории относительности), а за работу 1905 года, где он показал, каким образом свет может одновременно являться и потоком частиц, и волной (эту идею назовут корпускулярно-волновым дуализмом). Представив свет как поток частиц (их назвали фотонами), легко объяснить, почему свет выбивает электроны из металлов (то есть фотоэффект). Широким кругам общественности эта идея казалась просто еще одним свидетельством его гениальности, но для Эйнштейна она стала вполне ожидаемой и естественной: Вселенная устроена упорядоченно, и человеческому рассудку вполне по силам выявить ее упорядоченность.
Десятилетие спустя после первой работы о фотонах, на волне вдохновения после открытия в Берлине соотношения G = T, Эйнштейн продолжил свои ранние разработки, касающиеся субатомных частиц. Летом 1916 года, отдыхая после изнурительных исследований, приведших к открытию его гениального соотношения, он подробнее описал, каким образом электроны, которые обычно не могут слететь вниз с «более высоких» орбит вокруг ядра, иногда могут прийти в возбужденное состояние, если их облучить дополнительной порцией света. Когда же они теряют энергию, то падают на более низкую орбиту, излучая при этом свет, подобно Люциферу, низринувшемуся с небес. Это может привести к своего рода цепной реакции, только в данном случае порождающей не гибельный атомный взрыв, а просто чистый и полезный свет.
Эйнштейн не мог сконструировать аппарат, где длительное время шел бы такой процесс: в Берлине времен Первой мировой плохо было с оборудованием. Но за такой процесс усиления света посредством стимуляции излучения (Light-Amplifi cation through the Stimulated Emission of Radiation, отсюда позже возникло сокращение «лазер») в конце концов ухватились его собратья-ученые. В своей краткой и как будто даже легкомысленной статье на сей счет Эйнштейн, по сути, изложил главные принципы динамики лазера – устройства, лежащего в основе современной волоконно-оптической связи, без которой не смог бы работать Интернет. А поскольку он не знал, когда происходят такие перескоки электронов, он небрежно заметил в своей статье, что следует, по-видимому, учитывать вероятность таких беспричинных скачков.
Оставался важнейший вопрос: будут ли эти идеи (насчет фотонов, электронов, ядра и других субатомных объектов) по-прежнему вписываться в ту определенность, которую наука со времен Галилея и Ньютона обнаруживала в мире? Эйнштейн полагал, что они должны в нее вписываться. Однако его убеждениям в том, что Вселенной правят четкие и логичные принципы, все больше противоречили новейшие исследования. Так, ему не нравилось, что он (по крайней мере, в своих исходных выкладках) не мог точно определить, какие именно электроны первыми окажутся выбитыми со своих орбит. «Слабость этой теории, – писал он в сообщении о своих изысканиях, – коренится… в том факте… что она оставляет на волю «случая» продолжительность и направление этих элементарных актов».
Но тогда его не очень беспокоил элемент случайности, вкравшийся в его теорию светового излучения, порождаемого «падением» электронов. Во многих других областях мы вполне довольствуемся статистическим средним: скажем, определяя высоту новобранцев во французской и германской армиях или же цвет листьев в лесу в определенное время года. И это не значит, что мы находимся под гнетом случайности. Мы знаем, что, вглядевшись пристальнее, сумеем вычленить последовательность событий, которые привели к тому, что каждый конкретный рекрут обладает именно таким ростом, а каждый конкретный лист – именно такой окраской. По общепринятому мнению, отступление на позиции статистики и теории вероятностей не носит фундаментального характера: это просто удобное допущение, полезное при работе с большими объемами данных, когда мы не в состоянии детально разобраться в причинно-следственных связях, которыми обусловлено поведение каждого конкретного объекта. По мере того, как мы будем узнавать больше, вероятности сами собой исчезнут из наших результатов.
Эйнштейн придерживался именно таких взглядов – и полагал, что случайность в конце концов удастся изгнать из его теории. Вот почему он поставил слово «случай» в кавычки. Он понимал, что в рамках его расчетов удобно рассуждать о вероятностях различных видов электронных переходов. Но в глубине души он оставался «классическим» физиком и считал, что, найдись у нас время на изучение всех подробностей, мы, без всякого сомнения, увидели бы, что каждый такой переход обусловлен простыми, ясными и четкими причинами. «Главная штука, которую тут над нами сыграл Вечный Загадчик, – говорил Эйнштейн своему другу Бессо, – пока еще совершенно нами не понята».
Эйнштейн верил, что великие загадки Вселенной можно разгадать логическим путем. Однако к середине 1920-х годов стали поступать все новые и новые результаты, которые, казалось бы, нарушали обещанную ясность, что и привело к столкновению Эйнштейна со своими коллегами-физиками, занимавшимися изучением сверхмалых объектов: эта новая область в то время как раз начала бурно развиваться.
* * *
По мере развития субатомных исследований в 1920-е годы становилось все очевиднее, что микромир устроен согласно весьма неожиданным законам. Хотя простые атомы (скажем, атом водорода) покорно следовали боровским принципам, в атомах более сложных (углерода, золота, алюминия) электроны, похоже, вели себя совершенно иначе. Арнольд Зоммерфельд и другие физики предпринимали попытки как-то подлатать теорию, чтобы все в атоме действовало традиционным образом. Например, предлагалось принять, что электроны вращаются вокруг ядра не совсем как планеты вокруг Солнца, аккуратными кругами, лежащими в одной плоскости, а по эллипсам – или же следуя сложным трехмерным траекториям. Но это были только жалкие потуги.
В 1924 году Макс Борн, друг Эйнштейна, профессор знаменитого Гёттингенского университета, сообщил своим лучшим дипломникам и преподавателям-ассистентам, что с него довольно полумер: он хочет разработать теорию, которая объяснит все существующие нестыковки и неясности. Борн был почти ровесником Эйнштейна, и было логично ожидать, что он воспротивится этим неожиданным новооткрытым явлениям, столь отличающимся от всего, чему его учили. Но Борн, обладавший мощным интеллектом, все же как ученый по уровню был ниже Эйнштейна. Впрочем, в данном случае это оказалось даже преимуществом: он не так цеплялся за свои былые достижения, как Эйнштейн. Для Эйнштейна невероятно плодотворным оказался именно классический подход. Борн практически ничего не терял, переходя на совершенно иные позиции.
И Борн, и его студенты знали, что Исааку Ньютону удалось понять механику крупномасштабного, видимого мира, в котором мы живем: мира деревьев, лун, планет, могучих паровозов (которых, впрочем, при Ньютоне еще не изобрели). Теперь же Борн настаивал: задача сегодняшних физиков – проделать то же самое для микромира, где происходят эти удивительные крошечные квантовые скачки. И назвать новую науку (если ее удастся создать) следует квантовой механикой.
Годом позже, в 1925-м, самый талантливый из борновских преподавателей-ассистентов, привлекательный, светловолосый и весьма нервный 24-летний юноша по имени Вернер фон Гейзенберг сумел решить поставленную Борном задачу. Он относился к числу поклонников немецкого романтизма и обожал путешествовать по баварским Альпам в компании мускулистых молодых людей, мечтательно любуясь закатами. После нескольких месяцев работы юношу посетило вдохновение. И вот все его догадки сложились в единое целое. Это произошло ночью, на североморском острове Гельголанд. На эти чистые, продуваемые ветром берега он сбежал, прячась от сенной лихорадки, преследовавшей его на материке.
Гейзенберг добился успеха, оставив всякие попытки выяснить, каким именно образом электроны летают в атоме – по эллипсам, или же высоко возносясь над «северным полюсом» ядра, или же как-то еще. Он знал, что Эйнштейн, его кумир, сделал выдающиеся открытия в области теории относительности, просто определяя, что мы можем измерить касательно того или иного события, и не всегда стремясь при этом вообразить себе подробности того, почему процесс идет именно так (вспомним пробуждение в падающем лифте или умение разглядеть, как невинный кусок радия лучится чистой энергией).
Вернер фон Гейзенберг (1926 г.), год спустя после своего ключевого открытия, сделанного на ветреном острове Гельголанд
Теперь же, для своих собственных целей, Гейзенберг составлял списки всего, что физики могли бы наблюдать, изучая, как электроны при различных условиях порождают свет. Ученые бомбардировали светом атомы (в состав которых входили исследуемые электроны) или каким-то иным образом «тревожили» их. Результаты наблюдений оказывались различны. Гейзенберг намеревался просто записать то, что «входит» в атомы и «выходит» из них, а затем связать то и другое простейшими математическими операциями.
Вот одна простая аналогия. Представьте, что вы отмечаете, в каких костюмах большая труппа актеров спешит за кулисы в антракте (скажем, во время какой-нибудь масштабной оперетты, которые были тогда очень популярны в Берлине), а потом выясняете, как это соотносится с тем, в какой одежде они окажутся, выходя на сцену в начале следующего действия. Понятно, что здесь должны обнаружиться какие-то четкие закономерности. Посмотрев спектакль несколько вечеров подряд, можно заключить, что женщины, одетые принцессами, обычно предстают в следующем акте пейзанками (если сюжет переносится из дворца в деревню). Такой анализ, конечно, имеет свои ограничения, но в рамках подхода, выработанного Гейзенбергом, этого оказывалось достаточно. Незачем предпринимать утомительные попытки разобраться в отдельных переодеваниях, торопливо происходящих за сценой: мы измеряем лишь то, что способны наблюдать, глядя на то, в каких нарядах актеры появляются из-за кулис, и не задумываясь о том, какие причины побудили этих лицедеев переодеться.
Метод, разработанный Гейзенбергом, не так уж отличался от описания электронных переходов и их вероятностей, которым занимался Эйнштейн при работе над прототипом лазера в 1916 году. На входе – один набор фотонов, на выходе – другой. Не трудно провести их измерение и наловчиться с неплохой точностью предсказывать, как один набор приводит к появлению другого. Можно проделать это с опереттой, а можно – с электронами. Что-то подобное как раз и предпринял Гейзенберг в своих гельголандских расчетах 1925 года. Он рассуждал так: сведем в единую таблицу ряд событий, которые могут происходить внутри атома, и на ее основе проведем обсчет спектральных линий, которые мы при этом наблюдаем. Он не собирался строить предположения о том, что «на самом деле» творится внутри атомов и «на выходе» порождает наблюдаемые нами явления. А вдруг происходящее внутри атомов вообще непознаваемо, или же это слишком сложные процессы, которые мы пока не способны понять. Неважно. Сейчас он не собирается об этом думать.
Так Гейзенберг добился того, чего не сумели достичь его старшие коллеги-физики, тоже занимавшиеся этой проблемой. Великое открытие, какие случаются раз в жизни, лежало перед ним на столе в виде разрозненных заметок. («Было почти три часа ночи… но я перевозбудился и никак не мог заснуть», – позже вспоминал он.) Взволнованный Гейзенберг пешком отправился на южную оконечность острова Гельголанд, вскарабкался на скалу, глядящую на просторы Северного моря, и (подобно Эйнштейну и его друзьям на одной вершине близ Берна 20 лет назад) стал смотреть, как поднимается над горизонтом солнце – торжественно и неуклонно. Строгая, четкая и точная причинность столетиями правила миром. Теперь же Гейзенберг, намеренно ограничившись лишь «внешними» измерениями (он полагал, что Эйнштейн поступал точно так же), заявил: наша задача вовсе не состоит в том, чтобы строить догадки о происходящем «внутри». Эта идея Гейзенберга произвела настоящий переворот в науке. Считается, что именно с нее началось развитие новой, квантовой механики.
Вернувшись в континентальную Германию, он всем рассказал о своем открытии. Он говорил: пока вы не думаете о подробностях происходящего внутри атома, можно делать удивительно точные прогнозы насчет света, испускаемого этим атомом. С XVII века, со времен великого Исаака Ньютона, вся наука строилась на предположении, что каждый наблюдаемый нами процесс можно (по крайней мере, в принципе) прояснить во всех подробностях. И вот теперь Гейзенберг утверждал: нет, это не обязательно так.
Макс Борн, некогда возглавлявший факультет, где учился Гейзенберг, во многом принял этот новый подход, поскольку результаты, полученные его бывшим студентом, отличались впечатляющей точностью. А вот Эйнштейн – нет. Однако он находился в дружеских отношениях со всем семейством Борнов, и ему следовало вести себя деликатно. В намеренно двусмысленных и обтекаемых выражениях он написал жене своего друга Макса: «От идей Гейзенберга – Борна у всех захватило дух. Они произвели на нас глубокое впечатление».
Эйнштейн прибег к такой двусмысленности еще и вот почему: хоть он и возражал против того метода, каким Гейзенберг словно бы намеревался отставить причинность в сторону, создатель теории относительности отлично знал – из-за своей косности ученые часто отвергают важнейшие открытия. Так, в 1895 году Вильгельм Рентген описал обнаруженные им странные лучи (позже их назовут в его честь рентгеновскими), и те физики, которые поначалу отказывались поверить Рентгену, вскоре вынуждены были признать свою неправоту. Конечно же, ко всем новооткрытым феноменам следовало подходить непредвзято и вдумчиво. К примеру, в 1903 году один известный французский физик описал столь же странное новое явление, которое назвал N-лучами. Не прошло и двух лет, как выяснилось, что эти «лучи» – следствие ошибки эксперимента, и теперь уже физикам, которые поспешили принять их, пришлось признавать свою неправоту. В общем, Эйнштейн не спешил давать окончательного публичного заключения по поводу работы Гейзенберга.
Супруги Борн подозревали, что в своем туманном письме Эйнштейн проявляет любезность, и не более того. И Макс Борн попытался выведать, что же он на самом деле думает о результатах Вернера. Припертый к стенке, Эйнштейн был вынужден высказаться конкретнее: «Да, квантовая механика, разумеется, весьма впечатляет. Но какой-то внутренний голос шепчет мне, что пока это – штука не совсем настоящая». В разговоре с более близким другом Эйнштейн выразился резче: «Гейзенберг снес большое квантовое яйцо. Они в Гёттингене в это яйцо верят. А я – нет».
Вскоре Борну пришлось сообщить Гейзенбергу, что Эйнштейна его работы не убедили. Но Гейзенберг никак не мог с этим смириться. Его друзья знали: хотя он изо всех сил пытается делать вид, что отлично себя контролирует, на самом деле в напряженные моменты он всегда находился едва ли не на грани помешательства. Особенно это становилось заметно, когда он начинал бешено колошматить по клавишам пианино, играя романтические опусы: картина получалась поистине устрашающая. Вернер любил доминировать, быть сильным, торжествовать победу. Его гипотеза об атомах должна была стать беспримерным достижением. Теперь же самый почитаемый мыслитель в мире заявляет, что она неверна!
Как некогда Жорж Леметр, он пришел к выводу: быть может, нужно поговорить с Эйнштейном, прояснив все лицом к лицу.
Глава 16 Неопределенность в новую эпоху
Гейзенберг понятия не имел, сколь глубоко и истово Эйнштейн отвергает то, что стало результатом памятной гельголандской ночи.
Для Эйнштейна вероятности служили всего лишь признаком пробелов в нашем понимании реальности. Они, эти вероятности, – просто временные заплатки: когда наука достаточно разовьется, на их место придет более ясное понимание. В конце концов, орбита Урана оставалась загадкой до тех пор, пока астрономы XIX века не сумели выяснить, каким образом на нее влияет невидимая им планета Нептун. Инфекционные болезни оставались загадкой, пока микроскопы и другие лабораторные приборы и методики не стали достаточно изощренными, чтобы позволить ученым найти, разглядеть и идентифицировать микробов.
Эйнштейн полагал: не открытые нами пока особенности природы, механизмы тех или иных явлений не зависят от причуд и натуры конкретного наблюдателя или от того, каким путем он движется. Проблески этой мысли об объективном характере реальности являлись ему, когда он посиживал со своей трубкой и книгой в цюрихских кафе, не обращая внимание на бурление студенческой жизни вокруг, или когда он столь же невозмутимо сидел со своей трубкой и рабочим блокнотом посреди орущих младенцев и галдящих гостей в их с Милевой бернской квартирке в первые годы семейной жизни; эта мысль возникала даже на фоне той неизменной радости, с какой он взирал на всемирную славу, обрушившуюся на него после 1919 года. События словно бы проносятся мимо, стремясь увлечь нас, смутить, повергнуть в хаос: все эти разные языки, разные культуры, дети, слова… Но это лишь видимость. Если изучить то или иное явление достаточно тщательно, всегда окажется, что в нем присутствует четкость и определенность. Вот почему он так гордился (и вовсе не удивился), когда обнаружил четкость и определенность в теории относительности.
А вот квантовая механика в его картину мира никак не вписывалась.
Тут можно вспомнить подходящий исторический прецедент. Одним из кумиров Эйнштейна был Спиноза, выдающийся голландский философ еврейского происхождения, живший 300 лет назад. Эйнштейн черпал глубокое утешение в том, что Спиноза тоже «испытывал убежденность в причинно-следственной взаимозависимости всех явлений – во времена, когда успехи науки, сопровождавшие попытку достичь такого знания, еще оставались довольно скромными». Проживи Спиноза подольше, он бы увидел, как наша технологическая цивилизация находит причинно-следственные связи, которые он три века назад угадывал в природе и при помощи которых мы теперь возводим огромные города, конструируем поезда и самолеты.
Но Эйнштейн испытывал такую приверженность идее причинности не только поэтому: имелись у него и более глубинные основания. Эйнштейн не верил в традиционные религиозные постулаты: он не верил, что Божественная сила ниспослала скрижали Моисею, взошедшему на гору Синай; не верил в воскрешение мудрого галилейского рабби. Однако это не значит, что он вообще не отличался религиозностью. Он полагал, что быть атеистом нелепо, и благоговел перед разумом, явленным в законах природы. «Это чувство – руководящий принцип в жизни и работе ученого, пока мы можем воздерживаться от оков эгоистичных желаний», – писал он.
Итак, в основе интеллектуальной и духовной жизни Эйнштейна лежала вера в то, что реальность должна быть ясной, точной, постижимой, и мысль о том, что Вселенная в основе своей непознаваема, ему глубоко претила.
Вспомним сравнение с переодевающимися актерами. Гейзенберг, по сути, был убежден: за кулисами происходит нечто туманно-размытое, такова уж природа процесса. С точки зрения Эйнштейна, такой взгляд ошибочен. Ведь каждый отдельный участник представления должен переменить костюм. Возможно, нам трудно это разглядеть, всматриваясь в закоулки плохо освещенных гри-мерок, но актеры появляются в новом облачении, а значит, за кулисами происходит именно переодевание. Эйнштейн чувствовал: с движущимися в атоме электронами дело обстоит точно так же.
Но Гейзенберг ничего не знал об этих потаенных ощущениях Эйнштейна, поэтому ему по-прежнему казалось, что отца теории относительности все-таки можно переубедить. В начале 1926 года Гейзенбергу предложили выступить с лекцией в Берлине. Он был убежден: на эту его лекцию Эйнштейн непременно придет. Так и случилось. После его выступления они углубились в дискуссию, и Эйнштейн пригласил его домой. Ученые господа обменялись любезностями (в частности, хозяин расспросил гостя о его любимом преподавателе – Арнольде Зоммерфельде, которого Эйнштейн хорошо знал), а затем Гейзенберг заговорил о том, что его тревожило.
Он подчеркнул: в 1916 году, изучая, как свет выбивает из атомов электроны, Эйнштейн не пытался описать происходящее внутри отдельных атомов, он просто описывал то, что «входит», и то, что «выходит». Гейзенберг объяснял: именно это он пытался проделать во время своего гельголандского исследования, совершившего такой переворот в науке. И все равно, как он позже вспоминал, «к моему великому изумлению, Эйнштейна этот довод совершенно не удовлетворил».
– Быть может, раньше я и применял такой подход… – отвечал ему Эйнштейн. – Но это все равно чепуха. – А потом добавил: – По моему мнению, вопрос о том, что является наблюдаемым в рамках теории относительности, весьма отличается от вопроса о том, что является наблюдаемым в микромире. В 1916-м, – разъяснял Эйнштейн, – я сделал лишь предварительные выкладки, призванные объяснить наблюдаемые явления. И я продолжаю считать, что электроны все-таки реально существуют и движутся по каким-то четко определенным путям. В ту пору я ограничился описанием ситуации «на входе» и «на выходе» просто из-за несовершенства доступной технологии, не позволявшей получить больше деталей. В будущем положение, несомненно, исправится.
Эйнштейн резче говорил об этом с теми, кого знал лучше (такое поведение вообще, честно говоря, было ему свойственно). С годами он очень сдружился с Филиппом Франком, своим преемником в пражском Немецком университете. Однажды, гостя у него, Эйнштейн вежливо пресек попытку миссис Франк зажарить печень в воде, отметив, что у масла или жира выше температура кипения, а значит, эти вещества будут эффективнее проводить тепло. С тех пор семья стала называть жарение мяса на масле примером практического использования «эйнштейновской теории». Во время одного из разговоров Филипп Франк привел тот же аргумент, что и Гейзенберг: разве сам Эйнштейн не популяризировал принцип, согласно которому надлежит рассматривать лишь внешние детали? Эйнштейн язвительно ответил: «Хорошую шутку не следует повторять слишком часто».
В разговорах с Мишелем Бессо он отзывался о гипотезе Гейзенберга еще пренебрежительнее. По его мнению, изощренные правила, по которым тот превращал списки «входящего в атом» в списки того, что мы наблюдаем «выходящим» из него, – это не что иное, как «просто колдовская таблица умножения… Сделано очень умно, а поскольку получилось очень сложно, то он совершенно застраховал себя от упреков в неточности».
В научной среде все шире расходились слухи об этом противостоянии. Может быть, Эйнштейн прав? Ведь Гейзенберг, в конце концов, предлагает коренным образом пересмотреть то, в чем все так убеждены. Может быть, его гельголандские списки «входящего» и «выходящего» – просто временные подпорки для упрощения расчетов, применяемые до тех пор, пока не появится более удачное описание явлений?
* * *
В тот период, когда Гейзенберг впервые дерзнул бросить вызов Эйнштейну, эти таблицы как будто демонстрировали признаки того, что старший из ученых прав. В январе 1926 года другой физик, очень любезный австриец Эрвин Шрёдингер предложил уравнение вполне классического и традиционного вида, согласно которому, как многим показалось, уже не требовалось относить движения внутри атома к области непостижимых загадок. Если его уравнение справедливо, то квантовую механику, вероятно, удастся вернуть в царство строгой причинности – ту область физики, где пребывали и Ньютон, и сам Эйнштейн. Тем самым Шрёдингер сумел бы опровергнуть предположение Гейзенберга о том, что на самом деле справедлив лишь принципиально новый взгляд, согласно которому незачем и пытаться описывать происходящее внутри атома четкими механистичными методами.
Гейзенберг пытался бороться. Но в очных дискуссиях с оппонентом он почему-то неизменно терпел поражение. Шрёдингер был на несколько лет старше и обладал свойственным многим уроженцам Вены спокойным чувством собственного превосходства, что чрезвычайно нервировало впечатлительного Гейзенберга. (К тому же частная жизнь Шрёдингера оставалась непонятной для Гейзенберга, этого любителя походов, настоящего бойскаута. Шрёдингер вывел свое уравнение в 1925 году, проводя Рождество на роскошном альпийском курорте вместе с одной из своих бесчисленных любовниц, причем его жена всегда была только рада, что он путешествует в такой замечательной компании. Про него рассказывали, что когда ему требовалась тишина, он нежно помещал жемчужинки в уши своей пассии.)
Эрвин Шрёдингер (примерно через два десятка лет после своего эпохального открытия 1926 года)
Гейзенберг столкнулся с непростой дилеммой. Если вы совершили великое открытие, но вам не поверили, каков будет ваш следующий шаг? В отчаянии Гейзенберг вернулся к своей основной идее. Его критиковали за то, что он был убежден: все попытки отследить конкретные траектории электронов в атомах – пустая трата времени. Что ж, он напрямую обратится к этой проблеме. Он не просто предположит, что мы не в состоянии количественно измерить характеристики поведения электронов, – он докажет это!
Эйнштейн и Шрёдингер, каждый по-своему, унижали Гейзенберга, но молодого ученого подстегивало еще одно унижение, которое он некогда перенес и которое, пожалуй, теперь даже помогло ему справиться с этим новым вызовом. В годы учебы в Мюнхене под руководством Зоммерфельда его (в сравнительно юном 21-летнем возрасте) вызвали для сдачи устных экзаменов, что являлось последним этапом перед защитой диссертации. Поскольку Зоммер-фельд был почтенным главой физического факультета, а Гейзенберг был его любимым аспирантом, все полагали, что эти устные экзамены окажутся лишь формальностью. Однако на факультете работал и профессор Вильгельм Вин, пожилой экспериментатор. Незадолго до экзаменов Гейзенберг записался на курс Вина, но пропустил почти все занятия. Ему никогда не нравилась экспериментальная работа. Он грезил о предстоящей защите. К тому же он знал, что талантливее всех в университете. Чем ему может навредить безобидный старик, этот любитель нелепых опытов?
Вин понимал, что уже давно потерял в университете былое уважение и авторитет. У него была куда более трудная жизнь, чем у Гейзенберга: он вырос в загородном поместье, которое его родителям пришлось продать после случившейся засухи; его не раз исключали из школы. В общем, его самолюбие бывало часто уязвлено. И сейчас Вин был глубоко убежден, что эксперимент – подлинная основа научного прогресса, а ныне все лавры доставались теоретику Зоммерфельду. Вин не мог напрямую атаковать влиятельного соперника, а вот его учеников – другое дело. Можно попытаться!
Когда в 17:00 Гейзенберг вошел в аудиторию Института теоретической физики, где обычно устраивались семинары, а сейчас проходили устные экзамены, он увидел, что рядом со слегка встревоженным Зоммерфельдом восседает не кто иной, как Вильгельм Вин. Тот начал со сравнительно простого вопроса – о том, как действует один новый лабораторный прибор. Гейзенберг не знал об этом ничего. Зоммерфельд попытался сменить тему, задав ряд теоретических вопросов, где пригодились бы немалые математические познания Гейзенберга. Что ж, Вин подождал, пока юноша ответил, а затем вернулся к своим иезуитски вежливым во-прошаниям. Не мог бы герр Гейзенберг объяснить, как работает электрическая цепь в радиоприемнике? Экзаменуемый попытался сообразить, как работает эта чертова цепь, но вскоре запутался – он никогда не тратил свое время на такие подробности. Тогда Вин осведомился, как действует осциллоскоп. И наконец, не добившись вразумительных ответов и на этот вопрос, он поинтересовался: может быть, экзаменуемый сумеет хотя бы рассказать, как работает обыкновенный микроскоп?
Два часа спустя раскрасневшийся Гейзенберг выбрался из аудитории. Он ни с кем не хотел разговаривать. Отцу он заявил, что его карьера физика кончена. Лишь вмешательство Зоммерфельда (чья высшая оценка уравновесила низшую, поставленную Вином) позволило Гейзенбергу все-таки получить ученую степень.
Это было в 1923 году. Теперь же, несколько лет спустя, после встречи с Эйнштейном в 1926-м, Гейзенберг, по иронии судьбы, снова и снова размышлял о том, как вычислить, насколько сильно микроскоп способен увеличивать объект, на который направлен, и как, собственно, проходит этот процесс. Разобравшись в этом, он сможет продемонстрировать, что никто и никогда не сумеет во всех подробностях проследить за маршрутом электрона в атоме. Это позволило бы нанести удар и Шрёдингеру: «Чем больше я думаю о физической стороне шрёдингеровской теории, тем более отвратительной она мне кажется», – признавался Гейзенберг своему другу Вольфгангу Паули в том же 1926 году. А своему наставнику Борну он сообщал: «У меня есть идея насчет того, как исследовать возможность определения положения частицы при помощи гамма-микроскопа[9]». И он это сделал – сделал то, что раньше не удавалось никому.
Если Эйнштейну действительно хочется увидеть электрон, рассуждал Гейзенберг, ему следует направить световую волну (или какой-то другой носитель энергии) на атом, дабы высветить находящийся там электрон. Но электроны имеют малые размеры. Если пучок света чересчур силен, он «пересилит» электрон, изменив его положение. Но если пучок света окажется чересчур слаб, его не удастся направить на крошечный электрон с достаточной точностью. Как бы осторожно вы ни присоединяли манометр к автомобильной шине, из нее все равно будет выходить при этом немного воздуха, а значит, сам факт измерения сделает получаемые результаты некорректными.
Гейзенберг сумел показать, что любой супермикроскоп обречен на страдание от таких же проблем. Получая четкое представление о местоположении электрона, вы при этом выбьете его из этого положения тем самым светом, при помощи которого пытаетесь его разглядеть, а значит, точно не определите, в каком направлении электрон двигался. (Это происходит из-за того, что отдельные «пакеты» света несут в себе определенный импульс: он очень мал, но его вполне достаточно, чтобы сдвинуть крошечный электрон.) Но если вы действуете очень нежно и не сбиваете электрон с пути, то вы не сумеете с достаточной ясностью увидеть, в каком месте этот путь начался. Иными словами, вы можете выбирать, что вам определять: местоположение электрона или то, как быстро он движется. Но одновременно определить то и другое с равной точностью вы не сможете. В общем наборе данных всегда будет присутствовать некоторая доля неопределенности.
Таковы основы знаменитого принципа неопределенности, обнародованного Гейзенбергом в феврале 1927 года. Принцип оказался неопровержимым. Отныне было ясно: устройство Вселенной отнюдь не подчинено четкому и строгому порядку. Открытие Вернера фон Гейзенберга произвело настоящий переворот в физике.
Но Эйнштейн не желал о нем даже слышать.
Глава 17 Спор с Великим Датчанином
Разногласия между Эйнштейном и большинством специалистов по квантовой физике достигли первого пика на брюссельской конференции в октябре 1927 года – той самой, где Леметр припер Эйнштейна к стенке со своими претензиями насчет лямбды. Великому физику пришлось отбиваться не от одной, а от двух неприятных ему идей, причем одна битва усилила его решимость ввязаться в другую.
Если бы мероприятие прошло хотя бы годом раньше, Эйнштейн мог бы насладиться поддержкой большого числа собравшихся. До недавних пор многие нынешние участники конференции отзывались об идеях Гейзенберга так же, как это поспешил сделать Эйнштейн. Прежде чем Гейзенберг провел в начале 1927 года свой мысленный эксперимент с рентгеновским микроскопом и сформулировал принцип неопределенности, большинство физиков скептически отзывалось о его теориях насчет квантовой вселенной. Как и Эйнштейна, их впечатлило, что первые расчеты датчанина так удачно объясняли реакцию электронов на облучение светом, но они не думали, что реальность может быть столь зыбкой и неясной, столь непрочно склеенной – и что при самом подробном ее изучении мы вынуждены будем отныне и навеки признать, что имеем дело с неразрешимой неясностью, то есть с неопределенностью.
Но в феврале 1927 года, за несколько месяцев до конференции, миру явился принцип неопределенности – и лишил Эйнштейна потенциальных союзников. Большинство физиков согласилось, что этот принцип действительно вроде бы показывает, что мы не в состоянии узнать все в точности о происходящем внутри атома – и никогда этого не узнаем. Они все-таки признали правоту Гейзенберга, а значит, получалось, что Эйнштейн (многие коллеги знали, с каким презрением он относится к теориям молодого физика) ошибается!
Эйнштейну предложили открыть конференцию, ибо всем хотелось посмотреть, как он справится с этим новым вызовом квантовиков-теоретиков и как станет защищать свои привычные и традиционные взгляды насчет причинности. Но Эйнштейн отказался от этого лестного предложения. Он находился не в том положении, чтобы важно и снисходительно объяснять всем ученым Европы, чтÓ им следует думать (как это произошло, когда он излагал подробности общей теории относительности): по крайней мере, пока он не мог себе этого позволить. Сейчас он чувствовал лишь какое-то интуитивное, почти подсознательное подозрение: «внутренний голос» подсказывал ему, что мир просто не должен быть так устроен.
Он вежливо сидел на всех первых заседаниях – и смотрел, как Нильс Бор встает, чтобы высказать свое веское мнение по данному вопросу. Нильс Бор ныне был лидером прогейзенберговской фракции. С годами его облик, ранее несколько странный, стал гораздо внушительнее. Его привычка ронять слова – медленно, негромко, с долгими паузами на обдумывание – придавала его речи весомость и делала его еще больше величественным.
Бор открыл конференцию, вкратце перечислив те изменения, которые пережили в последние века европейские ученые (в Америке тогда практически не имелось сколько-нибудь значительных исследователей). Со времен упадка средневековой схоластики, отмечал Бор, западноевропейская мысль предпринимала определенные усилия, дабы объяснить материальный мир с помощью разума, причем не такого разума, который скован предрассудками и вынужден строить свои умозаключения в соответствии с догмами и в угоду Церкви. О нет: это был разум, убежденный, что его интеллектуальные изыскания способны открыть и понять все явления природы, каким бы трудным ни оказался этот путь и сколько бы времени он не потребовал – пусть даже на него ушли бы долгие столетия… Этот метод исследований молчаливо подразумевал: то, что существует в реальном мире, окружающем нас, существует на самом деле и может быть изучено и постигнуто в любых подробностях.
Именно такой подход (подразумевающий определенность Вселенной), судя по всему, и ниспровергали новейшие открытия – причем, как полагал Бор, весьма убедительно. Абсолютной, «классической» причинности не существует, объявлял он. Нам может казаться, что есть четкие цепочки событий, просто обязанных следовать друг за другом (ударьте ногой по футбольному мячу, и он полетит вперед), но это только благодаря тому, что мы наблюдаем усредненные результаты громадного количества субмикроскопических событий, а каждое из них подвластно лишь случаю. Электроны на бутсе футболиста чрезвычайно тесно сближаются с электронами на кожаной поверхности мяча, когда игрок резко выбрасывает ногу вперед. Это мы способны увидеть. Это мы способны узнать. Но какие именно из электронов будут толкать друг друга, отправляя мяч в полет, – этого мы не сможем узнать никогда.
Бор настаивал: принцип неопределенности доказывает, что субатомные происшествия непознаваемы. Получалось, что микромир на самом деле очень отличается от обычного «крупномасштабного» мира, к которому мы привыкли. Там, в мире мельчайших объектов все иначе: хаос и неопределенность управляют поведением электронов и других частиц, из которых состоят наши тела и вся планета. Ясности на микроуровне попросту не существует.
Эйнштейн и Бор, явно пребывающие в хорошем настроении. Скорее всего, они отдыхают в гостях у Пауля Эренфеста. (Конец 1920-х гг.)
За эти годы Эйнштейн успел хорошо изучить щедрую натуру блистательного Бора. На первую их встречу (в Берлине 1920-го) Бор привез датский сыр и датское сливочное масло, что весьма оценили жители города, по-прежнему страдавшего от британской блокады. В другой раз, встретившись уже в Копенгагене, они настолько увлеклись разговором (вероятно, он состоял главным образом из эйнштейновского ожидания, пока Бор закончит очередную паузу и, собравшись с мыслями, возобновит свои настойчивые шептания), что забыли вовремя выйти из трамвая и оставили далеко позади остановку, близ которой жил Бор. Они вышли, сели в трамвай, который двигался в обратную сторону, и… снова проехали. В своей научной сфере они с полным правом считались мудрецами, мэтрами, а кроме того (поэтому – или несмотря на это?), относились друг к другу с нескрываемой симпатией. «Нечасто доводилось встретить другое человеческое существо, которое вызывало бы во мне такую радость одним своим присутствием», – однажды написал Эйнштейн Бору. Он не собирался оскорблять давнего друга, публично вышучивая самое фундаментальное из его новых воззрений.
Лишь выйдя с пленарных заседаний, Эйнштейн начинал ему возражать.
* * *
Бор выказывал все признаки неловкости, и на то, чтобы раскурить трубку, у него уходило еще больше времени, чем у Эйнштейна. (Для таких случаев он специально носил с собой особую коробку с длинными каминными спичками.) Он жил физикой и готов был горячо отстаивать идеи, в которые верил, в том числе и идеи профессора Нильса Бора. Родители Бора были вполне преуспевающими и заметными в обществе, он вырос среди людей со связями и многому у них научился. Так, ему удалось (несмотря на внешнюю неуклюжесть, он превосходно разбирался в бюрократических хитросплетениях и умел обратить их себе на пользу) добиться того, чтобы фонд Карлсберга оказал поддержку крупному научно-исследовательскому институту, который открылся в Копенгагене под его же, Бора, руководством. Этот институт посредством стипендий, грантов и публикаций делал все возможное для продвижения взглядов Бора и, в частности, из-за его благосклонного отношения, результатов, полученных Гейзенбергом и Борном. Если бы оказалось, что он неправ, Бор попал бы в неприятную ситуацию. Он выглядел бы уже не лидером новой научной революции, а просто стареющим профессором, который ухватился за модную теорию лишь для того, чтобы не отстать от времени.
Тогда еще казалось вполне возможным, что Эйнштейн сумеет доказать неправоту Бора. Эйнштейну просто требовалось показать другим, каким образом сконструировать одно-единственное устройство, которое будут действовать вопреки принципу неопределенности. Если ему это удастся, значит, все притязания Бора ничего не стоят. А ведь многие считали: существует немалая опасность, что Эйнштейн в этом преуспеет. В конце концов, именно его мысленные эксперименты с падающим лифтом привели к ошеломляющим, но совершенно точным предсказаниям о том, как звездный свет огибает Солнце. И это именно он в 1916 году (причем то был далеко не самый значительный из его мысленных экспериментов), придумал идею прибора для направленного усиления света (воплощенную в современных лазерах). Кто посмеет сказать, что он не справится и с этой новой задачей?
Но Эйнштейну, как и Бору, приходилось непросто. В свои 48 лет он понимал, что приближается к возрасту, когда физики частенько перестают рождать новые идеи и начинают отвергать все новое: в молодости ему досталось от таких физиков. Конечно же, он не считал себя ретроградом: по сути, на этом зиждилось его представление о себе. Напротив, в науке он мог считаться революционером. Он высказывал независимые суждения, бесстрашно следовал по пути истины, его интеллектуальную свободу не сдерживали ни тяжеловесный буржуазный стиль огромной берлинской квартиры, где он жил вместе с Эльзой, ни самые несносные из ее знакомых, неустанно карабкавшиеся вверх по социальной лестнице. Он обустроил себе убежище на чердаке, светлое и просторное. Предпочитал бесформенные свитера, часто бродил по дому босиком, и пускай гости считают, что ему не подобает вести себя столь расхлябанно. Ему на такого рода вещи было наплевать, а ограничивала его лишь структура Вселенной, но и это ему особенно не мешало – ведь однажды он поймет, как она устроена. Эйнштейн был уверен, что в принципе она постижима.
Итак, ему требовалось создать одну-единственную подходящую мысленную конструкцию. Ее даже не нужно строить в реальности: достаточно описать словами и показать Бору с Гейзенбергом, что она работает. И тогда он обретет место, которое считает заслуженным по праву: место на переднем крае науки, место объединителя научных истин. Ему больше не придется в тревоге цепляться за прошлое лишь из-за того, что он хорошо ориентируется только в нем. В основе структуры Вселенной должна лежать причинность. Он в этом убежден.
Но как убедить в этом других? Как показать, что все так и есть?
Хорошо, что он умеет заставить работать почти всякое механическое устройство – благодаря годам детального анализа самых изощренных приборов в патентном бюро. Это следует использовать.
Позже Гейзенберг вспоминал, как Эйнштейн обставлял свои атаки. Физики поселились в одной гостинице, и Эйнштейн имел привычку приносить к завтраку предложения насчет возможных экспериментов, способных опровергнуть постулаты квантовой механики, – для того, чтобы коллеги их рассмотрели. Обычно Бор, Эйнштейн и Гейзенберг шли в зал заседаний вместе, так что даже во время этой короткой прогулки они уже начинали анализировать допущения и версии.
«В течение дня, – пишет Гейзенберг, – мы с Бором и Паули часто обсуждали очередное предложение Эйнштейна, чтобы к обеденному перерыву доказать: его мысленные эксперименты вполне согласуются с соотношениями неопределенности, а значит, не годятся для того, чтобы их опровергнуть. Эйнштейн признавал это, однако на другое утро являлся к завтраку с новым мысленным экспериментом, обычно еще более изощренным, чем предыдущий: уж теперь-то, полагал он, неопределенность потерпит поражение. Но новый эксперимент оказывался не лучше прежнего, и к обеду нам его удавалось раздраконить. Так продолжалось несколько дней».
Еще один близкий друг Эйнштейна, голландец Пауль Эрен-фест, также присутствовал на той конференции 1927 года. Вскоре после нее Эренфест рассказывал своим лейденским студентам: «Я был очень рад оказаться свидетелем диалогов между Бором и Эйнштейном. Обычно Эйнштейн походил на шахматиста, постоянно разбирающего новые партии и задачи. Он был как вечный двигатель, сосредоточенный на том, чтобы прорваться сквозь неопределенность. Но его всегда подстерегал Бор – высовывался из облака своего философского дыма и подыскивал средства для того, чтобы громить примеры Эйнштейна, один за другим». Иногда, когда Эйнштейн изобретал особенно хитрую «демонстрацию» ошибочности квантовой механики, Бор почти всю ночь не давал Эренфесту спать: он размышлял вслух и успокаивался лишь тогда, когда обнаруживал погрешность в очередном мысленном эксперименте Эйнштейна.
* * *
Конференция окончилась ничьей. Эйнштейну так и не удалось подобрать контрпример, способный сразить Бора, однако сам Бор продолжал опасаться, что в его новой теории, на которую он столько поставил, все-таки есть огрехи.
По дороге обратно в Берлин неугомонный Эйнштейн утешался мыслью, что это был не просто спор юности со зрелостью, в котором все молодые физики стояли на стороне Гейзенберга, а за него, Эйнштейна, выступали только пожилые ортодоксы. Первый отрезок пути, до Парижа, Эйнштейн ехал вместе с Луи де Бройлем, весьма уважаемым французским ученым, причем лет на десять младше Эйнштейна. Де Бройль провел фундаментальные исследования, сформулировав основополагающие принципы квантовой механики, однако питал те же сомнения, что и Эйнштейн: он был убежден, что объяснения в духе Гейзенберга – лишь временный этап, ибо в конце концов ученые каким-то образом выявят определенность, лежащую в основе мироздания. (Кстати, Эйнштейн поспособствовал одобрению диссертации, в которой де Бройль изложил эти идеи, а потому француз был искренне ему признателен.)
Оба сходились во мнении, что расчетные квантово-механические данные, представленные Гейзенбергом и компанией, достаточно точны, однако Эйнштейн твердил: «Я убежден, что ограничения, налагаемые законами статистики, преходящи». И вот поезд остановился на парижском Северном вокзале. После одного из тех долгих разговоров в пути, когда обоим собеседникам так интересно, что хочется, чтобы путешествие никогда не кончалось, Эйнштейн повторил свои главные тезисы. И де Бройль согласился с ним. Уже выйдя из поезда и идя по платформе, француз слышал, как Эйнштейн кричал ему вдогонку: «Продолжайте в том же духе! Вы на верном пути!»
Но в последующие два года Эйнштейн начал замечать, что его лагерь теряет сторонников. Появлялось все больше и больше довольно убедительных экспериментальных подтверждений правильности квантовой механики – было похоже, что она действительно работает. Сам де Бройль продержался лишь до 1928 года: в научном сообществе росла убежденность в том, что идеи Бора, Гейзенберга и их сподвижников верны, и француз в конце концов присоединился к хору этих голосов. Такая убежденность становилась модной. Великий австриец Эрвин Шрёдингер (вскоре он тоже получит Нобелевскую премию) оставался одним из немногих ученых мирового уровня, по-прежнему в этом споре стоявших на стороне Эйнштейна.
Однако к 1929 году Эйнштейн обрел хороший повод несколько укрепиться в уверенности в собственных силах – невзирая на то, что его взгляды на проблему поддерживало все меньше ученых. На самом-то деле он был человеком скромным и отлично сознавал, что его интеллектуальные способности вовсе не столь велики, как считает публика. К примеру, Гроссман в Цюрихе и Борн в Гёттингене явно были более сильными математиками (как и многие другие ученые). Если он, Эйнштейн, иногда и порождал удачные идеи в области физики, так это благодаря очень хорошему, правильному воспитанию: в нем развили достаточную непредвзятость, чтобы критически относиться к чужим мнениям, и убедили в твердой реальности электрических лампочек, генераторов и всей прочей аппаратуры – той, на которой пытались зарабатывать отец и дядюшка. А где-то за всеми его прозрениями могла таиться полузабытая вера его предков, особенно же – убежденность в том, что в мире, конечно же, должна скрываться некая благая определенность, которую нам иногда, в счастливые моменты, удается различить. Вся эта смесь и привела его к успеху: в сущности, ему просто повезло. Но он знал, что все-таки именно он сумел первым проникнуть под покров видимости и выявить скрытые принципы, которые лишь много позже подтвердились благодаря работам экспериментаторов.
К тому времени ученые уже неоднократно продемонстрировали справедливость эйнштейновского уравнения E = mc², это уравнение признали верным почти все специалисты. Мало того, на конференции 1927 года, несмотря на возражения Леметра, еще казалось, что пресловутая лямбда необходима: астрономы правы и прекрасное в своей простоте выражение G = T следует отвергнуть, а значит, вера Эйнштейна в чистую интуицию ошибочна. Но лишь два года спустя, в 1929-м, Хаббл и Хьюмасон опубликовали свою работу, о которой мы уже знаем. Эта работа показала: исходное уравнение Эйнштейна, прекрасное в своей простоте, все-таки верно.
Для Эйнштейна это переменило все. При помощи своего стодюймового телескопа Хаббл и Хьюмасон показали, что лямбда не нужна, а значит, его изначальные интуитивные предположения оказались справедливы, и то, что он увидел в 1915 году как «вещи», меняющие геометрию, и как измененную геометрию, в свою очередь, влияющую на «вещи», – все это оказалось абсолютно, стопроцентно верным. Прежние экспериментальные данные (и основанные на них предположения многих ведущих астрономов мира), казалось, противоречили этому, но если бы тогда Эйнштейн проигнорировал их и не внес поправок в свое уравнение, в конечном счете выяснилось бы, что он прав!
Очевидно, теперь он полагал: на сей раз нужно подождать, и тогда в конце концов он снова окажется прав. Эйнштейн всегда был склонен полагать, что Вселенная должна быть в основе своей познаваема. История с лямбдой лишь укрепила его в этом мнении, ибо показала, что его первоначальные интуитивные предположения все-таки верны.
Но здесь крылась огромная опасность. Английский эссеист XIX века Томас Маколей некогда заметил о себе (нескромно, но довольно точно), что у него отменный стиль, граничащий, однако ж, со стилем прескверным. Поэтому он предостерегал: лишь немногие из читателей сумеют успешно ему подражать, ибо если они хоть чуть-чуть отклонятся от гармонического среднего, их ждет впечатляющий провал. Эйнштейн как раз подходил к этому опасному водоразделу. Рассуждения, основанные на убежденности в том, что его интуиция непогрешима, сделали его величайшим ученым современности. Но придерживаться лишь одного этого подхода (теперь, когда в далеком прошлом остались цюрихские студенческие годы, в которые ему приходилось волей-неволей реагировать на лучшие образцы былой мудрости других; когда ушли в прошлое годы, проведенные с Гроссманом и другими, с чьим мнением он считался) означало риск скатиться в сухой догматизм.
Разве что… А вдруг Эйнштейн все-таки прав? Или же он ошибается? Пока этого не знал никто.
* * *
Брюссельские конференции, на которые съезжались ведущие физики мира, проходили, к сожалению, лишь каждые несколько лет. Как мы уже знаем, мероприятие 1927 года завершилось вничью. На следующей конференции, которая состоялась в октябре 1930-го, внимание всех участников было приковано к Эйнштейну и Бору. Они считались интеллектуальными гигантами поколения. Схлестнутся ли они снова – пусть и в кулуарах, как во время предыдущей конференции?
Эйнштейн понимал, что для него это последний шанс заручиться массовой поддержкой физиков, особенно же представителей молодого поколения, с которым он так долго себя отождествлял. Но в 1930 году, как и на предыдущей конференции, Эйнштейн хранил молчание во время пленарных заседаний. Он снова предпочел высказывать Бору свои возражения в относительно приватной обстановке. Датчанин заранее беспокоился.
Бор знал: грядет что-то серьезное. Но как он мог к этому подготовиться? Ему оставалось лишь верить, что новая наука под названием квантовая механика достаточно окрепла и сумеет защититься от любых нападок. Готовился к битве и Гейзенберг. Подобно шахматным гроссмейстерам перед турниром, он вместе с Бором и другими учеными, разделявшими их взгляды, старался заранее спланировать возможные линии защиты.
Наверняка Эйнштейн тоже долго готовился к встрече с противниками, попыхивая трубкой в своем берлинском кабинете или загородном доме. И он предложил нечто грандиозное.
В сердце квантовой механики лежал гейзенберговский принцип неопределенности, налагавший предел на степень точности, с которой мы можем знать некоторые стороны жизни в микромире. Дело в том, что мы никогда не сумеем сказать со всей определенностью, что произойдет там в следующий момент. Впервые представляя свой принцип, Гейзенберг объявил: никто не в состоянии одновременно и при этом совершенно точно определить импульс и положение частицы. Будущий нобелевский лауреат Вольфганг Паули сравнил это с такой ситуацией: представьте, что вы можете увидеть импульс частицы левым глазом, а ее местоположение – правым, но если вы попытаетесь держать оба глаза открытыми, то увидите лишь размытую картинку.
Предыдущие попытки как-то обойти принцип Гейзенберга неизменно проваливались по той же причине, по какой проваливаются попытки с помощью манометра (всегда несовершенного) точно определить давление в шине: уже само применение прибора вызывает некоторую утечку воздуха, тем самым меняя давление в шине. Идея Эйнштейна состояла в том, чтобы сделать шаг назад, как бы рассмотрев шину с большего расстояния, не используя манометров или других приборов, которые могли бы ее потревожить.
Если мы имеем дело с реальной шиной, достаточно просто взвесить ее, а не измерять, сколько воздуха из нее выходит. Эйнштейн воспользовался недавними исследованиями, которые показали: принцип Гейзенберга означает также и то, что в данный конкретный момент времени можно измерить либо энергию частицы, либо само время, в которое она обладает этой энергией, но не то и другое одновременно. Эта новая находка позволила Эйнштейну предпринять самую яростную из своих атак на принцип неопределенности.
Для мысленного эксперимента, представленного в Брюсселе, Эйнштейн придумал устройство, которым наверняка гордился бы герр Галлер, некогда руководивший его работой в патентном бюро. Эйнштейн попросил Бора вообразить ящик с облаком мельчайших излучающих частиц внутри (скажем, фотонов – «частиц света»). В одной стенке имеется крошечный затвор, управляемый сверхточными часами. Вся эта штука находится на весах, так что можно определять ее массу. В некий момент, отмеряемый часами, затвор открывается, выпуская один фотон, а потом затвор сразу же закрывается. Коробку взвешивают до и после – и таким способом мы сумеем оценить, насколько она стала легче.
Проделывая это, мы узнаем, сколько энергии несет в себе выпущенный на волю фотон: нам сообщат об этом весы (поскольку масса и энергия эквивалентны). Мы сумеем узнать и то, в какое именно время вылетит фотон: нам сообщат об этом часы. Окажись принцип неопределенности Гейзенберга верным, такого никогда бы не могло произойти. Поскольку часы никак не связаны с весами (в отличие от манометра, где сам процесс измерения влияет на точность измерения), доводы Гейзенберга полностью разбиты. Полная определенность возможна. Мир классической физики с ее четкими причинно-следственными связями спасен.
Бор знал, что мыслит медленнее многих ученых (хотя и глубже большинства из них). Но он привык, что в самом начале работы над задачей у него всегда возникает хотя бы проблеск возможного решения. А вот для эйнштейновской световой коробки он никакого возможного решения не видел. Фотон вылетает через затвор. Часы отмеряют время. Чаша весов движется. Часы и весы вовсе не находятся поблизости друг от друга.
Как примирить эту картинку с гейзенберговской неопределенностью?
Этот мысленный эксперимент Эйнштейна обескуражил Бора. Один из современников вспоминал: «Он [Бор] выглядел очень несчастным. Весь вечер он переходил от одного физика к другому, пытаясь убедить их, что все это может оказаться неверным… Но он не мог придумать никакого опровержения! Никогда не забуду, как Бор и Эйнштейн, эти два яростных оппонента, покидали университетский клуб. Эйнштейн, являя собой очень величественную фигуру, шествовал спокойно, с легкой иронической улыбкой. Рядом семенил чрезвычайно расстроенный Бор».
Но Эйнштейн ликовал недолго. Бор не спал почти всю ночь: несомненно, он, непрерывно что-то бормоча, пытался все-таки доискаться до решения и наверняка привлек к работе аспирантов и вообще всех, кому не посчастливилось – или наоборот, посчастливилось – оказаться рядом. Ранее Гейзенберг писал о том, как Бор сражается с научными задачами: «Даже после долгих часов борьбы он не желает отступать». Так вышло и на этот раз.
И утром Бор таки нашел решение! Когда затвор открывается и фотон вылетает наружу, масса коробки действительно уменьшается. Но ведь мы непрерывно взвешиваем коробку. А значит, она должна постоянно лежать на чаше весов. Когда фотон вылетает, чаша поднимается – очень слабо, но все же. А значит, она оказывается чуть выше в гравитационном поле Земли, то есть гравитационная сила, на нее действующая, становится слабее. А согласно эйнштейновской же теории относительности, время в гравитационном поле разной силы течет с неодинаковой скоростью.
Эйнштейн и Бор на брюссельской конференции 1930 года. Снимок сделал Эренфест – вероятно, в тот день, когда Эйнштейн предложил свой эксперимент с коробкой и часами, но еще до того, как Бор тщательно проанализировал эту идею.
Бор набросал предварительные расчеты, и когда все (сам Бор, Гейзенберг, вероятно, Эренфест, а возможно, и ряд других ученых, остановившихся в том же отеле) увидели, к чему идет дело, Эйнштейн – надо отдать ему должное – сам помог заполнить пробелы. Эйнштейн и Бор пришли к выводу: неопределенность при взвешивании вызвана крошечным гравитационным сдвигом, достаточным для того, чтобы картина полностью соответствовала гейзенберговскому принципу неопределенности.
Разрабатывая свой мысленный эксперимент, Эйнштейн пренебрег собственной теорией относительности, которую Бор и использовал для того, чтобы отвергнуть эту последнюю попытку Эйнштейна доказать, будто в основе устройства Вселенной непременно должна лежать причинность. Это означало крах мечты Эйнштейна доказать свою гипотезу 1916 года – о том, что мы прибегаем к вероятностям лишь как к временной мере, от которой можно будет отказаться, когда наука продвинется дальше, расширив наши знания о мире. Обиднее всего было то, что удар нанесли инструментом, который разработал он сам, Эйнштейн.
Гейзенберг торжествовал. Узнав о том, что последний бастион Эйнштейна пал, он записал: «Мы… поняли, что теперь можем быть абсолютно уверены в своей правоте… Новую интерпретацию, которую дает квантовая механика, оказалось не так-то просто опровергнуть».
Бор был скромнее, но из его вежливого гортанного бормотания явно следовало: он победил, а Эйнштейн проиграл.
Интерлюдия 4 Музыка и неизбежность
Эйнштейн больше никогда не ездил на такие конференции.
И больше никогда не пытался опровергать Бора или Гейзенберга в ходе публичной дискуссии. Но он по-прежнему был уверен, что лучшие экспериментаторы мира заблуждаются и их данные неполны.
Чтобы утешиться, Эйнштейн, как бывало и прежде, обратился к музыке. Он обожал почти всю классику, хотя к большинству композиторов у него имелись претензии. «Я всегда чувствую, – писал он, – что Гендель хороший автор, даже совершенный, но в нем слышится нечто поверхностное, неглубокое». Шуберт тоже не выдерживал строгую проверку. «Шуберт в числе моих любимых сочинителей, потому что он превосходно умеет передавать эмоции и обладает огромной изобретательностью по части мелодий, – признавал Эйнштейн. – Но в его крупных сочинениях мне мешает нехватка четкой формы и архитектурной выстроенности».
Список несовершенств на этом не заканчивается. «Шуберт привлекает меня своими малыми сочинениями, – писал Эйнштейн. – В них есть оригинальность и богатство чувства. Но ему не хватает формального величия, и это мешает мне наслаждаться им в полной мере… Мне кажется, у Дебюсси очень изысканная палитра, но при этом он структурно беден». И вывод: «Я не могу пробудить в себе сколько-нибудь заметный энтузиазм по отношению к такого рода экзерсисам».
Как эти композиторы, такие великие во всем прочем, могли упустить крупномасштабное единство, если он знал, что оно существует, остается лишь его нащупать? Такое единство ощущали, на его взгляд, лишь Бах и Моцарт – два титана, в которых было нечто, что позволило им превзойти остальных. «Не могу определить, кто из них значит для меня больше», – признавался Эйнштейн. Но он точно знал: с ними никто не сравнится. А как же Бетховен? Эйнштейн находил его «мощным», но при этом «чрезмерно драматичным и чересчур личным»: по мнению великого физика, в сочинениях этого композитора слишком много случайного, произвольного – возможно, из-за того, что наши эмоции очень зависят от нашего физического состояния и от нашего прошлого. А вот Моцарт пошел гораздо дальше: по мнению Эйнштейна, его музыка «столь чиста, что кажется, будто она всегда пребывала где-то во Вселенной, лишь ожидая, пока маэстро ее откроет». Сочинения Моцарта казались более «необходимыми», они словно бы позволяли заглянуть в платоновское царство истин, которое существует далеко за пределами случайных событий чьей-либо персональной, личной истории.
Пожалуй, Эйнштейн искал в музыке Баха и Моцарта то, что никак не давалось ему в жизни. В своих браках (а уж тем более в романах на стороне) Эйнштейн так и не обрел ни стабильности, ни определенности. А ведь ему всегда так хотелось именно этого – хоть какой-то определенности. Но у него ничего не получалось. И это особенно его ранило – его, всю свою жизнь мечтавшего об определенности, о встрече с истиной…
Теперь он все больше распространялся в своих письмах о том, что его предыдущие труды должны доказать реальность этой прекрасной мечты. Формула E = mc², к которой он пришел в далеком 1905 году, показала, что во Вселенной определенность несомненно присутствует, ведь это равенство описывало (со всеми подробностями, какие только можно пожелать), каким именно образом могут переходить друг в друга масса и энергия. Великое G = T из его теории 1915 года – выражение столь же ясное. Масса заставляет пространство искривляться. Искривленное пространство управляет движением массы. Как в эту картину может вписываться случай, если уравнение такое ясное и четкое? Саму простоту равенства G = T невозможно игнорировать. «Едва ли кто-нибудь из по-настоящему понявших эту теорию сумеет противиться ее очарованию», – написал Эйнштейн (измотанный, но довольный) в ту берлинскую зиму, когда он завершил первый вариант своей работы. Он и сам оказался надолго вовлечен в ее орбиту.
Да, в 1917–1929 годах он усомнился в этой простоте и ввел пресловутую поправку-лямбду, но в конечном счете его сомнения оказались беспочвенными. Возможно, в Брюсселе 1930-го Эйнштейн испытал унижение, но он знал, что новые и новые подтверждения других его идей, то и дело получаемые учеными, действительно значимы (в каком-то смысле они укрепляли его в убежденности, что Вселенной присуща определенность). Хьюма-сон наблюдал далекие галактики в гигантский телескоп, установленный в калифорнийских горах, и обнаружил, что миллиарды звезд стремительно уносятся от нас. Это открытие не содержало в себе никакой двусмысленности и неоднозначности. Но ведь предсказание именно такого явления содержалось в его, Эйнштейна, изначальном выражении G = T, таком простом и красивом. Вот почему Эйнштейн почти десятилетие спустя, по завершении конференции 1930 года, с удовольствием замечал в разговоре с доверенным ассистентом: «Оценивая ту или иную теорию, я задаюсь вопросом: окажись на месте Бога, устроил бы я мир в соответствии с ней или же нет».
Вера Эйнштейна в свою способность судить об архитектуре Вселенной оказалась мощным, но опасным инструментом. Чем больше почестей получает великий человек, тем легче ему занестись слишком высоко, перестав адекватно воспринимать реальность. Именно это и происходило с Эйнштейном. Молодой Альберт вряд ли одобрил бы его поведение.
Однажды Эйнштейн нарисовал для своего друга Мориса Со-ловина картинку, призванную объяснить, как у него, Эйнштейна, проходит творческий процесс. (Напомним, Соловин – тот румынский энтузиаст, который первым откликнулся на бернское объявление Эйнштейна 1902 года, предлагавшее частные уроки математики и физики.) Окружающую нас реальность Эйнштейн принял за базовый уровень, обозначив его как Е. Это эмпирический (empirical) мир, который мы воспринимаем при помощи обычных органов чувств. Во время редких вспышек вдохновения мыслители способны воспарить над этим уровнем, открывая некие общие принципы. Но всегда ли верны эти принципы? Чтобы убедиться в этом, следует детально разработать их следствия и затем проверить их в эмпирическом мире.
Именно такой процедуре Эйнштейн следовал в случае со своей формулой E = mc², когда предложил проверить те предсказания, которые она вроде бы позволяла сделать, на солях радия, изучаемых супругами Кюри в Париже. В случае с общей теорией относительности он тоже следовал такой процедуре: мощный взлет воображения – обращение к мысленному эксперименту с падающим лифтом – создание ясной абстрактной теории – построение на ее основе детальных выводов, поддающихся проверке (вспомним гипотезу об искривлении пространства, которую Эддингтон и его коллеги проверяли в своих экспедициях 1919 года).
Хотя Эйнштейн часто писал, что по-прежнему считает такой подход правильным, он порой выражал и противоположную точку зрения. В 1938 году он писал давнему коллеге: «Я начал со скептического эмпиризма… Однако проблема гравитации превратила меня… в того, кто отыскивает четкий и надежный источник Истины в математической простоте». В новых работах Эйнштейн уже нередко игнорировал свой первоначальный, более эмпирический подход. «[Квантовая теория] говорит о многом, – писал он, – однако на самом-то деле не приближает нас к раскрытию тайны «Старика». Во всяком случае, я убежден, что Он не играет в кости». Эйнштейн был уверен, что Господь, создавая Вселенную, следовал некоему рациональному плану. И эту его веру не могли опровергнуть никакие эксперименты.
Вот и ничто, сказанное на брюссельских конференциях, не переубедило его. Но когда Эйнштейн заявил: «Бог не играет в кости со Вселенной», Нильс Бор в раздражении бросил: «Эйнштейн, хватит давать советы Богу!» Эти двое придерживались диаметрально противоположных взглядов не только на устройство Вселенной, но и на Бога – по сути, на то, насколько каждый из них способен угадывать во Вселенной проявления божественного начала.
И лишь один из них был прав.
Часть VI Последние акты
Эйнштейн в Принстоне (начало 1950-х гг.)
Глава 18 В разные стороны
В 1950 году, спустя 20 лет после достопамятной брюссельской конференции, копенгагенский Институт теоретической физики Бора оказался в центре мировых физических исследований. Несмотря на победу над Эйнштейном в 1930 году, Бор сумел избежать искушения догматизмом, и его открытость новым идеям привлекала к нему множество ярчайших юных талантов. Молодые люди из Гарварда, Кембриджа и Калифорнийского технологического института охотно ехали в Копенгаген на годик-другой во время подготовки диплома или уже после выпуска – чтобы влиться в воодушевляющую творческую атмосферу и поделиться идеями с почитаемым всеми, но демократичным и дружелюбным профессором Бором. Правда, беседы с ним требовали огромной сосредоточенности, поскольку произношение Бора редко удалялось от датского, на каком языке он бы ни пытался говорить. Но это не имело никакого значения. Блестящая научная молодежь, собравшаяся в боровском институте, отличалась завидным интернационализмом и радостно называла официальный язык этого научного учреждения «ломаным английским».
В Дании Бор считался настоящим героем: он не позволил своему институту закрыться в первые годы немецкой оккупации, и его подопечные работали до самого 1943 года, когда ученому пришлось тайком покинуть страну (через Швецию, где его взял на борт самолет британских военно-воздушных сил), поскольку его еврейские корни и политическая значимость делали пребывание на родине опасным. Чрезвычайно высокий и чрезвычайно вежливый, Бор чуть не умер при этом перелете, ибо его везли в бомбовом отсеке и снабдили микрофоном, посредством которого ему предлагалось связываться с пилотами, если что-то пойдет не так. Когда что-то таки пошло не так – с кислородом (маска плохо прилегала к голове), его бормотания и вежливые вздохи, по-видимому, отличались не большей ясностью, чем все другие фразы, какие он произносил в своей жизни, и он потерял сознание, не дождавшись помощи. Очнулся он, лишь когда пилот, сочтя необычным столь полное молчание, снизился, переведя машину в менее разреженную атмосферу, – туда, где оказалось достаточно кислорода, чтобы поддерживать существование Бора.
В конце 1943 года Бора привлекли к работе над Манхэттенским проектом (по созданию атомной бомбы), и ученый попытался, хоть и безуспешно, предупредить Черчилля и Рузвельта об опасностях, таящихся в этом новом виде вооружения. Когда в последние дни войны США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, мир впервые увидел воочию, какое ужасное оружие породили не только практические усилия Бора и его коллег, но и, в конечном счете, теории Эйнштейна.
Бор говорил, что человеку нравится быть одновременно и зрителем, и актером в великой драме жизни. При помощи заботливой жены, открытости характера и сравнительной безопасности существования в тогдашней Дании великому физику удавалось быть и наблюдателем, и участником событий (не только в науке, но и в политике), вполне соответствуя высоким гуманистическим идеалам. Из этого страшного противостояния, в которое его поставила судьба, он вышел, не пострадав морально: более того, нравственно он стал даже сильнее, чем прежде (по крайней мере, с точки зрения общества).
А вот немецкий физик Вернер фон Гейзенберг во время войны себя опозорил. Более практичные коллеги раньше не раз посмеивались над ним за его пристрастие ко всяческим развеселым компаниям. Но эти развлечения оказались не такими уж безобидными и невинными: все больше их участников чувствовало, что именно такие мероприятия – способ сблизиться со священной почвой фатерлянда, каковую следует оберегать от злокозненных чужаков, в частности, евреев и иностранцев. И хотя Гейзенберг все-таки пытался заступаться за некоторых (весьма немногих) коллег, которых гнали с их академических постов из-за еврейского происхождения, позже он явно наслаждался своими высокими постами и важными должностями в новой нацистской Германии. Теперь он мог руководить большими научными коллективами, распоряжаться немалыми бюджетами, к тому же его грели мечты о чудесном оружии, которое вот-вот позволит Германии окончательно разгромить всех ее врагов.
Во время войны Гейзенберг даже однажды (поблизости прохаживались эсэсовские офицеры в своей черной форме) ворвался в копенгагенский институт Бора, крича, что будущее за Германией, которая сейчас находится на подъеме. Бор тогда еще не уехал из Дании. Неожиданный визит поверг его в ужас. Собственно, он уже начал готовить институт к вторжению нацистов – в частности, спрятав золотые нобелевские медали двух еврейских сотрудников института, поскольку, по новым немецким законам, все имущество евреев теперь могло быть «конфисковано» – то есть попросту разграблено, – и если бы владельцы попытались сохранить свои медали, скажем, переправив их за границу, то и их самих, и всех, кто им помогал, могли арестовать и вполне «законно» подвергнуть пыткам. Выдающийся ученый венгерского происхождения Дьёрдь де Хевеши, изобретательный друг Бора (еще по манчестерским временам) и будущий (1943 года) лауреат Нобелевской премии по химии, тогда работавший в Копенгагене, придумал идеальный тайник: он медали растворил в смеси азотной и соляной кислот (царской водке), обратив их в невинную бурую жидкость, сосуд с которой задвинули на дальнюю полку – дожидаться конца войны[10].
Благодаря своим блестящим научным талантам, позволившим ему сформулировать знаменитый принцип неопределенности, Гейзенберг пользовался большим уважением среди нацистских властей и имел право делать практически все, что пожелает. Разве мог Бор, обсуждая с Гейзенбергом принципы новой физики, предполагать, что вскоре его немецкий коллега Гейзенберг будет заставлять узниц концлагеря Заксенхаузен производить для его экспериментов смертоносный урановый порошок, работая до тех пор, пока не умрут от воздействия радиации? И теперь великий датчанин с отвращением осознавал, что Гейзенберг, при всей своей любви к музыке, при всем своем образовании, при всем своем математическом блеске, к цивилизованным людям не принадлежит.
Макс Борн, бывший наставник Гейзенберга, в отличие от своего бывшего ученика, не мог извлечь из войны никакой выгоды. Более того – ему, еврею, пришлось покинуть родину. Еще во времена конференции 1930 года молодежные группы, которые так обожал Гейзенберг, набирали в Германии силу, и даже в тихом университетском городке Гёттинген около трети взрослых избирателей голосовали в том году за нацистскую партию. Одна особенно ретивая группа студентов начала шерстить записи о крещении и городские регистрационные картотеки, чтобы выяснить, кто из их профессоров еврей. Составили подробные перечни, и вскоре была издана толстая книга – «Еврейское влияние в немецких университетах. Том 1. Гёттингенский университет». Пройдет лишь несколько лет, и подобные списки будут использоваться для уничтожения людей.
Жизнь Борна стала невыносимой, особенно после того, как почти все коллеги по факультету отвергли его просьбы о поддержке. В конце концов он оказался в Шотландии, где стал любимым преподавателем нескольких поколений студентов. (Одна из дочерей Борна вышла замуж за британца и взяла его фамилию – Ньютон-Джон. Позже они перебрались в Австралию, где их дочь Оливия прославилась как певица и актриса.) Борн вовремя уехал, ведь с укреплением нацистского государства становилось все очевиднее, что интеллектуалам еврейского происхождения в Германии угрожает нешуточная опасность – да и не только им.
В 1933 году, когда Борн еще жил в Германии, Адольф Гитлер, по сути, захватил контроль над рейхстагом, то есть взял власть в стране в свои руки, и студенты, поддерживавшие идеи нацизма (таких нашлось множество), могли отныне безнаказанно избивать евреев. Так, дочерям Борна не раз угрожали на улице. А потом, 10 мая, по всей стране, не исключая и старых, уютных, красивых университетских городов, вспыхнули огромные костры из книг: сцена, немыслимая со времен Средневековья.
Самые большие толпы сжигателей книг собирались на берлинской площади Опернплац, рядом со зданием оперы, где устраивались первые митинги «против Эйнштейна». Студенты с большим энтузиазмом целыми тележками свозили сюда тома, захваченные в библиотеках и частных домах. В полночь на площади появился министр пропаганды Геббельс. Его речь передавали по радио на всю страну. «Мужчины и женщины Германии!.. В этот полночный час вы поступаете достойно, повергая в пламя злой дух прошлого!» Геббельсовские фотографы уже стояли наготове. Эти снимки должна была увидеть вся страна: воодушевление толпы, радостные лица, озаренные пламенем. В ту же ночь гёттингенские студенты-нацисты, собравшись в такую же безумную толпу, с восторгом устроили подобное аутодафе и на площади своего города.
Книги Эйнштейна швыряли в огонь с особым ликованием, ведь он был самым знаменитым из «еврейских интеллектуалов» и представлял дух либерализма и рационального мышления, противоположный тому духу, который насаждало новое государство. «Эпоха засилья еврейского интеллектуализма подошла к концу!» – объявил Геббельс стране, стоя на площади Опернплац. Нетрудно было догадаться, что страну ждет впереди…
* * *
В конце 1932-го, за год до митинга на площади Опернплац, где с таким ликованием сжигались его книги, Эйнштейн вместе с Эльзой посетил загородный дом, чинно ожидавший их под Берлином. Здесь случались его интрижки, так мучившие жену. Здесь совершались мирные прогулки. Здесь собирали грибы, устраивали семейные обеды, которые она так любила. Теперь же они приехали забрать его бумаги и самое ценное из ее имущества. Калифорнийский технологический институт (располагающийся в Пасадине) уже предложил ему место, а Институт перспективных исследований, недавно созданный в Принстоне, явно готовился сделать ему еще более выгодное предложение.
Эльза хорошо разбиралась в людях, но в том, что происходит с Германией, ее несравненная интуиция оказалась беспомощной. Они с Эйнштейном не раз ездили в Америку и раньше, иной раз довольно надолго – например, когда он месяцами читал там лекции. Теперь ведь тоже будет что-то подобное – просто еще одна поездка?
Эйнштейн покачал головой: ты ничего не понимаешь. «Хорошенько посмотри вокруг, – произнес он. – Ты видишь все это в последний раз».
Чета покинула страну. На следующий год, уже после сожжений книг, взбесившаяся толпа нацистских молодчиков, ворвавшись в покинутое жилище ученого, разграбила имущество ненавистного профессора. Эльза узнала об этом гораздо позже. Во время тех погромов они с мужем уже находились в Бельгии, под вооруженной охраной. Оттуда они отплыли в Америку.
Глава 19 Одиночество в Принстоне
Оставшуюся часть своей жизни, с 1933 по 1955 год, Эйнштейн провел в Принстоне (штат Нью-Джерси), университетском городке, совсем не похожем на ту бурлящую гавань равноправия и толерантности, каким он стал в наши дни. Когда Эйнштейн сюда приехал, здесь имелось несколько католиков, еще меньше евреев, а уж неграм, разумеется, не дозволялось тут ни преподавать, ни учиться. Сотрудники учебного заведения очень собой гордились, хотя по-настоящему значимыми и престижными тогда считались совсем другие институты – в Цюрихе, Берлине, Оксфорде (там, в отличие от Принстона, работали ученые мирового класса, выполнявшие, как считалось, действительно важную работу). Преподавательские вечеринки казались Эйнштейну особенно смешными. Некоторые профессора доходили до претенциозности, которую сочли бы излишней даже подруги Эльзы, кичившиеся принадлежностью к высшему обществу: технический персонал, набранный из жителей штата, заставляли облачаться в лакейские ливреи и кланяться, подавая шампанское на изящных подносах. В письме бельгийскому другу Эйнштейн описывал все эти забавы как «жизнь в диковинном и церемонном поселении мелких полубожков, гордо вышагивающих на негнущихся ногах».
Впрочем, среди обитателей Принстона, к счастью, нашлись и вполне приятные люди. Когда местная гостиница отказалась предоставить номер великой американской темнокожей певице Мариан Андерсон, Эйнштейн пригласил ее остановиться в его доме и обнаружил, что вовсе не подвергся остракизму: напротив, немалое число соседей поддержало его (впрочем, стараясь это не афишировать). Им нравилось, что среди них живет этот милый европеец. В свой первый принстонский день Эйнштейн вошел в кафе-мороженое и (зная, что по-английски он говорит с чудовищным акцентом) молча ткнул большим пальцем в сторону студента со странным устройством для переноски мороженого, а затем указал на себя. Официантка, подавшая Эйнштейну его первый стаканчик ванильного мороженого в Принстоне, позже рассказывала репортерам, что это стало одним из самых памятных событий в ее жизни. Эйнштейну лишь добавлял очарования тот факт, что затем он спокойно вышел и купил газету, где описывались поиски его местонахождения (на буксирном судне его доставили на берег непосредственно с трансатлантического парохода, а затем быстро перевезли в Принстон, дабы избежать огласки, которая неминуемо грозила ему на главных манхэттенских пристанях).
Шло время. Он натаскивал соседских ребятишек по математике. На Рождество, играя на скрипке, бродил по улицам с местными жителями, распевавшими праздничные песни. Для выходных дней купил себе яхту – небольшую 17-футовую посудину, которую мрачно назвал Tinnef, что на идише означает «Кусок хлама». На ней он с удовольствием дрейфовал целыми часами. Они с Эльзой по-прежнему отнюдь не пребывали в состоянии страстной влюбленности друг в друга, но в этой стране «летучих змей» вели вполне достойную совместную жизнь. Когда у нее случились неполадки с глазами, а позже с почками, она писала подруге: «Он очень расстроился из-за моей болезни… Я никогда не думала, что он так меня любит. Меня это очень утешает».
Бытовые условия тоже оказались неплохими: даже в Берлине супруги не могли похвастаться электрическим холодильником, а здесь, судя по всему, такое устройство имелось в каждой семье. Кроме того (о радость!), здесь было очень легко согреть воду для пенной ванны, которую он любил принимать по утрам. Вокруг них простирались фермерские угодья штата Нью-Джерси, и цена двух яиц (которые он любил употреблять на завтрак в виде глазуньи) оказалась совершенно разумной. «Я тут великолепно устроился, – писал Эйнштейн давнему другу Максу Борну. – Зимую, как медведь в берлоге, и чувствую себя здесь дома – сильнее, чем когда-либо в моей пестрой жизни».
Но что-то было не так, что-то изменилось. Рассудок Эйнштейна, казалось, тоже отправился на зимовку. Великий физик постепенно удалялся от тонкой грани между упорством и упрямством, становясь все более косным и зашоренным. Сам он, конечно, не видел для себя альтернативы. «Я по-прежнему не верю, будто Господь бросает кости, – отмечал он, уже прожив в Америке несколько лет. – Ведь если бы он это делал, то занимался бы этим постоянно и равномерно, вовсе не придерживаясь какого-то графика, согласно которому он то играет, то не играет. Если бы он играл в кости, нам не нужно было бы отыскивать в природе какие-то законы».
Его друзья, оставшиеся в Европе, умоляли его пересмотреть эти воззрения. Ничто, решительно ничто не свидетельствовало в его пользу. Каждое новое научное открытие лишь подтверждало гипотезы Гейзенберга и Борна, их взгляд на вещи. Эти находки показывали: изучите мир во всех подробностях – и в самой его сердцевине вы все равно не обнаружите определенности, гарантированности, детерминизма. Напротив, там – первородный туман неопределенности, пусть даже с нашей «крупномасштабной» точки зрения такое и кажется невозможным.
А Эйнштейн уверял всех, что эти открытия – лишь нечто временное. Он был совершенно уверен, что неизбежно наступит день, когда их удастся опровергнуть. И намеренно закрывался от всех данных в поддержку этих гипотез (он считал эти данные совершенно несовместимыми с его взглядами, вот и история с лямбдой показывает: он абсолютно вправе игнорировать такие результаты). Однако тем самым он невольно обрывал те интеллектуальные связи, к которым по-прежнему стремился. Да, основную часть принстонских сотрудников составляли надутые снобы, ничего из себя не представлявшие как ученые. Но здесь нашлось и немало серьезных исследователей, вместе с которыми он мог бы решать серьезные научные задачи, подобные тем, что Бор решал у себя в Копенгагене.
Например, всего в нескольких кварталах от института, где трудился Эйнштейн, на «главном» физическом факультете Принстона, занимались изучением явления, которое позже назовут квантовым туннельным эффектом. Поместите электрон перед стенкой – и, согласно представлениям традиционной физики, он, возможно, будет совершать небольшие колебания, но, в общем-то, ему полагается оставаться на месте. Однако из гейзенберговского принципа неопределенности следует, что измерение скорости электрона вынуждает его занимать неопределенное положение. И хотя остается некоторая вероятность, что он по-прежнему будет находиться перед стенкой, куда выше вероятность, что, когда вы взглянете на него в следующий раз, он неизвестно почему объявится по ту сторону барьера, даже не пройдя его насквозь.
Окажись такие квантовые эффекты заметными в масштабах привычного нам макромира, мы могли бы с легкостью проходить сквозь любые стены – кирпичные, металлические, каменные… Легче всего было бы просачиваться через тонкие стальные барьеры; стены лондонского вокзала Кингс-Кросс представляли бы некоторые затруднения, а телепортация через альпийскую гору Маттерхорн посредством вбегания в нее оставалась бы уделом наиболее бесшабашных авантюристов. Впрочем, дело тут не в каком-то «просачивании насквозь». Квантовый туннельный эффект подразумевает, что вы (или электрон) находитесь по одну сторону барьера, а потом вдруг мгновенно оказываетесь по другую его сторону.
Интуиция подсказывала Эйнштейну, что такое невозможно. Однако все данные, которые удалось накопить экспериментаторам, шедшим по стопам Гейзенберга, Бора и Борна, показывали, что в нашем реальном мире такое действительно происходит. Принстонские исследователи туннельного эффекта преклонялись перед Эйнштейном и с радостью ухватились бы за любую возможность сотрудничества с ним. Принстонцам даже удалось применить этот эффект на практике, что в конечном счете привело к созданию транзисторов (как известно, ныне транзисторы действуют во всех наших телефонах и прочих электронных устройствах). Но Эйнштейн никак не мог заставить себя смириться с этими странными последствиями новой физики – квантовой механики. Так что он не принял никакого участия в исследовании квантового туннельного эффекта – и в транзисторной революции.
* * *
Вся жизнь Эйнштейна, его корни, окружение подготовили его к открытию относительности – но не к тому, чтобы признать неопределенность. И теперь, подобно многим другим знаменитостям (свободным, финансово независимым, вдали от самых давних друзей), он очутился в таком положении, когда никакая сила не могла заставить его пересмотреть свои взгляды.
Ему было уже за 50, и он предпочел заняться единой теорией поля (так он ее назвал). Великие викторианские ученые сумели обобщить многое из того, что человечество знало об энергии во Вселенной, и сформулировали закон сохранения энергии, постулировавший, что вся энергия в мире (неважно, порожденная взрывом газа или захлопыванием автомобильной дверцы) обладает взаимосвязанностью и ее нельзя создать или уничтожить: ее можно только преобразовывать. В 1905 году, со своим уравнением E = mc², Эйнштейн пошел еще дальше, показав взаимосвязь не только всех форм энергии, но и всех форм массы, а также собственно взаимосвязь массы и энергии. В 1915 году, со своим равенством G = T, он продемонстрировал, что и сама геометрия пространства взаимосвязана с массой и энергией, заключенных во всех «вещах».
Эйнштейн способствовал прогрессу физики больше, чем кто-либо другой в истории человечества, создав теорию относительности. И теперь он поставил перед собой новую, не менее грандиозную задачу. Что, если пойти дальше и показать, что само электричество – лишь еще один аспект гравитации и геометрии? Это будет поистине историческое свершение. Его критики сразу поймут, что они ошибались. Может быть, он сумеет найти причинно-следственные связи, соединяющие еще более широкий круг явлений?
По крайней мере, об этом он думал, пытаясь создать единую теорию поля. К сожалению, тут упрямство Эйнштейна сработало против него.
Когда Эйнштейн учился в цюрихском Политехникуме, один из его профессоров, уже упоминавшийся Генрих Вебер, как-то раз сказал ему: «Ты умный мальчик, Эйнштейн, очень умный. Но у тебя есть огромный недостаток: ты не позволяешь себе прислушиваться к другим». Прислушиваться к Веберу, возможно, и не стоило: он навсегда застрял в физике середины XIX века, а Эйнштейну как раз требовалось восстать против таких преподавателей, дабы достичь величия. Но теперь Эйнштейн понемногу начинал стареть, и то, что когда-то было лишь невинной причудой, превращалось в нечто куда более серьезное.
Намеренно держась в стороне от новейших открытий в области квантовой механики, Эйнштейн тем самым изолировал себя от революционных научных свершений эпохи, к примеру, обнаружения новых частиц вне и внутри атома. Но ведь для создания единой теории поля обязательно следовало учесть эти находки. Без них теория была бы бессмысленна и вряд ли соответствовала реальности. Когда-то Эйнштейн сам мог бы признать это, ведь его ранние статьи часто оканчивались призывом к экспериментаторам поискать подтверждения его теоретическим построениям. Теперь он уже не просил экспериментаторов ни о чем. Более того, поскольку единая теория поля, которую он пытался создать, лежала далеко за пределами того, чем занимались физики – его современники, такая проверка в лабораториях оказалась бы попросту невозможной. Эйнштейн уже не откликался на новые результаты научных изысканий. Он уже не предлагал как раньше новые эксперименты, все более и более изощренные – это осталось в прошлом. И уже никто не верил, что он создаст единую теорию поля…
Он продолжал свой путь, но отнюдь не потому, что по-прежнему верил в себя, в свою интеллектуальную мощь, а скорее потому, что им двигало присущее ему упрямство. Так он месяц за месяцем упорствовал в своей несгибаемой решимости – в течение почти двух десятков лет.
Эти усилия оказались еще бессмысленнее из-за того, что, так часто теперь работая в одиночку (или же с помощью талантливых, но всегда раболепно-покорных ассистентов из числа старшекурсников и аспирантов), Эйнштейн сам себя ограждал от новейших научных методов. Один из молодых посетителей его кабинета, расположенного на верхнем этаже дома, заметил, что рабочие столы там завалены бумагами, где используется система записи, которая была очень полезна в 1910-е годы, когда Гроссман и обучил ей Эйнштейна. Но в 1940–1950 годах физики использовали совсем другие методы и подходы, которые были развиты в ходе новых работ в области ядерной физики. Однако в прошлом эти старомодные инструменты творили в руках Эйнштейна чудеса, и теперь он не мог от них отказаться.
В этом-то и состояла драма, ведь интеллект Эйнштейна сохранил былую мощь. Через несколько лет после переезда в Принстон, ненадолго оставив работу над единой теорией поля и вернувшись в царство чистой относительности, Эйнштейн придумал замечательную концепцию гравитационных линз, показавшую, как целые галактики могут столь сильно искривлять пространство вокруг себя, что свет из еще более далеких галактик, находящихся (по отношению к нам) позади них (тот свет, который они, казалось бы, всегда от нас заслоняют), может оказаться видимым для нас, поскольку это искривление приводит к тому, что свет огибает данный участок пространства. Идея казалась столь ошеломляющей, что ее почти все проигнорировали.
Одновременно работая над несколькими проектами, Эйнштейн все-таки набрался сил и в последний раз бросил вызов своему заклятому врагу – квантовой теории. В 1935 году вместе с двумя коллегами помоложе он попытался написать еще одну статью, которая показала бы, что квантово-механические предсказания не верны. В ней он предложил казавшуюся ему совершенно абстрактной идею того, что теперь называют квантовой сцепленностью (квантовой зацепленностью, квантовой запутанностью). Он рассуждал так: если признать правила квантовой механики (ныне общепринятые), мы вынуждены будем заключить, что при расщеплении частицы, скажем, на две другие частицы, которые очень быстро разлетаются на очень большое расстояние (равное диаметру Солнечной системы или даже превышающее его), эксперимент, проводимый с одной из получившихся частиц, способен вызвать мгновенное изменение определенных свойств другой частицы, пусть даже они и находятся далеко друг от друга.
Эйнштейну, по-видимому, казалось, будто этот странный воображаемый эффект (такая вот мгновенно возникающая взаимосвязь между двумя отдаленными частицами) показывает, что с той наукой, у истоков которой стояли Бор, Гейзенберг и другие, что-то не так. Более того, это абсурдное следствие из квантовой теории означало: вся теория недостоверна. Но когда и это не заставило ученых нового поколения изменить взгляды, Эйнштейн сдался. Спорить было бессмысленно. Он еще попытается время от времени выступать с критикой квантовой теории, но больше никогда не будет устраивать против нее организованную кампанию.
* * *
Ганс Альберт, старший сын Эйнштейна, в 1937 году тоже перебрался в Америку. Если между ними когда-то и возникали трения, они уже давно забылись. Отец часто навещал его в Южной Каролине, где тот работал инженером-гидравликом и изучал, как в реках накапливается осадочный материал. Они бродили по лесам, болтая о научных исследованиях Ганса Альберта. Эйнштейн-старший с удовольствием слушал его. Став профессором в Беркли, сын вспоминал, что отец по-прежнему любил узнавать о новых изобретениях и остроумных математических задачах. Только вот когда разговор касался квантовой механики, Эйнштейн тут же замыкался в себе: его взгляды на сей счет оставались неколебимыми.
В середине 1930-х настал момент, когда изоляция Эйнштейна, казалось, могла прекратиться. Он поддерживал контакт с Эрвином Шрёдингером, другим великим мечтателем, достигшим огромной славы в Европе и (хоть он и сыграл центральную роль в квантовой революции) разделявшим сомнения Эйнштейна насчет вероятностной интерпретации квантовой механики. Они разделяли и несколько богемное отношение к жизни. (Когда Шрёдингера, известного вольностью нравов, допустили до чтения лекций в Оксфорде в качестве приглашенного профессора, один из тамошних преподавателей заметил: «Иметь в Оксфорде одну жену уже достаточно неловко, но когда у вас их две – это явный перебор».) Они с большой теплотой относились друг к другу. «Ты мне как родной брат, и твой мозг во многом работает как мой», – писал ему Эйнштейн.
Шрёдингер даже (прочитав ту самую статью Эйнштейна 1935 года, посвященную квантовой механике) придумал мысленный эксперимент, направленный на то, чтобы показать, как абсурдно явление квантовой сцепленности (термин, как раз и предложенный австрийцем). Основываясь на идеях, которыми он делился в своих письмах Эйнштейну, Шрёдингер предложил свой знаменитый сценарий: кот попадает в запертую коробку, где имеется сосуд с ядовитым веществом, который может открыться, а может и не открыться – в зависимости от того, породит или нет одну частицу распадающееся радиоактивное вещество внутри коробки. Вероятность того, что кот отравится и погибнет, составляет одну вторую, но единственный способ узнать, выживет ли бедняга, состоит в том, чтобы открыть коробку. А пока вы этого не сделали, определенно сказать, жив кот или мертв, нельзя…
Теперь этот эксперимент фамильярно называют опытом с «котом Шрёдингера» и иллюстрируют с его помощью странные истины, свойственные квантовой механике. Однако в то время он считался критическим выпадом против всей системы, с которой так долго – и так безуспешно – бился Эйнштейн. Совершенно по-эйнштейновски Шрёдингер задействовал собственное воображение, чтобы предпринять яростную атаку на квантовую теорию.
А значит, Эйнштейн и Шрёдингер были явно предрасположены к тому, чтобы стать партнерами. Какое-то время казалось даже, что им скоро представится возможность более тесного сотрудничества. Шрёдингер не был евреем, но его отношения с нацистскими властями складывались непросто, к тому же он не скрывал от мирового физического сообщества, что был бы очень рад получить место в Принстоне, подальше от неспокойной Европы. Случись такое, Эйнштейн и Шрёдингер наверняка стали бы работать вместе. Благодаря такому сотрудничеству Эйнштейн непременно обрел бы более ясное понимание квантовой механики, хотя при его характере вряд ли стал относиться к этой области науки так благосклонно, как в конце концов стал к ней относиться Шрёдингер. Потому что, хотя квантовая механика вовсе не является чем-то совершенно случайным и произвольным (скажем, принцип неопределенности в ней соблюдается неукоснительно), она в основе своей все-таки очень далека от того детерминизма, который, как всегда настаивал Эйнштейн, отражает истинное положение вещей во Вселенной.
Мы так и не узнаем, чего они могли бы достигнуть вместе. Абрахам Флекснер, директор принстонского Института перспективных исследований, к тому времени был настроен против Эйнштейна. (Заметим, что эта неприязнь не имела никакого отношения к квантовой механике.) Флекснер платил Эйнштейну немалое жалованье (не зря это заведение прозвали Институтом перспективных заработков), однако ему с трудом удавалось хоть как-то контролировать главную научную звезду института.
В первое время директор даже просеивал поступавшую Эйнштейну корреспонденцию: так, Флекснер сам отверг приглашение, поступившее великому физику из Белого дома, ибо полагал, что прием у президента отвлечет ученого от работы. Эйнштейна же все это приводило в бешенство – и не только сама мысль о том, что его снисходительно опекают (как он писал в одном из своих необычно сухих писем, «с подобным вмешательством… не может примириться ни один уважающий себя человек»): директорское вмешательство в его жизнь во многом препятствовало той деятельности, которую Эйнштейн считал для себя особенно важной.
Он был одним из самых активных эмигрантов, пытавшихся вытащить беженцев из Европы, где нарастало влияние нацизма. Почти все свои доходы он тратил на оплату виз для самых заурядных семей. Он писал бесчисленные рекомендации обычным университетским сотрудникам, чтобы они (а не только научная элита) могли получить работу в США. Он лоббировал изменения в академической политике, которые позволили бы большему числу его коллег официально стать американскими иммигрантами. И для него сама мысль о том, что его пытаются лишить возможности продвигать эти идеи на высшем уровне, была отвратительна.
Когда Эйнштейн узнал, что приглашение в Белый дом отклонили без его участия, он, возмущенный до крайности, сам написал президенту Франклину Рузвельту – и все-таки пообедал в Белом доме! Как и многие образованные американцы того времени, Рузвельт достаточно хорошо владел немецким, чтобы поддержать беседу на родном языке Эйнштейна. Они обсудили не только ситуацию в Европе, но и яхты (оба обожали ходить под парусом). Чета Эйнштейн переночевала в Белом доме.
В результате той встречи Эйнштейн сумел многого добиться для улучшения участи собратьев-изгнанников, но при этом невольно уничтожил последний реальный шанс укрепить свою репутацию среди собратьев-физиков. Флекснер страшно оскорбился тем, что его решения подвергают сомнению, и, зная, сколь важной для Эйнштейна может оказаться работа с Шрёдингером, сделал все, чтобы его переезда в Принстон, которого так желали оба ученых, не случилось. В итоге выдающийся физик XX века Эрвин Шрёдингер очутился в провинциальном, оторванном от большой науки Дублине, где он и проживет до конца жизни Эйнштейна.
Но даже там, в тихом Дублине 1930-х, в этом сравнительно бедном городе, столице новой страны, которая отчаянно стремилась как можно быстрее и сильнее отделиться от Великобритании, Шрёдингер сделал то, на что оказался не способен Эйнштейн. В сущности, Шрёдингер объявлял: он выдвинул против квантовой механики самые веские доводы, какие только смог найти, но Бор и его сторонники нашли на них убедительный ответ, а потому теперь он готов признать, что ранее ошибался. На некоторое время Шрёдингер оставил свои прежние исследования и переключился на изучение структуры живого. Эти его работы оказались настолько глубоки, что даже помогли осуществить научную революцию в биологии, в частности, в исследовании ДНК (активно развивавшиеся в 1940-е годы и позже).
Именно такие переходы в новые области исследований всегда вдохновляли Эйнштейна в прошлом – и, вероятно, они и сейчас могли бы дать новый импульс его научному творчеству. Если бы только он признал свою ошибку – или, по крайней мере, выбросил все это из головы! Но, похоже, он не мог сделать ни того, ни другого. К тому же рядом не было никого, близкого ему по духу, а Шрёдингер уже работал в далекой Ирландии. И Эйнштейн, не в состоянии организовать новую, более убедительную атаку на квантовую теорию, продолжал неуклонно сползать на периферию науки.
Эйнштейн понимал, что научное сообщество его сторонится. Хотя популярные среди широкой публики издания и повествовали о его работе с очень правдоподобным воодушевлением, действующие физики относились к этим сообщениям скептически. Желчный Вольфганг Паули писал из Швейцарии: «Эйнштейн снова выступил с публичным комментарием насчет квантовой механики… Как всем хорошо известно, всякий раз, когда он это проделывает, результаты оказываются катастрофическими». По воспоминаниям одного из принстонских физиков, многие в институте стали поговаривать: «Лучше не работать с Эйнштейном». Степень этой маргинализации стала мучительно очевидна, когда новую статью Эйнштейна отклонил влиятельный американский журнал Physical Review, приблизительный эквивалент престижного немецкого Zeitschrift für Physik. Эйнштейн не относился к тем, кто всюду норовит использовать свои былые заслуги и общественное положение, но все же такого с ним никогда не случалось.
Он старался делать вид, что эти неудачи и отказы не имеют значения: «Меня принято считать своего рода окаменелостью. Я нахожу эту роль не столь уж отталкивающей, поскольку она превосходно отвечает моему темпераменту». Но ему плохо удавалось сохранять показную невозмутимость всегда. Вместо того, чтобы пытаться как-то выйти из униженного положения, вызванного утратой его собственного научного авторитета, он просто отказывался принимать участие в работе современных ему физиков.
Отчужденность Эйнштейна от мировой науки стала особенно очевидна, когда в 1939 году в Принстон приехал Бор. Он пробыл там два месяца. Когда-то эти двое были большими друзьями (вспомним слова Эйнштейна: «Нечасто доводилось встретить другое человеческое существо, которое вызывало бы во мне такую радость одним своим присутствием»). На сей раз Эйнштейн старался его избегать: не приходил на выступления Бора, не приглашал его на долгие прогулки, которые тот обожал, даже не заглядывал на общефакультетские завтраки, где они могли случайно столкнуться. Когда после одного семинара Бор все-таки подошел к Эйнштейну, тот отделался банальностями. «Бора это очень огорчило», – вспоминал его ассистент, ставший свидетелем этой сцены.
Но какой выбор оставался у Эйнштейна? Они принадлежали к одному поколению, однако Бор по-прежнему находился в самом центре мировых научных исследований. А вот Эйнштейн – нет. Чураясь Бора, Эйнштейн как бы сохранял свое достоинство.
Но это стало для него еще одним шагом к тому, чтобы совершенно оградить себя от научных достижений, которые могли бы, например, сдвинуть с мертвой точки его собственную работу по единой теории поля, если бы только он захотел прислушаться к известиям о новейших открытиях. Более того – они, эти открытия (если бы Эйнштейн сам захотел их развить) наверняка позволили бы ему внести существенный вклад в охоту на квантово-механические истины. Но успехи современных ему физиков, блестящие научные результаты, полученные в те годы, прошли мимо него – и он прошел мимо них.
Глава 20 Конец
Вне физики, вне этой своей излюбленной области науки, Эйнштейн пытался вести жизнь вполне преуспевающего человека. Он позировал скульпторам. Сдружился с похожим на святого тео логом и философом Мартином Бубером (кстати, на почве любви к детективам Эллери Куина). Он всегда приглашал останавливаться в своем доме великую американскую певицу негритянку Мариан Андерсон, когда та посещала Принстон. Оставаясь один, он подолгу импровизировал, усевшись за пианино. Когда его кот Тигр загрустил из-за того, что в ливень ему приходится торчать дома, Эйнштейн (как явствует из записей его секретарши) сказал своему питомцу: «Я знаю, что не так, дружище, но я не знаю, как это отключить».
Эльза умерла в 1936-м, а Милева (которую он не видел много лет) – в 1948-м. Каждая из этих потерь стала для него гораздо более сильным ударом, чем он ожидал. Особенно трагично он воспринял кончину Милевы. В Цюрихе ей жилось неплохо. Она не страдала от безденежья – Эйнштейн регулярно посылал ей деньги, к тому же она давала частные уроки музыки и математики (Милева всегда любила и то, и другое). Но в сравнительно молодые годы у их младшего сына Эдуарда, остававшегося с матерью в Швейцарии, обнаружили шизофрению. Он часто и подолгу лежал в психиатрических лечебницах. Обычно Эдуард вел себя вполне мирно, частенько с сонным и удовлетворенным видом играл на пианино (друзья семьи отмечали в этом его сходство с отцом – одно из многих), но порой впадал в буйство. В один из таких моментов Милева оказалась рядом с сыном и потеряла сознание (возможно, пытаясь его утихомирить). Три месяца спустя она умерла в больнице.
Перед самой войной Майя, сестра Эйнштейна, развелась с мужем (с еще одним Винтелером: как мы помним, когда-то Эйнштейн жил в Швейцарии у Винтелеров, и Мария Винтелер стала его первой возлюбленной; его друг Бессо женился на ее сестре, а Майя в свое время вышла замуж за одного из братьев Марии). Оставшись одна, Майя переехала к брату в Принстон. Вечерами Эйнштейн любил читать сестре книги вслух. Иногда он брал в руки «Дон-Кихота», но чаще обращался к Достоевскому, чьи романы они оба очень любили. Особенно брат и сестра Эйнштейны ценили «Братьев Карамазовых», где герои пытаются постичь далекого Бога. И хотя Иван Карамазов полагал это невозможным («Всё это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях»), сам Достоевский так не считал, и Эйнштейн восхищался этой убежденностью русского писателя.
Когда Майя умерла (это произошло в 1951 году), Эйнштейн сел в кресло на задней террасе дома и провел так несколько часов. «Мне ее немыслимо не хватает», – признался он падчерице, когда она, выйдя на террасу, попыталась его утешить. А он продолжал сидеть там, неподвижно, посреди жаркого принстонского лета. Один раз он прошептал, словно бы обращаясь к самому себе: «Всматривайся в природу. Тогда ты сумеешь лучше понять ее». Из специальной теории относительности он знал, что в некоторых областях Вселенной момент смерти его сестры еще не наступил. Но он знал, что этих областей ему никогда не достичь.
* * *
Возраст все больше давал себя знать. В 1952 году Эйнштейна посетили молодые музыканты струнного квартета «Джиллиард» и сыграли для него пьесы Бетховена, Бартока и одного из его любимцев – Моцарта. Когда его уговорили к ним присоединиться, он предложил обратиться к моцартовскому соль-минорному квинтету для струнных, который они и исполнили все вместе. Руки у него отвыкли от скрипки и плохо слушались, но он отлично знал это сочинение. Один из музыкантов вспоминал: «Эйнштейн почти не смотрел в ноты… Его координация, слух, концентрация вызывали восхищение».
Но в его сознание понемногу просачивалась тьма, постепенно застилавшая края прославленного «мыслительного поля» великого ученого. Временами он сомневался в том, что его усилия по созданию единой теории поля увенчаются успехом. Однажды он написал, что чувствует себя «воздушным судном, на котором можно кружить в облаках, не видя при этом, как вернуться к реальности, то есть на землю». В другой раз он признался любимому ассистенту-математику, что, хотя он по-прежнему продолжает выдавать множество свежих идей, иногда опасается, что утрачивает способность определять, какие из них имеет смысл развивать дальше. Но чаще, пожимая плечами, он говорил окружающим, что убежден: в будущем наука к нему «подтянется» – иными словами, новые научные открытия станут подтверждением его теоретических выкладок. Ведь когда-то Исаак Ньютон отверг сомнения в собственной правоте насчет силы тяготения – и в результате не смог совершить тот научный прорыв, который удалось совершить самому Эйнштейну в 1915 году. История с лямбдой показала Эйнштейну, как полезно выжидать, когда убежден в своей правоте. Квантовая механика вполне точно описывает некоторые явления, но она тоже может оказаться (и наверняка окажется?) лишь промежуточной ступенью на пути к более великим научным свершениям, которые ждут нас в будущем. Так полагал Эйнштейн.
В начале 1955 года умер чудный, благородный добряк Мишель Бессо, его самый давний друг. Прошло больше полувека с тех пор, как Эйнштейн признался Милеве: «Мне он очень по душе, потому что у него острый ум и к тому же он очень простодушен. Анна мне тоже нравится. Особенно же мне нравится их ребенок». Теперь этому мальчику по имени Веро самому было уже под 60. Эйнштейн написал Веро и сестре Мишеля о том, как он любил его и восхищался им. Эйнштейн вспоминал: «В основу нашей дружбы легли студенческие годы в Цюрихе, где мы регулярно встречались на музыкальных вечерах… Потом нас сблизила работа в патентном бюро. Наши разговоры по пути домой были полны незабываемого очарования…» А потом он добавил несколько фраз, которые мы уже читали: «Он оставил этот странный мир чуть раньше меня. Однако это ничего не значит. Для нас, правоверных физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим – лишь назойливая иллюзия».
К тому времени Эйнштейну исполнилось 75, и он сам был болен: в одной из крупных артерий, выходящих из сердца, возникло патологическое расширение – аневризма, и врачи объясняли ему, что это вздутие должно лопнуть в какое-то неизвестное время (в этой неопределенности сквозила мрачная ирония). Можно было попытаться сделать операцию, но из-за тогдашнего состояния сердечно-сосудистой хирургии надежд на успех практически не оставалось.
Эйнштейн решил подождать, не прекращая свою работу по созданию единой теории поля и свои публичные заявления об опасности неограниченного развития ядерных вооружений, которые могут уничтожить все человечество. Он пытался держаться стоически. «Со страхом думать о конце собственной жизни, в общем, свойственно человеческим существам, – признавался он. – …Это глупый страх, но избавиться от него нельзя». Конечно, его тревожило собственное состояние. Несомненно, он думал и о том, оценит ли будущая наука его научные труды по достоинству.
В начале апреля 1955 года его здоровье резко ухудшилось. Врачи объяснили, что аневризма рвется. Поначалу процесс шел медленно, но потом внезапно ускорился. Стали всерьез говорить об операции, однако Эйнштейн проявил непреклонность: «Продлевать жизнь искусственно – дурной тон. С меня хватит». Все же он спросил у медиков, что будет чувствовать (насколько «ужасной» будет боль), но они не могли сказать ничего определенного и просто дали ему морфий. Инъекция помогла, но ненадолго.
К 15 апреля (это была пятница) боли стали непереносимыми, и его пришлось отправить в Принстонскую больницу. Когда Марго, падчерица Эйнштейна, пришла навестить больного, она почти не узнала его: бледное лицо великого ученого искажала гримаса страдания. Но «его личность ничуть не изменилась», вспоминала она. «Он шутил со мной… и ожидал своего конца как неизбежного природного явления». Из Беркли прилетел старший сын Ганс Альберт, уже профессор инженерного дела. Указав на свои уравнения (еще одну попытку создать единую теорию поля, призванную свести вместе все известные силы ясным и предсказуемым образом), умирающий иронически заметил: «Будь у меня побольше математики…»
Вскоре он почувствовал себя чуть лучше и даже попросил очки, карандаш и свои бумаги – чтобы еще немного поработать над выкладками. Но потом, ранним утром 18 апреля, в понедельник, аневризма лопнула.
Эйнштейн был один и очень быстро истек кровью. Он успел позвать медсестру, и когда она вбежала в палату, что-то прошептал ей. Но она не знала немецкого и не поняла, что этот старик произнес перед смертью.
Эпилог
Примерно в 1904 году, когда Веро, сын Мишеля Бессо, был еще очень юн, друг его отца сделал мальчику замечательного воздушного змея. И потом они втроем, прихватив эту штуковину, пешком отправились по загородным полям в сторону небольшой горы, располагавшейся к югу от Берна. У подножия горы кто-то из взрослых запустил игрушку, а когда та поднялась в воздух, вложил бечевку в руку Веро.
В дальнейшие годы Веро часто вспоминал этого друга родителей – человека, который «всегда был в хорошем настроении, всегда был весел и других веселил, а еще знал кучу интересного». И еще Веро помнил, как этот человек – мистер Эйнштейн – в тот день не только соорудил змея, но и сумел, глядя на парящую в воздухе игрушку, объяснить ему, мальчишке, почему та летает.
Эйнштейн отличался безграничной добротой и ненасытным любопытством. Как и у всех, у него имелись свои недостатки, и в течение жизни они становились лишь заметнее на фоне его колоссальных достижений, которые словно бы увеличивали их. Но его намерения всегда были чисты. И если конец его научной карьеры можно назвать трагическим, так вышло лишь из-за того, что он сам загнал себя в тупик, упорно желая следовать неверно понятым урокам собственного прошлого.
Эйнштейн мечтал, что история подтвердит его правоту насчет квантовой механики. Но получилось наоборот. В 1950-е и 1960-е годы исследователи разработали способы проверки его идеи о том, что квантовая механика – лишь промежуточный этап на пути к более определенной теории, которая непременно должна появиться в будущем и которая избавит науку от ненавистной Эйнштейну случайности, даст более логичное и упорядоченное объяснение того, как функционирует Вселенная. Когда эти опыты провели в 1980-е, подтвердилась правота Гейзенберга, Бора и их сторонников: принцип неопределенности оказался совершенно незыблемым. Мир не следует детерминистическому пути, хоть Эйнштейн и предпочитал верить в противоположное. Можно быть уверенным (по крайней мере, на атомном и субатомном уровне) лишь в определенной степени случайности.
Со временем усилия Эйнштейна по ниспровержению квантовой теории обернулись против него. Даже его написанная в соавторстве статья 1935 года, показывавшая, что квантовая механика позволяет отдаленным друг от друга частицам столь чудесным образом «сцепляться», лишь подтверждала точку зрения, которая теперь стала общепринятой. Такие «сцепленные» частицы действительно удалось породить. Более того, в XXI веке их уже применяют в первом поколении квантовых компьютеров.
Однако в целом ряде других важнейших областей подход и открытия Эйнштейна принимаются и применяются столь широко, что зачастую люди даже не вспоминают о его авторстве: они, великие результаты, полученные великим Эйнштейном, просто «есть». В основе нашего понимания физики фотонов, лазеров, физики низких температур и, конечно же, относительности – его работы, некогда написанные в Берне, Цюрихе и Берлине. По воздействию на нашу жизнь, по тому, как они углубили наше понимание Вселенной, они могут соперничать разве что с величайшими прозрениями Ньютона.
И хотя попытка Эйнштейна создать единую теорию поля окончилась неудачей, многих виднейших ученых последующих поколений сам факт, что величайший ум человечества провел столько лет в этих поисках, вдохновлял чрезвычайно. Так, именно пример бесплодных эйнштейновских поисков позволил физику Стивену Вайнбергу вместе с другими учеными объединить электромагнетизм со слабым взаимодействием внутри атома: за эту работу они удостоились Нобелевской премии.
Общая теория относительности (которую мы обозначаем в этой книге равенством G = T) связывает труды Эйнштейна с двумя наиболее ошеломляющими открытиями современности. Его гипотезы о гравитационных линзах все-таки показывают: глядя на отдаленные скопления галактик, мы должны иметь возможность увидеть хотя бы что-то из находящегося за ними, поскольку эти скопления настолько сильно искривляют окружающее пространство, что свет, идущий из-за них, огибает их и затем снова фокусируется, позволяя нам увидеть его, находясь на Земле. Подобного же рода огибание Эддингтон зафиксировал на своих фотографиях 1919 года, когда изучал, как лучи света изгибаются, проходя возле Солнца.
Чем больше массы сосредоточено в этих космических скоплениях, тем сильнее будет искривляться окружающее их пространство и тем мощнее будет далекая линза. Сегодня это позволяет нам оценить массу подобных галактических кластеров – как бы «взвесить» их. Результаты оказались поразительными. Как выяснилось, звезды, планеты и т. п. (все, что, как мы полагали, наполняет Вселенную) – это лишь малая часть той массы, которую содержат в себе эти скопления. Основная же часть того, что существует во Вселенной, остается для нас совершенно невидимой, и мы не знаем, из чего эта часть состоит. Это незримое «нечто», которое работа Эйнштейна позволила нам обнаружить, называется «темной материей» и представляет собой одну из важнейших сфер исследования в современной физике.
Впрочем, не все следствия уравнения G = T оказались столь изящными. Что касается лямбды, то тут судьба жестоко посмеялась над Эйнштейном. Когда-то ему очень не хотелось вводить этот добавочный параметр в свое великое уравнение 1915 года, несмотря на эффективность лямбды в противодействии гравитации. Он пришел в восторг, когда в 1929 году Хаббл и Хьюмасон вроде бы показали, что Вселенная расширяется с постоянной скоростью, а значит, никакие подобные поправки не нужны. Однако начиная с 1990-х годов стали появляться новые данные, которые позволяют предположить, что Эйнштейн, быть может, все-таки оказался прав, вводя лямбду в свое уравнение. Мало того, что Вселенная стремительно расширяется: нечто «разрывает» ее с еще более высокой скоростью. Причину этого мощнейшего отталкивания назвали «темной энергией». Лямбда как раз могла бы хорошо ее описывать. Если все это так, значит, ошибка Эйнштейна все-таки на самом деле не была ошибкой и все его упорство, связанное с этой историей, было напрасно. Сейчас многие ученые с интересом занимаются изучением этой «пересмотренной» космологической постоянной, поскольку она очень важна и для понимания работ Эйнштейна, и для их связи с нарождающимися областями физики.
Эти открытия заставляют человечество смирить гордыню. Все, что мы видим, все, что мы, казалось бы, успели кое-как изучить (все континенты и океаны Земли, все планеты и звезды) – это лишь очень незначительная доля Вселенной. Темная материя составляет 25 % всего сущего, темная энергия – и вовсе 70 %. Весь известный нам мир – лишь пятипроцентный фрагмент, плавающий на поверхности чего-то огромного и незримого. Именно темная энергия порождает необходимость все-таки ввести что-то вроде лямбды, модифицирующей великое эйнштейновское уравнение 1915 года. Темная материя – другое дело, и ее до значительной степени можно рассматривать просто как еще один аспект «массы», который можно учесть, тоже внеся некоторые поправки в уравнения Эйнштейна – уравнения, во всех других отношениях совершенно справедливые.
Сам Эйнштейн много размышлял над тем, какую долю бескрайней Вселенной способен представить себе человеческий ум. Как мы уже знаем, в 1914 году ученый написал своему другу Генриху Зангеру: «Природа показывает нам лишь кончик львиного хвоста. Но у меня нет никаких сомнений, что он принадлежит льву, хотя из-за своих колоссальных размеров зверь не может непосредственно явить себя наблюдателю». Истину, которую таит в себе природа, узреть нелегко. Но, быть может, настанет день, когда новый Эйнштейн (на сей раз избежав ненужной спеси и высокомерия) покажет нам, что это за зверь.
Благодарности
Работая над первым черновиком этой книги, я чувствовал, будто пишу под диктовку муз. Но мои друзья, народ циничный, заявили, что если этот текст действительно нашептывали музы, то даже странно, почему они сочли возможным включить в него столько неуклюжих фраз и занудных повторяющихся повторов. Все это следовало как-то поправить, и с несколько пугающим рвением этим занялись Шанда Балес, Ричард Коэн, Ричард Пеллетье, Габриэль Уокер, Патрик Уолш, Эндрю Райт и Тим Харфорд.
Пока они терзали аккуратно усовершенствовали рукопись, Майкл Хиршл подготовил уместные и остроумные иллюстрации для основного текста, а Марк Ноуд проделал то же самое для онлайнового приложения. А когда здоровенный кусок отредактированного текста исчез куда-то в мировой эфир, Кэрри Плитт сумела волшебным образом воссоздать утраченное. Когда мировой эфир снова заявил свои права, мне помог Юрий из того лондонского салона Apple, что расположен на Риджент-стрит. Артур Миллер и Джеймс Скаргилл уберегли меня от некоторых ошибок (хотя ни тот, ни другой не несут ответственности за те ошибки, который я потом внес в текст). В Нью-Йорке Александр Литтлфилд прочел рукопись целиком и по мере неуклонного приближения срока сдачи текста внес в него огромное количество улучшений – со вдохновляющим спокойствием. После этого к работе подключилась вся его команда, и я с радостью принял помощь этих замечательных людей. Это Наоми Гиббс, Лори Глейзер, Марта Кеннеди, Стефани Ким, Айеша Мирза, Бер Барли Фуллер и – в далеком Нью-Йорке – Барбара Джаткола, державшая корректуру всей этой штуки. Между тем в Лондоне Тим Уайтинг оказывал мне неоценимую поддержку и давал неоценимые советы. Кроме того, спасибо вам, Линда Силвермен, Джек Смит, Поппи Стимпсон и Йен Хант.
Целое поколение оксфордских студентов помогло мне в размышлениях над этим проектом, самоотверженно высиживая мои лекции под общим названием «Интеллектуальный инструментарий», где я впервые обкатывал некоторые из представленных здесь идей. А в 1970-е годы я имел честь учиться у самого Чандрасекара, который лично работал со многими главными героями этой истории. (Именно он – тот молодой гость, который сидит у камина вместе с Резерфордом и Эддингтоном в начале второй интерлюдии.) С большой теплотой вспоминаю, как в конце 1970-х я провел несколько замечательных дневных часов с Луи де Бройлем в Париже, расспрашивая его о прошлом. Он отлично помнил те дни, когда квантовая механика только еще зарождалась.
Но ничто из перечисленного не привело бы к появлению этой книги, если бы не следующий примечательный факт: после многих лет, проведенных в качестве отца-одиночки, я все-таки встретил Клэр. Прождав невыносимо долгие восемь дней после нашего знакомства, я сделал ей предложение. Она поднесла палец к моим губам и прошептала: «Ну конечно». Я понятия не имел, что жизнь способна преподносить такие вот дары.
До этого я не дерзал приступить к такой книге, но этот эпизод придал мне уверенности, и я все-таки взялся за дело. После того, как я начал писать, Марк Хёрст очень понятно растолковал мне, как фокусировать сюжет, а Флойд Вудроу, самый вдохновляющий из людей, показал, как не растерять эту фокусировку.
Борясь с новыми и новыми главами, я каждую неделю, а иногда и каждый день присылал сообщения о новых победах своим детям, Сэму и Софи: какое-то время я проделывал это каждый час (простите меня, ребята). Меня очень воодушевляла их убежденность в том, что эту историю обязательно надо рассказать.
Я посвятил книгу Сэму, потому что когда он был маленьким, и всякие важные вещи (подарки на день рождения или новые компьютерные игры) иной раз, казалось, существуют в слишком далеком будущем, так что никакой смертный не в силах их дождаться, я объяснял ему: если мы залезем в эйнштейновскую ракету, то сумеем добраться до этих отдаленных дат всего за несколько минут нашего времени. Мне нравилось, что он безоговорочно мне верил. Если человечеству и удастся создать такие устройства для того, чтобы мчаться сквозь время, то это сделает его поколение, а не мое. И если его поколение избежит спеси и высокомерия, которые погубили Эйнштейна, я буду очень рад.
Приложение Путеводитель по теории относительности для дилетантов
Эту книгу вполне можно читать без всякого приложения: оно просто чуть подробнее разъясняет, как работает относительность. Если вы его пропустите, ваше впечатление от книги не изменится. А если вы особенно жадны до чтения, зайдите на davidbodanis.com, там есть текст в 22 тысячи слов, который еще глубже погрузит вас в теорию относительности.
Почему время искривляется: случай Кинг-Конга
Идею о том, что искривляется не только пространство, но и время, впервые как следует развил один из профессоров Эйнштейна – Герман Минковский. В 1908 году на лекции в немецком Кёльне, говоря об эйнштейновских работах 1905 года, он заметил: «Эйнштейн представляет ее [свою специальную теорию относительности] очень неуклюже, если взглянуть на его работу глазами математика. Я могу сказать это с полным правом, ибо свое математическое образование он получил у меня в Цюрихе».
Развивая идею Эйнштейна, Минковский уподобил пространство горизонтальной плоскости, а время изобразил как перпендикулярную этой плоскости вертикальную ось, торчащую из нее. Представьте себе большой стол, в центре которого стоит длинный тонкий подсвечник. Все привыкли считать время и пространство совершенно отдельными друг от друга царствами, но Минковский хотел изменить это представление: «Объекты нашего восприятия неизменно включают в себя комбинацию места и времени. Никто никогда не замечал никакого места вне времени – и никакого времени вне места».
По мнению Минковского, лучше говорить о том или ином местоположении и соответствующем времени не по отдельности, а как о едином целом – о «событии». Чтобы описать «пространство – время» – такую вот смесь, куда вписываются все из возможных событий, – потребуется просто составить большой список, где каждая строчка будет содержать по четыре числа.
Звучит как-то абстрактно? Но ведь мы постоянно проделываем именно это. Представьте, что ваш прадедушка одним свежим вечером 1933 года гуляет по Нью-Йорку и вдруг замечает на вершине Эмпайр-стейт-билдинга, на высоте почти 430 метров, какое-то гигантское волосатое животное. Он хочет оповестить об этом прессу. Отыскав телефон и позвонив в New York Herald Tribune, он может, запинаясь, пробормотать: «Там… там… на верхушке Эмпайра… господи помилуй, я эту тварь отсюда вижу!» Но если и он, и взявший трубку репортер понимают символьную стенографию Минковского, ваш предок мог бы куда более лаконично сообщить: «Пятая авеню, Тридцать третья улица, четыреста тридцать метров, двадцать часов тридцать минут!»[11] А если они оба понимают, что такое координатная сетка Минковского, то очевидец может сделать еще более краткое сообщение: «5, 33, 430, 20:30»! Фоторепортеры газеты будут точно знать, куда нужно прибыть: угол Пятой авеню и Тридцать третьей улицы, вверх, на шпиль небоскреба (возвышающийся над землей на 430 метров), где – по крайней мере, в 20:30 – находился самый крупный из обитателей города.
Но допустим, что Кинг-Конг не любит рекламу и поэтому, прихватив с собой актрису-блондинку, напрямик отправляется через центр Манхэттена прямо на сияющую вершину Крайслер-билдинга, который расположен неподалеку и который кажется ему более надежным убежищем. Если ваш прадед по-прежнему наблюдает за гигантской обезьяной и если у него есть поблизости телефон, он может сообщать журналисту Tribune об изменении координат объекта, начинающего соскальзывать с вершины Эмпайр-стейт-билдинга. Через пять секунд после начала такого движения очевидец сообщит, допустим: «5, 35, 420, 20:30:05», еще через пять секунд – «5, 36, 400, 20:30:10» – и так далее, пока парочка не окажется на вершине чуть менее высокого небоскреба – Крайслер-билдинга, расположенного на Сорок второй улице.
Именно это и имел в виду Минковский, когда утверждал, что каждое отдельное событие (каждую отдельную точку в пространстве и времени) можно идентифицировать при помощи группы из четырех чисел. Можно представить себе гигантский том, куда занесены все-все события во Вселенной – как прошлого, так и будущего. В своей лекции 1908 года Минковский шутливо заметил, что такое занятие было бы нелепо: «При помощи сего доблестного кусочка мела я мог бы спроецировать на эту доску четыре оси, держащие наш мир». Согласно представлениям многих религий, их Бог способен сделать именно что-то в этом роде. Впрочем, Минковский не побоялся обвинений в кощунстве и прямо объявил, каким образом нетрудно достичь такого всеведения.
Но тут возникает серьезный вопрос. Должно ли происходящее с первыми тремя числами (описывающими расположение события в пространстве) быть увязано с четвертым числом (описывающим расположение события во времени)? Если да, то пространство не является чем-то отдельным от времени, и для полного описания происходящего мы всякий раз должны учитывать и пространство, и время.
Чтобы ответить на этот вопрос, Минковский стал выяснять, как определить расстояние между двумя событиями. Для вашего прадеда расстояние между исходным событием (Кинг-Конг на верхушке Эмпайр-стейт-билдинга) и вторым событием (Кинг-Конг на верхушке Крайслер-билдинга, небоскреба, который примерно на 120 метров ниже) можно выразить как-нибудь так: «Три авеню, восемь улиц, 330 метров, 2 минуты». Но вспомните, что для объектов, которые движутся относительно вас, время идет с иной скоростью. Когда ваш прадедушка глядит на Кинг-Конга, скользящего над Манхэттеном, ему кажется, что исполинская обезьяна движется не особенно быстро, однако для Кинг-Конга время его путешествия будет чуть меньше по сравнению с тем, каким оно кажется нашему очевидцу.
(Почему время так меняется? Представьте себе, что рядом с вами стоит машина, в которой сидит ваша приятельница, стучащая мячом об пол салона. Мячик движется вверх-вниз, и вы с вашей подружкой, разумеется, сойдетесь во мнении насчет того, какое расстояние он при этом пролетает. Пускай теперь она заведет машину и поедет, а вы будете стоять на обочине и наблюдать. Для вашей подруги мяч будет по-прежнему скакать вверх-вниз (эксперимент мысленный: в реальной жизни не стоит забавляться мячом, управляя автомобилем). Но для вас мяч будет проходить более длинный путь – по мере того, как машина будет двигаться по дороге вперед.
А теперь представьте, что скачет не мячик, а луч света. И для вас, и для вашей подруги он будет двигаться с одной и той же скоростью (Эйнштейн показал, что это свойственно свету). Тут-то и возникает странность. Вашей приятельнице кажется, что луч света в ее машине проходит небольшое расстояние. Вам же кажется, что он (двигаясь с той же скоростью, потому что скорость света всегда неизменна[12]) преодолевает при этом большее расстояние.
Как нечто может преодолевать два разных расстояния, двигаясь с одной и той же скоростью? Эйнштейн осознал, что единственный ответ здесь такой (выразим его посредством нашего мысленного эксперимента): если с вашей точки зрения – с точки зрения стоящего на обочине наблюдателя – время в движущемся автомобиле замедляется, у летящего света появляется больше времени на движение, и он успевает покрыть большее расстояние. Такой эффект будет проявляться для всех объектов, которые движутся относительно вас, будь то автомобили, космические корабли или даже воображаемые гигантские обезьяны, ловко скользящие по небоскребам.
Эффект становится особенно заметен, если представить себе более быстрое движение. Допустим, Кинг-Конг не захотел оставаться на вершине Крайслер-билдинга: он заметил несущиеся к небоскребу машины газетчиков, поэтому в 20:32 он вместе со своей спутницей запрыгивает в подвернувшийся космический корабль и кружит по галактике, а потом они вновь приземляются на вершину Крайслер-билдинга – 8 февраля 2017 года (по вашему счету). Вы мчитесь туда, протискиваетесь сквозь толпу фотографов, а также продюсеров, предлагающих вам поучаствовать в реалити-шоу, и радостно обнимаетесь с огромным зверем (еще более радостно – с его подружкой-актрисой). И просите их помочь вам высчитать по Минковскому то расстояние в пространстве – времени, которое они преодолели.
Они с готовностью показывают вам путевой журнал, который старательно вели весь полет. Ознакомившись с этими данными, вы приходите в замешательство. Для вас вполне очевидно «расстояние» между тем событием, когда Кинг-Конга последний раз видели на Крайслер-билдинге, и нынешней ситуацией. То событие имело место 2 марта 1933 года, в 20:32. Теперь вы стоите на том же месте, так что «разница» составляет «ноль авеню, ноль улиц, 83,9 лет». Однако путевой журнал Кинг-Конга показывает вам куда более краткий временной промежуток – из-за искажений времени, вызванных гигантскими пространственными расстояниями, которые он преодолел во время своего скоростного путешествия.
Это очень важно подчеркнуть: различные люди постоянно оказываются на различных «дорожках» времени. И не только вы с вашим воображаемым путешественником Кинг-Конгом не сойдетесь на том, какова же дистанция между двумя событиями подобного рода. Все мы движемся с разной скоростью, и если вглядеться пристальнее, обнаружится, что между нами, строго говоря, всегда могут возникать некоторые объяснимые разногласия насчет того, какое время разделяет два события.
Как найти дорогу сквозь пространство и время
Получается какой-то рецепт хаоса. Получается, мы живем во вселенной, где ничто ни с чем не связано. Получается, каждый из нас пребывает в своем отдельном мирке, и мы сталкиваемся друг с другом совершенно случайно, без всяких причин и без всякого смысла. Однако Минковский показал, что, хотя пространство и время нельзя увязать друг с другом посредством простого «вычитания событий», они все-таки взаимосвязаны. Он ввел понятие иного расстояния между событиями и назвал такое расстояние интервалом. Этот интервал для всех наблюдателей, как бы они ни двигались, оказывается одинаковым. Хотя ваше пространство и ваше время могут отличаться от моих, Минковский обнаружил, что интервал, определяемый как x² – c²t², всегда будет одинаков для всех наблюдателей (для каждого определенного события). (Здесь с – скорость света, t – разность времени для двух событий, x – расстояние между всеми пространственными координатами: подробнее см. на моем сайте. Поскольку выражение x² – c²t² является математическим описанием гиперболы, зачастую полезно построить соответствующий график.)
Поначалу Эйнштейн отнюдь не был уверен, что новый подход, предложенный Минковским, перспективен. Он язвительно замечал, что в этих идеях ему видится überfl üssige Gelehrsamkeit («поверхностная эрудиция»). Но вскоре Эйнштейн осознал, насколько такой подход полезен, и применил его в своих дальнейших работах по теории относительности. И в самом деле это замечательный метод. Нам больше не нужно считать нашу Вселенную неуклюжей грудой не связанных друг с другом вещей: тут – трехмерное пространство, там – одномерное время, торчащее из него под прямым углом, и все бессмысленно кружат, как персонажи Магритта в бескрайнем аэропорту, полном коридоров и проходов, которые нигде не пересекаются. Нет-нет: на самом деле мы живем в этой вот объединенной, целостной штуковине, которая именуется пространством – временем.
Интервал (это странное на первый взгляд «расстояние» x² – c²t²) служит основой вековечного компромисса между пространством и временем. В обычном пространстве расстояния суммируются – и время тоже суммируется (но отдельно). Но с компонентами пространства – времени дело обстоит иначе, ибо они увязаны друг с другом особым образом (напомним, для нас время путешественника замедляется по мере того, как возрастает скорость его движения относительно нас). Движение в пространстве – времени словно бы измеряется двумя счетчиками – одометрами, причем показания одного постоянно вычитаются из показаний другого.
Сама идея такого смешивания времени с пространством может показаться парадоксальной или даже мистической. Но представьте себе круглые часы. Если они висят перед вами на стене, вам кажется, что в них одинаково представлена «горизонтальность» и «вертикальность». Однако если снять их со стены и чуть наклонить, чтобы вы смотрели на них под углом, вы увидите не круглый циферблат, а эллипс. Часть вертикальности словно бы исчезла.
Нас это ничуть не тревожит: мы знаем, что вертикальность никуда не делась, достаточно лишь провести полный обмер часов. Ее кажущееся исчезновение – лишь следствие ограниченности той позиции, с которой мы смотрим на них в данном случае. С привычными нам пространственными измерениями похожая история. Мы знаем, что на Земле можем идти строго на восток или строго на север, однако мы можем двигаться одновременно на восток и на север, то есть брести на северо-восток. Нам может казаться, будто направления «на север» и «на восток» резко отличаются друг от друга, на самом же деле они – часть чего-то большего, и в каждый данный момент, глядя в каком-то определенном направлении, мы видим лишь часть «смеси» – общей, полной картины. Точно так же болельщики, которые не могут покинуть свои места на стадионе, по-разному видят кольцо баскетбольной корзины. Те, чьи места расположены так, чтобы глаза сидящих там болельщиков находились ровно в 10 футах над площадкой, видят кольцо как горизонтальную линию, тогда как сидящим на других местах (выше или ниже) оно может казаться эллипсом. Но это не значит, будто они принимают эти искажения за истину в последней инстанции. Если они встанут и пройдутся, то смогут увидеть кольцо с других точек и получить полное о нем представление. И они это знают.
Однако в четырехмерном пространстве – времени, где, как показал Минковский, все мы живем, для нас, хрупких живых организмов, попросту невозможно «сделать шаг назад» и узреть картину во всей ее полноте. Но при помощи абстрактных символов, введенных Минковским, мы можем узнать, что эта картина действительно нас окружает и что все ее части (все пространство и все время) неразрывно связаны между собой.
Уравнение для вселенной
Как Эйнштейн увязал все это воедино? Его уравнение 1915 года с виду очень отличается от того, чему учат на занятиях по математике в старших классах или даже на первых курсах. Большинству может на первый взгляд показаться, что в этом уравнении невозможно разобраться. Даже в своей наиболее сжатой современной форме знаменитое уравнение выглядит не особенно дружелюбно:
Gμν = 8πTμν
Но как только мы поймем, что основная его часть – просто остроумная стенографическая запись, отражающая списки разных «смесей вещей», это соотношение начнет проясняться.
Чтобы понять эту стенографию, давайте мысленно вернемся в один из ресторанчиков, где Эйнштейн любил сидеть в своей студенческой юности. Допустим, меню очень скудное: предлагается лишь шницель и пиво. Допустим, для экономии времени официанты не записывают заказы полностью, а просто заполняют небольшие таблицы, которые заранее напечатаны у них в блокнотах.
Если официант приносит на кухню заказ вида
1 0
0 1
– повар знает, что нужно подать двойной шницель (потому что первая единица внесена в клетку, где пересекаются два обозначения шницеля) и двойное пиво (по аналогичной причине) – и больше ничего.
Если повар решит пуститься во все тяжкие и добавить в меню третье блюдо (жареную картошку!), администрации заведения придется заказать новые блокноты, где будут чуть более обширные таблицы. Кстати, лучший вариант жареной картошки в Швейцарии именуют rösti, так что новая сетка будет выглядеть так:
Если теперь официант заполнит свою таблицу так:
0 0 1
0 3 0
0 0 0
– то повар будет знать, что требуются одна порция шницеля с жареной картошкой и три двойных пива. Этот очень вредный, но очень вкусный заказ можно весьма лаконично и эффективно записать таким вот набором чисел.
Допустим, в Цюрихе десятки таких ресторанов, и допустим, что они вдруг решили перестать конкурировать друг с другом. Теперь каждый из них подает каждое блюдо лишь в определенном количестве. Иными словами, в одном заведении каждый клиент может получить лишь одну порцию шницеля с жареной картошкой и три двойных пива – и только это. У входа в другой цюрихский ресторан прохожих завлекает увеличенное изображение листка из официантского блокнота:
1 0 0
0 0 0
0 0 1
– так что все знают, что в этом ресторане предлагают двойной шницель и двойную жареную картошку – и больше ничего. Другие рестораны предоставляют иные возможности, но в каждом заведении набор блюд ограничен и неизменен как в качественном, так и в количественном отношении. При этом набор цифр у входа в заведение покажет вам, какие деликатесы вас ждут внутри.
Вернемся теперь к относительности. Допустим, мы заказываем не еду, а форму какой-нибудь вселенной. Прежде всего следует узнать, каковы составляющие ее измерения (эквиваленты шницеля, пива и картошки). Для двухмерного пространства (подобного тому, где обитал наш мистер Квадрат) эти компоненты – изменения расстояния в направлении восток – запад (обозначим их как dx) и изменения расстояния в направлении север – юг (dy).
Эти компоненты мы и занесем в исходную таблицу официанта. Чтобы ее заполнить, нужно узнать, какие сочетания этих компонентов доступны. А когда мы обзаведемся этими двумя наборами данных (позволяющими нарисовать таблицу и заполнить ее), мы многое узнаем о том мире, который собираемся исследовать.
Официантская таблица упрощенно показывает нам, что такое метрический тензор. Само название свидетельствует о многом. Меры расстояния с использованием греческого корня «метрон» начали применяться после того, как в XVIII веке появилась новая система мер – французская. Эту систему назвали метрической. Метрика – просто некий способ организации объектов, позволяющий показать их взаимосвязь. Наборы чисел, которые используются как заказы в наших сверхэффективных цюрихских ресторанах, определяют, как соотносятся друг с другом компоненты блюд. Это ресторанная метрика, то есть способ организации таких объектов. Набор чисел, служащий «заказом» для наших вселенных, определяет, как их компоненты (пространственные элементы) соотносятся друг с другом.
Сотворение нашего мира
Во Флатландии, где проживает мистер Квадрат, такая сетка позволяет получить четыре различные смеси dx и dy и различные количества этой «востоко-западности» или «северо-южности». Пустая таблица здесь выглядит так:
Как ее заполнить? Мы знаем, что на плоскости по определению должна соблюдаться теорема Пифагора: в прямоугольном треугольнике со гипотенузой ds и катетами dx и dy эти три стороны связаны соотношением dx² + dy² = ds². Поэтому флатландскую «таблицу заказа» можно заполнить так:
Иными словами, в таком ресторане можно заказывать двойное dx или двойное dy, но не их смеси. Все очень аккуратно: прямоугольные треугольники плотно прилегают друг к другу, квадраты не вспухают в стороны, и логично предположить, что время здесь тоже будет находиться «под прямым углом» по отношению к пространству. Комбинируйте составные части самым напрашивающимся образом, и вы создадите Флатландию. Господь вопрошает в Книге Иова: «Где был ты, когда Я полагал основания земли?.. Кто положил меру ей… или кто положил краеугольный камень ее?» Мы показали наиболее подходящий светский способ, каким это можно проделать.
Замечательно в этом методе то, что его можно легко распространить на большее число измерений. Допустим, некое благосклонное божество взирает сверху вниз на свое царство, заказывает побольше компонентов и – глядите! – возникает ресторан… то есть вселенная…. где таблица заказов куда обширнее.
Эйнштейновские уравнения выстроены на основе схожих сеток, но позволяют существовать весьма различным мирам. Конечно, эти таблицы побольше флатландских, и заполнять приходится не два ряда по две ячейки в каждом (позволяющие создать пространство лишь из двух измерений – «восточно-западного» и «северо-южного»), а таблицы 4×4, чтобы удалось скомбинировать три пространственных измерения и еще одно измерение – время. Кроме того, обычно эти эйнштейновские сетки заполняются не такими простыми «заказами», как флатландская, где по диагонали идет череда единиц, означающая, что вам могут принести лишь одну порцию каких-то блюд, а какие-то блюда вообще никогда не могут сочетаться. В четырехмерном мире соответствующая таблица заказов выглядела бы так:
Это скучный, неискривленный мир (подобный тому, который схематически изображен на рисунках из Главы восьмой).
Интереснее (и, как понял Эйнштейн, реалистичнее) позволить разным измерениям «смешиваться». Тогда можно будет заказать, к примеру, немного востоко-западности в смеси с небольшим количеством вверх-внизности, как в ресторане, где повара предлагают не только стандартное двойное пиво или двойной шницель. Такая картина куда ближе к той Вселенной, в которой мы обитаем и которую схематически изображает рисунок из Главы восьмой: в каких-то местах вверх-внизность смешана с востоко-западностью, и многие другие смеси тоже допустимы.
Слова кажутся неуклюжими, когда вы пытаетесь дать с их помощью полное описание того, что происходит во всех возможных ячейках таблицы. Слишком долго произносить: «Этот параметр размещается в ячейке, находящейся на пересечении третьего столбца и четвертого ряда». Куда быстрее сказать: «Это параметр для ячейки34». Эйнштейн с Гроссманом пошли еще дальше и вместо слова «ячейка» стали применять букву g. Когда же им хотелось показать всю череду столбцов и строк, пересечение которых дает ячейки, они использовали как подстрочные символы уже не цифры, а греческие буквы. Под сочетанием символов g34 Эйнштейн имел в виду то значение, которое нужно вписать в ячейку, находящуюся на пересечении третьего столбца и четвертой строки. А сочетание символов gμν означало все 16 ячеек в меню (если речь идет о четырехмерном мире). Похожим образом обозначают ячейки в современных бухгалтерских таблицах.
Вернемся к уравнению, которое Эйнштейн вывел в 1915 году и которое, как мы уже знаем, в сжатом виде можно записать так:
Gμν = 8πTμν
Прописная G в левой части – штука довольно сложная, и здесь незачем говорить о ней подробно. Отметим лишь, что в ее основе лежит как раз gμν – набор значений, которые вписываются в сетку 4×4 и показывают характеристики пространства и времени в определенной точке. Параметр Tμν – нечто похожее. В его основе лежит другая сетка 4×4, чьи значения описывают, что находится в этой точке пространства – времени: те смеси энергии и импульса, которые можно там обнаружить.
Но важнее всего то, что Эйнштейн каким-то удивительным образом осознал глубинную взаимосвязь между двумя частями этого уравнения. Незачем путешествовать по всем возможным точкам пространства – времени и затем измерять всю массу и энергию, которые там находятся, чтобы решить это уравнение. Это будет, мягко говоря, долгая и трудная задача (трудно даже выразить, насколько мы здесь смягчаем выражения). Благодаря гениальности Эйнштейна половина работы здесь уже проделана за нас. Определите особенности пространства – времени в левой части уравнения – и у вас уже будет немалый задел для того, чтобы выяснить, как в данной точке действуют масса и энергия. А можно начать справа, измерив величины, которые заполняют сетку, обозначаемую буквой Т, и затем – благодаря магии уравнения – вы тут же сможете отправиться в левую часть и начать описывать геометрическую конфигурацию пространства и времени в данной точке. Конечно же, если значения в левой части окажутся столь огромны, что они явно приведут к схлопыванию всей Вселенной, можно вычесть кое-что слева, чтобы все уравновешивалось без коллапса. Именно для этого Эйнштейн и ввел в 1917 году свою лямбду.
Решить уравнение непросто, ибо величины в таблицах по обе стороны знака равенства отнюдь не являются неизменными. Многие зависят от точки зрения. Так, если я воспринимаю какой-то объект как статичный (неподвижный), то вы, двигаясь относительно меня, не будете воспринимать этот же объект как статичный. А поскольку с вашей точки зрения он движется, то он будет – для вас – обладать кинетической энергией, и благодаря эквивалентности массы и энергии (вы ведь помните формулу E = mc²) вы будете ощущать гравитационное воздействие этого объекта сильнее, чем я.
Точно так же объект, наделенный массой, будет иметь одну длину при восприятии относительно неподвижным наблюдателем, но будет «сжиматься» при восприятии наблюдателем движущимся. Масса объекта при этом неизменна, но его объем уменьшается, а значит, растет плотность, и все это тоже надо учитывать при решении уравнения. Как записывать все эти штуки, чтобы точка зрения каждого наблюдателя оставалась «верной»? На это у Эйнштейна с Гроссманом ушло много сил и времени.
По счастью, есть способы несколько облегчить соответствующие расчеты. Так, каждая сторона эйнштейновского соотношения обладает глубинными симметриями относительно диагональной оси, которая проходит от левой верхней до правой нижней ячейки таблиц, поскольку каждая ячейка по одну сторону диагонали имеет своего двойника по другую сторону (подобно тому, как заказ «шницель и пиво» даст тот же результат, что и заказ «пиво и шницель»). А значит, вместо 16 независимых ячеек (и, соответственно, 16 независимых уравнений) мы имеем лишь 4 независимые ячейки, лежащие на главной диагонали, и 6 независимых ячеек над ней.
Благодаря этому соотношение G = T можно представить в виде лишь десяти запутанных уравнений. Что ж, их хотя бы не 16.
Что увидел Эйнштейн
Иногда можно многое понять, даже не решая эти уравнения. Так, чтобы уяснить себе, как искривление времени зависит от гравитации, представим себе космического предпринимателя Илона Маска, который желает лично проверить один из своих кораблей перед запуском. Он забирается в нижнюю часть аппарата, смотрит на свои наручные часы, а затем бросает взгляд на его верхнюю часть (внутри достаточно пустот, чтобы его взгляду ничто не мешало), где укреплен другой хронометр. Он знает, что два хронометра синхронизированы друг с другом, поскольку верхний регулярно – каждую секунду – посылает вниз вспышки света, которые достигают его с секундными интервалами (о чем свидетельствуют его наручные часы).
Похоже, все отлично.
Но внезапно его друг Джефф Безос, наблюдающий за ракетой снаружи, нажимает красную кнопку. Маск чувствует, что его ракета взлетает. Ускорение прижимает Илона Маска к днищу корабля. Но он только рад, что Безос предоставил ему возможность ощутить на себе эффекты, которые описывает общая теория относительности. Маск замечает нечто необычное: вспышки света из верхней (ну, или передней) части ракеты теперь доходят до него быстрее. Он озадачен. Он знает, что длина его ракеты не изменилась. Не изменилась и скорость света.
Почему же этот свет стал достигать его быстрее?
И вот, после некоторых раздумий, он все-таки догадывается, в чем дело. Из-за того, что корабль ускоряется, задняя часть ракеты, где находится путешественник, приближается к тому месту, где была передняя, все быстрее. (Этим движение с ускорением отличается от движения с постоянной скоростью.) Маск, находящийся в нижней (ну, или задней) части ракеты, перехватывает вспышку света, идущую из верхней (ну, или передней) части корабля еще до того, как этот свет пролетит всю длину ракеты, – а значит, до того, как его сверхточные наручные часы успеют отмерить секунду.
Отсюда можно сделать лишь один вывод: вспышка света из передней части корабля достигла путешественника «слишком скоро». Согласно его наручным часам, вспышки посылались каждую секунду. Теперь же они посылаются чаще. Может быть, его часы спешат?
Если бы такое происходило лишь внутри космических кораблей, эффект можно было бы списать на вибрации, исходящие от двигателей, или еще на что-нибудь такое. Но вспомните настойчивые уверения Эйнштейна, которые мы передадим так: если в космическом корабле нет иллюминаторов, пассажир не будет знать наверняка, улетает ли он от Земли. Возможно, его надули и он по-прежнему пребывает на ее поверхности, а к полу его прижимает обычное земное тяготение. (Мы уже отмечали, что это как поездка в разгоняющемся спортивном автомобиле. Если глаза у вас закрыты и нет тряски, вы будете ощущать то же самое, что ощутили бы, если бы вас тянул назад какой-то мощный источник гравитации.)
А поскольку никакой наблюдатель в такой ситуации не в состоянии определить, находится он на Земле или же удаляется от нее, это означает, что различные скорости течения времени (различная «быстрота тиканья часов») будут наблюдаться не только в ускоряющемся аппарате, но и просто в гравитационном поле. Если взять пару идентичных хронометров и оставить один на поверхности Земли, а другой поднять повыше, то хронометр, находящийся наверху, где гравитация чуть слабее, будет показывать более быстрое течение времени. А внизу, где гравитация сильнее, время движется медленнее.
Звучит нелепо, однако это так. Над нами постоянно проносятся спутники GPS. Согласно специальной теории относительности, из-за высокой скорости их движения время у них на борту замедляется. Но поскольку они летают на высоте 12 500 миль, где гравитация в несколько раз слабее, чем на поверхности Земли, здесь играет роль и тот эффект, который мы показали в мысленном эксперименте с Илоном Маском. Согласно этому эффекту (его описывает общая теория относительности), время на этих навигационных спутниках течет быстрее по сравнению с земным, поскольку на поверхности Земли гравитационное поле плотнее, а стало быть, оно замедляет время по сравнению со «спутниковым».
Какой из факторов влияет сильнее? Для спутников GPS ускорение времени, вызванное меньшей гравитацией на высотных орбитах, приводит к тому, что спутниковые часы ежесуточно убегают на 45 000 наносекунд относительно наших, тогда как замедление времени, вызванное большой скоростью спутников, тормозит эти часы всего лишь на 7 000 наносекунд в сутки. Получится положительная разница, составляющая 38 000 наносекунд. Эту поправку космические инженеры вынуждены учитывать, каждый день заново «обнуляя» показания GPS-навигаторов, чтобы синхронизировать время нашего мира со спутниковым. Без этой поправки мы скоро начали бы отклоняться от нужного курса на целые мили.
Мало того, чем больше гравитационная разница между двумя точками, тем сильнее проявляется эффект, описываемый общей теорией относительности. Время над самой поверхностью Солнца ежегодно замедляется на одну минуту по сравнению с земным. А скорость замедления времени близ черной дыры – во много миллионов раз больше. А значит, мы (словно в кино, где применяют ускоренную съемку) увидели бы, как космонавт, падающий в черную дыру, движется в невероятно замедленном темпе, тогда как для него время продолжает течь нормально, а сама окружающая его галактика ускоряется, и жизнь в ней идет в миллионы раз стремительнее, чем обычно. Теоретически такой путешественник мог бы увидеть взлеты и падения целых цивилизаций.
Впрочем, на самом-то деле ему непросто будет наблюдать такие события – и не только из-за несовершенства телескопа, который он захватил с собой. Гравитационный градиент («разница гравитации»), достаточно большой для того, чтобы породить столь различные скорости течения времени, породит и воздействия, которые будут очень по-разному влиять на разные части его тела.
Его поднятая рука будет испытывать гравитационное притяжение определенной силы, а его ступня (если она располагается ближе к дыре) будет испытывать гораздо, гораздо более сильное притяжение. Будут проявляться и другие эффекты, но одного этого достаточно для так называемой макаронизации, разрывающей даже самые прочные материалы. И даже если его земные инвестиции принесут самые впечатляющие плоды, вскоре наш космонавт окажется в состоянии, которое не позволит ему насладиться этими плодами.
Библиография
Вот немножко особенно дельных книг, главным образом тех, что ориентированы на читателя-неспециалиста. В каждом разделе я отметил звездочками по две мои самые любимые. Расширенную версию списка см. на davidbodanis.com. Кроме того, имейте в виду, что сейчас выходит «Собрание статей Альберта Эйнштейна» (Th e Collected Papers of Albert Einstein. Princeton: Princeton University Press, 1987). Издано уже четырнадцать томов, но это еще далеко не всё.
Письма, статьи, источники цитат
Albert Einstein – Michele Besso Correspondance, 1903–1955. Translated and edited by Pierre Speziali. Paris: Hermann, 1972.
*Born, Max. Th e Born-Einstein Letters, 1916–1955: Friendship, Politics and Physics in Uncertain Times. Translated by Irene Born. London: Macmillan, 2005. Первое издание: 1971.
Calaprice, Alice, ed. Th e Ultimate Quotable Einstein. Princeton: Princeton University Press, 2011.
*Einstein, Albert. Ideas and Opinions. London: Folio Society, 2010.
Solovine, Maurice. Albert Einstein: Letters to Solovine. New York: Philosophical Library, 1987.
Биографии (написанные теми, кто знал Эйнштейна лично)
*Frank, Philipp. Einstein: His Life and Times. New York: Da Capo Press, 2002.
*Hoff mann, Banesh. Albert Einstein: Creator and Rebel. New York: Viking, 1972.
Pais, Abraham. Subtle Is the Lord: Th e Science and Life of Albert Einstein. New York: Oxford University Press, 1982.
Seelig, Carl. Albert Einstein: A Documentary Biography. London: Staples Press, 1956.
Биографии (более свежие)
Folsing, Albrecht. Albert Einstein: A Biography. Translated and abridged by Ewald Osers. New York: Viking, 1997.
*Isaacson, Walter. Einstein: His Life and Universe. New York: Simon & Schuster, 2007.
*Neffe, Jurgen. Einstein: A Biography. Translated by Shelley Frisch. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007.
Renn, Jürgen. Albert Einstein: Chief Engineer of the Universe. Hoboken, N. J.: Wiley, 2006.
Общие размышления, а также рассмотрение некоторых отдельных тем
French, A. P., ed. Einstein: A Centenary Volume. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979.
Galison, Peter. Einstein's Clocks, Poincarе's Maps. New York: Norton, 2003. Gutfreund, Hanoch, and Jürgen Renn. Th e Road to Relativity: Th e History and Meaning of Einstein's «The Foundation of General Relativity». Princeton: Princeton University Press, 2015.
Holton, Gerald, and Yehuda Elkana, eds. Albert Einstein: Historical and Cultural Perspectives. Mineola, N. Y.: Dover, 1997. Первое издание: 1982.
*Levenson, Thomas. Einstein in Berlin. New York: Bantam Books, 2003. Miller, Arthur I. Einstein, Picasso: Space, Time, and the Beauty That Causes Havoc. New York: Basic Books, 2001.
*Schilpp, Paul Arthur. Albert Einstein: Philosopher-Scientist. LaSalle, Ill.: Open Court Press, 1949.
Stachel, John. Einstein from «B» to «Z». Boston: Birkhäuser, 2002.
Stern, Fritz. Einstein's German World. Princeton: Princeton University Press, 1999.
Об относительности
Einstein, Albert. Relativity: The Special and the General Theory (A Popular Account). Translated by Robert W. Lawson. New York: Random House, 1995. Первое издание: 1916.
Ferreira, Pedro G. The Perfect Theory: A Century of Geniuses and the Battle over General Relativity. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2014.
*Geroch, Robert. General Relativity, from A to B. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
*Susskind, Leonard. General Relativity. Online course. The Theoretical Minimum, Stanford Continuing Studies, -relativity/2012/fall.
Taylor, Edwin, and J. Archibald Wheeler. Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity. New York: W. H. Freeman, 1992.
Thorne, Kip. Black Holes and Time Warps: Einstein's Outrageous Legacy. New York: Norton, 1995.
Wald, Robert M. Space, Time, and Gravity: The Theory of the Big Bang and Black Holes. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
Will, Cliff ord M. Was Einstein Right?: Putting General Relativity to the Test. Oxford: Oxford University Press, 1993.
Квантовая механика
Fine, Arthur. The Shaky Game: Einstein, Realism, and the Quantum Theory. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
Kuhn, Thomas S. Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1894–1912. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
*McCormmach, Russell. Night Thoughts of a Classical Physicist. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.
Polkinghorne, John. Quantum Theory: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2002.
*Stone, A. Douglas. Einstein and the Quantum: The Quest of the Valiant Swabian. Princeton: Princeton University Press, 2013.
О других игроках
*Cassidy, David. Uncertainty: The Life and Science of Werner Heisenberg. New York: W. H. Freeman, 1992.
Halpern, Paul. Einstein's Dice and Schrödinger's Cat: How Two Great Minds Battled Quantum Randomness to Create a Unified Theory of Physics. New York: Basic Books, 2015.
Heilbron, John. The Dilemmas of an Upright Man: Max Planck and the Fortunes of German Science. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000. Первое издание: 1986.
Moore, Walter. Schrödinger: Life and Thought. New York: Cambridge University Press, 2015. Первое издание: 1989.
Pais, Abraham. Niels Bohr's Times in Physics, Philosophy, and Polity. New York: Oxford University Press, 1991.
*Rozental, Stefan, ed. Niels Bohr: His Life and Work as Seen by His Friends and Colleagues. Hoboken, N. J.: Wiley, 1967.
Астрономия
Christianson, Gale E. Edwin Hubble: Mariner of the Nebulae. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
Douglas, Vibert. The Life of Arthur Stanley Eddington. London: Thomas Nelson, 1956.
Ferris, Timothy. Coming of Age in the Milky Way. New York: Perennial, 2003. Первое издание: 1988.
Johnson, George. Miss Leavitt's Stars: The Untold Story of the Woman Who Discovered How to Measure the Universe. New York: Norton, 2005.
Levenson, Thomas. The Hunt for Vulcan… and How Albert Einstein Destroyed a Planet, Discovered Relativity, and Deciphered the Universe. New York: Random House, 2015.
*Miller, Arthur I. Empire of the Stars: Obsession, Friendship, and Betrayal in the Quest for Black Holes. New York: Houghton Mifflin, 2005.
*Singh, Simon. Big Bang: The Origin of the Universe. New York: HarperCollins, 2004.
Примечания
Пролог
…строить карточные домики… The Collected Papers of Albert Einstein, vol. 1, The Early Years, 1879–1902, trans. Anna Beck (Princeton: Princeton University Press, 1987) (далее CPAE1), p. xix. Издательство «Princeton University Press» понемногу издает полное собрание статей Эйнштейна. Оно может служить образцом для всех научных изданий такого рода.
«Может, у меня и меньше умений, чем у других ученых…» Эрнст Штраус (Ernst Straus, принстонский ассистент Эйнштейна в конце 1940-х гг. в: Einstein: A Centenary Volume, ed. A. P. French (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979), p. 31.
«Сбылись мои самые дерзкие мечты» … The Collected Papers of Albert Einstein, vol. 8, The Berlin Years: Correspondence, 1914–1918, trans. Ann M. Hentschel (Princeton: Princeton University Press, 1998) (далее CPAE8), p. 160.
…«величайшей глупостью в моей жизни» … Действительно ли он так выразился? Впервые об этой эйнштейновской фразе упомянул физик Георгий Антонович Гамов в 1956 году – через год после смерти Эйнштейна. А поскольку Гамов любил острое словцо и сам Эйнштейн никогда не использовал это выражение в своих сохранившихся письмах, некоторые историки полагают, что Гамов сам выдумал это эйнштейновское высказывание. Впрочем, я верю Гамову: его всегда очень уважали как ученого, и его замечания о других коллегах весьма точны. Но главное – эта фраза вполне соответствует тону и ощущениям Эйнштейна: он явно был недоволен, что ему приходится вводить в свое уравнение космологическую постоянную.
Глава 1. Викторианское детство
…«Учителя… казались мне какими-то фельдфебелями» … Philipp Frank, Einstein: His Life and Times, rev. ed. (New York: Knopf, 1953), p. 11.
«Эйнштейн, из тебя никогда не выйдет ничего путного!» CPAE1, p. xx.
«Я давно привык…» CPAE1, p. 11.
«Моя обожаемая и любимая…» CPAE1, pp. 11, 12.
«Просто чудо…» Paul Arthur Schilpp, Albert Einstein: Philosopher-Scientist (LaSalle, Ill.: Open Court Press, 1949), pp. 16–17.
…«порицание декана за недостаточное прилежание во время практикума по физике». CPAE1, p. 27.
«Орел-Эйнштейн взял воробья-Бессо под свое крыло, и воробей сумел взлететь чуточку повыше». Carl Seelig, Albert Einstein: A Documentary Biography (London: Staples Press, 1956), p. 71.
«Трудно представить, как бы я обошелся без них» … Там же, p. 11.
«Без тебя мне не хватает…» CPAE1, p. 145.
«Мишель уже заметил, что ты …» CPAE1, p. 152.
«Усиленная интеллектуальная работа…» CPAE1, p. 32.
Глава 2. Возмужание
«Какая напрасная трата его поистине выдающегося интеллекта» … CPAE1, p. 152.
…«смиренно интересуется» … CPAE1, p. 151.
«Скоро я осчастливлю моими предложениями всех физиков…» CPAE1, p. 163.
«…больше всего меня огорчают…» CPAE1, p. 123.
«Моему сыну Альберту 22 года…» CPAE1, p. 165.
«Прочитав твое послание, я очень растрогался…» CPAE1, p. 165.
«Куколка моя милая!» CPAE1, p. 173. Я позволил себе слегка изменить конец.
«Мы наняли крошечные [конные] сани…» CPAE1, p. 172.
«Это было прекрасно…» Walter Isaacson, Einstein: His Life and Universe (New York: Simon & Schuster, 2007), p. 64.
«Все-таки оказалось, что это девочка…» CPAE1, p. 191.
«Частные уроки…» CPAE1, p. 192.
«…ростом 5 футов 9 дюймов…» Seelig, p. 58.
«Вместе мы готовы до конца жизни…» CPAE1, p. 186.
…как она ненавидит эту фройляйн Марич. В июле 1900 года Эйнштейн сообщил своим родным, что намерен жениться на Марич. Он вспоминал, как «мама [тогда] бросилась на кровать, зарыла голову в подушку и зарыдала, как ребенок». Потом она заявила, что он губит свое будущее, что ни одна приличная семья не согласилась бы принять ее и что «если она забеременеет, тебя ждут большие неприятности» (CPAE1, pp. 141–142). Впрочем, вообще-то она довольно спокойно приняла этот брак сына.
«…теперь я человек женатый…» Albert Einstein – Michele Besso Correspondance, 1903–1955, trans. and ed. Pierre Speziali (Paris: Hermann, 1972), p. 3.
«Мне он очень по душе…» Albrecht Folsing, Albert Einstein: A Biography, trans. and abr. Ewald Osers (New York: Viking, 1997), p. 73.
…«стали настолько непостижимы друг для друга…» CPAE1, p. 129.
«Рассуждая об опытах с часами…» Frank, p. 131.
Глава 3. Annus Mirabilis
«Этому искушению поверхностностью…» Folsing, p. 102.
«Зрелище подмигивающих звезд…» Maurice Solovine, Albert Einstein: Letters to Solovine (New York: Philosophical Library, 1987), p. 6.
Ученые прошлого частенько использовали термины, чьи значения несколько отличаются от нынешних. Stephen Toulmin and June Goodfield, The Architecture of Matter (London: Hutchinson, 1962) – классический труд, где соответствующие идеи прослеживаются даже не от времен Лавуазье, а от гораздо более ранних. См. также: Max Jammer, Concepts of Mass in Classical and Modern Physics (New York: Dover, 1997); C. E. Perrin. «The Chemical Revolution: Shift s in Guiding Assumptions» («The Chemical Revolution: Essays in Reinterpretation», special issue, Osiris, 2nd ser. [1988]: pp. 53–81) – статья о том, что из происходившего во времена Лавуазье очень мешало в дальнейшем сосредоточиться на понятии массы. О том, как появились современные представления о массе, см. в: Charis Anastopoulos, Particle or Wave: The Evolution of the Concept of Matter in Modern Physics (Princeton: Princeton University Press, 2008).
«…сестре интеллектуала следует обзавестись прочным черепом» … CPAE1, p. xviii.
«[Их] религиозное чувство принимает форму изумления перед гармонией законов природы…» Albert Einstein, «The Religious Spirit of Science», in Ideas and Opinions (London: Folio Society, 2010), p. 38.
«Не исключено, что окажется возможным проверить эту теорию…» The Collected Papers of Albert Einstein, vol. 2, The Swiss Years: Writings, 1900–1909, trans. Anna Beck (Princeton: Princeton University Press, 1989), p. 24.
«Идея забавная и очень заманчивая…» The Collected Papers of Albert Einstein, vol. 5, The Swiss Years: Correspondence, 1902–1914, trans. Anna Beck (Princeton: Princeton University Press, 1995) (далее CPAE5), doc. 28.
«Увы, мы оба, вдрызг пьяные, валялись под столом». Dennis Overbye, Einstein in Love: A Scientifi c Romance (New York: Viking, 2000), p. 139.
Глава 4. Это лишь начало
Прибыв на место и проведя необходимые разыскания, фон Лауэ обнаружил… Seelig, pp. 92–93.
«…необъяснимый и недоступный для визуализации догматизм…» Folsing, p. 203.
«Возможно, удастся пристроить тебя…» CPAE5, p. 20.
Глава 5. Первый проблеск решения
…«самую счастливую мысль в моей жизни». The Collected Papers of Albert Einstein, vol. 7, The Berlin Years: Writings, 1918–1921, trans. Alfred Engel (Princeton: Princeton University Press, 2002), p. 31.
…«ретировался на диван…» CPAE1, p. xxii.
«При такой славе у него остается мало времени на жену…» Mileva Einstein-Marić, In Albert's Shadow: The Life and Letters of Mileva Marić, Einstein's First Wife, ed. Milan Popovic (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003), p. 14.
«Неужели кому-то не ясно, что мой муж…» Overbye, p. 185.
…«из-за скверной памяти» … Folsing, p. 259.
«Если имеется возможность заполучить для нашего университета…» Seelig, p. 95.
Глава 6. Время обдумывать
«…мы с ними [с Эйнштейнами] в очень хороших отношениях…» Peter Galison, Gerald Holton, and Silva S. Schweber, eds., Einstein for the 21st Century: His Legacy in Science, Art, and Modern Culture (Princeton: Princeton University Press, 2008), p. 186.
…«клочок бумаги размером с визитную карточку…» Seelig, p. 171.
…ободряюще кивнул ей… Ronald W. Clark, Einstein: The Life and Times (New York: Avon, 1971), p. 322.
…«лучшего собеседника в Европе…» Seelig, p. 85.
«Я бы с огромной радостью чуть-чуть послушала всех этих замечательных людей…» CPAE5, doc. 300.
«Гроссман, ты должен мне помочь…» Abraham Pais, Subtle Is the Lord: The Science and Life of Albert Einstein (New York: Oxford University Press, 1982), p. 212.
Глава 7. Затачивая инструменты
…«создал новую вселенную из ничего!» Jeremy Gray, Worlds out of Nothing: A Course in the History of Geometry in the 19th Century (London: Springer, 2007), p. 129.
…«теоремы… кажутся парадоксальными…» Marvin Jay Greenberg, Euclidean and Non-Euclidean Geometries: Development and History (New York: W. H. Freeman, 2007), p. 191.
«Гроссман затеял диссертацию…» CPAE1, p. 190.
«Я проникся глубоким уважением к математике!»… Banesh Hoff mann, Albert Einstein: Creator and Rebel (New York: Viking, 1972), p. 116.
«Сейчас я занимаюсь исключительно проблемой гравитации…» CPAE5, p. 324.
…«вовсе не таким рассеянным чудаком» … Seelig, p. 10.
…«разбита на бесчисленные специальные области…» French, p. 15.
…«садясь в кресло и чувствуя остаток тепла…» Hoff mann, p. 117.
…«слишком запутанно» … Jurgen Neff e, Einstein: A Biography, trans. Shelley Frisch (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007), p. 219.
«По сравнению с этой проблемой…» Там же, p. 116.
«Эйнштейн так погряз в гравитации…» Armin Harmann, The Genesis of Quantum Theory, 1899–1912 (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1971), p. 69.
«Никогда в своей жизни я так себя не истязал» … Hoff mann, p. 116.
«…кончик львиного хвоста…» CPAE5, doc. 513.
…«в случае крайней социальной необходимости» … Alice Calaprice, ed., The Ultimate Quotable Einstein (Princeton: Princeton University Press, 2011), p. 37.
«Разговаривая с местными жителями, я чувствую…» Folsing, p. 399.
Глава 8. Величайшая идея
«Быть может, в другой жизни мы сумеем постичь природу пространства…» G. Waldo Dunnington, Carl Friedrich Gauss: Titan of Science (1955; repr., New York: Mathematical Association of America, 2004), p. 465.
«Когда после долгих лет поиска набредаешь…» John Stachel, Einstein from «B» to «Z» (Boston: Birkhäuser, 2002), p. 232.
…«величайшее удовлетворение в жизни». Folsing, p. 369.
«Сбылись мои самые дерзкие мечты» … Там же, p. 374.
Глава 9. Истинно или ложно?
«Коллеги соизволили обратить внимание на мою теорию…» Pais, p. 235.
«Как старший друг я должен посоветовать вам не публиковать…» Там же, p. 239.
«…остается столько серьезных неувязок…» Folsing, p. 317.
…«если [до конца 1913 года] Академия не захочет нам помочь…» Там же, p. 320.
«Даже «множество изощреннейших измерений», произведенных опытными наблюдателями…» Там же, p. 382.
Глава 10. Полное затмение
…подтянутый потный англичанин… Эддингтон ничего не пишет в своем дневнике о потении, но в мае, на побережье Конго, близ экватора, ворочая тяжелую аппаратуру в полдень, на открытом воздухе, вспотеет всякий.
«Этот постскриптум поверг министерство внутренних дел в логический ступор…» Subrahmanyan Chandrasekhar, Eddington: The Most Distinguished Astrophysicist of His Time (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), p. 25.
…«человек, возглавляющий поход…» Цит. по: Matthew Stanley, «An Expedition to Heal the Wounds of War. The 1919 Eclipse and Eddington as Quaker Adventurer», Isis 94 (2003): p. 68.
«Линии широты и долготы не замечают государственных границ» … Там же, p. 64.
«Невозможно добиться, чтобы изготовители инструментов…» F. W. Dyson, A. S. Eddington, and C. Davidson, «A Determination of the Defection of Light by the Sun's Gravitational Field, from Observations Made at the Total Eclipse of May 29, 1919», Philosophical Transactions of the Royal Society A, 20, nos. 571–581 (January 1, 1920), -581/291.full.pdf. Эта статья, а также работа Стэнли, процитированная выше, и статья Peter Coles («Einstein, Eddington and the 1919 Eclipse», Astronomical Society of the Pacific Conference Proceedings, 252 [2001]: p. 21) – главные источники информации об Эддингтоне, использованные в данной главе.
«Ты там случайно не слышал о недавних английских наблюдениях солнечного затмения?» Эйнштейн – Паулю Эренфесту, в: The Collected Papers of Albert Einstein, vol. 9, The Berlin Years: Correspondence, January 1919 – April 1920, trans. Ann M. Hentschel (Princeton: Princeton University Press, 2004) (далее CPAE9), doc. 104.
«Атмосфера напряженного интереса…» Alfred North Whitehead, Science and the Modern World (1925; repr., New York: Free Press, 1967), p. 13.
«После тщательного изучения пластинок я готов заключить…» «Joint eclipse meeting of the Royal Society and the Royal Astronomical Society», The Observatory (1919), p. 391.
«Мы должны чтить память этого великого человека…» Так возражал физик Людвиг Зильберштейн. Цит. по: Times (London), November 7, 1919.
«Это самый важный результат, полученный применительно к теории гравитации со времен Ньютона…» Там же.
Глава 11. Трещины в фундаменте
…«какой-то мрачный покров» … G. J. Whitrow, Einstein: The Man and His Achievement (London: Dover, 1967), p. 20.
…«превосходные и по-настоящему приятные отношения…» CPAE8, doc. 56.
«Она не какой-то там светоч интеллекта» … Neffe, p. 102.
«…мать частенько говорила за обедом…» Там же, p. 103.
…«действовало на окружающих дам словно магнит…» Там же, p. 106. Этим архитектором был близкий друг семьи Конрад Вахсман, спроектировавший загородный дом Эйнштейнов.
«Австрийская дама, моложе, чем фрау профессор, очень привлекательная…» Roger Highfi eld and Paul Carter, The Private Lives of Albert Einstein (Boston: Faber and Faber, 1993), p. 208.
«По-человечески я в нем больше всего восхищался тем, что он сумел…» Эйнштейн в письме взрослым детям Бессо, 2 марта 1955, в: Albert Einstein – Michele Besso Correspondance, p. 537.
…«заняться более обширными участками физической вселенной». Albert Einstein, «Cosmological Considerations on the General Theory of Relativity», in H. A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski, and H. Weyl, The Principle of Relativity: A Collection of Original Memoirs on the Special and General Theory of Relativity (1923; repr., New York: Dover, 1952), p. 177.
«Я пришел к выводу, что в гравитационные уравнения, которые я представлял ранее…» Там же, p. 180.
«Этот параметр… необходим лишь для того, чтобы обеспечить возможность…» Там же, p. 188.
…«значительно ухудшила формальную красоту» … Там же, p. 193.
Глава 12. Возникает напряжение
«Жизнь моя течет довольно ровно…» Eduard A. Tropp, Alexander A. Friedmann: The Man Who Made the Universe Expand (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), p. 70.
…«организация и снаряжение превосходны» … Там же, p. 74.
«Расстояние между нашими машинами было чрезвычайно малым…» Там же, pp. 75–76.
…«приводит на ум индуистскую мифологию, где говорится о циклах существования». Helge Kragh, Cosmology and Controversy: The Historical Development of Two Theories of the Universe (Princeton: Princeton University Press, 1996), p. 25.
«Содержащиеся в работе [Фридмана] результаты…» Tropp, p. 169.
«Позвольте мне представить Вам расчеты…» Там же, p. 171.
«Науке, которой мы некогда так гордились, сегодня учат евреи!» Folsing, p. 524.
«Из всех, с кем мне довелось встречаться, мне больше всего по душе японцы…» Isaacson, p. 307.
«В моем предыдущем письме я критиковал…» Tropp, p. 172.
«Курсы валют устраивают какую-то дикую свистопляску…» Там же, p. 187.
«…Мое путешествие проходит не очень удачно…» Там же, p. 173.
«…Всех очень впечатлила моя борьба с Эйнштейном…» Там же, p. 174.
Глава 13. Когда червонная дама черна
…«mais votre physique…» A. L. Berger, ed., The Big Bang and Georges Lemaître: Proceedings of a Symposium in Honour of G. Lemaître, Louvain-la-Neuve, Belgium (Dordrecht: D. Reidel, 1983), p. 370.
«Казалось, он вообще был не очень-то хорошо осведомлен по части астрономических фактов» … H. Nussbaumer and L. Bieri, Discovering the Expanding Universe (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), p. 111.
Студенты ощущали ужасный дискомфорт. Эксперимент проводили Jerome S. Bruner и Leo Postman, а полученные результаты они опубликовали в статье «On the Perception of Incongruity: A Paradigm», Journal of Personality 18 (1949): pp. 206–223. «Возможно, главная наша находка, – писали они, – состоит в том, что порог восприятия «обращенных» карт (где цвет мастей непривычен) оказался значительно выше, чем для карт обычных. Обычные карты верно распознаются в среднем за 28 миллисекунд (под верным распознаванием мы здесь подразумеваем верный отклик, за которым следует второй верный отклик), тогда как на верное распознавание обращенных карт уходит в среднем 114 миллисекунд». Неудивительно, что Эйнштейн так долго цеплялся за свою ошибку.
…«тяжелее всего было видеть, как падают раненые…» Gale E. Christianson, Edwin Hubble: Mariner of the Nebulae (Chicago: University of Chicago Press, 1995), p. 108.
«За прошедшие 5 месяцев я поймал 9 новых и 2 переменные…» Robert W. Smith, The Expanding Universe: Astronomy's «Great Debate», 1901–1931 (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), p. 114.
…Чаплин кратко ответствовал: «Ничего». Arthur I. Miller, Einstein, Picasso: Space, Time, and the Beauty That Causes Havoc (New York: Basic Books, 2001), p. 235.
«Он буквально просочился туда…» Christianson, p. 206.
«Новые наблюдения Хаббла и Хьюмасона…» Там же, p. 210.
«Примечательно, что новые факты, полученные Хабблом…» Daryl Janzen, «Einstein's Cosmological Considerations» (неопубл. статья, University of Saskatchewan, Saskatoon, February 13, 2014), / pdf / 1402.3212.pdf, pp. 20–21.
«Когда жизнь тебе кажется дряблой…» Christianson, p. 211.
Глава 14. Наконец успокоиться
«С тех пор как я ввел этот параметр, меня не переставала мучить совесть…» Kragh, p. 54.
…«самой красивой… интерпретацией…» Timothy Ferris, Coming of Age in the Milky Way (1988; repr., New York: Perennial, 2003), p. 212.
…«имеет нам сообщить нечто весьма интересное» … Berger, p. 376.
«Ah, très joli…» Там же, p. 376.
«Ты знаешь, что делаешь, ты это доказала». «Dark Side of Einstein Emerges in His Letters», New York Times, November 1996.
«Я должен кого-то любить, иначе мое существование…» CPAE5, doc. 389.
«Вы действительно говорите о летучих змеях?» Dorothy Michelson Livingston, The Master of Light (New York: Scribner's, 1973), p. 291, цит. по: Denis Brian, Einstein: A Life (New York: Wiley, 1996), p. 12.
… «тем не менее у нее чрезвычайно доброе сердце». Neff e, p. 102.
…«найти кого-нибудь на десять лет моложе…» Isaacson, p. 361.
«Как подсказывает Книга Бытия, Вселенная началась со света». Berger, p. 395.
«Эволюцию Вселенной можно уподобить…» Simon Singh, Big Bang: The Origin of the Universe (New York: HarperCollins, 2004), p. 159.
…человек порой способен вывести формулу, которая окажется умнее своего создателя. Отличный пример – опубликованное в 1928 году Полем Дираком уравнение, описывающее поведение электрона. Как известно, у таких уравнений, как x² = 25, по два решения (в данном случае это 5 и –5). Уравнение Дирака также имело два возможных решения: одно – для отрицательно заряженных электронов (собственно, других тогда не знали), а второе – для положительно заряженных электронов (хотя такие частицы никто в ту пору представить себе не мог). Четыре года спустя Карл Андерсон у себя в Калифорнийском технологическом институте открыл такие частицы, после чего Дирак не преминул заметить: «Мое уравнение оказалось умнее, чем я сам». Как такое могло произойти? См., напр.: Frank Wilczek, «The Dirac Equation», in It Must Be Beautiful: Great Equations of Modern Science, ed. Graham Farmelo (London: Granta, 2002), pp. 132–161. См. также: Eugene P. Wigner, «The Unreasonable Eff ectiveness of Mathematics in the Natural Sciences» (статья 1960 года, ее любят включать во всякие сборники).
Глава 15. Сокрушить выскочек
«Пожалуй, это стало самым невероятным событием в моей жизни…» Michael Hiltzik, Big Science: Ernest Lawrence and the Invention That Launched the Military-Industrial Complex (New York: Simon & Schuster, 2015), p. 18.
«Слабость этой теории…»: The Collected Papers of Albert Einstein, vol. 6, The Berlin Years: Writings, 1914–1917, trans. Alfred Engel (Princeton: Princeton University Press, 1997), p. 396.
…удобно рассуждать о вероятностях… Пришлось учитывать вероятности, потому что иначе не удалось бы вывести (в тут пору уже широко известный) планковский закон радиоактивного распада. Но Эйнштейн был убежден, что вероятности – лишь временная затычка. А вот Бор приветствовал применение вероятностного подхода, поскольку в его атомной теории переходы электронов никак нельзя было объяснить классическими методами.
«Главная штука, которую тут над нами сыграл Вечный Загадчик…» Folsing, p. 393.
«Было почти три часа ночи…» Jagdish Mehra, ed., The Golden Age of Theoretical Physics: Selected Essays (London: World Scientifi c, 2001), pp. 651–652.
«От идей Гейзенберга – Борна у всех захватило дух». Max Born, The Born – Einstein Letters, 1916–1955: Friendship, Politics and Physics in Uncertain Times, trans. Irene Born (1971; repr., London: Macmillan, 2005), p. 86.
«Да, квантовая механика, разумеется, весьма впечатляет. Но…» Там же, p. 88.
«…снес большое квантовое яйцо». Folsing, p. 566.
Глава 16. Неопределенность в новую эпоху
…«испытывал убежденность в причинно-следственной взаимозависимости всех явлений…» Pais, p. 467.
…полагал, что быть атеистом нелепо… В 1936 году Эйнштейн написал: «Всякий, кто всерьез вовлечен в научный поиск, рано или поздно становится убежден, что некий дух являет себя в законах Вселенной, и этот дух неизмеримо выше человеческого» (цит. по: Calaprice, p. 152). А в 1941 году Эйнштейн замечал: «Фанатичные атеисты подобны рабам, которые не перестают ощущать тяжесть своих цепей… Это существа, которые, в своей обиде на традиционную религию как на «опиум для народа», не в состоянии услышать музыку сфер» (Isaacson, p. 390).
«Это чувство – руководящий принцип…» Einstein, «The Religious Spirit of Science», p. 38.
«…Эйнштейна этот довод совершенно не удовлетворил». Werner Heisenberg, Encounters with Einstein: And Other Essays on People, Places, and Particles (Princeton: Princeton University Press, 1983), pp. 113–114.
«Хорошую шутку не следует повторять слишком часто». Frank, p. 216.
…«просто колдовская таблица умножения…» Folsing, p. 580.
Шрёдингер вывел свое уравнение… проводя Рождество на роскошном альпийском курорте вместе с одной из своих бесчисленных любовниц… Жена Шрёдингера всегда рада была помочь развитию квантовой физики. Несколько месяцев спустя она предоставила в распоряжение мужа двух очаровательных сестер-близнецов, чтобы тот мог еще пристальнее сосредоточиться на проблемах науки. «Нирвана – это состояние чистого и блаженного всеведения, – писал Шрёдингер. – К частным лицам она отношения не имеет». (Walter Moore, Schrödinger: Life and Thought [1989; repr. New York: Cambridge University Press, 2015], p. 223).
«Чем больше я думаю о физической стороне шрёдингеровской теории…» Ian Stewart, Why Beauty Is Truth (New York: Basic Books, 2007), p. 209.
«У меня есть идея насчет того, как исследовать возможность определения положения частицы…» Stefan Rozental, ed., Niels Bohr: His Life and Work as Seen by His Friends and Colleagues (Hoboken, N. J.: Wiley, 1967), p. 106.
Глава 17. Спор с великим датчанином
…«внутренний голос» подсказывал ему… Born, p. 88.
«Нечасто доводилось встретить другое человеческое существо, которое…» Calaprice, p. 61.
«В течение дня… мы с Бором и Паули часто обсуждали очередное предложение Эйнштейна…» Heisenberg, p. 116.
«…Он был как вечный двигатель…» Folsing, p. 589.
«Я убежден, что ограничения, налагаемые законами статистики, преходящи». Max Planck award ceremony, June 28, 1929, в: Calaprice, p. 172. «Продолжайте в том же духе! Вы на верном пути!» French, p. 15. …уравнение признали верным почти все специалисты. Формальное экспериментальное подтверждение появилось лишь четыре года спустя, в 1933-м: его предоставил американский физик Кеннет Бейнбридж, использовавший сверхчувствительный масс-спектрометр. Впрочем, к тому времени мало кому из физиков требовались дополнительные доказательства, ведь уравнения поля, которые предсказывали искривление света, основывались на соотношении E = mc², и когда Эддингтон столь впечатляюще подтвердил это искривление в 1919 году, он косвенным образом подтвердил и справедливость формулы E = mc².
«Он [Бор] выглядел очень несчастным». Pais, p. 446.
«Даже после долгих часов борьбы он не желает отступать». Rozental, p. 103.
«Мы… поняли, что теперь можем быть абсолютно уверены в своей правоте…» Heisenberg, p. 116.
Глава 18. В разные стороны
…человеку нравится быть одновременно и зрителем, и актером…
David Cassidy, Uncertainty: The Life and Science of Werner Heisenberg (New York: W. H. Freeman, 1992), p. 545.
«Мужчины и женщины Германии!.. В этот полночный час…» Mordecai Schreiber, Explaining the Holocaust: How and Why It Happened (Eugene, Ore.: Cascade Books, 2015), p. 57.
«Хорошенько посмотри вокруг…» Frank, p. 226.
Глава 19. Одиночество в Принстоне
«…в диковинном и церемонном поселении…» Эйнштейн – бельгийской королеве Елизавете, 20 ноября 1933, цит. по: Calaprice, p. 25.
«Он так расстроился из-за моей болезни…» Antonina Vallentin, The Drama of Albert Einstein (New York: Doubleday, 1954), p. 240.
«Я тут великолепно устроился…» Born, p. 128.
«Я по-прежнему не верю, будто Господь…» Folsing, p. 704.
«Ты умный мальчик, Эйнштейн…» Pais, p. 44.
«Иметь в Оксфорде одну жену уже достаточно неловко…» Moore, p. 298.
«Ты мне как родной брат, и твой мозг…» Там же, p. 426.
…«с подобным вмешательством… не может примириться ни один уважающий себя человек» … Isaacson, p. 431.
«…всякий раз, когда он это проделывает, результаты оказываются катастрофическими». Folsing, p. 127.
«Лучше не работать с Эйнштейном». Там же, p. 695.
«Меня принято считать своего рода окаменелостью» … Born, p. 178.
«Бора это очень огорчило» … Folsing, p. 705.
Глава 20. Конец
«Я знаю, что не так, дружище, но…» Из воспоминаний Эрнста Штрауса [Ernst Straus], ассистента Эйнштейна. Он поделился ими в 1955 году на похоронах великого физика. Цит. по: Calaprice, p. 192.
«Мне ее немыслимо не хватает» … Из интервью, которое дала Ханна Лоуи [Hanna Loewy], давний друг семьи Эйнштейнов, уже в 1991 году. Цит. по: Calaprice, p. 32.
«Эйнштейн почти не смотрел в ноты…» «A Genius Finds Inspiration in the Music of Another», New York Times, January 31, 2006.
…«воздушным судном, на котором можно кружить в облаках, не видя при этом, как вернуться к реальности…» Isaacson, p. 511.
«В основу нашей дружбы легли студенческие годы…» Hoff mann, p. 257.
«Со страхом думать о конце собственной жизни, в общем, свойственно человеческим существам…» Там же, p. 261.
«Продлевать жизнь искусственно – дурной тон…» Pais, p. 477.
«Он шутил со мной…» Max Born, My Life: Recollections of a Nobel Laureate (New York: Scribner's, 1978), p. 309.
«Будь у меня побольше математики…» Peter Michelmore, Einstein: Profi le of the Man (New York: Dodd, Mead, 1962), p. 261.
Эпилог
…«всегда был в хорошем настроении…» French, p. 13.
Однако начиная с 1990-х годов стали появляться новые данные … Две научные группы, в 1998 году объявившие о результатах своей работы с интервалом в несколько недель, получили за эту работу Нобелевскую премию по физике 2011 года. Сол Перлмуттер, глава калифорнийской группы, объяснял в интервью Терри Гроссу, журналисту National Public Radio: обнаружить, что Вселенная расширяется все быстрее и быстрее, – это как «подбросить в воздух яблоко и вдруг увидеть, как оно уносится в космос» (Fresh Air, NPR, 14 ноября 2011).
Обеспокоило бы это Эйнштейна? Вероятно, нет: для объяснения таких открытий не обязательно требуется квантово-механический подход. Многим может показаться, что их нетрудно объяснить и при помощи «ясных и понятных» методов классической физики.
В апреле 1917 года Эйнштейн писал гёттингенскому математику Феликсу Клейну: «Не сомневаюсь, что рано или поздно она [моя теория] вынуждена будет уступить место какой-то другой, которая будет фундаментально от нее отличаться – по причинам, которые мы пока даже не можем себе представить.
И я верю, что этот процесс развития и углубления теорий не имеет предела».
Приложение
«Эйнштейн представляет ее [свою специальную теорию относительности] очень неуклюже…» Constance Reid, Hilbert (New York: Springer, 1996; orig. 1970), p. 112.
«Объекты нашего восприятия неизменно включают в себя…» H. Minkowski, «Space and Time», in H. A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski, and H. Weyl, The Principle of Relativity: A Collection of Original Memoirs on the Special and General Theory of Relativity (1923; repr., New York: Dover, 1952), p. 76.
«При помощи этого доблестного кусочка мела…» Там же, p. 76.
…поверхностная эрудиция… Pais, p. 151.
«Где был ты, когда Я полагал основания земли?..» Иов 38: 4–6.
Сноски
1
Удивительный год (лат.).
(обратно)2
В книге Эбботта описывается также Пойнтландия – страна-точка (с нулевым количеством измерений), единственный обитатель которой поневоле является убежденным солипсистом.
(обратно)3
Отметим, что женщины во Флатландии – прямые линии (говоря корректнее, отрезки: линия бесконечна и не сумела бы поместиться в дом Квадрата).
(обратно)4
Книга пятая, гл. III.
(обратно)5
Гроссман, ты должен мне помочь, а то я сойду с ума!
(обратно)6
Королевский астроном – почетная должность при британском королевском дворе. Существует с конца XVII века. В наше время носит декоративный характер. Вплоть до 1972 года ее обычно занимал директор Гринвичской обсерватории.
(обратно)7
Т. е. около 22 тысяч километров (если считать, что 1 морская лига = 5,56 км). Впрочем, мореплаватели могли ошибаться.
(обратно)8
«Тайная жизнь Уолтера Митти» (1939) – знаменитый среди англоязычной аудитории рассказ американского писателя Джеймса Тёрбера о мечтателе, ведущем самую обыкновенную жизнь, но воображающего себя отважным пилотом, гениальным хирургом, наемным убийцей и т. п. Рассказ неоднократно экранизировался.
(обратно)9
Позже такие микроскопы назовут рентгеновскими.
(обратно)10
Из воспоминаний Дьёрдя де Хевеши: «Я предложил спрятать медали, но Бору не понравилась эта идея, поскольку медали могли быть найдены. Я решил растворить их. В то время когда войска завоевателей шли по улицам Копенгагена, я был занят, растворяя медали Джеймса Франка и Макса фон Лауэ. После войны Нобелевский Фонд великодушно подарил фон Лауэ и Франку новые нобелевские медали».
(обратно)11
Для удобства мы перевели высоту из футов в метры.
(обратно)12
Вообще-то в разных средах скорость света различна, и пресловутые 300 тысяч километров в секунду – это скорость света в вакууме. Но здесь это несущественно, поскольку речь идет о движении света в одной и той же среде.
(обратно)

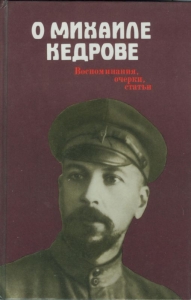




Комментарии к книге «Самая большая ошибка Эйнштейна», Дэвид Боданис
Всего 0 комментариев