Леонид Викторович Саянский Три месяца в бою Дневник казачьего офицера
«Быть участником мировой войны…»
19 июля 1914 года Германия объявила войну России. Этот день — по новому стилю 1 августа — стал первым днем Первой мировой войны.
День спустя Анна Ахматова писала:
Сроки страшные близятся. Скоро Станет тесно от свежих могил. Ждите глада, и труса, и мора, И затменья небесных светил.Страшное ахматовское пророчество сбылось.
Война, в которую в короткое время были втянуты великие и малые европейские державы, по мере развертывания грандиозных событий стала поистине Мировой. Боевые действия, помимо европейских фронтов, велись в Азии, Африке, мировом океане. Продолжавшаяся более четырех лет Первая мировая война привела к необратимым переменам. Исчез миропорядок, долгие десятилетия казавшийся устойчивым и разумным, рухнули великие империи, перекроены были европейские границы, произошли кардинальные сдвиги в социальных отношениях.
Мир XX века и в определенной мере сегодняшний мир — порождение Первой мировой войны, ее невиданного дотоле нечеловеческого напряжения, ее итогов. Итогов, которые казались немыслимыми большинству современников и участников событий первых военных месяцев.
Об этом есть смысл напомнить сейчас, в преддверии столетия начала Первой мировой. И, право, неразумно и грешно именовать ту войну «забытой».
Другое дело, что наша историческая память избирательна и несовершенна, а наши знания о событиях вековой давности полны пробелов. Восполнить эти пробелы и должен в какой-то мере дневник казачьего офицера, точно озаглавленный автором «Три месяца в бою».
Перед нами в высшей степени редкое — и уже одним этим ценное — непосредственное свидетельство очевидца — русского офицера, у которого хватало сил вести повседневные записи в боевой обстановке и который проявил недюжинную гражданскую смелость, опубликовав эти временами наивно-восторженные записи в тяжелый для России и русской армии 1915 год.
Достоинства дневника неоспоримы. Автор наблюдателен, искренен, он не только описывает увиденное и случившееся, но и склонен к размышлению над происходящим. Интересны зарисовки фронтового быта, рассказы о боевых стычках, попытки понять сильные и слабые стороны противника. Ценность дневниковых записей в их непосредственности, в свежести авторского восприятия. Автор хорошо владеет пером, но его дневник — не литература, не военная публицистика, которую он резко отвергает. Читая дневник, мы слышим живой голос человека, не обремененного ни знанием будущих событий, ни задачами военного репортера.
Кто он, автор дневника Леонид Викторович Саянский? О себе он пишет неохотно, скупо. И все же. Он — молодой кадровый офицер, вероятно, из семьи потомственных военных — его отец и брат участвуют в боях.
Женат и бездетен. Служит он, вероятно, в чине подъесаула (генерал называет его корнетом) в Забайкальском казачьем войске, что вовсе не означает его принадлежность к казачьему сословию. Служит при штабе, умеет водить автомобиль и мотоцикл, но выше всего ставит кавалерийскую атаку, мечтая о днях, когда казачьи лавы помчатся по Венгерской равнине. Он спортсмен и воспевает спорт. Военную службу осознает как призвание и долг. В начале августа он записал в дневнике: «Быть участником Мировой войны! Это счастье».
Фронтовые будни отрезвили молодого офицера. В дневнике появляются толстовские нотки осуждения страшной бойни, но завершают дневник гордые строки: «Три месяца, проведенные мною в борьбе, дают мне сознание, что и я принес свою посильную пользу вскормившей меня моей Стране». В победоносном для России исходе войны он, человек чести, не сомневается.
Читатель без труда может проследить — при желании и по карте — боевой путь казачьего офицера. Война началась для него, когда перед ним были мощные хребты Хамар-Дабана, когда он наблюдал «звездную, мистически спокойную Даурскую ночь». Далее был военный эшелон, идущий на запад, пограничные бои в Восточной Пруссии, занятые русскими войсками Львов, выход армии к предгорьям Карпат. В дневнике переплелись записи, сделанные на передовой и в тылу. За три месяца боев автор был и офицером связи, и разведчиком (участвовал и в авиаразведке), и командиром пехоты.
Его свидетельства точны и во многих случаях подтверждаются иными источниками. Действительно, мобилизация армии прошла успешно. Действительно, в первые месяцы войны наблюдался высокий патриотический настрой офицеров и солдат. Действительно, и тогда существовал разрыв между настроениями в тылу и на фронте. Собственно об армейских проблемах автор пишет сдержанно, что понятно в условиях войны, но верно подмечает недочеты в организации связи и необходимость осознать, что современная война не только порыв, кавалерийская атака и штыковой бой, но прежде всего — война машин.
«Дневник казачьего офицера» был напечатан, когда неясен был исход Великой войны, когда далеко непредставима была трагическая для России развязка событий. Не стоит гадать, как сложилась дальнейшая судьба автора дневника, боевого офицера русской армии, но мы должны благодарно помнить о тех, кто, как он, оставался верен долгу.
Профессор Н. И. Цимбаев
Предисловие
Три месяца. Что такое три месяца в сравнении с годами жизни? — подумается тому, кто возьмет в руки мой отрывочный дневник.
Да. Три месяца — ничто, но то, что пережито в эти три месяца каждым из нас, из тех, кто дрался, — громадно. Так громадно, что только теперь, когда мы по очереди уходим из этого ада, раненые, больные и контуженные, только теперь мы начинаем, уже успокоившись в мирной обстановке, сознавать ту перемену, какую совершила в нас эта война. Она изменила взгляды. Она изменила вкусы и привычки. Она научила многому, и она изменила смысл жизни.
И многие, кому суждено вернуться с адского поля нынешней страшной войны, придут домой другими людьми, не такими, какими уезжали когда-то из дому под крики «ура», сопровождавшие отходивший воинский поезд. Для тех, кто не был на войне, она никогда не будет понятной, яркой и вполне представляемой. К ним война доходит сквозь разные призмы: или смягченная расстоянием и временем от совершившихся ужасных фактов, или же прикрашенной эффектами, созданными досужей фантазией корреспондентов, редко видящих что-либо кроме опустелых путей войны, судя по которым они создают свои красочные и часто малоправдивые описания того, что творилось на этих пустых теперь полях тогда, когда их, этих корреспондентов, там не было еще, да и не могло быть в силу правил о военных корреспонденциях с поля битв.
Тем интереснее, я думаю, для каждого мирного гражданина будет проследить изо дня в день все три месяца за той жизнью, которая носит название «боевой».
Что же касается частой отрывочности и разбросанности моих строк, да простит мне читатель, — ведь они, эти строки, часто писались в обстановке почти невозможной для письма.
Автор
Дневник казачьего офицера
18 июля
Итак — война! «Войнишка», как ласкательно говорят у нас.
— Эх! Войнишку бы Бог дал! — вздыхали мы еще так недавно, томясь бездействием мирной жизни. Изо дня в день одно и то же, малозаметное, привычное дело. Пресловутая «словесность», конные ученья и «пеше по конному» и все прочие, так надоевшие отделы нашей науки. Вот когда они пригодятся. Посмотрим, что-то даст наша работа, наша подготовка теперь, на этом мировом экзамене нашей армии.
Работы уйма! Какая громадная машина, какой мощный организм, — любой из наших полков. С утра и до поздней ночи сидим в канцеляриях, и, право, порой, ум за разум заходит. Все, что готовилось втайне, создавалось на бумаге в течение долгих месяцев, — все это должно быть сделано и стать фактом; все эти пустые на вид цифры должны в возможно короткие сроки превратиться в ряды людей и лошадей, накормленных, одетых и снабженных всем, что нужно будет им для боя. Наш командир почти не спал. Адъютант тоже. Они с раннего утра здесь и лихорадочно работают. Пугает мысль, что наша часть может не пойти туда, на далекий для нас запад.
19 июля
Работа кипит. Подходят партии запасных. Пьяных нет. Особого унынья, за исключением редких случаев, — незаметно. Большинство серьезно, меньшинство — веселится и с шутками является на свой старый казарменный двор, покинутый ими так недавно.
Запасные этого года довольны.
Это и лучше, что война теперь будет, — разъясняет один лихач-парень в щегольской одежде.
По крайности еще ничего такого не завели, чтоб бросать жалко было.
Для тех-то, кто ране нас ушел, вбеcперечь тяжельче, потому с насиженного уходить надоть!
Да и правда. Для нас, людей, живущих войной и ее ожиданием, грядущая война будет лишь периодом кипучей работы, более рискованной, чем в мирное время. Ну, а для пахаря, для мелкого торгующего, служащего и всех этих тысяч и тысяч — призываемых?
И все-таки они идут молодцами. И все озлоблены против «немца». Даже и те, кто и немцев-то почти не видал.
Великая вещь война — которая созрела в душе народа.
И все эти поговорки:
Что русскому здорово, то немцу — смерть, и песенки про «Немца, перца, колбасу» и пр.
Все это, выливаясь в общую чашу народного недовольства немцами, — все всколыхнуло и претворило полускрытый смех в явное негодование. Начались манифесты, но в слабом размере.
20 июля
Вот она! Война, которую ждали так долго. Долго она висела над нами.
Ну, что же, чем скорее и сильнее стряхнем мы ее с плеч России, тем лучше.
Теперь уже все вырешено. Еще вчера и третьего дня мы боялись, чтоб мобилизация не кончилась впустую. Какая громадная разница с прошлой войной! Офицеров на улицах встречают с восторгом. Качают и носят на руках.
26 июля
Прошла неделя почти, как я не брался за свой дневник. Началась мировая война.
Столько впечатлений сразу, что буквально не знаешь о чем писать.
О том ли громадном, неслыханном воодушевлении, которое охватило нашу родину; о той ли колоссальной созидательной работе над пополняющей свои боевые ряды армии; о своих ли личных переживаниях… Но в это время живешь жизнью толпы и личные впечатления и переживания как-то ускользают, не фиксируются в уме. Все почувствовали себя не «обывателями», а «гражданами» и, в качестве таковых, живут широкой жизнью, захватывающей интересы целого мира. Хотя есть и оставшиеся «обывателями». Не далее как вчера закрыты три магазина за самовольное повышение цен. Офицерские магазины полны народа. Всякие крючки, ремешки, антабки и свистки берутся нарасхват и втридорога.
Кое-кто из более опытных не покупает ничего, а только исправляет старое, заменяя старые ремешки крепкой сыромятиной. Так-то, пожалуй, надежней будет! А все эти новые и новейшие снаряжения только полопаются зря и будут брошены в первом же деле.
По улицам бродят, во всем с иголочки, только что выпущенные офицеры и призванные прапорщики. Первые выглядят уверенными и донельзя горделивыми, вторые — беспомощными и будто что-то потерявшими.
В городе страшное оживление. Конечно, за счет военных. Они везде. На скэтингах, в театрах, в кафе и т. д.
Все веселы и довольны. Особенно рада молодежь.
Да я и по себе сужу. Если мой полк не пойдет — уйду, как-нибудь, да уйду!
30 июля
Чудный день. На площади перед нашими казармами длинные коновязи.
И пестрит в глазах от бесконечного разнообразия мастей приведенных издалека по конской повинности лошаденок.
Именно на этой площади сборный пункт для крестьянских лошадей. Городские и вообще местные лошади собраны на других площадях, а здесь все мелочь; та мелочь, которая потом будет таскать высокие двуколки по всем направлениям и дорогам, напутанным среди наших западных границ.
И при взгляде на безропотно унылую морду пегого меринка, застывшего с клочком сена в распущенных вяло губах, невольно казалось странным то, что этот меринок через два, три месяца будет свидетелем и участником мировых событий… А если ему повезет и выдержит его привычное к соломенной резке брюхо тяжесть длинных перегонов по бесконечным болотам нашего Запада, то попадет и в Берлин, быть может, и будет так же вяло муслить клочок немецкого уже сена, стоя в своей привычной упряжке на Унтер-дер-Линден.
Вокруг шум и гвалт. Приводят и уводят лошадей. Одни рады, что лошадь не взяли, другие наоборот, что взяли и хорошо заплатили.
Поди, разбери вот, до чего сложно перепутались жизненные интересы миллионов людей!
Для кого война — горе, а многих она обогатит. На наших эскадронных дворах творится что-то необычайное. Ходят разнообразно одетые типы. Кто в полушубке, несмотря на 27° в тени, кто в яркой цветной рубахе, а кто и в очень оборванном виде. И только одетые у большинства набекрень желто-синие фуражки показывают принадлежность этих незнакомцев к нашей семье.
На манежах по утрам кипит работа. Бесконечными лентами тянутся смены, бегающие по кругам.
Жарко уже. По лицам всадников и по запавшим бокам лошадей течет пот. Пыль насела густыми хлопьями и распудрила до неузнаваемости лица даже хорошо известных людей.
Мерный топот и щелк подков, лязг стремян и шашек, хлопанье манежных бичей и певучие оклики гоняющих смены унтер-офицеров — все сливается в знакомую мелодию конной работы.
Началась рубка. Мало привычные, или, вернее, отвыкшие всадники, мажут по гнущимся лозам, теряют шашки, ломают прутья… Офицеры из сил выбиваются, ездя от одного к другому, показывая, убеждая, объясняя до хрипоты…
Ругани почти нет. Не до нее. Ругаются в мирное время, когда есть время для лишних слов и когда нужно подбодрить ослабевшее внимание раскисших всадников.
Теперь не до того. Всех охватила лихорадка — как можно скорей изготовиться к бою в новом, собранном по мобилизации составе.
— Руби, как по немцу! Ты, белобрысый! — кричит офицер, галопируя рядом с летящим мимо чучел рядовым.
— Руби же! Или у тебя сердца нет? Ну, обозлись, бей, будто б он тебя обидел!
Немолодой уже дюжий парень, слушает одним ухом; он нагнулся к гриве коня и нервно шевелит опущенной для лучшего размаха шашкой. Вот прут!
— Ну?! — вскрикивает молодой корнет рядом.
Рраз! Сверкает тяжелая шашка и зверское — Гек! — вырывается из груди рубанувшего от души драгуна. Прут прямо, не валясь, соскакивает перерубленным местом вниз, в руки ловящего его другого драгуна, быстро вставляющего новый прут в крестовину подставки.
В другом месте, перед высоким хворостяным барьером, «херделем», замялся драгун. Замялся именно он, а не конь, прыгавший через этот хердел сотни раз. Трухнул маленько отвыкший от прыжков здоровяк запасной, дернул руками неловко и сбил лошадь с расчета.
— Назад!
И снова летит сюда. Зажмурился… Опять струсил! Конь почувствовал этот страх, и опять «закидка». С двух-трех раз только прыгает он. И нужно его заставить прыгнуть и заметить вовремя все, что нужно, и помочь ему советом…
Среди запасных выделяются своей уверенностью «старики», или «действительные», как говорят про себя кадровые драгуны. Лихо и ловко пускают они своих напрыганных коней на высокий и косматый «хердел» и плавными, саженными бросками перекидываются через него со всей силой разогнанного карьером слитого с лошадью многопудового тела…
На других дворах пестреют ряды наклеенных на длинные доски мишенек и шеренги запасных усиленно щелкают затворами винтовок. Лица серьезные, и в глазах яркое желание попасть «под середину» мишени.
Да, много еще работы! И все лихорадочной. Не по дням, а по часам создается все новое и новое, и крепнет уверенность в людях и в конечном, успешном результате своей работы.
Завтра еду за запасными в один из наших глухих, горных углов.
3 августа
Сейчас вернулся из казарм, приведя туда еще сто сорок крепких машин, зовущихся солдатами. Сто сорок человеческих жизней!
И у большинства семьи. Не будь эта война так популярна в России, было бы тяжело их вести.
А теперь!
Даже там, в глухой пограничной станице, раскинувшей свои кровли под столбами вечных утесов Тункинских гольцов, в этой вечной глуши таежных и горных пространств, закипела ключом жизнь. И пустынный в это время белый меловой тракт окутан мелкой, белой пылью, поднятой непривычным движением. Целые кавалькады всадников едут навстречу. Заглядывают в тарантас и, видя военную форму, атакуют его. Едут рядом и обсуждают события и ловят жадно новости, запоздавшие на две недели. Даже флегматики и хитрецы буряты из местных «урочищ», и те не выдерживают «духа времени» и после обычного приветствия:
— Менду-у! Менду-мор! — заводят разговор о далеком, невиданном Западе, где живут неизвестные немцы, и о том, что творится там, и машут загорелой рукой туда, где на западе горит палевым светом под уходящим солнцем своим вечным снегом далекий Мунку-Сардык.
И только мощные массивы Хамар-Дабана, сверкающие серебром и золотом на своих причудливых, каменных гранях, да стены вековечной тайги, глухой и задумчиво-важной в сознании своей громадности, спокойны.
Они видели много! Вот в этом ущелье налево, что пропастью узкою упало среди мощных утесов перевала, наверное, не раз сверкало оружие и прихотливо-причудливое горное эхо носило, резвясь, по каменным утесам отраженные ими крики ярости боя, звон стали и свист стрел…
А тихая, звездная, мистически спокойная даурская ночь, заглядывая своим призрачным светом в оттененное пирамидами сосен и шапками кедров ущелье, слышала не раз смешивавшийся с рокочущим звоном горного ручья стон предсмертных мук.
И тут в этих горных узлах, тропки и пути которых неизвестны, шла борьба. Падали старые расы, и на их костях жили новые… наконец и они, эти не сохранившиеся теперь племена, ушли, разбитые стальными бердышами и фитильными рушницами наших пионеров-казаков.
Да, они могут стоять важно и спокойно, эти горы и сосны… Они пережили много. И то, что творится теперь на белом свете, — им не ново!
4 августа
Несчастье! Полк пока не идет. А так безумно хочется попасть туда теперь же…
Меня успокаивают многие.
— Успеете еще! Война еще не скоро кончится…
Ах! Как они не понимают, эти утешители, что нет сил сидеть тут, где газеты получаются лишь на девятый день, и мучиться своим принужденным бессилием.
Конечно, я пешка, маленькая и незаметная, каких миллионы в этой кровавой мировой войне.
Но ведь и я смею думать, как хочу, и чувствовать полно и ясно, что то, что творится теперь, быть может, никогда не повторится…
Быть участником мировой войны! Это счастье. И если мне будет суждено уцелеть в этой войне — сколько нового и неизведанного я вынесу из нее!
И наконец, как может не захватить душу всякого красота геройской защиты Бельгии!
Ведь это опять начало героического эпоса в жизни почти половины народов Европы!
6 августа
Ура! Через два дня еду. Устроился-таки! Хоть и жалко расставаться с родным полком и с теми людьми, из которых сам готовил бойцов, но… что поделаешь, если они пока еще не идут… Дома слезы. Отец уже уехал. Я уезжаю. Брат бредит добровольцами. Матери тяжело…
Жена… Ну, что же! Буду жив, буду и счастлив! В сущности нам, военным, не стоит жениться. А если уж и жениться, то только на женщине, обеспеченной своим трудом. Да и верно, чем жить жене молодого убитого офицера? Убьют меня, я знаю, что жена не пропадет. У ней свое дело; она молода; авось будет и счастлива потом. Не я ведь один на белом свете! Это меня не заботит. Но неосторожным людям, успевшим в чине штаб-ротмистра развести целый выводок Колей и Ваней, — тяжеловато.
9 августа
Как во сне промелькнули заплаканные лица родных и мелькание белых платков в конце уплывавшей назад из глаз платформы.
Гремят колеса, качается длинный вагон. По коридору и в купе суетятся пассажиры.
Раньше, когда я ездил по своим делам, эти первые моменты пути были самыми интересными. Устраиваешься поудобнее; знакомишься с пассажирами; смотришь на расписание и составляешь план, — где обедать, где ужинать. И чувствуешь себя свободным, как бы стряхнувшим обыденность жизни на месте в течение долгого времени, жизни, незаметно опутывавшей человека своей серой паутиной «обывательщины». А теперь этого чувства нет. Нервы напряжены, как перед экзаменом.
Еду на войну. Это не шутка. Еду в неизвестность, и Бог знает, суждено ли мне увидеть снова эти бегущие мимо окон пожелтевшие березы и вечно юную зелень родных сосен и елей.
Глаза напряженно ловят эти летучие пейзажи и стараются без фотографического аппарата зафиксировать их в памяти.
Чтобы потом, в далеких, чужих краях, на границе смерти, иметь хоть минуту хороших воспоминаний о любимой родине, о близких людях, нераздельно с ней связанных.
Мой эшелон впереди. Мы нагоним его дня через три. Пока я и трое еще, нагоняющих также свои ушедшие уже части, едем как пассажиры.
И вот теперь мы чувствуем полно и ярко все привилегии свободных пассажиров.
Мы упиваемся ими.
— Пора обедать пожалуй, уже три скоро, — провозглашает мечтательным, желудочным тоном симпатичный доктор В***, которого мы за его громадную фигуру прозвали «чемпионом».
— Ну, нет! — протестуем мы.
Что из того, что скоро три? Мы пока еще не в эшелоне… Там успеем пожить по расписанию… А сейчас мы, может, последние дни в нашей жизни, едем как пассажиры, как туристы… Захотим есть — и поедим, хотя бы и в семь часов утра… Какое удовольствие иметь возможность есть тогда, когда хочется… «Там» ведь этого удовольствия мы не встретим. Захочется есть — обозов нету. Не хочется есть, а обед готов и обозам после него надо уходить. Значит, нужно есть про запас, «на будущее время», ибо, быть может, и не придется обедать скоро.
— Да, что имеем не храним, потерявши — плачем. Меткие, черт возьми, бывают иногда народные поговорки!
По вечерам весь вагон собирается у дверей нашего купе. Уж очень много смеху у нас.
Наш смех и шутки здорово пахнут нервами. Но мы чувствуем потребность смеяться, чтоб не грустить. Неизвестность будущего пугает даже издали. И вот мы шутим.
Бесконечные стратегические дебаты. Комментируем на все лады свежие телеграммы.
11 августа
Нагнал сегодня эшелон. Вылезли с поезда двое, я и один доктор, ехавший в наш же штаб. Нам отвели места в длинном вагоне первого класса, занятом штабом.
Только к вечеру удалось устроиться на новом месте.
16 августа
До чего мы привыкли к вагону! Будто бы и не жили никогда среди неподвижных, уверенных стен, не ходили по твердому, не качающемуся полу. Когда мы на станциях выходим на твердую платформу — нас шатает с непривычки. Едем уже неделю, да впереди еще полторы почти; пока мы дойдем туда, сколько там перемен совершится…
В нашем вагоне собралась дружная семья. Наш генерал, не старый еще и симпатичный человек. Его начальник штаба, два адъютанта, начальник службы связи, три доктора и я, ординарец генерала. У нас есть с собой кухня, и мы имеем табл-д’отъ под наблюдением одного из наших адъютантов. День мы проводим так: раньше всех, часов в 7 утра, подымается генерал и начинает бродить по вагону мимо запертых купе. За ним подымается его сосед — начальник штаба, бодрый и живой, моложавый полковник, с черным от загара лицом. Они начинают бесконечные разговоры у висящей в коридоре карты военного театра. Слышно, как вестовые приносят им чай. Это начинает нас расшевеливать. Молодой корнет Д***, спящий на верхней койке нашего двухместного купе, ворочается всем своим длинным телом и произносит:
— А старики-то уж бродят, слышите?
— Слышу, — откликаюсь я и добавляю:
— И даже чай пьют!
— Нн-да! — мечтает корнет, — хорошо бы чайку сюда! Да генерал в коридоре… Неловко сюда чай требовать…
— Ишь, изнеженность нравов какая! — смеюсь я, хотя в глубине души и согласен с ним.
— Нет уж! Вставайте-ка лучше!
Да и верно, пора; девятый в начале.
Мы встаем и вихрем проскакиваем в уборные умываться, мимо начальства, чтоб не попасть им на глаза и не получить обычное.
— А вы, корнеты, только еще глаза продрали? Стыдно! Стыдно!
Из уборной мы выходим с таким видом, будто б мы уже встали давным-давно.
Расшаркиваемся перед нашими «стариками».
Генерал бурчит:
— Засони! Девятый час, а вы только еще…
Корнет Д*** отчаянно, не моргая, врет:
— Никак нет, Ваш-во, мы уже давным-давно на ногах, только еще не умывались… Мы уже много схем составили с поручиком…
А дело в том, что нам, молодежи, т. е. двум адъютантам, мне и Д***, дана задача.
— Каждый из нас изучает определенный район военных действий. Один Восточную Галицию, другой Западную, третий Силезию и Померанию и, наконец, четвертый — Прусский фронт. И по получаемым ежедневно телеграммам каждый следит за переменами на своем фронте и составляет по картам схемы действий.
Это скучновато, возиться с картами, но очень полезно для нас, и мы, кряхтя над схемами, все же одобряем остроумную выдумку нашего начальника штаба.
За завтраком идет доклад генералу.
— Ну, что у вас там в Восточной Пруссии нового? — спрашивает генерал. Сейчас точный доклад в ответ.
Даже наши доктора, а особенно мой спутник от И***, увлечены этими докладами и оживленно дебатируют, когда генерал с полковником разбирают операции на всех фронтах за день.
Большая остановка. Звук «отбоя». Солдатишки, как крупа, высыпают из вагонов. Назначена вывозка. Грохот, шум, топот. Из полутемных вагонов выводят одуревших от качки лошадей. Сначала они вялы и еле стоят. Но потом солнце и свежий, бодрящий воздух осени действуют на них.
И начинается брыкание, вырывание поводов и телячьи прыжки по влажной, твердой земле.
Только и слышно:
— Но — не балуй! Что! Что делаешь! Эй! Тпру!!
— Держи его, дьявола!
А дьявол, задрав хвост и отчаянно взбрыкивая одновременно всеми четырьмя застоявшимися ногами, уже вырвался у неловкого конюха и со звонким ржаньем носится по полосе отчуждения вдоль полотна, на котором длинной, грузной красно-серой змеей растянулся наш сорокадвухвагонный поезд.
Команда связи, имея во главе длинноногого Д***, выкатываете платформ блестящие мотоциклеты и велосипеды. Прогревает машины, и практикуется въезд. На отдельной платформе из-под груды брезентов и полотнищ появляется на свет Божий сорокасильный защитный «Опель». Его чистят и обмывают от насевшей за длинные перегоны пыли.
Нередко я и еще кто-нибудь из хорошо владеющих машиной садимся на мотоциклы и, справившись о дороге к следующей станций, летим туда на машинах.
Мелькают мимо глаз однообразные складки бесконечных полей Средней России. Вьется дорога, то опускаясь в балки, то подымаясь на покатые холмы. Бодрит живящий осенний воздух, пахнущий желтой листвой. Ровный гул машины приятно щекочет нервы, тело и руки слились с машиной и бессознательно приспособляются к ее толчкам и броскам на ухабах. Хорошо и бодро!
И когда мы, сделав верст сорок по окружным путям, являемся на следующую станцию и через полчаса садимся вновь на только что подошедший наш поезд, мы чувствуем себя освеженными, как после холодного душа. Часу в шестом обедаем. Кончаем обед, прерываемый бесконечными разговорами, о войне большей частью, часов в восемь, и продолжаем наши споры уже за вечерним чаем. А в девять часов наши «старики» уже укладываются спать. Правда, они еще читают в постелях, но во всяком случае они уже не толкутся в коридоре и не стесняют нас. А мы собираемся в одном из купе, пьем бесконечный чай, едим столовыми ложками арбузы, по штуке на брата; и часто далеко за полночь слышатся заглушенные раскаты хохота из запертого наглухо маленького купе, где на двух спальных местах и одной походной табуретке умудрились разместиться дружной компанией шестеро здоровых мужчин. Потом, усталые от хохота, мы засыпаем и назавтра опять то же самое…
18 августа
Все ближе к цели! Ехать уже надоело. День за днем одно и то же. Уж мы всячески стараемся развлекаться теперь. Я по целым часам торчу на паровозе. Практикуюсь в управлении. Авось пригодится там… Чем ближе к арене мировых событий, тем ярче отражение их на народе. Там, в далекой Сибири, куда эти события приходят смягченными громадностью расстояния, переживания масс — не так остры.
Здесь, в Западной России, они ярче. Война задела личные интересы, злобно и резко пробудила много спавших до сих пор чувств. На станциях девушки, по виду из учащихся, прикалывают выходящим из вагонов офицерам цветы. Наше с Д*** купе все увешано бутоньерками. Даже «старики» наши с цветами.
Встречаем много беженцев с юго-запада. Рассказывают ужасы. И сердце и кулаки сжимаются острым, тяжелым чувством ненависти к прусскому каблуку, пытавшемуся растоптать все, что создано не им.
Масса поездов с ранеными и пленными.
На остановках, когда рядом с нашими вагонами стоят эти передвижные госпитали, наши глаза пытливо впиваются в лица раненых, стараясь прочесть на них — велики ли были перенесенные ими страдания? И этот вопрос заботит и не дает покоя нашим, пока здоровым еще, телам.
— Ты куда ранен?
— В ногу, пониже колена… — охотно отвечает бойкий малыш — первогодок.
И вопрос тут как тут — будто кто за язык тянет:
— А больно было, когда ранили?
И весь организм ждет ответа.
— Нет! Незаметно было. Потом уж заболело…
— И сильно?
— Нет… Не дюже болит…
И будто успокоишься от этого ровного тона, и ожидание возможных близких страданий уже не пугает. Но если раненый ответит:
— Беда, как болело… Все жилы вытянуло прямо…
Тогда действительно беда! Чувствуешь, как тело протестует против возможного близкого насилия над его целостью. И неприятная жуть ползет по нему. Впрочем, это инстинкт. С ним можно бороться умом. Но все же нет-нет — и подумаешь, шевеля рукой или ногой:
— Вот я сейчас свободно двигаю своими руками, когда и как хочу… А через неделю, быть может, это движение будет для меня адски мучительным, если не невозможным совершенно…
Как все-таки дорога жизнь и здоровье, особенно когда им что-нибудь, хотя бы издали, угрожает.
Пленных везут тысячами.
Австрийцев больше. Они более симпатичны, чем немцы. Впрочем, это понятно, ибо среди первых масса русин и поляков. Они все понимают по-русски и сами говорят на каком-то странном, полурусском, полупольском языке. Сначала непонятно, а с двух-трех фраз — можно уже разобрать большинство слов.
Они держатся скромно и слегка туповато и вяло. Немцы — напыжились и, несмотря на свое положение пленных, держатся вызывающе, будто 6 они, а не их конвоируют. Иногда наглят до невозможности. На одной из станций, где мы хотели напиться кофе и достать свежего печенья, в зале первого класса мы застали важно развалившихся по стульям пленных немецких офицеров. Они позабирали в буфете все, что там было свежего, и даже не встали, когда в зал вошли мы, имея во главе генерала. Последний так возмутился их наглыми взглядами сверху вниз на нас, что приказал конвоировавшему их прапорщику из запасных вывести их из зала и посадить по вагонам.
Недовольные немцы с демонстративными дерзкими взглядами вышли из залы, преследуемые враждебными взглядами станционной прислуги, запуганной словами конвоира-прапорщика, сдуру им брякнувшего, что пленных немцев приказано всячески ублажать и кормить вовсю в дороге.
Как фамилия этого дурака — не помню.
Удивительно необидчивый народ мы, русские!
Немецкие толпы вооруженных дикарей насилуют наших женщин в пограничных городах нашего же государства, а мы за это кормим их пленных горячими булками и поим свежим кофе. Где у нас обидчивость? Или нет ее совсем? В газетах промелькнуло сообщение (не знаю факт ли?), что на одном из волжских пароходов капитан, имевший на борту партию пленных немецких офицеров, закрыл буфет 1-го класса для всех пассажиров, предоставив в распоряжение первых весь свой буфет. Интересно, сделал ли бы он это, если б его жену в Калите изнасиловала целая рота пьяных немецких солдат с тупо-животными физиономиями (если только у них есть физиономии)!
Солдаты наши мрачно глядят на немцев. Зато с пленными австрийцами быстро дружат.
До сих пор не знаем, куда мы идем. Получаем каждый день новое расписание, станций на десять и… только! Тщетно гадаем — в Австрию или в Пруссию? Наш вагон разделился на две партии; большинство стремится в Краков.
Наш старый дивизионный врач соблазняет нас краковянками и рассказывает чудеса о Кракове, где когда-то в молодости он жил.
Меньшинство стоит за Пруссию. Там главное дело, убежденно говорят они. А австрияки — это так…
Я лично за Австрию. Хочется побывать на юге.
Да и участие на фронте, где заранее все уверены в победе, — привлекает. А Пруссия кажется холодной, неприятной и какой-то жуткой.
Какая все-таки колоссальная перемена за десять лет.
Где все эти пресловутые телеграммы:
«Перевалив Урал, шлем привет и т. д.» и подписи en toutes tettres — «офицеры такого, № такой-то, полка».
Теперь не то! На громадном протяжении, от границ Тихого океана и до песчаных холмов Западного края по одно- и двухколейным стальным путям движется сплошная, непрерывная змея поездов. Эшелон за эшелоном, полк за полком, корпус за корпусом — идут и идут. Идут молчаливо и серьезно. Куда? Они не знают!
Да и нужно ли знать? Нет! Не нужно. Увидим сами, где будем драться.
А знай мы заранее это, — долго ли до греха?
И без желания — проболтаться можно. А сколько тут шпионов понасыпано во всех этих Лунинцах, Пинсках, Гомелях и прочих трущобах этого края. Да, научились мы многому за Японскую войну. И приятно сознавать теперь свою разумную силу, приятно чувствовать умелое спокойное руководительство этими миллионами штыков, мощь которых висит на кончике карандаша двух-трех умных людей. Очевидно, это же сознают и те, которые уже дерутся. Поэтому-то наверное и идут так блестяще наши дела, что теперь у нас «полный порядок» и «строгая обдуманность» всякого нашего шага. И это сознание дает большую уверенность нам, чем лишний корпус резерва в бою.
А все-таки, кажется, едем в Люблин. Говорят, великолепные есть клинки у венгерских конных полков. Вот бы забрать парочку… Ну, да увидим, что судьба пошлет!
Завтра 10-й день пути! Скорей бы! Скорее!
20 августа
Вот тебе и Австрия! Вот тебе и клинки старинные и столетнее вино!
С курьерской скоростью летим на северо-запад!
Попали-таки в Пруссию! Судя по некоторым данным, там обстановка значительно серьезнее, чем в Галиции.
Не знаешь чему верить… Одни говорят одно, другие — другое, а газеты — третье… Причем всякий из рассказывающих освещает факты по индивидуальности. Пессимист — плачевно, оптимист — все в розовом цвете, а скептик — с мрачной угрозой в голосе. Довольно крупная, но по существу ничего важного не представляющая, неудача корпусов Самсонова комментируется на тысячи ладов.
Не знаю… Нам по крайней мере она не кажется ни угрожающей, ни значительной. Во всякой войне возможны случайности. Все предвидеть нельзя.
А большие потери, — так разве можно без потерь обойтись в войне, завлекшей в свои ряды десятки миллионов людей! Раненых оттуда довольно много. И оригинально вот что: тяжело раненные — серьезны и строги. Они правдивы, в большинстве, и говорят только то, что сами видели. Легко же раненные — врали несносные. Особенно те, у кого пустяковая по существу рана — болезненна. Оторван у здорового парня палец. Ведь это пустяки в сравнении с его жизнью и, наконец, с теми ранами, что видны кругом. Но ему больно, и он поэтому начинает все видеть в самом мрачном свете.
Спрашиваем его:
— Ну, как у вас там? Говорят, потери большие?
— Беда, — уныло отзывается он, — всех побили в полку…
— Что ты чушь несешь! Как так, уж и всех побили?
— Так уж, — подтверждает он, — командер убит, офицера побиты, солдаты побиты…
Недоумеваем!
— Ну, а дела как?
— Что дела! — машет он здоровой рукой, — плохо наше дело… Немца сила прет… Не сустоишь…
— Не верьте ему! Это ненормальный человек. Это особый психоз какой-то; если больно человеку, ранили его и он страдает, — ему хочется, что бы и все, кого он знает, — тоже были ранены. Раз ему плохо — все значит плохо.
И вот, на вопрос о потерях он искренне отвечает:
— Усе побиты! — так ему легче переносить свою боль. Это эгоизм боли своего рода.
А что он мог видеть кроме своих товарищей по взводу, много — рот? Еще смерть ротного командира он мог заметить, но… гибель целого полка? Определенно врет!
Это подтверждается. Кто-нибудь из тяжело раненых поворачивает свою больную голову в сторону разговаривающих и слабо, но строго произносить, часто с усилием:
— Не бреши… Что врешь, как пес… Откудова ты узнал таки свежи новости?
Легко раненный конфузится и, потупив глаза, замолкает.
Многие «легкие» привирают просто для «шику»:
— Вот, мол, мы герои какие! В каких ужасах были.
Не верьте! Не верьте им!
23 августа
Итак, наше бесконечное путешествие кончено. Мы прибыли на место. Последние перегоны мы были начеку. И ехали, имея на паровозе вооруженных солдат. Чем ближе мы подъезжали к Осовцу, тем больше слухов ходило о наших действиях в Пруссии.
Помню наши последние сутки в поезде. Все нервничали с утра. На каждой станции ожидали высадки. Но… нас везли дальше и дальше. И эта неизвестность начинала становиться невыносимой. Мы были уже в районе войны, и наши письма домой носили штемпель — «Действующая армия». Все лихорадочно схватились за эти письма. Хотелось в последний раз черкнуть несколько слов туда, где все мирно и тихо; описать свои ощущения перед жутким «завтра».
И чуть ли не все письма начинались словами:
«Завтра мы будем в бою»…
Боязни не было. А просто страшно шалили нервы.
Слишком мы долго их натягивали ожиданием, и вот теперь они просили какой угодно, даже тяжелой по переживаниям работы, лишь бы избавиться от этого жуткого, бездеятельного ожидания.
Тут мы поняли, насколько тяжело подъезжать к войне. Еще если бы мы шли долго походом, тогда было бы легче, проще войти в огонь. Но прямо из вагона, как мы думали вчера, — из относительного комфорта и покоя и сразу в никогда не испытанный до сих пор ад — называемый боем — это… благодарю покорно! И мы готовы были на крыльях перелетать отделявшее нас от позиции расстояние, лишь бы без долгого ожидания, сразу начать бой. Но не ждать его в вагоне и не думать о нем на тысячи ладов. Впрочем, я, может быть, слишком смело поступаю, приписывая свои личные переживания всем своим спутникам, но, насколько мне понятно стало из наших разговоров, все мы чувствовали и думали приблизительно одинаково.
Но боя не вышло. И пока еще не предвидится. И немцы от нашей границы в этом пункте, по слухам, верстах в пятидесяти. Полки нашей дивизии высадились еще позавчера и прошли походным порядком от Осовца в Граево. А вчера поутру наш эшелон отвели в треугольник путей, верстах в десяти от крепости, и там мы начали высадку. Расцепили платформы и вагоны, чтоб сделать возможным проход через поезд и облегчить его разгрузку по частям. Нанесли путей, шпал, рельсов, балок; устроили импровизированные сходни и принялись за дело.
С грохотом двухаршинных колес скатывались груженные доверху двуколки и санитарные линейки. С бесконечными криками и возней выводили лошадей и тут же запрягали их, еще не опомнившихся от темноты и качки, в эти двуколки. Грузили вещи наши и свои на подводы. Человек пятьдесят возились над громадным автомобилем. Подсовывали под его колеса все новые и новые шпалы и на канате спускали помаленьку с платформы. В кузове, геройски выдерживая опасность быть перевернутым и раздавленным, сидел шофер и тормозил медленно сползавший «Опель», накренявшийся то на один, то на другой бок своим высоким и громоздким серо-зеленым кузовом. Другие пятьдесят человек, тоже толпившиеся около автомобиля, хотя и не делали ничего, но зато кричали и суетились больше всех, пока их не разогнали по двуколкам. Славное раннее утро все было наполнено весельем и отрывочным гамом рабочей суеты. Раньше других изготовившиеся велосипедисты и мотоциклисты уже успели сделать разведку пути — как возможно скорее попасть в крепость, где нас ждало решение нашей участи.
Через час походная колонна была готова, и мы, с грустью кинув прощальный взгляд на ставший нам родным за две недели пути синий вагон, уселись в автомобиль. Два-три гудка, и мы понеслись, ныряя и сбочиваясь на песчаных косогорах проселка, шедшего от железной дороги к шоссе. Выскочили с крутым виражом на каменное полотно большой дороги и дали полный ход.
Через десять минут мы были у ставки временно командующего нашей армией. Пустынная и тихая площадка перед зданием офицерского собрания оживлялась несколькими автомобилями и верховыми лошадьми, оберегаемыми полусонными шоферами и вестовыми. Генерал и полковник вышли из автомобиля и направились в штаб. Мы, молодежь, остались на улице в ожидании решения нашей участи. Но, видя, что о нас очевидно забыли, рискнули и также направились в манившее своей прохладной тенью низкое и широкое здание собрания. Там, в пустых залах, уставленных по шаблону красивой и одноцветной мебелью, с портретами государей, строго глядевшими с расписных стен, было тихо и важно. У одной из дверей, ведших в половину, занятую командующим армией, сидели два молоденьких ординарца-корнета. Их сонные физиономии говорили о долгом ожидании. Из-за запертых половинок дверей доносились смутным гулом голоса, низкие и басистые.
Здоровый и жизнерадостный адъютант В*** съежил свою плечистую фигуру и трагически произнес:
— Архгереем пахнет…
Мы прыснули в кулаки, как школьники, чтоб не услышали там, за дверью. Спросили ординарцев.
— Что там? Не знаете, что они… что делают?
— Заседание… — лениво щурясь, произнес один из корнетов, постарше.
А другой добавил:
— Да вы идите вон туда, там буфет есть…
— Да ну? — радостно изумились мы и мгновенно «испарились» из нагонявшей сон и тоску мрачной залы. В другом конце здания мы действительно нашли хорошо обставленный буфет и, заказав завтрак на всю компанию, уселись на залитом солнцем маленьком балкончике, выходившем в собранский сад. У буфета начал собираться народ. Появились офицера уже дравшихся давно полков.
— Откуда вы? — оказывается, проходом через Осовец. Меняется обстановка, и очень резко. Вот и «рокируемся».
Опять, конечно, вопросы: ну, как у вас там? Как немцы? Что нового?
И самые разноречивые ответы.
Одни ругаются, другие все хвалят.
Сходятся все на одном, что:
— Немец — серьезный враг, и что у нас в эту кампанию блестящее руководительство. Бывают, конечно, прорухи, но… от этого ведь на войне не убережешься… Кормят отлично… Снабжены всем… Одно горе — с письмами! Ничего не получается из дому.
Один толстенький штаб-ротмистр убитым тоном объяснял всем, что, вот, мол:
— У меня жена родить собралась, когда я ушел… А у ней роды всегда тяжелые… Двенадцать телеграмм и писем туда послал, — а так и не знаю — жива ли она, умерла ли… Есть ли ребенок…
Действительно, «корявое» положение!
В конце столовой послышались грузные, уверенные шаги. Все встали. Вошел генерал Р., командующей пока армией. За ним его штаб и наши «старики».
Наш генерал представил нас командующему.
Затем завтрак продолжался, но уже более чинно и тихо.
После завтрака обстановка начала выясняться.
По сборе всей дивизии мы должны были занять укрепленные позиции на нашей границе у Граево и… ждать. Дальнейшее зависело уже от судьбы.
У нас вырвался вздох облегчения, ибо мы еще в поезде побаивались, что нас могут оставить гарнизоном в крепости… А это удовольствие серое!
Закипала работа. На железнодорожной станции шла суматоха. Подходили все новые и новые эшелоны. Одни высаживались здесь, другие продвигались дальше, за крепость, чтоб не затормозить движение пробкой из тысяч тел. Получались и лихорадочно изучались карты района действий. Летали взад-вперед приказания, словесные и письменные. Я попал в страду. За эти сутки я раз пятьдесят носился по всей крепости и по окрестным местечкам, то верхом, то на мотоциклете, то на автомобиле. Передавал приказания, отвозил карты, проверял номера эшелонов, ругался с начальником станции и спал за сутки всего 4 часа… Но работа на голодные зубы веселила и пьянила? и я чувствовал себя великолепно…
Сегодня после обеда двигаемся дальше.
25 августа
Мы на позициях. Так же весело светит солнце. Так же ярко горит в его лучах желто-красная листва деревьев. На полях пусто и мирно. Хлеб уже собран. По утрам и на вечерней заре на юг тянутся бесконечные стаи птиц, ныряющих в светлой, осенней лазури неба. Как все тихо и мирно!
Но это только кажется!
В этих уютных перелесках круглые сутки лежат притаившиеся секреты. Днем для шпионов, вечером — для противника. А мирные на вид поля?
Вы идете по жниву. Тишина. Воздух чудесный.
Какая благодать вокруг!
И вдруг — бух! Валитесь куда-то… И с изумлением видите себя на дне здоровенного окопа, удачно замаскированного кустиками и вялой зеленью.
Вокруг вас песочно-серые фигуры солдат, со смехом встречающих ваше эффектное вторжение в их среду.
— Не ушиблись? — заботливо спрашивает большебородый унтер с двумя «Егорьями» за Артур на измазанной груди рубахи.
Смотрите налево, направо…
Узкий и глубокий ров опоясывает незаметную неопытному глазу возвышенность, дающую великолепный обстрел и командование над окрестностями. В окопе весело и даже, если хотите, уютно по-своему. Винтовки установлены в пирамиды. Весь окоп разбит на участки, повзводно. У каждого свое место и у бруствера, для огня, и внизу, для отдыха. Правда, там от свежевзрытой земли сыровато, но это не суть важно; зато весело! Обед привозят вовремя. Вовремя сменяют дежурную часть, заменяя один полк другим. Погода — лучше желать нельзя! Не жарко и не холодно. И даже белую булку достать можно в поселке и распивать чаи, сидя под прикрытием саженного бруствера. И развлечения есть: то шпиона в леске поймают, то аэроплан немецкий кружится, да высматривать все, что внизу делается, станет…
Штабы полков и наш штаб в самом поселке разместились.
Поселок брошен, или почти брошен жителями, напугавшимися вздорных слухов о подходе немцев.
Беднота-то еще живет, а кто побогаче, да потрусливее, значит, — давно уже выехали. Лавки и маленькие магазинчики заперты. Частные дома заколочены.
Мы разместились всем штабом в покинутом здании таможни. То есть не в самой таможне, а в квартире ее директора. Жалко и досадно видеть, как по людской глупости и трусости разрушены уже сложившиеся надежно и уклад исто семейные очаги.
Очевидно, семья нашего бывшего хозяина квартиры бежала в паническом страхе. Иначе ничем нельзя объяснить этот кавардак во всех одиннадцати комнатах. С собой взяты только деньги, драгоценности и необходимое платье. Книги, костюмы, дамское и детское белье, лампы, картины, ковры, посуда и мебель — все брошено в беспорядке. По опрокинутым картонкам и корзинкам, с кучами валяющейся подле них на полу рухляди, видно, как торопились укладываться, совали что попадется под руку в узлы, бросали нужное и брали ненужное одуревшие от испуга люди.
Даже ноты на открытом рояле брошены развернутые.
Один из нас подошел к клавиатуре, и аккорды струн, знакомые и давно неслыханные, четко и странно прозвучали в жутко опустелом доме.
Благодаря стараниям наших вестовых весь беспорядок был вскоре ликвидирован, и квартира приняла жилой вид. Зажглись вечером лампы и осветили накрытый в обширной столовой скромный обед. Исправлен был засоренный водопровод. В кухне ярко горела плита, радуя своими раскаленными докрасна конфорками взгляд нашего повара, уже стосковавшегося по приличном кухонном очаге.
С непривычки было странно сидеть, как дома, в чужой квартире, на чужих креслах, читать книги из чужой библиотеки. Казалось, вот-вот войдут хозяева; до того была нелепой эта мирная, тихая обстановка рядом с паническим бегством хозяев.
Первую ночь мы не отважились спать на брошенных шикарных кроватях, но сегодня решили улечься на них, чтоб дать отдохнуть уставшим от походных коек ребрам.
Остальные пустые квартиры в местечке, не занятые нашими полками, генерал приказал запереть и охранять. А то обокрадут местные воры, а потом будет все свалено на нас.
— Солдатики, мол, растащили!
По границе шныряют наши разъезды. Они осветили уже местность приблизительно верст на тридцать вглубь Пруссии. Они доносят, что порубежные деревеньки брошены пруссаками и стоят опустелыми. Казачьи разъезды ворочаются с сигарами в зубах. Вообще откуда-то появилась масса сигар. Идет по улице замусоленный стрелок-татарчонок и сосет довольно дорогую сигару.
— Откуда это ты, братец, раздобыл?
— Казаки Ваше-дие, дали. С немецкой земли привезли!
— Ну и что же, нравится она тебе, сигара-то?
— Так себе… Махорка слаще Ваше-бродь!
— Чего же ты тогда ее не куришь?
— А мы махорку-то бережем про запас. Не век ведь стоять тута будем, — скалит зубы стрелок.
Солдатики (да и не они одни, впрочем) недовольны сиденьем без дела. Утешаем — погодите, ребятишки! Успеете еще наработаться…
26 августа
Вчера ночью было маленькое столкновение нашего разъезда с прусскими фуражирами. Окончилось, за темнотой, ничем. У нас потерь нет.
Война перестала пугать. Теперь все ясно и определенно. Ждем немцев. Придут — начнем драться. Вот и все. И вся война тут! А вот когда едешь по тылу, да все время слушаешь разные ужасы — другое дело!
Сегодня в обед усиленно обстреливали появившийся с прусской стороны аэроплан. Он начал качаться и какими-то странными рывками то опускаться, то подниматься. Меня послали с мотоциклистами и велосипедистами захватить его, если он упадет. Мгновенно разогрели машины и, вскочив на седла, дали ход по песчаному шоссе, шедшему к границе. Местами завязали в песчаных и глубоких колеях, но все же летали вперед.
А ясно видимый уже желто-серый аэроплан с загнутыми назад кончиками крыльев отчаянно боролся с падением и выделывал все новые и новые спирали, пытаясь ввинтиться в голубую высь и уйти от нас. Но напрасно! Какая-то невидимая сила будто бы прижимала его к земле…
И вот мы под ним почти… Сверху сухой и короткий выстрел — очевидно, из револьвера катнули по моей команде. Последним усилием гигант — голубь относит свое пробитое пулями тело в сторону от дороги.
Нам туда не проехать по пахоте…
Бросаем машины и, приготовив револьверы, бежим из всех сил к тем вон высоким деревьям, вершин которых уже касается своими кривыми крыльями падающая птица…
Вдруг… Что это? Отчаянное —
— Ги-ги-их! — и откуда-то из кустов вылетает десяток казаков и во весь мах лошади летит туда же, куда бежали и мы.
Им ближе, да и они на конях…
Слышен треск, и «птица» скрылась из глаз.
Выстрел… другой… Крики…
Задыхающиеся от бега, с открытыми трубкой опаленными дыханием ртами, мы подбегаем к группе деревьев. Выскакиваем на поляну…
На ней лежит грязно-желтая груда парусины и какая-то причудливо-искривленная решетка… Рули, тросы, весь фюзеляж и кабинка — помяты и разбиты. На них следы сотен пуль…
Кучка казаков наклонилась над чем-то…
Расступаются… На траве лежит черно-красная куча чего-то. Лоскутья кожанки, шапка с респиратором. Искривленное лицо в свежей крови в новешенькие желтые гетры. Другая кучка полусидит около поломанной кабинки и шевелит одной рукой в кожаной рукавице с крагой до локтя.
— Ну, что тут такое? — обращаюсь я к высокому уряднику, начальнику разъезда.
— Да вот, Ваше-дие — ероплант, значит…
— Вижу, да не про то я… Что с ними? Разбились?
— Никак нет, — обиженно говорит урядник, — порубили! Ах, вы идиоты! Да ведь их нужно было живыми взять!
— Ну, на што их собак, ваш-бродь…
— Да ведь приказано, болван ты этакий! Разве ты сам-то не мог сообразить, что от них узнать можно было многое! — волнуюсь я.
— Не могу знать, — тупо, но решительно отвечает урядник. Бошы выстрелили, ну, а мы их порубили…
Нагибаемся над трупом и полутрупом. Пытаемся говорить с недорубленным летчиком, что все еще шевелит рукой.
— Kosaken… kosaken… — хрипит он, не открывая глаз. Затылок у него разбить, и левая рука почти отрублена у плеча. Приказываю поднять его и нести на перевязочный пункт. Но от первого же движения изо рта раненого выливается целый поток крови, черной и густой. Глаза мигают и закрываются.
Что-то булькает у него внутри, он деловито опускается на бок и лежит неподвижно.
Готов. Приказываю обыскать. Забираю окровавленные связки карт, записок, книжек для донесений и писем из дому, наверное. Ставлю часовых у аппарата и, забрав всю свою команду, ворочаюсь в штаб.
И долго из головы не выходит это последнее предсмертное бульканье белокурого немчика.
Оригинально все-таки то, что если бы такую смерть увидеть на улице города или в шикарно обставленной квартире, на Невском проспекте, например, она произвела бы в десять раз сильнейшее впечатлите и пугало бы ужасом преступления.
А тут было просто неприятно физически видеть здоровое человеческое тело, из которого ударами обыкновенных стальных полос, только отточенных, выбита жизнь. Велика сила привычных взглядов!
Объезжаем позиции со «стариками». Ну, и дороги!
Даже наш, мощный для своего легкого корпуса «Опель» завязает в этих проклятых песчаных буграх.
А уж брать с собой мотоциклеты — абсолютно, по-моему, бесполезно!
Они хороши только на маленьких кусочках хорошо сохранившихся шоссе. А тут выбоины или, особенно, песок, — слезай! Велосипед в этом отношении более применим. Он проедет по самой тоненькой ниточке, а мощная шестипудовая машина застрянет и остановится. Под дождем, надо полагать, будет еще хуже.
Да и потом, в случае порчи, что за мука тащить шестипудовую тяжесть по глубоким песчаным колеям!
Правда, дороги здесь, на западе, пока еще хороши, но это только пока. Через месяц, другой их так разобьют миллионы двуколочных колес, что и узнать их будет нельзя. А тогда польза от дорогих машин сведется к нулю.
Как живучи мелкие людские интересы!
В Граево уже появились мелкие торгаши. Идет оживленная торговля белым хлебом, сахаром, скверной колбасой и таким же табаком…
Говорят, Ренненкампфу приходится тяжело. На него что-то очень начали напирать.
В общем, мы здесь пока еще ничего не знаем. Телеграммы, издающиеся в Белостоке и попадающие к нам, слишком лаконичны, чтоб можно было что-либо по ним понять.
Говорят, это перед крупными событиями.
Дай Бог; надоело ничего не делать!
28 августа
Вчера за весь день ничего нового.
Зато сегодня за день я, лично, пережил многое.
Соседний корпус потерял с нами связь.
Нас с ним связывает летучая почта из казачьих постов.
На протяжении 17 верст, разделявших нас друг от друга, стояло штук пять постов.
Вдруг вчера сообщение прервалось. Посланные туда записки куда-то потерялись. Телеграфное сообщение оказалось прерванным. Из штаба армии пришло категорическое приказание связаться с оторвавшимся корпусом.
В 9 часов утра сегодня, только что я умылся, меня позвали к генералу Он и полковник сидели, низко нагнув седоватые головы над картой, и о чем-то совещались.
— Вы ведь хорошо владеете мотоциклетом? — спрашивает начальник штаба.
Странный вопрос! Спортсмен, гонщик, и вдруг не будет знать машины!
— Владею, так точно, — говорю.
Вступается генерал:
— Во сколько времени вы можете проехать до Р.; тут всего семнадцать верст и дорога идеальная.
— В двадцать минут Ваше-во, отвечаю.
— Смотрите сюда, — и на карту показывает.
— Вот… Мы вот тут… Здесь — Райгород. Там штаб N-го корпуса. Вы обязаны отвезти туда вот этот пакет… Прочитайте его, чтобы в случае чего уничтожить…
— Ого! Дело пахнет не шуткой! Читаю внимательно.
— Запомнили? Ну, вот. Возьмите лучшую машину и самого надежного моториста — провожатого. Имейте в виду, что на шоссе могут оказаться немцы. Донесение ни в коем случае не должно попасть в их руки. Собирайтесь, с Богом.
Ну, слава Богу, первое серьезное поручение получил! Бегу распоряжаться и одеваться.
— Куда? — спрашивают товарищи.
— Поздравьте! Еду с важным поручением!
С завистью смотрят.
— Почему же не из нас кто-нибудь?
— А на что же тогда ординарец, я? — парирую их вопрос вопросом же.
Выхожу. «Старики» крепко жмут руку. Полковник шепчет:
— Осторожнее все-таки… Зря не рискуйте…
Машина прогрета. Бензину — на сто верст. Осматриваю каждую гайку, ибо из-за собственной неосторожности может пропасть все.
Готово. Веду машину; на ходу даю «магнето».
Послушная «Индиана» вздрагивает и всем своим мощным красным телом бросается вперед.
Еле успеваю поймать на бегу педаль и сажусь на низкое и широкое седло.
Тук-тук-тук-тук-тук-тук…
Ровно и четко отсчитывает вспышки мотор.
Ровным стуком ему вторит сердце. Немного волнуюсь, но это ничего!
Выезжаю на площадь. То и дело выключаю мотор и бесшумно, инерцией, проскальзываю между бесконечных обозов и торговых палаток, разбитых перед старинным костелом. Зевак окликаю голосом — давать гудки среди диких, крестьянских лошаденок — рискованно. Как раз наделаешь такой «тарарам» среди возов, что и машину поломаешь. Но вот и шоссе. Высокое Распятие на каменном, почерневшем пьедестале. Потемнел и Крест, «крыж свентый» по-здешнему. Сколько молитв и слез видело это темное, примитивное Распятие! На камне под ним засохший пучок цветов — скромный дар плачущей по целым дням Марыси, молившейся перед строгим Иезусом о далеком Стасе, дерущемся в неведомой Галиции против несносных швабов, побей их Матка Божска!..
Перед глазами лентой, белой и ровной, легло знаменитое Сувалкское шоссе. Оно мощено и довольно прилично.
Но беда вся в том, что даже самая лучшая мостовая требует за собой ухода. А тут, на этой дороге, его недостает. Во многих местах матрац шоссе, вместе с сохранившейся на нем мостовой, осел, подмытый снизу на пол-аршина ниже общего уровня дороги.
Рассмотреть такой колодезь трудно, ибо он сливается с общим белым фоном дороги. Замечаешь его уже тогда, когда переднее колесо машины на сажень от края ямы… Лихорадочно нажимаешь ножной тормоз, но… сила скорости (а мы летим километров на шестьдесят в час) тащит машину и только призвав на помощь все свое хладнокровье и уменье — удерживаешься на седле, звенящем от страшного толчка. Руль вырывается из рук, и машина рыскает в течение нескольких секунд то туда, то сюда… Справляюсь!
Пять-шесть сажен и — новое препятствие:
Обнажился от песчано-щебнистого тюфяка нижний слой острых каменных плит. Беда, если не досмотришь! К черту шина, а то и глушитель сорвешь нелепо высунувшимся из грунта острым камнем.
Опять шипит заторможенное заднее колесо, а продолжающая работать «в себе» машина сотрясает и бьет всю раму резкими, нервными толчками.
Зато где ровный кусочек попадется! — Тут уже прямо наслажденье! И про немцев, могущих оказаться на дороге, не думается!
Все больше и больше нажимаешь рычаг, отводя его до предела. Мотор уже не стучит, а с воем и гулом бросает машину навстречу ветру и пространству.
Далеко, далеко, еще на том вон холме показались черные точки…
Что это? Немцы ли? Крестьянские ли фуры?
Ходу. Рычаг отведен до отказа… На мгновение даю холостой ход, ибо знаю, что потом, когда включишь мотор, скорость еще более увеличится от толчка…
Включаю… Машину рвануло и понесло…
Даю гудки, а затем, с трудом справляясь левой рукой с кидающимся рулем, свободной рукой нащупываю холодную и плоскую рукоять браунинга в поясной кобуре.
Мимо мелькают будто стоящие на месте фуры. Часы на руле показывают, что мы едем уже пятнадцать минут. Скоро должен быть и Райгород!
Спускаюсь с покатого холма и с размаху влетаю на высокую горку… Стоп… Что это? Мотор не работает.
Слезаю. Осматриваю все. Будто бы в порядке вся машина. Начинаю работать. Свеча, отвинченная от карбюратора, дает вспышки при каждом нажиме педали и рукоятки… Значит, не она виновата! Не переело ли трос какой-нибудь? Нет, все они в порядке. Разбираю карбюратор, правда, поверхностно, ибо время дорого. Продуваю, чищу. Пускаю бензин в цилиндры. Пока он там есть — машина берет. Выгорает он — стоп!
Значит, надо развинчивать весь карбюратор.
Вот горе… А Райгород — вот он! Рукой подать. Подходят из ближайшего фольварка крестьяне. Здороваюсь и вспоминаю.
— А где же мой моторист? Его нет…
Делать нечего. Чтоб не терять времени, отдаю машину на сохранение крестьянам, предупредив их об отставшем моем спутнике.
— А немцев нема? — спрашиваю.
Оказывается, еще вчера вечером на шоссе выезжал немецкий разъезд человек в 15. А около Райгорода, вот тут под боком совсем, на винокуренном заводе, стоящем в лесу при дороге, дня три уже (по слухам) ночуют немцы. Их человек пятьдесят. Днем они почти не выходят. А если и выходят, то переодетые. Сегодня рано утром хлеб на заднем фольварке весь позабирали. Наших поблизости нет. В Райгороде много «жолнержев» стояло и «гармат» много, а вот вчера поутру все ушли… Седоусый поляк крестьянин мерно и монотонно говорит ломаным русским языком, вставляя через слово обычное «прошу пана»… В голове у меня сумбур.
Вот так влетел в историю!
Что же делать? Старик не врет, это видно. Да и зачем ему врать?
Решаюсь идти пешком. На ходу машины одетая под китель толстая фуфайка грела, а теперь на своих двоих в ней очень жарко.
Прохожу пустынный Райгород. Жителей почти нет, все попрятались куда-то. Редкие встречные подтверждают, что немцы тут везде бродят.
Загибаю в лес и иду прячась, как вор.
По расспросам я выяснил, что корпус, разыскиваемый мною, ушел вчера на Августов. Теперь понятна потеря связи. Телеграф порван шпионящими немцами-разведчиками. Наши донесения перехвачены. Надо спешить. Набавляю ходу и вспоминаю пятикилометровый бег, в котором я участвовал однажды. Тренинг помогает. В три часа прохожу семнадцать верст. Еще семь верст осталось. В лесу натыкаюсь на казачий пост.
Вид у меня был, очевидно, очень нелепый.
Мокрый, усталый, в гетрах, в фуражке с очками — я не внушал к себе доверия.
И только после того, как я показал важный пакет, старший поста согласился дать мне лошадь и вестового. Желая уверить казачков в своей подлинности, я, несмотря на усталость, вспрыгнул на высокое седло профессионально-кавалерийским адъютантским прыжком.
Лица донцов просветлели, и они единогласно одобрили:
— Ловко вы сигаете, Ваш-брод!
Через 20 минут я был в штабе утерянного корпуса, в Августове. Там тоже пытались восстановить с нами связь, но шпионы и засады немецких драгун перехватывали все, что посылалось к нам и от нас.
Проворонили только меня!
Назад мне дали автомобиль.
Спрашиваю шофера:
— Не боишься?
— Никак нет, — просто и равнодушно.
— Ну, так едем.
Теперь уже едем явно. На машине, да на большом ходу, нас не очень-то поймаешь!
На полном газу пролетаем двадцать четыре версты в двадцать минут. Вот и Рай город опять!
Встречаем фурманщика-еврея. Где немцы?
— Ой! Прошу пана! В Рейгороде, тут стоят…
— Да, ну? И много?
— Человек пятьдесят.
Оказывается, что въезд и выезд в местечко заняты прусскими драгунами. Гляжу беспомощно на шофера.
— Другой дороги нету?
— Есть такая, да у нас на нее бензину не хватит.
А ночь близка.
— Слушай, — говорю шоферу, — давай рискнем?
— Мне что же! поедемте, — улыбается он.
— Ты хорошо из винтовки стреляешь?
— Ладно!
— Ну, так бери винтовку, а я сяду за машину.
— А справитесь? — с сомнением в голосе говорить шофер.
— Справлюсь, не бойсь!
Вот когда пригодилось шуточное изучение автомобиля. Учился, чтоб компанию свою прокатить иногда по городу, под веселую руку, а вот теперь… Шкуру спасать буду и свою и этого рябого солдатика, что деловито и спокойно заряжает винтовку.
— Ну! Ехать, что ли? Господи благослови!
Как в воду окунулся — когда нажал педаль.
Выключаю конус и ставлю на третью скорость. Даю газ вовсю.
Вот плетень… Вот мостик… Люди около лошади… Пускаю сирену и с диким ревом, пугая людей и рвущихся из рук лошадей, влетаю в городок. Крики сзади… Что-то хлопнуло сквозь гул машины, слабо и не резко.
Еще… Еще…
Площадь… Опять лошади и всадники на них. Один отделяется и кидается к нам… Опять пускаю сирену. Большая рыжая лошадь взвивается на дыбы. Рядом, у уха самого, резко гремит винтовка шофера.
Господи! Едва увильнул. Неожиданно на дороге воз. Руки инстинктивно завертели колесо с быстротой молнии и так же выправили его назад, обогнув препятствие… Сзади хлопанье все сильней. Отвернуться от льющейся в глаза широкой белой ленты — шоссе — не могу… Нельзя на таком ходу… Мгновенно будем под автомобилем… А если уцелеем, то и под ножами озверевших немцев. Мимо машины с гулом и свистом несется лента деревьев, зданий, столбов. Руль рвет из рук, и он так вибрирует, что у меня начинают сдавать руки…
Хлопанье сзади затихло… Да и где же догнать нас на таком ходу!
Пролетаем верст пять от города. Мало-помалу спускаю газ и перевожу дыхание, да кстати и скорость. Обращаюсь к шоферу и говорю, не глядя на него:
— Ну, как? На сколько километров скорость нагнали?
Солдат молчит. Гляжу на него, сидит, прислонившись боком к дверце, и винтовку сжимает.
Тронул его — мягко и безвольно голова качнулась… Убавил ход, посмотрел внимательно — мертв!
За правым ухом чернеется малюсенькая дырочка.
Тронул тело — голова перевалилась на плечо. Над левым глазом отек, и кровью все залито. Насквозь, значить, хватили…
Но не стоять же в самом деле тут… Опять погнал машину, но не успел и версты проехать, слышу, кричит кто-то сбоку от дороги.
Откуда ни возьмись — мой пропавший без вести моторист Игошин! Бежит, руками машет.
— Откуда ты здесь?
— Да я тут в фольварке вас дожидался. Тут вашу машину нашел у поляков, да и возился все с нею. Всю развинчивать пришлось.
Подошел вплотную, глянул на скривившегося шофера и ахнул, по-бабьи всплеснув руками.
— Это что же, ваше-дие такое?
— А стрельбу слыхал?
— Слышал, да не близко…
— Ну так вот… На ходу попало бедному.
Поехал испуганный Игошин. С помощью крестьян перетащил в кузов машины оба мотоцикла; туда же мы переложили труп, а сам Игошин сел на его место, и тронулись дальше. Через четверть часа пролетели Граевскую заставу и затормозились у подъезда таможни через шесть часов после отъезда оттуда.
Вот тебе и двадцать минут до Райгорода, да и столько же обратно!
В штабе меня ждали с тревогой. Начинали уже бояться за мою участь, тем более, что посланный по дороге к Райгороду маленький разъезд вернулся, налетев на большие для него силы немцев, и донес, что дорога занята ими. Тем более эффектным было мое появление. Пошли расспросы и допросы.
Потом меня начали кормить. А я только тут и вспомнил, что еще с утра раннего ничего не ел. И разломало почему-то сразу меня. То все ходил бодро, а сейчас и ноги, и руки, и все тело болят. Разбился за день, видно. Сейчас сижу раздетый на постели и думаю о странной игре судьбы.
Ведь надо же было мне именно перед самым Райгородом пересесть на шоферское место.
А если б не пересел?
Тут все так уютно. Вестовые готовят постели. Рядом стакан крепкого чаю, с лимоном и красным вином. Вокруг жизнь, голоса… А я мог бы лежать на носилках, с пробитым черепом. Ничего бы не видел, не слышал; не ощущал бы прелести жить и вообще, это был бы уже не я, а просто три пуда двадцать фунтов костей, мяса и потрохов, внутри которых уже начинало бы гнездиться гниение.
Брр! Только теперь сознаю, что я выкинул рискованную штуку и уцелел лишь чудом.
Вспоминаю следы пуль на синем кузове автомобиля, поташные желобки такие, и становится страшно. Впрочем, это в моем характере; я всегда трушу после опасности.
А все-таки чертовски жутко.
Зато теперь я уже немного окрещен! Это приятно! Но уже поздно, а что будет завтра — Бог весть. Война-то ведь продолжается и в любой момент может поднять нас с теплых постелей и бросить в мрачный холод осенней ночи.
Бедный рябенький шофер…
29 августа
Ну вот, дождались и дела. Сейчас пойдем в Пруссию. Поднялись на ноги с 7 часов утра. Получено приказание выступить всей дивизией на город Лык. Соседняя дивизия, стоящая в Щучине, пойдет, очевидно, на Бялу. По всей вероятности, наше движение будет демонстрацией для того, чтобы оттянуть от Ренненкампфа давящие его силы немцев, хотя бы отчасти.
Самая, в сущности, «корявая» роль у меня.
Мне пока абсолютно нечего делать. С частями дивизии мы соединены телефонами и целой командой дежурных ординарцев, конных и самокатчиков. Так что все приказания передаются без меня.
В полутемной столовой собрался военный совет. Шуршат карты и бумаги. «Старики» сосредоточенно сидят над картами. Изредка отрывисто кидают друг другу короткие, но полные содержания фразы.
Оба адъютанта согнулись и строчат в полевых книжках приказания и распоряжения. Готовится приказ «на походное движение». Спешно и порывисто перевертываются исписанные страницы, снова перекладывается копировальная бумага, и опять тишина.
Только порой чужим звуком звякнет ложечка в стакане остывшего и глотаемого урывками чая.
Я сижу и распираю пальцами слипающиеся веки. Здорово утомился вчера, и сон морит меня.
На дворе идут спешные сборы. Наши вещи грузятся на двуколки.
Лошади уже поседланы. Генерал дал мне купленную им недавно и еще невыезженную, здоровенную вороную лошадь, а себе взял на время мою строевую, дрессированную и кроткую, как ребенок.
Мы не знаем, вернемся ли сюда в Граево вновь, а потому окончательно ликвидируем свое пребывание здесь. Завтрак или обед готовить некогда. Поедим потом из котла солдатского, когда время будет.
Несутся во все стороны получившие копии приказов полковые ординарцы. Начинают снимать полевые телефоны. За церковью, неподалеку, раздаются звуки оркестра. Это выступает стоящий подле нас первый полк нашей дивизии.
За ним грузной колонной идут обозы, Потом второй полк…
В одиннадцать часов утра появляется голод. Сегодня суббота и, следовательно, все лавочки (еврейские, ибо русских тут нет!) — заперты. Посланный на разведку молодцеватый ординарец-стрелок ворочается с печальным известием, что ничего достать нельзя. Но затем, вслед за словами, повергающими нас в мрачное уныние, он, наслаждаясь сценичностью эффекта, достает из-под полы шинели громадный кусок жареной с чесноком свинины, густо посыпанной солью.
— Откуда?! У жидовки купил, Ваш-брод, — докладывает плутоватый стрелок…
Гм-м! Купил? Ну, да все равно… Есть хочется… Давай сюда…
Я и длинноногий Д***, уже снявший свои бесконечные телефоны, удаляемся с драгоценным куском на площадку черной лестницы и там устраиваемся комфортабельно на ступеньках, затоптанных сотнями ног. Через вестовых достаем хлеба и уничтожаем гигантские бутерброды. Потом вспоминаем о «начальстве». Делаем пару уродин-бутербродов и несем наверх.
Начальник штаба составляет телеграмму в штаб армии и сначала машинально отмахивается от нас, но потом, увидев предлагаемое, свободной рукой берет кусок и, не отрываясь от диктуемой писарю черновой телеграммы, жует.
Зато генерал встречает наше появление с «питательными веществами» воодушевленно-радостно и хвалит нас от души. И только когда съедает весь бутерброд без остатка, спохватывается спросить.
— А откуда же вы это раздобыли?
Мы со смехом признаемся в своих подозрениях относительно «покупки» этого мяса.
— Зато хлеб, вне сомнений, наш собственный!
Но пора двигаться и нам.
— Ну, господа… Все готово? — говорит генерал.
— Господи благослови!
Садимся и двигаемся большой группой по узкой улице, пробираемся мимо соединенных колонн обозов, запрудивших всю улицу. Все оставшееся население Граева высыпало на плетни и заборы. Почтительно кланяются при нашем проезде. Конечно потому, что мы идем в Пруссию, а не уходим из нее. Если придут сюда пруссаки, эти же поклоны встретят и их.
Скверное положение у бедного пограничного населения. Хотя все же лучше, чем у бедных «китаезов» в прошлую кампанию, когда их страна была перевернута вверх дном дерущимися пришлыми державами.
Обгоняем медленно вытягивающиеся на Лыковское шоссе колонны полков. Генерал поминутно здоровается с людьми, бодро и весело отвечающими на громкое и сердечное приветствие.
Авангард давно уже ушел вперед. С ним нас соединяет тонкая «цепочка» из одиночных стрелков, идущих один от другого шагов на пятьдесят дистанции.
Все приказания передаются через них.
— Авангарду остановиться на переезде через полотно, у будки, на маленький привал! — приказывает генерал.
Приказание передается ближайшему из «цепочки».
И гулко несутся в утреннем воздухе замирающие вдали произносимые нараспев слова, катящиеся по цепочке от одного к другому.
Мы присоединились к главным силам и едем с ними.
Впереди рокочут выстрелы.
Через полчаса получаем подробное донесение о случившемся.
Оказывается, немецкая полурота, засевшая в местечке Просткен, пыталась задержать нас и обстреляла головную заставу. Но подошедшие роты заставили немцев уйти, оставив несколько трупов и с десяток раненых.
Проходим через место стычки. Улицы пустынны до жуткости. Хорошие, трех- и более этажные дома жутко смотрят на нас выбитыми окнами.
У здания местного отделения банка лежит головой на подъезде поседланная лошадь и жалобно стонет, пытаясь поднять тяжелую голову с мокрых от крови камней. У поваленного зачем-то фонарного столба с сетью проводов на нем и около свернулась клубочком серая фигура немецкого солдата. Лица не видно, но по положено тела, спокойного и недвижного, видно, что пуля его пожалела и уложила наповал.
И хотя ничем особенным не пахнет в свежем осеннем воздухе, но разыгравшееся воображение, пытающееся представить ясно и подробно картину свалки на этой мощеной улице, заставляет ощущать будто бы реющий над этим местом запах пороха и крови.
Следуем дальше. Местечко большое.
Еще когда мы перешли пограничную цепь, порванную и лежащую на земле между своих и наших столбов, отделяющих Россию от Германии, нам бросилась в глаза резкая разница между внешним видом двух соседних селений, прижавшихся к границе и друг к другу.
С нашей стороны — село Проскино, довольно обширное, с каменным костелом и типичными хатками, крытыми частью старой черепицей, а частью просто соломой.
При хатках — сады, запущенные, но живописные.
Улица носит следы свиных пятачков и проходящих стад скота. Освещение, конечно, только небесное. Есть две лавочки, бедные и жалкие, как и их хозяева, типичные забитые польские евреи.
Но стоит сделать несколько шагов за здание таможни (немецкой), как все меняется будто по волшебству. Шикарная мостовая. Телефонные провода, уходящие паутинами на железную черепицу высоких готических крыш. Чистая желто-розовая окраска стен. Зеркальные окна в нижних этажах. Много магазинов и лавок, правда, запертых и, очевидно, без товара, увезенного заранее бежавшими купцами. Электрическое освещение на улицах. Каменные и витые чугунные решетки чистеньких садов. Асфальт на панелях. Отделение банка, две школы, богатая кирха.
Да и брошенная кое-какая утварь, не взятая бежавшими жителями, говорит более чем о достатке наших соседей. И вполне понятно, что эти разбухшие от пива и лоснящиеся от идеальной чистоты бюргеры косятся с презрением на грязь и бедность живущих бок о бок русских подданных (хотя и не русских по национальности). Селение казалось вымершим, и трудно верилось, что тут вот несколько минут тому назад щелкали выстрелы, пахло смертью, страхом и насилием.
Но еще через несколько минут в затихших домах закопошился кто-то, и из слуховых окон высоких чердаков загремели выстрелы. Но быстро смолкли, внеся беспорядок в ряды колонны, шедшей по улице.
Глядим, бредет раненый стрелок. Машет окровавленной рукой, и лицо недоуменное и досадливое.
— Откуда ты? — изумился генерал.
У авангарда были шедшие вместе с ним свои лазаретные двуколки и раненые там, впереди, — в них и укладывались, чтоб не таскать их в тыл колонны. А этот тут появился, да еще неперевязанный!
— Из окошек стреляют, Ваше-тво, — отвечает обиженным тоном раненый.
— Здесь? Сейчас? Ах, вот это сейчас выстрелы и были?
— Так точно.
— Ну, а что же вы? Сами-то вы стреляли?
— Не по ком, Ваше-ство… Да, однако, бабы стреляют…
— Что с имя сделаешь… — развел, забыв про боль, руками раненый и отправился шагать дальше, к санитарным двуколкам, не обращая внимания на льющуюся кровь.
Пролетали мимо два казака из разъезда.
Рядом с лошадью едущего впереди бежит и голосит тонким бабьим голосом здоровенный рыжебородый немец. Руки сложены, как на молитву, и перевязаны у кистей ремнем чумбура. Лицо плачущее, рот перекошен, и в глазах безумный ужас загнанного зверя. Но вместе с тем чувствуется в них какая-то жестокая подлость; вот только выпусти, говорят они…
Останавливаем.
— Куда это вы его, донцы? Кто такой?
— Шпиент! Стрелил по нам, да побег… Ну, мы его и спымали, — докладывает молоденький казачишка, остановив горячащегося рыжего и горбоносого жеребенка.
— Шпион?
Действительно, сами это видим — из-под широкой, рабочей блузы крестьянина торчит выдернутый казачьей лапой край серого мундира с красными кантами. На ногах, выглядывая из-под бахромы стареньких брюк, светятся хорошо начищенные солдатские сапоги. Казак держит в руках завернутая в красный платок вещественные доказательства: солдатскую книжку, револьвер-бульдог и горсточку патронов.
Пока мы прочитываем книжку, пленник с каким-то диким воплем кидается к генералу, ловит связанными руками его сапог и, целуя его, молит жалобно и трусливо, убеждая, что он не стрелял, что он любит русских, что он жил долго в России…
Отпускаем казаков вместе с пленником, которого приказывают вести в штаб корпуса, чтоб не брать на душу смертного приговора, обычного в данном случае. И долго еще сзади нас слышатся звериные вопли трусливого немца.
Дописываю на привале. Впереди слышна стрельба, все усиливающаяся. Ожидаем донесений. Генерал бегает взад-вперед по пахоте и нервно теребит бороду. Начальник штаба сосредоточенно молчит, сидя на куче жнива, и пытливо смотрит в сторону выстрелов. Кони насторожили уши и подняли головы…
Стрельба тише. Какой-то неясный гул…
— На «ура» пошли наши, — как бы про себя говорит мой вестовой, привезенный с собой из моей бывшей части.
— Ну если на ура, значит слава Богу, — отвечает полковник, не замечая, что его собеседник — простой драгун. Да и что до того, раз он, этот драгун, сказал взволновавшие всех слова.
И то, что полковник генерального штаба деловым тоном, как равному же, ответил мальчугану драгуну, никого даже и подумать о курьезности этого краткого разговора не заставило.
Так в известные минуты сглаживаются чины и положения.
Приходит донесение о том, что немцы силой около двух рот выбиты из местечка Остроколен и отброшены далеко назад с большими потерями.
Лица у всех просветлели. Значит, идем дальше…
1 сентября
Итак теперь, я «окрещен» и смело могу назваться боевым офицером. Приятно!
А главное — это сознание пережитого тяжелого испытания, выдержанного с честью, как-то подымает нервы и заставляет немножко ребячливо кичиться своей обстрелянностью перед теми, кто еще не был в огне. А испытание было серьезное!
Сначала мы все нервничали. Непривычно и жутко было глядеть на эти мрачные столбы дыма, подымавшиеся над опустевшими прусскими деревушками по мере нашего приближения к ним.
Чьи-то умелые и злобные руки раскладывали костры из мебели и домашней утвари в опустевших комнатах два часа тому назад еще жилого дома; лихорадочно плескали на кучи брошенных в бегстве вещей керосином и… через двадцать минут высокие дома, строенные в однокирпичную стенку, — горели с треском и свистом огня.
И жутко было проходить по улицам такой и мертвой и живой, в одно и то же время, деревни.
Нередко из окон горящего дома трещали выстрелы, и раненные глупой и трусливой пулей отправлялись в тыл, в лазареты, не дождавшись боя.
— Отцвели, не успевши расцвесть, — как шутливо сказал кто-то из раненных таким же выстрелом офицеров.
Но сколько обиды таилось в этом полушутливом, полуогорченном тоне!
Да и не глупо ли? Идти в бой и по дороге попасть под пулю агента-провокатора, каких много вертится в этих местах. Они имеют задачу: умелой провокацией вызвать репрессии на население с нашей стороны и партизанскую войну, вызванную ими со стороны жителей…
Но, тем не менее, приходилось беречься при проездах через деревни, и мы чуть не насильно оттаскивали нашего генерала, ехавшего во главе группы штаба, в глубину ее, и старались ехать возможно беспорядочнее, чтоб не попасть под караулящую офицера пулю.
А солдат не трогают! С расчетом действуют!
Кое-кто из жителей, рискнувших остаться на местах до нашего прихода, потом со слезами, странными на взрослом лице, рассказывал нам, что германское правительство обещает всем своим подданным, сжегшим свои дома и этим затруднившим и обозначившими (дымом) прохождение наших войск, громадных субсидий из имеющейся в виду контрибуции с русских…
Какова наглость! Так и хотелось поскорее схватиться с врагом.
Но прежде, чем сцепиться таким упрощенным способом, приходилось за пять верст от прусских траншей развертываться и двигаться цепями, врываясь в землю при каждой остановке и с замиранием сердца, еще не привыкшего к неиспытанным дотоле переживаниям, слушать, как над головами скрещивались с визгом и гулом прорезываемого горячей сталью воздуха незримые, колеблющиеся звуками разрывов, пути наших и немецких снарядов, жадно нащупывавших расположение батарей друг У друга.
Начиналась артиллерийская дуэль, откровенно говоря, люди всего хуже себя чувствовали именно под этим скрещивающимся визгом шрапнелей и гранат.
И понятно это вполне!
Самим стрелять нельзя — далеко еще. Остается лежать, делать маленькие перебежки и снова лежать бездеятельно и томительно!
И ждать, что вот-вот из одного такого дымного, неясных очертаний облачка, что с гулким и звенящим: «Бам-м-м!» остановилось над головой, пролетит неслышно и незримо смерть и застанет лежащего еще не выстрелившим ни разу.
И это сознание тяготило так же, как и ожидание пули в спину при проходе селения.
И когда после двух часов едва заметных бросков вперед и вперед, и после непрерывного гула и скрежета горячих шрапнелей, в этот нервирующий и пугающий невольно грохот влился методически спокойный (и, говоря откровенно, тоже жутковатый) треск пулеметов на нашем правом фланге, многие крестились и вздыхали полно и свободно, широкой грудью.
— Ну, слава Богу, вылежали-таки… Доползли! Теперь и нам дело будет.
И с деловитой нежностью спускали поставленные на предохранительный взвод курки.
А через полчаса артиллерийские выстрелы уже не нервировали. Было не до них. Нужно было стрелять, и чувство зверя и охотника вместе пересиливало инстинкт самосохранения и заставляло бешеными бросками двигаться все вперед и вперед, туда, где в глубоких окопах копошились острые кончики, затянутых в хаки касок и слышалась уже ясно (так было близко) ожесточенная ругань немецких офицеров, бранью вливавших воинский дух в своих волнующихся в ожидании наших штыков солдат.
Трус я или нет? Как я выдержу первый бой?
Вот мысль, занимавшая умы многих в тот день, когда наш отряд вплотную придвигался к занятому немцами Лыку.
Та же мысль была и у меня, когда я получил приказание ехать для связи к начальнику головного отряда, двинул своего громадного вороного мерина по взрытой колесами орудий широкой песчаной дороге, шедшей сквозь лес, ближайшая к немцам опушка которого была уже занята нашими цепями, на штыках вынесшими из лесу немецкие передовые части.
Вечерело. Громадный строевой лес напоминал родные сибирские леса, но вместе с тем дышал враждой. И линия железной дороги с порванными паутинами телеграфных и семафорных проволок, уходившая куда-то вглубь леса, вправо от шоссе, казалась ехидно притихшей и говорившей о чем-то жутком.
По канавам обочин, под корнями гигантов-деревьев, справа и слева от дороги, прилегли густые колонны резервов.
Люди притихли и угрюмо-деловым взглядом провожают несущихся по дороге всадников.
— Где полковник Н…?
— Там… Впереди… — откликается голос из груды запряжек.
Дальше. Редкий ружейный огонь, к звукам которого мы уже привыкли, становится близким.
И насколько прежде он был для нас, под ним не бывших, мало говорящим, настолько теперь, когда мы едем в его сфере, он очень значителен и пробуждает новые, неизведанные ощущения.
Оглядываюсь на своих ординарцев. Тоже деловитые до мрачности лица.
Поляна. Влево от дороги она тянется далеко вглубь леса. Зарево становится ярче. И верхушки деревьев по краям поляны четкими иглами рисуются на фоне длинного серо-красного неба.
Что это? Над головами с унылым свистом что-то проносится незримое… Вот она — первая пуля!
Пока не страшно!..
Бородатый урядник-донец, мой старший ординарец подъезжает и говорит актерским шепотом:
— В-дие, не слезать ли лучше? Изволите слышать?..
Действительно, в воздухе все чаще и чаще мелодичный звук:
— Тиу-у-у!.. Дзз!.. Тииу-у!
В этот момент слышим топот галопа, и откуда-то сбоку, из лесу, выскакивает группа всадников.
— Полковник Н… здесь? — спрашиваю я.
— Я самый! — откликается длинная фигура на крупной лошади.
Радостно подскакиваю к Н… и докладываю все, что нужно.
Стоя на поляне группой из двадцати, не меньше, коней, мы представляем заманчивую цель для немцев, но нас спасает густой лес и почти ночная темнота.
Но немцы хитры! Они заранее вымеряли расстояние и знают, что в лесу имеется большая поляна (та, на которой мы сейчас стоим), они учитывают по времени и по нашей силе ружейного огня обстановку и решают, что, пожалуй, в данный момент на этой поляне есть что-нибудь крупное.
И только что наши резервы, по приказанию Н***, подходят к поляне, как влево от нее, саженях в двухстах, слышится звонкое «баумм!», и искры всех цветов, загоревшись на мгновенье целым снопом, гаснут в воздухе. Лес гудит. Следующая шрапнель рвет верхушку ели уже саженях в ста, а третья — саженях в сорока гремит уже над поляной.
Также и вправо от дороги, в лесу все ближе и ближе к нам рвутся снаряды.
Становится не по себе.
Но пока даем себе точный отчет в своих переживаниях, седьмой снаряд начинает подъезжать к нам.
Подъезжать, именно, а не иначе.
Он колышет воздух, и ясно слышно это колебание, похожее на взлет гиганта голубя.
Уту-уту-уту-уту-у… И замолкает над головой.
И только мы успели подумать о том, где же будет разрыв, как над нами сверкнуло ослепительное бело-синее пламя и трескучий удар сжал весь организм животным страхом. И все мы пригнулись к седлам, как будто этим движением могли спасти себя от взгляда смерти, ставшей неизбежно и величественно перед нами. Кони присели от удара.
Судя по звуку, мы думали, что кругом все должно быть сметено этим адским ударом, но…
Когда затих шорох падавших пуль и веток, ими сбитых — все оказались целыми. Тем не менее, мы слезли с коней и засели под толстыми соснами. И продолжали писать и делать распоряжения под дикий грохот рвущихся одна за другой над поляной шрапнелей. А немцы, как будто заметив нас, дали, как назло, по этому месту двадцать три снаряда в течение шести минут. И все эти стальные жала, в пуд весом, осыпавшие нас дождем веток, раскаленных осколков и горячих, крупных пуль, за все шесть минут оторвали только один палец у высунувшегося из-под дерева стрелка и убили ни в чем не повинную лошадь, и то убили-то не сами, а обломком дерева, сбитого мощью разрыва и расколотого в щепы.
Какое сегодня число? То ли второе, то ли первое… С этим боевым крещением мы потеряли представление о времени… Как-то странно на душе. Она какая-то другая стала, не прежняя. Слишком много пришлось пережить за эти два дня боя. И теперь я, испытавший их, могу посоветовать каждому, кто недоволен жизнью, судьбой, сложившейся обстановкой, — попасть хоть на минуту под огонь немецких шрапнелей. Ручаюсь, что всякое недовольство жизнью выскочит у него из головы, и взамен появится яркое желание сохранить ее, эту драгоценную жизнь… Появится особое просветление духовное… Враги, мелкие враги, каких много накапливается за нашу жизнь, — покажутся друзьями, а причины иногда многолетней вражды — шуткой. И когда он, этот обиженный жизнью человек, выйдет живым из-под дождя свинца и стали, он будет другим и научится многому.
Этим и хороша война. Она учит жизни. Все мелочи ее, столь важные в мирное время, — получат свою настоящую оценку под этим вечным голосом Смерти и станут пустяковыми, незначительными в сравнении с жаждой жить, хоть как-нибудь, но жить…
Сегодня с утра в нашем штабе кипит работа. Все время являются полковые командиры со своими адъютантами и представляют списки потерь и награждаемых. Потери довольно крупные, но только в двух полках. В остальных, бывших в резерве, почти нет выбывших из строя.
Зато в той колонне, в которой мне пришлось пробыть почти весь бой, — выведено из строя четыреста тридцать человек. Убитых много, человек тридцать. Большинство — раненные легко. Но порядочно и пропавших без вести. Хотя с последними всегда путаница. В этом бою, например, офицер из полка, действующего в левой соседней колонне, попал к нам с остатками своей роты и у нас на позициях был ранен в ногу. Его отправили на наш перевязочный пункт, а сообщить в ту левую колонну — не могли, да и забыли. А назавтра после боя, т. е. сегодня, полковник Ц*** в списках потерь его полка помещает этого офицера в рубрике «без вести пропавших». И Ц*** прав; в его лазарете этого поручика не было.
Где же он? Я, видевший отправку раненого в Белосток, доложил, что Д*** (фамилия раненого) не пропал вовсе, а уехал в Белосток, отправленный туда нашим перевязочным пунктом.
И так несколько человек отыскалось в чужих лазаретах.
Отобьются от своих частей и готово — «без вести пропали».
После боя у всех какой-то особенный вид. Даже не говорят о своих переживаниях, Посмотрят друг на друга двое, улыбнутся, и обоим ясно, что они одинаково перечувствовали и пережили оба одно и то же. И появляется какое-то чувство сплоченности — боевой дружбы.
Замечательно еще и то, что совершенно теперь, после этого «экзамена», изменились взаимоотношения старших и младших.
Нет былой суровости, частой в мирное время и для поддержания дисциплины необходимой. Теперь она, эта дисциплина, стала понятной; необходимость ее сознана каждым солдатом. А потому и незачем вдалбливать ее.
Люди подтянулись духовно. Правда, щегольства нет. Да оно и невозможно теперь. Правда, есть маленькие недочеты в выправке, но… Зачем оно теперь?
Важнее всего то, что солдат, отдающий вам честь, смотрит на вас не тупыми казарменными глазами, а как-то «по-новому». И в его «понимающих» глазах видно чувство товарищества с офицером.
Еще бы! Ведь в окопе не раз офицер и прикурит у солдата, и прижмется к нему, чтоб потеплей было, и последним куском шоколада поделится.
Впрочем, до разных «шоколадов» наши стрелки не охотники.
— Это не для нас! — говорят.
— Он нам ни к чему — щиколад-то…
Сегодня у нас великолепный обед был.
Наш конвой — донцы раздобыли где-то массу консервов с немецкими клеймами.
С «немецкой стороны», конечно!
Но так как вокруг нас все брошено, подожжено и все равно сгорит, то мы с чистой совестью раскупоривали за столом и икру из помидоров, и кильки, и дорогих омаров.
Теперь выяснилось, что наша демонстрация к Лыку и бой под ним здорово напугала немцев. Охватывавшие левый фланг Ренненкампфа силы отошли назад и кинулись на нас, т, к. мы угрожали их тылу.
Под давлением этих сил мы отошли к себе, в Граево, на укрепленные позиции.
Будем ждать дальнейших событий.
Пора и спать. Закончу до завтра.
2 сентября
Оказывается, уже сентябрь наступил!
Сегодня утром, когда я вышел на двор, чтобы поставить на солнце печатаемые карточки, меня поразило лошадиное столпотворение, происходившее там.
Лошади всех мастей, типов и величин были сведены на маленькую площадку за углом нашего здания.
Что такое это?
Оказывается, это немецкие лошади.
Откуда?
А позабирали на полях, брошены были…
Кем? Почему? Зачем и нет ли тут чего подозрительного?
Ничего! Просто, очевидно, прусские разъезды, захваченные и окруженные нашим быстрым и энергичным наступлением, не смогли пробиться к своим и побросали своих четвероногих «друзей». А сами переоделись в штатское, попрятались по подвалам и куткам и затаились, выжидая удобного момента для прорыва.
Их лошади, предоставленные сами себе, бродили по полям и дружили с брошенным населением, коровами, свиньями, овцами и птицей. Всю эту живность мы захватили с собой, в плен.
Мой вестовой с сияющей физией доложил мне:
— Ваш-брод, а я для вас трех коней взял… Какой поглянется больше…
И действительно, выбрал добрых лошадей. На одной из них, сером «Пленнике» я много работал. Только сначала мы друг друга не понимали, ибо немецкая выездка несколько отличается от нашей.
Многие офицеры даже в пехоте имеют лошадей теперь.
Да что офицеры!
На улице, у костела — целый базар. Вернулись успокоившиеся теперь насчет немецкого нашествия жители и занялись своими делами.
А так как население Граево состоит почти исключительно из бедноты еврейской, то, конечно, их постоянное занятие — это мелкая торговля, где товару на целковый и барыша на пятак.
Теперь все эти «купцы» прицениваются к лошадям, которых навели на базар владельцы солдаты; гвалт, крик, божба и ругань и терпкий запах затхлой грязи и чесноку надо всем.
Сегодня после обеда летал с летчиком Н. в сторону Лыка на разведку. Взяли с места большую высоту, чтоб не попало от своих и, уже пролетев окопы, немного снизились.
Быстро принеслись к Лыку. Снизились еще, ожидая в то же время, что вот-вот откроют огонь откуда-нибудь. Дело в том, что для ясной разведки необходимо опуститься ниже, а то плохо видно. А так как для безопасности мы летим на большой высоте и не видим до спуска, что делается внизу, то можно совершенно нечаянно и неожиданно налететь навстречу огнем.
Мы покружились над Лыком. Тихо! Еще ниже… не стреляют! Тогда мы осмелели и почти проскребли по крышам, давши три круга над брошенным городом.
Немцев не было. Трупов тоже, кроме лошадиных, — тех множество! Здания кое-где тронуты нашими трехдюймовками. Окопы полукругом на западной окраине города — глубоки и пустынны. Только кое-где торчат из темной сверху ямы разбитые станины брошенных орудий… Но почему тут пусто?
Берем направление на Летцен. И через час в поле то под нами, в вогнутой чаше буро-зеленой земли, закопошились ползущие змеи колонн. Это были немцы. Как мы теперь поняли, они были в Лыке, небольшими силами и, испугавшись напора наших штыков, очистили Лык, чтобы отойти на свои спешащие к ним подкрепления. И наш отход от Лыка, после удачного боя, стал понятен, когда мы увидели идущие к Лыку громадной длины колонны.
Если б мы заняли брошенный Лык, наш фронт имел бы длинный, но слабый выступ и мы понесли бы большие потери совершенно зря.
Вернулись мы через три почти часа, сдали в штаб свои сведения, и теперь я лодырничаю. Зато адъютантам — дела по горло!
На позиции выдвинут один полк и дежурная полевая батарея. Остальные все стоят по домишкам и сараям в Граево. Люди отдыхают и едят вдоволь немецкую живность.
Сегодня за день поймали трех шпионов. Повесили.
И откуда их берут столько!
Куда ни плюнь — шпион!
Наши лазареты пусты. Раненых отправили по госпиталям внутрь России. Убитые уже зарыты. Окровавленные носилки, со следами чужих страданий, выставлены сушиться на яркое солнце.
Погода нас балует пока…
3 сентября
Совсем — мир! Все тихо. Противник далеко, и даже его разъездов нет поблизости. Утром сегодня Граево имело совсем мирный вид. Всюду торговля. Догадливые «купцы» придумали новый вид торговли.
У открытых дверей своих лачуг, в тени тополей и акаций, уже золотых совсем, они накрыли чайными приборами хромоногие столики.
Поставили около самовары. Притащили скамейки. На столиках разложили порциями деленный белый, пресный хлеб и грязноватый сахар. И вся улица превратилась в первоклассный ресторан (конечно, не по качеству его, а по количеству публики и ее оживлению).
Предовольные стрелки «барами» подходили к столикам, выбрав из многих один, себе по вкусу. Садились и до отвала надувались чаем, выпивая по десять кружек подряд. Потом платили, отсчитывая за кружку чаю по 2 копейки, за кусок хлеба — три копейки и за сахар — по копейке кусок. Потом снова шатались по улицам и, поддавшись на зазывания другого «ресторатора», вновь садились, гордо и самодовольно оглядываясь вокруг, за столик, чтоб проглотить еще две-три кружки в сотый раз разбавленного в чайнике чая.
Помешал аэроплан. Конечно, прусский. Зажужжал где-то в синеве с булавочную головку видом. В окопах затрещала стрельба. Бухнула, солидно и веско, трехдюймовка; за ней еще и еще… Повертелся ехидный «Таубе» и ушел на запад, к своим.
А к вечеру еще два показались. Один подбили. Летчики убились. Один из них (их было двое) совсем не похож на немца; по типу, скорее, итальянец. Лицо смуглое, смелое.
Даже стало жалко этого незнакомого покойника.
Получена сегодня телеграмма о моем переводе в строй, куда я начал проситься еще в конце июля. Полк мой (хотя и незнакомый мне совершенно, но все же «мой»!) — где-то в Австрии.
Но сейчас ехать туда — целое кругосветное путешествие будет, особенно принимая во внимание повсеместное нарушение правильного движения поездов. Генерал предложил остаться пока у него. Остаюсь!
С утра до полдня и с полудня до ночи — мир и покой. Даже «Таубе» пропали где-то. Затишье перед грозой, пожалуй.
5 сентября
Ну, так и есть! Сейчас уже час ночи, а мы со вчерашних двух часов утра на ногах. Только легли — трещат телефоны. И как-то особенно тревожно, по-недоброму.
Кинулись к ним. Доносят с позиции, что на линии железной дороги на нашу заставу налетел блиндированный автомобиль с двумя прусскими офицерами и десятком солдат. Дьявольская машина проскочила вглубь наших позиций, но на окопах резерва перевернулась, налетев на засеку. Немцы отчаянно дрались, но все же одного офицера удалось взять живым. Его привели к нам. На допросе — молчит, посмотрит победоносно, очевидно, что-то знает о большой пакости, готовящейся ими нам.
Так ни слова и не добились от него.
Пока ликвидировали эту историю, наши секреты открыли приближение немецкой пехоты.
Завязался бой. Через час враги отошли куда-то вглубь темноты и леса. Приказано было усилить дежурный отряд на всякий случай.
В пять часов утра на флангах нашего расположения появилась вновь пехота противника. Но, очевидно, была своевременно и дружно встречена нами и затихла.
Прибыл спасшийся казак из захваченного немцами разъезда.
Еле-еле прорвался; весь в грязи и крови. Лицо — полушальное. Видно, что много передумал и перенес за те минуты, пока взмыленный и раненный в шею дончак уносил его от гикающих и стреляющих немцев.
Шинель в трех местах как чем-то острым проткнута — так метко били прусские винтовки…
Докладывает генералу, а голос и слова путаются.
У немцев большие силы подходят. Здесь, около нас их пока немного, не больше бригады, но в Лыке уже сегодня с вечера стоят две дивизии пеших и полк конницы. Орудий «подходяще» — т. е. батарей шесть, если не больше. Но видели шесть.
В местечках у границы, брошенных немцами уже давно, появились жители — немцы. Зря не появятся; очевидно, рассчитали, что теперь безопасно можно вернуться. Отсюда вывод — немцы наступают большими силами и бьют наверняка. Если же это наступление было бы лишь демонстрацией — население бы не вернулось на свои сожженные поля.
Всю ночь и до позднего утра некогда было стакан чаю проглотить — так работали, принимая меры к улучшению и усилению упорной обороны. Днем был коротенький бой наших разведочных частей, определявших боем силы и намерения противника. Вышло, как мы ночью и думали; по излюбленной своей манере немцы затевали охват наших флангов и заманивали нас на свою средину, скрывая за ней сильные укрепления, заранее сделанные и маскированные. Если бы ночью наш отряд неосторожно атаковал отходивших немцев, они потянули бы его на свои блиндажи и сдавили с флангов. И по всей вероятности, на плечах бы у остатков нашего полка ворвались в Граево. Вот что значит осторожность и обдуманность, профанами принимаемая за слабость.
К вечеру бой окончился; и мы и немцы затаились в своих окопах. Наши летчики определили силы немцев против нас не менее двух корпусов!
Ну, что ж! Посмотрим, что дальше будет. А стрельба опять началась. Дрожат стекла в рамах. В буфете звенят молочники, стаканы и рюмки. Население выметается из поселка. Недолго поторговали! Несут на вокзал раненых. Там в зале второго класса горят снятые с вагонов фонари, ибо электричество не работает.
На полу, в полусумраке, копошатся на кучах свежей и такой душистой соломы раненые. Такие же бредут по путям, спотыкаясь о рельсы. А на западе горизонт пылает кострами и рассеивает заревом наступающую рано темноту. Началась артиллерийская дуэль.
Значит, немцы готовят атаку. Вся дивизия ушла на позиции. Наш штаб, in corpore, собирается туда же…
Вещи и все наше имущество останется здесь, с денщиками и, наверное, уйдет в д. Р*** за 8 верст назад отсюда, вместе с отодвигаемыми для безопасности обозами.
С собой мы не берем ничего. На сколько времени мы едем — кто скажет!
Бой может решиться сегодня же, а может растянуться и на неделю…
У седел — «непромокайки», т. е. плащи из брезента и виксатина. В кобурах — шоколад и сухари. Вода везде будет.
Правда, в автомобиле, который едет на позиции вслед за нами, есть кое-что, но… доберись-ка до него во время боя.
Прощайте, приютившие нас чужие, но уютные комнаты! Быть может… Тьфу, зачем думать об «этом»… Суждено умереть — так умрем, а заранее плакаться — только нервы портить… А они будут нужны теперь… Иду, иду!
11 сентября.
Ну, сегодня, кажется, будет тихо… Да и пора уже! Ведь пятые сутки идет бой. Сейчас стрельба стала ленивой и редкой. Впрочем, еще вчера с вечера она начала затихать, будто б сама по себе, независимо от хода боя. И в этих отрывочных перестрелках, быстро вспыхивавших и так же быстро затихавших, чувствовалась общая массовая и неодолимая усталость, постепенно охватывавшая те десятки тысяч еще уцелевших людей, что толклись здесь, напрягая все свои силы, подряд четверо суток.
Четверо суток, как пьяные в дверь, ломились немцы в узкий перешеек суши между болотистых берегов реки Бобра. И четверо суток запирали своими телами этот перешеек наши железные стрелки. Они еще в Артуре научились этой каменной неподвижности, о которую разбивались вдребезги полки и бригады рослых немцев. Но эта неподвижность не была мертвой, и часто, когда выхлынувшие из своих окопов волны серых немецких шинелей начинали хлестать по брустверам наших окопов, — скуластые, с уверенными зоркими глазами сибиряки неожиданно кидались в такую мощную контратаку, что через четверть часа кипевший свалкой и движением промежуток между ихними и нашими окопами — стихал, весь устланный разбитыми и распоротыми телами. В этих атаках все дерущиеся убедились в исключительной способности нашего солдата — драться грудь на грудь штыком. И в то время как здоровенный и длинный пруссак нелепо размахивал в стороны тесаком — штыком, обращая его в рубящее оружие, — наш маленький коренастый и скуластый, даже не стрелок — «стрелочек», — угрем проскальзывал под сверкающим кругом этого тесака и ловким, хладнокровным взмахом вгонял свой четырехгранный штык — стилет в незащищенную грудь немца. Также коротко выдергивал и, оставив обалдевшее, падающее тело, кидался к другому, ловким взмахом приклада отбивая удар сбоку.
В ежедневных штыковых боях все шло в ход. Давали друг другу подножки, хватали за горло и валили под себя, били по кричащим ртам обломками дерева и рукоятками револьверов. И, шатаясь как пьяные, с невидящими от горячего, красного тумана глазами снова ложились в сырые окопы и ждали новой атаки…
Бывало, когда немцы, подготовляя атаку, уже очень сильно начинали заливать нас свинцом, развивая ураганный огонь, стрелки не выдерживали и как камнями швырялись во внезапную атаку. А так как до вражеских окопов было близко, то немцы мгновенно прекращали огонь, чтобы успеть привинтить штыки для встречи наших.
А наши, напугав и прекратив ненавистный и жуткий огонь немцев, снова ложились в свои окопы, потешаясь над поневоле притихшими немцами. А те ругались и снимали штыки, чтоб продолжать огонь.
На всякого мудреца — довольно простоты! Немцы, приготовившие на изумление и страх всему миру свои чудовищные, знаменитые мортиры в шестнадцать дюймов, упустили из виду совершенно, что их штык негоден для боя. Одетый на винтовку, он мешает стрелять, а снятый — заставляет опасаться внезапной атаки противника.
Вот тебе и идеальная армия!
Вообще теперь у нас прилив бодрости. Мы видим, что хваленые немцы не так страшны, как их долго малевали повсюду. Правда, они дерутся зверьми, но… не в одиночку! И часто они идут в атаку вдребезги пьяные и понукаемые сзади пощечинами лейтенантов…
Да вот и теперь. За четверо суток мы не уступили им ни пяди. Правда, все время колыхались, то мы отодвинемся, то они отойдут. Но вот теперь, когда затихает уже бой, — результатами своих атак немцы похвалиться не могут…
Но до чего же мы устали за эти дни!
И как хороша жизнь, и какие мы недалекие людишки! Ведь вот только теперь, после того, как стихла четырехдневная бойня, — мы начинаем ощущать ярко, всем существом своим, что значит жить!
Какое значение имеют все эти незаметные на взгляд и привычные мелочи, на которые в мирное время мы не обращаем внимания. Ну, что такое умывание! И вот сейчас, когда лицо заскорузло под слоем налипшей грязи и пота; когда руки, обветрившиеся и потрескавшиеся от мокроты и грязи, болят — это умывание — большое наслаждение. И душистое (еще из России) мыло так и ласкает взгляд…
А возможность ходить не согнувшись, во весь рост, не боясь пули? Ведь это же наслаждение, понятное только для гнувшихся в течение девяноста двух часов спин…
Когда я переменил смокшую и ставшую коробом одежду и белье, — я точно в рай попал.
И страшно захотелось спать — до того сразу же разнежилось усталое тело.
Нет, хороша жизнь! И война учит ее любить.
Сейчас у нас доброе и жизнерадостное настроение. Правда, немного попортили его принесенные в штаб адъютантами полков списки потерь, в которых порядочно знакомых близко, еще вчера живых имен… Но что делать! Мы привыкли как-то. Машинально крестимся, когда читаем знакомое имя в списке убитых и даже… (да простит нас, Боже) вспоминаем порой с грустью:
— Эх! Плакали мои двадцать пять рублей, взятые покойником на днях еще, до двадцатого.
Да. Привыкли. А впрочем, и действительно, о чем горевать? Сегодня он, завтра, а то и сегодня же к вечеру, и я за ним, в братскую могилку… Мы здесь все равны — и живые и мертвые.
Только мертвым спокойнее и, наверное, под землей теплее…
Сегодня отошли с позиций. Приказано. Мы все будто озверели — до того прицепились к этому кусочку земли под нами… Люди в окопах стреляли, вопреки своему обыкновенному добродушию, с какой-то мрачной озлобленностью.
Раненые, очнувшись на перевязочном пункте, первым долгом спрашивали:
— А что немец шибко прет? Наши не отстали?
Когда пришло приказание отойти, нам казалось, что бой выигран нами, и потому на нас это приказание повлияло ужасно скверно… Генерал сел и заплакал…
Полковник, мрачный, с крепко сжатыми губами, бегал взад и вперед по полянке и мял судорожными жестами свои руки.
Но… наше дело было исполнить приказание, и мы, не добравшись, отошли. Зачем, мы не знаем, но предположим, что на нас уж очень большие силы засели. Там-то, вверху, виднее.
Но вот объяснить отходящим солдатам цель отхода мы не могли, ибо сами ее плохо знали. И со смущением избегали вопроса:
— А што, Ваш-брод, пошто это нас назад повели?
Приходилось отвечать:
— Так, брат, надо. Там начальство лучше нас знает, что делает.
И солдат соглашался.
— Это точно, што ему виднее… Да больно уж отходить совестно полячишков-то… Разграбят их немцы… — вырывалось у него.
И его психология бойца за свою землю была проста и резонна и не вязалась в уме со стратегическими задачами.
Впрочем, они молодцами! Оригинально, что когда мы дрались на «немецкой стороне», они, эти железные стрелки, дрались храбро, но добродушно. И бывало, когда под нащупывающее дуло его винтовки подвертывалась длинновязая фигура немца, он шептал, стреляя:
— Эх, ты, немчура… Ну, чего на пулю лезешь.
А тут, в последних боях, когда остервенелая волна серых фигур хлестала через бруствера из окопов и плыла с нестройным гамом на наши окопы, размахивая оружием, — наши «бородатые дети» железной стеной вырастали навстречу и шли в такую мощнозлобную контратаку, что ее не могли остановить даже пулеметные струи, и немцы, оставив между нашими и своими окопали кучу исковерканных штыками тел, — кидались назад.
И чуть не арканами ловить и сажать в окопах приходилось озверелых, порывающихся вперед солдат.
Вот что делает защита «своей стороны».
Да иначе и не может, впрочем, быть. Народ землепашец, кормящийся своей полосой, особенно ярко должен ненавидеть врага, вступившего на такую же соседнюю, но все равно «нашу полосу».
13 сентября
Вчера было попал в «переплет».
Послали снять маленькую, но важную схемочку, на нашем правом фланге и несколько впереди его.
Днем было опасно. Леса вокруг кишат прусскими драгунами, и они, конечно, не позволили бы нам это проделать.
И вот вчера с вечера я уехал с тремя бородатыми донцами-ординарцами. К сожалению, это были люди третьеочередного, т. е. запасного полка. Почему к сожалению, сейчас поясню.
Благополучно мы выбрались из леса; там, на опушке оставили коней с одним казаком. А я, с двумя, пошел на те высоты, которые мне надо было исследовать. Съемка ночью почти невозможна, и мне нужно было только определить степень проходимости болота перед ними, что я мог сделать и в абсолютной темноте. Быстро прошли; выломали ветки по дороге. Высоты были не заняты противниками, надо было торопиться домой с этим важным известием. Добрались до коней. Сели и тронулись назад.
Ночь была лунная, но немного пасмурная, и луна вылезала поглядеть на нас лишь изредка. Лес «молчал и что-то думал важное и спокойное. С болот тянуло землистой, влажной сыростью и пряной зеленью болотных трав. Чистый воздух осенней ночи так и лился в жадно дышавшие легкие…
И как-то трудно все это вязалось с представлением о войне. Нелепым казалось, что вот мы, живые, бодрые, сильные люди, ходко едем по ночному лесу; наслаждаемся свежей прохладой, смолистой и бодрящей нервы. И вдруг — огонек из-за куста, короткий стук, и все, понимаете, все: небо, луна, красивые сонные группы деревьев, мягкая, влажная дорога, крик коростеля на болоте и свет гнилушек на старых пнях — все исчезнет. Будет — неощущаемым мною, ненужным для прерванной жизни.
И вдруг, будто б в pendant этим мыслям, — слева от дороги, в лесу, судя по силе звука, саженях в стах от нас, стукнул выстрел. Другой, третий, и посыпались, как дробь.
В первый момент мелькнула мысль:
— По ком это?
Но взвизгнувшаяся резко пуля сделала вопрос нелепым.
Спасение в быстроте… Наши недалеко… — прошел готовый рецепт в голове и само собою вырвалось:
— В карьер… Марш-мааарш!
Татата татата-татата, — посыпалась дробь уходящих во весь мах копыт.
А сбоку — все:
— Тук… Тук тук… Тук…
Вздрогнул конь. На ходу как-то странно передернулось мощное, быстрое тело… Валюсь!
Удар по всему телу оглушил. Руки врылись в сырой песок и больно хрустнули плечи.
Вскочил — все дело! Конь храпит — лежит на боку.
— Ах, черти! Конь-то добрый…
А по дороге все дальше уходит стук копыт, подгоняемых «козьими лапами» донских маштаков.
Кричу, забыв осторожность:
— Стой-й! Стой!!
Куда там!
И вот на дороге — я один… Ночь. Павший конь у ног, и где-то по мне кто-то метится, и треугольная мушка нащупывает контур моей фигуры. Два выстрела, уже по мне, это ясно, прекращают мое «обалдение».
Бегу к канаве у обочины шоссе. Она полна воды. Щепочки и пена крутятся в полусвете дымчатой луны.
Неужели в эту грязь лезть? Бр-р!
А не свои ли это стреляют? Бывает так, что и свои заставы обстреливают ворочающиеся разъезды. Да и немудрено! Лес вокруг. Жутко и темно. Шорохи непонятные вокруг ходят… Закачался куст вдали… — не немец ли ползет… Впились руки в шейку приклада, и указательный палец ищет собачку… Появилась луна на минуту, и причудливые, скользящие блики пробежали по спящим пням и кустам впереди… Жутко молодому солдату на посту… Нервы натягиваются все больше. Вот что-то ухнуло вдали… А настороженное тело так и пронизало — приподняло в оборонительном положении… Кажется, крикни кто сейчас сзади, ткни подмышку — и… так и заорет с испугу на весь лес… И вот в этот-то момент топот курьера на дороге впереди.
— Немцы!! — бац-ц! — грохнула винтовка и сама застреляла, будто бы куда он стреляет, зачем, — есть ли смысл в его выстрелах — солдат не знает… Просто, пока гремит винтовка, ему не страшно…
Вы скажете — трус? Нет! Он зверем бился на штыках вчера… Но то было днем, то было при громком «ура», то была атака.
А в лесу, ночью — можно струсить невольно.
Выбежала из ближайшей лощинки вся застава.
— Что ты? По ком?
— Вон, драгуны… Немцы… Сам видел, — убежденно откликается часовой.
И в результате, часто по пустому месту, сухо щелкают винтовки. А бывает, что из-за такой перестрелки и бой загорается.
Вот на основании быстро мелькнувших в голове этих соображений я и крикнул наудачу:
— Эй, вы, — чего же вы по своим, дурачье, стреляете? — наудачу. Свои, так замолчат, думаю.
Как заговорили винтовки по мне! Как я в канаве очутился по грудь в воде — сам не знаю. Вода залезла злым врагом в сапоги, под одежду…
И вот, хотя я и не знал, куда и по кому стрелять, — но все же я выхватил браунинг и начал пускать пулю за пулей, просто на выстрелы. И когда резко и четко хлопнул мой первый выстрел, мне стало спокойнее, и чувство беззащитного животного под градом дроби исчезло. Отстреливаясь, я начал «отступать» вдоль по канаве. Весь съежившись, по грудь в воде, увязая в глине, я пробирался в направлении к нашему биваку.
Выстрелы сзади смолкли. Тогда я выскочил из канавы и пошел уже по дороге. Вдруг навстречу человек пятнадцать стрелков.
— Откуда вы и куда, братцы?
— Да мы ходили в разведку за правый фланок, — отвечает смышленый старший.
— А теперича идем в сторожевые.
— А где оно?
— Да «вперед».
Что за черт? Значит, свои стреляли? Не может быть! Очевидно, разъезд немецкий путается тут где-нибудь, пробравшись сквозь «сторожовку»..
— Слушайте, ребятишки, вам холодно; погреться хотите?
— Гы-гы… — принимая за шутку, весело гыкают стрелки.
— Айда немцев ловить.
Посвящаю их в происшедшее и в свой план.
Разведчики одобрили единогласно.
Мы быстро дошли до того места, откуда меня обстреливали. И редкой цепью раскинувшись, стали пробираться по лесу.
Чу? Что это… Шорох… Конь фыркнул.
И вдруг дикий, перепуганный крик:
— Halt… — и вслед за ним еще более испуганный — Russen!!
— Бей их! Ура! — затрещал бой. Луна куда-то к черту завалилась, как назло, и настала в лесу такая тьма, что разобрать, где кто кого нашел и бьет, сколько немцев, где моя цепь остальная, кроме трех идущих за мной людей, — было положительно невозможно.
Через десять минут обстановка выяснилась. Мы наткнулись на схоронившийся в болотистом овражке маленький разъезд, человек в двенадцать. Немцы не ожидали, что их так скоро откроют, и потому наше нападение их деморализировало. Пятеро остались под штыками на месте. Остальные бросились кто куда.
За ними побежали мои разведчики. Лошадей немцы побросали всех. Только один отчаянный драгун попытался продраться сквозь лес на дорогу верхом, а не в поводу.
Конечно, лошадь упала в яму и его придавила, но не сильно, ибо когда мы вчетвером побежали к нему, он встретил нас револьверными пулями, поднял лошадь пинком ноги в живот, вскочил в седло и хотел скакать снова; но мы перебегали за деревьями и не выпускали его из овражка, желая взять его живым.
Но в ответ на наши предложения он плевался, как бешеный кот, и стрелял по нашим теням. А лошадь его запуталась окончательно в болотистом кустарнике и стала на месте. Слышно было, как пыхтел сердито всадник и что-то бормотал про себя. Обращаюсь я к стрелкам и шепчу:
— Кто отличный стрелок — жгите его по руке, только полегче, в брюхо не всадите.
— Сейчас, — шепчет один скуластый сибиряк.
Бам! — пруссак выругался, а мы кинулись на склон овражка и окружили его.
Он сидел на замученной лошади и тряс правой рукой перед собою. При нашем приближении он медленно слез с коня и ждал нас. Мы подняли его тяжелый револьвер, выпавший из пробитой руки.
Тогда он мрачно посмотрел на нас и вдруг решительным жестом снял левой, здоровой рукой каску с головы, швырнул ее на землю и с сердцем пнул ногою, с досадливо укоризненным возгласом:
— Эх, Вильгельм! Вильгельм!
Это было так неожиданно и так искренне вырвалось у него, что пленник сразу же расположил к себе солдат. Они ободряли его:
— Не бойсь, не съедим, белобрысый… А это ты правильно… Присягу свою сполнял вовсю, кабы не сдурил с конем, ушел бы… А свово Ваську тоже правильно, потому, кабы не он — сидел бы ты дома у себя чичас, да жену щипал…
— Да, будь он проклят! — вырвалось чисто по-русски у пленника. Мы обомлели.
Он оказался поляком из Познани, долго жившим в России и только с войной из нее выехавшим. Стрелки приняли горячее участие в его плачевной судьбе и, пока мы пли до штаба, подружились с ним вовсю.
В штабе я всех нашел какими-то опечаленными с первого взгляда. Но только с первого, так как со второго они все сорвались с мест и кинулись к мне:
— Да вы целы?
— Не только я цел, но и пленника привел, — говорю.
— А что же эти мерзавцы прискакали и наврали, что вас убили и что вас из-под огня вынести нельзя было?
Я рассказал, как убедительно я орал «стой»!
Трусов ординарцев поставили сегодня «под шашки», а старшего из них, урядника, разжаловали.
Мой пленник дал нам, очень охотно, между прочим, ценные и подробные сведения. По его словам, против нас наступает особый отряд, очень большой; идет он брать крепость Осовец. Сначала все шли вместе под командой генерала Гинденбурга, а вот три дня уже, как разделились, и главные силы, как говорили среди офицеров в прусском отряде, пошли брать город Петербург, уже осажденный, якобы, немецкими десантами, высаженными в Финском заливе.
Пленник, это было видно, не врал, а просто по принятому в прусской армии обыкновению солдат морочили якобы совершенными уже победами, для ободрения духа.
Так, например, было: при каждой действующей армии у них печатается газета для солдат. Но для каждой армии своя. Причем держатся доморощенные редакторы такой системы — в южной, допустим, армии, пишут про победы северной, соседней. А в той — наоборот. И солдаты южной армии серьезно убеждены, что их северные коллеги уже под Петроградом. Ну, а те — что южане уже под Одессой. И бедные немчики задирают нос даже в плену и говорят гордо:
— Все равно выпустите, как Петербург ваш падет.
И смех и грех с ними!
Сегодня лежу отдыхаю. Слегка простудился вчера, проходивши всю ночь в мокром до ниточке белье и платье. Теперь сушусь и греюсь.
Снаружи меховым одеялом, внутри — аспирином. Пора спать. Авось Бог пошлет тихую ночь. Что, если б все бои днем бывали… Хорошо бы!
Кажется, сегодня пятнадцатое… А впрочем, не ручаюсь. При таком положении — немудрено и счет потерять текущим дням.
До сих пор я умудрялся все-таки писать в относительном покое. Сейчас же — идет бой. Мне и моим ординарцам работы почему-то сегодня мало. Вчера зато весь день носились по всем направлениям…
Впереди, в версте от того места, где лежали в лесу мы, — немцы пытаются выковырять нас штыками и огнем с окраины разбитого вдребезги селения. Огонь сильный, но прерывистый какой-то. Должно быть, для перебежек, что часто делают немцы. У нас, наоборот, во время перебежек вперед нарочно развивают адский огонь.
Мы принуждены дать дорогу на Осовец немецким корпусам и отошли к северу. А немцы жмут наш левый фланг, стараясь одновременно и отбросить нас возможно дальше от дороги, чтобы обеспечить свой левый фланг и прижать нас к оперирующим севернее нас своим силам, лезущим через Августовские леса, судя по всему, к Сувалкам.
Если обращать внимание на все мелкие стычки с небольшими партиями немцев, то, во-первых, выходит, что мы деремся чуть ли не десятый день подряд и что немцы проникли всюду — и на флангах и в тылу; все время полкам приходится менять позиции и вести бой впроголод. Где найдем теперь наши обозы! Вокруг много германской конницы, и держать обозы при себе нельзя; они отодвинуты назад. Со стороны Осовца слышен глухой гул; тяжелая артиллерия, должно быть, бьется. Кстати, о ней. В последние дни пруссаки неоднократно посылали нам свои восьмидюймовые подарки. Даже люди с железными нервами с трудом владеют собой, когда около происходить разрыв. Сначала слышен гул полета, и вдруг земля будто бы харкнет вверх бурым пламенем, сизой тучей дыма, осколков и камней. Грохот разрывов в десяти саженях положительно невыносим.
Человек на мгновение теряется совершенно. Не слышит, не видит и не чувствует ничего, весь поглощенный этим тысячепудовым грузом звука.
Часто такие разрывы, не причиняя прямого вреда своими осколками, рвут своим гулом барабанные перепонки, вышибают сотрясением воздуха глаза и заставляют расходиться черепные швы. Все эти повреждения зовутся контузией. И раньше, когда война была для меня нечитаной книгой, я был убежден, что контузия — это форменный пустяк. А теперь согласен с нашим общим мнением, что лучше любая рана, кроме живота, понятно, чем сильная контузия.
Даже сначала перенесенная легко, она потом, через год и даже через два, скажется. И были случаи, когда жертвы этих воздушных волн кончали жизнь в сумасшедшем доме!
Такие снаряды хороши для крепостей! Для наших ниточек — окопов — они все равно, что пушка для воробья и даже еще более безвредна. Выроют яму, в нее уже человек пять залезло — окопы копать не надо! Зато шрапнель вредит много, особенно на открытых местах. В лесу же она тоже мало убийственна.
Вообще, как говорят наши артиллеристы, германские снаряды полевой артиллерии мало «убойны». Наши больше. Хорошее слово «убойный»!
В мирное время пахнет мясной лавкой, а теперь — чем-то успокаивающим. Очевидно, этой малой убойностью объясняется то, что мы мало сравнительно теряем людей, а кого теряем, так все с пулевыми ранами. Стреляют немцы метко, но… низко. Большинство пуль рикошетит. Остальные бьют землю перед окопами. Сегодня утром я ходил туда к товарищам. У них весело даже. Только вот изводит холод и отсутствие даже небольших удобств. Скучно без «печатного слова». Клочки газет тщательно прочитываются и только тогда уже идут на «козьи лапки». Вот и насчет козьих лапок слабовато. Что было с собой табаку, вышло до крошки. Запасы далеко, в обозах. А не курить — немыслимо, когда холодно, пусто в желудке и нервы к тому же шалят с усталости. Вот еще один бич наш — усталость!
Чем страшна война? Спросят нас дома, наверное, мирные граждане.
И, понятно, будут удивлены, узнав, что мы все боимся усталости. Здоровое, бодрое и еще крепкое тело — все на войне.
Мирные, спокойные, прозябавшие всю жизнь свою люди не поймут, почему это так. Им, далеким от наших непередаваемых переживаний, от этих простых, но полных ужаса сцен боевой жизни, — будут интересны наши психические потрясения; будут захватывать сцены ярких, потрясающих, но мало правдивых ужасов. Война! В этом слове для них так много любопытного, жадным извращенным любопытством.
Они будут холодеть от ужаса, когда им будут говорить об оторванной снарядом голове у солдата, только что закурившего трубку. Они будут нервно ежиться, слушая описание мрачной казни семерых сразу шпионов и тому подобную «навороченную» страхами чушь. А вот они не поймут того жуткого, холодного уныния, которое охватывает в бою, когда усталое тело отказывается двигаться и работать, а помутневшее соображение — ясно и точно воспринимать ощущения, оценивать изменение обстановки и думать о чем-либо… Руки свинцовеют. Глаза слипаются. Во всем теле неприятное, разъедающее впечатление какой-то слабости, соединенной ступой болью при каждом движении руки… Не хочется есть, курить, даже согреться не хочется. Вокруг идет бой. Нужно быть остро и ясно напряженным всему. А тут — «все равно… Лишь бы конец скорей какой-нибудь… — тупо думается усталой головой. Быть энергичным, сильным — невозможно…
Все, все устало! И вот с таким телом, с такой головой — попробуйте сесть в седло, выслушать внимательно и здраво получаемое приказание, карьером пронестись три-четыре версты по обстреливаемым пространствам и точно передать приказание, не спутав ни полслова, т. к. эти полслова могут погубить все дело. И если вы сумеете себя заставить сделать это, возьмете в руки раскисшиеся мускулы и спутавшиеся нервы — ваше дело еще не пропало — вы еще имеете остаток силы.
Но нынешняя война не знает коротких боев. Сошлись, сцепились и… дней пять, а то и всю неделю идет сплошное напряжение многотысячной массы людских тел. И вот, к концу восьмого дня боя вы наверное потеряете и последние крохи силы… И будете уже не человеком, а скверными, еле идущими часами. Потикают в голове кой-какие мысли и опять — а! все равно… Пусть убьют, пусть ранят, пусть что угодно будет со мной, — только дайте мне вытянуть ноющее тело на мокрой земле и полежать, не шевелясь и ни о чем не думая.
Страх перед смертью? Он недолог, этот страх. Пока вам ново это молниеносное ощущение сжимающегося в инстинкте тела, стремящегося уменьшиться в размерах для безопасности, пока вашим умам нов треск разрыва — вы обращаете внимание на свои впечатления. А потом, когда «обобьетесь», вы, конечно, все равно будете пугаться близкого разрыва, но сами не будете замечать этого страха. Смерть близких? Она слишком обыкновенна здесь. Смерть каждого из нас страшна только в связи с мыслью о его семействе и о том, «как они будут потрясены» и т. д. Если же вы будете держать себя в руках и постараетесь не думать о доме, не разжалобите себя посторонними воспоминаниями о близких — эта смерть не потрясет вас. Все мы делаем свое дело.
Когда наша батарея грохочет шалым темпом в яростных очередях и засыпает «площадями» сталью и удушливыми газами, — все, кто работает там, около пушек, уверены, что они делают свое и полезное дело, Ну, а раз мы бьем противника, то будет справедливым, что и он, нащупав наши орудия, сомнет их, исковеркает пудами бешеного металла и похоронит в вырытых воронках истерзанные тела прислуги.
И все работают спокойно, споро и весело. Но довольно влить в них хоть небольшую дозу яда усталости, чтобы работа стала тяжелой, снаряды противника пугающими и дело скорейшего уничтожения врага, их прямое дело, стало безразличным и «никчемушным». И во всем так! Сознание вашего долга, и того, что во имя этого долга мы должны убивать и калечить, такое яркое и бодрящее при здоровом теле, — становится потускневшим. Идея того Великого, что привело нас сюда на туманные поля неслыханных в истории боев, — станет мало понятной и не будет взвинчивать усталые нервы. И будет тяжело до ужаса.
И все это потому лишь, что человек не спал три ночи, промок, разбился физически и нравственно. Да, слабая машинка — человек! И какую великую пользу принес бы в данном случай спорт, правильно культивируемый по всей стране от приготовительных классов начальных школ и до… Государственного Совета включительно… Слава Богу, теперь в армии этим занялись серьезно. И всего лишь два-три года серьезной, упорной и умелой работы над молодыми — а в результате солдаты действительных сроков службы втрое выносливее, а следовательно, и полезнее и дельнее запасных. Сухому, тренированному движениями, сильными и упругими, телу легче идти в разведку, не спав две ночи, и тверже будут держать на опротивевшем седле сухие, наработанные ноги. С развитым бегом и сокольской гимнастикой дыханием легче делать сотую перебежку по размокшей, вязкой пахоте под свистом пуль и плывущими дымками рвущихся шрапнелей. С набитыми гирями, упругими канатами мышцами крепких и ловких рук спокойнее идти в атаку, как перышком играя тяжелой винтовкой и шутя отбивая сыпящиеся слева и справа удары дюжих пруссаков. Наконец, разве не легче пройти сорок верст в день человеку, втянутому в ежедневный трехверстный утренний бег, чем другому, по целым дням сидящему на месте!
Нет! Опять повторю — страшная вещь усталость на войне, и могучее средство для борьбы с нею даже не специально спортивный, а просто хоть небольшой, для «подсушки» тела, тренинг в мирное время. И надо надеяться, что когда кончится тяжелая война, народное здоровье и охранение его получат надлежащее, крупное значение. А если когда-нибудь нашей родине вновь придется послать на жадные поля битв миллионы своих детей, то в этих миллионах, идущих на тяжелую смертоносную работу здоровых людей, будет много действительно здоровых, с крепким сердцем, с здоровыми нервами, стальными мышцами и бодрых духом спортсменов. И, наверное, тогда тонкий, но сильный яд усталости не будет страшен нашим железным полкам и батальонам.
Да… многому нас еще научит эта война. Не нас, русских именно, а все народы Европы. И такие войны, являясь гибелью для миллионов жизней и тормозом для прогресса культуры, в то же самое время служат культуре же. И когда окончится эта страшная война, как горячо поднимется все человечество на создание разрушенных храмов веры, науки, культуры и искусства!
А пока… будем драться, пока есть руки. Уцелеем — тогда станем творить…
16 сентября
Бой… Немцы жмут с юга. К границе отходят их обозы… Что за черт! Неужели их взлупили под Осовцем? Вот-то радость была бы! Правда, там все время грохот был.
Устали все. Не спим по ночам. Корка грязи на лице и на руках… На севере сильный бой. Работы — по горло… А силы убывают… Ну, да Бог поможет — хватит до конца боя-то…
Деремся. Вне сомнений — немцы уходят, а на нас кинули заслон. Ну, подождите! Сегодня убило бомбой брата двоюродного… Судьба! Завтра, а то и сейчас вот и я… Устали, устали… Заснуть бы хоть на час…
Много потерь. Люди — молодцами.
18 сентября
Бой идет. Мы начали нажимать. В день делаем по десять штыковых атак.
Вчера ночью ездил с приказанием к полковнику П***. При возвращении шальным снарядом убило второго коня. Меня выкинуло и оглушило. Помню одно синее пламя в глазах.
Очнулся на перевязочном, в лесу, на носилках. Двинулся, и сердце упало. Ноги не слушаются. Такой ужас охватил — думаю — оторвало ноги… А боли нет в них. Тьфу! Оказывается навалили мне на ноги шинелей, да кто-то в темноте, не разбираясь куда, положил на меня тяжелую скатку. Все это слетело с ног, и я вскочил. В глазах круги зеленые… В голове кто-то сидит и жужжит у-у-у-у… Слышу плохо и затылок болит. Ординарец, ехавший рядом, — убит…
Сейчас пришло донесение — немцы отступают на шоссе к Граево… Двигаемся за ними. Генерал уговаривал остаться тут или уехать в тыл. Дудки! Теперь-то самое интересное и будет, когда нажмем на них…
20 сентября
День получки жалованья! Теперь нам не до него! А вот если кто угостил бы хорошей папироской — вот так бы, кажись, и расцеловал!
Добываем сигары с убитых немцев… Потом растираем их и курим в трубках. Мерзость — сверхъестественная… Немцы бегут. Мы уже под Граево подошли.
Тут-то вот и сказалась разница между нашим и немецким солдатом. Наш хорош и в компании и в одиночку. А пруссак — лишь потерял из виду палку офицера, или локоть «камрада» перестал чувствовать — аминь! Идиот идиотом становится. Пленных берем кучами. Много старых, много и мальчишек совсем. Сегодня утром привели в штаб пленного улана. Стоит и плачет. Что с ним. По лицу — лет пятнадцать. Ранен? — Nein…
Оказывается, ему семнадцать лет всего. Он лишь как месяц в строю. За последние дни конница у них почти не ела и не спала, мечась по лесу.
Он, с непривычки, сбил себе ноги в кровь и где-то запутался, отбившись от своих. Его забрали, как куренка, руками голыми.
По шоссе раскиданы тысячами каски, пояса, винтовки и шинели. В грязи и в песке по втулки засели брошенные автомобили. Их много. В этом отношении немцы обеспечены сверх надобности. У них все с собой на бензин. Швальни походные, сапожные мастерские, типография даже в грузовом автомобиле нашлась с приготовленными клише Вильгельмовских усов и с набранным известием о «холере в Петербурге», ввиду чего, дескать мол, ваши храбрые товарищи на севере не берут столицу России, а блокируют ее, а потому мол, — будьте отважны!
Сегодня вышел случайно двухчасовой жестокий бой. Наши зарвались в погоне и сильно прижали немцев к их обозам. Тогда те перепугались за них и с отчаянным бешенством откинули нас версты на три назад шальной контратакой.
Отсюда — вывод: даже и при преследовании надо быть осмотрительными. Настроение у всех блестящее. Даже моя сильная головная боль не заметна как-то при этом подъеме нервов. Но неожиданный удар немцев оказался последним. Наши, быстро оправившись от смущения, справились с атакующими, и они ушли, оставив валы трупов. Как они бросаются людьми! Просто страх берет… Сегодня на один участок, защищенный с фронта малопроходимым болотом и командующий над остальными холмами, они бросили роту. Их встретили ливнем наши четыре пулемета, притаившиеся меж сосновых корней, в ямках, на лесистой верхушке холма. От роты осталось человек тридцать, быстро залегших среди мокрых кочек. Три минуты спустя на этот же холм кинулось еще две роты, почти без огневой подготовки. Спотыкаясь, падая, крича и нелепо размахивая оружием, метались длинноногие немцы, под ровный и сухой стук наших пулеметов, теряя в секунду по десятку человек. Не выдержали и отхлынули назад в лес. Но через мгновенье там послышались яростные, начальственные крики и стук револьверных выстрелов. Дело происходило в четырехстах шагах от нас, и мы ясно слышали, как ожесточенно ругались немецкие обер и просто лейтенанты. Револьверные выстрелы в спину подействовали и… остатки двух рот отчаянно кинулись в последнюю в своей жизни атаку. Опять привалились к дрожащим телам горячих, серых пулеметов наши молодцы и, нервно поводя ручками, облили бегущих вслепую людей перепиливающими пополам струями остроконечных пуль.
Через две минуты только стон шел над болотиной, и судорожно ловили скрюченными пальцами что-то невидимое (очевидно, уходящие жизни) чьи-то высунувшиеся из-под серых копошащихся куч руки. Из шестисот почти человек на этой болотнике уцелело, т. е. легко и тяжело раненными было найдено, только восемьдесят два человека. Остальные — были мертвы. И у очень многих мертвецов было по пять-шесть пуль в теле.
Совершенно же целых, притворившихся мертвыми и застывших под грудами тел, было подобрано только шесть человек. Воображаю, как они будут любить своих лейтенантов, если по возвращении из плена попадут к ним дослуживать.
К ним, потому что офицеров нашли при трех ротах только троих. Одного убитого и двух здоровых, притаившихся сзади, за кучами своих мертвых солдат. Остальные все, значит, уцелели и ушли. А все-таки видно здорово напуганы чем-то немцы; даже два тяжелых орудия бросили, увязших в песке вместе со своими автомобилями. Мы было хотели их вытащить — куда там! Так ловко засели — что хоть мелинитом подрывай их снизу.
21 сентября
Сегодня вошли в Граево. И озорники же немцы! Просто, со злости видно, камня на камне не оставили там. Расстреляли костел ни с того, ни с сего. В нашей старой квартире — свинарник и «мерзость запустения».
Ограблен даже умывальник — доска снята мраморная. Пианино разбито — доска оторвана, клавиши западают, и на их костях следы чьих-то грязных ножищ. В богатой гостиной срезаны вышитые шелковые спинки и сиденья с кресел и пуфов.
Потолки расстреляны. Окна тоже. Зачем, кому понадобилось ломать в щепы дубовый стол в столовой — непонятно… Просто жестокость разрушения захватила. Тупая, слепая жестокость насилия хотя бы над беззащитной мебелью. И именно, тем сильней и злобней эта жестокость, что в бою немцы трусоваты. Пока они вместе, а в спину им глядят дула офицерских револьверов — они храбры. Но разбейся они по маленьким кучкам, и они трусливо бегут или же сдаются. Причем когда сдаются, то иногда так трусят, что ложатся лицом вниз на землю, охватывают голову скрещенными руками и ждут. Но стоит им лишь убедиться, что им вреда не причинят — они мгновенно превращаются в невероятных наглецов и в лазаретах требуют перевязки в первую голову, вперед русских.
Сегодня ночью, т.е. вернее вчера, в Руду, где наш штаб ночевал в «клопинной» избе, явились два татарчонка-стрелка, плохо говорящие по-русски, — переводчики. Говорят, привели немцев. Глядим, стоят на дворе под факелами семь оборванных и грязных немцев. К ним:
— Откуда вы?
Молчат. К солдатам:
— Кто вас сюда послал.
— Никто ни пуслал… Мы пуймал — докладывает татарчук и еще что-то лопочет, чего понять нельзя, — а со стороны так даже неприличное что-то выходит.
Так как у нас не имелось в запасе переводчика-татарина, то мы обратились через переводчика-немца к плененным за объяснениями.
Кто ж вас забрал мол? И старший из них обстоятельно доложил — они дозорные 34 пехотного полка. Шли за своими по полотну дороги. Вдруг сбоку выстрелы, и двое из них упали (их было девять). Затем выскочили вот эти (кивок на блаженно улыбающихся татарчат) и начали колоть штыками, и вот — к самым глазам нашим тянется обмотанная грязной марлей грязная и трясущаяся рука. Тогда мы, продолжает рассказчик, подумали что «их» много, и сдались. Они нас повели, а потом, когда мы спохватились, что их двое только, было уже поздно, т. к. мы винтовки свои бросили там, на полотне, когда нас взяли. Да нам лучше так, мы — поляки с Познани. Лучше землю пахать пойдем в Сибирь, чем тут… голодать — вырвалось после паузы тихо.
Отправили их к пленным и велели накормить.
Татарчат записали, чтоб наградить потом.
Офицеры сдаются, правда, мало. Но солдаты, как видно из того и из многих таких же случаев, в порядочном количестве. Разбаливаюсь я, кажется. Голова как свинцом налита. Глазам — больно смотреть. Стоит пройти немного быстрым шагом — все тело болит. По вечерам сильно лихорадит. Генерал гонит лечиться. Лечиться-то я не пойду, а вот в Австрию, свой полк искать, — с удовольствием! И отдохну дорогой немного. А то здесь, на границе, судя по складывающейся обстановке, ничего особенно грандиозного не будет. Теперь наверное отдохнем и пойдем брать Лык (в третий раз за эту войну); он и без того мне надоел с прошлых боев еще.
21 сентября
Немцы ушли далеко, верст на двадцать вглубь Пруссии, ни одного разъезда нет немецкого. Жителей тоже ни одного. И видно, что они, эти несчастные жители, ушли теперь надолго. Ибо раньше они хоть кое-что оставляли дома, а теперь соринки не найдешь — все вывезено. Местечки все сожжены и разбиты дотла. В Просткене одни трубы лишь торчат, обожженные и конусообразные.
Прощай «курятки и свинятки» с немецкой земли. Много было на вас претендентов за это время! И мы, и немцы, и сами жители — все хозяйничали над вами вовсю, не жалея многострадальных животин!
Решено, завтра выезжаю в Австрию. Хотя наш дивизионный старик-эскулап находит, что это «глупо дышать на ладан и ехать в Австрию».
Ну, ладно! Подышим еще! Хотя правда, контузия сказалась: я чувствую себя сильно разбитым, нездоровым.
Идут сборы. Мои и чужие вещи так перепутались, что я и сам не помню теперь, чьи эти всякие мелочи — мои ли, товарищей ли…
Отобранных немецких лошадей оставлю здесь.
Где полк — не знаю, и ехать с конями — бессмысленно. Да и все равно — там найду.
Жалко, сжился я с нашим штабом за два почти месяца жизни в походе и в бою. Ну, да, Бог даст и встретимся потом! Все сейчас строчат письма и телеграммы, чтоб я отправил их из России. Отсюда-то трудненько это делается. До сих пор, вот уже два месяца почти, как мы из дому — ничего не получали еще. Конечно, сохранение военных тайн великая вещь, но и чинуши почтовые — лодыри отчаянные. Понацепили на себя шашки и револьверы, а иные даже и шпоры, сидят себе по полевым конторам и лодыря гоняют с сестрами из соседних госпиталей. А корреспонденция не разбирается и лежит тюками вдоль стен. Бродил сейчас часа три по бивакам полков, по грязным кривым уличкам, по вновь уже шумному базару (ну, и живучи же эти «коммерсанты» местные!). Смотрел вокруг и старался запечатлеть в своей памяти все, что я вижу, и свои пережитые уже здесь ощущения, связанный чуть не с каждым зданием. Вот на этом углу я был, когда увидел первый немецкий «таубе». Вот эта застава и шоссе за ней — знакома по моему мотоциклетному прорыву. Вот тут, у школы, в начале сентября, перед уходом из Граева, около меня выломил ворота в стене немецкий «шестидюймовик». Сколько пережито! И сколько пережитого не передается никаким пером, ибо есть вещи, которых даже словами описать нельзя. Не остаться ли уже тут, при штабе? Нет, нет, в строй! Там и веселее, да и новые места будут; уж слишком все мрачно в Пруссии. И злобные животно-тупые враги надоели. И их манера воевать с разбоем и грабежом — надоела и гнетет как-то душу. Да и потом, откровенно говоря, здесь уже потому невесело, как-то «мрачно» драться, что пока что в сущности тут ни одного громкого дела не было. Да едва ли и будет. А просто будут друг против друга топтаться по выжженным полям небольшие силы.
Теперь, когда выяснилось, что Гинденбург разбит и отошел от Сувалок и немцы ушли на свою территорию, они наверное бросятся на другое место, не у нас. И наверно это будет где-нибудь на юго-западе, между Варшавой и Краковом, старинными братом и сестрой.
Может быть, на счастье, мой полк там поблизости где-нибудь. Потом там, говорят, есть большие конные дела. А здесь я, будучи ординарцем, не могу доставить себе этого удовольствия — побыть в конном бою…
Нет, еду!
23 сентября
Вечер. На письменном столе электрическая лампа со штепселем льет свой ровный, спокойный свет на грязные листы моей походной тетради. Тихо вокруг. Только на улицах, за окнами кипит жизнь! Гудят автомобили. Гудит толпа, наводняющая панели. Откуда-то доносится мушка. Господи! Какой контраст. В зеркале виднеется худое, черно-желтое лицо с подведенными синевой глазами.
Я это там, в зеркале? Неужели я так и сижу в этом мягком кресле хорошего чистого номера лучшей в Белостоке гостиницы! Прямо не верится как-то. Ведь только утром еще сегодня я был там, в старом доме с простреленными потолками. Только сегодня я был грязным, кой-где продранным, небритым и глотал утром мутный чай с жесткими сухарями, пахнущими уже появившейся плесенью. А сейчас я выбрит чисто, с ног до головы одет и даже надушен. В кармане — чистый платок. В желудке — хороший обед. В руках только что был вечерний выпуск телеграмм и шикарная папироса.
Входит лакей с подносом и самоваром. Свежий хлеб, масло, ветчина, лимон (наша мечта на позициях, где приходится пить всевозможную, даже болотную воду) и давно не виданное — пирожное «Микадо».
И подумать, что всего лишь девяносто верст отделяют меня от бессонных, выжидающих, тревожных ночей, от обедов из чего попало; от крови, стонов и страдания.
Когда сегодня в полдень наш поезд выбирался из Граева по только что исправленному пути, немцы послали ему прощальный привет. Появился откуда-то, точно с небес, «Таубе» — летевший до сих пор на высоте, недоступной зрению, и швырнул бомбу, очевидно метясь в поезд. Но увы! Его гостинец поднял столб черного дыма саженях в полуторастах вправо, на опушке леса, Надеюсь, что там в этот момент никого из наших не было.
Провожавшие меня до Осовца товарищи смеялись, что это специально в честь моего отъезда. И действительно ведь, до сих пор они еще не кидались ничем!
Ну, и спать же я буду сегодня на этой широкой, удобной кровати под охраной не зябнущих в сторожевке стрелков, а простого коридорного, сейчас таинственным шепотом предлагавшего мне коньяк, «наиперший и наилепший», и совсем за «бесценок» — пятнадцать рублей бутылка! Недурная цена? Вообще здесь в Белостоке все цены страшно взвинчены. Мой номер стоит пять рублей, а красная цена ему — полтора maximum два, да и то много! Здесь два крупных штаба и масса офицеров. Немудрено, что и цены взвинчены до ужаса.
Пора ложиться. Что же теперь на окраине Граева, там, где тянутся узкие окопы для дежурных частей, делается. Тихо ли там? Или трещат в темноте выстрелы, и глупые, шальные пули валят полусонных, измученных людей, и гудят тревожными залпами скрытые батареи…
26 сентября
Завтра еду в Шеве и оттуда во Львов. А оттуда уже на Карпаты. Сегодня приехал сюда, в Екатеринодар, чтобы узнать в штабе, где мой полк бродит. Он на Карпатах и даже, точнее, по последним известиям, уже на Венгерской равнине.
Вот это другое дело! Не то что в Пруссии, на границе взад и вперед бродить. И наверное у дерущихся в Австрии другое, более приподнятое настроение, потому что мы деремся там в завоеванном краю.
Но что делают газеты! Боже, как далека Россия от представления о войне. По-моему, это даже не уважение к умирающим тысячами бойцам, это цветистое сюсюканье над победами и трудностями войны… Ведь вы же там не были, господа! Как же вы смеете писать — «мы отбили жестокую атаку», «над нами с гулом пронесся “чемодан”»… Да знаете ли вы, что такое атака! И кто назвал из вас эти снаряды «чемоданом». Мы, боевые, так легкомысленно не зовем их. Мы знаем их силу и смертоносность и не придумываем для них развязных, придуманных в кабинете кличек. Везде, куда ни взгляни — во всех журналах, газетах — война. Какие-то неслыханные рассказы «участников», часто наивно путающиеся в определениях: что такое пушка и пулемет.
Какие-то неведомые санитарные чиновники описывают геройские подвиги свои «под градом пуль и штыков». Сочиняют нелепые басни о том, чего не было. Приписывают нашему тихому, молчаливому, но и железному солдату, шинели которого они сами не стоят, или какое-то бессмысленное ухарство и презрение к врагу и к смерти, или же наивную жалость и ухаживанье за раненым врагом и братство с ним «на поле брани в тьме жуткой ночи».
Тьфу! Вас бы, господа, кабинетные храбрецы, вот в эту «тьму жуткой ночи» засунуть, да промочить вас насквозь трехдневным дождем, высушить потом хорошей перестрелкой, когда люди за только что убитого друга ложатся без сожаления о нем, делая из него бруствер, еще теплый и, быть может, дышащий… Посадить бы хоть одного из них в ту канаву, где я недавно отсиживался от прусских драгун, да чтоб он почувствовал уже холодное железо прусского приклада над усталым телом…
Вот тогда как бы вы засюсюкали…
«Кто испытал то, что мы испытали, — тот знает — как ужасна война», — пишет развязно и горделиво неизвестный и собственный корреспондент», сидящий с продранной подметкой в пятом этаже где-нибудь на Полянке и ждущий субботнего гонорара, как манны небесной, чтоб починить, пользуясь военным временем, подметки.
Да разве стоят все его переживания хоть что-нибудь, в сравнении с бессвязными словами сквозь слезы стыда и горя изнасилованной немцами девушки-польки или с воплями седой матери, у которой на глазах ее повышены за шпионство три сына сразу на одних воротах? Вот испытайте-ка необходимость повысить этих трех парней, таких молодых, с симпатичными, полудетскими еще харями… А нужно! Нужно для того, чтобы этими тремя смертями спасти не одну тысячу жизней…
И зачем, кому нужны эти развязные строчки?
Неужели эта «военная» литература и эти «военные» рисунки с кровавыми Кайзером и Францем-Иосифом в продранных брюках нужны для поднятия бодрости страны? Неужели граждане великого и мощного государства нуждаются в подбадривании истерическими рассказами на тему об изнасилованных немцами помещицах и о замученных солдатах, безропотно погибающих якобы геройской смертью под ножами пруссаков. Да ведь для того чтобы сделать еще страшнее и без того яркий своей ужасающей лаконичностью факт прикалывания наших раненых — нужен громадный, яркий талант, нужно видеть этот изувеченный труп, нужно самому испытать ужас раненого, когда к нему вместо помощи приближается глупая смерть… Наши официальные известия о ходе событий правдивы и кратки. И довольно! Зачем вокруг святого, громадного дела создавать паутину пустых слов, громких, но не правдивых, накипь корыстолюбия и пустозвонства.
Впрочем, это везде и всегда бывало и будет.
Но все же обидно читать газеты и встречать в них пустые слова о «разложении Турции», о «шатающейся короне Гогенцолернов», о «лицемерии неблагодарной Болгарии» и «о значении последнего передвижения наших войск в Пруссии».
Эх вы, доморощенные стратеги и политики!
Шли бы лучше драться туда, где не хватает рук для брошенных после убитых в окопах винтовок.
Хорошо хоть, что этой «шумихой», посвященной войне и квасному патриотизму, еще не отпугнули публику от интереса к войне. А в конце концов этот корыстолюбивый поток жалких слов зальет публику и потушит в ней интерес к войне. А нет ничего хуже драться и рисковать жизнью ежеминутно, если знаешь, что война не популярна уже там, дома.
И не дай Бог, чтобы это было.
Все собрано и уложено. Остается два часа до поезда. Шумят и гудят на Красной трамваи. Толпы народу всюду, провожают лето.
Сегодня выдался чудный день, и солнце было совсем летнее.
Иллюзионы и миниатюры полны народом. Жизнь, мощная и кипучая, не потускнела даже с войной. Еще больше придает оживления ожидание войны с турками.
Коммерсанты учитывают моменты и делают многотысячные дела, жертвуя из барышей сторублевки на раненых, о чем моментально же извещают местные газеты. Молодежь флиртует и носит для воинственности рубашки-хаки и кофточки с нашитыми ярко цветными погончиками.
Все это кажется каким-то мелочным, пустым, в сравнении с ведрами крови, сочащейся из тысяч ежедневно разбиваемых тел.
Впрочем, может быть, это потому, что я только что из боя и снова в бой еду. А пройдет война, и «обывательщина» также захватит и меня, и мне будут нравиться цветистые описания какой-нибудь чужой, не нашей войны, между другими государствами; когда моей матери не нужно будет еженощно молиться о жизни мужа и двух сыновей, дерущихся теперь на далеких от нее полях.
Бедная мама, тяжело ей! И вообще бедные матери… Вам, наверное, не интересны военные фельетоны корреспондентов в смокингах и с проборами!
1 октября
Вот и опять на войне! Впрочем, собственно говоря, не совсем еще на войне, ибо покамест я еще не добрался до своего полка. Сижу в разломанной «до подпечек» деревушке и жду, когда мне укажут хотя бы то направление, какого я должен держаться в погоне за своей частью. Да и правда, мудреное дело найти среди сотен бродящих взад и вперед полков один из них; да еще в чужой стране к тому же!
От непрерывной езды я прямо обалдел. Как во сне вспоминаются бесконечные пересадки в Ростове, в Лозовой, в Полтаве, в Шеве, в Родзивиллове и, наконец, во Львове… Третьего дня я выбрался из Львова, пробыв там сутки и потратив их чуть не целиком на попытки узнать — где же мой полк? Так и не узнал ничего, кроме того, что он в составе №-ой армии и, по всей вероятности, где-то здесь за Стрыем. Кое-как достал подводу на паре изнуренных кляч и кучера галичанина с такой печальной рожей, что смотреть на него больно. Впрочем, его печаль имеет крупные основания в виде разбитого вдребезги и раздробленного убогого хозяйства.
А интересно ехать по воюющей стране. По дороге от Екатеринодара я наблюдал, как от центра, к периферии, постепенно возрастал интерес к войне и она клала свой отпечаток все сильней и сильней на все окружающее, включая в него даже и настроение общее.
В центре страны — война далека, ее никто не понимает. Но все, в большинстве просто из стадного чувства, говорят о ней притворными, выспренными словами. Хвалят «солдатиков», носят им Эйнемовский шоколад в лазареты и искалывают флажками аляповатые, на скорую руку набранные карты.
Собираясь по вечерам на очередной журфикс к Ивановым, Петровым и прочим «овым», запасаются модными мнениями газетных стратегов, чтоб там, на журфиксе, сначала блеснуть талантом стратега, а потом засесть до утра в винт.
Ближе к периферии — обыватели встревожены и обозлены. Они уже не кричат: «Мы» должны раздавить Пруссию… «Мы» должны встать твердо на всем Немане… О! нет! Это самое громкое «мы» — превратилось в испуганное «я». И это «я» кричит без трескучих фраз, но искренно.
— Помилуйте! Что же это! У меня имение разграблено австрийцами… Не понимаю, где были наши войска! И вообще какой черт нас потянул драться!..
И искренне убежден тупоголовый обыватель, что войска должны были прежде всего защитить его именье, его завод, его рухлядь…
О войне и о стратегии он уже не говорит. Какая там, к черту, стратегия!
У меня весь скот угнали — вот это поважней стратегии!..
Война, значит, их уже коснулась своим махровым черным крылом и выбила истерическо-патриотическую дурь из голов…
Еще ближе… Вот замелькали снятые крыши, пробитые и обгорелые стены юго-западных местечек и деревушек. На каждой пяди земли, затоптанной тысячами ног, вы найдете с добрый фунт свинцовых брызг и железных осколков. Тут дрались. И вот эта канавка приняла в свою зловонную и сырую глубину не одно последнее дыхание разбитых и распоротых людей. Теперь тут тихо и мрачно. Бои ушли далеко вперед. Здесь уже Российская Империя, на этих полях, орошенных слезами и потом рабов-словаков и русин, стонавших долго и горько под вонючей и жесткой подошвой шваба. Теперь пришедшее освобождение, пока еще моральное, не дало им, освобожденным, ничего, кроме разрушения и горя. И бывшие рабы, а теперь свободные граждане Великой России, сидят в подпольях под своими обгоревшими и завалившимися избами. Сидят и сосут сырой картофель… И невдомек им, бедным, что все без малого российские журналисты кричат за них, за бедных, и убеждают публику в радостном настроении и в ликовании «освобожденного народа». Поликуем тут, как же!
А в завоеванной земле, развиваясь на только что покинутых полях смерти, начинает кипеть озабоченная, толковая жизнь. Здесь уже более или менее знают, чем пахнет война. Ну, а те, кого привозят ежедневно сюда от передовых позиций, знают и подавно.
Здесь война показывает свою изнанку. Здесь страшной и зловещей она кажется. Ужасы, кровь, смерть и ее хрипы, — налицо, перед глазами. А нервной оживленности, бодрости, подъема после победы, всего, что облегчает страдания на 50 %, — здесь нет. Вот почему отсюда, из тыла, война страшнее, чем там — впереди.
А так как все работающие и живущие здесь напряжены этими ужасами, то понятно, что здесь говорят и думают лишь о войне. И говорят не так, как там в России, пустозвонно и красиво, а — нервно, лихорадочно. То падая духом от услышанного из уст раненого враля-солдатишки известия, «что все, весь полк побит и наши ушли, а австрияк ломит», то — радуясь и хохоча при таком же непроверенном слухе о «взятых вчера в плен семидесяти пушках, отбитых у австрийцев». А где отбиты эти пушки? — спросите-ка его! Он пожмет недовольно плечом:
— Не все ли равно где! Важно, что отбиты!
А через час он ходит с загробным видом. Вернувшиеся на ремонтном паровозе из-под Львова рабочие — уверили его, что «нас окружают». Кто, где, чем и зачем? — Не важно! Окружают — одним словом — и он мрачен, как ночь, и еще более всех нервирует.
Так нервно, то запуганно, то ликующе живет периферия страны.
А здесь, в завоеванном краю? Слишком тяжело отозвалась война на его населении, и много труда и братской помощи надобно, чтоб восстановит этот голый разор повсюду. Вот все, что можно сказать.
Ну, и настроение в pendant к действительности, не из приятных у бедняков-русин и прочих славян.
Львов мне не удалось осмотреть как следует…
Город — по образцу европейских. Серый камень повсюду. Средневековье наложило на него свой неизгладимый отпечаток узостью некоторых улиц и несколькими реликвиями не наших времен. В остальном полунемецкая, полупольская, но современная физиономия. Все неслужащее население, особенно еврейское, — осталось тут. Но преобладают женщины, дети и масса школьников. На крупных перекрестках стоят наши бравые стражники. На менее бойких — милиционеры из местных граждан с сине-красными повязками на рукавах пальто — cloche и в лощеных цилиндрах. Много приехавшего и проезжего народа. Ходят воинственные на вид добровольцы. Щеголяют всем новеньким какие-то выхоленные и с алчными бегающими глазами господа с красными крестиками на фуражках, вооруженные зачем-то с ног до головы и, очевидно, для шику, в шпорах и с хлыстами. А погон нет. Но, слава Богу, здесь во Львове железная дисциплина и темным и полутемным господам не дают особенно-то здесь засиживаться, а то (это видно по их глазам) их аппетиты и нравы превратили бы Львов во второй Харбин с его шальной тыловой жизнью, грязной и распущенной. В городе осталась масса жен австрийских чиновников и офицеров. Жалованья они, конечно ниоткуда не получают, а жить должны чем-нибудь. Этим, наверное, объясняется почти поголовная проституция всего женского населения во Львове. И даже потертые в приключениях на Невских берегах донжуаны конфузятся, когда получают призывной и несмелый толчок локтем от строгой и печальной на вид дамы, по костюму и его элегантности, — видимо, из общества…
Что делать? Война! Этим все сказано и оправдано. Позор многих. Слава многих. И смерть очень и очень многих!
До девяти часов вечера движение на улицах не уступает Кузнецкому Мосту, или Тверской. Но зато в десятом гробовое молчание на улицах, видевших семь веков, пугает. И эти старинные дворцы, эти средневековые еще костелы и каменноплитные площади пред ними, и эта тишина, нарушаемая лишь звоном подков конного патруля, — все гармонирует друг с другом и заставляет невольно уноситься мыслью в далекие времена королей Людовиков, по имени одного из которых названа главная и самая широкая улица Львова.
Сегодня прибыл я сюда. Два дня и две ночи ехал я на своей расшатанной подводе с молчаливым возницей. Тянулись в желтой осенней дымке рощи, буераки, балки и поля старой Галиции. С утра и до ухода дня в глазах мелькали остатки окопов, укреплений, волчьих ям и тысячи братских могил. А по темным ночам, тишину которых нарушал лишь скрип моей печальной телеги, катившейся шагом, все вокруг — эти остатки, следы титанической борьбы и все то, что нас окружало в сумрачном полусвете далеких звезд, все, казалось, было наполнено какой-то мистической тайной, великой и жуткой… И, казалось, что ночь говорит тысячами неведомых, еле слышных голосов, и все эти голоса шепчут каждый о своем страдании, каждый о своем невольном предсмертном вздохе.
И, честное слово, я никогда себя так плохо не чувствовал, как в эти долгие предрассветные часы, лежа на твердом и тряском дне подводы, без сна и с тяжестью неведомого будущего на сердце.
2 октября
С моими вещами прямо горе… У меня с собой корзина, постель и саквояж с туалетом. Три места, и притом необходимы все вещи. В корзине полушубок, белье, сапоги и запас верхней одежды. Там же шоколад и драгоценный табак. А все вместе весит много. Мою более чем скромную постель никак нельзя бросить, ибо Бог знает достану ли я где-нибудь даже клок соломы сухой. А глубина моего многострадального саквояжа, тысячу раз падавшего, терявшегося и ремонтировавшегося, хранит все необходимое, чтоб не превратиться в дикаря. Там мыло, там спички, там бумага и конверты; там расходная коробка папирос и кипа целая карточек жены, снятой во всех позах и видах опытным оператором той фирмы, где она служит.
Вот и все. А в общем даже этот маленький багаж тормозит меня страшно. Не будь его, я бы сел на любую лошадь и поехал в полк, хотя до него еще больше ста верст. А ведь с корзиной далеко не уйдешь. Мой возница сбежал и денег не взял. Сегодня утром его разыскивали по всему местечку, но он как в воду канул!.. Испугался очевидно, что дальше придется везти меня. Жду попутных подвод; может быть, пойдет обозик какой-нибудь туда, к Карпатам. С ним и пристроюсь…
Нездоровится сильно, но это ничего. В бою пройдет. Я помню, как перед моим первым боем у меня целую неделю болели зубы. Но когда загрохотали первые выстрелы и все существо мое напряглось в ожидании неизведанных ощущений — зубы, как по волшебству, затихли, и я с удивлением заметил уже после боя, что я излечился от своей постоянной боли. Так и тут наверное. С подъемом нервов перестанет чувствоваться и нездоровье. Правда, потом оно скажется, понятно, но… что делать!
Здесь в С… стоит N-ский пехотный полк. В нем осталось всего шесть офицеров. Да и среди солдат убыль не меньше половины. Весь полк на позициях, лицом к западу, откуда, по слухам, двигаются австрийцы, опомнившиеся от неожиданной потери всей восточной Галиции. Знакомые по Пруссии картины выжидательного сиденья в изрытой земле, те же подземные ходы и узкие ровики. Те же присыпанные сухой травой и ветками гласисы неприметных брустверов. И так же кое-где среди поля, ровного и на вид пустого, то вырастают, то проваливаются неведомо куда фигуры солдат в измазанных глиной и грязью шинелях. Кое-где курятся дымки — это в окопах чаевничают. Пока враг еще далеко и можно досыта полоскаться горячей водицей. А нашему солдату нужнее всего две вещи на позиции: кружка горячего чаю с замызганным и грязным кусочком сахара, вынутым из недр внутренних карманов, и добрая затяжка крепкой и сладко-терпкой махоркой. После этих двух удовольствий он снова крепок и бодр, как бы раньше ни устал до этого. И когда убирают убитых, своих и чужих, прежде всего у них разыскивают табак и спички. Им там не нужно! Ну, а мы, покуда живы, еще пососем козью ножку… И нет в этой реквизиции ничего плохого.
А что теперь ночи холодные и в окопах спать не очень чтобы тепло — так это же пустяки… Придет случай, и в тепле наспимся. Чем и интересна война… Сегодня стучим зубами от холода в сторожевке на лихорадочно-сером и зыбком болоте, а завтра — спишь чуть ли не сутки под пышным балдахином резной кровати бывшего владельца роскошного замка, в величавых, столетних комнатах которого разместились, кто где, грязные и истрепанные солдатишки, обрадовавшиеся теплу и спокойной ночи. То болтаешься в седле в течение пяти суток подряд и тебя травят как волка окружающие разъезды противника, и силы падают уже, и энергия гаснет под гнетом яда усталости, — то попадаешь, как в рай, в имение старого и добродушного пана, которому в сущности все равно, кто кого бьет, лишь бы он сам цел был, и в этом имении проводишь два-три дня абсолютно без работы и с полным комфортом для людей и лошадей…
А ежедневная смена местности! А тысячи ярких, не забывающихся сцен и эпизодов, что разыгрываются ежедневно на наших глазах! А чувство гордости и бодрящего ликования, когда враг уступает и уходит назад!
Где все это вы найдете? Нет, в этом отношении война хороша! Она страшно расширяет даже и очень узкий по природе кругозор. Посмотрите-ка, как рассуждает наш солдат теперь. Он испытал сильные потрясения. Он познал глубину жизни. Наконец, он столько видел и слышал! И он имеет замечательно уверенный вид. Еще одно драгоценное качество нашего простолюдина — это способность прививаться к любой обстановке и чувствовать себя даже и в чужой стране, как дома. И я знаю по рассказам, что во Львове денщики офицеров в полках, первыми вступивших туда, не зная ни языка, ни «грамоты немецкой», сумели-таки разыскать в громадном городе и сапожников и пирожников и шорников. Да еще и столковались с ними и торговались вовсю.
И в мирное-то время часто приходилось удивляться, когда на больших маневрах, вдали от селений, в разгар переходов, наши денщики на маленьких привалах ухитрялись вскипятить чай чуть ли не на ходу.
Вот и теперь в окопах они живут так, как будто эти окопы не в сердце Галиции, а на своем «телятнике», позади огорода, за их избами, где-нибудь в Нееловке, или Захарьевке, Царевококшайскаго уезда. Настроение солдат бодрое. Да это и понятно — ведь они в завоеванном краю. Не у них взяли и не их избам угрожают, а наоборот, они взяли чужую страну, хотя и с титаническими усилиями, и угрожают целости чужого государства. Это понятно всякому, даже замухрышке-обознику, и придает всем особую самоуверенность «завоевателей». А там хотя бы и в Пруссию, дело другое. Там мы еще пока не взяли ничего и даже с громадными усилиями защищаем свою землю. Правда, и эта защита придает силы, но это сила обозленности, отпора. А не бодрость, что, вот мол, как наши-то. Чуть не полстраны охватили у австрияка. Кстати: напрасно господа корреспонденты и журналисты уверяют Россию, что австрийцы слабы. Нет! Это сильные и упорные враги. Они умеют умирать, дорого продавая свою жизнь. И наши солдаты вовсе не относятся к ним добродушно-снисходительно, как к набедокурившим и расшалившимся детям… Напротив, они их уважают и считают равными себе. Правда, не в натуре шваба упоение дракой «грудь на грудь», то упоение, которое помогает нашим горсточкам расшибить, в буквальном смысле этого слова, целые полки австрийцев. Но здесь уже дело не в негодности их как солдат, а просто в разнице двух крупных, но по своему «я» различных натур. Они, например, совершенно не боятся огня. И как их ни засыпают механическим градом свинца — они все равно держатся, упорно и твердо. И по всей вероятности они, приученные к машинной войне, к чудесам убийственной техники, лучше и легче чувствуют себя под нашим огнем, чем мы под их, бездушным жестоким и слепо-стихийным. А вот уж когда «на кулачки» пойдут, — ну, тут другое дело. Это удаль, это опьянение дракой — им несвойственно, непонятно и пугает их именно этой непонятностью. Еще бы! — одна рота русских, а дерется против трех австрийских, да еще с такой уверенностью в своих метких ударах — что будто бы этих серых мужиков не втрое меньше, а больше раз в пять… И вот вам уже моральное воздействие. Наша уверенность в победе — это неуверенность в ней противника. Две воли столкнулись. И более самоуверенная испугала ту, другую. А испуг — это уже половина поражения. Затем: несколько поражений от сильной воли уже запугали. Уже будущий бой не будит в идущих на него людях желания:
— А ну-ка, поборемся; чья возьмет!
Он уже пугает заранее!
Вот почему вырастают перед нашим победоносным потоком укрепленные позиции — целые крепости, переплетенные жгучей проволокой и острыми сучьями «засек». И опять-таки, вполне понятный психоз, на первый взгляд парадоксальный:
— Я готовлюсь к бою. Противник силен и опасен.
Я отгораживаюсь от него. Для чего? Да чтоб не быть в страшной сфере его непосредственного влияния, чтоб, будучи безопасным, причинить ему возможно большие потери. От этих двух сознанных причин самоукрепления — недалеко, один лишь шаг, до боязни, — а вдруг да эти укрепления будут слабы? Я укрепляюсь еще больше. Но чем больше я укрепляю свою позицию, тем более я убеждаю себя в силе противника, в его мощи… Я не уверен в себя. Я надеюсь на стенку, воздвигаемую между нами. И вот, в результате, непреложный почти, за редкими исключениями, закон — чем сильнее и сложнее укреплена позиция австрийцев — тем легче она будет отдана. Примеры: великолепно укрепленный Львов, почти без боя сданный Ярослав… Но зато когда австрийцы дерутся, не запугавши себя заранее воображаемой мощью противника, воображаемой именно вследствие этого отгораживания, — они дерутся, как львы.
Много им портят неважные офицеры, в большинстве изнеженные и вялые. Но это все еще не причины, чтоб на всяком перекрестке орать развязно:
— Австрийцы? Ну, это что! Это зайцы! Я не военный и то сумел бы справиться с десятком!..
А ну-ка — герой строчки и домашней стратегии — поди, попробуй!
В местечке здесь штаб дивизии. А посему, конечно, шпионов — хоть пруд пруди! То и дело ловят их в самых разнообразных костюмах и видах. Иных отправляют в штаб корпуса в N, а иных вешают тут же. Тяжело глядеть. И сознаешь ведь, что это необходимо, но… когда увидишь эти искаженные безумным, животным страхом взрослые лица с потоками слез из остолбенелых глаз, когда услышишь этот резкий хрип в перетянутом горле — жуть берет.
Другое дело — смерть в бою… Там она примиряет с собой. Я помню, как еще в России одна немолодая уже дама делала зверское лицо, сидя в спокойной и уютной столовой, среди «домашних стратегов», и горячо говорила:
— А вы знаете, N пишет с войны, что шпионы одолевают их и что их полк уже шесть человек повесил… Мало, мало! Я бы их сто шесть повесила, жидов пархатых… Я, знаете, — разразилась она самодовольным птичьим смехом, — ему написала, что не ожидала за ним такой слабости, и советую ему не нежничать, а еще штук сто жидов повесить… Это моя просьба к вам, пишу ему… Ха-ха-ха!
И разливался бессмысленный, но переполненный самолюбованием, смех — вот, мол, я какая… Смотрите-ка! Жаль, что я не мужчина!
Бедная, глупая женщина! Если 6 знала она, что думали о ней мы, бывшие перед лицом смерти и познавшие ее роковую, полную ужаса, близость. Интересно, чтобы эта птица зачирикала, если б ее детей, как шпионов, вздернули на ворота австрийцы…
Слухи об общем наступлении австро-германцев на наш длинный фронт подтверждаются. Недолго и нам ждать гостей сюда, А я все сижу и жду.
С наслаждением бы бросил вещи здесь, но… где их потом найдешь! А ведь это не маневры, которые кончатся послезавтра, а война… И это «послезавтра» скрыто от нас туманом грядущих новых усилий, новых боев и жертв. И когда я еще смогу найти себе белье или табак!
Приходится ждать…
6 октября
Неожиданностей на войне — хоть отбавляй. И только благодаря одной из них я вчера и третьего дня командовал ротой в пехотном полку и ходил в штыки на австрийцев. Это я-то, убежденный кавалерист! Да уже больно положение было в полку, без офицеров почти, что поневоле приходилось признать изречение — «Несть эллина, несть иудея»… Полк начал драться, отбивая атаки ломящихся довольно большими силами австрийцев, еще с третьего числа подошедших к С***. Там люди бились. Там забывали про раны, про боль, про усталость… А сидел здесь, здоровый? Нет, конечно, нет!
И вот я пошел туда, так сказать, добровольцем.
Много ли вас — не надо ли нас? Конечно, надо, каждую пару офицерских рук! И, так как теперь, с подходом австрийцев, я уже не мог пробраться к своим, ибо дорога одна и она во многих местах залита была нахлынувшими разведочными партиями швабов, то я не мог, мне кажется, избрать ничего более лучшего, как принять участие в бою, где даже и мои мало компетентные в стрелковом деле руки, были полезными для общего дела. «Унтер за фельдфебеля», раненного давно, инструктировал меня. Он говорил мне, какой прицел сейчас нужен лучше. Куда выслать дозор. Какой вид перебежки он предпочитает в данном случае. Он, конечно, был опытнее меня, т. к. уже дрался подряд третий месяц здесь. А я знал толк лишь в боевой разведке и в конной работе. Стрелковое же дело вообще мало любимое у нас в коннице, я знал лишь на мирной практике. Ну, а работа на маневрах и здесь — две большие разницы, как говорят южане!
Поэтому-то я и советовался со своим «унтером».
Четвертого ночью ходили в контратаку. Вот уж эти ощущения — мало описуемы! Они трудно поддаются привычным словам и определениям…
Полутемно. Туман. Стрельба. На нас, или, вернее, на соседний участок, плывет какая-то «хмара» из смутно движущихся теней… Это австрийцы идут… Слышен гул. Тут все: крик, шум, топот все более слышный, нервный и дробный. Я было решил ударить на них, но «унтер» посоветовал «сбрызнуть» пачками.
— Постоянный… По наступающим… Пачки… Начинай!
Треск бегущий, захлебывающийся и перегоняющий. Светло даже стало от мелькающих коротких, пороховых огней… Серая «хмара» посунулась влево, но потом загудела еще возбужденнее и, развернувшись мутным отрывком от общей массы, поплыла на нас.
— Усилить огонь! — и рота сравняла скорость огня чуть ли не с самыми странными пулеметами…
«Унтер» толкает в бок:
— Пора… Теперь в самый раз… Смутно чувствую, что надо что-то сделать сейчас важное, от чего зависит все… И путаются мысли.
Унтер-офицеры сами догадались и засвистели вовсю. Надо сказать что-нибудь — мелькнуло в уме…
— Братцы… (голос изменил)… Братцы… Встать!
— Ребята!.. (Что же я?) За мной! Ура!! (Вот оно! слово-то).
Дико и нестройно рявкнул хор осипших глоток, а я уже за бруствером и бегу туда… Оглянулся — рядом спотыкающиеся серые фигуры…
— Ваш-брод! — отчаянный крик в ухо. — Берегитесь!
Передо мной человек. Лицо плохо видно. Движение тоже… Но я сознаю острым, мгновенно вспыхнувшим, звериным чутьем, что человек мне сейчас причинит вред… Чем? Все равно… Палец впивается в курок браунинга, и гремит нелепо и резко выстрел. В тот же почти момент бежавший на меня австриец спотыкается и с коротким — а-а! — падает мне под ноги. Я смаху валюсь через него и испуганно подбираю ноги, чтобы «он» не схватил меня за них…
— А черт! — слышу и чувствую, как кто-то спотыкнувшись, в свою очередь, об меня, ругается сердито и коротко. Гвалт как у «толпы за сценой»… Слышу лязг ударов. Только вскочил — передо мной мелькнул короткий штык. Я успел припасть и схватил нападавшего за колени. А потом (недаром я боролся раньше!) — быстро перекинул его через себя и выхватил шашку. Кругом шла свалка. Меня толкали, швыряли спинами в борьбе. Слышался изредка характерный возглас мясников — нутром — г-гек! — и вслед за ними короткий крик, или тупой удар. В этой свалке я впервые увидел, как маленький солдатенок ткнул штыком офицера-австрийца. Но тот не упал, а схватился за воткнутый в грудь штык. Тогда солдат выстрелил в него в упор, не вынимая штыка, в грудь и тот будто отброшенный чем-то отпрянул и упал, странно взметнув длинными ногами.
В этой свалке я услышал сухой и тупой треск ломающихся костей. Кто-то схватил меня за горло. Рукоятью шашки я ударил по чужой голове.
Голова что-то пробормотала, и я больше ее не видел, как и тех рук, что сжали было мне горло…
Когда мы, прогнав австрийцев, вернулись в окопы, все тело у меня дрожало мелкой, конвульсивной дрожью, — последствием сильного физического и морального напряжения…
И было очень тепло.
Вчера в такой же атаке мне пришлось столкнуться с их офицером. У него быль узкий, но длинный палаш. У меня казачья шашка без гарды. Я инстинктивным движением тренированной на «защитах» руки отвел удар и нанес свой. Минуты две мы дрались как в манеже на состязании, чутко и по-звериному ловко и осторожно. И я, глядя (это было засветло) на курносое и румяное лицо с холеными бачками и усиками, в эти серые наивные глаза, почему-то поразился.
— Зачем!.. Почему? Ведь мы с этим белокурым неженкой и не знали друг о друге… И нелепо было бы сознавать, что человек, венец творения, интеллигент, без сомненья, тычет в меня своим железом и норовит убить меня… И тут я понял, что мы сейчас не люди, а живая сила страны… И то убийство, которое сейчас совершится — будет законно и… почетно!
На десятом ударе мне удалось ткнуть его концом шашки в правый висок, и больше я его не видел…
Ночью австрияки, потеряв надежду сделать с нами что-либо штыками, начали засыпать нас восьмидюймовыми гранатами. Было жутко.
Одним разрывом, совсем около, меня швырнуло на землю и захоронило землей. Я пролежал часа три без сознания. Сегодня бой на время стих.
Я отлежался в здешнем дивизионном лазарете и вечером еду в полк, с проходящим туда обозом. Врачи не пускают и настаивают, чтобы я уехал с ранеными. Дудки!
Но «между прочим», как говорил один мой денщик, почти ничего не слышу и совсем плохо вижу. «Усе болит», одним словом. Но надо же подраться в конном, любимом строю.
10 октября
Я в полку. Еле-еле добрался. Приехал в Галицию с севера на юг. Погода установилась. Легкая изморозь кудрявит белым кружевом инея просыпающиеся по утрам рощи. Куда ни глянет глаз — тянутся склоны, лощины, холмы и переломы северных Карпат, то есть, вернее, Бескид.
За ними желанная Венгрия с ее старым вином, с дорогими клинками и горячими женщинами. Мы уже заглядывали туда, в просторные равнины красивой страны. Но изменившаяся обстановка на нашем правом фланге и в центре заставила нас уйти оттуда и вновь засесть в суровых лощинах северных склонов этой горной естественной границы нашего в далеком прошлом и в блестящем настоящем государстве.
В настоящем потому, что теперь-то уже едва ли Австрия вернет Галицию.
Плохое время я выбрал для прибытия в полк. Конной работы, увы, нет! Она была раньше, когда еще венгерская конница не обтрепала свои яркие мундиры и рейтузы в стычках с нашими лихими кавалеристами. Тогда, в начале войны, нередко приходилось браться за тяжелую шашку и полосовать ею налево и направо в шуме и хаосе конной стычки. Бывают, правда, и теперь кой-какие делишки, но… в них участвует не больше двадцати-тридцати всадников с обеих сторон. А больше все пуля. Да и правду надо сказать, не очень-то расскачешься на этих горных, скользких тропинках и скатах. Леса, овраги, болота, бурелом, камни — вот театр для кого угодно, но только не для конницы.
А жаль! Умеют драться венгры! И когда окончится война и в ореоле славы встанут имена, числа и факты, — этой славы наших конных полков много помогут дравшиеся лавами венгры.
Это был их бенефис и дебют, когда они, целой дивизией, на маленьких, горячих конях, все в цветных сукнах и ярко горящих пряжках и бляхах, неслись с диким гулом на наши стрелковые цепи и окопы…
Грохотала земля… Навстречу неслись тысячами глупые пули и падали под их укусами и кони и люди, задержанные в своем бурном беге.
Рвались и плавили воздух очереди шрапнелей, и все больше и больше оставалось ярких пятен на земле, позади прошедшей лавины… Но она все шла. И уже видны были длинные искры палашей и взметы лошадиных тел, набавлявших карьера… О! Что эта за чудная, гордая картина была!.. Застонала земля пред окопами нашими и, не смогшие остановить огнем близящиеся вал стрелки, поспешно ушли из окопов на опушку леса сзади, чтоб там с помощью толстых деревьев остановить бешеный прилив рыцарей… А они, эти рыцари, все шли!! И вот в последний момент, когда передние дикие кони уже перепрыгивали мощными бросками оставленные стрелками окопы — загудела земля слева… Новая лавина, с длинной колеблющейся щетиной пик впереди, вынеслась во фланг венграм, припав к шеям идущих во весь опор лошадей и горя одним многотысячным желанием — доскакать и убить!.. Сшиблись… И два часа подряд шло кровавое месиво лошадей, людей, ударов и брызгов крови… И многие из нас, получившие тяжелые удары палашей, могут гордиться ими, ибо получили их от истинных рыцарей, храбрых и красивых своей средневековой удалью. И первое время наши шашки, бессильно скрежеща, скользили по твердым шапкам и эполетам венгров… А уж потом они, эти шашки, смекнули, в чем дело, и стали бить по лицам и шеям, дробя хрящи, лохматя кожу и глубоко просекая твердые мышцы…
И дай Бог всегда так рубить всякому, как рубнул, например, один венгерский гусар, разбивший у казака дульную накладку на винтовке и на ноготь вогнавший свой длинный и тяжелый палаш в сталь дула винтовки.
Кто знает, что такое рубка, тот поймет, чего стоит этот удар. Но все же лихачу-гусару он стоил жизни, выткнутой из него жадным лезвием послушной пики… Да. Это была битва рыцарей. И все бывшие в ней — храбры.
А теперь… После этого дела, стоившего венграм почти всей дивизии, больших боев нет. И часто кавалерист делает перебежки и зарывается в землю, как наиопытнейший стрелок. И так же ходит в атаку, раскачиваясь на непривычных к долгому бегу ногах… Причина? Страшная убыль в лошадях и стой и с другой стороны. Ведь многие кони прошли бессчетное число верст, считая походы и разведочную работу… А эти горы? А эта гоньба по камням? А бескормица из-за недостатка времени? Да разве мало причин для того, чтобы окончательно надорвать животы нашим коням… Да еще наши-то еще хоть кой-как, но работают — а у австрийцев и этого нету… Все почти «опехотились».
Много было спора из-за лошадей. Что нужно кавалеристу? рост? порода, или кровь? выносливость? По всей вероятности, эта война много скажет решающего по этому вопросу.
Но пока, теперь уже, в достаточной мере выяснилась непригодность холеных чистокровных лошадей, каких много у венгерской конницы.
С другой стороны, такая лошадь, вершков на пять, даже на шесть, хороша для тока. Налетит с хода на низкорослого степняка и, как гончая зайца, опрокидывает его грудью…
Но та же громадина «кровная» вязнет и бьется со своими саженными ногами, проваливаясь в болотине, по которой, правда, кое-где спотыкаясь и увязая, прошли собачьей «ходою» наши казачьи кони. Лучше всего, по-моему, иметь лошадь степной породы, не избалованная, с привитым удачными скрещениями хорошим сердцем и мощным костяком. Ростом вершок или два. Тогда она будет хороша на ходу, тверда в «сшибке», неприхотлива и вынослива в походной бескормице и, наконец, что очень важно, не будет вязнуть в каждом болоте.
А что она не будет резва, как прямые потомки знаменитого «Эвклипса», и не будет делать прыжки по сажени вверх, как стиплера со звонкой родословной, так это и не важно… Нам это и не нужно.
Сейчас заняты скучной работой — несем сторожевку. По очереди проводим глухие ночи в холодном молчании у опушки леса на каком-нибудь склоне; следим и проверяем часовых. И все время ждем — вот-вот тревога. Но ее нет. Есть изводящие мелкие перестрелки, нудные и ненужные. Правда, конечно, и наше дело важно и почетно, но… скучно зябнуть без хороших согревательных…
А по всему Сану бой…
Увы, ничего нет нового. Вокруг все надоело. Только одно утешение, что мы все-таки в завоеванной стране, а не на своей границе, как в Пруссии.
Сегодня пришла почта. Сейчас раздавать будут.
Иду! Иду!
12 октября
Не было ни гроша, да вдруг алтын! Сразу груда писем. И из дому, и от знакомых, и от жены.
Из этих конвертов, с изорванными в нетерпении краями, пахнуло таким теплом, такой радостью, что мы забыли все: и дурную погоду, и нудное сиденье в своих ущельях, и раны, и смерть товарищей — все, все, что делало тяжелым наше сердце… Все обменивались новостями, говорили о своих местах, о своих тамошних делах, и атмосфера войны потускнела. Мы все будто бы перенеслись в уютные, светлые комнаты своих далеких, родных домов и вдохнули их атмосферой. И эти вздохи были, как оттягивающее жар лекарство. Они отвлекли нас от войны и, на мгновение, мы дышали не ею. Это разрядило сгущенную атмосферу. Так иногда в сырых окопах, когда заболят от долгого лежанья под смертью и душа и тело, — сгущенную и тяжелую атмосферу, невыносимую в конце концов, разрешает перебор гармонии, несложной и смешливой, перебор простого инструмента. И овеселятся хмурые лица, сползет напряженность, а свист стали над головой и мысль о близкой смерти станет хоть на мгновенье далекой. И вздохнут облегченно все вокруг, ибо они дохнули родным домом, но еще не сознали грусти отдаления от него, неизбежно идущей за этими облегченными вздохами. Но пусть будет грустно потом, но зато какое наслаждение два раза перечитать дорогое письмо и бережно спрятать его до ночи, когда на сон грядущий снова ярко-внимательно прочтутся дышащие любовью строчки!
Это ничего, что сейчас горит на столе, убогом и покатом, масляный фонарь с австрийского вагона; ничего, что на нашем столе лишь котелок с мутным чаем, и твердые, как камень, сухари; ничего и то, что в пробитый швабским, или нашим (Бог весть!) снарядом, потолок нашей убогой «халупы» заглядывает слезливой и холодной темнотой угрюмая ночь, — мы веселы! Пусть наши постели — хлопья соломы, раскиданные тут и там по грязному полу избы; пусть наши тела ноют от усталости и от тяготы, неснимаемой даже на ночь, вот уже неделю, амуниции; пусть мы не знаем, кого из нас опустят завтра в грязную и склизкую братскую яму — все ничего! У нас есть драгоценность: с нами сейчас души и мысли наших далеких и близких, в одно и то же время, людей. И вот мы веселы; любезны друг с другом; услужливы и ласковы. Нам приятно, и мы делаем друг другу удовольствие, болтая о чужих, в сущности, невестах, братьях, женах и матерях. Сейчас все они и нам близки. Невеста вот этого долговязого хорунжего близка и понятна и мне. И я разделяю его радость при чтении дорогого письма. И он, не конфузясь меня, целует подпись-шифр любимого имени.
Есть зато и несчастливцы — это те, кто или не получил писем, или же получил, но тревожные.
Один подъесаул мрачен, как ночь. Он не успел переслать воинскому начальнику аттестаты для своей жены, а самому трудно регулярно высылать деньги (поймайте-ка нашу полевую почту!). И вот жена в пиковом положении — без денег… Скверно. И мы не утешаем, хотя и хотим. Ведь все равно не утешишь — ибо нечем!
Какое счастье, что моя жена — артистка. У ней есть свой кусок хлеба, на всякий черный случай, конечно!
А вот и газеты. С жадностью хватаем их и развертываем пропутешествовавшие через всю Россию и Галицию листы. Ого! Долго ж они, однако, путешествовали!
Вышли в свет из душных и липких тисков «ротационки» еще 25-го сентября, а сегодня двенадцатое октября. За семнадцать дней много перемен могло произойти! Но все-таки это ведь газета!
Ну, конечно! Глупости на стратегические темы в передовицах… Небывалые случаи из боевой жизни… Долой!
Кто убит… Нет ли знакомых и, храни Бог, близких, — ведь у меня отец в Пруссии.
Зрелища и театры… Повеяло шумом оживленного антракта, светом люстр, говором разряженной толпы…
Эх! Хорошо бы сейчас «Русалку» послушать!..
А у кого-то уж та же мысль промелькнула, и он, продолжая читать, мурлычет из каватины:
«— Мне все здесь на па-а-мять Приводит былое, Дни юно-о-сти кра-а-сной, — Приво-о-о-о-ольные дни!»Да, где-то вы, привольные дни! Воображаю, как переполнены театры, когда армия вернется после победоносной войны домой!
А пока… Эх, пишите же нам больше, жены, матери и невесты! Ей Богу, и война шуткой бы прошла. А бои все идут, и мы все без дела сторожим; и перестреливаемся с мелкими партиями австрийских разведчиков… А мои глаза все хуже и хуже. И нынче вечером едва рассмотрел совсем недалекую партию конных австрийцев, болтавшуюся по полям.
Уж вахмистр указал, где она.
Доктора находят последствия контузии, отозвавшейся на глазах. Плохо! Ну, да Бог даст, и пройдет.
А так ведь ничего — не больно будто бы!
Публика наша шумит и спорит о Шаляпине; приятно послушать спор не на военную тему… Это все письма да газеты наделали — все это оживление!
14 октября
Сегодня выдерживали в пешем строю атаки боснийцев. Сначала мы были в страшном недоумении — что такое? Откуда здесь турки? Красные фески, загорелые лица. Потом уже разобрались, что на наших врагах не фески, а причудливые красные шапки. А от захваченных пленных узнали, что они боснийцы и присланы в подкрепление австрийской армии. Что до сих пор их полки на войне не были еще. Черт знает, что такое! Эта Австрия действительно состоит из самых разноплеменных народностей. В венграх, по их лицам судя, без сомнения, есть монгольская кровь.
Словаки и русины порою совсем не отличаются от наших малороссов, и мои казаки, в большинстве хохлы же, свободно с ними объясняются и очень ладят. Сами швабы — полунемцы какие-то. Правда, в них нет той тупой жестокости и бессмысленной самоуверенности, которая сквозит в каждом жесте и слове немецкого, или вернее, прусского вояки, но все же они немцы. Только они — более интеллигентны. За последнее время все эти «иноплеменники» порядком деморализировались, судя по рассказам пленных.
Но все же у Австрии еще осталось много живой силы, и ее надо сломить. А как и когда это удастся — Бог знает!
Говорят, что венгры очень будто бы волнуются и не хотят драться. Если они откажутся от войны — Австрии, т. е. швабской и главенствующей ее части, — придется плохо. Уйдут венгры, уйдут и словаки и тирольцы и вот эти же черномазые боснийцы.
И что же останется? Почти что ничего!
А наши, слышно, намяли им немного бока на Сане и снова перешли через него. А то уж тут у нас даже слухи пошли нехорошие; хотя мы слухам и не придаем значения, но все-таки — неприятно сидеть на дальнем фланге и бояться за центр.
Теперь становится ясным, что если уж такие бои, как теперь под Варшавой, идут и на Сане, не могут решить кампании, то без сомнения — война затянется minimum до весны. А мои глаза все хуже. Неужели перестану быть годным здесь и придется уезжать… А вдруг наши снова пойдут в Венгрии, где я еще не бывал! Брошу писать, больно глазам.
Все время мелкие делишки. Правда, теперь нас похлестывать стали и артиллерийским огнем, но все же конного дела не предвидится. Ведем теперь и разведку по очереди сотен. Так как офицеров мало, то приходится одному и тому же быть за всех: и в разведку ходить, и сотней заправлять, и в сторожевке сидеть и… даже отчетность вести бумажную, как это ни странно звучит здесь, в мире, очень далеком от бумажного. Ничего не поделаешь! Государство — это машина. И в ней, в машине этой громоздкой — еще миллионы машинок заведены и в ход пущены… Этим тиканьем все мы держимся.
Сегодня привели ко мне в сторожевке какого-то нелепого австрияка. В чем дело? Мне со смехом докладывают конвоиры в черкесках, что вот, вашброд, к нам проситься пришел! Что?! Да, правда, вот он обскажет, он по-поляцки бает.
— Кто вы такой?
— Кадет.
— Как кадет?
Оказывается, он доброволец, выпускной кадет. Несет обязанности офицера.
— Что ж вы здесь делаете? Зачем пришли?
— Где у вас тут плен? — в ответ.
— Что?!
— Плен… плен… — бормочет, ласково улыбаясь, худощавый и какой-то болезненный на вид парень.
Чудак, оказывается, намерзся, наголодался и устал в разведке.
Затем как-то умудрился потерять своих и с отчаяния решил пойти к нам.
— Здесь тепло… Кормят… «Хляба» — есть… Я русин…
Я прямо-таки поразился. И жаль мне его стало, этого птенца. Притащил его к себе в землянку. Чаем горячим отпоил, накормил, чем мог.
Отошел мой птенец!
Порозовел весь, оживился. Благодарно взглянул на меня с наивной и слегка застенчивой улыбкой и вдруг заявил на ломаном русско-польском наречии:
— Никогда больше не буду воевать!
И так это у него искренне и просто вырвалось — просто прелесть. Так и переночевал здесь у меня, ибо посылать его в штаб было не с кем — люди все в расходе. Оружие он сам мне отдал с изящным поклоном. Новешенький «Piper-Steier» — тип нашего браунинга, я оставил себе. Пригодится еще. А длинный, но жидкий клинок сабли отдал казачатам для вертела — шашлык жарить. Больше у моего «гостя» ничего не оказалось, кроме пары писем, да коробки с кокаином, без которого не идет в бой ни один австрийский офицер. Да и у солдат «кокаинизм» очень развит. Потому-то они иногда и бродят в бою, как сонные мухи, равнодушно вынося опасность.
Впрочем, и правда, глоточек кокаину не помешает кому угодно, когда разрывная пуля разворотит кишки и впереди будет неизбежная и страшная смерть… Впрочем, зачем о таких вещах думать! Нам об этом думать нельзя. А то нервы с натянутых колков соскочат, а тогда… Беда!
Пока еще мы чувствуем себя сносно. И выносим опасность хорошо, т. е. владеем собой и делаем свое дело по мере сил спокойно. А ведь это-то владение собой и есть знаменитая храбрость, ибо нет ни одного живого и нормального человека, который в самой глубине своей души не боялся смерти и мучений.
Все боятся. Но только каждый по-своему эту боязнь переносит, один спокойнее, другой — послабее нервами — хуже и больше волнуется…
И это видно бывает сразу под обстрелом. И интересно наблюдать за всеми.
Один — абсолютно спокоен и равнодушен. И только дергающийся изредка, при близких разрывах, мускул на щеке говорит вам о том страшном волевом напряжении, в котором находится этот невозмутимый офицер.
Другой — весел, оживлен. Посмеивается. Шутит. Даже бурчит под нос какую-то песенку. Но внутри его все напряжено. Он волнуется страшно и не может быть спокойным молча. Ему надо отвлечься искусственно поднятым бодрым настроением от чувства страха.
Третий хватается за драгоценную, ибо она редка, фляжку с коньяком или спиртом и, прячась, делает крупный глоток. А потом тоже шутит. Подмигивает всем, суетится зря. Этот еще трусливее.
А есть и четвертые — вроде меня, которые в момент нахлынувшей опасности как-то не сознают, делают начатое раньше дело; а потом, когда миновала опасность — ощущают страх и ужас перед прошлой уже смертью…
18 октября
Опять с утра и до вечера стычки. Это под конец начинает надоедать, а главное — устают нервы. Да, без сомнения, в нынешней войне тот возьмет верх, у кого большая выдержка и терпение. Живой силы много у всех воюющих сторон, и даже современная адская техника уничтожения этой живой силы не сможет ничего сделать тут. Падут миллионы, но на их места встанут другие. Наше настроение поддерживается мыслью о хорошем руководительстве нами сверху. Это сознание дает покой. Знаешь, что все предугадано там, в том кабинете, где один усталый человек с мощным лбом и вдумчивыми глазами сидит ночами над громадной картой и легкими мановениями умеющих быть железными рук двигает миллионы людей и тысячи пушек по карминовым путям карты.
И еще, что много нам помогает теперь, — это широкая инициатива, дающаяся даже молодому начальнику крошечной части.
Вот твоя задача. Вот твои люди и средства. Вот направление. Иди и… сам теперь себе голова.
Это страшно развязывает руки. Мы учились, мы должны знать дело. Хватит головы — удача. Не хватит — ну, что ж! Мою ошибку, хотя и невольную, исправят. И в этом кроется наше боевое товарищество от великого до малого чина всей колоссальной армии.
Как это ни странно, но у всех почти у нас создается понятие, что деремся лишь мы одни, т. е. Россия. А наши достославные союзники, не во гнев им будь сказано, в высшей степени индифферентно относятся к своему делу, и помощи от них путной, все нет, как нет! Берегут, очевидно силы, да и побаиваются малость. Ну, да что же! И одни, Бог поможет коли, справимся.
А все-таки хорошо здесь!.. Боевое товарищество; сильные переживания; работа боевая. А главное — это сознание выполняемого долга перед кормившей тебя страной… Вот только жаль, что здоровье все хуже и глаза плохо работают…
1 ноября
Я в России. Мои глаза — уже не мои и видят тогда лишь, когда им это захочется. И болят… болят. Я прервал из-за них свой боевой дневник. И вот теперь хожу взад и вперед по комнате, а за столом усердно пишет, ловя мои фразы, жена…
Осенняя, а совсем не зимняя, и сырая ночь смотрится в большие окна своими тусклыми глазами…
И громадный дом вздрагивает и отдает во всем теле стук с размаху захлопнутых дверей внизу и гул и дрожанье грузовика с басовыми гудками, прокладывающего дорогу там, внизу на оживленной, вечерней улице.
Подхожу к окну. Больные глаза плохо видят, но все же перед ними светлые пятна дуговых фонарей и голубые искры скрежещущих трамваев, а не пустынное, снежное поле, ровное и туманное, синее в вечернем полусне зимы. И вихрь дум будят в душе гудки автомобилей, крики газетных «камло», весь этот куда-то несущийся и смеющийся и плачущий шум многолюдного муравейника. Вспыхивают наглые световые рекламы на соседних крышах… И так это все резко отличается от недавнего, что в душе кипит какой-то хаос. Как все это вышло? Я бросил свой дневник, и вслед затем мы вновь двинулись наверх, на перевалы таинственных Карпат. Что за чудные, лунные ночи сверкали сине-белыми тенями на гранях и ребрах старых утесов! Как завороженные стояли в игольчатых, плетенных из снежных пушинок рюшах деревья, сонные и безучастные… Все выше, все выше… И вот уже разреженный горный воздух давил непривычную грудь и заставлял кого-то усиленно «тикать» в висках…
Тик-так… Тик-так… И звон в ушах… И все выше и выше!
Грохочут выстрелы. И каждый из них — это не выстрел, а целый аккорд звуков, сплетающихся и отскакивающих от каменных троп и в диссонансах и в гармоничных консонажах… Поет, мечется и плачет горное эхо… Стихла короткая, внезапная стычка, и тихие мертвецы смотрят пытливо в лунную высь… А несмолкнувшее еще эхо далеко по перевалам и запутанным ущельям стонет и служит заупокойную, мистическую мессу по прерванным внезапно молодым жизням.
А оставшиеся живые — лезут выше, и кажется, попадут скоро к самой пятнистой луне, так высоко они влезли.
Ну, и подъемы! Скользят копыта… Шипы стерлись, и бессильны в своих резких толчках напрягающиеся из последнего лошадиные ноги…
— Ну, и гора, чтоб те разорвало! — пыхтит кто-то рядом, цепляясь за обмерзший куст, осыпающий нарушителя своего сна уголками сухого снега.
— Н-да, хай ей бис… — откликается другой и прерывает сам себя.
— Эй! Эй! Что делаешь! Держи!
Сверху, скользя на беспомощно и некрасиво расставленных ногах, катится с откоса чья-то лошадь…
Мгновение, и два-три казака, сшибленные валящейся лошадью, тоже катятся по холодно-скользкому скату. Груда тел, крики, брань. А где-то, из невиданной лощинки сбоку, — уже стукают деловито австрийские винтовки, и высоко пущенные при неверном лунном полусвете вражьи пули «дзжикают» над копошащимися телами. Но на эти пули никто не обращает внимания. Это ведь случайный… Просто какие-нибудь разведчики австрийские палят на шум. Эта стрельба — так, зря, из озорства!..
Но нет! Вот кто-то ахнул, будто в шутку (сильнее ахают, когда стакан с чаем прольют!).
Носилки!
На обледенелой земле сидит казак. Поднял руку и держит вытянутой вперед… Куда ударили? Долой рукава черкесски и бешмета… Потешно! Как поднял парень давеча в суматохе руку, так и прошла по ней во всю длину, от большого пальца к плечу, шальная пуля… Пробила в кисти руку, вышла сзади, почти у лопатки.
— Ничего! Будет цела рука! Сам орал тут, австрияка перепужал… — сердито и смешливо говорит хохол-вахмистр. — Это твой конь упал-то?
— Ох, мой, — сквозь зубы отвечает сразу осунувшийся раненый.
— Ну, вот, сам и виноват… Из-за тебя и стрелять зачали, — наставительно бурчит вахмистр. И добавляет мягко и ласково:
— Не тужи… Авось… Да кланяйся там. На станице!
Нотка грусти в общем еле слышанном вздохе.
Станицу вспомнили! Ведь и там, поди-ка, также светит луна… Али тучами все мабут затянуло — хмарою? Кто знает… Эх! Хоть глазком бы глянуть туда…
— Ходу! Ходу! — слышно там впереди. И опять вперед… А эхо все еще носит, только далеко уж очень, отголоски случайных звуков, врезавшихся в мистическую, звенящую тишину полночи.
Ему много работы теперь, этому эху. Дождалось! Ведь, подумайте, сколько откликов нужно ему переслать по зубчатым гребням!
Дивные ночи на Карпатах!
Заслоны, выставляемые австрийцами, мы сшибали шутя. Но тем не менее, я два раза чуть не погиб, раз наткнувшись сослепу на ихний разъезд, а затем спутавшись в направлении на одинокую халупу и попав на австрийскую засаду. Да Бог хранил… Черкесску, правда, в двух местах прошили. Ну, это пустое было! Глаза начинали отказываться от работы окончательно и бесповоротно.
25-го октября, когда нас заменили и дали нам временный отдых, меня отправили во Львов, где профессора-окулисты разъехались над моими зрачками и белками. И вот странно, пока крепился и не ходил к докторам даже в отряде — было сносно, а тут вдруг сразу же осел, как проколотый пузырь. Просился, просился, чтоб отпустили обратно — но, увы! И вот через три месяца с начала моих боевых действий я попал-таки в узкий санитарный вагон, на который раньше всегда поглядывал с любопытным чувством.
— А ну, попаду я в твои недра — храм страданий или минует меня чаша сия?
Не миновала.
И так горько и обидно было слышать под собой стук колесных бандажей, уносивших меня по промерзлым рельсам на север, все дальше и дальше от желанной Венгрии, бывшей так близко и… улыбнувшейся мне иронически! Длинная маета по этапам и эвакуационным пунктам, по которым меня водили под руки поводыри…
Шумный Киев, сверкающий огнями, с его нелепым бревенчатым снаружи вокзалом…
И опять вагон. И вновь, но уже от периферии к центру, на этот раз, все больше и больше лишних разговоров о войне. И чуть не сто раз на дню, долгом и зимнем, в скуке длинного вагона, звучали вопросы, обращенные ко мне.
— А что скажите… Как это… На войне-то? Страшно? И вообще… того… тяжеленько, поди?
Спрашивающий — полуседой, добродушный и румяный помещик из глубокой России. Не хочется его обижать резким ответом, говорить ему, что мне, да наверное и всем нам, ворочающимся оттуда, этот вопрос навяз в зубах и что он по сути своей — нелеп…
— Ну, да, конечно, всякому страшно!
Но надо владеть собой — говорить тошнотворные, привычные уже слова. Но помещик неумолим!
— А что собственно, страшнее — шрапнель или граната? — с самолюбованием чисто выговаривает он еще недавно незнакомый ему слова; вот, мол, как я нынче… образовался… И шрапнель и гранату — все тебе в лучшем виде и понимаю и опишу…
А один такой же, пожилой учитель, объяснял мне долго, что все эти вопросы, все эти нелепые разговоры и такие же треволнения — все это исходит из того, что они, мирные граждане, слишком нервничают…
— Вы там себе деретесь, ну, а мы ведь без дела здесь. Вот и нервничаем и с вопросами всюду тычемся…
Он прав, конечно, но… ведь очень много и совсем пустых разговоров… просто «для моды».
Встретилась и еще одна категория «обывателей». Те с места в карьер начинали.
— А что же это, батенька мой, скажите, почему у нас войск мало?
— Что?
— Войск мало, говорю, — повторяет свою глупость обыватель.
— Откуда вы это взяли?
— Ну, как же! Это все знают! Ведь, слава Богу, следим за войной, — с гордостью изрекает он.
— Эх! Следили бы вы лучше за своим языком, мой дорогой! — хочется сказать «проникновенному» обывателю.
А он свое и свое…
— Все вот берут и берут… А все мало… Сознайтесь, неважные там делишки у вас? — огорашивает окончательно следящий за войной «гражданин». Вот таких прямо следовало бы невзирая ни на возраст, ни на семейное положение, — сдавать в солдаты и посылать в самую кипень, чтоб они сами узнали наши силы и положение дел и не болтали зря, распуская пугливые сплетни о скрываемых поражениях и о «неважных делишках».
И ведь что обидно, главное! Что этого дурака не разубедишь! Что ему ни объясняешь, сколько ему ни растолковываешь — он все свое упрямо и недоверчиво, с хитро прищуренным глупым глазом.
— Ну, да-а! Знаем мы, знаем! В Японскую войну вот тоже так-то… Кричали, кричали, а потом… пожалуйте…
— Да с чего вы взяли все это, дикий вы человек?
— Как с чего? — удивляется и он в свою очередь, — да ведь вот до сих пор, однако, мы не в Германии, а все Варшаву обороняем!
— Ну, так что же?
— Ну вот вам и что же! Значит, силы недостаточные у нас, вот что!
И торжествующе глядит.
Что? Каков я? Все верят в нашу мощь, а я вот — нистолечко! Мы сами с усами! Сами понимаем, да только молчим!
И столько в нем сознания своего значения и так много самолюбования, что даже ругать его не хочется — видно ведь, что дурак!
Да. Много война родит толков и на все-то лады будоражит и взвинчивает засеревшие от житейской мирной «просони» умы…
И если подобных вот скептиков, самовлюбленных и хитро щурящихся на собеседника, много у нас — то это печально! И долг каждого из этих собеседников — вразумить этого чудака и убедить хоть немножко поварить в уме тех, кто стал на защиту его же серых интересов.
Зато простой народ — радует своим большим и глубоким сердцем. И легче становится на душе, когда увидишь эти спокойные и даже строгие лица, обветренный и грубые, с умными, отрезвевшими глазами, за которыми таится такая богатая и теплая душа, что хочется верить поневоле во все хорошее и в нашу мощь и в нашу конечную победу! А какие славные лица у молодежи — новобранцев! И хотя сквозит на них, сквозь улыбку, боль разлуки и тоска пред грядущим, но сколько веры в них! Да, велик русский народ, и еще не иссякла его духовная сила, ведшая его к победам в течение многих лет!
Как странно ощущать безопасность! Я до того привык, что меня при малейшей неосторожности ждет удар со стороны противника, что как-то даже нелепо ходить по улицам и не опасаться ничего.
И все-таки — почему я не там! Где люди, с которыми я породнился страданиями и духом, делают свое тяжелое дело. Там так хорошо! Сколько новых друзей создала война. Там, среди опасностей, — люди, едва только увидевшие друг друга первый раз в жизни, — через два часа, после жаркого дела, — становятся близкими и родными… Там я видел людей с разбитой неудачной любовью жизнью и видел встречи их со своими счастливыми соперниками. И сначала ловил в их глазах напряженность злобы у одного и опасливое торжество у другого… Но проходил один тяжелый, дымный и багровый отсветом крови и пожаров день — и они, эти недавние враги — уже обменивались порою ласковыми взглядами и следили один за жизнью другого, как нянька… А через два-три таких дня они уже тесно прижимались друг к другу иззябшими телами во мгле холодной, окопной ночи и заботливо кутались одной рваной буркой, уступая друг другу свободные края даже в ущерб себе.
И тень женщины, когда-то ставшей между ними и как холодным лживым лезвием разрезавшей их прежнюю связь и их души, — отходила и пряталась в дымном клубе лопнувшей около «восьмидюймовки». Личные счеты, месть и вражда, соперничество в чем-либо, столь частое и резко выражающееся у мужчин, — таяли… Не было красивых, не было богатых, не было талантливых среди нас… И во тьму, путаную и грозящую молча и тревожно — шли рядом, дыша и стуча сердцами такт в такт, на дерзкую разведку, два человека… И у одного из них было пятьдесят тысяч годового дохода, а другой… До войны, когда его призвали прапорщиком, — имел сорок рублей в месяц и жил на Шаболовке, в отгороженной ситцевой занавеской грязной комнате…
Но сейчас они были равны — эти два молодых тела… Одинаково думали… Одинаково мерзли и по двадцать раз на дню переживали острую близость смерти, мигавшей им и в дымных комках шрапнели наверху, и в буром пламени бурчавших на «подлете» крупных снарядов…
И когда одному из них присылали из дому целый ящик всевозможных «гостинцев» — не было зависти ни у кого. И получивший оставлял себе лишь нужную ему часть табаку и пачку почтовой бумаги. А остальное по-братски, поймите, по-братски делилось между всеми. А солдаты? Эти серые, молчаливые и железные люди без пышных, приписываемых им корреспондентами фраз, без суеты, без стонов!.. Разве не счастье сознавать, что они, эти пришедшие со всех концов России люди — понимают и любят тебя!..
Только следите за их настроением, всегда резко изменчивым, как во всякой толпе.
И иногда сделайте «красивый жест» То есть — отдайте приунывшему солдатишке последнюю папиросу, но… обязательно сумейте показать, что она последняя. Это будет «жест», но подействует на людей. Не перебарщивайте в своей дружбе к ним и, главное, идите вперед! — И эти люди окружат и заслонят вас своими потными и крепко сбитыми мужицкими телами в нестройно-ожесточенной свалке… Вынесут вас из-под самого страшного огня и еще вам, лежащему на носилках, сунут потихоньку, совсем потихоньку штук с десяток дешевых папирос.
— Когда, мол, еще его благородие багаж свой найдет… А покуда пущай покурит — да своих вспомнит.
И у многих столпившихся вокруг носилок в прощальном привете своих солдат, вы заметите стыдливо-недоуменные слезы. А пожилой фельдфебель или старик-вахмистр — деланно удивится странным, щекочущим нервным голосом:
— Штой-то это… Ровно бы мошка в глазу, — посштрели те в пузо… — Выругается и отойдет. И по-бабьи, отвернувшись, всхлипнет, швыркнув красным, закоченевшим носом… И этот десяток папирос — плохих, пять копеек — двадцать штук, — но редких здесь — сохраните… Они дороже всех золоченых портсигаров и бюваров, поднесенных вам когда-то «от товарищей и подчиненных» — в мирное еще время. А эти стыдливые и прячущиеся за мифическими «мошками» и соринками слезы — равны пожалуй только одним слезам — слезам бедных матерей…
Нас сроднили серые шинели у всех — сверху донизу…
Их грубое, шершавое и колючее сукно покрывает все — и барские и небарские тела…
И добровольцы, юноши с будущим, с высшим образованием — тоже слились в общую нашу великую единым духом семью…
Только вот напрасно их так много. Наших рук хватит и без них в тяжелой борьбе. Еще мы понимаем специалистов — спортсменов, автомобилистов, мотористов и прочих «истов».
Они нужны. Они знают свое дело…
Но бедные полудети, едва ознакомившиеся с затвором нашей винтовки… Зачем они? Это напрасные жертвы! Там, где профессионал-солдат сумеет вывернуться даже и из тяжелого положения, — доброволец погибнет… Потому что он «малограмотен» в сложной азбуке нашего дела, состоящего из миллионов на вид совсем незначительных мелочей…
Потому еще, что он храбр «без пути», как говорят солдаты… Он любопытен и часто плошает.
Ну, а там всякая оплошность — верная пуля в висок… И в каждой части почти первыми выбывают добровольцы… А ведь это часто квинтэссенция нашей будущей культуры, нашей науки и всего будущего нашей страны! И становится обидно и досадно, когда глядишь на то лохматое и измятое, что было только что кандидатом прав… А матери, получившей из полка университетский значок сына, снятый с разорванной шинели перед опусканием тела в общую яму, — еще, наверное, обиднее и досаднее, не говоря уже о горе ее, понятном и большом.
А уж дети-добровольцы — те совсем вздор!
Конечно, каждая часть их приютит, хотя бы потому, что во всех русских ротах, эскадронах и батареях живет обычай иметь что-нибудь живое и беспомощнее при своем общем котле. В мирное время во взводах и конюшнях казарм — носятся разные «Шарики» и «Пестрики» с репееподобными хвостами и с наеденными «на вольной еде» пузами.
А теперь «Шарики» разбежались. А надо же хоть кому-нибудь быть нужными, сунуть огрызенный кусочек сахару или позеленевшую от сырости копейку! Надо же приласкать кого-нибудь и излить на него всю нежность и ласку, не имеющую выхода здесь, вдали от родных и желанных, в чужом краю.
И вот солдатишки нянчатся с малышом, сидя у привальных костров. Хохочут и потешаются над его вопросами, наивными, детскими… И гладят его заскорузлыми лапищами по стриженой головенке, так же и с таким же чувством «солдатской жалости», как гладят и козленка и кутенка…
Но вот — тревога! Сыпятся выстрелы, и помрачневшие от жестоко прерванного сна солдаты строятся, наскоро оправляя амуницию.
— Горе с малышом! — разоспался и отбивается — хнычет… Что с ним делать? Одна возня лишняя! А в бою и подавно… Ведь жалко, что парнишку зря совсем «забьют»…
А в бою жалость всякая развинчивает и нервирует. Поглядишь, да и своих ребятенков вспомнишь… и тяжело станет… Да и вообще всем он мешает… Тычется зря, под пули лезет… Болтает…
Еле-еле удается под конец сплавить малыша куда-нибудь назад, в тыл.
А много их ведь и ранено бывает и убито. К чему, зачем?
И без того лазареты полны… Лучшие силы страны, волей страшной птицы Рока, — превращаются в размозженные груды «пушечного мяса»…
Нет! Не надо, не туда, туда пускать детей…
Еще одна ненормальность — что тьма там частных лазаретов.
Попадают туда раненые и конфузятся нередко, так как чувствуют себя чем-то будто бы обязанными перед приютившими их людьми. И терпеливо выносят расспросы бесчисленных, «от нечего делать» и по знакомству с хозяевами лазарета, посетителей и особенно посетительниц. А во многих таких организационных лазаретах такое перепроизводство сестер милосердия, что им буквально нечего там делать. И один вернувшийся снова на позиции к нам мой казачонок препотешно рассказывал нам, как за ним ухаживали в одном таком лазарете.
— И подходит, это, ко мине еще одна «сестрица», нарядная такая, да душистая. И говорит:
— Давай, грит, я тебе, казачок, домой напишу…
— Да, я, говорю, барыня, уж никак третье письмо севодни-то так написал… Все «сестрицы» помогают. Одна пишет, другая пишет, и все-то одно и то же и в один день…
— Ну, и что же тебе «сестрица» душистая ответила, — смеясь спросили мы.
— Она-то? А так-чте поморщилась быдто, а потом, грит, соседке, тоже «милосердной» — и какие они грит бесчувственные, да не благодарные! Тяжело с имя, грит.
А потом села рядом у тумбочки, да так сердито мне:
— Ну, говори адрес, все равно, уж напишу…
— Помилуйте, говорю ей, барыня — да ведь это уж четвертое письмо домой севодни будет! У меня в станице-те чай меня за спятившего признают… Да опять же, обратно я сам грамотный, — городское кончил…
Как она в мене взъестся!
— Так что ж ты, говорит, смеешься с мене, что ли? И ушла сердитая такая, — беззлобно усмехнулся казачонок.
— Ну, а потом? — подбодрили мы его.
— А так, что вечером мимо одна пришла, и всеж-таки написала четвертое… Ништо, говорит, что ты грамотнай, тибе чижело чай самому-то… А только, так что оно мине показывается што это они от безделья…
А другой, тоже раненый и воротившийся в строй казак подтвердил вышесказанное и еще деловито добавил:
— А што самое невдобное выходит, так ежели это дамов много наберется и жужжать вокруг… Ну, известно, им тута и весело, их много, а дела нету… А тут, значит, «до ветру» надоть… Сам-то не может, а санитаров округ нету — одни дамы тольки… Ну, совеститься себе и терпишь, и терпишь, в пот вгонит. А оне свое. — Гыр-гыр-гыр, да гыр-гыр-гыр…
— Бид-а-а! — покрутил он головой.
Да. Беда действительно из святого дела выходит le dernier crie de la mode.
А ведь многие дамы из общества только потому и тычутся там, по лазаретам, чтобы потом иметь возможность, сидя в обществе, щегольнуть — показать холеные руки в бриллиантах и сказать:
— Эти руки перевязывали раненых, и на них следы святого дела (и дрожь в голосе пущена!).
— Делали?
Впрочем, во время всемирной войны все спуталось.
Факты геройства, безумного и яркого…
Жертвы громадные и сердечные… Самолюбование и мелочность… Темные инстинкты дельцов, строящих цифровые козни среди шума кипучей и интенсивной жизни, под раскаты залпов и стоны людей… Милосердие рядом бездельными выходками для моды…
Страдание и радость возвращения хотя и с подбитой ногой, но живого и близкого…
Жизнь и Смерть — две великие силы мира спутались и кружатся в стихийном, все сметающем вихре…
Рушатся города, чтоб отстроиться вновь…
Стонет под ударами железа искусство…
Падают столпы науки, и она сама пугливо прячется, косясь на кровавые поля боев…
Разрушается все почти, что создал гений бессмертного ума, и покрывается налетом кровавой копоти для того, чтобы потом, когда затихнут опустелые сверху, но полный внизу трупами долины Смерти, вспыхнуть вновь ярким пламенем феникса и, назло нелепой Смерти, — создать вновь Царство света, яркой жизни и вечной Красоты, — этой мощной жизненной силы…
А пока грохочут орудия и валится ежедневно тридцать пять тысяч трупов, на всех дорогах и холмах Европы, — пока мечется стиснутое железом и огнем и взбаламученное вихрем мутное море жизни, — лучше быть там. Где все просто и ясно. Где нет лжи перед лицом Смерти. Где все равны, и живые и мертвые. Где дышится легко и просто до тех пор, пока… дышится… Где нет злобы, распутства, зависти, мод, жадной наживы, лживых выспренних слов — где и в сумраке холодных ночей и в тусклом свете боевого дня — есть только Жизнь и борющаяся с нею Смерть.
Там хорошо… И три месяца, проведенные мною в борьбе, дают мне сознание, что и я принес свою посильную пользу вскормившей меня моей Стране.


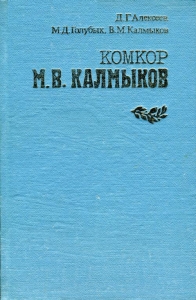





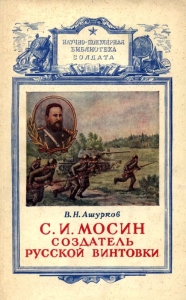
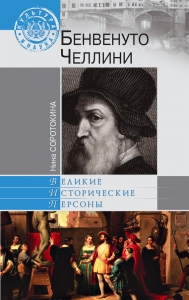
Комментарии к книге «Три месяца в бою. Дневник казачьего офицера», Леонид Викторович Саянский
Всего 0 комментариев