Владимир Орлов Усы (Сборник рассказов, эссе, интервью)
* * *
РАССКАЗЫ
Лучшие довоенные усы
1
Я попытался быстро выйти из Дома Литераторов, шел, глядя перед собой, не дай Бог, наткнуться взглядом на кого-либо из знакомых (и не знакомых), сидевших за столиками в Пестром буфете, и уперся лбом в грудь высокого человека.
— Ты-то мне и нужен, — услышал я голос Евтушенко.
Евтушенко был виден мной и на стене буфета. Средний буфет Дома, самый людный, однажды, и на несколько дней был отдан под «граффити» художникам, как было объявлено, с чувством юмора, и красочные пятна их шаржей и картинок с комическими сюжетами позволили называть Средний буфет Цветным. Или Пестрым. Недалеко от стойки буфета на стене был изображен и знакомый всем поэт. Он стоял и словно в удивлении смотрел на консервную банку. Подпись сбоку от рисунка сообщала: «Здесь ел тушенку Евтушенко».
Нынешний Евтушенко ничего не ел, а будто бы отлавливал добычу. За мной он, похоже, следовал из Дубового зала.
— Значит так, — сказал Евтушенко, — завтра без пяти восемь ты должен быть на «Мосфильме». Кабинет мой и нашей группы в известном тебе Объединении на втором этаже. Ты знаешь, где это…
— Знаю… — пробормотал я.
— Говорят, ты прочитал мои «Ягодные места»!
«Так, — подумал я, — кто-то уже доложил Жене о моем отношении к его «Ягодным местам»…
— Прочитал, — с вызовом произнес я. — И что?
— Мне важно услышать от тебя суждение о моем романе, — сказал Евтушенко.
— Я сейчас не в состоянии… — опять пробормотал я. — Или захвалю. Или наговорю всякую чушь. Вот завтра…
— Хорошо, — сказал Евгений Александрович. — Завтра, значит, без пяти восемь съемочная группа ждет тебя.
«Как же! Сейчас! В шесть встану и побегу прямо на «Мосфильм»! — соображал я.
Разыгрывал я отравленного алкоголем, но пьяным вовсе не был, просто не желал участвовать в съемках какого-либо фильма, хотя бы потому, что завтра намерен был выспаться.
2
Отношения с Евгением Александровичем складывались у нас своеобразно, с некими недоумениями (или недоразумениями). Или вообще никак не складывались. Позже, фильм «Детский сад» был уже снят, Женя подписал мне первый том своего собрания сочинений словами: «Володе, марьинорощинскому хулигану, бившему меня в детстве…» Но, во-первых, я не был марьинорощинским (и не хотел им быть). Я рос в Напрудном переулке, между Второй и Третьей Мещанскими, то есть был москвичом, а не каким-то забортным («затрифоновским») жителем, приписанным к дачным поселкам за Рижским вокзалом и невидимыми границами Камер-Коллежского вала. Евгений Александрович рос тоже в Мещанской слободе, но на полтора километра ближе меня к Кремлю, на Четвертой Мещанской (она-то после социальных улучшений столичной топонимики, скажем, удаления позорных будто бы слов «мещане» с трех названий, а Первую Мещанскую и вообще облагородили бантом, или орденской лентой, — возвели в Проспект Мира, она-то, Четвертая Мещанская, осталась единственной именно Мещанской, потеряв при этом свой порядковый номер). Учились с Евтушенкой мы в разных школах, он — напротив Безбожного переулка, я — на Первой Мещанской, а главное — я был моложе его на четыре года, и бить этого верзилу (а уже в его шестнадцать лет фотографию самого юного участника Совещания молодых писателей — и в полный рост! — дали многие газеты) не имел возможности. И тем более нужды.
Однако теоретически…
Однако теоретически в нашем переулке Евтушенко появляться мог. На углу Напрудного и Третьей Мещанской стояла Двести Сорок Пятая школа. В ней, в единственной полуподвальной квартире, ведомственной, проживал (мать его работала в Районо) мой приятель Адик Чумаков, по прозвищу Американец. Он был длинный и тощий, стало быть, Американец. Но в метриках он значился вовсе не Адиком, а имел гнусное имя Адольф, коли бы знали об этом мальчишки ни за какие подвиги он не смог выпрыгнуть из клички Фриц. Так вот Адик учился в одном классе с Женей Евтушенко, а об этом юном таланте ходили в Мещанской Слободе легенды, и некоторые из них я, ковырявший уже тогда какие-то стишки, услышал как раз от Адика. Не исключаю, что о них мог слышать и мальчик Володя Высоцкий. Он жил на Первой Мещанской, у Рижского вокзала и был определен в новую школу на соседней с нами Переяславке…
В Двести Сорок Пятой же школе, новенькой к лету сорок первого, в годы войны и несколько лет после нее дети не учились. Здание было казармой для поднебесных девушек из ПВХО. Девушки эти водили, как слонов, аэростаты по Третьей Мещанской и по Трифоновской (тихо-пограничной с Марьиной Рощей), именно водили, не таскали же веревками и канатами заградительные серозеленые колбасы. Война шла ко Дню Победы, служба девушек была теперь связана больше с хлопотами салютными, где-то невдалеке от нас, у площади Коммуны вроде бы, пиротехники отправляли в небо по вечерам фейерверочные букеты, рассыпчатые и трескучие. Слонов девушки-погоняльщицы прогуливали теперь по асфальтам и булыжникам реже. (Сейчас вспомнилось: шел тогда трофейный фильм «Маленький погонщик слонов», вот слоны и застряли в голове). Но наша армия «всех сильней» была крепка духом, уставы исполнялись без послаблений, и девушек, забыв на время о приданных им воздушных существах, муштровали строевыми упражнениями по плацевым ровностям Третьей Мещанской (она упиралась в кинотеатр «Форум» на Садовом кольце, где, по легендам, между сеансами пела мама Евтушенки, мечтавшая, по словам, уже достоверным, самого Евгения Александровича, о том, чтобы ее сын получил высшее образование). Так вот, поднебесные девушки возобновляли умение по земному (или по парадному) ставить тренированные ноги в коротких сапожках (и юбки их чуть выше колен были хороши), приманивая зевак на тротуары Третьей Мещанской, выскакивали даже из переулков ради зрелища самодовольные «виллисы» и «амфибии» из поставок союзников (булыжник Трифоновской оставался верен трамваям), а в недра Двести Сорок Пятой школы уже залетали мирные ветерки. Там, скажем, решили разместить школу корректоров. Речь об этом в нашем дворе шла. Корректоры мало кого волновали, а вот слухи о том, что школьный двор обнесут стальным забором с жердями-пиками, волновали. В пустом дворе этом были для нас футбольные поля («в одни ворота») и короткие дороги к Ржевским баням. Не лазать же в бани нам, не имевшим в коммуналках и горячей воды в кранах, теперь и через заборы? Пришлось…
Но в школу корректоров, по легенде Адика Американца, вроде бы намеревался поступать молодой поэт. Достоверна эта легенда или нет, мне неведомо. Но в наших блатных переулках, впадавших в Мещанские улицы, он вполне мог оказаться — уж не знаю, по какой причине! — и избитым. Однако в своем автографе Евгений Александрович наводил на меня напраслину. Я не только не был марьинорощинским, но и его я не бил. Я вообще не был драчуном…
Но теперь об этом оставалось только жалеть.
3
«Теперь» — это на утро после призыва меня Евгением Александровичем на «Мосфильм».
В шесть утра меня, утомленного жизнью и трудами, с удовольствием принялась будить жена: «Ты обещал Евтушенке!..»
Жаворонок!
Но пока ее слова не вызвали во мне гневного отпора. Я лишь вспомнил, как вчера Евгений Александрович обосновывал свое желание видеть мою марьинорощинскую рожу в массовке «Детского сада». «Старик, — говорил начинающий режиссер, — ты сам знаешь, что такое мосфильмовская массовка. Редко, кто из-за трех рублей. Эти — циники и любители студийных буфетов. Остальные же — индюки, лелеющие в себе гениев. Им все равно, кого изображать — палача ли Марии Стюарт, участника ли репинского крестного хода, или латышского стрелка. А у вас лица свежие. Штампы вам пока недоступны. И по три рубля вы у меня выторговывать не будете, я человек бедный. Но хорошим виски я смогу вас угостить…»
Оценка Евгением Александровичем мосфильмовской массовки была справедливой. Но именно он решил стать режиссером, пусть с этой оценкой и проживает.
И я натянул на мутную голову одеяло. Сейчас же бы всем моим соображениям впасть в спячку. Ан нет. «Как же, бедный! — ворочался я. — И лица у нас свежие! Это из-за того, что по три рубля не потребуем…» Среди свежих лиц были перечислены люди молодо-знаменитые — писатели, музыканты, художники из бульдозерных. Женя всегда сгребал себе в окружение людей модных. Стало быть, и я превратился после одной из своих последних публикаций в модного, для Евгения Александровича, человека? Надо же! Еще совсем недавно при встречах с читателями журнала «Юность» Евгений Александрович (в «Юности» нас и познакомили) лишь молча раскланивался со мной…
— Вставай! Вставай! — требовала жена. — Сейчас Евтушенко снова позвонит!
— Пошел он бы он подальше, — заявил я. — Сама знаешь куда! Туда его и пошли!
— Не смогу… — растерялась жена.
— Не сможешь, тогда и не мешай мне спать!
И одеяло снова, но более категорично, накрыло мне голову.
И ведь помогло.
До семи удалось передремать и вызвать мечты о безделье в выходной день. Но тут меня начали нагло будоражить.
— Евтушенко звонил еще два раза! — меня уже за ухо тянули к кинопроизводству. — Вставай!
— Пошел бы он… — попытался промычать я.
И были произнесены слова:
— И еще он просил, чтобы ты не забыл паспорт. Иначе тебе не выдадут оружие.
Подо мной сейчас же взыграла воздушная подушка, и я взлетел к потолку. То-есть ни к какому потолку я не взлетел, просто быстро вскочил на ноги и отправился к душу. В зеркале физиономия моя показалась мне ущербно-опухшей, но на долгие процедуры в ванной времени не было, душ и душ, ну, и еще бритва «Филипс».
Экое чудодейственное слово для мужика, да еще и старшего лейтенанта запаса мотопехоты, — «оружие»! На кой хрен мне было это мосфильмовское оружие, наверняка, какая-нибудь раскрашенная деревяшка или железка, похожая на револьвер? И вот, как идиот, я вскочил и понесся метрополитеном и автобусом к северным воротам «Мосфильма»! До сих пор не могу дать объяснение тогдашних утренних воодушевлений. Впрочем, и не ищу его.
Я опоздал на полчаса. Но, судя по тому, что основные помощники режиссера сидели пока в помещении съемочной группы «Детского сада», можно было понять, что свет еще не установлен. Или, напротив, что-нибудь на площадке уже напортачено.
Евгений Александрович читал стихи.
В других съемочных группах ничего подобного быть не могло. С богослужением это зрелище и звуковое действо сравнивать было бы, конечно, кощунственно, но чтение стихов мастером явно возносило его сподвижников в романтико-воздушное состояние, в чистоту творческих отношений, в которых невозможны были бы паскудные каверзы тщеславных осветителей и бестолковые усердия монтировщиков. И лампы «Юпитеров» со взрывами там не перегорали.
Тем более, что читал Евгений Александрович прекрасно.
Как он был одет, я уже не помню. Время склеилось, а потом спрессовалось и засохло, а новейшие впечатления искрошили впечатления прежние, а то и первичные. Вот уж много лет я вижу Евгения Александровича лишь на экране телевизора. Одеяния его, как правило, свободного покроя, порой от гавайцев или таитян с яркостями пестрых клеток или прогибов огуречно-батикового орнамента. Иным в голову приходят мысли о клоунах и порхающих в экваториальных лесах птицах. Да пусть клоуны, пусть экваториальные птицы! Истинный художник имеет право на вольности. Помимо всего прочего в натуре Евгения Александровича природой поселен — Артист (при этом отчасти — и наш, «мещанский» понтярщик), но никогда в своих нарядах он не был пошл. Во всем был элегантен, в какие бы заскоки не впадал (в пору отторжения от красных галстуков ходил и балаковским щеголем, и стилягой), любые костюмы носить умел, проявлял осанку в выходах к тысячам поклонников, танцевал и двигался замечательно. Вот и тогда, в день начала съемок «Детского сада» он стоял лицом к завороженной публике будто с бокалом шампанского во вскинутой («кружева на манжетах») руке в заздравной сцене «Травиаты» и был безупречно пластичен.
А я все испортил.
Но не сразу.
— А вот и наш небожитель! — воскликнул Евгений Александрович. — Пусть хоть на неделю! Вчера он дочитал мой первый роман «Ягодные места» и пообещал обнародовать о нем свои впечатления.
— Жень, — сказал я. — Тебе дано писать стихи, а проза твоя куда хуже стихов…
Все замерли. Лишь пузырьки шампанского продолжали вырываться из исчезнувшего бокала. А кружева с манжетов опали.
— Я так и думал, — печально сказал Евтушенко. — Я тоже бросил читать твой роман, устав от чрезмерной эксплуатации автором текстов Булгакова.
Можно было возвращаться домой. Не жалел, что не соврал и выдавил из себя неискаженное мнение о «Ягодных местах». Потом стал жалеть. Вполне возможно, я выплеснул совиное раздражение невыспавшегося сибарита, зачем-то понесшегося к актерским мармеладам, и оценка моя несправедлива. Зачем испортил людям настроение? Мог бы объясниться с Женей и не на людях… Но ему, видимо, публика была необходима. Он спросил, я ответил… Извиняться или размазывать свои слова не было смысла.
— Вот что, — сказал Евтушенко, — раз уж ты совершил подвиг и смог явиться к нам, мы оставляем тебя в массовке. Оружие сейчас, после восьми, ты вряд ли получишь. Оружейник у нас зверь. Но сходи, попытайся… Придется унижаться, но что поделаешь… И одежонку — по роли — попробуй получить…
— Это где? — тупо спросил я.
— А вот Боря Чинцов, ассистент по массовке, тебя проводит…
4
Поначалу Чинцов был быстр и энергичен.
«Мосфильм», как известно, промышленное предприятие с цехами-павильонами. И с высоченными заводскими коридорами-проездами, обычно пустыми, и, даже поорав перед тем в мегафоны «Ay! Ay!», вызнать в них о том, что где, и как, и куда идти, практически невозможно.
И вдруг Чинцов разволновался. Заяц почувствовал запах волка. Или присутствие в лесу, в километре от своей вольной пробежки, опасного мужика с гадкой вонью пороха и чищенного металла.
— Что это вы? — обеспокоился я.
— Желудок, — нервно сказал Чинцов. — Тут как раз туалет. Иначе бежать на четвертый этаж. А оружие — вот за этим углом. Дорогу в группу вы найдете? Или подождать вас здесь?
— Ждать не надо, — сказал я. — Дорогу обратно найду.
А отчего-то тревожно стало…
За поворотом коридора открылся вдруг будто торговый уголок. Слева на плечиках висели вещи, смысл пребывания которых здесь стал понятен мне не сразу. Справа был будто бы парково-стрелковый тир с жертвенными зайчиками, белочками, барсуками, перелетными утками и отчего-то с австралийским зверем комбат (трафарет рядом сообщал: «Комбат» — 400 %», процентов чего — не разъяснялось). Распорядитель тира (или хозяин его) спал, положив голову и грудь на кассовый прилавок тира. Мой приход заставил его на секунду поднять голову, этого было достаточно. Для меня тоже.
— До восьми утра, — пробормотал оружейник. И вернулся в сон.
— У меня паспорт есть, — искательно заговорил я. — Я из группы «Детский сад». Меня там ждут. Иначе случится простой.
— Вот и идите в свой детский сад. Небось, на утренники с мандаринами и карамелью не опаздываете. А у нас здесь люди взрослые.
Я был ему неинтересен. Сам оружейник вид имел свирепый, нос его перезревшей желто-белой сливой свисал на бок, уцелевшие клыки казались клыками вампира, валенки же, явно подшитые на Гаити, будто бы были подарены оружейнику Карибскими пиратами.
Мне стали понятны волнения и желудочные опасения ассистента Чинцова.
— Вы были куда вежливее и расторопнее, — сумел выговорить я, — когда расстреливали Крючкова.
— Какого Крючкова? — глаза оружейника приоткрылись.
— Николая Афанасьевича Крючкова. Какого же еще? Народного любимца! Верного сталинца. Потом он, правда, у Пырьева стал одним из трех танкистов. Но прежде в фильме Юткевича вы его расстреляли на волжском берегу по распоряжению негодяя Зиновьева, — сказал я.
— Вы помните? Вы меня запомнили?! — оружейник глядел на меня восторженно и будто не мог поверить в счастье, ему привалившее.
— Конечно, — великодушно заявил я. — Еще в студенческие годы три раза смотрел «Яков Свердлов». И другие фильмы с вашим участием. И теперь по ТВ нет-нет, но ваши фильмы показывают…
Теперь, по-моему, я мог унести весь арсенал оружейника. Не оставляя паспорта за него в залог. Однако из вежливости пришлось продолжить разговор, слава Богу, в нем не возникло надобности врать. Нынешний оружейник на самом деле был некогда в кино ходовым актером. Играл бандитов, возможно, что и пиратов, немецких извергов, врагов народа, суровых комиссаров и чекистов с хрустальными душами. И тем, и другим соответствовал темпераментом и ярким обликом. Когда воспоминания стали переходить в печали нынешнего дня (и ко мне пришли печали хотя бы и о судьбе оружейника, да и о своей, будущей), я был вынужден напомнить собеседнику о заторе фильма о военном детстве.
Через семь минут (оружейник отвел меня к ближней лестнице на второй этаж) я явился в съемочную группу «Детского сада», имея при себе мосинскую винтовку с оттянутым штыком, одетый в неведомо на что похожую, якобы довоенную куртку, помятую кепку, кирзовые сапоги, в них пришлось заправить джинсы. Ополченцем сорок первого года я при этом, увы, себя не ощущал…
— Надо же, как ты быстро-то! — удивился режиссер. — И с оружием!
Но, похоже, он удивился тому, что оружейник не пропорол меня штыком мосинской винтовки, а живым вернул в массовку.
— Все благодаря вашему имени! — с воодушевлением произнес я. — Как только оружейник узнал, что я снимаюсь у самого Евтушенки, так сразу на стол и оружие, и обмундирование.
— Ага! И джинсы среди прочего! Острить изволите! — сказал режиссер. — А что это ты такой отмытый и отчищенный!? Гордеев, сделайте ему небритость!
Гордеев был старший гример в нашей группе. Осмотрев мою физиономию, он не нашел поводов для усердий большого художника, а передоверил работу ассистентке Людочке и остался ею (работой) доволен. Мне было предложено зеркальце, я взглянул в него и ужаснулся. Нечто в черных угрях показывало мне язык.
— Плохо! Плохо! — воскликнул Евтушенко. — Он будто не знает, что началась война! Он будто полил себя тройным одеколоном, или в рот его плеснул, и двинул в парк культуры крушить барышень! Ишь, какой беспечный разложенец!.. Вот что, Гордеев, сделайте этому флейтисту лучшие довоенные усы!
— Альтисту, Евгений Александрович, не флейтисту. Альтисту…
В интонациях старшего гримера тихо выявился некий протест. Или даже сочувствие ко мне…
— Да какое значение имеет, — повелительно и с раздражением взмахнул рукой режиссер, — флейтиста или альтиста!? Главное, чтобы его смогли хоть чуть-чуть украсить лучшие довоенные усы!
И началась забава.
Стало быть, пустое время еще было.
Сам Евгений Александрович молча уселся за руководящий стол с неизбежно-важной, но необязательной сейчас лампой и стал будто бы черпать (неизвестно что, вдохновение ли, просто ли рабочее состояние) из начальных страниц режиссерского сценария. При этом чуть ли не ребенком поглядывал на игру с выборами для флейтиста-альтиста довоенных усов. То ли завидовал временным бездельникам из своей группы, то ли пытался понять, что они за люди. (Мельком я уловил новый для Евгения Александровича жест. Густые и жесткие волосы его, видимо, стали редеть, его это тяготило, и он приминал правой рукой прямые светлые пряди в старании упрятать, убрать их с глаз поклонников трибуна и лирика. Уже потом пошли в дело кавказские покрытия-кепи в клетку).
А мне все клеили и клеили довоенные усы. У гримера Гордеева, продолжавшего относиться ко мне (или к моим текстам) с симпатией, обнаружился целый склад усов в коробочках, похожих на орденские. Сначала были опробованы усы стахановцев. Потом Гордеев уважил усы из коробки «Полярники». И тем, и другим сочетание с моей физиономией удач не принесло. Увы… Стало даже обидно за полярников (Папанина прежде всего), и за стахановцев. Я-то ладно… Мне усы, возможно, и вовсе в реальной жизни не были положены. (Потом, правда, через годы они на мне — и неожиданно — все же состоялись). А тогда украшали меня и усами пожарного. Я в них стал похож на каланчу. Или на Семена Михайловича Буденного. Журналистом я по делам общался некогда с Буденным. Понял: уход за его усами, а в комплекте и за его бровями требует нескольких часов в день. И для цели этой следовало иметь салон-конюшню со стилистами-есаулами. Правда, клиент этого салона вряд ли бы стал пробиваться в ополченцы, ему явно хватило бы маршальских занятий… Гримеры возились со мной озабоченные…
— Что вы там застряли с этим ополченцем! — с раздражением напомнил о себе режиссер. — Если не знаете моду тех лет, возбудите в памяти образы лучших тогдашних персонажей с усами! Без бород! Без бород!
Ко мне была придвинута палехская шкатулка. Не маленькая. С летящей по искристому снегу тройкой на лаковой крышке. Оказалось: клад с усами лучших довоенных персонажей.
И зашелестело. «Ворошилов… Каганович… Калинин… нет, этот с бородкой (испуганный огляд на режиссера, и усы всенародного дедушки были возвращены в шкатулку)… дядя Степа (но имел ли дядя Степа усы, вспомнить не могли, да и кто этот дядя Степа?)…» Ну, и так далее…
Ах, да! Чуть было не обмишурились! А Молотов! А Берия! А Иосиф Виссарионович!
И начались попытки преобразований меня в человека, достойного быть ополченцем и защищать Москву. Мои мнения при этом важности не имели. Надо сказать, что почти все усы, наклеиваемые на раздраженную уже верхнюю губу (щипало, зудело) мне не нравились. К тому все они были похожи друг на друга. Будто бы знаменитые дяденьки, исходя из каких-то, им понятных, политических или карьерных представлений, полагали, что носить усы, знаком благонадежной важности, им необходимо, но необходимо и соблюдение ими же правил приличия партийной субординации и скромности. И уж никак нельзя было перещеголять усы рыжего тараканища (это уже из смелостей и ехидств нашего поколения, могли их себе позволить). А при соблюдении приличий прежнего усозаведения, использовались, как правило, две формы — куцый вертикальный прямоугольник под носом (Берия, Молотов, Каганович) и прямоугольник подлиннее, иногда с чуть острыми завершениями. С куцыми усами я был себе противен. Да и с любыми другими тоже.
А главное все больше раздражался режиссер. Он давно уже бросил изучение сценария и свои творческие усилия перенес на создание образа ополченца с усами.
— Нет! Нет! Нет! — слышались оценки режиссера. — Нет!
Тут прибежал ассистент Чинцов с вестью о готовности к началам съемок.
— Ну вот, дождались! Столько времени ушло на этого! То оружие, то усы… Капризы! Без всяких на них оснований! Более ни секунды! — заявил режиссер. — Это что у вас за серебряный сундучок?
— Ну… это сейф… — смутился старший гример Гордеев. — На крайний случай…
— И не нужны мне усы, — обрадовался я.
— Здесь все решает режиссер! Ему определять, кому нужны усы и какие, а кому не нужны. Гордеев, открывайте сундучок!
Гордеев и его ассистентша Людочка, казалось, телами готовы были встать на защиту самоценности и тайн сундучка, но зачем они тогда принесли его в группу? Наконец, Гордеев уступил напору режиссера-постановщика и серебряным же (на вид) ключом отворил недра сейфа-сундука. В нем было два отсека. В одном хранились какие-то темные стеклышки, чуть вогнутые, в другом — укутанные в шелковую тряпицу усы.
— Вот эти и клейте! — распорядился режиссер.
— Их нельзя, — робко заговорил Гордеев. — Их можно только по письменному разрешению директора студии… Они…
Напрасно Гордеев в подкрепление себе вызвал чье-то письменное разрешение. Что значил сейчас для Евгения Александровича какой-то директор «Мосфильма», пусть даже и Генеральный?
— Вот эти и клейте! — голосом маршала Жукова произнес Евгений Александрович. — А я ухожу на натуру. И ты с усами (это ко мне) сразу же беги туда! А то солнце зайдет.
И ушел. Гордеев со вздохами («мне потом за все расплачиваться…»), Людочка с печалями в глазах («надо же, садист какой-то, о репутациях людей не думает… вы (мне) не расстраивайтесь и в зеркала особо не глядите…). У меня и времени не было разглядывать себя. Усы как усы. Довоенные. Ничем не лучше и не хуже усов, скажем, Папанина или Кагановича. И клея на них ушло мало. Они сами словно бы вцепились мне в губу. («Таких технологий у нас нет… — шепнул Гордеев).
Но что мне было думать о технологиях!
5
Первый эпизод фильма на натуре «Проход ополченцев сорок первого года» снимали в северо-восточном аллейном углу мосфильмовской усадьбы. С севера, за металлическим забором, протекала в Троекурово Мосфильмовская улица, на востоке гнали автомобили и троллейбусы мимо тогдашней Рублевки — светлейших особняков поселка «Застава Ильича».
Шутка Евгения Александровича по поводу захода солнца могла превратиться в сумеречную реальность.
Мосфильмовские ветераны массовок давно разучились ходить строем, приглашенные режиссером персонажи свое на плацах и смотрах тоже давно отходили, а, ощущая себя художниками-индивидуумами, иные и избалованные удачами у публики, передвигались как бы лениво и явно подавляя в себе протесты по поводу указаний режиссера и в особенности оператора с ассистентами и осветителей.
Словом, не меньше часа ушло на перестроение медлительных и бестолковых фрондеров в корявую, с изгибами дождевого червя, колонну. И бежать-то никуда с противогазами на мозгах не предстояло, а были обещаны лишь крупные планы (каждому!), пусть и без текстов, тем не менее, колонна приобрела некую форму не сразу. Я должен был шагать в ряду с Женей Сидоровым, будущим министром Культуры, летчиком-фронтовиком, а нынче — писателем Артемом Анфиногеновым и популярным в те дни автором повести «Живая вода» Володей Крупиным. Гнусил дождичек, пробивался за шиворот ознобный ветерок, и воодушевление любопытства к чудесам чужой профессии вместе с детскими надеждами («вдруг получусь на шосткинской пленке неожиданным красавцом») потихоньку истекало из каждого из нас.
А у меня в карманах джинсов имелись три прижатые к телу воблы. С икрой.
Я вызнал у гримера Гордеева, имеется ли нынче в буфете «Мосфильма» чешское пиво. «Да, — сказал Гордеев. — «Старопрамен»».
Что нам стоило пережить еще несколько дублей «Детского сада»!
6
Но толкотня на асфальтовой тропе стала надоедать. Евгений Александрович, похоже, был способен со славой провести сражение под Ватерлоо, в полной уверенности, что сокрушит Бонапарта без Веллингтона и немцев, а может даже и без самого Сергея Федоровича Бондарчука, у того, правда, Ватерлоо размещалось в Карпатах, но управиться с движением колонны ополченцев и с большим напряжением натуры у него не получалось. И я в его усердиях ощущал себя бестолочью, а однажды, покачнувшись, сам заехал по плечу режиссеру штыком мосинской винтовки. «Меня еще и штыками бьют!» — воскликнул Евгений Александрович. Возможно, имея в виду не одну лишь локальную съемочную ситуацию, а всю свою судьбу в совокупности.
Удивляла суета вблизи меня гримера Гордеева и его ассистентки Людочки. Прежние любезности Гордеева и Люды сменились беспокойством. Они будто бы ловили на мне комаров. Если происходили заминки, а их случалось много, они подскакивали ко мне с мало деликатными заботами и принимались обследовать усы. Гордеев, как мне казалось, слишком бесцеремонно ощупывал мою верхнюю губу, а его помощница раздражающе часто проводила кисточкой по щетине усов. Одно из ее движений вызвало мою неприязнь и желание уклониться от маневра уже и не комара, а шершня. Я почти ударил Людочку по руке, вызвав слезы на ее глазах.
— Простите… — произнес я. — Но что с вами? От чего мы не можете успокоиться?
— Ветер… — смутился Гордеев. — Может сорвать усы. А их затопчут.
— Да! Ветер! Колючий, мокрый! — подтвердила Людочка. — Вы не обижайтесь. Коли какой недосмотр будет, растреплет что-нибудь, нам от Евгения Александровича влетит.
Но на режиссера Гордеев с Людочкой, пожалуй, не часто посматривали. И очень скоро моя догадка о том, что вовсе не опасения получить нагоняй от режиссера-постановщика, вызывали подскоки ко мне гримеров с общупыванием верхней губы. Объяснение Гордеевым сути их забот меня уже не удивило. Они с Людочкой оберегали художественные ценности государственной важности. Вот что! Так мне была открыта «тайна серебряного сундучка» — волшебного оснащения фабрики грез.
Как только последний, на сегодня, дубль был отснят, Гордеев с Людочкой тут же избавили меня от лучших довоенных усов, убрали их в студийный тайник, укутали, упокоили их в нем и, взмахнув крыльями, отлетели в помещения за крепостными стенами «Мосфильма».
Тем временем киношный народ не расходился. И приглашенные мастером люди, и профессиональные толпуны будто чего-то ожидали. Было бы пошлым думать, что бескорыстные служители искусства (фанаты кинематографии за три рубля в сутки в расчет не принимались) стояли в ожидании обогрева с помощью обещанного Евгением Александровичем ячменного шотландского напитка. Впрочем, отчего же и не обогреть-то. Раз обещал.
Так или иначе, народ стоял под мокрым ветром, используя, видимо, свои средства обогрева.
А для режиссера-постановщика словно бы и не было сейчас ни темнеющего мокрого неба, ни автомобилей с троллейбусами на Мосфильмовской улице, ни ополченцев, покуривавших и болтавших всякий вздор на углу студийной усадьбы. Впрочем, ополченцы в соображениях Е. А., конечно, были. И режиссер, отспорив о чем-то с операторами и ассистентами, воскричал в мегафон:
— Построение! В войну не так мокли и мерзли! Еще два дубля!
Энергия Евгения Александровича была сейчас такова, что колонна возобновила себя в прежних формах и наличиях.
И я, пусть и с невысказанными протестами, возвратился в ряд с Сидоровым, Анфиногеновым и Крупиным.
И тут же вблизи меня, будто шампиньонами сквозь асфальты, проросли гример Гордеев и его помощница Людочка. Гордеев нервно коснулся моей губы. Тут же отдернул руку, извинился. Ему бы успокоиться, убедиться в том, что усов на мне нет и вернуться к серебряному хранилищу. Нет, не успокоился, а принялся уговаривать меня сейчас же покинуть студию, или хотя бы уйти в буфет, пока там не кончилось чешское пиво, либо, на крайний случай затеряться где-нибудь в задних рядах колонны, не лезть на глаза постановщика «Детского сада» и уж при новых дублях не угодить в крупный план оператору.
— Не попаду! — уверил я. — А что вы так волнуетесь?
— Потом объясню, — испуганно сказал Гордеев, и они с Людой исчезли из съемочного процесса.
7
Более ни в каких эпизодах «Детского сада» сниматься меня не приглашали.
Через полгода я оказался в коридорах «Мосфильма» из-за обстоятельств, совершенно не связанных с «Детским садом». Тогда я и столкнулся в одном из помещений с гримером Гордеевым.
— Вы обещали объяснить мне… — напомнил я.
— Да, да! Я помню! — сказал Гордеев. — Но я боюсь, что вы расстроитесь. Или даже обидитесь… И будете относиться ко мне без уважения… Я поддался тогда напору Евгения Александровича…
— К чему долгие подходы? Куда и почему вы упрятывали тогда усы?
— Вас украсили в спешке не столько самыми лучшими довоенными усами, сколько самыми дорогими на ту пору усами студии.
— То-есть?
— Их по нашему заказу изготовляли в Голливуде для эпопеи «Освобождение». Это усы Гитлера.
— Ну, вы меня уважили! — растерялся я.
— Я так и думал, что вы огорчитесь, наверное, не следовало открывать вам… Дайте мне слово не рассказывать об усах Евгению Александровичу…
— Ну, уж ладно, — великодушно сказал я. — Мне сейчас не до усов.
И вспомнил:
— А что за темные стеклышки оберегались по соседству с усами?
— Глаза Жанны Маркс, — вздохнул Гордеев.
— Ничего себе, — не выдержал я.
— Партийно-государственный заказ, — объяснил Гордеев. — Денег жалеть не полагалось.
Какие могли быть экономии при съемках необходимого прогрессивному человечеству фильма «Год как жизнь»! Лучшие заявившие о себе артистические таланты были определены на главные роли. Молодого Маркса играл один из основателей «Современника» Игорь Кваша, молодого Энгельса — Андрей Миронов. Их учение на студии по исторической справедливости было названо квашизмом-миронизмом.
Про квашизм-миронизм я что-то слыхал…
А вот про Руфину Нифонтову, вроде бы игравшую Жанну Маркс, почти ничего не слыхал. Ее глаза были то ли голубые, то ли зеленые, то ли светло серые. Не помню… А они должны были быть убедительно-карие. Требование истории. Так вот эти, по моему разумению стекляшки, а тогда почти неизвестные у нас линзы, и обязаны были обеспечить глазам Жанны Маркс соответствие. Денег для мастеров Голливуда не жалели, тем более, что при соблюдении исторической достоверности, новые, необходимые людям произведения могли добыть для «Мосфильма» награды высших проб.
— Чушь какая-то! Иные времена! — возмутился я. — Пора было выкинуть эти поделки!
— Как же! — запротестовал Гордеев. — Реликвии! Фильмы шли на Ленинские премии. Иные и дошли! Еще и осядут в музеях… И слава Богу, что вы не обиделись! Но еще раз молю вас: ни слова об усах Евгению Александровичу! Каково ему будет узнать, что по его деспотической прихоти — а именно так и получается, один из ополченцев сорок первого года восстал на борьбу с фашизмом с усами Гитлера!? Он же застрелится!
— Ага, — согласился я, — сейчас и застрелится. Или повесится.
— Я вас понимаю! — будто бы обрадовался Гордеев. — И все же прошу, Евгению Александровичу ни слова…
— Хорошо… Умолчу. Пожалуй, в этом есть резон… — задумался я.
8
Евгений Александрович в ту пору вырастал в Сибири в профессионального режиссера, в частности, на станции Зима. Там, к удивлению многих, он все же сумел создать массовые сцены, иные из них — просто блестящие, эпизод с проводами сибирских мужиков в армию, например. В Москву Евтушенко вернулся в пору логически-монтажного собирания мозаик и кадров из снежного материка во фрагменты своих будущих кинособоров или хотя бы часовен.
В дни его наездов в Москву мы иногда встречались. Но встречи наши чаще всего сводились к буфетно-коридорной болтовне. Иногда, правда, говорили и о серьезном. Е. А. уже подумывал о новом фильме — «Похороны Сталина», и меня, как пережившего мартовские дни и терявшего на Сретенке калоши, готов был призвать в советчики, а то и в консультанты. Меня же замыслы мастера, в особенности с расчетом на публистические старания Ванессы Редгрейв, давно забывшей о том, что такое искусство и зачем оно, удручили, я не поверил в новый фильм и при возможности от него отполз. Но во мне Евгений Александрович (угадал, предугадал) тогда эссеистские способности, необходимые для литературно-творческих общений. Я сейчас же был вклю-чен в Члены Совета по Грузинской Литературе, Председателем его, конечно, блистал Евгений Александрович.
В Грузии я ни разу не бывал, закавказскую современную литературу знал плохо. И в определении меня в товарищество к Царице Тамаре и ее Дарьяльскому окружению мне почудился знак судьбы. Будто я орден какой-то получил. Предположим, хрустальных Подвязок. Той самой блистательной царицы Тамар. Или же, если крепко склеить веки жижицей «супермомента», то и международное признание. Смутило лишь то, что удачи в трудах Совета стали приносить мне, главным образом, эссеистские умения, производимые при вкуснейших запахах и ароматах в Дубовом зале Дома Литераторов. То есть — комплиментарные упражнения при застольях. И мне стало сытно, но скучно. А потом все и кончилось.
Однажды Евгений Александрович позвонил мне и предложил съездить в Тбилиси. «Тем более ты там не был…» «И чего…?» «Город посмотришь, развеешься… Главный их проспект будет перекрыт, столы вместо троллейбусов, шашлыки, фонтаны из Кахетии, тосты…» «Так и ведь и тосты придется произносить…» «Это-то проще простого!» Оказывается, в Тбилиси собирались отмечать юбилей одного из своих классических прозаиков, и я для тостов соответствовал рангом… «Я его не читал». «Другие читали! А он, видите ли, не читал! Возьми в библиотеке несколько томов на три дня!» Через три дня я понял, что не дорос до верхних ступеней и стропил в литературе, и тем более столов поперек проспекта, и мне пришлось искать деликатные оправдания собственной немочи, интеллектуальной, в частности, но — и не в последнюю очередь — и медицинского характера с напоминанием (ложным) о слабостях пищеварительного тракта.
Мол, не способен участвовать в благородных Неделях Дружб и походах искусств с бокалами и вилками к светлым вершинам. Врачи зловредны. Здоровье подорвано.
Евгений Александрович не обиделся. Мало ли мелких случаев в Жизни Замечальных людей!
А тут как раз подоспела премьера фильма «Детский сад».
Происходила она в Доме Кино на Васильевской, а потом, естественно, и в ресторане наверху. Обещанное ли нам виски полыхало на столах ячменным огнем или какое новое из эдинбургских подвалов, — не имело значения. И в мнениях о фильме оно ничего не могло изменить. Мнения эти были, конечно, банкетные. Деликатно умалчивали о нескольких балаганно-цыганских эпизодах картины, но в целом-то фильм вышел не из худших. И много было поводов для благодушных тостов. И я раззадорился, объявил, что могу похвастаться творческим достижением. «Каким это?» — поинтересовались. «А таким! — взвился я. — Сыграл в фильме две роли. Ополченца с усами. И ополченца без усов!» Похвальба моя вызвала интерес режиссера. Опять же бахвальство побудило меня забыть об обещаниях гримеру Гордееву и рассказать публике о лучших довоенных усах. Усы Гитлера на лице московского ополченца, естественно, возмутили Евгения Александровича, но не надолго. Я же еще с полчаса бродил вокруг стола от рюмки к рюмке и повторял:
«А я сыграл две роли!». Будто получил в Каннах две ветви с оливами. А мне не верили. В титрах, правда, я был упомянут однажды…
9
Позже мы встречались (и общались) с Евгением Александровичем реже. Мода на мое сочинение утихала, и утихал интерес Е. А. ко мне. Случались и недоразумения, отдалявшие нас друг от друга. А потом и вовсе мировой уровень дарования отозвал Е. А. в дальние страны. Я по-прежнему с симпатией относился к творчеству и личности земляка из Мещанской слободы. А однажды возник повод встретиться с ним в Москве. Выше мимоходом была упомянута мечта мамы Е. А. о высшем образовании сына. И вот весь в лавровых листьях, Евгений Александрович, человек уже почетно-взрослый, достойный, по моим убеждениям, получить и Нобелевскую премию, поборов скромность, обратился в Литинститут с просьбой выдать ему диплом поэта или литработника. На третьем курсе Евгений Александрович вынужден был покинуть стены особняка на Тверском бульваре, но многотомье его сочинений было вполне достаточным для присуждения ему твербульского диплома. Я был профессором института, а как член Ученого совета отдачей голоса участвовал в посвящении Е. А. в рыцарское поэтическое достоинство. Но по какой-то чепуховой бытовой причине при самом обряде посвящения не присутствовал. О чем, естественно, сожалею.
Хотя, конечно, в поэты его давно посвятила наша Мещанская Слобода.
Но пересечения в ней в послевоенные годы с Евгением Александровичем возникают теперь лишь моих фантазиях.
И не из тех ли фантазий переползли на бумагу усы Гитлера, серебристый сундучок, девушки с аэростатами и корректоры из двести сорок пятой школы, винтовка Мосина от оружейника, расстрелявшего Николая Крючкова, две роли ополченца и сам Евгений Александрович Евтушенко?
Не привиделись ли они, не приснились ли?
Апрель 2011 г.Лоскуты необязательных пояснений, или хрюшка улыбается
Ледяные узоры, каких в Москве в окнах домов ли, трамваев ли, где некогда мерзли в шубах и валенках, давно нет, и они неизвестны нынешним детям, я увидел проснувшись и разлепив веки в чужом доме. Прямо перед моими глазами между оконными рамами на зиму ради тепла была уложена вата, день выдался безупречно солнечный, и на белизне ватного валика золотом, серебром или неведомыми мне самоцветами играли в сказку елочные блестки и обрывки новогодней мишуры. А на уличном стекле цвели ледяные узоры. Мать сидела за чужим столом, тихо разговаривала с плохо знакомой мне женщиной.
— Где я? — спросил я. — Где мы?
— У Александры Михайловны, — сказала мать. — Ты не помнишь вчерашнее?
Я вспомнил. Нас бомбили.
В эвакуацию нас с матерью отвезли пароходом в поселок Юрино Марийской республики, двести километров ниже Горького. До войны там на берегу Волги был Дом отдыха, а прежде, до Революции, — дворец одного из Шереметевых.
Вчера нас бомбили.
На днях выпал снег, зимний, крупчатый, покрыл землю от дворца и до Волги, завалил и пустые каменные ванны шумевших некогда фонтанов, и можно было строить ледяные крепости и рыть пещеры для укрытия северных людей. Трое — я, Севка, оба пятилетние, и отважный вожак наш Юрка Жеренков, взрослый, семилетний, — ощущали себя папанинцами, и выкладывали кусками сжавшегося уже снега (завтра предстояло поливать их водой) стены ледяного дома.
И вдруг вспыхнул свет.
Временный приют беженцев из Москвы тут же превратился и впрямь в двухэтажный замок с боковыми башнями, куда на бал вот-вот должна была прибыть преображенная феей Золушка. Год с лишним мы жили со свечами и керосиновыми лампами. В праздник Революции поселковые власти решили обрадовать и себя, и доставленных к ним на сохранение москвичей электрическим светом. В Москве в квартирах были обязательны бумажные перекрестья на окнах, для сбережения стекол, и черные, из плотной бумаги шторы от вражьих ловцов света, пусть и рожденного огоньками свечей. И вот в Юрино, в Марийской тиши, километрах в четырехстах к востоку от Москвы, напоминанием о довоенной жизни над Волгой возникло сияние.
А мы знали, что матери наши готовят нынче давно забытое и оттого волшебное лакомство — мороженое. А потому, бросив ледяное строительство, поспешили в замок.
Тогда, уже в замке, и был услышан в воздухе над нами гнусный металлический звук, похожий на вой.
Взрыв, грохот, сотрясение вечного как будто бы здания вызвали крики, истерики женщин, знакомых с гнусным воем («Юнкерсы»!), и приказ: всем спускаться в подвалы. И прозвучало: «Бомбежка!»
Поначалу нам с приятелями было забавно (хотя и обидно — обещанного мороженого мы не получили), ну, бомбят, ну и что, я, повторюсь, пятилетний, начал хвастать, мол, видел уже две бомбежки. И ведь, действительно, видел. При посадке нас на пароход бомбили Москву, где-то невдалеке от пристани, и отход парохода был нервно ускорен. Потом, когда Окой вплыли в Волгу у Горького, в черноте ночи видели с палубы багровые огненные столбы выше по реке, взрослые говорили: фрицы бомбят автозавод. Теперь же в Юрино очень скоро детские наши (впрочем, в войну дети имели иные возрасты) похвастывания сменились страхом. Прежде мы издалека наблюдали, как падали бомбы и что-то горело, и это было зрелищем. Сейчас же бомбы падали прямо на нас.
Подвал, как и чердак замка с уголками подкрышья, мы знали лучше взрослых. Изучили причуды башен с витыми внутристенными лестницами. В камнях подвала пытались отыскать замурованные двери подземных ходов к Волге. Не могло их не быть. Зачем было городить замок без тайников с кладами?.. Теперь мы сидели в подземельях при свечах, детишки поменьше — на коленях у взрослых, то есть у матерей и подростков. Сводчатые потолки и прежде казались нам враждебно-мрачными, теперь же колебания вытянувшихся огоньков свечек пугали злыми видениями невидимого, того, что было в небе и в нашем убежище от войны. А убежище это, дворец Шереметевых, трясло, оно то и дело вздрагивало, вызывая ужасы, в частности и от неизвестности любого следующего мгновения. Не убьет ли нас, не обрушатся ли на нас черные камни, не засыпят ли они нас навсегда, я прижимался к матери, самое страшное было остаться без нее. «Пять… шесть… семь… — считала мать. «Двенадцать… — было вышептано ею. И все затихло. И более не дергались огненные столбики свечей. «Спи, — сказала мать. — Он все высыпал…»
И я заснул.
А проснулся в чужом доме и увидел сияние ледяных узоров на стекле с разноцветьем сказки на уложенной между рамами ради тепла вате.
Еще неделю все эвакуированные ночевали в домах юринских жителей, приютивших нас. Выяснилось, что на Юрино было сброшено именно двенадцать бомб. Немецкого летчика называли дураком или неудачником. Метал он на нас бомбы 7-го ноября сорок второго года. Шли бои под Сталинградом. Немец, видимо, заблудился. А увидев в черноте земли засиявшее под ним здание, посчитал его госпиталем, и сбросил бомбы. И все они легли между нашим убежищем и Волгой…
Но, может, тот заблудившийся летчик и не пожелал гибели тварей, ему неведомых…
Одна бомба из двенадцати все же угодила в двухэтажный дом на главной, верхней улице поселка Юрино, пробила крышу и свалилась на булыжник мостовой, но и там не взорвалась, а подскочила и улеглась на деревянном балконе второго этажа. И замерла…
Упокоившуюся на балконе бомбу (я помню тот деревянный дом, он будто из «Волги-Волги», увиденной впервые в Юрино, к нему, наверняка подъезжал с бочкой водовоз дядя Кузя, на первом этаже его радовали две витрины: одна — парикмахерской с мастером в усах и с розовой резиновой грушей в руке для освежения одеколоном, и вторая — гастронома, с тремя поросятами в бабочках и котелках, но поросятам нечем было торговать), так вот, балконную бомбу взрывали на лугу дня через три призванные в тыл специалисты, а по весне после половодья в оставшихся у Волги воронках мы ловили рыбу, мелкую и крупную…
Долгие годы, я уже и студентом стал, возобновлялись во мне в снах страхи одной лишь ночи на берегу Волги и превращались в видения кошмаров погибельно-ледяной жизни на пространствах не самого великого небесного тела… Конец света…
Но каково было детям Ленинграда? Или неизвестных нам, уберегаемым в благополучном, а порой даже и сытом, с картошкой, тылу, детям других городов и селений, где земля сотрясалась не в один лишь праздничный день 7-го ноября сорок второго года? И каково было в войну взрослым?
Для меня (время тогда для всех делилось на «до войны» и на войну) обещанием времени «после войны» стала междурамная укладка ваты с солнечно-елочными взблестками чудес. Конец света, о котором я тогда, слава Богу, не имел понятия, отменялся.
Игрушек после Победы у московской ребятни имелось мало. Мальчишкам было проще. Рядом с нашим домом на товарном дворе Рижского вокзала, куда свозили битую трофейную технику, можно было добыть, что хочешь. Для игр и на обмен по интересу. Мы добывали там шмайссеры, кинжальные штыки с бороздками для слива жидкости, фашистские ордена и деньги, они были удивительно невесомые и будто покрытые пепельной пылью. Но разве можно было посчитать их игрушками? Это были вещи взрослых. И они напоминали о крови. Двоюродный брат мой Лева Барбин в Яхроме, где немцы стояли хозяевами десять дней, в игре или в опыте с чужим оружием был ранен — оторвало пальцы левой руки, а двоих приятелей его разметало взрывом по берегам речки Яхромы. Я же лишь из-за трофейно-табачных искушений вынужден был бросить курить в семь лет. И на всю жизнь.
А потому нам, я еще не пошел в первый класс, то есть иждивенцам (выдавали на нас иждивенческие продовольственные карточки), от обладателей рабочих карточек, родителей, редко, но перепадали и настоящие детские игрушки. Я получил (сам выбирал в Сретенском универмаге на углу Колхозной площади) игрушку «Салют». Состояла она из двух элементов. Для пальцев, так объяснили, предназначалась гашетка с пружиной. Нажимая на гашетку и беспокоя пружину, можно было заставить кружиться с треском (звуки при салютах были обязательны) верхнее колесо игрушки, устроенное из цветовых слюдяных клиньев, при этом оно каким-то своим острием или иглой свербило нижний наждачный камень и выбивало искры (как у точильщиков ножей), а под поспешными кружениями слюдяных клиньев искры эти превращались в салютные гроздья и вызывали ощущение праздника или даже собственной сказки, лежавшей до поры до времени в кармане обязательных шаровар из чертовой кожи и принадлежавшей только тебе. Я помню многие салюты, особо вместился в память апрельский салют взятия Одессы, было тепло и слякотно под ногами, на небе и в лужах возникали цветовые чудеса, ракетные установки палили в воздух рядом, на площади Коммуны, у ЦТСА, нашу Одессу освободили, и было хорошо… Картинки менялись и в трубках калейдоскопов, но там стекляшки были отчужденно-холодные, не из жизни, без смыслов и без нужды укладывающиеся в любые сочетания, они не волновали. А вот нажимы на трещотку «Салюта» вызывали все новые и новые видения и фантазии мальчишки с Мещанских улиц. Будто бы и я брал Одессу. Будто бы и я поднимал моряков штурмовать Мамаев курган…
Однажды мать на Рижском рынке выменяла кипу газет (в доме они имелись еще и с довоенной поры, а торговцам в рядах для кульков и прочих упаковочных дел были необходимы) на буханку хлеба. Не помню, черного или белого. Не важно. Далее буханка хлеба отправилась к Большому театру. Там буханка была предложена чудотворцам, у кого имелись лишние билеты. А может быть, мать заранее договорилась об особенностях культурного обмена. Так или иначе я попал в Большой театр. Со слов взрослых я знал, что два года назад театр стоял замаскированный (мать моя, Мария Сергеевна Барбина, кстати сказать, на фабрике «Военохот» вязала в ту пору маскировочные сети для танков и пушек) и тем не менее пострадал от бомб, хорошо хоть почти все артисты его были увезены тогда в запасную столицу Отечества Куйбышев, то бишь Самару. Буханка же сорок четвертого года обеспечила нам места на спектакле «Щелкунчик». Я долго хранил программку спектакля. Там было указано: «Маша — М. Плисецкая (дебют)».
Так в мою жизнь вошли Большой театр, Петр Ильич Чайковский, великий чудесник Эрнест Теодор Амадей Гофман, Майя Михайловна Плисецкая.
А через тридцать с лишним лет по причуде судьбы, в какой Плисецкая оказалась как бы связной, случилось некое воздушное соприкосновение с моими текстами Марка Шагала.
И было в военном детстве еще одно волшебство. «Синяя птица» во МХАТе.
А в Большом театре тогда я прожил сказку. Или — прожил в сказке. Недавно купил диск с записью музыки «Щелкунчика» Лондонским оркестром и услышал музыкальные картины, по три-четыре минуты звучания — «Начало волшебства», «Сцена в сосновом лесу», «Волшебный замок», другие, возможно, не исполненные в сорок четвертом, будто бы не танцевальные, а симфонические, и снова оказался в мире, без путешествий в который трудно было бы существовать в мире с бомбежками, ожиданием похоронок, продуктовых карточек, морозно-ночных очередей с чернильными номерками на ладонях, бумажными перекрестьями на оконных стеклах.
Через двадцать лет я привел, в предчувствии праздника, на балет «Щелкунчик» сына. Рациональный Ю. Григорович изготовил из детской сказки холодное, с блестками, товарное изделие для продажи на валютном рынке. Мне перед сыном было стыдно. Балет (как жанр) он не взлюбил, а «Щелкунчика», как и другие сочинения Гофмана, в руки более не брал.
Чуть не забыл о роскошном (цветном!) фильме моего детства — «Багдадский вор»! С джинном из древнего сосуда. С шалопаем, смешным, сметливым, смуглым мальчишкой, этим самым багдадским вором, не помню, как его звали, с колдуном и злодеем — визирем. Конечно, я ходил и на другие фильмы, в особенности с участием Дины Дурбин и моей великой однофамилицы Любови Орловой, на запрещенные тогда (из-за запрета на джаз) «Веселые ребята», неслись мы с ребятами нашего двора (имели для этого по десять копеек) и на каждый показ «Острова сокровищ» с Билли Бонсом-Черкасовым и бочками рома, но и «Багдадский вор» тут же призывал нас к себе… К чему я это все клоню? А вроде бы подбираюсь к необязательным пояснениям. К простейшей информации. Мол, с детства любил сказку, чужую фантазию и при любых случаях принимался фантазировать сам.
А по воскресеньям (я уже был первоклассником) отец читал мне «Дон Кихота»…
Он работал в журнале, домой приезжал в шесть утра (Сталин ночью не спал, все мы его бдениями должны были быть убережены от вражеских сил, а они зверели, чуткий дядя-текстовик с усами дальновидного кота сообщал в песне хора Пятницкого на музыку композитора Захарова: «Но опять спокойно спать не дают старикам и детям. Все, кто грозит нам войною, будут за это в ответе!»). А потому, когда я приходил из школы, отец был на работе. Неделями мы не видели друг друга. Однажды в играх по взятию Кенигсберга я прокувыркался по лестнице до первого этажа и сломал нос. Нос распух до ушей. Мать не показывала меня отцу, возвращавшемуся с работы, мол, уже спит, пока не спала опухоль. Так он и не узнал о моем лестнично-штурмовом приключении. Позже, правда, удивлялся, отчего у меня нос с горбинкой…
А по воскресеньям читал мне «Дон Кихота». Ничего не объясняя. Ничего не сопоставляя с событиями и людьми дня летящего. Просто читал. И все. «Дон Кихот» был в двух томах, знаменитого издательства «Академия», с картинками. И еще отец доставал для меня из шкафа томики Гоголя, скромные, коричневые, на плохой бумаге…
Дон Кихот. И Гоголь. Про Гофмана я уже сообщил.
В посещениях моих Германии я старался побывать в местах, связанных с тремя личностями, для моей натуры чрезвычайно важными — Гёте, Бахом и Гофманом. В Берлине нас с женой селили обычно в гостинице «Беролина»…
— Володя, — сказала мне умная дама, и тогда умная, и теперь умная, прочитав интервью со мной в «Литературной газете», — никогда не рассказывайте читателям, из какого сора… Зачем им знать об этом?..
Но что есть сор? Не сор ли вся моя жизнь? Для меня — не сор. Не сор. Нечто иное, существенное, названия чему я дать не в силах. Да и необходимо ли это название? Не сведет ли оно радугу к полоскам спектра?
Итак, Берлин. Отель «Беролина». Утром предстояло садиться в поезд и возвращаться в Москву. Не спалось. Я выходил на Александрплац и пустой Унтер ден Линден, мимо королевских дворцов пруссаков, разбитой Мариенкирхе, острова Музеев с Пергамским алтарем брел к Бранденбургским воротам. Никого — ни прохожих, ни влюбленных под липами, ни полицейских. Одни лишь кролики, шнырявшие там и тут, были свидетелями или наблюдателями моих блужданий, братцы их шныряли в ту пору и в Веймаре, по берегам Ильма, вблизи особняка тюрингского вельможи Иоганна Вольфганга Гёте. Кролики сопровождали меня до бункера Гитлера, добросовестно засыпанного и заросшего травкой. Объяснимые фантазии возникали во мне. И я знал, что где-то поблизости свои берлинские годы провел советник юстиции, по мнению многих, нелепый неудачник, среднего сорта композитор, чудной писака, охотно посещавший кабачок Люггера и Вегнера, герр Эрнест Теодор Амадей Гофман. А на днях я раздобыл его адрес — Траубенштрассе возле Жандармской площади и Жандармского же рынка. Невдалеке Гофман поселял и своих персонажей, доктора Дапертутто, в частности. Ну, и естественно в квартире на Траубенштрассе проживал «весьма мудрый и глубокомысленный» кот Мурр. «Который, — сказано Гофманом, — в сей момент лежит подле меня на мягком стуле и, как видно, предается самым невероятным мыслям и фантазиям, поскольку беспрестанно мурлычет»… От Унтер ден Линден в ночном своем блуждании я вышел к Жандармской площади (в пору ГДР из деликатности она называлась Театральной), и было найдено мною место обитания кота Мурра и его гениального хозяина. Сразу же вспомнился рисунок Гофмана «Спасение прусского государственного кредита стрельбой по горящему парику». Был случай. Загорелся театр «в 15–20 шагах» от дома Гофмана, загорелась крыша его квартиры, горящие парики из реквизита театра полетели в сторону банка, но один из них был сбит выстрелом гвардейского стрелка… Сейчас же в моем сознании (или в реальности?) возникли несущиеся над крышами парики, стрелок, палящий в небо из чердачного окна, здание банка, не к кризису будет сказано, и любопытствующая физиономия отвлеченного от глубоких мыслей и фантазий кота Мурра…
Но надо было возвращаться в «Беролину».
Создателем детективного жанра узаконен Эдгар По. За девятнадцать лет до сочинений Эдгара По Гофман написал повесть «Мадмуазель Скюдери» из криминальной парижской жизни, по которой нынче можно снимать боевик в сорок серий. А в Париже Гофман не бывал.
Воображение. И дрязг жизни. Безупречная формулировка Николая Васильевича Гоголя, воспитанного Нежинским лицеем и чудесными представлениями о персонажах мироздания восточных славян, проживавших в тиши украинских ночей.
В семидесятые годы прошлого века в моду вошли интеллектуальные тесты. Один из них, предложенный «Неделей», с шестидесятью двумя вопросами, я от нечего делать решился заполнить. Искренне отвечал, не врал, старательно подсчитывал очки, и вышло: «Особенность натуры (моей) — отсутствие воображения». И следовали советы, как себя от этой беды избавить.
А дрязг-то жизни? Как избавиться от него? Никак. Да и не надо было избавляться. Не получилось бы. Я уже не помню, Хрюшка улыбалась или смеялась. Спросил внучку Катю. Она вроде бы читала в детском саду историю симферопольской Хрюшки. Катя сидела у компьютера, в который раз одолевала «Косынку», брови сдвинула, какая такая Хрюшка? И вдруг опечалилась, вспомнила. Это очень грустная история, дед, очень, очень грустная. Жила сама по себе свинья и у нее ничего не было из того, что было у других, и никто с ней не дружил. Но потом что-то случилось, с ней стали дружить, она начала улыбаться и в конце концов рассмеялась. Я успокоился. Мне-то запомнилось, что Хрюшка улыбалась. Имелись основания судить, что она и теперь улыбается, и этого было достаточно…
В шестьдесят девятом году я ушел из газеты, прожив в ней десять лет. Пришлось писать заявление, привычное для той поры: «Прошу освободить меня от занимаемой должности в связи с переходом на творческую работу». Смешно. А в газете, стало быть, — не творческая работа? «Комсомольская правда» была тогда порядочной газетой, старалась быть честной и бескорыстной. Уход из газеты в свободные художники именовался — «на вольные хлеба». А в необходимых анкетах того времени личности всех так называемых свободных или вольных хлебов обязаны были заполнять пункт: «социальное происхождение» или «социальное положение». И все мы, неважно из каких союзов — писательских, киношных, театральных, писали: «служащий». А кто же еще? Не рабочий ведь и не колхозник. Служащий. Возможно, что камер-юнкер Пушкин был служащий. И Гофман с Гоголем — тоже, если, конечно, им приходилось заполнять анкеты с пунктами.
Табель о рангах предполагал, что и человек так называемой свободной профессии должен служить или обслуживать. Свобода же и вольности его состояли в праве не ходить куда-либо на работу. Но если билета одного из «творческих» союзов у тебя не было, ты мог быть объявлен тунеядцем и отправлен, как Бродский, на трудовое поселение…
У одного из самых почитаемых мною художников из круга дрезденских романтиков и современника Э. Т. Гофмана Каспара Давида Фридриха есть картина «Путник над морем тумана». Стоит человек на прибрежной скале, застыл, перед ним воды и рифы, скрытые туманом, он вроде бы спокоен и просто созерцает, но мне-то понятно, какие страсти могут сейчас (и вечно) быть сокрыты в явленных нам туманах и в душе застывшего будто бы путника. В трактовке картины искусствоведа Матильды Батистини я нашел слова: «Путник — центральная фигура романтической поэтики; это путешественник, не стремящийся к определенной цели».
Героиня Любови Орловой в «Светлом пути», ткачиха и стахановка, возносила над собой и над страной «Марш энтузиастов», и были в марше слова: «Мечта прекрасная, еще не ясная, уже зовет тебя вперед». В пору Суслова-Фурцевой-Демичева услышал исправление марша: «Мечта прекрасная, всегда нам ясная…» Я же ушел в свободные художники именно в эту самую пору путником Каспара Давида Фридриха, то есть «без стремления к определенной цели»…
То есть смутно-туманная цель у меня, естественно, была. Освободиться от оков и приемов журналистики и научиться владеть инструментом профессии — русским словом — и писать, рассказывая о людях и о себе так, чтобы не было стыдно перед мастерами отечественной словесности и, понятно, словесности мировой.
Приятели звонили и спрашивали: «Как тебе на вольных хлебах?». То ли сочувствовали, то ли ехидничали. «Высыпаюсь, — отвечал я. — А хлебов нет».
Какие тут хлеба, если за восемь лет (по семьдесят шестой год) у меня, кроме рассказа «Трусаки», не было публикаций?
Что-то произошло в возвышенно-надзирающих сферах, отчего мои сочинения начали разбирать в журналах, не допускались в сборники и в лучшем случае калечились в сброшюрованных уже книгах.
А я-то считал себя благонамеренным человеком, обнадеженным честностями двадцатого съезда и не способным нанести какой-либо урон устоям вот-вот должного осчастливить нас (в 1980-м году, не позднее) коммунистического построения.
И тем не менее… Один мой приятель, мужик порядочный, но вхожий в слои, определяющие сущность любого гражданского отсвета, в парной при гвалте оздоровленных удовольствиями индивидуумов, сообщил мне, все же шепотом: «Механик тобой не доволен».
«Механик тобой не доволен» — слова из дореволюционной социально-нездоровой жизни, напетые великим Утесовым. Они были уместны и в шестьдесят девятом году, и мне расспрашивать о подробностях не захотелось.
Ну, и ладно. Ну, и так проживем. Пусть механика щекочут другие. И все же хотелось понять, чем же вызвано недовольство механика.
Сказал кочегар кочегару. Механик тобой не доволен. К врачу обратись, если болен. На палубу вышел, сознанья уж нет.
На палубу не выходил. Сознанья не терял. Кочегаром не был. И не кочегар говорил мне в бане про механика.
В шестьдесят восьмом «Юность» опубликовала мой роман «После дождика в четверг». Члены редколлегии просили изменить название сочинения. Мол, комсомольская стройка, и вдруг всякие мрачности в финале. Это ладно. Название осталось. Многие события романа происходили не в Саянах, а в подмосковном текстильном городке Яхроме (в тексте — Влахерме). И там (в романе) существовала мать одного из персонажей прославленная довоенная ткачиха-стахановка, любимица Сталина и Калинина. А жизнь ее вышла пустой, несчастливой и полупьяной. И рассказывалось в романе о судьбе еще одного яхромчанина — крупного врача-терапевта, Белашова, прошедшего все муки и мытарства по «Делу врачей». В тот год цензура была как бы отменена, могла заниматься лишь государственными тайнами, растворилась в небесах, а за все правки в тексте отвечали будто бы редакторы. Когда я прочитал в журнальной верстке свой текст, я ужаснулся. Яхромские эпизоды были искалечены. Легендарная завпрозой «Юности» Мэри Лазаревна Озерова, как бы и виноватая в неприятностях, лишь повела глазами куда-то в бок, а потом и вверх и поинтересовалась, согласен ли я с «журнальным вариантом» или нет.
«Журнальный вариант» был подброшен мне спасательным кругом. Он давал возможности вариантов оправданий перед самим собой…
Через год роман выходил книгой в «Советском писателе». Раскрыв ее, я не нашел многих эпизодов о послевоенной жизни страны, в частности, и слов «Дело врачей», не было такого, пропала из нее и фамилия Сталин. Никаких предварительных разговоров со мной не вели, и когда я явился с решительными выражениями к важным в издательстве людям, меня встретили с искренними улыбками, признающими право на существование в социуме простака, и было мною услышано: «Ну, старик, ты даешь! Мы, что ли придумали эти Пражские Весны! Эко они распустились! Коньяку хочешь? Скажи спасибо, что и в таком виде тебя напечатали!»
И потом восемь лет меня не печатали. Правили, набирали, согласовывали и разбирали… И не печатали. Ничего. Кроме рассказа «Трусаки».
А я уже в шестьдесят восьмом, еще работая в «Комсомолке», выслушивал на каком-то молодежном активе указания пальчиком (или кулаком) грозящего, пустого, полуграмотного человека по фамилии Демичев, химика, что ли, но надевшего партийные безразмерные штаны дилетанта, развалившего позже Большой театр, а вместе с другими и великую страну: «Забыть о Двадцатом съезде и его обольщающей болтовне!» Такие начинались для меня вольные хлеба и полеты свободного художника.
Тогда и возникла в моей жизни Хрюшка, какая — то ли улыбалась, то ли смеялась. Проживала она где-то вдали, а в Москву являлась в Останкино, на Аргуновскую улицу, в зеленоватый деревянный домик с башенкой, явно бывший в начале прошлого века чьей-то дорогой дачей, а теперь вместивший в себя коммунальные службы и почту со сберкассой.
На девятом году службы в «Комсомольской правде» я был, наконец, обмилостивлен квартирой (сорок с малым кв. метров на пятерых), в Останкино, тесной, как желудок клопа (или что там внутри клопа?), но с горячей водой, ванной и без соседей. Местность наша между улицей Королева с Полем Дураков и Звездным бульваром была прозвана Комсомольской деревней. Строили здесь дома на деньги процветающего тогда издательства «Молодая гвардия», а заселяли их комсомольские работники мелких и средних значений и журналисты молодежных изданий. Были они шустры, сообразительны и позже многие из них в тихие и в бурные годы выстроили себе высоковольтные карьеры.
Не все, конечно.
Из домика с башенкой на Аргуновской почтальоны разносили кому газеты с журналами, кому — телеграммы, кому — извещения о денежных переводах.
А денег в нашем доме не было. Да и откуда бы они взялись? Отец с матерью — инвалиды, отцу пенсию начисляли, матери — нет, домохозяйка. Жена приболела, платили ей полоклада, на троих с сыном у нас получалось семьдесят рублей. Шел расчет на прожитье каждого дня.
Мужской клуб у нас располагался в пивном автомате на Королева, шесть, зайти туда для общения я мог, только имея двадцать копеек на кружку пива.
Тоже мне драма, скажете вы, и будете правы.
Наши танки стояли в Праге, способные на поступки люди страдали в лагерях, а тут вы со своими двадцатью копейками! Внезапно объявившаяся Хрюшка предлагала мне, и не раз, по десять рублей, а я их не брал. Знал, что отдать будет нечем. Быть же должником кого-либо или чего-либо, я полагал, в нашей профессии не только безнравственно, но и просто невозможно, это ведет к благооправдательным компромиссам.
Я писал тогда роман «Происшествие в Никольском». Четверо подростков в подмосковном поселке изнасиловали свою приятельницу. Правовые люди дело закрыли. То ли получив взятку от родственников парней, людей влиятельных и благополучных, то ли по какой-то иной — высоконравственной, государственной причине, и героиня романа Вера Навашина сама вынесла приговор обидчикам, прощенным сильными мира в районе…
Многим зрителям нынешних кинофильмов этот сюжет может показаться знакомым. Отчего бы и нет… Сообщу только, что свой роман я закончил в 1972-м году, и что у Веры Навашиной не было стрелкового оружия, а взяла она с собой к предполагаемому месту отмщения нож и нож этот, уже занесенный для удара, отбросила, потому как поняла, что и негодяев, смявших ее судьбу, лишить жизни она не может…
Роман я отнес в «Юность», казавшуюся мне тогда вторым домом. Там его забили отрицательными суждениями членов редколлегии. В частности и со словами: «Не отражена роль общественности…» Через десять лет на каком-то юбилее жена моя поинтересовалась у Бориса Николаевича Полевого, отчего он не стал печатать «Происшествие в Никольском», он сказал: «Струсил. Виноват, но струсил».
С робостью («со страхом и надеждой») отправился я в «Новый мир», самый остро-социальный наш журнал второй половины двадцатого века. Роман там прочитали и одобрили. И не только одобрили, но и заключили со мной договор и стали готовить текст к публикации. В редакторы мне была определена (и согласилась ею стать) Анна Самойловна Берзер. Сама Анна Самойловна Берзер. Она была редактором «Одного дня Ивана Денисовича» и других прозаических публикаций Солженицына в «Новом мире», «Матренина двора», например. В волнении, естественно, пребывал я в ожидании разговора с Анной Самойловной. Но текст мой, приготовленный редактором к набору, меня удивил, он был урезан и утихомирен. «То есть вы, Володя, — сказала Берзер, — правку мою не принимаете?» «Я могу согласиться или не согласиться с чьими-либо пожеланиями, — пробурчал я, — но чужой текст принять я не могу». «Значит, вы не хотите, чтобы ваша вещь была бы опубликована… — произнесла Анна Самойловна с жалостью к автору. — Прошу тогда расписаться на каждой странице и пометить: «С правкой редактора не согласен»». Дня два у меня ушло на отчетливое выведение этих самых слов: «С правкой редактора не согласен».
Рукопись передали другому редактору и в конце концов она ушла в набор, и даже были определены два номера «Нового мира» 1974 года для публикации «Происшествия в Никольском». А в семейный бюджет поступила четверть предполагаемого гонорара. Но тут я заскочил вперед, будто позабыв о посещениях неизвестной мне Хрюшки домика на Аргуновской улице. Хрюшка же снова была готова обеспечить меня то десятью, то двенадцатью с копейками рублями. А в том «впереди» и в издательстве «Советский писатель» роман отправили в типографию. Правда, было соблюдено условие: ни в какой сопроводиловке, ни в какой аннотации не употреблять слово «изнасилование». Иначе директор издательства Н. В. Лесючевский разогнал бы редакцию русской прозы. А слово это и не определяло сути романа, было его частностью. Сошлись на выражении — «драматический случай». (Позже в ситуации с «Альтистом Даниловым» от того же Лесючевского упрятывали слово «демон»).
Не ради красного словца я написал выше о двадцати копейках. Продуктов для домашнего благополучия я мог закупать в день на рубль. От силы — на полтора. Грела надежда: вот напишу «Происшествие в Никольском», и тогда, возможно, произойдет улучшение семейной, как нынче говорят, продуктовой корзины, тогда бы сказали — продуктовой авоськи, без которой не выходили из дома ученые жизнью граждане. А меня взяли и забрали в армию.
И лейтенантом отправили на китайскую границу. В Алма-Ате, после боев на Даманском, а потом и в Казахстане в Джунгарских воротах на заставе Жаланашколь (1969 год) создавали новый Средне-Азиатский военный округ, и я потребовался для его укрепления.
Никакого желания побыть лейтенантом я не ощущал, понимал, что могу и не дописать «Происшествие», а главное — болезни ближних требовали моего присутствия в Москве. Но мне объяснили, что я не один ерепенюсь, а все равно будут отправлены (или уже отправлены) во Львов, в Прикарпатский округ, — Андрей Вознесенский и Володя Костров, в Тбилиси, в округ Закавказский, — Евтушенко, назывались и еще какие-то имена и округа, их я уже не помню.
Меня, по военному билету, общевойскового офицера, то есть лейтенанта мотопехоты, отчего-то прикомандировали к летной дивизии. Новые сослуживцы и соседи мои по койкам сразу же стали приятелями, по вечерам играли в «буру», а по утрам вылетали в приграничные китайские небеса, и воем подвешенных к крыльям болванок пугали и так запуганное оголодавше-нищее население. Очень скоро начальство убедилось, что ни авиации, ни мотопехоте в их доблестях вспоможения я не окажу, и меня перевели в окружную газету «Боевое знамя». Воинство в округе собралось удалое, многие из моих новых знакомых два года назад брали Прагу, теперь на стволах орудий и танковых башен писали масляной краской: «Дембиль через Пекин!» и были уверены в том, что до прогулок по площади Тяньаньминь потребуется не более шести часов лета. Китайцы уже не дерзили, разумные люди, своего добились через тридцать лет с лишним вежливыми переговорами, и теперь окровавленный Даманский — их земля. То есть от меня не потребовались ни отвага, ни подвиги, а я уже был к ним готов, пошла тихая маета отбывания времени в обязательных рубриках младшей сестры «Красной звезды», где, как бы ни старались внимательные стражи, наборщики непременно из «военно-полевых» учений создавали учения «военно-половые». Чтобы не скучать, я решил подтвердить (вышло — на свою шею) репутацию столичного газетчика и написал четыре очерка, из-за которых чуть ли не остался в армии надолго. Хотя бы и на два года. Это могло произойти запросто. «Двухгодниками» из гражданских тогда начали забивать вакансии и дыры после Хрущевских шальных сокращений. Я приуныл. В Москве никто не мог мне пособить. И совершенно неожиданным, косвенным, конечно, высвободителем из несвойственного мне армейского состояния оказался (уж не знаю, в каком он звании был, раз диплома не имел, сержанта, наверное, в лучшем случае) Евгений Александрович Евтушенко, мой «земляк» по Мещанским улицам. По легенде, после публикации в «его» окружной газете поэмы Е. А. «Пушкинский перевал» был снят за крамолу ее редактор, некий полковник. В Алма-Ату известие об этом донеслось немедленно, на меня стали смотреть с подозрительным недоумением: ну, и что, пусть стихов и не пишет, а вдруг возьмет и тоже выкинет какое-либо похабное коленце? И я был возвращен в цивильное состояние и отпущен в Москву.
На Казанском вокзале меня встречали жена и сын. Шел мокрый снег. Я вернулся отощавший и с долгом в пять рублей (на нужды четырех суток дороги) блестящему гусару и журналисту Володе Лелюхину. Эти пять рублей долга до сих пор бередят мне душу. Но встретиться с Лелюхиным позже не удалось…
В мокрый снег босиком вышел из вагона и здоровенный мужик, путешествовавший с нами из восточных земель в Москву, высокомерно и даже брезгливо раздвигавший всех, мешавших его движению в проходах вагонов, а за ним семенили чуткие послушницы, со смиренными будто бы взглядами, но сохранявшие пластику бедер и остроту глаз охранительниц. Мужик был полуголый, в спущенных ниже колен белых, но давно не мытых подштанниках, пах дурно, однако такая уверенность в своем подвиге и в своем историческом предназначении исторгалась из него, что и расталкивание им мелкостных людей воспринималось, как милость утомленного суетой пророка.
«Порфирий Иванов! — шептали ему вслед, — Сам Порфирий Иванов!»
Я ощутил, что ехал со мной в одном поезде шарлатан. Хотя, возможно, в случае с Порфирием Ивановым я и ошибаюсь. Допускаю, что он был бескорыстным чудаком, с идей и с сомнительным учением. Но сколько потом я наблюдал шарлатанов, и в особенности, сколько теперь я наблюдаю шарлатанов, иные из них в отличие от Порфирия Иванова и вовсе не носят нижнего белья, о чем одаривают знанием население своей дурацкой страны, расположенной за пределами известного шоссе. Им, убежденным в своей миссии, пророческой ли, коммерческой ли, по завоеванию простаков или халявщиков, с их средствами, можно только позавидовать. И в этом их функция и выгода.
Пребывание в армии, любой пишущий всерьез человек меня поймет, разорвало мое проживание внутри романа, я вышел из «Происшествия в Никольском» и смог вернуться в него лишь через год.
Ходил за грибами, и вдруг в меня вцепилась фраза, будто оса ужалила: «Домовой Иван Афанасьевич ждал субботы». Причем жало осы не оказалось болезненным. И дальше грибы попадались, и фраза вилась рядом, намереваясь ужалить еще раз…
После удачного грибного похода обычно, как бы ты ни устал, не сразу проваливаешься в бездумство сна, но перед твоими уже будто бы успокоенными веками глазами все равно возникают трава и в ней шляпки грибов, боровиков, воздушно-розовых волнушек, красных и зеленых сыроежек, черных и белых подгруздей, их все больше и больше, им нет конца… Но в тот день они не мешали словам «Домовой Иван Афанасьевич ждал субботы»…
А домовой Иван Афанасьевич ждал субботы, чтобы в останкинском кинотеатре «Космос» оказаться рядом с совершенно реальной женщиной Екатериной Ивановной Ковалевской, нашей приятельницей и женой моего друга. Он влюбился в нее. А услугами и штампами министерства внутренних дел ее место жительство было определено именно в строении домового Ивана Афанасьевича. Я писал про его историю каждый день. Не забывая, конечно, о «Происшествии в Никольском». Зачем? И сам не знал. Натура требовала, задавленная, видимо, обстоятельствами быта, реалиями собственной жизни и ситуацией, случившейся в поселке Никольское.
Интересно было. Интересно! Забавно. Оживали вдруг на клеточках школьной тетради существа, будто бы из меня произошедшие, но состоящие в родстве, не знаю уж какими пуповинами вызванном, и с Щелкунчиком, и с советником Дроссельмейстером, с Солохой и ее сыном Вакулой. А главное — они словно бы существовали рядом со мной, за стеной, или в стенах, и уж, точно, в доме с башенкой на Аргуновской, а один из них отважился влюбиться в женщину с паспортом и шрамом от укуса собаки на левой ноге.
То есть это и раньше должно было случиться. Но случилось теперь. Когда я в муках и радостях приходил (так мне казалось) к собственной интонации, к свободе ее, просиживая над рукописью о горьком происшествии с подростками, и кое-как пользоваться своим инструментом — словом — научился.
В детстве, в Напрудном переулке, за стеной жил мальчик Саша, одноклассник, мученик игры на скрипке. Я же, получалось, осваивал потихоньку скрипку размером длиннее — альт, скажем. В «Юности» рассказ о домовом «Что-то зазвенело» приняли с улыбками и радушием. Отвели десять полос. Известному рисовальщику и карикатуристу Иосифу Оффенгендену поручили сделать к рассказу рисунки.
Я держал в руках верстку с его картинками. Ося Оффенгенден стоял рядом. «Ну, старик, — сказал Ося. — Это будет нечто…» А через несколько дней я получил письмо от Бориса Николаевича Полевого. Он по прежнему радовался моему рассказу, но радовался и тому, что в журнале «Юность», старик, в редколлегии — американская демократия, и вот эта редколлегия, старик, проголосовала за то, чтобы рассказ «Что-то зазвенело» разобрать. И разобрали. А мне потом стало известно, что дело вовсе не в редколлегии с ее незаслуженными вольностями. А в другом.
Это «Другое» потом долго дергалось и кружило вокруг рассказа про любовь и над ним и никак не могло успокоиться. Рассказ был набран в журнале «Смена», и там его разобрали. Братья Стругацие включили его в очередной том популярной тогда серии «Молодой гвардии», и здесь его прикрыли крышкой унитаза. И дальше продолжалось совершенно неуправляемое мною и бессмысленное порхание перепечаток рассказа на машинке по издательствам, журналам и киностудиям.
«Что-то зазвенело», без которого я бы не смог написать «Альтиста Данилова», в конце концов, был напечатан через семнадцать лет в журнале «Сельская молодежь», то бишь в 1989 году. Вот-вот три веселых дяди с егерями, кравчими и писарями должны были появиться в Беловежской Пуще, где их ради народного волеизлияния смирно поджидали зубры.
А прежде на «Мосфильме» он доброхотами передавался из объединения в объединение. Все они были творческие, а потому имели номера. Первое, второе, третье… Совсем уже собирался начать работать над «Что-то зазвенело» Виктор Титов, поставивший в своем творческом «номере» «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Здравствуйте, я ваша тетя!», знаю с его слов об этом. Но ему сказали: «Да ты что!» Потом мне сообщили, что рассказ взялся читать сам Данелия, сейчас он за границей, но через неделю вернется…
К этому времени «Происшествие в Никольском» тихо разобрали в «Новом мире». Был роман в типографских литерах, и нет его. Не балуй. А когда мне показали места, вызвавшие особое непонимание Китайского проезда (там беспорочно и в тепле пребывал Главлит), я мысленно принес извинения Анне Самойловне Берзер. Все, что она убирала из моих текстов, и все, что я, самонадеянный (или обнаглевший) автор, со словами: «Не согласен с правкой редактора» восстанавливал, и привело к потоплению романа. Рукописи не горят, но тонут. И никаких имен надзирателей над соблюдением литературной нравственности нигде не было. Виднелись лишь мягкие карандашные пометки… Однажды судьба занесла меня в Дом на Набережной. Борис Николаевич Голубовский, тогда главный режиссер театра Гоголя, задумал в шестьдесят восьмом году поставить спектакль по роману «После дождика в четверг». Вместе с женой он проживал в квартире покойного тестя — начальника цензуры тридцатых годов. Был приятный разговор благополучных гостей за легкомысленным и сытным столом, и кто-то предположил, что мрачные тени из дома уже изошли, и, наверное, стоит вспомнить о чем-либо веселом. «А сейчас! — было сказано. — Вот это, пожалуй, может показаться забавным…» И был явлен гостям белый конверт с резолюцией, исполненной красными чернилами (или красным карандашом, не помню): «Печатать разрешаю. И. Сталин». Довоенный хозяин квартиры, видимо, посчитал, что его должность не позволяет решить столь ответственный случай и отважился обратиться за подмогой к высочайшей инстанции. Слова: «Печатать разрешаю» определили судьбу стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Мистер Твистер». Гости поразглядывали резолюцию и сошлись на мнении: «Действительно, забавно…»
А я после беды (моей) в «Новом мире» получил послание из издательства «Советский писатель». Перед тем я вычитал вторую сверку «Происшествия», а тонкими литературными людьми была уже произведена профилактическая штопка, то есть через месяц через два должен был бы привезен на склады и в магазины тираж книги. Из послания выходило, что по каким-то причинам текст был прочитан заново и с ясной головой, и требуется просветление. Уж больно мрачными и несоответствующими реалиям жизни при боковой подсветке увиделись происшествия с молодыми людьми, ровесниками строителей БАМа, что без решительного просветления обстоятельств романа, книга могла бы оказаться вредной. Людей из редакции русской прозы, почти допустивших выход книги в свет, облагодетельствовали выговорами и лишили календарных премий.
Просветлять что-либо я отказался. Прежде всего от непонимания, что же я должен просветлять. Я сам, видимо, жил непросветленный. И просто захотел описать взволновавшую меня реальную житейскую ситуацию.
Но отваги заявить: «Режьте меня! Бейте меня! А и строчки не исправлю!» во мне уже не было. Я обещал подумать. Но думать не спешил…
К тому времени в Питере на «Ленфильме» взяли и закрыли производство четырехсерийного телефильма «После дождика в четверг». А ведь был уже у картины и директор со штатом и автомобилем. (Киношники знают, что это такое. «Поехали!»). И почти все актеры подобраны. То есть после двухлетних мытарств на бестолковьях худсоветов следовало при команде «Мотор!» разбивать бутылку шампанского. Повод для закрытия многих на студии рассмешил и опечалил. Виктор Аристов, два года как утвержденный режиссером, срочно выяснилось, якобы не имел права быть постановщиком фильма, потому как кончал не ВГИК, а театральный институт. А уже успел поработать вторым режиссером у Алексея Германа и на лучших фильмах Ильи Авербаха. И потом режиссером ставил фильмы («Порох», в частности). Я же получил после окончательного расчета четыреста рублей, по веселости судьбы именно четырьмя сотнями бежевых бумажек рублевого достоинства, плотно забивших нутро кейса. (Сейчас в детективах открывают крышку, и в той же чемоданной емкости радуют расторопных героев упаковки миллионной зелени).
Хорошо хоть довез сокровища до Москвы, а то ведь были в поезде и приключения…
Естественно, нашлись причины, по каким спектакль в театре имени Гоголя не состоялся. Может, тени в квартире Дома на Набережной нахмурились и выразили неодобрение…
Совсем недавно от режиссера Валерия Ускова, ставившего вместе В. Краснопольским фильм «Таежный десант» по первому моему роману «Соленый арбуз», узнал историю, меня удивившую. Оказывается, в припоминаемую мною пору один сановник из наиважнейших на важной даче посмотрел «Таежный десант», возмутился, и фильм, совершенно благонамеренно-романтический, собравший уже двадцать восемь миллионов зрителей, на долгие годы водворили на полку. Мне об этом было не ведомо… «Механик тобой не доволен…» А может, дело было и не в механике, а моем собственном несовершенстве? Наверняка, именно так. Конечно, так. Самоедство присуще мне. Иногда оно даже приносило удовольствия и оправдания иных несовершенств. Но чаще вызывало уныние и желание осуществлять себя в какой-либо другой профессии. С детства мечтал ведь быть географом, вот и был бы им. Но не стал (хорошо хоть попутешествовал по стране газетчиком) и уже не мог им стать.
А надо было жить дальше и делать то, от чего натура уже не могла отказаться.
Тут как раз и случай, чтобы напомнить о доброжелательной ко мне Хрюшке. Сочетание Владимир Орлов — банальное. В годы, о каких взялся писать, в отечественной словесности и журналистике всяких Владимиров Орловых имелось множество. Был среди них (нас) даже Лауреат Ленинской премии (тогда — Эверест-Джомолунгма!), поощренный за участие в книге «Лицом к лицу с Америкой» о ковбойской поездке Н. С. Хрущева по кукурузной стране. Был Владимир Николаевич Орлов, ленинградский литературовед, выпустивший книгу о Блоке — «Гамаюн». Книгу замечательную, ее до сих пор незаслуженно (для меня) вписывают в перечень моих работ. Я же по просьбе питерского профессора, высказанной в письме ко мне, обязался не употреблять сочетание «Вл. Орлов», на него была монополия автора «Гамаюна» с младых лет. Был и еще какой-то Владимир Орлов, сочинявший пьесы в компании с иными драматургами, этими пьесами до сих пор награждают меня составители биографических справочников. И был в Симферополе Владимир Натанович Орлов, чьи забавные и с ехидствами, как бы для детей, стихи публиковались на шестнадцатой полосе «Литературной газеты». В его-то стихах грустила, улыбалась и уж совсем растроганная поступками друзей смеялась или даже хохотала Хрюшка.
По десятке от ее веселых настроений и стало приходить ко мне в Останкино.
Иногда почему-то и по двенадцать рублей с копейками.
Мало того, что я человек щепетильный. И верю в приметы. Деньги за чужие труды удач не принесут. Это одно. Но я просто представлял: вот накуплю я, расслабившись, на эту волшебно-дармовую десятку продукты, а ко мне явятся люди и скажут: «Что же вы, гражданин, рот открыли на чужой каравай, гоните деньги обратно!» А откуда я их возьму? Почтальоны происхождение извещений на десятки объяснить не могли, я ходил сдавать деньги на почту и там узнал источник поступлений: «гонорар за стих. Хрюшка улыбается». Пришлось ехать в Лаврушинский переулок, там, при знаменитом писательском доме, принявшем в свои комнаты и коридоры особо почитаемых авторов, чьи фотографии имелись в школьных учебниках, местилась какая-то финансовая кормушка. Естественно, мои попытки вернуть деньги неведомому мне автору Хрюшки улыбающейся, вызывало у милых дам в кассовых окошках желание пригласить на беседу со мной психиатра. «Мы идиотки, что ли, разыскивать эту хрюшку и отсылать ей вашу мелочь! Берите. И не морочьте нам головы!»
А я не брал. И убеждал занятых дам отослать гонорары в Крым.
Занятые дамы смотрели на меня с жалостью разочарованных матерей или успешных в своих диагнозах психоаналитиков.
Тех, к счастью, еще не развелось множество в Москве, да и теперь они могут быть полезны разве что в случаях внезапной беременности обслуги на золоченых дачах. Психоаналитики в стране дураков Иванов подмогой не станут, сами попросятся в страны с тончайшей психикой на успокоение под души Шарко.
Вершиной гуманитарной помощи упоминаемой мною Хрюшки стал заказной пакет, пришедший в Останкино из Ленинграда. Ленинградское отделение «Музгиза» прислало мне проект договора, подписав какой, я мог быть вознагражден сорока тремя рублями. В письме мне предлагалось продать права на использование моих сочинений для написания либретто (то есть либретто уже было создано, письмо вышло соблюдением вежливой формальности) трех актной оперы. В первом акте Хрюшка грустила и плакала, во втором, ощутив понимание других персонажей, улыбалась, в третьем — естественно, пережив катарсис, смеялась или хохотала. Но название оперы, как мне запомнилось, было именно — «Хрюшка улыбается».
Мне бы тут же разорвать пакет с документом на клочки и истоптать их, но уважение к чужому труду остановило меня и я поехал в Лаврушинский переулок, чтобы написать решительное заявление-протест, в котором я просил не ущемлять авторские права симферопольского поэта Владимира Натановича Орлова и более не приставать ко мне с оплатой чужих заслуг.
К тому времени я уже ходил со своими рублями в карманах.
С тридцатых годов, то есть при призыве: «от станка — в литературу!», при издательствах и журналах существовала система литконсультантов и «внутренних» рецензентов.
В приципе-то система — фискальная. Сославшись на мнение каких-то невидимых специалистов о якобы дурном качестве рукописи, можно было не допустить ее публикации. Но, вышло, что и не бесполезная…
Нынче самую читающую страну упразднили. Зато она стала страной писателей. Что ни человек с амбицией, то — писатель. Скажем, брошенные олигархами или хотя бы нуворишами средних коттеджей и яхт, дамы, не получившие при разводах всех квартир и изумрудов, тут же становились писательницами. И толпами лезли в ток-шоу с моральными разоблачениями. Чем больше их били и угнетали прежние мужья, тем гуще получались тиражи написанных ими (якобы ими) книг.
Будучи занудой, повторюсь. Книги не пишут. Книги издают. Но для многих нынешних писателей и писательниц это не важно. Он получают свои книги из типографий, а каким способом и какими людьми создаются товарные изделия с их именами, для них — несущественные мелочи. Потом они привыкают к тому, что они писатели.
Так вот, графоманов и людей тщеславных и в шестидесятые годы было не меньше, чем сегодня. И они жаждали славы и лавровых листьев. Стало быть, была работа для литконсультантов. Сострадательные люди пригласили меня читать рукописи в издательстве «Детгиз», а потом решилась поддержать меня и «Юность». В «Детгизе», проверив мои способности, предложили даже перевести что-нибудь на русский с национального. Тогда наблюдался подъем национальных литератур. И его следовало поддерживать. Дали мне на выбор рукописи (подстрочники) чувашского автора М. Юхмы и лезгинского — К. Меджидова. История с чувашскими пионерами показалась мне морализаторски-скучной. Да и рассказано о ней было плохо. В сыром же жизнеописании К. Меджидовым ашуга Сулеймана Стальского мне стала интересна личность главного героя. О Сулеймане Стальском упоминалось во многих учебниках. Да и смотрел он на нас со множества фотографий. Древний дед в белой бороде и в белой же папахе. Аксакал и мудрец. Написал (или пропел) восторженные слова о Сталине или о Сталинской конституции. Сидел в Верховном Совете, представляя народы Кавказа. А из подстрочников К. Меджидова я узнал об истории полунищего молодого человека из бедного горского аула, лезгинского соловья и импровизатора, вынужденного обслуживать свадьбы и застолья на нефтяных промыслах Баку, о его странствиях и его любви. Материал рукописи был интересный, но походил на груду камней, завезенных для постройки крепостной башни. Да большинство камней надо было еще и обтесывать. Я послал автору свои соображения об архитектонике повести, получил его добро и все равно долго не мог заставить себя сесть за переписывание чужой работы. Заставил (аванс был уже проеден!), и тут начались странности. Перо мое принялось плести восточные орнаменты, узоры дагестанских ковров, выводило слова и метафоры, какие было жалко отдавать чужому имени. Но коли назвался груздем…
Никакие обстоятельства позже не смогли вынудить меня снова взяться за переводы или за переписывание чужих текстов. А соблазны были… Многие мои коллеги растворили себя в чужих текстах. Великолепный Юрий Казаков годы потратил на сотворение казахского эпического полотна «Кровь и пот». А толку что? Где теперь эти «Кровь и пот»? И кому они были нужны! Впрочем, что задавать пустые вопросы? По этикету дружбы народов предпочтение в издательских планах отдавалась тогда произведениям национальных литератур. А создавать их надо было на русском языке…
А «внутренние рецензии» приходилось сотворять и дальше. Почти до конца восьмидесятых годов. Их листочками забиты у меня картонные коробки. Тошно было тратить на них время, но что поделаешь… Но были и моменты радостных удивлений и открытий. Да, система литконсультанства случалась не бесполезной. Однажды в «Юность» авиапочтой прибыли вахтенные журналы с острова Карагинский, это — у берегов Корякии, между Петропавловском и Чукоткой. Работник маяка Борис Агеев на разлинованных буроватых страницах накарябал повесть «Текущая вода». Сочинения «от руки» в журналах не принимались. Для острова Карагинского сделали исключение. Я прочитал повесть, пошел к тогдашнему редактору «Юности» Полевому, сказал: «Борис Николаевич, это надо печатать!» Полевой, человек азартный, тотчас отправил маячные журналы машинисткам, а по прочтению рукописи, распорядился, доставить автора с маяка в «Юность» и немедленно. И доставили. С острова Карагинского вертолетом на Камчатку, с Камчатки — самолетом в Москву. Автор оказался обветренным, бородатым парнем, стеснительным и молчаливым, будто бы напуганным суетой столицы, из-за чего получил прозвище «Маугли». Через пару месяцев повесть его была опубликована. Став профессиональным писателем (помогли Высшие курсы при Литературном институте), Борис Агеев выпустил несколько интересных книг. Понятно, для меня, «внутреннего рецензента», эта история вышла радостной. И слава Богу, она была не единственной…
И все же созрела, наконец, до появления в магазинах моя книга «Происшествие в Никольском» (другое дело, появлялась она в магазинах или не появлялась, неведомо). В ту пору книга, текст которой не прошел в журналах, называлась «могилой неизвестного солдата»…
Но так или иначе — «рукопись всплыла»…
Шел семьдесят шестой год. И были произведены в романе столь любезные издательству и «механику» просветления. И «общественность» в романе появилась, и дело об изнасиловании не было закрыто, его отправили «на доследование»… Я бранил себя за слабость натуры, за согласие на «просветление». Но и не отказывался отыскивать себе оправдания. Мол, несмотря на все поправки суть истории не изменилась. Мол, первый вариант романа никуда не пропал, и будет случай, текст можно будет восстановить… И т. д. Главным же оправданием было для меня то, что я заканчивал тогда роман «Альтист Данилов» и знал, что теперь ни на какие издательские компромиссы я не пойду.
Хотя бы потому, что рукопись «Альтиста» я никуда не понесу. Да и куда было нести?
Оказалось, было куда. Беловой текст романа я уложил в папки, основательно завязал их тесемки и убрал рукопись в ящик письменного стола. И тут мне позвонила Диана Варткесовна Тевекелян, редактор отдела прозы «Нового мира». «Нет ли у вас чего-либо нового? — был вопрос. «Новое-то у меня есть, — сказал я. — Но с чего бы вдруг возник интерес к текстам неудачливого и несостоявшегося автора «Нового мира»?» «А вот рассказ ваш о любви домового гуляет от читателя к читателю, — сказала Диана Варткесовна, — почему бы и не взглянуть на ваши новые тексты…» И взглянули.
То есть рассказ мой «Что-то зазвенело» продолжал какой-то полет шмеля… Забыл про Данелию. Упомянул выше о том, что на «Мосфильме» некогда рукопись рассказа была вручена режиссеру Георгию Данелия, тот уезжал в Чехословакию и пообещал рассказ на досуге прочитать. Так вот, Данелия вернулся из Праги, пригласил меня к себе и сообщил доверительно: «Нет, это вещь непроходимая…»
…рассказ мой продолжал какой-то полет шмеля, от меня независимый и чаще всего мне неведомый, без надежды где-либо, как и в случаях с «Мосфильмом», приземлиться. Продолжал полет и еще лет двенадцать, пока не опустился на цветные полосы популярной в ту пору «Сельской молодежи».
И все же в семьдесят седьмом сумел снизиться и повлиять на судьбу «Альтиста Данилова». Публикации «Альтиста» в «Новом мире» я ожидал три года. С трепетом, со страхами, с нетерпением побывавшего уже в переделках автора. Но тут сюжет особый. И печальный, и забавный.
Лоскуты необязательных пояснений. Эти слова я употребил в названии нынешнего текста. На самом деле какие-либо авторские комментарии к своим сочинениям не только не обязательны, но часто и некорректны.
Хотя, предположим, смысловые «сноски» Андрея Битова к его роману «Пушкинский дом» не менее интересны, чем сам роман…
И, конечно, как не вспомнить о «разъяснениях» Умберто Эко «Имени розы»…
Мне же захотелось рассказать не о смыслах и о причинах своих сочинений, а о том в каких условиях собственного существования они создавались. Мимоходом и об обстоятельствах эпохи. Во многом и потому, что на встречах с читателями был ощутим интерес к подробностям и закоулкам литературного бытия. А тут еще потребовалось (так мне показалось) объяснить, почему под одной обложкой могли оказаться рассказы из жизни «старых русских» и роман о днях нынешних.
Потребовалось-то потребовалось…
Но вряд ли мне удалось передать сути, тайны и токи творческого движения, которые и для самого-то автора остаются тайнами. Потому и вышли мои пояснения лоскутными.
Не мною придуман такой способ передачи мыслей, воспоминаний или чувств. И не в отечественной словесности. И не в наш век. Но здесь он показался мне удобно-естественным. И мне близким. Недавно отыскались мои письма пятьдесят девятого года, мною забытые, к своим друзьям в Норильск, и они были лоскутными, с перескоками событийной и эмоциональной информации…
Менее всего мне хотелось, чтобы у кого-либо создалось впечатление, будто автор пожелал вызвать сострадание к себе: вот, мол, весь исколот шипами превратностей жизни. Ну, уж нет. Этот текст вовсе не жалобы турка. Моя судьба российского сочинителя схожа с судьбами многих моих ровесников. Ее следует признать скорее благополучной, нежели требующей сострадания. Никаких доблестей и отваг я не проявлял.
Просто жил. «У времени в плену…» — это я не всегда ощущал. Просто существовал в рамках профессиональных необходимостей ремесла, выбранного моей натурой. Или (это уже пафосно и красиво) подсказанного моей натуре Провидением. Среди этих профессиональных необходимостей одно из важнейших — терпение. И, повторюсь, умение владеть словом так, чтобы не было стыдно за свои сочинения. При этом вопросы свободы и несвободы (для меня) остаются внутренне-личностными, независимыми от того, в плену я у времени или не в плену. Но ведь и заботы о хлебе насущном…
Куда от них деться? Легенды о преимуществах нищих творцов фальшивы.
Иоганн Себастьян Бах жил обыкновенным бюргером, обывателем, лупил нерадивых учеников палкой, долгие годы пекся, как бы теперь сказали, о повышении зарплаты, надо было кормить семью. Бах-памятник в Лейпциге стоит с вывернутым карманом: денег нет. Но в своих творениях лейпцигский кантор взлетал в надбытовые, надмирные высоты.
«Я тружусь до изнеможения, подрывая свое здоровье, однако не могу ничего заработать. Не хочу описывать тебе свою нужду, она дошла до крайности. Уже пять дней, как я не ел ничего, кроме хлеба, до сих пор такого еще не было». Это строки из письма Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, вынужденного долгие годы канцелярской маетой и уроками обеспечивать возможности для любимого дела.
Благополучный в зрелые годы Гёте в молодости не голодал, но в средствах стеснения имел.
Шагал в пору своего парижского ученичества (вернее, художнического становления) нередко довольствовался черным хлебом с селедкой. Так. Вспомнил о Шагале… О Шагале а, стало быть, и о Плисецкой с Щедриным. Но об этом потом… Боль существует только сейчас. В сию минуту. Вот сейчас ноги ноют. И вчера что-то болело, но вчерашней боли уже нет. О завтрашней боли нет охоты думать. Вчерашняя же боль, как и любая другая давняя боль, была существенна и для настроения, и для состояния натуры, бытового или рабочего. Но ее уже нет. Остались в памяти дела, житейские заботы с их радостями или досадами. И многие эти заботы с досадами, со страхами прошедших дней начинают казаться пустяшными (ты и твои близкие их пережили!), достойными даже подтруниваний и над самим собой, и над особенностями эпохи. Потому и был написан мной рассказ «Субботники». Как раз о той поре, когда «механик» был мною недоволен. И тут не потребовались ни приемы фантасмагории, ни игры воображения. Рассказ чуть ли не документальный. Разве что в нем изменены фамилии персонажей. И имена. Скажем, поэт по имени Спартак стал в рассказе Крассом. А вот имя моржихи я уважительно оставил — Барон.
Не слишком много игр воображения и в романе «Бубновый валет», хотя кому-то из читателей история Василия Куделина может показаться фантасмагоричной. Но мало ли что случается в жизни… Персонажа, похожего на меня, я поселил в романе под фамилией Марьян.
«…век двадцатый, век необычайный, чем он интересней для историка, тем для современника печальней…» — сказано Николаем Глазковым. Впрочем, он (Глазков) залетал в «Андрее Рублеве» Тарковского и в пятнадцатый век. И там сломал руку. Или ключицу.
Но Хрюшка-то мне улыбалась! Пусть и без толку…
Один из участников моего семинара в Литинституте талантливый Валерий Роньшин, живший тогда с поклонами аббериутам и Леониду Добычину, и в свою радикальную студенческую пору не отказавшийся бы от Нобелевской премии, был озабочен напором бытовых соблазнов и неурядиц, мешавших его творческим полетам. Приятель Роньшина служил в музее Петропавловской крепости. По просьбе Валерия (было это в начале девяностых годов прошлого века) по утрам он запирал его в одном из исторических казематов, и там в сырости одиночки Валерий сочинял рассказ за рассказом, их охотно печатали все ходовые в ту пору журналы. После полуденного выстрела питерской пушки в крепость приходила жена Валерия и протягивала в тюремное оконце судки с обедом.
Молодой был… Но неразумным назвать его было нельзя. Отчасти, конечно, отыскался бы в его выборе места для творчества и вызов судьбе. Но дни шли такие, что можно было и подерзить с игрой в заключенного…
Иные пришли писатели…
Тут, похоже, в моих соображениях возникает каша. Хотя как сказать… Кому-то удобнее произвести себя в аскета и творить в голодном одиночестве. Но для большинства-то обыкновенных физических особей… Казематы казематами (казематы — всерьез, а не игровые казематы), они выводят человека за скобки, за витки колючей проволоки из нормальной жизни. Но коли ты существуешь в этой самой условно нормальной жизни, то тебе надо на что-то есть, пить, и главное — кормить семью, покупать лекарства и пр. и пр. Не зря каменный Бах стоит в Лейпциге с вывернутым пустым карманом. Каждого из людей творческих профессий, увы, гнетет тревога — фуги фугами, поднебесные кантаты кантатами, но на что жить завтра, вдруг опять окажешься без пфенинга, то бишь гроша… Тем более, что государство приучило нас к своим фокусам и проказам…
Ну вот, пошли все же жалобы турка… А зря.
Жили ведь как-то, порой и неплохо, и что-то делали…
Как-то ночью позвонили Плисецкая с Щедриным. «Альтист Данилов» вышел в «Новом мире» с предисловием Родиона Константиновича. Они прилетели из Парижа. Там были, в частности, в гостях у Марка Шагала. И сразу же по прилету в Москву выполнили пожелание мастера. Передали мне его одобрительные слова. Шагал ощущал себя причастным к русской культуре, был подписчиком «Нового мира» и прочитал мой роман об альтисте Данилове. Шагал, по недоразумению называемый в энциклопедических словарях французским живописцем и графиком, был (и остается) одним из моих любимых художников, в его музыкально-цветовых фантазиях на фоне витебской повседневности (дрязг жизни!) или над ней угадывались (для меня) связи с творениями Гофмана и Гоголя (видел его блестящие иллюстрации к «Мертвым душам»). Естественно, в ту ночь уснуть я не мог…
Вертикаль моей жизни. Или горизонталь ее. Не имеет значения. А может, вертикаль и горизонталь одновременно. Билет в Большой театр в обмен на батон хлеба. Дебют М. Плисецкой. «Щелкунчик». Гофман. Чайковский. А вскоре — великий Борис Ливанов (он же Бомбардов у Булгакова) в великом МХАТе в роли Ноздрева. «Мертвые души». Николай Васильевич Гоголь. Уроки русской словесности. В частности, ее понятия о любви, совести и чести. И собственный дрязг жизни…
И благодарение Богу…
Уже когда роман «Камергерский переулок» был в типографии, мне позвонили из Российского Авторского Общества. Поинтересовались, не я ли автор стихотворения «Хрюшка улыбается» и если я, то куда переслать деньги за новую публикацию. «Чур меня! — чуть ли не закричал я в трубку, но сдержался. Давно не напоминала о себе Хрюшка! Я объяснил, что автор не я, а Орлов Владимир Натанович. «Как его найти? — был задан вопрос. «Вот уж не знаю, — сказал я. — Раньше он проживал в Симферополе…» «Так это совсем другая страна! — обрадовалась дама из Общества. Действительно, это совсем другая страна. И хрюшки у них совсем другие, И свиновас у них Ющенко. Другое дело, что учитывая национальную идею, хрюшки у них должны не только улыбаться, но и отплясывать гопак. Калмыцким верблюдам из опасений, как бы хрюшки из-за них не околели от африканской чумы, два месяца не давали возможность проехать шляхами из Ростова в Болгарию.
Священное животное ридной Батькивщины. Сало в шоколаде. Впрочем, и у нас развито свиноводство.
«Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем…» Кажется, Агния Львовна Барто, с коей я имел удовольствие быть знакомым. А может, и не она. Но удивительна судьба ее творений и имени. Стихи из ее детских книжек становятся текстами рок-шлягеров. И уж совсем всенародное признание. Известному словосочетанию «конь в пальто» нашлась замена. На вопрос «Кто?» нынче отвечают: «Кто! Кто! Агния Барто!» Производитель безгрешного, не чующего запахов мзды верзилы-милиционера мог бы от зависти выщипывать усы дальновидного кота. Впрочем, какие и по поводу чего у него могут быть зависти?.. «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем…»
Всегда жили ожиданием худшего. И снова отовсюда крики, порой и истерические: «Кризис! Кризис! Кризис!». Каменному Иоганну Себастьяну Баху, не забывая о мотетах и фугах, пересчитывать бы теперь пфенинги или еще какие-то монетные мелочи, не знаю, на что делятся евро, на еврики, что ли? А художнику из Витебска, коли был бы жив, наверняка, припомнился бы вкус селедки и черного хлеба. Однако, слава Богу, живем. И обязаны жить.
И как бы тут снова не объявилась Хрюшка. А самое время ей объявиться. Возьмут и позвонят. И сообщат, что она улыбается. На десять рублей. Или не на десять. А «в настоящем режиме цен»…
Сижу и сочиняю новый роман. «Лягушки» пока называется. Увлекся. Мыслями нахожусь в городе Средний Синежтур на спектакле «Маринкина башня». И не сразу соображаю, что в соседней комнате звонит телефон. Подходить или не подходить? Или продолжить сочинение? Продолжу…
А телефон все звенит и звенит…
Июль 2009 г.Что-то зазвенело
1
Домовой Иван Афанасьевич ждал субботы. Он знал, что в субботу вечером, в семь часов, Екатерина Ивановна пойдет в кинотеатр «Космос» на французский фильм «Замороженный». Он знал, что билет ей выпадет на шестнадцатое место в четырнадцатом ряду. У Ивана Афанасьевича и у самого в субботу был выходной. Муж Екатерины Ивановны находился теперь в отъезде. Впрочем, муж тут не имел никакого значения.
2
Прежде, до переезда, Иван Афанасьевич был в ответе за двухэтажный деревянный дом в переулке возле Трифоновской улицы. Но тот дом снесли. Дернул бульдозер трос, порушил столбы и перекрытия. Поднялась труха и опала. Предприимчивые люди уволокли доски покрепче для устройства дач. А Иван Афанасьевич пешком с остановкой в пивном шестиграннике у Крестовского моста отправился в Останкино на новое место своего существования.
Место это было желто-розовое, в девять этажей, с четырьмя подъездами. Будто бы Иван Афанасьевич получил повышение. А ведь не просил ни о чем. Может, очередь его подошла. А может, случилась путаница. Не те цифры где-нибудь зачеркнули. Ну и не его это было дело. Иван Афанасьевич не любил суеты, не понимал стремлений приятелей пробиться в здания посолидней. Чуть ли не в саму Останкинскую башню. Он и дровяной сарай согласился бы принять, лишь бы в нем не водились крысы. Шуршание этих мерзких животных, ненасытная толкотня их, движения в пазах гнилого дерева раздражали его мечтательную натуру. Пусть хоть и девять этажей, но без крыс. Так он себя и успокоил.
В старом доме он отдыхал на чердаке, где днем сушилось белье и дети возле печных труб играли в прятки. В душные августовские ночи он спускался в подвал сапожника Михайлова и спал там в кадках из-под квашеной капусты. А когда в дом провели водяное отопление, он освоил дымоходы и пустые печи. Славно там было! Новое место поначалу Ивана Афанасьевича печалило и оглушало. Ни чердаков тут не полагалось, ни подполов, ни печей. Первые дни Иван Афанасьевич спал на плоской, как футбольное поле, крыше, однако промок, стал кашлять, чихать, а ближняя аптека у ресторана «Звездный» прочно держалась на учете.
Тогда Иван Афанасьевич перебрался в мусоропровод третьего подъезда. Но и тут ждали его неприятности. Жильцы поселились в доме молодые, энергичные, они и ночью и даже в покойные предрассветные часы пускали вниз по трубе мешавшие им предметы. В особенности бутылки, не соответствующие стандартам пунктов приема посуды. Четыре таких бутылки из-под светлого румынского пива «Букурешти», брошенные ловкой рукой, однажды протащили бедного Ивана Афанасьевича по трубе с седьмого этажа до третьего. При этом бутылки подпрыгивали и обидно били по спине. Спросонья Иван Афанасьевич не понял, чья это была ловкая рука, а то пришлось бы в квартире той руки проводить срочный ремонт.
«Ну да Бог с ней!» — вздохнул Иван Афанасьевич и съехал из мусоропровода. Теперь уже под лифт. Там была такая крепкая пружина из толстых стальных колец. Он себе эту пружину и приглядел. Залезет в нее и спит. Поначалу удары лифта по пружине его раздражали, и нет-нет, а лифт Иван Афанасьевич ломал. Потом привык он и к ударам. И они ему стали милы. И уже не только не мешали ему спать, но и мечтать не мешали.
А в мечтаниях его непременно возникал легкий и непорочный образ Екатерины Ивановны. Иван Афанасьевич умилялся, шептал: «Катенька…» — и вздыхал, отчего пустой лифт тут же трогался с места.
3
Как это угораздило влюбиться его? Ведь он уже любил всерьез семь раз и знал, к чему это приводит. Да и не мог он ее любить вовсе. Однако увидел Екатерину Ивановну в магазине на Аргуновской в очереди за рыбой сквамой, так все в нем и оборвалось. Он уже и нашатырь пил, и тер виски голубиным пометом, и в общественную работу втягивался, и в «Спортлото» играл — ничто не помогало. Может, нашатырь пошел не тот, искусственный, может, голуби обленились, а только не выходила Екатерина Ивановна из его сердца. Как все было глупо и как все было сладко! Иван Афанасьевич, сидя в своих кольцах, даже стихи стал сочинять. А по утрам, когда Екатерина Ивановна спешила на Яузу, в свой НИИ, где она, бедняжка, целый день из одной колбочки в другую переливала жидкости, Иван Афанасьевич издали восторженным старшеклассником любовался ею. Иногда Екатерина Ивановна оборачивалась, но разве могла она среди прочих торопливых существ заметить его, Ивана Афанасьевича!
Все в ней нравилось ему. И волосы после парикмахерской, и дорогие французские духи, и следы собачьих зубов на белой ноге, и то, как мило она говорила собеседникам: «Нет, правда? Ты меня разыгрываешь…», и то, как она усердно носила домой издалека тома трех серий «Библиотеки всемирной литературы», заготовляя книги впрок для малого сына и будущих внуков. И Катенькин муж Ивану Афанасьевичу, конечно, нравился — Михаил Анатольевич человек очень обаятельный, несмотря на отпущенную недавно рыжеватую, всю из мелких клочьев бороду. Не было у Ивана Афанасьевича фотографии Екатерины Ивановны, однако польская певица Иоланта Борусевич показалась отчасти на нее похожей. В ларьке «Союзпечати» Иван Афанасьевич позаимствовал гибкую пластинку Иоланты Борусевич. Конверт с портретом он хранил под лифтом, а пластинку иногда проигрывал на радиоле в опечатанной квартире Сушковых, уехавших на три года в Кувейт добывать машину.
Иван Афанасьевич слушал, бывало, Иоланту, закрывал глаза и думал о своей прелестнице.
Чего бы он для нее только не сделал! Уж точно, никогда бы не пришлось в квартире Екатерины Ивановны устраивать ремонтов. Ни одна бы моль здесь не летала, ни один бы поганый клоп по стенам не бродил, ни одна бы букашка блинную муку не портила. Тут бы и паркет был целехонек и ровен, и мышь бы без дела не скреблась, и не рвались бы обои, и трещины на потолке замазывались бы сами собой. Иван Афанасьевич мог бы тайно стирать и гладить хозяйке и мужу, до того крепким было его чувство. Протянула бы Екатерина Ивановна руку к нечистому платью, а оно — на тебе! — будто бы только что из прачечной и с гладильной доски. Иван Афанасьевич и лампочкам не давал бы перегорать. Да что там лампочки! В этой святой квартире и водопроводчик был бы тихим и робким, и четыре рубля не к нему бы ушли, а остались бы для Михаила Анатольевича.
Многое умел Иван Афанасьевич. Многому был обучен. Да что толку! Только и оставалось Ивану Афанасьевичу руки протягивать в сторону судьбы и говорить мысленно в ту же сторону: «Ох, судьба, куда же ты смотришь!»
Иван Афанасьевич служил в двадцать первом доме. Екатерине же Ивановне дали ордер в дом номер двадцать пять.
А домового в двадцать пятом доме исполнял Георгий Николаевич.
Двадцать пятый был дом как дом. Башня в двенадцать этажей. Но Георгий Николаевич считал, что его обошли, и несколько завидовал Ивану Афанасьевичу. Двадцать первый был домом первой категории, а двадцать пятый — второй.
— Эва, смотрите, — говорил Георгий Николаевич, — двери-то у вас какие, под дуб, и ручки блестят, и подоконники широкие… А у меня что?.. Так… Тьфу…
Мелочи всегда трогали Георгия Николаевича. Иван Афанасьевич это знал. Познакомились они в Крымскую войну, в восемьсот пятьдесят четвертом году. Тогда их деревянные дома стояли стена к стене на нечетной стороне Третьей Мещанской, за церковью Филиппа Митрополита. Георгий Николаевич отличался в ту пору легкомысленностью и в доме, где служил Иван Афанасьевич, воровал пареную репу. Иван Афанасьевич поймал его однажды, Георгий Николаевич плакал, по молодости лет и незнанию лешачьих законов он думал, что за кражу его развеют по ветру. Однако Иван Афанасьевич дальнейшего хода делу не дал, а, пожурив разбойника крапивой, отпустил его. Репу, конечно, отобрал. Потом их дома сгорели и пути разошлись. Узнавали они друг о друге случаем. И вот опять стали соседями.
Иван Афанасьевич полагал, что отношения у них с Георгием Николаевичем все же неплохие. И он уже давно хотел просить Георгия Николаевича окружить по своей линии Екатерину Ивановну теплом и вниманием. Что ему стоит! И он бы соседу отплатил добром. Да все робел и откладывал разговор.
Наконец пришел вечером в собрание сослуживцев и сказал себе твердо: «Сегодня поговорю непременно». Не мог больше терпеть. А собирались домовые при ЖЭКе. Куда им было еще податься?
4
ЖЭК занимал второй этаж дома дачного вида, да еще с башенкой, на Аргуновской. Вела туда очень крутая и высокая лестница, и только здоровый, спокойный и непьяный человек мог попасть в ЖЭК на работу и на прием. Домовых, понятно, лестница не пугала. Под ЖЭКом, на первом этаже, была почта, и одинокий телеграфный аппарат стучал там всю ночь, нисколько не мешая Ивану Афанасьевичу и его приятелям.
Старожилы говорили ему, что поначалу они собирались в большой комнате приемной, но уж больно долго в ней засиживались общественники. Ждешь, ждешь, бывало, пока они уйдут, и зевать начнешь. Перебрались потом в залу главного инженера. Но там отчего-то пахло кислым и шла плохая карта. Перешли в бухгалтерию, здесь и осели.
Не то чтобы очень весело было в их собрании, но и не скучно. Кто пел, кто играл в бридж, кто в шашки, кто в домино, кто распечатывал кроссворд, кто вышивал бисером, кто гадал, признает ли Мальта правительство Бахрейна или нет. Откуда-то возникали бутылки, и образовывался то ли бар, то ли буфет. Иногда вдруг такая стихия захватывала компанию, что все становились прямо как маленькие дети! Плясали, шумели, лампочки выкручивали в коридоре, на руках с рюмкой во рту спускались по лестнице, попрыгунчика Леонида Борисовича связывали тесемками от папок и сургучом приклеивали к потолку.
А иногда, напротив, все сидели серьезные, умные и вслух страдали за жильцов. Оглядываясь по сторонам, ругали техников-смотрителей и слесарей. И тут же начинали обдумывать: что бы такое предпринять, от чего бы ЖЭК стал лучше. Иван Афанасьевич при этом мечтал про себя: «Эх, как бы моим жильцам да что-нибудь эдакое… И Екатерине Ивановне…» Но что он мог сделать? Самое большое — забраться сейчас и кабинет начальника конторы и в папке его переложить жалобы своих жильцов на первое место под самую обложку… Но ведь и другие домовые не дураки, и они тут же жалобы своих перетянули бы вперед.
А публика собиралась интересная. Самые разные домовые. Правда, мелкие чипом, как и Иван Афанасьевич, но почти все с историями. Только несколько шалопаев из блочных домов историй не имели, отличались номерами домов, в которых и завелись, шей они не мыли, орали иностранные слова и в собрании хамили старшим, будто в подворотне. А в общем, и они были милые ребята. Отчеств им пока не полагалось, обходились прозвищами, а то и просто номерами домов.
«Хорошие ребята, — думал, глядя на них, Иван Афанасьевич. — Жизнь по-новому переделают… Вот только трудно им будет. Ни об чем понятия у них нет…»
Все прочие завсегдатаи имели имена-отчества, и, как правило, имена эти совпадали с именами хозяев первых домов, куда знакомцы Ивана Афанасьевича попали кто триста, а кто сто лет назад. Только Артем Лукич, изменив взгляды, принял имя председателя жилтоварищества. Он и усы от него носил.
Очень забавлял Ивана Афанасьевича домовой Велизарий Аркадьевич. Он долгие годы жил в особняке стиля «модерн» и весь был изогнутый и воздушный. Часто Велизарий Аркадьевич как бы никого не видел и читал вслух Бальмонта. Иногда он поднимался над столом бухгалтера, с неким воем обхватывал руками голову, потом опускал ладони на плечи и говорил, что голова и плечи у него целиком из высокой духовности. «А как же шея?» — спрашивал один из шалопаев. Тут Велизарий Аркадьевич обижался, уходил в угол, замыкался в себе, и Иван Афанасьевич шел утешать его.
Из стариков Ивану Афанасьевичу нравился Федот Сергеевич. Вечно он был печален, но справедлив. Века три подряд он жил в каменных палатах дьяка Суровегина. Палаты снесли по злой небрежности районного архитектора, о чем была статья в газете. И теперь Федот Сергеевич чуть ли не каждый день ходил в дом к тому архитектору, бил посуду из комиссионных сервизов и выливал на ватманскую бумагу тушь из пузырьков. Однажды в особой печали Федот Сергеевич целый пузырек опрокинул на лысину спящего архитектора. А тому предстояло идти на важный прием. Иван Афанасьевич как узнал об этом, подошел к Федоту Сергеевичу и пожал ему руку.
Старше Федота Сергеевича в компании был один Василий Михайлович. Круглый, как баташевский самовар, багровый, он перекатывался обычно по комнате, булькал и гоготал. Но уж больно он был нахрапист и хвастлив. В особенности когда в собрании по какому-либо поводу возникал президиум и Василий Михайлович норовил сесть справа от председателя. «Да я!.. Да мы! — кричал он тогда. — Да меня сам Савва Морозов катал в автомобиле, когда ему не спалось… Да что Савва! Меня ребенком Иван Васильевич Грозный держал на коленях…» «Ну ладно Савва Морозов, бог с ним, — думал Иван Афанасьевич. — Но Ивану-то Грозному какая была корысть держать это чучело на коленях?» Однако ничего не говорил.
Но вот уж кто мог шуметь громче всех, кто мог всех перекричать и урезонить, так это Артем Лукич. Геройского вида был Артем Лукич. Он считал, что он в компании самый сознательный и заслуженный, а потому у него больше всех прав. И все так считали. В двадцать восьмом году он перебрался из купеческих хором в Дом нового быта с кухней-коммуной и с тех пор много узнал в политическом смысле. На руке у него была наколка: «Рабочее жилтоваришество — наша крепость». Приятели, ходившие с ним в баню, рассказывали, что у него и по телу идут мысли из устава жилтоваришества, а на левом плече наколот портрет самого председателя с усами и трубкой.
Словом, милейшие собирались личности в доме на Аргуновской. Все были местные, останкинские, из ближних строений. Один Константин Игнатьевич приезжал с Таганки на трех трамваях. Кто он, зачем он, что ему здесь надо, отчего он тратится на трамваи, никто не знал. Спросить же его было бы дурно. Да и к чему? Раз приезжает, стало быть, надо. Тем более что клубного правила он не нарушал. А правило было строгое: больше, чем двадцать один домовой, в компании быть не должно. Как только двадцать первый приходил — двери запирались. А Константин Игнатьевич аккуратно являлся девятым. И никому не мешал. Сидел себе тихо, один, курил «Мальборо», улыбался и играл сам с собой в коробок. И на вид он был простой, свойский. Никаких печатей на лице не имел.
5
Вот в это собрание Иван Афанасьевич и пришел восьмого августа в самом отважном состоянии духа. Первым делом он отыскал соседа Георгия Николаевича и подсел к нему. Для верности предприятия он все же выставил Георгию Николаевичу бутылку шотландского виски венгерского розлива. Когда оба стали теплы и с умилением принялись вспоминать о юношеских забавах на Третьей Мещанской, Иван Афанасьевич решил, что пора. Он прямо тут и хотел говорить. Однако почему-то оглянулся на Константина Игнатьевича с Таганки и на всякий случай позвал Георгия Николаевича в коридор.
— Жора! Куда же вы?! — обеспокоился блочный шалопай, известный как «номер сорок третий».
Георгий Николаевич поглядел на него, икнул и забрал с собой бутылку виски. В коридоре они с Иваном Афанасьевичем остановились возле тяжелого табурета, крашенного в казенный цвет. Георгий Николаевич хлебнул виски из горла и опустил бутылку на табурет. Как на пьедестал. Ах, Иван Афанасьевич, и зачем, зачем вы только встали возле этого табурета!
— Ну что? — спросил Георгий Николаевич.
— Видите ли, Георгий Николаевич, дело у меня к вам чрезвычайно деликатного свойства… И вы уж будьте добры, надо мной не смейтесь…
— Прожгли, что ли, все? Взаймы, что ли, будете просить?
— Почти что взаймы… То есть нет, но я хотел бы быть у вас в долгу… Дело, видите ли, касается женщины…
— Ба-ба-ба! — вытаращил глаза Георгий Николаевич, он даже отодвинулся от Ивана Афанасьевича и смотрел теперь на него как на домового больного и опасного и для него, Георгия Николаевича, совершенно чужого. — Рисковый вы, однако, рисковый… Нам ведь их нельзя… Вы что — забыли лешачий закон?..
— Неужели вы никогда не любили? — взволнованно спросил Иван Афанасьевич.
— Отчего же? Любил. И теперь, в некотором роде… Птицу любил. У купца Тихонова в огороде. Долго любил. Птицу павлин. Вот с такими перьями. Бывало, голову повернет — а у меня цыпки по коже. А уж когда сварили ее, плакал… Теперь скульптуру люблю.
— Какую, простите, скульптуру? — удивился Иван Афанасьевич.
— Гипсовую. Раньше мрамором увлекался, а теперь гипсом. Мраморные — они высокомерные и не для всех. Оттого и носы у них бьют. Сам я одной, знаете… А гипсовые и материалом проще и доступнее, — тут Георгий Николаевич отчего-то засмущался, голову наклонил и, может, не хотел слово выпустить, да не удержался: — Я ведь все время к одной хожу… Знаете, в Останкинском парке возле водяной карусели моя симпатия и стоит. Женского полу. С лещом под мышкой и вот тут. Я ее Гретой зову…
Он замолчал, был размягчен, видно, желал тут же к Грете и пойти.
— Отчего же вы думаете, — спросил Иван Афанасьевич, — что живые — они хуже гипсовых?
— А оттого, — возмущенно заявил Георгий Николаевич, — а оттого, что не гипсовые!
Ивану Афанасьевичу бы понять, что Георгий Николаевич может сейчас обидеться всерьез, а он и сам, на свою беду, разгорячился. Сказал:
— Нет, вы не правы, Георгий Николаевич!
— Ну конечно, куда нам! Это вы всегда тонкостью славились. Только не думаю, что моя Грета хуже вашей… этой… живой… Да ведь нам и нельзя их любить по закону!.. Вы что, ошалели?..
Тут сразу же возле табурета возникла тишина. И надолго. Потом Георгий Николаевич отлил себе в глотку виски и спросил:
— Ну а я тут при чем?
— Она из вашего дома, Георгий Николаевич…
— Из моего? — поперхнулся Георгий Николаевич. — Да в моем доме одни криворылые и придурковатые! Это в вашем доме кое-кто есть, у вас там и двери под дуб, и ручки металлические, а у меня все дрянь… Кто же это?
Не хотел уже, ох как не хотел Иван Афанасьевич открывать имя своей прелестницы, этой ли грубой скотине слышать милое ее имя, но что ему оставалось делать?
— Екатерина Ивановна, — сказал он воздушно.
— Ковалевская? С пятого этажа! Из тридцать восьмой квартиры? — загоготал Георгий Николаевич. — Катька! Так ведь она мужа бьет!
— То есть как? — опешил Иван Афанасьевич.
— А так… Вы-то небось думаете, что она нимфа, а она мужа бьет… Как он только с Калядиным выпьет, так она его и бьет. Чем ни попадя!
— Ну и что? — надменно спросил Иван Афанасьевич.
— А то… А то, что моей Грете ваша Катька и в качестве леща в подмышку не годится! Вот что!
— Я прошу вас взять свои слова обратно, — глухо сказал Иван Афанасьевич.
— И не подумаю.
— Ну тогда я скажу, что ваша Грета наверняка создание какого-нибудь бездарного халтурщика и место ей на помойке.
— Еще одно такое слово, и в квартире вашей так называемой Екатерины Ивановны я все заражу паршой. Мой дом? Мой! Серебряные ложки станут у нее пропадать! И постельное белье тоже!
— Вы меня знаете, я безрассудный, — тихо сказал Иван Афанасьевич, — я ведь возьму у водопроводчика разводной ключ и всю вашу Грету по частям сброшу в пруд.
Каким уж невоспитанным считался Георгий Николаевич, а тут сразу взял себя в руки. Обнял Ивана Афанасьевича за плечи и сказал:
— Да что это мы с вами из пустяков бой затеяли!..
— Для меня это не пустяки… Однако и я не собирался вас обижать… Ведь я даже хотел снять металлические ручки с моих дверей и обменять на ваши пластмассовые… Раз они вам так нравятся… Если бы пошли мне навстречу…
— Да пожалуйста! Только ведь я… — и тут Георгий Николаевич снова захохотал.
Он долго хохотал, слезы с глаз смахивал, наконец успокоился.
— Да ведь я почему смеюсь, — сказал Георгий Николаевич, — потому что мне вас жалко. Вы что, ослепли?
— Я вас прошу, Георгий Николаевич…
— Она ведь и за квартиру не платит вовремя… Она ведь и над соседом-пенсионером танцует после одиннадцати в тяжелых туфлях, когда гости…
— Замолчите, Георгий Николаевич, или я…
— Да это что! У нее, у Катеньки вашей, — не мог уже остановиться Георгий Николаевич, но перешел почему-то на шепот, и от шепота этого все зашипело в коридоре, — у нее зуба нет. Ей-богу. Коренного, четвертого сверху, с правой стороны.
От кощунства этого, от этого неприличия все задрожало в Иване Афанасьевиче, и, как был он рыцарь, так и схватил тяжелый табурет, не расплескав виски, и прибил Георгия Николаевича к полу. Сбежались домовые, корили Ивана Афанасьевича, подставив эмалированный таз, кровь кухонным ножом пустили несчастному Георгию Николаевичу, волосы прижигали ему на затылке каленым железом, уши ему продували дымом. И привели страдальца в чувство. Георгий Николаевич поднял пудовые веки и тут же стал отчаянно ругаться. Потом он вспомнил и все резкие татарские слова, какие знал от дворника.
Ему стало легче, и тогда он написал проклятие Ивану Афанасьевичу и заявление в товарищеский суд.
Разбитый и печальный лежал Иван Афанасьевич в кольцах под лифтом. «Ах, зачем, зачем затеял я этот разговор, — думал он. — Любил бы ее тихо, и все тут… А теперь как бы и Екатерине Ивановне худо не было. Вдруг и впрямь станет у нее пропадать постельное белье… Нет-нет, он на это не пойдет, не посмеет…» При этом Иван Афанасьевич жалел сейчас Георгия Николаевича. А сам себе был неприятен. Мерзок даже был. Он вспоминал свои коридорные слова, и все они кузались ему дурными и недостойными. А уж то, что высмеивал Грету, было и вовсе постыдно — отчего же отказывать Георгию Николаевичу в сильном чувстве? К утру он все же заснул. И сразу же ему приснился ранимый Велизарий Аркадьевич из особняка в стиле «модерн». Был он гипсовый и голый и походил на Грету. Велизарий Аркадьевич упал на колени перед Иваном Афанасьевичем, обхватил голову руками и сказал кротко: «Ах, не бейте меня, Иван Афанасьевич, тяжелым табуретом. Потому что все во мне целиком из высокой духовности». — «Ну что вы, что вы, зачем мне, — растерялся Иван Афанасьевич, — разве я злодей какой?» И тут он проснулся в холодном поту.
Он сразу же выбежал во двор. Люди расходились на службы, и Екатерина Ивановна полосатым ангелом уплывала к своим колбочкам и пробиркам. Иван Афанасьевич чуть ли не плакал — кто знает, может, он видел ее в последний раз. Екатерина Ивановна шла, шла и обернулась.
6
Вечером был товарищеский суд. С заседателями. С графином на бильярдном сукне. Все как у людей. И суд-то был распущен до сентября на летние каникулы, однако собрался. Заседателями уселись — древний и жизнерадостный нахал Василий Михайлович и застенчивый Велизарий Аркадьевич, который отчего-то пришел босым и в тунике от Айседоры Дункан. Председателем же по справедливости стал геройский Артем Лукич. Иван Афанасьевич всем им сочувствовал, он сам, случалось, попадал и в присяжные, и в заседатели, и сам тосковал на казенном кресле с высокой спинкой. Он и всем собравшимся сочувствовал, все они были домовые неплохие, либеральные и отчасти прогрессивные, однако стоило им начать вместе обсуждать кого-то или судить, так сразу же черт знает что с ними происходило. И потом, остыв, все они, да и сам Иван Афанасьевич, вспоминая свои слова, каялись и страдали. И давали обещания: в последний раз! Да что было толку!
Иван Афанасьевич терпел и речи и показания свидетелей. Все ему удивлялись, разводили руками: «Ну. знаете ли, Иван Афанасьевич!» Из-за его страсти все глядели на него так, будто он, не подумав, принял мусульманскую веру. Даже шалопаи, уж на что были легки и свободны в мыслях, а и те говорили о нем с укоризной. Понять они его не могли, женщин презирали, а увлекались исключительно испанским певцом Рафаэлем. Словом, вышел Ивану Афанасьевичу полный конфуз. «Только про нее не говорите, только про нее не надо, — молил Иван Афанасьевич, — имя ее не марайте…» Облегчение он получил, когда Василий Михайлович, забыв о Екатерине Ивановне, обрушился на него за использование табурета.
— Экий вы сорванец! — сказал Василий Михайлович. — Размахались… И не жалко?.. Ведь сколько в этом табурете добра!.. Ежели перегнать да очистить…
Держа в руке приговор, Артем Лукич принялся сокрушаться как ласковый, но строгий отец:
— Что же вы, Иван Афанасьевич, разве на нашей кухне-коммуне кто-нибудь мог вот эдак?.. Ай-яй-яй…
В приговоре вместе с безобразиями Ивана Афанасьевича перечислялись и его заслуги. За драку в общественном месте ему было наказано три лунных месяца на собрание домовых приходить непременно двадцать вторым. Но драка была сосчитана мелочью, а вот женщина всех расстроила. В связи с нарушением лешачьих заповедей Ивану Афанасьевичу было запрещено смотреть на смутившую его женщину, тем более что она была из чужого строения. В случае нового нарушения запрета Ивану Афанасьевичу грозило переселение с позором в деревянный одноэтажный дом у платформы Северянин, не подлежащий сносу.
— Подлежащий сносу, — предложил Федот Сергеевич.
Артем Лукич остановился и, как показалось Ивану Афанасьевичу, взглянул на Константина Игнатьевича с Таганки. Тот сидел, как всегда, тихо, права голоса не имел и никакого движения не сделал. Артем Лукич подумал и сказал:
— Правильно. Подлежащий сносу. Чтоб мог вернуться в большую жизнь. Но без телевизора.
Все сразу зашумели. Представили: взглянет Иван Афанасьевич раз на женщину и — на тебе! — не увидит первенства мира по хоккею и не услышит вдохновений Г. Саркисьянца — разве это не жестоко?
— Ладно, ладно, — поднял руки Артем Лукич.
Так и записали: «..дом, подлежащий сносу, с телевизором…»
В коридоре к Ивану Афанасьевичу подошел Федот Сергеевич, сказал взволнованно:
— Иван Афанасьевич, любезный, вы хоть понимаете, что отделались легко? Я вас люблю и боюсь за вас. Вы не старый, но и не юнец. Я вас понимаю и прошу: образумьтесь! Выкиньте из головы Екатерину Ивановну. Что поделаешь? Она не для нас с вами. Нынешний суд — ведь это все шутки… Вас же не то что переселить могут… Сделаете еще один шаг, переступите лешачий закон, вас же и по ветру развеют…
Похолодел Иван Афанасьевич. И было от чего. Ведь правду сказал старик. Правду!
«Ладно, — говорил себе Иван Афанасьевич, сидя в своих стальных кольцах, — все. Нельзя, значит, нельзя. Есть у меня в конце концов сила воли или нет? Ведь семь раз она у меня была, отчего же и в восьмой раз ей не объявиться?» Тут он стал вспоминать, где у него прежде была сила воли — в голове ли, в душе или в сердце? Вспомнилось, что была и там, и там, во всем теле. Мысль об этом успокоила Ивана Афанасьевича. Однако минут через пять опять он стал сетовать на судьбу, поселившую его с Екатериной Ивановной в разных домах. Ведь, будь он на должности Георгия Николаевича, мог бы глядеть на Екатерину Ивановну по службе в любое мгновение, не боясь товарищеского суда, ни суда более строгого. Да что это! А какое счастье было бы, если бы он родился соседом-пенсионером, над которым Екатерина Ивановна танцует в тяжелых туфлях после одиннадцати часов.
Выбора у него не было. То есть был. Но какой!..
7
Серая жизнь началась у Ивана Афанасьевича. Чувствовал он себя жалким и никому не нужным, да и ему самому ничего в жизни, казалось, было не надобно. В обязательный час он надевал клубный кафтан с перламутровым значком и шел двадцать вторым в собрание на Аргуновскую. А двери перед ним запирались. Привыкнуть бы ему к унижению, а вот не мог. И запить не мог. Хотел, а не мог. Выпьет «Кубанской», купленной ящиком по знакомству, и тут же возникает в мысленном взоре его Екатерина Ивановна, засмеется, заблестит, запереливается всеми цветами радуги. Все он в ней опять видел, и даже шрам от укуса на белой ноге. Знать бы ему четверть века назад про ту злодейскую собаку, она бы и на хозяйственное мыло не пригодилась! Но видеть Екатерину Ивановну даже и мысленным взором он не имел права. Вот и приходил Иван Афанасьевич в свой дом с прогулки скучный и трезвый, снимал клубный кафтан и вздыхал. А потом в пустой квартире Сушковых с влажными глазами сидел у телевизора и вязал спортивную фуфайку для племянника из Тамбова.
По городу он бродил бесцельно, в сумеречном состоянии души забирался на Останкинскую башню и глядел на Москву печально, будто прощался с ней. А отчего так — и сам не знал. Однажды он спустился с башни и пошел в Останкинский парк. Его и раньше тянуло туда, однако он себя не пускал. Теперь он дошел до пруда в детском городке и понял, что́ его тянуло. Возле самого берега над водяной каруселью он увидел Грету. Вокруг стояло много гипсовых скульптур, но то, что это Грета, Иван Афанасьевич понял из-за леща. Лещ, гипсовый же, нервно высовывался из-под мышки Греты и успокаивался на ее груди. Снизу для верности за жабры его держала крупная рука Греты. А на пьедестале у соблазнительных Гретиных ног стояли три глиняных горшка с геранью. «Георгий Николаевич принес!» — растроганно подумал Иван Афанасьевич. Герань никто не трогал, полагая, что место ей тут определено администрацией.
Мелкая птичка с розовым зобом вилась вокруг Ивана Афанасьевича, кричала воинственно, волновалась, словно Иван Афанасьевич сейчас же мог наступить на ее птенчиков. Однако иметь птенчиков ей было не по сезону. Да ведь это же сам Георгий Николаевич и есть, догадался Иван Афанасьевич. Сердечко-то у него так и бьется, беспокоится за Грету и герань. «Да полноте, перестаньте тревожиться, — хотел было сказать ему Иван Афанасьевич, — я их не трону». Однако посчитал, что это будет неделикатно. И он пошел по берегу, в направлении шашлычной.
У шашлычной он остановился и опять взглянул на Грету. Видно, в девушке этой было что-то, раз Георгий Николаевич так вокруг нее хлопотал. Иван Афанасьевич даже позавидовал счастью Георгия Николаевича. Значит, возможно, счастье-то — это?
«Неужели я хуже Георгия Николаевича?» — думал Иван Афанасьевич, выстаивая шашлык. И тут он решил, что непременно еще один раз увидит Екатерину Ивановну, еще раз насладится ею. Хоть одним глазком. А потом будь что будет! «Гражданин, шашлык кончился, — ворвалась в его мечтания подавальщица, — капусту возьмете?» Он взял, что уж теперь…
Все переменилось в его жизни. Он и бриться начал, и зарядку делал, и трусцой в олимпийском костюме натощак обегал по утрам Звездный бульвар. И все думал о том, как он увидит Екатерину Ивановну и как замрет в нем душа. «Не посмеют они меня выселить в район Северянина, — храбрился при этом Иван Афанасьевич. — Руки коротки. И уж в дом, не подлежащий сносу, и вовсе не посмеют». Все же он однажды засомневался — не оказаться ли ему возле милой Катеньки на манер Георгия Николаевича в виде мелкой птички или какого насекомого? Но нет, сейчас же Иван Афанасьевич отверг эту ползучую мысль. Никогда.
Он понимал, что Екатерину Ивановну ему нельзя увидеть ни в ее доме, ни в ее дворе — уж совсем бы тогда против нее обозлился Георгий Николаевич. И тут Иван Афанасьевич узнал от знакомых, каких следует, что в субботу Екатерина Ивановна пойдет в кинотеатр «Космос», а билет купит на шестнадцатое место в четырнадцатом ряду.
8
В субботу Иван Афанасьевич с утра был при параде, выстиранный и выглаженный. Все в нем так и пело. Время встречи с Екатериной Ивановной он рассчитал до минуты. Он знал, в какое мгновение ему следует появиться возле кинотеатра, чтобы купить с рук билет на восемнадцатое место в пятнадцатом ряду. Тогда в течение двух часов он мог бы наблюдать милый профиль Екатерины Ивановны и трепетную ее шею, а Катенька его бы и не заметила. Муж ее, как известно, был в отъезде… А прежде Иван Афанасьевич собирался купить цветы, с тем, чтобы как-нибудь незаметно до начала сеанса положить их на кресло Екатерины Ивановны.
И вот он купил цветы возле метро «ВДНХ» у южных людей. Не какую-нибудь герань, а алые и желтые розы! И решительно направился к кинотеатру «Космос». Однако вдруг ему стало трудно идти. Будто палки какие невидимые кто подставлял на его пути на высоте сорок — пятьдесят сантиметров над уровнем тротуара. Спотыкался Иван Афанасьевич, даже правую ногу у колена ушиб о воздух, еле дошагал до перехода, поглядел на часы и ужаснулся: «Батюшки-светы!» Сейчас же его билет продавать будут с рук!
Он бросился через проезжую часть наперерез машинам и троллейбусам, летел мимо них, как шайба на клюшке у Фирсова, и вдруг у самого тротуара за руку его схватил неизвестно откуда возникший милиционер. Как он был неуместен, этот сержант, и как медлителен. «А ведь и палки эти и милиционер — это все Георгий Николаевич мудрит, — подумал Иван Афанасьевич с горечью. — Неужели он так мелочен?»
— На первый раз, — сказал милиционер, — вместо штрафа получайте памятку пешехода. Прочтите сейчас же при мне и вслух с первого пункта по восемнадцатый.
— Я потом, — взмолился Иван Афанасьевич. — Я после кино.
— Четвертый пункт повторите дважды… «Продали билет! Продали!» Все стонало в душе Ивана Афанасьевича. Ничего плохого не имел против старательного сержанта, даже уважал его, но стоять больше не мог.
— Теперь, когда мы наладили выпуск «Жигулей»… — начал сержант.
Сразу же мимо него пронеслась поливальная машина и окатила сержанта с головы до ног, сбив крепкой струей фуражку. И фуражку сержант изловил на лету, а руку Ивана Афанасьевича из своей так и не выпустил. «Ах, Георгий Николаевич, Георгий Николаевич, — вздохнул Иван Афанасьевич, — крепко же вы меня прихватили». И сразу же все пуговицы, какие на сержанте были, опали и покатились по мокрому асфальту. Сержант растерянно смотрел на них, однако руку Ивана Афанасьевича все еще не выпускал. Иван Афанасьевич не выдержал, выдернул руку, поклонился милиционеру: «Извините… Я не хотел… но вы сами…» — и побежал к кинотеатру. Сержант ему вдогонку дунул в свисток, но шарик тут же выскочил из свистка, а сам свисток превратился в гороховый стручок, будто только что созрел в тепле сержантова рта.
Огорченный, бежал Иван Афанасьевич лестницей в «Космос» и вдруг в толпе заметил Федота Сергеевича из разрушенных палат семнадцатого века. Он так и встал на месте словно столбом ледяным. «Значит, это не Георгий Николаевич меня задерживал, — дошло до Ивана Афанасьевича. — А Федот Сергеевич… Старик не хочет, чтобы я видел Екатерину Ивановну. Добрейшая душа! Боится, как бы я не сделал чего и поопрометчивей…»
Тут Иван Афанасьевич вспомнил о разговоре с Федотом Сергеевичем, и ему стало страшно.
Однако сегодня он был мятежен духом и, постояв мгновение, понесся по лестнице вверх.
Удачи не было ему. Он потолкался среди ищущих лишнего билетика, ушами от волнения начал прясть и узнал, что из билетов на ближние от кресла Екатерины Ивановны места не оборван на контроле пока один. И тот был на двадцатый ряд! С билетом этим наконец явилась тоненькая девица, по виду — не прошедшая по конкурсу. Как только она стала проплывать в своем макси мимо Ивана Афанасьевича, так сразу же билет ее упал на пол, и Иван Афанасьевич незаметно его поднял. Обнаружив пропажу, девица расплакалась так искренне и так нежно, что Иван Афанасьевич весь расстроился, будто обидел сироту.
— Вот тут голубенькая бумажка, — сказал он смущенно, — не ваша случайно? А то я гляжу — валяется…
Девица обняла ею от радости, схватила билет и унеслась в пределы видимости Екатерины Ивановны.
А Иван Афанасьевич стоял печальный. Как лес опустевший. И только когда фильм начался, в темноте он проник в зал. Ну проник, и что? Засел под чьим-то креслом, так и сидел, боясь и после сеанса упустить Екатерину Ивановну. Что за фильм, из-за чего смех, он не знал. Да и зачем ему был фильм! Мог он увидеть сейчас Екатерину Ивановну в инфракрасных лучах, мог, но посчитал, что это будет непорядочно.
Но вот вспыхнул свет, потянулся зритель к выходу, побрел со всеми и Иван Афанасьевич с букетом в руках.
9
Небо было темно-синим, густым, фонари на Звездном бульваре горели через один, но чуткий глаз Ивана Афанасьевича все же выделил из толпы метрах в пятидесяти перед собой Екатерину Ивановну. Иван Афанасьевич обеспокоился. Екатерине Ивановне словно было не по себе. То ли после сидения в духоте она замерзла сейчас, то ли была чем-то опечалена или кого-то искала — все оборачивалась. Иван Афанасьевич хотел было прибавить шагу, но тут же мимо него пронеслись зловещие слова, будто их кто-то произнес на бреющем полете: «Увидел ее все-таки… Нарушил… Выселим, выселим… И дом подыщем с крысами!..»
Теперь-то это был точно Георгий Николаевич. Укараулил.
— Как вам не стыдно! Георгий Николаевич! — гордо сказал Иван Афанасьевич. — Как мерзко! В наше время за это полагалась темная…
Никто ему не ответил.
Однако дух Ивана Афанасьевича был отчасти сломлен. Сразу же вспомнилось ему, какая он, в сущности, мелкая личность. И что он может? Выселят, непременно выселят… Плакать Ивану Афанасьевичу хотелось…
Толпа впереди рассеялась, Екатерина Ивановна шла теперь одна, а приблизиться к ней Иван Афанасьевич не решался. Куда уж ему было усугублять вину. Даже если бы какие хулиганы сейчас пристали к Екатерине Ивановне, ему и их не следовало бы замечать. Но хулиганов, слава Богу, не было, а Иван Афанасьевич все брел за Екатериной Ивановной, наслаждался в последний раз дальним ее обликом.
И тут на мостовую, по которой шла Екатерина Ивановна, на гибельной скорости вылетел «Москвич» линейной службы. Здесь был тупик, и Иван Афанасьевич понял сразу же, что это диверсия Георгия Николаевича с использованием левой машины и нетрезвого водителя. «Москвич» несся будто под гору, без тормозов, а Екатерина Ивановна его не чувствовала. И тогда Иван Афанасьевич сделал то, чего никак не мог делать. Он прыгнул, пролетел метров семьдесят и легонько оттолкнул Екатерину Ивановну вправо. «Москвич» проехал по ноге Ивана Афанасьевича, отчего шина «Москвича» тут же лопнула, крыша оторвалась, а в просветлевшей голове водителя прозвучало: «А ну дыхни!» Возле машины сразу же образовалась толпа, и в толпе этой Иван Афанасьевич разглядел Константина Игнатьевича с Таганки. Но какое ему было дело сейчас до Константина Игнатьевича! Ведь он стоял рядом с Екатериной Ивановной!
— Что это вы? — Екатерина Ивановна смотрела на него удивленно и вместе с тем в каком-то смущении. — Зачем вы?
— Вы шли… — пробормотал Иван Афанасьевич. — А на вас машина чуть не наехала сзади… Вот я и…
— Нет, правда? — еще больше удивилась Екатерина Ивановна. — Вы меня разыгрываете!
— Мне так показалось… Но у нее отчего-то лопнула шина… А вы, видно, задумались… Вы простите, что я…
— Ах, что вы! Что вы! — сказала Екатерина Ивановна. И добавила вдруг: — Я ведь о вас и думала…
— Обо мне?
— Да, — улыбнулась Екатерина Ивановна. — Вы ведь в соседнем доме живете?
— Не совсем, — замялся Иван Афанасьевич. — Но недалеко.
— У меня примета была, — Екатерина Ивановна даже за руку взяла Ивана Афанасьевича, — как я утром вас увижу, так у меня день хороший. А вы и не знали… И вот я вас давно не вижу, и у меня все невезения… Вы не болели?
— Нет, — сказал Иван Афанасьевич. — Я в отъезде был…
— Я почему-то думала, что встречу вас сегодня в кино… И после я вас искала в толпе…
— И мне казалось, что я вас сегодня увижу, — дрожа от немыслимого счастья, произнес Иван Афанасьевич. — Сделайте милость, примите от меня эти цветы.
— Ах какие розы! — обрадовалась Екатерина Ивановна. — Это вы мне? Ах, спасибо… Как пахнут… А я вас сейчас мандарином угощу… Подруга привезла из Батуми… Кожица у них зеленая, они кислы, но первые ведь!..
Иван Афанасьевич взял мандарин, плод золотой, изумрудный сверху. Все он мог сейчас вытерпеть за Екатерину Ивановну, пытки любые и любые слова. Мандарин он есть не стал, а попытался незаметно упрятать его в карман. Однако Екатерина Ивановна поняла его движение и расстроилась, голову наклонила печально.
— Вы их не любите?
— Нет, я потом… В горле сейчас что-то стоит… Я вам очень благодарен…
Он ей и судьбе был благодарен за их невозможный дар. Но стыдно ему было перед Екатериной Ивановной, она могла подумать, что ранний мандарин, сэкономив его и припрятав, он хотел отнести еще кому-то, скажем, своему больному ребенку…
Тихо подошли они к двадцать пятому дому.
— Ну вот, — сказала Екатерина Ивановна. — У меня отчего-то настроение лучше стало… Спасибо, что проводили. Теперь-то утром вы станете появляться во дворе?
— Должен буду…
— Ну, до свидания…
Она протянула ему руку, и он замер в нерешительности, ему хотелось поцеловать ее прекрасную руку, но на вид Екатерина Ивановна была спортсменка и общественница, он не знал, что она считает дурным тоном и что нет, и он робко пожал ей руку.
И закрылась за Екатериной Ивановной дверь, крашенная в кофейный цвет, вся во вмятинах и пятнах — по недосмотру Георгия Николаевича.
Ощущая ладонью своей гладкую и ласковую кожу плода, Иван Афанасьевич побрел домой. И тут мимо него Георгий Николаевич в банном халате проехал на велосипеде с моторчиком:
— Переступил!.. Сам себе приговор составил!.. И Константин Игнатьевич все видел… Теперь уж не выселят! Теперь по ветру развеют!..
— Ах, Георгий Николаевич, — отмахнулся от соседа Иван Афанасьевич. — Жалко мне вас… Ничего вы не понимаете… Вы хоть бы двери, что ли, отмыли!..
Потом он долго бродил по своему двору в темноте и думал о том, что его и на самом деле завтра развеют. Но как-то холодно думал. Будто и не про себя. Про себя — ему было теперь все равно. Отчего так суетился нынче Георгий Николаевич — понять не мог. Зависть, что ли, его бесит, старая ли какая обида, или простить он не может ему, Ивану Афанасьевичу, что сам спьяну рассказал о гипсовой Грете? И теперь желает убрать свидетеля тайной своей любви? Или еще что? Кто его знает! Недобрый он и подлый… Скотина, в общем-то!.. «А-а», — вздохнул Иван Афанасьевич, отпустил мысли о Георгии Николаевиче, и они тотчас отлетели.
10
В кольцах под лифтом он опять вдруг стал мятежен. «Да какое они имеют право судить меня!» — подумал он так, словно и не подумал, а кулаком по столу ударил. Однако тут же вспомнил, какое имеют право. Тогда он стал склонять себя к тому, что там не все звери, а есть и такие, какие поймут его и заменят крутую меру вечной высылкой в гиблое место — скажем, на поруки к племяннику в Тамбов. Он понимал, что это маловероятно, однако и этим маловероятием утешал себя. Тем более что решение по его делу могло состояться и ранее, чем завтра. А у него оставалась ночь и волшебный плод из рук Екатерины Ивановны.
Он достал мандарин и укрепил его в воздухе прямо перед собой. Уж как он им любовался! И запах вдыхал в блаженстве. И находясь в полуметре от мандарина и совсем близко — кожей своей касаясь его зеленой кожи. Неведомый Ивану Афанасьевичу юг представлялся ему при этом, но запах юга Иван Афанасьевич сразу же отделил от запахов Екатерины Ивановны, те были сладостней. И опять словно бы он рядом стоял с Екатериной Ивановной, и она говорила ему: «Как я вас утром увижу, так у меня день хороший…» Слова эти звучали в его ушах в третий и в сотый раз. И сердце его замирало, а душа наполнялась чем-то прозрачным. Он знал, чем это может кончиться. Он знал, что ему следует немедленно оставить мандарин и перестать думать о Екатерине Ивановне. Всего в его жизни семь раз у него всерьез замирало сердце. И прежде женщины были хороши: одна спасла больную собачку, другая замечательно пекла расстегаи с севрюжьим хрящом, третья вся ходила в кружевах, и об четырех остальных он не мог сказать ничего дурного, однако Екатерина Ивановна их всех пересилила. Прежде он мог сдержать себя. А теперь не мог.
От неизвестной ему прежде радости нечто прозрачное все больше и больше наполняло ему душу. Как августовский сок наливное яблочко. И вот уж Иван Афанасьевич весь стал прозрачный и звенел при движениях гусевским хрусталем. А когда прозрачное перешло в зеленое, легкая сила подняла Ивана Афанасьевича из стальных колец и повлекла вверх. Еле-еле успел он подхватить драгоценный батумский мандарин. А его уже протащило сквозь весь дом первой категории с нижнего этажа по девятый, сквозь стены и потолочные перекрытия и с громким звоном хрустального колокола в триста пудов вынесло в синее московское небо.
… — Что-то зазвенело, — сказал я, поднося консервный ключ к запертой бутылке пива «Букурешти».
— Да, зазвенело, — согласился мой приятель.
— И сейчас звенит, — сказал я, и рука моя отчего-то соскользнула с горлышка бутылки.
И тут я почувствовал, что во всем доме стало печально. Будто кто-то умер.
А звенящее и зеленое, взблескивающее иногда голубым и желтым, летело над Останкином.
Сын задремавшей было Екатерины Ивановны, девятилетний Саша, имевший в английской школе тройку за поведение, бродил без сна по квартире, попал на балкон и закричал:
— Мама, мама, зеленое и звенит!
Екатерина Ивановна, расклеивая веки, в воспитательных целях поднялась и вышла к Саше:
— Где? Что? Почему ты бродишь так поздно?
— Вон! Вон!
Екатерина Ивановна взглянула.
— Наверное, что-нибудь испытывают… — сказала она.
А зеленое с голубым и желтым звенело и уплывало все дальше и дальше к востоку, к бывшему селу Алексеевскому, к платформе Маленковской, а потом и к Сокольникам. Многие в ту ночь в двенадцатом часу наблюдали в районе Останкина странное явление. Остановились и задрали головы прохожие в аллее Космонавтов. Романтические пары на Звездном бульваре посчитали звон добрым знаком. Трое мужиков из мебельного магазина, распивавших водку с «Солнцедаром» в сквере возле метро «ВДНХ», от удивления не смогли закусить. Сержант, дежуривший у кинотеатра «Космос», весь уже в пуговицах, решительно засвистел, пытаясь прекратить движение зеленого предмета. Свисток у него был хороший, только что полученный со склада, однако звенеть в небе перестало не сразу.
Иван Афанасьевич об этом уже ничего не знал.
1971Трусаки
Долго меня стыдили. Все уже бегали — и Евсеев, и Короленков, и Москалев с Долотовым, и Ося, а я нет. Сначала меня уговаривали, предъявляли мне свои животы, сопоставляли их с моим, и выходило, что их животы в чем-то стали меньше. Я им завидовал. Милые мои трусаки начали даже приобретать подтяжки, выстаивая очереди в Столешниковом переулке. А я все не бегал. «Эдак ты докатишься, — говорила мне жена. — Посмотри, на кого стал похож». Я смотрел. Какой был, такой я и остался, остановился в развитии. Но уж одно это было плохо.
И я решил бежать. Хотя к тому времени бег трусцой и стал выходить из моды. Некоторые из моих знакомых, отбегав, отпускали уж усы. Кто под Бальзака. Кто под запорожского лихого сечевика. Иные, волевые, совмещали усы с бегом. Иные все еще бегали натощак, просто так. Вот и меня умными словами жена убедила присоединиться к ним. На усы, и в особенности запорожского романтического покроя, она не надеялась.
Но я человек застенчивый и ранимый. Представлю себе, как я в бежевом пыльном костюме и в дурацкой вязаной шапочке с заячьим хвостом-помпоном — по совету женского календаря — побегу по останкинским асфальтам и грязям, так мне дурно становилось. Виделись сразу прохожие. Один с деловым чемоданом, какой-нибудь хлыщ, физик или биолог, которому и по ночам снятся дрозофилы, останавливался, глядел на меня и смеялся: «Ну и экземпляр!» — при этом он наверняка думал, что и днем, вспоминая обо мне, будет смеяться. Мальчишка с портфелем тыкал в мою сторону пальцем и орал приятелям: «Смотрите — останкинский Борзов!.. Марк Спитц!.. Брат Знаменский!» Служащая барышня фыркала, не стесняясь, в лохматый краешек пончо. Бабка, спешившая на рынок за картошкой, шарахалась от меня и крестилась, как сорок лет назад, когда в своей мелекесской деревне увидела аэроплан. А я готов был ей ответить на ходу: «Сама не лучше выглядишь, старая дура…» Вот такие видения возникали в моей голове при мыслях о первом забеге.
Я все оттягивал его. А для того чтобы вконец не отказаться от благородной и выстраданной идеи, бегал по утрам по квартире. Задевал хрупкую зеркальную вешалку, сбивал парфюмерию. Жена не выдержала и сказала:
— Я понимаю, ты стесняешься бегать один. Но, может быть, ты с кем-нибудь объединишься? Может, в компании тебе будет легче начать?
— С кем же это?
— Ну с кем… Вон ведь в нашем дворе сколько бегает… И Евсеев, и Короленков, и Москалев с Долотовым, и Ося, наконец…
— Ну ладно, — вздохнул я. — Действительно, может, попробовать с Евсеевым?..
Я пошел к Евсееву. Благо тот жил этажом ниже.
— Ну что ж, давай, давай, — сказал Евсеев. Тут же он рассмеялся и подмигнул мне, как члену одной с ним масонской ложи. — Ты тоже, значит, любишь с утра?
— С утра… — неуверенно сказал я. — Если выдержу, то и перед сном можно будет… Специалисты так и советуют…
— Кто любит с утра, — захохотал Евсеев и опять подмигнул мне, — тот уж и вечером непременно!..
Назавтра утром, в восемь, сделав для храбрости под музыку репродуктора неуверенные движения руками, шеей и туловищем, я пришел к Евсееву. Был я в спортивном виде, в кедах на шерстяной носок. Жена, как боевая подруга, выйдя на лестничную клетку, провожала меня на подвиг. И я волновался. Евсеев уже ждал. В нашем доме он выделялся цветущим видом вечного везуна, громким голосом на собраниях жильцов, а зимой еще и пыжиковой шапкой. Да еще он любил петь в подъезде. Слов он не знал, но пел от души. Как выносит мусор или пищевые отходы, так и поет: «Блоха! Ха-ха-ха-ха!» И стекла звенят. А как спустит мусор в трубу, так обязательно добавит: «А мы их, брат, дав-и-и-ить!» Все у него ладилось, и ладони от жизненных удовольствий он часто потирал с такой оптимистической энергией, что вот-вот, казалось, мог оделить всех огнем. Этакий Прометей. Заведовал он прудами в пригороде, ездил туда на машине и иногда говорил с нескрываемой радостью: «Утка — не птица, рыба — не кашалот!» Наверное, так оно и было.
— Вот… Я готов… — робко сказал я.
Евсеев оглядел меня с кед до заячьего хвоста и счастливо засмеялся:
— Давно бы пора включиться!
Жена Евсеева, Верочка, высунувшись из открытой двери, улыбнулась мне:
— Вы уж со Славы берите пример. Он два года бегает, и всегда бодр, и хороший семьянин.
— Ну пошли, пошли! — подтолкнул меня Евсеев, ноги его ходили ходуном, видно было, что ему уже невтерпеж.
— На лифте поедем? — спросил я.
— На каком лифте! Бегом по лестнице! Мы и так уже выбились из графика!
И он полетел впереди меня, не оглядываясь. Звук его шагов был громким и мощным, весь дом слышал, что бежит именно Евсеев.
Двор наш большой, весь в зелени, под тополями и каштанами, мятыми северным ветром, уложена бетонная тропинка. Вот по этой тропинке и пустились мы в радующий душу и мускулы первый мой забег. «Колени, колени выше! Ступай на носок! И толкайся, толкайся сильнее!» — кричал мне Евсеев на ходу и, оглядываясь, улыбался, словно был счастлив оттого, что я наконец приобщился к славному делу. Ах, как он красиво бежал! Шаг его был упруг и высок, сильное, здоровое тело чувствовалось под синим шерстяным олимпийским костюмом с белыми полосками на воротнике, дыхание было ровным и легким. И мне было хорошо. «Как здорово, что я начал!» — думал я и был готов бежать сейчас от Останкина до Мытищ, ничего бы, наверное, кроме удовольствия от бега, не испытывая.
— Стой! Куда ты так несешься! — услышал вдруг я. — Мы ведь уже за угол забежали…
Действительно, мы были уже за углом белой соседней башни, Евсеев бежал сзади, и не бежал вовсе, а так, семенил.
— Да не спеши ты! Какой удалец! Смени темп. Нам еще надо сберечь силы на обратную дорогу. Они нас теперь не видят… Впрочем, твоя жена и вообще тебя не видела… Ваши окна на южную сторону…
Я тут же остыл, семенящим шагом потащился за Евсеевым и почувствовал, что ноги у меня — бетонные, сердце — колотится, а дышать нечем. И не тридцать мне лет, а все семьдесят.
— Ничего, ничего, — подбодрил меня Евсеев, — сейчас добежим… Это с непривычки дорога длинная…
Внутриквартальными проездами мы одолели еще полверсты, и Евсеев как бежал, так и забежал в подъезд незнакомого мне дома. И меня рукой поманил.
— Теперь на пятый этаж, — сказал он и, заметив мой испуг, добавил: — На лифте… На лифте…
Я и в лифте по наивности хотел было бежать на месте, но Евсеев, покачав головой, наступил мне на ногу: «Хватит. Экий неугомонный!» На пятом этаже он нажал кнопку звонка. Толстый, одетый уже на службу человек открыл нам дверь.
— Что-то ты долго, — сказал он Евсееву.
— А вот, — засмеялся Евсеев и показал на меня. — Нашего полку прибыло! Спарринг-партнер!.. Проходи, проходи, ноги вытирай и прямо на кухню! Знакомься…
И он затолкал меня в квартиру к приятелю. На кухне у того на столе стояла бутылка «Старки», граненые стаканы, только что мытые, с капельками воды на донышках, а рядом лежали соленые огурцы, ломти орловского хлеба и серебряная кожа вяленого леща, для запаха.
— Разливай, — сказал Евсеев. — Ба! Да у нас «Старка» сегодня! Одну купил?
— Одну! Как же! Очередь выстоял, — сказал приятель. — Сколько в портфель вошло. На девять забегов хватит.
— Ну давай, давай, лей. А то нам еще бежать. Не то что тебе, лодырю!
Приятель, готовый на службу, разлил водку забытого цвета в стаканы, и один из стаканов Евсеев протянул мне. Стакан я невольно взял, но тут же спросил:
— А мне-то зачем?
— То есть как? Ты не пьешь, что ли?
— Пью… — смутился я. — Но ведь не с утра…
— А зачем же ты тогда бежал? — спросил Евсеев.
Он расстроился и смотрел на меня укоризненно, даже сурово, как бог знает на кого — как на провокатора или на лазутчика. Или хуже того. Как на человека, который только прикидывается пьющим.
— Я для здоровья бежал, — сказал я неуверенно. — Я за тем бежал, за чем ты бегаешь два года…
— Ну! — загремел Евсеев, — Стал бы я бегать, если бы жена разрешала мне пить дома! А приятель мой — холостяк… Стал бы я бегать! К лешему мне этот твой бег! И на костюм вот пришлось тратиться… Семьдесят рублей… Бегать! Фу ты, дрянь какая! Главное, для здоровья! Вот что для здоровья! И для бодрости! Пей. И не ломайся. Мужик ты или не мужик? Или ты не мужик?
— Мужик… — вздохнул я.
Выпили. Закусили. Серебряную шкурку леща понюхали по очереди.
— Утка — не птица, рыба — не кашалот! — торжественно и смачно провозгласил Евсеев и с упоением потер руки. Удивительно, отчего из его ладоней не вырвалось пламя. Этакий здоровяк, подумал я, он и на руках сможет теперь домой дойти! — Ну вот, а ты ломался, — сказал мне Евсеев с явным одобрением. — Я уж было расстроился… А то, понимаешь, доза для нас двоих была чрезмерная… Мы ведь не для куражу, а для бодрости. Третий нам кстати… Спарринг-партнер… Или ты недоволен?
— Да как-то непривычно…
— Совесть тебя, что ли, мучает, что с утра? Это, брат, предрассудки… Я тебе скажу: с утра — самое полезное… Не мы одни, а и государственные люди тоже… Вот Петр Первый, он, говорят, если с утра стакан не брал, то и Россию не мог на ноги ставить…
— А окно-то к ним он подавно не мог рубить, — вставил приятель.
— Ну, насчет окна — это вообще! — подтвердил Евсеев. — Или вот полководцы. Один маршал или генерал, не помню какой…
Тут он рассказал случай про этого маршала или генерала, неизвестно какой страны, то ли нашей, то ли ихней. В общем, про Ворошилова. Однажды он собрал поутру перед сражением весь свой офицерский состав, они стали «смирно», а он грозно их спросил: «А ну, кто пьет с утра, признавайтесь, шаг вперед…» Один только офицерик и шагнул вперед. Тогда этот маршал или генерал, этот Ворошилов, приказал принести два стакана водки, или шнапса, или виски — одна радость! — и с офицериком выпил. И сказал: «Вот с ним и пить и воевать можно! А вы, все остальные, трусы, кого обмануть хотите?..»
И выиграл сражение.
— Сколько с меня? — спросил я.
— Когда обычная — рубль двадцать, — сказал Евсеев. — А сегодня — рубль.
— Рубль четыре, — поправил приятель.
— У меня с собой нет. У меня и карманов нет.
— Ладно. Завтра занесешь, — махнул рукой Евсеев. — Нам и бежать пора.
— Бегите, бегите, — улыбнулся приятель.
— А ты не ехидничай, лодырь! — сказал Евсеев. — Сейчас пробежаться — одно удовольствие. Вон какие у меня мускулы на ногах стали. Потрогай.
Но приятель только брезгливо махнул рукой.
Теперь уже Евсеев в лифте чуть ли не бежал на месте. Опять ему было невтерпеж. Сил у меня явно прибавилось. Несомненно, подумал я, в тренировочном методе Евсеева что-то есть. В смысле использования ресурсов человеческого организма. Давно я так легко не бегал. А Евсеев опять был красив. В особенности когда мы выскочили на открытое пространство нашего двора и понеслись по бетонной тропинке под тополями и каштанами. Тут он так элегантно и мощно вскидывал ноги, так порхал, что для меня стал походить на дивного спортсмена, который несется сейчас по праздничному стадиону с олимпийским факелом в руке, чтобы на глазах у миллионов зрителей зажечь пламя в заветной чаше. Может, и Евсееву такая мысль заслонила мозги, потому что и в нашем подъезде он бросился яростно бежать по лестнице, словно лестница эта вела его именно к олимпийской чаше, а не к жене. И я бежал за ним.
Жена Евсеева вышла нас встречать.
— Ну как? — спросила она меня.
— Да вроде ничего, — сказал я, трудно дыша. — Тяжело с непривычки…
— Замечательно, а не ничего! — шумно похлопал меня по плечу Евсеев. — Бодрость-то в нас какая! Словно десять лет скинули! А привыкнешь ты быстро, я уже сейчас вижу. Скоро станешь настоящим спарринг-партнером… Точно! Сейчас вижу…
— Да, да, — улыбнулась его жена. — Слава вот быстро привык. А я ведь и не надеялась, что он станет бегать.
— Значит, завтра на том же месте в тот же час, — сказал Евсеев.
Тут он мне подмигнул и приложил палец к губам: мол, о наших с тобой легкоатлетических секретах никому ни гугу. Я кивнул в ответ: что я, идиот какой, право?..
К себе на этаж я поднимался уже как старик астматик, как каменный Командор, расстроенный Дон Жуаном, тяжеленные ноги подтягивал со ступеньки на ступеньку и думал о выражении «спарринг-партнер». Все мне теперь стало ясно. Был я однажды в Перми в командировке. Остановился у стенда «Не проходите мимо». Там висели фотографии пьяниц. И вот что меня удивило. В подписях корили не любителей выпить на троих, как было бы в нашем городе, а «любителей спариться». Вот откуда, понял я сейчас, пошло — «спарринг-партнер». Эта мысль меня взволновала и обрадовала. Не заржавели, значит, мы разумом. Не в одних иностранных словарях искать облегчение мыслям! Есть и у нас еще дотошные умы, способные раздвинуть границы языка и создать новые специфические выражения.
Однако воспоминание о рубле с четырьмя копейками меня сразу же расстроило. Это еще хорошо, что они достали «Старку». А потом-то ведь придется брать «Экстру». Или хуже того — коньяк. Эдак у меня и на пиво ничего не останется!
Э-э, нет! Пошел бы этот Евсеев к черту!
Жена меня встречала так, словно я был актер на эпизодах и вот наконец получил с ее помощью большую роль и теперь возвращался с премьеры.
— Ну? Что? Да на тебе лица нет! Что с тобой? Какой-то ты странный…
— Тяжело с непривычки, — сказал я. — У Евсеева очень интенсивные нагрузки. Пожалуй, я с ним не выдержу… Подкосит он, пожалуй, меня…
— Да, он здоровый. Прямо как Алексеев. Тебе бы начинать с кем послабее… Ты подумай с кем… Но ты не бросай, я тебя прошу… Иначе я перестану тебя уважать… — сказала жена с угрозой.
— Хорошо, не брошу… — сдался я.
Я на работе все думал, с кем мне бегать. Все прикидывал, кто из милых моих трусаков пьющий с утра, а кто нет. Ни в ком я не был теперь уверен. И тут я вспомнил о Короленкове. Этот уж точно непьющий, некурящий и даме уступит место в троллейбусе. Подозрительный в общем-то человек. И уж больно педант. Он и в жару ходит в костюме и при галстуке, а из кармана пиджака у него непременно высовывается уголок платка из галстучного же материала. Он уж точно и вилку никогда не возьмет в правую руку и даже самую мелкую кость ни при каких обстоятельствах не проглотит. Такой он весь аккуратный, что лучше бы ему лежать в палате мер и весов. А он что-то конструировал, какие-то вагонные тормоза. Но тормоз Матросова был не его. Знакомые Короленкова, и я в том числе, его не любили, считали, что он себе на уме и похож на Клима Самгина. Но теперь-то именно Короленков и был мне хорош. Недели две назад он и сам звал меня бегать с ним. Привлекало меня и то, что Короленков был совсем не атлет, а такой же, как и я, тщедушный служащий и, стало быть, вряд ли бегал быстро и далеко.
После работы я зашел к Короленкову в соседний дом. Он выслушал меня и, как мне показалось, растерялся.
— Ты же сам звал меня, — сказал я.
— Ну да, ну да, — кивнул Короленков. — Но лучше было бы, если бы ты предупредил меня заранее… Может, ничего и не выйдет… Это ведь тонкое дело…
— Тонкое, — согласился я.
— Ну ладно, — сказал Короленков. — Попробуем предпринять экстренные меры, авось что-нибудь и получится… Завтра приходи ровно в семь. Форма одежды — спортивная.
— В семь? — удивился я.
Неужели, подумал я, Короленков так подолгу бегает? Мы с Евсеевым начали сегодня в восемь, а и то многое успели. Я уж хотел было заявить, что дудки, что в семь мне ни к чему, что с семи пусть бегают мои враги, но почувствовал, что отказываться мне теперь будет неловко. Тем более что я сам вынудил Короленкова предпринимать какие-то экстренные меры. «Какие меры? Зачем? Не надо!» — хотел было я сказать Короленкову, но не сказал, побоявшись сказать глупость. Умный и серьезный вид его меня смущал.
Назавтра в семь я пришел к нему. Захватил с собой рубль с четырьмя копейками и широкий бинт на случай встречи с Евсеевым. Рубль четыре копейки понятно зачем. А бинт, чтобы срочно забинтовать что-нибудь — коленку, палец, руку, голову наконец — и тем объяснить Евсееву причину своего отсутствия. Но я не попался Евсееву на глаза.
Побежали мы с Короленковым. Тренировочный костюм был на нем хороший, эластичный, иноземной выделки. И бежал Короленков хорошо. Тихо. Молчал. Только однажды обернулся ко мне:
— У тебя тоже, что ли, с женой нелады?
— Нет, — сказал я. — Лады.
Он как будто бы мне не поверил. Спросил:
— А чего же ты тогда бежишь?
— А при чем тут жена?
— Хотя да, — сказал Короленков. — Жена в наше время тут действительно ни при чем…
«Неужели, — расстроился я, — и этот стал пить? Тогда рубля-то мне не хватит!» Я уже хотел было захромать, но тут мы протрусили под аркой и выскочили в сквер у трамвайной остановки.
— В седьмой садись, — бросил мне Короленков. — Только не в семнадцатый. Семнадцатый сворачивает в Медведково.
Тут бесшумно и резво подошел именно седьмой трамвай, Короленков неторопливым, но деловым шагом подбежал к задней двери и вскочил в трамвай. И я вскочил в трамвай. И только когда мы проехали остановку и я с трудом вырвал билет из никелированной челюсти кассы, я вдруг словно очнулся. Куда я еду в этом пустом трамвае, зачем я здесь?
Я хотел было спросить об этом у Короленкова, но он был холоден и строг, меня будто и не знал, и я подумал, что вопросом своим я покажусь Короленкову смешным и инфантильным. Значит, он знает, зачем я в трамвае и зачем я еду. Он человек основательный, у него свой метод бега трусцой.
Через пять остановок мы сошли, и Короленков сказал, что бежать не надо, что тут и пешком три минуты.
Он меня завел в дом с рыбным магазином, и на втором этаже по его звонку нам открыли две барышни. Были они наших с Короленковым лет и приветливые. От одной из них, Оли, я чуть было не растаял. Но это выяснилось потом. Другая, Женя, сейчас же, не стесняясь меня и своей подруги, бросилась обнимать Короленкова, отчего тот смутился и стал поправлять очки. Оля же, улыбаясь, смотрела только на меня и словно бы чего-то ждала.
— Вот… Знакомьтесь… Мой приятель… — представил меня Короленков. — Я вам о нем рассказывал по телефону.
Нас с шумом повели пить чай, и на столе в большой комнате я увидел удивительные сладости, воздушные, бисквитные, песочные, о каких я мечтал в голодном детстве. А теперь они мне и задаром были не нужны. Заметив мое холодное отношение к сладкому и мучному, Оля тут же стала предлагать мне бутерброды с колбасой, бужениной, сельдью в томате, и я от растерянности и по причине гуманитарного образования их брал. Знал, что нельзя. Знал, что бегать с набитым желудком вредно, а нам еще предстояло ехать обратно на трамвае, и тем не менее брал. Тут Женя извинилась перед нами с Олей, сказала, что ей надо кое о чем посекретничать с Короленковым, и увела Короленкова. Я уже говорил, что я человек застенчивый и, оставшись с Олей, или молчал, или бормотал невнятное и то и дело рвал тонкие нити ее вежливой беседы. А женщина она была приятная…
— Да что это вы все на дверь смотрите да на часы, — не выдержала Оли. — Вы уж за Короленкова не волнуйтесь. У них там свои любезности. Вернется ваш Короленков.
— Я и не волнуюсь…
— Чтой-то вы скучный какой…
— Это я спросонья…
— Столько бежали и не проснулись?
— Надо было больше бежать. На трамвае не стоило ехать.
Тут Оля, видно, поняла, что резкими словами она многого не достигнет, и сразу стала более душевной и доброжелательной. И разговор у нас пошел. Мы обменялись мнениями о Фишере и Спасском и о том, сколько денег каждый из них получил, поделились догадками, почему Доронина ушла из МХАТа и что она еще выкинет, не уедет ли куда в Можайск, говорили и о модах и о продуктах, в частности о гречке. Умный разговор сближал нас, скоро Оля уже сидела рядом и пыталась из рук накормить меня бисквитным тортом. Из-за лишних движений кусок этого гнусного торта упал на мои бежевые брюки и испачкал их кремом и вареньем. Что мне было теперь делать! Мы боролись с пятном горячей водой, солью и химикатами, толку было мало. Попробовал я забинтовать ущербное место широким бинтом, но на ноге у меня появилось черт знает что, какая-то порочная подвязка из эпохи канкана и фонографов Эдисона. Я был сердит. Порой в очистительных хлопотах я чувствовал прикосновение ласковых рук, но пятно действовало на меня сильнее. Лучше бы уж я по ошибке сел в семнадцатый трамвай и уехал в Медведково! Тут появились Короленков с Женей.
— Пора, — сказал мне Короленков.
— Я уж вижу, — я проворчал.
— Вы на меня обиделись? — спросила Оля.
Вид у нее был такой печальный, что мне стало ее жалко.
— Он всегда хмурый, — сказал Короленков. — Он тяжелый на подъем. Нужно время на то, чтобы его растормошить.
— До завтра, — улыбнулась мне Оля с надеждой.
— До завтра, — сказал я.
В трамвае я усердно прикрывал пятно руками.
— Ну как? — спросил Короленков.
— Что как?
— Я не про свою. Я про Олю… Конечно, она с характером. Тут сразу ничего не выйдет. Но и в длительной осаде есть своя прелесть. Впрочем, если бы ты заранее предупредил меня, я бы без спешки подготовил тебе более подходящий вариант.
— Отчего же, — обиделся я за свой нынешний вариант, — очень приятная барышня.
Вообще-то я сидел надутый. Тоже мне фрукт! Не мог предупредить меня, куда мы побежим и поедем на трамвае! Но Короленков и не замечал моего дурного настроения. Может быть, подумал я, две недели назад он и говорил мне обо всем, да я забыл?
К дому мы подбежали тихонечко. Остановились возле его «Жигулей». Он осмотрел машину на всякий случай.
— А то ведь растолстеешь с машиной-то, — сказал Короленков. — Ни шагу ведь с ней пешком.
— Да. — Я кивнул.
— Вдвоем все-таки бегать лучше, — добавил он.
— Наверное… — не стал спорить я.
— И ты понял — у них всегда можно хорошо позавтракать… Тоже ведь экономия… Трюфеля она мне покупает к чаю…
— Зачем же их разорять?
— Ничего, — сказал Короленков. — Они женщины самостоятельные, эмансипированные, и зарплаты у них большие.
У своего подъезда он опять остановился и произнес со значением:
— Я знаю, что ты джентльмен, и надеюсь, что никто ни о чем не узнает…
Я только пожал плечами: а то не джентльмен.
— До завтра, — услышал я вслед.
«Ну уж шиш! — подумал я. — Торты, пятна, любезности. Это тяжело с утра. Конечно, Оля — приятная женщина и очень была со мной ласкова, но у меня крепкая семья. Да и вставать к семи, это уж извините!»
От жены я узнал, что мне звонили Москалев с До-лотовым, они услышали, что я побежал, и обиделись, что я бегаю не с ними.
— Может, действительно с Москалевым и Долотовым? — задумался я вслух. — А то Короленков гоняет по каким-то пустырям с лужами. Эвон, всю брючину измазал!
Признаться, я и раньше хотел бегать именно с Москалевым и Долотовым, да робел. Уж больно на вид они были спортсмены. Все бегали кто в чем, а они — и в самый мороз — в белых майках. Дети Долотова — юные художники-прикладники — эти майки расписали с помощью трафарета по рецепту журнала «Америка». На майках на спине и на груди получились круги, а внутри этих кругов стояли парни из «Ролинг Стоунз» с гитарами. Вокруг парней были выгнуты слова вполне приличные и самостоятельные, предложенные Москалевым: «У нас здоровыми должны быть не многие, а все». Вот в этих майках Москалев с Долотовым не раз проносились мимо меня, словно срывая на ходу золотые значки ГТО, и у меня сердце обрывалось. Куда же мне с ними тягаться? Однако теперь я был готов бежать и с ними.
Я знал, что они люди серьезные. Оба работали на фабрике по производству карт. Географических, разумеется. Москалев отвечал за то, чтобы на карте число кружочков городов областного подчинения точно соответствовало новейшему административно-территориальному делению. И чтобы ни кружочка больше не просочилось. Эдя Долотов заведовал пуансонами — кружочками помельче: в его ведомстве были районные города. Недавно, говорили, Москалеву дали важный пост — под его наблюдение попали пуансоны краевых и областных центров. Эдю же хотели посадить на нагретое Москалевым место. За ними теперь был глаз да глаз, и вряд ли сейчас они могли позволить себе бегать по утрам неправильно. Хотя бы и в белых майках. Вот поэтому я за ними и увязался.
Бежали мы назавтра втроем быстро, но недолго. Добежали до бульвара, а там мимо скамеек рванули прямо к газетным стендам, тут и остановились. То есть остановились Москалев с Эдей, а я-то все бежал.
— Вы что? — растерялся.
— Мы будем читать, — сказал Москалев. — Можешь читать, можешь бегать, а можешь сесть на лавочку и ждать нас.
— Садись, — сказал Эдя. — Ноги побереги. И, будь добр, последи за временем, а то мы зачитываемся.
Однако я не хотел сидеть. Кругами, кругами я стал обегать газетные витрины. А Москалев с Эдей все читали. Москалев встал к «Советской России», а Долотов к «Сельской жизни». Читали они все подряд, с первой колонки и до последней, и видно было, что наслаждались. Я устал, сел. Чудесные все-таки люди, думал я. Они не только сами читали, но и друг другу помогали узнавать о событиях.
— Эдя! — кричал Москалев. — Ты можешь мне поверить, в Кировограде исчезли из продажи кительные коврики!
— Надо же! — удивлялся Эдя. — Что делается-то! Сейчас приду прочитаю. А я про Уганду… Нехорошо у них на границе-то, нехорошо…
— Да… В Уганде, да… все каверзы… — покачал головой Москалев. — Я скоро кончу, я здесь одну заметку оставил на десерт. Про зайца-людоеда.
— Про зайца-людоеда и у меня есть, — обрадовался Эдя. — И про Боброва…
— Что про Боброва? — встрепенулся Москалев.
Странно, но они не замерзали, а я замерз и снова стал бегать.
— Да брось ты! — крикнул мне Москалев. — Иди лучше почитай «Лесную промышленность». Мы не успеем. А ты нам по дороге расскажешь.
— Как же! Сейчас! — сказал я. — Я неграмотный.
Они перешли на другие газеты. Потом на другие. Потом наткнулись на кроссворд. Достали ручку и стали заполнять клеточки, не замечая стекла.
— Помоги! — крикнул мне Москалев. — Щипковый инструмент… Ну?
— Щипцы, — сказал я.
— Да нет! Больше букв.
— Ну пассатижи…
— Да нет, — чуть ли не застонал Москалев, — музыкальный щипковый инструмент.
— Время! — обрадовался я. — Взгляните на часы. Скоро нас будут ждать на работе.
Домой мы бежали резвее. Оказалось, что Москалев с Долотовым всегда зачитываются и опаздывают, и я, третий, очень нужен, пусть и отказался от «Лесной промышленности». Они и на бегу говорили о политических событиях дня.
— А дома вы что, не можете читать? — спросил я. — Навыписывали бы газет и читали бы.
— Дома! — рассмеялся Эдя и, поглядев на меня, повертел пальцем у виска. — Дома у нас жены.
— Витя, убери газету! — сказал Москалев голосом жены. — Какой пример ты подаешь за едой сыну!
— Да, Витя, — согласился я. — Жена у тебя тигра.
— Чем меньше мы бываем с ними, — сказал доверительно Эдя, — тем оно вернее… А газеты-то мы выписываем…
— Еще чехлы к мебели заставит прибивать. Или шубу колонковую выгуливать на балконе. Или хуже того — надевать пододеяльники, а углы у них склеились, бьешься, бьешься и все на свете проклянешь!
Насчет пододеяльников я не мог не согласиться с Москалевым… Но вот мы были уже у моего дома, я встал, а они с Эдей понеслись дальше, и снова я увидел на их спинах хорошие слова: «У нас здоровыми должны быть не многие, а все». Грустный, я прощался с милыми моему сердцу спортсменами.
На следующий день я совершил мужественный поступок. Я побежал один. А ну их всех, решил я.
Сначала я робел и спотыкался, а потом забыл обо всем. Утро было чудесное, сухое, желтые листья устилали ставшую твердым камнем грязь. Шаги мои были упруги, за три дня я привык к бегу, да и раньше когда-то я любил бег. Мышцы ног поначалу болели после прошлых пробежек, но такая боль была приятной, стало быть, мышцы крепли. А потом и боль прошла. Все было прекрасно теперь — и голубое с седой печалью осеннее небо, и тихие переулки Останкина, и мой бег, легкий, как полет, и сам я, видимо красивый и сильный сейчас, и радостная свирель, будто бы летевшая невидимой надо мной и жаворонком удивлявшаяся моему бегу.
— Смотри, смотри, чучело-то какое бежит! — услышал я и обмер.
Ранний школьник, портфель бросив под ноги, стоял и показывал на меня пальцем:
— Вон, вон, дядька бежит, геморрой лечит!
Что я тут мог? Сказать мальчику, что он не прав, что пионеры таких и слов знать не должны, что пусть геморрой лечит его отец, или просто надавать негодяю по шее? Ничего я не сделал. Просто с трудом добежал домой, и все. Свирель утихла, кто-то разломал ее об колено и выкинул в Останкинский пруд.
Стало быть, все. Стало быть, один я не могу.
Я уже и совсем хотел было отказаться от затеи, но жена опять сказала, что она перестанет меня уважать. Да что жена? Я сам бы перестал себя уважать. Я действительно тяжелый на подъем, но уж если что начал, так меня не остановишь. Я упрямый. Бегать так бегать. Только с кем?
Я всю ночь не спал. С кем же бегать-то? Мне казалось теперь, что у всех знакомых трусаков есть свои маленькие тайны. Миша Кошелев, думал я, наверняка бегает играть в преферанс. Дунаев, тот, по-видимому, носится чинить машину, он и вечером лежит под ней. Ося? Ося — не знаю. Но бегает Ося в кожаном пиджаке и с погашенной трубкой во рту и от одного этого кажется таинственным и сверхчеловеком. Вот Каштанов, тот наверняка просто бегает, но уж больно он скучный.
Так я перебирал всех своих знакомых и ни на ком не мог остановиться. Москалев с Долотовым отпадали. Газеты я могу читать и на работе. Короленков тоже. Оля хороша, но жена мне друг. Оставался Евсеев. Его, что ли, терпеть? И чем больше я ворочался, чем больше думал о нем, тем все увереннее приходил к выводу, что его стиль бега мне наиболее близок. «Да чего там, — говорил я себе, — вот и полководцы с утра не брезговали… Маршал один или генерал». Что же касается пива, то я решил за обедом экономить на салатах, вот и на пиво у меня останется. С тем я и заснул.
Утром я надел спортивный костюм, взял пять рублей и пошел вниз. Я услышал, как Евсеев запел: «А мы их, брат, дави-и-и-ить!» — и побежал по лестнице.
И тут я сломал ногу.
1972Субботники
1
Жилось плохо. Полоса мокрых дождей со снегом. Напишешь что-то, прочитают, наберут, а потом — в разбор. С просьбой о просветлении текста. Жена угодила в больницу, и надолго. На троих в месяц выходило семьдесят рублей. А тут субботник. Или внеси червонец в фонд. Или прояви себя в деле. Иначе засомневаются — со всеми ты или бредешь один и неизвестно куда. Колебания вышли краткими, полезнее для семьи и народа было идти куда направят. А местом приложения гражданских усилии моим коллегам издавна был определен зоопарк.
2
В субботу к восьми утра я поехал в зоопарк. Апрельский день был сырым, лил дождь, трамвай выбрызгивал воду из стальных пазов, полагалось бы взять зонт, но с зонтами в бои не ходят. «Сегодня мы не на параде», — слышалось из динамиков по всем путям движения транспорта из Останкина к Грузинам.
Бывалые люди в плащах, резиновых сапогах втекали в служебную калитку хозяйственного двора на Большой Грузинской. Выглядели они невыспавшимися, обиженными — в цехе у нас больше сов, — терли глаза и позевывали надменно, как бы с намеком на внутренние свободы и независимость. Впрочем, все давали понять, что явились сюда, хоть и отодвинув бумаги, для вечного, но с ощущением долга. Знакомых я увидел мало, а вот поэт, как он сам рекомендовал себя — южно-рыльского направления, Болотин шагнул ко мне.
— И у тебя, что ли, десятки нет? — спросил Болотин.
— Нет, Красс Захарович. Вот я и…
Я смутился, будто бы оправдываться был намерен насчет десятки; птичий глаз Болотина оживился, но тут же погас. Болотин был вял, губы облизывал, и я понял, что нынче он меня не одолеет. И крепость не возьмет.
— Ну и правильно, — кивнул Болотин. — Главное, проследи, чтобы тебя в списке не пропустили. У нас, сам знаешь, все идиоты и растяпы.
Красс Захарович скривился и сплюнул.
— А у кого список-то?
— У бригадирши, вон, в брезентовом плаще, Анны Владимировны, переводчицы.
Я поспешил к списку, потоптался среди последних и, убедившись, что меня внесли, вернулся к Болотину.
— Первый раз, что ли? — спросил Красс Захарович.
— Первый… А вы?
— Бываю тут… Через год захожу… Надо иногда надзирать над фауной. Хотя и так видишь каждый день вокруг себя всякое зверье и насекомых гадов. Вонь и смрад, вой шакалов. Вот и ты. Но ты хоть ладно, похож на бобра. Или на енота. Можно и терпеть. А возьми Феклистова.
Феклистов был редактор и критик, Болотин прежде с ним дружил.
— Этот точно — игуана, есть такая ящерица в Западном полушарии, дикари с голода жрали, и тех рвало. Эдаких-то и надо сюда, и немедленно, в клетки, я тогда бы каждый день ходил на субботники! И в морду бы им морковь тыкал! А освобожденных отсюда тварей — кандалы прочь! — развести бы по кабинетам и столам! Впрочем, какой и от них толк! Тоже мразь и убогость! И создатель наш так называемый убог! — Тут Красс Захарович голову вскинул и пальцем с чернильными пятнами на нем, дождь презрев, чуть ли по небу не постучал, желая нечто с горних высот низвергнуть. — И создания его убоги, лживы и жалки!
Красс Захарович имел прозвище «Кургузый», лицо его вызывало у меня мысли о моченом яблоке или хотя бы о торговце мочеными яблоками, бывшем банковском служащем, в часы одиночества мучающем ливенской гармоникой «Чардаш» Монти. Однако не раз он производил себя в Исполина, должного крушить небеса.
— Зачем вы себя-то браните, Красс Захарович? — не выдержал я. — Ладно мы. Но ведь и вы — создание.
Красс Захарович будто опомнился, притих. Но тут же скорострельно спросил меня:
— Чем мы, люди-человеки, отличаемся от животных и растений?
— Красс Захарович… — развел я руками.
— Ну чем, чем, грамотей?! Инженер душ!
— Красс Захарович, это, возможно, вы инженер, а меня увольте…
— Ну что, что приобрели-то мы со всеми нашими утопиями, Томасами Морами, партиями, трудом, склоками, казармами, чего нет у багамских вивей и пятнистых мокриц?
Возникший возле нас минутой назад маринист Шелушной, вечно радостно-удивленный, испугался и отступил с намерением сейчас же размежеваться:
— Категорически и всегда! Я тебя не понимаю, Красс Захарович, нынче всюду марши, души наши как воздушные шары, готовые взлететь, а ты…
Красс Захарович оценил слова приятеля матерным белым стихом.
— Все. Приступаем, — услышали мы голос бригадирши Анны Владимировны. — Фронт работ назначен, милостивые хозяева снабдят нас инвентарем, и мы разойдемся по участкам. Кто, куда и с кем — говорю…
Шелушной отступил от нас еще на шаг, давая понять, что никакие силы, никакие пироги не заставят его идти на один участок с Болотиным. А мужик он был бравый, с наколкой на левой руке, свидетельствовавшей о прохождении службы на крейсере «Бурный». Ерепениться он ерепенился, однако производственная необходимость совместила его на одном участке именно с Болотиным. «Возле слонов», — было объявлено. Назвали и мою фамилию. Мне вместе с Шалуновичем и Берсеньевой следовало начинать у водяных животных.
Милостивые хозяева прежде выдали нам ломы, лопаты, носилки и брезентовые рукавицы. Они, хозяева, были чрезвычайно предупредительны, они, казалось, были готовы и все работы выполнить за нас, но тогда бы случилось искажение порывов и идеи. От водяных животных нам предстояло перейти затем к хищным. В сопровождающие нам определили зоолога Дину Сергеевну, и мы пошли. «Не спешите, — кротко улыбнулась нам Дина Сергеевна. — У нас еще будет время». Шалуновича, выяснилось, я встречал в чьем-то доме, знал его переводы Верлена, он был мне приятен. Мы уложили на носилки ломы и лопаты, светская дама Берсеньева, пребывающая в тайном возрасте и жанре, доверила нам нести свои брезентовые рукавицы, а сама шествовала впереди, взяв под руку Дину Сергеевну, и, будто Капица телепатриотам, что-то рассказывала ей, рассказывала… «Вы не поверите! — обернулась она к нам. — Нашего моржа зовут Бароном. Какая прелесть!» Возразить ей мы не могли.
Зоопарк стоял смирный и тихий. Конечно, город по-прежнему возбуждал население музыкой пламенных моторов, кричали птицы — просто так или со смыслом, какие-то звери лаяли, выли или вздыхали, тишина и смирность зоопарка были внутренние. Зоопарк будто притих в некоем ожидании или сосредоточенности. Я давно не заходил сюда. Но здешнее место держалось в памяти шумным, с движением толпы, с радостями детей, с простодушными от неведения забавами молодняка. Нынче взрослым было не до прогулок, дети еще спали, ко всему прочему зоопарк жил по зимним порядкам: существам, каким северные прохлады были неприятны, полагалось пребывать пока в помещениях. Они и рыла не казали. А те, кто был в шерсти, в мехах, в дубленой коже, кто сносил московские непогоды, именно присмирели в своих домах и конурах, в углы забились или прикинулись спящими, чтобы не мешать. Понимали, что не они сегодня здесь главные, а главные — двуногие с носилками, ломами, лопатами, граблями, и им дано осуществлять всеобщий подъем благонравия живых организмов.
Так мне казалось. По крайней мере, этим я объяснял себе притихшие клетки и словно бы пустые вольеры. Но вот мы приблизились к водоемам и лежбищам. И здесь было пусто и тихо. Белые медведи не бродили по льдинам, палатка Папанина не виднелась в дальней студености. Дождь лил по-прежнему, я подтянул «молнию» куртки к подбородку. Дина Сергеевна, похоже, стояла в смущении, она смотрела в бумаги, сверялась с местностью и не находила в Баренцевом море остров Колгуев. «Бессонов!» — кликнула она. Явился Бессонов, местный служитель, мужичок в плащ-палатке, обликом своим сразу же не потрафивший лирическим интересам светской дамы Берсеньевой.
— Бессонов, где же тут куча, камни, щепа, отбросы и куски асфальта? — строго ткнула пальцем Дина Сергеевна в бумагу.
— А убрали, — сказал Бессонов.
— Когда?
— А позавчера. Машина пришла — и убрали.
— Как же так! Что же вы!.. — взволновалась Дина Сергеевна. — Будто вредители! Вам же не велели убирать да субботы!
— Ну забыли, — виновато сказал Бессонов. — Лежит с осени всякая дрянь… А тут машина пришла…
— Слов нет! Нет слов! — Дина Сергеевна чуть ли не плакала. — Что же им теперь делать?
— Да, милый! — радостно заявила Берсеньева. — Что же нам-то теперь делать?
Бессонов размышлял медленно и совестливо.
— А вот, — сказал он. — У них ведь ломы? Ломы. А тут лед. Прямо возле Бароновой ванны, сверху грязный снежок, а под ним лед. Пусть колют ломами и вон туда носят, оттуда машина заберет…
— Он ведь сам растает… — задумалась Дина Сергеевна.
— Это когда растает, — сказал Бессонов. — Тут тень. И от Барона холод. Все равно что полюс. Это он к троицыну дню растает. А им на два часа дел хватит.
— На два часа? — не поверила Дина Сергеевна. — Ну, если на два часа, это в самый раз. Это хорошо. Ты, Бессонов, объясни товарищам, что и как, а я пойду к хищным. Вдруг и там подъезжала машина…
И вот мы с Шалуновичем с трепетом в душах взяли ломы и принялись долбить лед у каменного опояса обиталища моржей. Ученая табличка на ограде представляла Барона как животное семейства моржей отряда ластоногих, далее шли термины латинские и справочные слова. Светская дама Берсеньева скинула пухлую красно-синюю куртку, и оказалось, что на ней блестящий, сжавший плоть костюм, то ли для горных лыж, то ли для бобслея, то ли для подводных охот. А может, и для космоса. Женщина была обильная, но стройная. Дождь ее не пугал. «Вы сноровистые мужики! — похвалила нас Берсеньева. — Я буду вами творчески руководить». — «Не надо, — сказал Шалунович неожиданно строго и неучтиво. — Вы отдыхайте». Он, видимо, был знаком с Берсеньевой. Берсеньева фыркнула и вынуждена была вступить в собеседование с Бессоновым. А Бессонов все еще сострадал нам, все еще бранил себя за оплошность.
— Забыл вот. Помнил, что надо оставить. А забыл. Надо бы мне сегодня, дураку, хоть со своего двора принести ведра три мусора.
Он смотрел, как мы, доходяги, ухали ломами, и горестно качал головой. Я ощущал его желание сейчас же схватить лом и переколоть весь лед. Но делать этого было нельзя.
— А где наши моржи? — поинтересовалась Берсеньева. — Где ваш хваленый Барон?
— А там, — махнул рукой Бессонов. — Барон — там.
Тут, словно бы дождавшись предусмотренного этикетом запроса, явился из вод морж Барон, вылез, выбрался на мято-серый бетонный берег, должный изображать льдины, разлегся, фыркал, смотрел на наши труды. Я давно не видал моржей живьем, с детских лет, наверное, а может, в ту пору моржи до Москвы и вовсе не доплывали. Во всяком случае, мне отчего-то казалось, что моржи должны быть черными, а бивни иметь белые. И громадными представлялись мне моржи. Барон в громадины не годился. Ну метра два с половиной в длину, а то и меньше. А бивни у него были скорее желтые, причем левый — короче правого. Шкуру же он носил гладкую, почти без шерсти, бурую, боровиковой, что ли, масти, всю в складках — морщинах. И по шкуре этой на спине Барона шли пятна голого розового подкожья. «Фу-ты, пропасть какая!» — расстроился я. Морж Барон был дряхлый и жалкий. Впрочем, возможно, жалкими казались и мы ему. Барон, положив морду и бивни на ласты, смотрел на нас скучно и высокомерно. «Что вы с собой делаете-то? — виделось в его глазах. — И с нами». Мы с Шалуновичем словно бы сжались, ломы опускали вразнобой, несовершенство мира тяготило душу. А потухшую было Берсеньеву явление Барона, несомненно, оживило. «Милый, хороший, да какой же ты красавец! — слышали мы. — Иди ко мне на ручки! Иди сюда! Мальчик мой!» Барон посмотрел на Берсеньеву, идти на ручки не пожелал, отвел взгляд. Берсеньева не смутилась, она опять вступила в беседу со служителем Бессоновым. «У меня сейчас по диете, — открывала она свои бездны Бессонову, — час восхождения. Но что поделаешь, если в стране такой день». Она говорила, а Бессонов молчал. Но, возможно, обращаясь к нему, она имела в виду и иного слушателя. Но не нас же с Шалуновичем. Неужели Барона? Отчего же и не Барона? «…а вечером, уже вне диеты, — доносилось до нас, — сеансы медитации… но сегодня исключено, вы понимаете…» Бессонов кивал. «… хотя отчего же пропускать день, ведь войти в сущностное и высокое можно и с помощью бессловесных тварей, пусть и арктических, пусть и ластоногих, почему нет? В особенности если кому-либо из них дано принимать и передавать сигналы энергии, да, это так, отчего же и не попробовать…» Бессонов не возражал. «Иные убеждены, что в медитациях главное — духовное, свет, восторг и упади на колени; нет, нет, не менее важны и ощущения любви, причем и чисто физические, чувственные, секс. Да, и секс, и непременно секс, а как же, вы мне поверьте. У вас есть свой домашний гуру?..» Бессонов закурил. «Между прочим, я знакома с самим Станюковичем… или Стасюлевичем… или Степуновичем… Это они все заварили в сортировочном депо, я у них была — великий почин, вымпелы, подарки, бригады, мы ремонтировали электрические локомотивы, я там горела, я с детства, еще с пионеров, это любила, мне бабушка говорила: ты у нас общественница, красная шапочка, пионер, не теряй ни минуты, никогда, никогда не скучай, с пионерским салютом, ты всегда с пионерским салютом утро родины встречай, раз, два и — четыре! Теперь мне надо делать упражнения для талии и для пресса, у вас нет обруча? Ну тогда я так, вращения бедрами и грудью, раз, два и — четыре, ах, Барончик, иди сюда! Ну, иди, милый, я возьму тебя на ручки, ах, Барончик, какой же ты несносный, мальчик ты мой…»
— Она не пойдет, — сказал Бессонов.
— Кто она? — Версеньева не прекращала движений.
— Барон. Она гордая.
— Барон — морж!
— Морж, — согласился Бессонов, — Самка-морж.
— Но как же так! — возмутилась Берсеньева. — Как посмели назвать самку Бароном?!
— Мало ли как. По глупости. Они, когда ее грудной от мамы отнимали, подумали, что это Барон. Делов-то.
— Гадость какая! Уродина какая! От нее ведь, наверное, и заразиться можно. От этих мерзких лишаев! — Берсеньева стояла, оскорбленная подлым обманом, ладонь о ладонь терла, будто только что носила Барона на руках. — У вас хоть мыло есть?
— Есть, — сказал Бессонов. — Дома есть.
Мы тем временем с Шалуновичем раскололи весь дарованный нам материковый лед и на носилках оттащили его к месту ожидаемого прибытия автомобиля. И тогда у самой ограды взорам Бессонова открылся нежданный клад, от чего служитель чуть ли не пустился в пляс. «Ну вот, а Дина Сергеевна ругалась! А тут для вас еще какие глыбы!» Оказалось, прошлой осенью здесь ломали низкий каменный бордюр, развалы его полагали убрать к ноябрьским, но никто и не подумал убрать, они перезимовали в уюте под снегом и льдом и вот теперь вовремя обнаружились. «Подарок-то вам какой! — радовался Бессонов. — А Дина Сергеевна ругалась!» Пришла Дина Сергеевна, и она обрадовалась. Однако следовало, и немедля, идти к хищникам, там есть что делать. Мы с Шалуновичем ударниками первых пятилеток бросили клич: «Время, вперед!» — и за сорок минут отволокли осенние обломки в надлежащее место. «Ну, спасибо, спасибо, уважили, мастеровые, — благодарил нас Бессонов. — И вам, женщина, спасибо». Берсеньева поскучнела, потеряла возраст, взглядывала на Барона с брезгливостью и будто бы грубость желала отпустить этой плешивой ледовитой самке, ошибке заготовителей-звероловов. Бессонов покачал головой, пообещал Барона покормить, но моржиха не поверила, дернулась, чуть ли не подскочила и скрылась в пучинах бетонного водоема.
3
А Дина Сергеевна повела нас к хищникам. И именно к хищнику тигру Сенатору. «Тоже, небось, самка!», — поморщилась Берсеньева. «Это Сенатор-то? Ну что вы! — улыбнулась Дина Сергеевна. — Это кот. Котяра настоящий!» — «Ну если так, — весенняя свежесть возвращалась к Берсеньевой, — я сейчас же войду к нему в клетку!» Но в клетку к Сенатору (тигр амурский и т. д.) никого не направили. Да и не надо было беспокоить животное. Сенатор спал. Дина Сергеевна передала нас служителю Василию, а сама отбыла, возможно, на другой фронт. В отличие от Бессонова, Василий был здоровенный малый, лохматый, веселый, в расстегнутом ватнике, он то и дело похохатывал и почесывал грудь, украшенную чайной мельхиоровой ложкой на цепочке. Похохатывал он, наблюдая и наши неловкие с Шалуновичем усердия, и ритмические удовольствия Берсеньевой. Порой, казалось, он подмигивал нам: «Баба-то какая шальная и моторная, чего вы, мужики, теряетесь-то?» Мы удивлялись молча: «А сам-то?» — «Да вроде старье. А впрочем, посмотрим, если не возражаете», — отвечал он. Сама же Берсеньева недолго выбирала, кому оказать честь, кого произвести в поклонники. Фаворитом ее стал Сенатор. Впрочем, и Василия она совсем не отвергла. Тем более что Сенатор спал. Мы же с Шалуновичем занимались делом привычным — опять ломы и лопаты, опять носилки, опять лед из-под грязного снега, какие-то булыжники, обломки и среди прочего — две мятые целлулоидные куклы. Таскали мы прошлогодние залежи метров за пятьдесят, туда в кучу уже сволок кто-то приобретения не лучше наших. «Вот ты, Василий, этого не понимаешь, — слышали мы, — вот тигр, он и родится красивый, а человеку надо создавать себя… нет, не говори мне комплименты, к тому же со мной случай особый, однако же и я стараюсь… безвозмездный труд на благо всех — это свято, устану до изнеможения, а все равно пойду сегодня на корт… телефон я дам, ты запишешь на ватнике? Это прелестно, а он даже не ревнует; этот негодный Сенатор, ух какой красавец Сенатор, ну проснись, милый, мальчик мой, нет, он притворяется, он, конечно, не спит, он все видит, он страдает, в нем переселенная душа Принца, нет, Кларка Гейбла, нет, раз он Сенатор, значит, в нем Кеннеди, кто-нибудь из братьев… Нас принимали в пионеры, мне повязывал галстук Шверник, это свято, этого у нас никто не отнимет, я сняла нынче браслеты и перстни, чтобы не мешали труду, и педикюршу перенесла на завтра… где храбрый танк не проползет, там пролетит стальная птица… и через этого зверя можно войти в сущностное и высокое общение, ну иди ко мне, голубчик Сенатор, ну поговори со мной, разбуди его, Василий, может, палкой его какой ткнуть?..» — «Нет, — хохотнул Василий, — он не проснется!» Дождь прекратился, а мы с Шалуновичем взмокли. Мой кот Тимофей совсем иной масти, нежели Сенатор, но спит он точно как и Сенатор. Лапы под голову, тихое, невинное существо, ребенок. В эдакой позе пардусы вот уже лет семьсот дремлют на белых стенах Юрьев-Польского собора князя Георгия. Но сон котов чуток, и выбирают они для досуга места, с каких можно обозреть ближайшие пространства, чтобы ничего не проспать, а время от времени и открывают в целях инспекции глаз. И Сенатор иногда открывал глаз-желток. Но, кроме светской дамы Берсеньевой, видеть он, похоже, ничего не мог. А Берсеньева старалась, она — естественно, с паузами для бесед — и вращала невидимый обруч, и становилась восточной девушкой, несущей, покачивая бедрами, кувшин на голове, и извивалась в некоем жреческом танце, готовя себя к медитации, была порой красива и заманчива и напевала нечто страстное в надежде вызвать движения чувств переселенных в Сенатора душ, но Сенатор спал. Лишь вздыхал иногда. Открывал глаз и закрывал. А потом он и вовсе захрапел. Но вдруг Сенатор вскочил. Прыгнул, бросился в левый угол клетки, мордой чуть ли не уткнулся в железные прутья, волнение было в его глазах. Поджарый, с нечистой на боках шерстью, он будто молить был кого-то намерен. Мимо клетки Сенатора шла женщина. Женщина не взглянула ни на Сенатора, ни на нас. Лишь что-то коротко бросила Василию. Запомнил я ее крепкой и круглой. Главным же в ней было фиолетовое навершие, способное укрыть табачный киоск, — мохеровый берет луховицкой вязки. Сенатор по ходу ее шествия двигался вдоль прутьев клетки, уперся в последний прут, стоял, замерев, пока фиолетовое не исчезло за деревьями, тогда он то ли взревел, то ли вздохнул сладостно (были и ноты заискивания — или уважения — в его звуках), вернулся на покинутое им место и рухнул в сон. «Неужели фиолетовое так действует на тигров?» — подумал я. Следовало дома произвести опыт с котом Тимофеем.
— Понятно, — надменно произнесла Берсеньева, она была теперь леди, узнавшая о том, что ее кухарка ворует. — Эта женщина, видно, его кормит.
— Нет, она его не кормит, — хохотнул Василий. — Кормлю его я.
Он взглянул на Сенатора и добавил:
— Но от нее зависит, как его накормят. Она у нас старший бухгалтер.
Все нам назначенное мы исполнили и отправились за новыми указаниями. По дороге Берсеньева говорила, что подумаешь — Сенатор, у нее муж тоже в своем роде Сенатор, ну и что из этого, сейчас он в Люксембурге, в командировке, а тут дело святое, народ в своих прорывах и испытаниях не должен быть одинок. Вблизи хозяйственного двора она, углядев бригадиршу Анну Владимировну, чуть ли не закричала: «Уработались всласть! Но мы бабы, привыкшие к ломам и молоту! Что нам еще назначат?» — «А ничего, — сказала Анна Владимировна. — Все. Большое спасибо. Мы свое сделали». — «Как все?» — удивились мы с Шалуновичем, нам-то казалось, что главные подвиги и не начинались. «Все, — подтвердила бригадир. — Уже два часа. Штаб ждет донесений». Неподалеку курили Красс Захарович Болотин и маринист Шелушной.
— Аль еще охота раззудить плечо? — спросил Болотин. — Ишь, прыткие какие. Кубанские казаки. И так уж небось ломит в руках и спине?
— Не без этого.
— Стало быть, требуется с устатку. Пойдешь в клуб?
— Не могу, — сказал я.
— Ну тогда дай десятку, коли ты с нами брезгуешь, ведь взял же десятку на всякий случай, сознавайся?
— Ну взял… — промямлил я. — У меня дома сидят голодные.
— Это уже и не смешно. В день всеобщего бескорыстия — откровенная жадность… Это, брат, знаешь…
— Нет, — твердо сказал я. — Не могу, Красс Захарович.
Болотин рассердился:
— Ладно. Это, конечно, мерзко, подло, но ладно. Тогда, чтоб тебе хоть чуть-чуть не было стыдно, ответь все же, чем мы богаче животных. У тебя было время подумать. Ну? Что у нас есть такое, чего у них нет и быть не может?
— Разум, что ли?
— Это мы-то богаче разумом? Рыдайте, люди, рыдайте, посыпайте главы пеплом! Вот сейчас своими словами ты подтверждаешь людскую дурь. Человеки этим занимаются ежесекундно. Ладно, попроще. Что мы такое за тысячелетия придумали, чего нет у животных?
— Неужели телевизор?
— Очки, дурья башка, очки!
— Ну, Красс Захарович, — не удержался я. — Где уж очкам прийти в голову! Именно ваш разум я имел в виду, когда пытался вам ответить.
— Ну так это мой разум… — устало сказал Болотин. Далее он торжественно молчал и смотрел на меня, давая созреть во мне пониманию того, что я ради благоочищения человечества обязан сейчас же вручить Крассу Захароничу Болотину десятку, а лучше бы — четвертной.
— Нет, не могу. Дома расстроятся.
— Экие мы с Шелушным сироты, — тихо вздохнул Болотин. — Знаешь, разреши тогда почитать тебе свежие стихи. — И он шагнул ко мне с намерением читать стихи — глаза в глаза.
— Нет, не надо, лучше потом! — взмолился я. — Вот вам, Красс Захарович, десятка, и вы с Шелушным идите…
Едучи в Останкино трамваем и пристроив на коленях авоську с буханкой хлеба, пакетом картофеля и пачкой крестьянского масла, купленными на чудесно спасшийся в моих карманах рубль с мелочью, я клял себя за слабость характера и неспособность вытерпеть чтение вслух свежих стихов, возможно и гениальных. Хотя что для устатка Болотина моя десятка… «Этак, — думал я, — мы долго не протянем».
4
Однако протянули и еще год. И апрельским утром я опять оказался в зоологическом саду на красном сборе прилежных субботеев. И опять шел дождь, но работали мы теперь под крышами. Среди прочего надо было на складе доски, прибывшие недавно и сброшенные куда ни попадя, рассортировать, разнести и уложить по штабелям. Доски были сырые, тяжелые и протяженные, как пролонгации договоров. Носить их приходилось вдвоем, а то и втроем. Работы вышли монотонные, приключений не случилось. Берсеньевой я не увидел. Возможно, она пошла нынче на передовую. На линию огня. Запомнилось только участие в трудовом подъеме Пети Пыльникова. Имевший опять на меня виды Красс Захарович Болотин был отвлечен именно Пыльниковым. Мы уже час трудились, когда на складе возник Пыльников, пострел и оптимист. «У кого список? — прозвенел он и тут же отметился. — Что пашете-то?» — «Да вот, Петечка, доски носим, потом перейдем на горбыль». — «Бог в помошь! — сказал Пыльников. — Мне-то бежать надо, а то бы я… ну ладно, пятнадцать минут у меня есть». Шустрый, тощий Петечка был мал — с незабвенного Карандаша, в товарищи по субботнику он определил себе рослых Шелушного и Карабониса. Только они брали доску на плечи, он тут же оказывался между ними, руку левую вытягивал вверх, касался двумя пальцами доски или не касался, добросовестно сопровождал груз к штабелям, а когда Шелушной и Карабонис сбрасывали доску, крякал смачно. Совершив так четыре ходки. Пыльников раскланялся: «Надо бежать, надо бежать, сами понимаете». И был таков. Красс Захарович Болотин замешкался, задержался, но инстинкт самовосполнения все же заставил его броситься вдогонку Пыльникову. Минут через пять Болотин вернулся и снова вызвал у меня мысли о моченом яблоке. «Скотина! — негодовал Болотин. — Жирная свинья! Укатил на своем «мерседесе»! Во всех храмах будет предан анафеме! Тексты его изгонят из трактиров и ресторанов! Ему бы, аспиду, рублей триста со своих-то пирогов и стерлядей внести в фонд, а он попрыгал под досочкой и утек на белом «мерседесе». Полагает, что Синатра и Лайза Минелли поют его тексты; накось выкуси, Толкунова и та не всегда берется. Насобачит сейчас что-нибудь вроде «Мы кузнецы, и дух наш молод…»!» — «Ничего не дал?» — теряя надежду, спросил Шелушной. «Мало дал! — заявил Болотин. — И так дал, будто думал не о всеобщем братстве, а о прожиточной рифме. Еще и оскорбил. Жирная свинья! И не только свинья, но и мышь-землеройка! И его надо держать здесь, в клетке, рядом с тобой!» «Но одолжил все-таки», — обрадовался Шелушной. На всякий случай я носил доски подальше от Болотина и уцелел. День закончился благополучно. И пристойно. Если не считать мордобитий в пивном автомате на Королева, куда я заскочил промочить горло. Отчего-то после трудов на субботнике люди в автомате бывали особенно раздраженные и грубили друг другу без всяких на то причин…
5
В третий раз я приехал в зоопарк бывалым закаленным бойцом. Весна вышла теплой, снег стаял, ночью, правда, морозец задубил землю, но небо было ясное, улыбчивое. На хозяйственном дворе в толпе субботеев я увидел начальника штаба по проведению Мысловатого. Он тут же указал на меня пальцем:
— А вот и он! Вот вам бригадир!
— С чего бы вдруг? — удивился я.
— Анна Владимировна заболела, — сказал Мысловатый, — а вы, как я слышал, заслуженный ветеран. Все здесь знаете. Будете бригадиром. Дело государственное.
— Бригадиром так бригадиром, — согласился я. Слова «заслуженный» и «государственное» кумачовым кушаком спеленали меня как гражданина. И знал я, что делать бригадиру. Как я ошибался…
— И вот что, — положив мне руку на плечо, Мысловатый направил от бригады в сторону. — Самым существенным для вас должно быть…
— Работа, — проявил я свою осведомленностъ.
— Работа? — поглядел на меня Мысловатый и поправил очки. — Да, работа. Конечно, работа… Но это для бригады. А для вас… Вы зайдете к директору или заму, они выправят документ, они сделают, они знают. Но вы, будьте добры, проследите, чтоб там было «выражаем благодарность» и человеко-часы. Вы меня понимаете?
— Понимаю, — неуверенно сказал я.
— В два, ну в полтретьего надо иметь сводку. Чтобы снестись с районным штабом. А потом и с городским. Тут и нужны человеко-часы.
— Звере-человеко-часы, — возник вблизи почти секретного разговора Болотин.
— Опять вы, Красс Захарович, в своей манере, — деликатно, но и с укором улыбнулся Мысловатый.
— А еще лучше — озверело-человеко-часы.
— В какие, в какие часы, Демьян Владимирович, приедет сюда телевидение? — Движением тела нас с Болотиным оттеснила от Мысловатого светская дама Берсеньева, дотоле на хозяйственном дворе невидимая. Ее бы стоило осадить или просто шугануть; но на Берсеньевой был недостижимо белый костюм («Белизна ее поразительна, — пришла на ум ковенская полячка из «Тараса Бульбы», — как сверкающая одежда серафима»), и я в беспокойстве от нее отпрянул — как бы чего не запачкать. В подобной непорочности кителях и фуражках, какие невозможно было унизить пятнами или помарками, вожди стояли на авиационных праздниках в Тушине. А на груди Берсеньева повязала шелковый алый бант, острые углы его напоминали о святом в ее детстве.
— Телевидение сюда не приедет, — сказал Мысловатый.
— Ну, или кинохроника, — настаивала Берсеньева.
— И кинохроника. А телевидение… — Мысловатый полистал штабной блокнот. — Будет снимать наших на чтении… Сейчас скажу… На «Серпе».
— Туда Жухарев полетел! Вот стервец! — воскликнула Берсеньева. — Мне сказал, что снимать будут в зверинце. Ну это мы еще посмотрим!
Берсеньева взвилась и исчезла.
— Откуда она? — спросил я Мысловатого.
— Берсеньева-то? — удивился начальник штаба. — Из устного университета культуры. Ну как же. Очень темпераментная особа.
— Кобыла Пржевальского! — сказал Болотин.
— Ну опять вы, Красс Захарович, — расстроился Мысловатый. — Она темпераментная в общественном смысле. И очень отзывчивая на мероприятия.
На хозяйственном дворе нас опять снабдили лопатами, ломами, граблями, ведрами, носилками, рукавицами и посоветовали взять топор с пилой на случай, если из института станут перекидывать. Работать бригаде предстояло на новой территории — через Большую Грузинскую, за пресмыкающимися и гадами, возле обезьянника. На мой вопрос, что делать пилой и что станут перекидывать и из какого института, ответили: «Там сами увидите. Или вам скажут». Возле обезьянника нам открылся пустырь с разбросанными там и тут камнями и хламом. Откуда эти камни, объяснить никто не мог. Главное, пришло время собирания камней. Пока я прикидывал, кого и куда поставить, ко мне подбрели два чужих мужика:
— Командир, а где здесь это?
— Туалет, что ли? — спросил я рассеянно и не подумав.
— Да нет, не туалет. А это… Что с утра…
Я вынужден был взглянуть на вопрошавших.
— Вы, похоже, заблудились, — сказал я. — Вы приезжие?
— Гусь-хрустальные.
В глазах у мужиков была тоска, утреннее желание выжить и непротивление злу насилием. Кроме них, ни один посетитель в зоопарк не забрел. «Неужели в Гусь-Хрустальном, — подумал я в смятении, — отменили субботники?»
— На Шмитовской улице есть пивная, — сказал я, — и у Ваганьковского рынка.
— Все закрыто. До после обеда…
— А тут этого и не было никогда.
Из сострадания я чуть было не подозвал в полезные советники Красса Захаровича Болотина, но испугался, как бы он, натура романтическая, не увлекся и не утек с беднягами в Гусь-Хрустальный. А мужики с тоской в глазах побрели в невинные дебри зоологического сада. Болотину же я строго указал места сбора камней и всех призвал к усердиям. Усердствовать, правда, приходилось не спеша, чтобы все камни и обломки сразу не перетаскать. По списку в бригаде числилось сорок три человека, шестнадцать из них (и Петечка Пыльников!), записавшись, тут же и рассеялись по неотложным заботам; но и двадцать семь были силой. Поначалу я, по дурости, не сдерживался, проявлял бестактность и укорял казавшихся мне нерадивыми. Скажем, увидел, как две барышни из аппарата, кряхтя и постанывая, подняли по камню с огурец-корнишон и понесли их, надрываясь, губя здоровье, и осерчал на них вслух. Они удивились, свободными пальцами повертели у висков. Я растерялся. Я-то полагал, что если ты явился к делу, то и надо исполнять его по доброй совести. Таким вырос. Впрочем, тут же я и опомнился. Руководитель работ обязан быть стратегом и соображать, что и когда будет исполнено. А очень скоро мы собрали все камни, хлам и возвели субботнюю горку. Был призван один из ответственных хозяев, он, постояв минут пять в смущении и раздумьях, сказал:
— А может, этой горке-то удобнее возвышаться в другом месте, вон там, у обезьянника?
— Конечно, — обрадовался я. — И удобнее, и красивее. А если и там выйдет нехорошо, мы подыщем и третье место.
— Без всяких сомнений! — согласился со мной советчик.
Краем своим пустырь утыкался в бетонную стену, за ней скучно стоял дом с явно учрежденческими занавесками в окнах. За стеной происходило вялое тормошение, нас не раздражавшее, порой с перебранками — их дело. Всюду, как известно, жизнь. Но вдруг там то ли кого-то огрели кнутом, то ли пообещали немедленный отдых на Сейшельских островах, только за стеной засвистало, задергалось, загрохотало, а в суверенные пределы нашего зоопарка стали перелетать неправильных форм деревянные ящики канцелярских столов, связки бумаг и конторских журналов, чертежи какие-то и даже черные измызганные халаты. Оставив попечителем перемещения камней бывшего моряка Шелушного, я бросился к забору:
— Что вы делаете! Прекратите сейчас же!
— Замолкни, дядя! У нас субботник! Нам нужно очистить государственную территорию от лишних вещей и людей!
— Зверей-то хоть пожалейте! — совсем уж растерянно ляпнул я.
— А чего жалеть твоих лимитчиков-то!
— Каких лимитчиков?
— А кто же у тебя сидит в клетках? Одни лимитчики. Понаехали в Москву, отхватили жилплощадь в центре города, живут на всем готовом. Оккупанты! Сукины дети! Зверье! И ты небось такой же лимита!
И на голову мне опустился тюк с паленым тряпьем.
— Мы вам сейчас не такое перекидаем! — разозлился я. — Мы вас сейчас навозом забросаем из-под мускусных крыс, аллигаторы нынче поносят, и это сейчас на вас польется. Есть у вас начальник штаба?
— Ну есть начальник, — услышал я. — Ну я начальник. Насчет навоза вы всерьез, что ли?
— А то не всерьез!
— Сейчас. Ставлю ящики. Поднимаюсь на переговоры.
Через минуту сверху глядел на меня губастый Герман Стрепухов, листригон и торопыга, в мятой, надвинутой на брони зеленой колониальной панаме.
— Ну и где ваш навоз?
— Трепыхай! — закричал я. — Герка!
— Елки-палки! Это ты, что ли? — И Герман Стрепухов чуть было не обрушился в зоопарк в порыве нежных чувств к однокласснику.
Мне тут же перебросили три ящика, сбитых из мелких досок, я влез на них, мы с Германом обнялись. Я не видел его лет пятнадцать, что не редкость в Москве, слышал только, что он защитил докторскую, работает в каком-то НИИ, а по вечерам играет на банджо. Перебросы предметов на время переговоров прекратились, Герман пригласил меня на свою территорию отметить день, снабженцы уже вернулись, с сосудами, но я, памятуя о человеко-часах, отказался. «А что касается наших посылок, — сказал Герман, — то вы дуетесь зря. Мы всегда перекидываем — какой же без этого субботник, здесь уж привыкли и понимают. У вас вон какие просторы, а у нас ущелья во дворе и сжечь негде. Вы костерок с шашлычком из какого-нибудь тапира устройте, топором и пилой раскурочьте стенки шкафов, пилу-то вам небось выдали, вон у вас у камней костер уже затевают; зря, конечно, я дряхлый сейф для взносов велел вам направить, он-то не сгорит, кабы я знал, что ты тут, ну да ладно, они сами куда-нибудь его пристроят». Расстались мы с Германом Стрепуховым хорошо, договорились созвониться и посидеть. Уже собравшись спуститься с ящиков, он вдруг вспомнил: «Погоди, а из-за чего я сюда полез-то? У меня и времени не было. А-а! Из-за навоза! Где навоз-то? Ты шутил, что ли?» — «Не шутил, — сказал я, — а стращал». — «Нашел, чем стращать. Мы давно все перепуганные, однако живем. А навоз мне вот так нужен. Жена элеутерококк на даче затеяла разводить, к нему бы навозу… Эка ты меня расстроил. Я ведь человек доверчивый, вот и полез. Ну ладно, посмотрим. Подумаем. Салют. Созвонимся!»
Действительно, возле переехавшей ближе к обезьяннику альпийской горы умельцы устраивали костер. Институтские бумаги и деревяшки пошли в дело, огонь брал их сразу. В азарте, как всегда радостно удивленный, Шелушной готов был приволочь к костру и сейф для взносов, но я приостановил его предприятие. Устройство костра в зоопарке вообще казалось мне затеей сомнительной. Тем временем на горку полезли поэты. Сухонькая малознакомая женщина лет сорока и мрачно-торжественный Красc Захарович Болотин, в руке у него синел вышедший месяц назад сборник стихотворений и поэм «Очки». Женщина, оглаживая ладонью воздушное пространство перед собой, сообщала нечто о Копернике и его системе. Возможно, она была сама по себе благородная, возможно, ее побудило к тому сопение стоявшего сзади коллеги, но так или иначе через пять минут она представила слушателям Красса Захаровича Болотина. А слушатели объявились, ими стали мужики из Гусь-Хрустального, по всему видно восстановившие подорванное здоровье. Порой Красc Захарович делал паузы, и они аплодировали. Приостановить чтение Болотина я не мог. Да и кто мне давал право душить творческие стихии? К тому же до двух оставался час с двадцатью минутами, а перетаскивать камни в третье место обитания было бы скучно. Тут ко мне подошли два милиционера, лейтенант и сержант.
— Вы, говорят, старшой? — спросил лейтенант и отчего-то приблизил ко рту рацию.
— Я.
Лейтенант помялся. Мероприятие проводилось сегодня особенного воздушного свойства, и с этими особенностями приходилось считаться. Все же лейтенант, деликатно указав в сторону Болотина и костра, произнес:
— Это как? Порядок или непорядок?
— Культурная программа, — твердо сказал я. — Входит в план проведения. Народ слушает.
— Вы отвечаете? — по-отечески заглянул мне в глаза лейтенант.
— Конечно. Текст канонизированный. Сборник «Очки». Разрешено цензурой.
Сам себе удивляясь, я был готов расхваливать сочинения Болотина.
— Ну ладно, — сказал лейтенант. — С этим ладно.
— Обезьяны волнуются, товарищ старшой, — покачал головой сержант. — Плохо с ними.
— Как это? — удивился я.
— Под потолки клеток аж все залезли, прутья трясут, ревут, а ведь здоровые обезьяны, шимпанзе, орангутаны, эдак и клетки разнесут, такого с ними не случалось. Беда будет.
— Отчего же это?
— Может, из-за костра? — неуверенно предположил лейтенант. — Дым, может, на них идет? Конечно, субботник, но…
— Если из-за костра, мы его сейчас прекратим. Бумаги, возможно, нам пришлось жечь глупые или бестолковые.
Однако и после закрытия костра обезьяны не успокоились. Сержант то и дело ходил в обезьянник и возвращался к нам с донесениями печальный. Похоже, надвигалась драма. Послали за великим звероводом. Или дрессировщиком. Сержант опять пошел в обезьянник укорять животных. Уставший Болотин закрыл сборник, пробормотал: «Все. Закончил. Спасибо», вызвав шумные восторги слушателей из Гусь-Хрустального. Сержант выскочил из обезьянника, взбудораженный, несся к нам, восклицая:
— Отбой! Успокоились! В один миг все успокоились! Будто чудо какое! На полы слезли, урчат, чешутся. Что случилось-то? А? В один миг.
Я поглядел на Красса Захаровича Болотина, сказал:
— Возможно, в атмосфере протекало явление…
— Возможно, — не сразу и со значением кивнул лейтенант.
В третьем часу я направился в дирекцию за ценной бумагой. Проходил мимо знакомых мне клеток хищников. Как и два года назад, Сенатор дремал. Открыл свой желток, не обнаружил на мне фиолетовой крыши из мохера и зевнул. Но, может, это был и не Сенатор. Принял меня заместитель директора. Принял доброжелательно, но отчасти и холодно. Или — служебно. На вид он был старомоден и, по моим понятиям, походил на лейбориста первой трети столетия. Или даже не на лейбориста, а на угрожавшего республике ультиматумами. Во всяком случае, такие типы встречались в лентах британскою кинематографа, и ничего хорошего ждать от них не приходилось. Ироничные жесткие усы, темно-синяя тройка, из жилетного кармана дужкой свисала золотая цепочка часов. После волнений в обезьяннике я ощущал робость мелкого просителя в учреждении. Неизвестно зачем, может, полагая, что сделаю приятное хозяину кабинета, я спросил, указав на одно из чучел:
— Иван Алексеевич, это альбатрос?
— Баклан, — сказал Иван Алексеевич. И душевнее не стал. Провел пальцами по чемберленовым или керзоновым усам. — На сколько рублей, на ваш взгляд, вы произвели сегодня работ?
Я вспомнил, как барышни из аппарата поднимай и носили камушки, прикинул, сколько бы я заплатил приглашенному труженику за очищение пустыря, и понял, что более пол-литры он не стоил. Ну еще следовало добавить банку килек и бутерброд с сыром.
— На четыре рубля, — сказал я.
— Это каждый?
— Нет, все.
— Вы шутите! — нервно рассмеялся Иван Алексе-евич.
Тут я ощутил, что я не сам по себе, что за мной народ, шелест знамен, ветры, дующие в лицо и спину, гвардия рабочих и крестьян, мечта прекрасная, пока неясная, и обезьяны пускай заткнутся, им еще шагать и шагать за нами, а возможно, они волновались от радости, от приобщения к верхним слоям культуры. И я согласился:
— Да, шучу, каждый на четыре рубля… И потом, просили про человеко-часы… и если можно — слова благодарности… Не обязательно, конечно, но…
— Отчего же не обязательно? Вы, видно, начинающий бригадир… И с чего вы взяли эти четыре рубля? Ну не четыре же! Ну хотя бы пять! Раз уж вы такой несговорчивый. А человеко-часы… Вас было сорок три, работали вы с восьми до двух, даже до полтретьего… Так что набирается немало. И к тому же на этот раз вы сумели провести культурную программу… Очень будет хорошая сводка. И для вас. И для нас.
Я вдруг почувствовал, что Иван Алексеевич готов подарить мне чучело баклана, а куда бы мне было девать его? Я заторопился. Несся потом к нашему цеховому клубу ветреным, веселым Эротом, устроившим судьбу влюбленных, с намерением передать бумагу начальнику штаба, дело свалить и пойти по книжным магазинам. По моим наблюдениям, в дни субботников в созвучие к маршам и биениям сердец выбрасывали редкие товары и книги. Нынче я приберег рублей сорок в надежде приобрести мерцающие в фантазиях книги, может, и из серии «Музеи мира».
Начальнику штаба Мысловатому бумага пришлась по душе. Он шевелил губами и будто языком желал осознать сумму вклада в районную и городскую казну. «Ничего, ничего. Молодцы. Это же почти полторы тысячи рублей. И культурная программа…» — «Откуда полторы тысячи?» — удивился я. «Ну на пять-то рублей каждый из вас наработал не в день, а в человеко-час…» Я начал что-то мямлить. «Нет, нет, не спорьте. Вы человек непрактичный, что, как и почем, вы не знаете, а мы знаем». «За что от зверей-то отбирать такие рубли? Или от нас?» — я все пребывал в удивлении. «Это не от зверей. И не от нас. И это не совсем рубли. Это цифры. Но политические. И они дороже рублей. Это настрой и общее движение. Кстати, кому была адресована культурная программа?» Я назвал слушателей Болотина. «Так, так, запишем, — торопился Мысловатый, — трудящиеся Гусь-Хрустальненского района Владимирской области, работники и обитатели зоопарка, персонал московской милиции. Нет, не зря, не зря вы попали нынче в бригадиры…»
Совсем было утек я из здания, однако у самого выхода меня изловил и задержал Красс Захарович Болотин. Оказывается, пока я добывал бумагу, заслуженная наша бригада никуда не разбрелась, а осела в буфете и закусывает.
— В какие еще книжные магазины! — заревел Болотин. — Старшой всегда ставит бригаде. Но коли хочешь, чтоб тебя занесли в выскочки, подпевалы и надзиратели, тогда катись в свои магазины!
И меня сопроводили к столу.
— Вынимай из штанов все содержимое, — приказал Болотин. — И выкладывай. Оставь три копейки на трамвай.
Я вынул и выложил.
За столом, вернее, за несколькими столами, сдвинутыми в один, сидели и люди, ушедшие из зоопарка рано поутру по неотложным заботам (Петечка Пыльников, пострел и оптимист, тут как тут), и люди, мне совершенно неизвестные. Мужики из Гусь-Хрустального показались мне в их компании чуть ли не родственниками. «Гуси вы мои хрустальные! — обнимал их Болотин. — Бесценные мои!» Мужики были разной масти, и теперь их за столом называли Гусь Белый и Гусь Рыжий. «Сила человек! — сказал мне доверительно Гусь Рыжий. — И имя редкое. Героя гражданской войны. Маршала, что ли?» — «Скорее, генерала», — подумал я. «Говорят, против Деникина ходил, а потом был репрессированный…» «Против Деникина вряд ли. Он с другой гражданской войны, — сказал я. — Вы устройте поход в Большой театр, там этого Красса танцует Марис Лиепа». Порывы мои тихим образом покинуть застолье тут же пресекались, люди ехидные и вольнодумцы грозили и впрямь произвести меня в карьеристы и надзиратели, люди мягконравные и без затей просто недоумевали, как я могу прекратить наслаждение. Да еще и в такой день. Пили стремительно, закусывали домашними бутербродами и сигаретным дымом. Гусь Белый теребил Болотина и требовал, чтобы тот спел «Броня крепка, и танки наши быстры…». «Это вы к Петечке обращайтесь, к Пыльникову, — мрачнел Красс Захарович, — это ему в ресторанах отстегивают». Я без горячих закусок и в чехарде тостов был уже нетверд в мыслях и нравственных решениях. Радостный галдеж вызвало явление светской дамы Берсеньевой с кастрюлей вареной картошки в руках, кастрюля курилась долиной гейзеров и благоухала. «Из дома, с пылу с жару! — рекомендовала Берсеньева (уже в красной косынке и джинсовом комбинезоне). — К вашим жарким сердцам!» Сейчас же возник начальник штаба Мысловатый. Ему существенное наливали и протягивали, но куда важнее был ему я. «Я опросил участников бригады, — быстро заговорил Мысловатый, — и в зоопарк звонил. Все говорят: вы скромничаете. Не на пять рублей в человеко-час. А на десять! Вы там горы своротили!» — «Ну уж на десять», — поморщился я. «Что вы такой скупой? Конечно, на десять! И еще, говорят, вы вступали в соревнование и сотрудничество с трудовым коллективом соседнего НИИ». — «Ну вступали», — сказал я. «Что же вы раньше-то молчали! Это же обязательно надо отметить. Кстати, и тут, наверное, есть человеко-часы? Итого на две с половиной тысячи рублей выйдет, а то и на все три!» Тремя тысячами Мысловатый меня так ошарашил, что язык мой не смог протестовать, Берсеньева подскочила к Мысловатому: ее, а не хама Жухарева снимало телевидение на «Серпе», и все мы были обязаны смотреть нынче последние известия. Но Мысловатый отстранил ее и улетел к телефонным аппаратам с исправленными и дополненными донесениями. Дальнейшее воспринималось мной смутно, но празднично. Помню, что мы действительно ходили к телевизору и видели, как Берсеньева вместо сталевара направляла куда-то струю расплавленного металла и говорила потом и микрофон о женщине вчера и теперь, о том, что нынче мы нарастили интеллектуальный потенциал и как важно всюду подставлять безвозмездное плечо. Потом один из Гусей — кастрюля Берсеньевой накрыла его голову, — а с ним и барышни из аппарата плясали на столе, и порожние бутылки покачивались и подпрыгивали. Потом, кажется, приносили вечернюю газету с боем медных тарелок в честь нашей бригады. И меня персонально. Болотин совсем помрачнел, и, чтоб возродить в нем торжественный звон души, Гусь Рыжий стал показывать, как обезьяны, взволнованные мощью слова, трясли прутья клетки. Иные, в их числе Петечка Пыльников, нелестно для Красса Захаровича захихикали.
— Идиоты! Чему радуетесь?! — вскричал Красс Захарович. — Мразь и убожество! Те-то хоть отважились трясти прутья клетки! А вы хоть бы раз смогли сделать это? Никогда! А ведь все мы сидим в клетках!
— Опомнись! Что ты несешь? — перепугался Шелушной. — Мы этого не слышим. Имя у тебя такое, а ты…
— Имя мне дали полуграмотные родители. А ты и полуграмотным никогда не был. Игуана, и конец свой найдешь на вертеле карибских индейцев! — Болотин стоял, голову вскинув, гремел пророком. — Да, мы все сидим в клетках, каждый, и не в одной, а в двух, трех или семи сразу, да еще и всеобщие прутья с невидимой сеткой выставлены для нас. Мы и так игрушки в чьих-то развлечениях, а нас еще и держат взаперти. А ключи от замков — главный у этого, — и палец Болотина указал в небо, — а еще один, поменьше, у того, кто обнаружил в депо великий почин. Мы же, их создания, убоги и трусливы, однако каковы же тогда создатели?
— Категорически и всегда! Этого-то, который на небесах, брани, сколько хочешь, а другого-то не трожь! — урезонивал Шелушной.
— А коли их мир несовершенен и несправедлив? Мне никто не страшен! — снова гремел Болотин. — Я буду глаголить истину!
Потом, кажется, началась свалка. Кого-то успокаивали, кого-то разводили. Гуси-хрустальные братались с барышнями из аппарата, светская дама Берсеньева размахивала косынкой и то призывала патронирующего ее духа незамедлительно спуститься к нам, то брезгливо указывала на Болотина и заявляла: «Прошлого не отдадим». Болотин же повторял: «Они хоть трясли прутья!» Шелушной хныкал. Что-то и еще происходило…
Как я добрался до Останкина, да еще имея три копейки, дарованные мне Крассом Захаровичем, я не помню. Благодетели мои, незримые и невидимые, как и стражи порядка, были в ту пору благосклонны к неуверенным путникам, понимая, что и у придремавших в трамваях горожан были основания утомиться в субботний день.
По истечении же дня указанная благосклонность и снисходительность были сразу упразднены, свидетельством чему — история Красса Захаровича Болотина. Если верить устным московским хроникерам, Красс Захарович, проснувшись утром, что-то вспомнил, уточнил подробности у смущенного Шелушного, ужаснулся, не смог ни пить, ни есть, в чем был отправился на улицу Неждановой в храм Воскресения Словущего, что на Успенском вражке, и там, рухнув на колени, долго шептал что-то перед образом Воскресшего. Далее улицей Герцена он последовал на Красную площадь и здесь, опять же рухнув на колени, уперся лбом в историческую брусчатку напротив Мавзолея. Милиционеры наблюдали за ним минут пятнадцать, потом взялись поднимать его, и, не принимая во внимание слова Болотина о необходимости раскаяния неразумному за напраслину, возведенную в кураже и в гордыне, его при лучах солнца совершенно несправедливо отвезли в вытрезвитель.
6
А время катилось. Однажды я глянул в телефонную тетрадь и увидел: Герман Стрепухов. Набрал служебный номер. «А, это ты! — сказал Трепыхай. — Как раз кстати. У тебя нет самосвала?» — «Самосвала? — растерялся я. — Нет». — «Как же это у тебя нет самосвала, когда ты меня навел на мысль о навозе. Моя баба с тестем дуреют от опытов в огороде. Я уже договорился с зоопарком. Мы им — кое-что, а они нам — навоз. Сегодня как раз есть от слонов и от хищных. А самосвалов нет. Будем добывать. А ты не пропадай. Надо, надо повстречаться, посидеть. Созвонимся». — «Созвонимся», — согласился я.
7
Мимолетное мое бригадирство привело к неожиданному последствию. В майский день я сидел за столом над раскрытой тетрадью, и мне позвонили. Звонившего я знал смутно, но все же знал.
— Читали, читали в «Вечерке» о ваших успехах, — сказал, между прочим, звонивший. — Кстати, что вы делаете во второй половине июня? Не могли бы вы выехать с делегацией — недели на две?
— А куда?
— Да в три страны.
Произнесено это было небрежно, человек владел миром и мог подарить мне на две недели любые три страны.
— В хорошие три страны. В очень живописные три страны.
Тут будто бы и небрежность пропала, человек желал подарить мне, видно, на самом деле три великолепные страны и боялся, что я не смогу оценить его преподношение.
— Конечно, — заспешил я. — Спасибо. С превеликим удовольствием. Оформлением займусь сегодня же.
— Ну вот и замечательно. А про оформление я скажу потом…
Последовала пауза.
— Ну а как вы вообще-то? — прозвучал вопрос. В нем угадывалось предложение оставить всякую деловую ерунду вроде оформлений и делегаций и обратиться к материям высоким и вдохновенным. И, действительно, пошел разговор о выставке на Волхонке приехавших из Лондона полотен Тёрнера, о его пожарах Вестминстера, крушениях кораблей, о «Дожде, паре и скорости», о его световидении, живописных пророчествах, потом вспомнились нам приятные люди, оказавшиеся общими знакомыми, мы были довольны друг другом, добром, исходившим от нас, разговор мог быть вечным. Однако нельзя было отягощать телефонную сеть. Мой собеседник сказал:
— Да, чуть было не забыл спросить… Мелочь… Пустяк… Но чтобы не возникло осложнений с оформлением… Вы член партии?
— Нет, — сказал я.
— Но… — И собеседник замолк навсегда.
— Вы извините, я забыл, — пришел я ему на помощь. — Я вспомнил. В июне я буду занят. Обязательства перед издателями…
— Это жаль… жаль… — пробормотал собеседник, отлетая от меня в ледяные выси межпланетий. — Может, в другой раз…
— Конечно, конечно, — успокоил я его. Но не выдержал: — А хоть в какие страны-то?
— Да в дрянные страны! Не стоит о них и сожалеть.
— Но все-таки?
— Перу, Бразилия, Аргентина… Безобразные страны. Грязь на улицах, фазенды нищие, немолотое кофе, стрельба на карнавалах… Бывал там неоднократно и всегда мучился… Вы уж мне поверьте…
— Я вам верю, верю…
Я тогда схватил атлас мира, водил пальцем от верховий Амазонки до Огненной Земли. Не я ли мальчишкой с детьми капитана Гранта и странствующим рыцарем Паганелем одолевал Кордильеры и влюбленными глазами смотрел на гордого индейца Талькава, не я ли бродил в пампасах, не я ли по влажных джунглях Мату-Гроссу охотился на неполнозубых броненосцев, не я ли в пиро́ге из пальмового дерева проносился мимо стай пираний? Ах как хорошо там было! Теперь, спустя годы, я уже и не знаю точно, ездил ли я после звонка в Перу, Бразилию, Аргентину на две недели или не ездил. Столь ли это важно? Я там был! Я закрываю глаза и нижу: пальмы на Жемчужном берегу, зелено-серые пространства Патагонии, расплескивающиеся юбки танцующих самбу, набережные Рио-де-Жанейро и себя в Рио-де-Жанейро, пусть и не в белых штанах. Колумб отправлялся в плавание с желанием достичь страны Сипанго (от нее до Индии — рукой подать!), страны, называемой нами Японией, в коей воображение хитроумного венецианца Марко разместило приманные дворцы из золота и женщин, чье умение любить было совершенным, но приплыл он совсем в иную страну и до конца своей жизни не узнал, что это была Америка. В какие страны приплываем мы, не ведая о том?
8
Потом нечто произошло в расположении звезд, посвященных в судьбу нашей семьи. Над нами просветлело. Как-то с женой мы направились в путешествие в Берлин. Мы были индивидуалами («один плюс один») и могли чуть ли не вольно шестнадцать дней раскатывать по стране. Я был увлечен тогда Бахом, Гёте, Лукасом Кранахом, немецкими романтиками, в частности живописцами дрезденской школы, и прежде всего Каспаром Давидом Фридрихом. В их следы я стремился ступить, их тени, звуки желал я увидеть и услышать. Бродил берегом тихоструйного Ильма, сидел на репетициях мотетов Баха в соборе Эрфурта, искал на берегу Эльбы место, где лежавшему в траве под бузиной студенту Ансельму явились три змейки, в серо-синих сумерках стоял высоко над озером Мюгельзее, ощущая, что туманы мироздания не придуманы К. Д. Фридрихом. И, естественно, с помощью сравнительного метода исследовал свойства бранденбургского, берлинского и апольдского пива. Новые мои знакомые с пониманием относились к моим интересам. Но все они спрашивали: «А зоо вы посетили?» Жалкие мои бормотания о том, что в одном зоопарке я уже бывал, ничего объяснить не могли. Каждый немец — в душе Брэм. Человек, не желающий первым делом поспешить в зоо, мог показаться странным. Или нравственно убогим. В воскресный день в Лейпциге мы с женой пошли в зоо. Весь Лейпциг прогуливался аллеями парка. Парка ли? Заповедной звериной страны. Долго рассказывать не буду. Да и не помню я многие лейпцигские подробности. Но и нынче в памяти тигриные фермы. Чуть ли не дачи с усадьбами для семей уссурийских кошек. Чистые, здоровые, будто бы довольные существованием, они плодились и размножались, растили сто пятьдесят тигрят для золотой торговли. На обширных пространствах с камнями, водами и деревьями проживали стада обезьян, средних и мелких. Часами глядели на обезьянью жизнь зрители, тут были представления на любой вкус, все обезьянье и все людское: и борьба за власть, и помыкание слабыми, и интриги, и любовь, и добронравие, и подлость… Публика прогуливалась в зоо степенно, и дети, казалось, вели себя степенно, хотя иные озорничали и капризничали. Но к обеденному времени началось некое брожение, все готовы были куда-то устремиться. «Что-то случилось?» — обеспокоились мы. «Львов и тигров будут кормить», — объяснил мальчишка с мороженым. Вот-вот должно было начаться великое ежедневное действо — кормление владетельных хищников, царей природы, ее курфюрстов и маркграфов. Толпа в волнении, но все же опять степенно, без московских напряжений, перебежек и толкотни, двинулась к старому и, по здешним понятиям, тесному строению. Внутренний двор его — зрительный зал — окружали клетки с оголодавшими к обеду хищниками. Действо вышло из трех актов. В первом было много драмы, движения и звуков. Звери, каждый обнаруживая характер, а кто-то и производя впечатление на публику, ожидали и требовали мяса. Они будто бы и собраны были в тесном павильоне ради этих ожиданий и требований. Нервно ходили из угла в угол клеток — кто в свирепом молчании, кто рыча и предъявляя клыки убийц. Мавр Отелло, якобы доверчивый, на самом же деле очень расположенный выслушивать подлые наветы, вполне мог бы получить уроки страстей у лейпцигских трагиков. Но вот начался акт второй. Явились служители, привезли мясо на площадках автокаров. Животные при этом совершенно озверели. Служители с пластикой герольдов саксонского двора пиками подавали куски мяса в межпрутья решеток. Какие это были куски! С обилием мякоти и с мозговыми костями для неспешных удовольствий. Прозаизм человека, выросшего в очередях Мещанских улиц, заставлял меня прикидывать, сколько в обеденных парных кусках было килограммов. Я отругал себя. Стыд какой! Разве можно думать здесь так? Я уговорил себя увидеть в происходящем ритуал с жертвоприношением и с признанием людской вины перед существами менее хитрыми, нежели мы. А существа эти урчали, грызли, жевали, рвали сочно-красную плоть существ еще более слабых. Впрочем, скоро наступил акт третий. Лев зевнул и, положив голову на лапы, придремал. И прочие звери успокоились, прилегли, вступили в благодушие послеобеденного сна. Один леопард не притронулся к мясу: как бродил до обеда по клетке в тоске и злобе, так и теперь бродил; возможно, был подан пикой ему недостойный кусок мяса, возможно, и не мысли о трапезе терзали его душу. Страдания леопарда уже не трогали публику, она потянулась в павильон с бегемотом — уроженцу Танзании должны были привезти зеленые угощения. А я пошел исследовать свойства лейпцигского пива в сочетании с горячими боквурстами.
9
В зоопарк на Большой Грузинской я не заглядывал лет десять. Но встретил как-то Красса Захаровича Болотина, и меня что-то толкнуло зайти туда. А зачем — и не знаю. Жил я теперь не в Останкине, а в Белом городе, Красса Захаровича встретил на Тверском бульваре. Был он в клетчатом пиджаке и в клетчатой кепке. Сообщил между прочим, что у него выходят две книжки — «Родные хляби» и «Жизнь в клетке», и он идет нынче в издательство за версткой одной из них.
— «Жизнь в клетке»? — переспросил я.
— В какой клетке! — Красс Захарович будто испугался. — Ты не так расслышал! «Жизнь в клетку»!
— А-а-а, — оценил я его кепку и пиджак.
— А что-то ты несколько лет не являешься на субботники в зоопарк?
— Десятку посылаю в фонд, — сказал я. — Так вернее.
— Экий ты барин… — поморщился Болотин.
— Отчего же барин? Наш рабочий день оценивают в десятку. А я-то и ее не вытягиваю…
Вот тогда меня и потянуло и зоопарк. Лучше бы я туда не ходил. Грустно мне стало у пресненских прудов. Убогим и нищим увиделся мне московский зверинец. В детстве все в мире для меня было вольнее и просторнее, и жизнь здесь птиц и зверей представлялась чуть ли не отрадной. Стыдно мне не было. А было интересно. Взрослым в дни субботников я приходил сюда как бы по делу, через двор хозяйственный, и жителей зоопарка мог во внимание не принимать. Мог отвернуться от дикобраза или кота манула до них ли мне? А нынче я был посетителем, да еще и побывавшим в сытом лейпцигском зоо, нынче на дикобраза и серого камышового кота манула я и должен был глазеть. И я загрустил. Пришли на ум давние сетования о несовершенствах природы и людских устройств, с ними я и бродил вдоль прудов, пока не столкнулся с мчавшимся куда-то Германом Стрепуховым. Герман Стрепухов, доктор наук, губастый Трепыхай, все в той же приплюснутой, надвинутой на брови зеленой колониальной панаме, был мне рад, но спешил. «Давненько мы с тобой не виделись, давненько, — отметил Герман. — Никак мы с тобой не посидим, школу не вспомним, а надо бы обязательно посидеть. Но не в ближайшие дни». В ближайшие дни у Германа было множество хлопот — симпозиум в Индианаполисе, хлопоты с чертежами электрических каминов («Конверсия, брат, конверсия, куда денешься!»), осмысливание кооперативных идей, в частности, греет его мысль учредить вместе с зоопарком кооператив «Меньшой брат» — будет куда пристраивать навоз и прочие отходы. «Это ведь ты надоумил меня с навозом!» — напомнил Стрепухов, то ли радуясь, то ли укоряя меня. Сразу же он сообразил, что куда-то мчался. Жена его совершенно помешалась на трехметровых пятнистых кабачках («Отрежешь половину, а он растет дальше»), но оказалось, что для них полезнее навоз не из-под хищников, а из-под парнокопытных. Договариваться о парнокопытных Трепыхай и бежал. «Ну бывай!» — крикнул он и унесся.
Энергия одноклассника несколько воодушевила меня и заставила подумать, что в мире не все дурно. Морской лев, гладко-блестящий, резвился в водах, где некогда обитала моржиха Барон, и выглядел благополучным. С отцом и матерью ходил по осенней, но еще живой траве, тыча клювом в воду, вылупившийся здесь же, на Грузинской, журавленок. Неподалеку под табличкой «Лебеди текущего года рождения» грелись в спокойствии бабьего лета крупные серо-бежевые птицы, шеи их вовсе не были хрупкими. Шумели за решеткой, волнуя ученую птицу-секретарь, перепархивая с ветки на ветку, попугаи в зеленых, синих, желтых, красных нарядах тропических щеголей, пестрые лори, особи амазонские и александрийские. Птица-секретарь с пером писца за ухом поводила головой, будто осуждая беззаботность попугаев. А впрочем, осуждение это могло быть напускным. Все жили, жили, жили как могли и умели. Пусть и в клетках. Я было возрадовался. Но тут увидел за мелкой металлической сеткой существо знакомое, нахохленное и обиженное: «Воробей обыкновенный». Другие воробьи обыкновенные, но упитанные и добродушно-наглые, а вместе с ними и голуби шлялись по асфальтам дорожек, залетали ради развлечений и продовольствия куда хотели, но ненадолго: иметь постоянную прописку обитателей зоопарка они вряд ли желали. А вот их сородич, представляющий за сеткой отряд воробьиных семейства ткачиковых, меня опять опечалил. Я стоял, стоял, смотрел на него. Обыкновенный и в клетке. Не потому ли и обыкновенный? Потом пошел дальше. Лишь у загона патагонских лам грустное движение мое было приостановлено.
— Эй, ты еще здесь? — закричал мне из загона Герман Стрепухон. — Ты самосвал не можешь достать?
Нас разделяли прутья ограды и мелкая решетка сетки. Я ли стоял за прутьями, он ли — за ними, имело ли это значение? Ограда была сама по себе.
— Откуда у меня самосвал? Ты однажды спрашивал.
— Ну ладно, — сказал Герман. — Навоз хорош. То, что надо. И мелкозернистый. Лучше усвоится. Побегу добывать транспорт.
— Удач тебе.
Герман поспешил в глубь загона мимо дремавших в крапиве лам, но обернулся и крикнул мне.
— А ты не пропадай! Надо посидеть! Созвонимся!
— Созвонимся, — согласился я. — Отчего же и не созвониться?
1989ЭССЕ
Распятие и воскресение Татьяны Назаренко
1
Был в Москве Успенский вражек. На его берегах живет Татьяна Назаренко. Из окон кухни художницы видна с золотом купола морковно-малиновая церковь Воскресении Словущего, что на Успенском вражке. Первая треть семнадцатою пика. Прежде тут непременно восходила из столетий церковь деревянная. Из окна мастерской — иной вид. Вертикаль Иванова столпа, купол казаковского сената, кубы и параллелепипеды министерств и телеграфа, двор композиторского дома, гаражи и рядом с ними — опять церковь. Но униженная, примятая, испустившая дух, приведенная в гражданское состояние способом отсечения глав, ныне в ней — общежитие телефонных автоматов, лишь белая колоколенка просится в небо шатром-укором. Вспомните «Московский вечер»…
Уголки Успенского вражка одни из самых спокойных и уютных в Москве. Особенно в безветренный день с солнцем. Приятно пройти Брюсовым переулком (когда-то Вражским), ныне улицей Неждановой, миновав при этом дворцы Брюса и Меншикова (внуков, но все же). Тихий переулок, будто и не впадает он в грохотно-державную улицу, придремавшие автомобили у подъездов, починка обуви и оптики, мемориальные доски во множестве, зелень в сквере, цветники и чистые дорожки, счастливо-нарядные дети резвятся при бабушках у песочниц, псы дорогих пород прохаживаются с достоинством и по праву — «выгул собак разрешен». Церковь Воскресения стоит ухоженная, реальная — в ней служат, но и как бы декоративная — до того благополучной выглядит она, будто бы знак благополучия, хоть лепи ее на патриарший календарь, потому и водят к ней иностранцев, и нашего московского интеллигента, пребывающего порой в душевных сомнениях и раздрызгах, она, возможно, устраивает именно своим благополучием, он в минуты порывов, хоть и состоит в атеистических кружках, вводит себя в нее как бы невзначай, как бы посмотреть, но с полутайным намерением приблизиться ненадолго к самому себе и к существенному в мире, а заодно, на всякий случай, и поставить свечку. (Церковь Воскресения можно увидеть и на холстах Назаренко. И будет повод об этом напомнить.) А мимо нее шествуют люди, служивые и творческие, кто в сертификатном виде, с дипломатом в руке, кто с папкой нот или инструментом, кто перетекая из одного чиновного дома в другой, кто в дома музыкальные. А вот степенно прогуливается благородной осанки, с благородными сединами, прекрасно несущий костюм (как его назвать?.. не мужчина же… не гражданин… Господин?.. Сударь? Джентльмен?..) человек… Иван Семенович Козловский. Поклонимся ему… Если принять во внимание приобретения века (в архитектуре, технике, способах существования, понятиях красоты) и сделать поправки, здешний уголок вполне можно посчитать сегодняшним поленовским московским двориком. То есть уже не поленовским.
Но что это за дворик, что это за тихое место, скажете, если тут спешат, несутся куда-то люди! Позвольте, удивлюсь, какие же это москвичи, если они никуда не спешат и не несутся? Век-то их чему учил? Впрочем, верно, не все здесь тихо и не всегда было мирно. Можно, следуя совету Генри Джеймса, произвести поворот винта, и надвинется на нас иная сущность Успенского вражка. Или одна из его иных сущностей.
Но тогда нас пронзят, пронижут века, и нутро здешних домов, недра их опрокинут на нас свою память и свои горести. И тогда наш соскользнувший с камней взгляд напомнит, чьи имена на мраморе досок. «Здесь жил и работал…» «Здесь жил и работал…» Среди прочих: Качалов… Леонидов… Мейерхольд… Шостакович… И придет на ум. В этом доме графа Гудовича квартировала мать каторжников Никиты и Александра Муравьевых, друзья и родственники мятежных братьев приходили сюда ради вестей из Сибири. А в этот серый дом никогда не вернулся неистовый Всеволод, доктор Дапертутто, арестованный в Ленинграде. Но вот, вот с крыши, наверное, ближнего флигеля пробирались в его квартиру убийцы с государственным поручением прирезать лишнюю Зинаиду Райх. А в ста метрах отсюда впервые произносил звуки великой и трагической музыки рояль Дмитрия Шостаковича. Упомянуто было: в обезглавленной церкви размешены нынче телефонные автоматы. Оно так. Но это не простое общежитие техники, а место междугородных общений, и являются сюда люди не случайно и не каждый день, а для разговоров особенных или чрезвычайных. И слышатся здесь исповеди, объяснения в любви, причитания и плачи при вести о гибели близких. Сгустки людских энергий, надежд и болей бьют в высокие своды мирского помещения, будто бы готовые разнести, разорвать их. Странные метаморфозы сотворяет время. И вот одно из них. Храм и пункт междугородной связи. И по-прежнему — вместилище духа и страстей человеческих… Но двинемся дальше… Тот благородный человек с благородными сединами… Он уже не степенен. Он в лохмотьях, с цепями вериг. Он рухнет сейчас на паперть церкви Воскресения. Юродивый. Слезы на его глазах. И не от того слезы, что дети, игравшие недавно под надзором бабушек, бросятся к нему отнимать копеечку. Мысль о родной земле тяготит его. Горе, горе Земле Русской. Смутное нынче время, смутное… Коли будут неприятны страдания Юродивого, можно и отвернуться. Но отвернувшись, мы увидим здание стиля соцклассинизма архитектора Н. Ловейко, несколько лет назад в одном из сановных кабинетов здесь сидел Чурбанов… А чуть подальше, по местному преданию, в невысоких постройках командовали ГУЛАГом… Люди, спешащие мимо нас с дипломатами и папками нот, тоже будто бы стали иными, будто нам открылось истинное в них… Больно, тяжко, стыдно… А ведь можно произвести и еще один поворот винта, и нахлынет здешнее, но из четвертого или седьмого измерения, с неслыханными существами, с чудесами, с пересечениями пространств и времен, с упырями и демонами, с ведьмами и ангелами, с музыкальными снами и угрызениями совести, с гулом подземным, с внеземными диковинами. Впрочем, некогда. Надо спешить в булочную на улицу Станиславского отоваривать талоны на сахар. Туда мимо церкви Воскресения ходит за хлебом Татьяна Григорьевна Назаренко.
2
Как старательный читатель, я не раз заглядывал в «Именные указатели» выпусков «Советской живописи» (издательство «Советский художник»). Маши-нально глаз схватил: возле фамилии Назаренко каждый год цифр куда больше, нежели у других фамилий, порой хорошо известных. У кого-то одна цифра (номер страницы, где упоминается…), а у Т. Назаренко четыре-пять строчек таких цифр. Ну и что, скажете? Экая ерунда! «В нашем веке самое важное быть упомянутым», — произнес критик. Но ведь он язвил… Ерунда, однако в ней отражение чего-то. Удивительно постоянно Т. Назаренко поминают в статьях не схожие по взглядам искусствоведы. Кто-то ее ругает, кто-то хвалит. Предметы статей самые разные, одни — о каких-либо выставках, другие — о станковой картине, третьи — о жанре историческом, четвертые — о карнавализации, о проблеме героя, о проблеме зрителя, о прочем, прочем. И для иллюстрации своих идей на ум авторам то и дело является Т. Назаренко (или ее призрак) — кому-то для разбора или расправы всерьез, кому-то чтобы ухватить на лету убедительный для коллег пример. И выходит — существует явление Назаренко, феномен Назаренко, а статистика «Именных указателей» именно это и отражает.
Но долго было так. Назаренко есть, и ее нет. О ней пишут и спорят, но ее не знают. Вешали ее картины в залах, чаще по одной-две на выставках, «датных» или Большой Державной Тематики (вдогонку утомившемуся в боях соцреализму), иногда поболее — например, пять на замечательной «Выставке 23-х» в 1981 году. Но и при малом выходе в свет работ Т. Назаренко ее заметили, помогли тут и журналы. «Творчество», «Юность» прежде всего, имя ее в публике попало «на слух». (Соответственно возникла и легенда. Красивая женщина, нечто ведьминское в глазах, богема, член редколлегии дефицитного «Журнала мод», любительница острых ощущений, карнавалов, маскарадов, новогодних ночей, горных лыж, подводной охоты, верховой езды, чуть ли не амазонка, стрелялась с кем-то в Татьянин день или не стрелялась, и прочее. Об интересных людях вечно сочиняют легенды. О серых тоже сочиняют, но скучные или ехидные.) А истинную живопись Назаренко в ее развитии и нее совокупности знали человек двадцать — тридцать. Ну пятьдесят. Я в их число не входил. Увидел лет пятнадцать назад репродукции «Казни народовольцев» и «Моих современников» и стал за творчеством Т. Назаренко следить.
Случай с Назаренко не какой-то особенный и удивительный. Вовсе я не хочу выделить ее судьбу из сотен судеб. Просто удивительно положение художника (возьмем живописца) в нашем обществе и культуре. Постыдное для общества. Надо иметь «выслугу лет» или возраст ближе к пенсионному (не важно, хороший ты художник или плохой, на этот счет указующий перст у времени), чтобы получить возможность открыть себя публике или, если хотите, народу. То есть право на персональную выставку. Может, для самих художников это дело привычное и говорить о нем — дурной тон, но для людей со стороны, зрителей, все это странно. В литературе, выходит, проще? И без итогового собрания сочинений, по публикациям можно понять, что за писатель перед тобой. И был самиздат. Конечно, и в нашем деле есть несокрушимые стены, надзирающий глаз, прессы и гнеты, унижения, интриги, очереди и досады, но не четверть же века надобится для выхода к широкому читателю (естественно, при «мягком» климате эпохи). Причем Назаренко из мастеров относительно удачливых. На чей-то взгляд, может, и баловень судьбы. Да и напор свойствен ее натуре. Однако со дня ее дебюта до большой личной Московской выставки прошло двадцать три года. Очень мы прохладны и высокомерны к своим талантам. Сейчас мы по рельсу колотим, возмущаемся тем, что возведенных временем в классики десятилетиями не выставляли, а работы их, ценой ныне в миллион, раздаривали или расторговывали за копейки. Не придется ли лет через двадцать ахать и выклянчивать для выставок в Москве из музеев Нью-Йорка, Франции, Западной Германии полотна и скульптуры нынешних «гадких утят»? А сами-то где мы были и где мы есть? И в наши дни страна может потерять существенную часть своего художественного клада. Лучшие галереи наши либо на ремонте (заодно с библиотеками, театрами, консерваторскими залами), либо они для современных работ — запасники. У нас просто нет музеев современного искусства. Ни чужого, ни своего. Стыдно. Миллионер П. Людвиг (ФРГ), промелькнуло в печати, хозяин многих бывших московских и ленинградских полотен (в их числе и работ Назаренко), намерен такой музей в Москве устроить. Какая же мы, выходит, бестолковая и безрадостная провинции! И не в нашем ли городе жили Третьяков, Щукин, Морозов, Цветаев?
3
Но, может быть, тут отражение жизненной правды? Что людям сейчас до каких-то холстов, гобеленов, фигурок из бронзы или гипса? Среди живописцев ли искать властителей дум? Да и когда они ими были в последние полвека? Теперь-то и вовсе публика читает, читает, ну еще и слушает. Приключения с подпиской прошлой осенью вызвали досаду, волнение в умах, страхи: не конец ли гласности, не сказано ли нам: «Обходитесь без мяса, обойдетесь без слова»? «Не обойдемся!» — прозвучало ответом. (А летом к слову добавилось и действо, телевизоры в пору съезда депутатов не выключали.) Да и в годы тихие, «равнинные», с утопленными страстями и надеждами, люди обращались прежде всего к слову, современников ли, редкому, но сохранявшему честь литературы, или к слову прошлому, упрятанному, закопанному, но и в тайниках и оковах — живому, благотворному. Честное, талантливое на сцене, на экране, в залах музыкальных тоже вызывало отклик в душах.
Или хотя бы волны интереса. А рвались ли люди в залы выставочные? Случалось. Рвались.
Но чаще всего из-за произведений приезжих. Имеющих вековые репутации, доступных «простому» человеку для обозрения, возможно, раз в его жизни. Спасибо за те выставки и за угощения шедеврами. (Правда, в очередях на Волхонке всегда стояло много служивых дам, меньше — служивых кавалеров, вырвавших в учреждениях билет на сеанс, у картин они не задерживались, а утекали в магазины или куда надо, благо было время, но суету в толпе создавали.) Иногда разговоры в публике вызывали и выставки отечественных художников. В особенности если гремели скандалы. Никиту Сергеевича, скажем, доставили на мосховский юбилей в Манеж, и случилось бушевание. Или бульдозерами отрецензировали выставку авангардистов. «Караул устал…» Или что-то там вышло на Малой Грузинской. Что — неизвестно, но вышло. При этом скандальные работы оставались от ведущих о них разговоры в отдалении, что они такое — никто и не знал. Есть, конечно, среди живописцев и личности, их немного, поднявшиеся в сознании их поклонников до уровня самих Юлиана Семенова, Валентина Пикуля, Анатолия Иванова и Иосифа Кобзона, у них происходили выставки в престижных залах, и там толклись. Но интересы и вкусы у патриотов тех выставок были специфические. На выставке Д. Левицкого я долго бродил рядом с подобными любителями. Блистательный Дмитрий Григорьевич оказался для них иллюстратором В. Пикуля. Только что вышел «Фаворит», и тут кстати подоспел какой-то Левицкий со своими картинками. Слышались реплики: «Вон та жена Гришки Орлова, невзрачная баба-то, а вон та, помните, мужиков пробовала для Екатерины, а вот тот по утрам опохмелялся щами из бутылки…» Прикасались к «истории», об искусстве речи не шло… Погруженные в мир обласканного рекламой собственного мастера купеческого портрета, ныне еще и названного художником коммерческо-благотворительным, восхищались ювелирными изделиями и мехами — волос к волоску, как живые — влиятельных и «нужных» персонажей. Не об искусстве и сущности рассуждали и на выставках И. Глазунова. В раскрасках, многометровых и среднескромных, пытались углядеть известные лица, их символику и роли во внутрикартинных концепциях, намеки, толковали их не столь упрощенно и простодушно (как, скажем, поклонники В. Пикуля), а в стараниях возместить хотя бы и разговорах неутоленность в правде об истории Отечества и драматизме бытия. Но расчетливые иллюстрации к истории, снабженные потеками крови, в частности, и оттого, что жидкость в этих потеках казалась притворной, вишнево-клюквенной, чуть ли не сладкой, ощущение драматизма бытия не создавали. Суждение здесь, естественно, субъективное. Но убежден, что первичными в причинах горячности разговоров были — злоба дня, собственная неудовлетворенность явлениями жизни и культуры, а не самодостаточность, самоценность предложенного искусства.
За два года открылись сундуки и короба. И в истории, и в философии, и в литературе, и в кинематографе, и в музыке. И в искусстве изобразительном. Во всеобщем возвращении к здравому смыслу, к реальностям жизни и культуры происходили ломки установленного и высветления вершин. С иронией, увы, печальной, оглядываемся на клетки соцреализма, при которых, впрочем, в вольерах лояльности сытно и удачливо паслись Н. Ефанов, Ф. Шурпин, А. Герасимов, С. Бабаевский, И. Пырьев и прочие. Случались нынче и крахи. Некто, скажем, числившие себя номером один, или два, или три среди духовных пастырей Отечества, а в реальности оказавшиеся в седьмом десятке, впадали в апокалипсические состояния, обнаруживали тут же гражданскую войну в искусстве и происки коварных вражин. Бог с ними. Таких и пожалеть стоит. Хотя они и теперь при секретарских эполетах и штанах с лампасами. Однако все ясней становится, кто есть кто и в ком есть в обществе потребность. Уровень ценностей приподнялся. И еще будет что достать из закромов. А ведь и теперь явили публике Лентулова, Шагала, Филонова, Малевича, Кандинского, по-иному будут поняты и канонизированные мастера (М. Нестеров, например, со вновь «рассмотренною» публикой «Душой народа», Кустодиев, Петров-Водкин).
Возвращаются долги прошлому («отложенный штраф», по хоккейной терминологии), возвращается Отечеству пласт культуры, без которого движение к реальному существованию невозможно. Но как успеть нам, должникам, все достойное прочесть, прослушать, посмотреть и осознать? Как все в себе вместить и совместить со страстями и заботами дня летящего? Да еще имея под рукой свежие номера газет и журналов. Пытаясь переварить пропущенное, не отнесем ли мы то, что делается сегодня в литературе и искусстве, в свой следующий долг? Не вызовет ли это сегодняшнее лет через двадцать — тридцать запоздалые открытия? Тем более что можно успокоить себя, посчитав, что ничего путного сегодня и не делается. Разве есть тут уровни «Котлована» и «Реквиема», Мандельштама и Булгакова? Какое там. Сплошной электрический гром массовой культуры, наводнения растаявших ледников авангарда, «митьки» с ухмылкой питерских швейков, сочинения-чернухи на злобу дня. Ну, если только Шнитке…
4
При таких обстоятельствах и открылась выставка Татьяны Назаренко. (По соседству — французский авангард, этажом выше — Т. Яблонская, «через стену» — долгожданный московско-ленинградско-мюнхенско-нью-йоркский В. Кандинский.)
Татьяна Назаренко — из «семидесятников». При этом она одна, сама по себе. Она из поколении «начитанных», иные ее полотна вызывают мысли об известных мастерах (Брейгеле, Ван Эйке, др.), но тут не заимствования и не подражания; обращения к мастерам необходимы ей в ту или иную пору для разговора с ними, или для опоры из них, или для смысловой цитаты («цитировали» Моцарт, Чайковский, «цитируют» нынче Щедрин, Шнитке). Она беседует с мастерами, но она — одна, сама по себе. Она одна, но в ней — множество Татьян Назаренко.
Эти множества Татьян Назаренко и были известны любителям чуть ли не четверть века. Они и вписывались в движение «семидесятников» разных настроений по выставкам и времени. Тут — поначалу — и некое отталкивание от «сурового стиля». Тут и увлечение уроками Д. Жилинского и В. Попкова. И использование (с иронией непременно) приемов «примитива» и лубка. И «карнавально-балаганное» направление. И стремление возродить ценность сюжетной картины. И, конечно, погружение в отечественную историю.
Назаренко — из «семидесятников». Но талантливый художник, следуя совместными дорогами со сверстниками, рано или поздно должен выбрести на тропу Одиночества, стать Единственным, вырваться из плена времени (хотя он все равно в нем останется), тогда он и будет не только лишь перечисляемым представителем группы или поколения, а приобретет самостоятельную ценность для искусства и для общества. Но чтобы понять это, надо иметь возможность увидеть сделанное художником.
Множество Татьян Назаренко после долгих хлопот и мытарств собрались вместе и отравились на выставки в Одессу, Киев. Львов и ФРГ. И вот, наконец, «соборную» Назаренко нам показали в Москве (перед путешествием ее работ в Нью-Йорк). «Соборную», цельную, но, надо полагать, не застывшую, а продолжающую существование человека и художника.
5
Теперь и я, возможно, был из тех тридцати — пятидесяти любителей, которые судили о Назаренко не понаслышке и не по пяти репродукциям. Я видел, что делала Татьяна Григорьевна в последние десять лет. Сам оказывался ее персонажем. В частности, и с пивной кружкой в руке. Думал, знаю, что и как будет на выставке.
Я пришел на Крымскую набережную и…
Не в суете вернисажа, естественно, возникли мои волнения. Там шумели, теснились. Но не было грозы.
Людям свойственна чуткость к энергетическим полям. По самонадеянности или вследствие собственных воображений я полагаю, что чуток к ним. В особенности на улицах Москвы, в замкнутых пространствах, в залах музыкальных и выставочных.
Назаренко получила на Крымской зал-пенал. Коробку-футляр для гигантских шприцев. Товарный вагон. И предзалье. Когда я ходил в этой теснине (а было у полотен человек сорок), я ощущал какое-то томительное напряжение, и будто нечто острое, бьющееся от стены к стене, от картины к картине, пересекающееся с изменением направлений, пронизывало меня. Я поднялся этажом выше. Там была тишина красоты. Тропинки в снегу вели к уюту украинской хаты. Ласковые овалы зелено-лиловых холмов обещали спокойствие. Певучая доброта. И сожаление о чем-то… Я направился к Кандинскому. В космосе его зала звучала музыка (она и на самом деле звучала), и происходило некое колыхание среды, перетекавшее в дальние сферы Вселенной… Вернулся в зал Назаренко. Все то же напряжение, все те же пересечения энергии, пронизывающие и меня.
Молнии возникают не в одной лишь земной атмосфере. Молнии возникают и в атмосфере душевной или духовной. И дело было не в тесноте зала. Живописные, смысловые и даже информационные сущности (или, по афинским мыслителям, «чтойности») собранных здесь полотен находились во взаимодействии друг с другом (и со зрителями, хотя бы с одним из них) и обладали способностью исторгать разряды разных свойств, «положительных» и «отрицательных», отчего и возникали молнии. В зале беззвучно стояла гроза.
Назаренко — художник трагический.
В искусстве распространился тип человека, бьющего себя в грудь, заявляющего, что ему стыдно, что в годы застоя он был нехорош, лгал, угодничал, больше не будет и просит его простить. Конечно, русскому интеллигенту всегда присуще чувство вины за все дурное, что происходило при нем в обществе. Да и вообще за все несовершенство мира. Но я знаю многих людей, которым не должно быть стыдно за то, что они делали (в своем творчестве) в годы неприличий. То есть профессионально они могли сделать все и лучше. Но от таких неудовольствий никогда не уйдешь. Однако были люди в любом роле деятельности, какие не лгали, позволяли себе быть честными, то есть быть самими собой, и им теперь не стыдно.
Полагаю, что не стыдно художнику Татьяне Назаренко.
Она — живописец трагический. И светлый. Банальность, скажете. Посоветуете припомнить еще: «Печаль моя светла…» и т. д. Есть в ее полотнах и светлая печаль. Но есть и свет иной, горячо-обнадеживающий. Или хотя бы просветы…
При попытках холодным исследователем рассудить и назвать свои ощущения («молнии», «напряжение», гроза, «правда о жизни», «свет») я растерялся. Для моей профессии важнее всего слово и мысль. На ум приходили литературно-смысловые толкования работ Назаренко. «Приятно ли будет, — подумал я, — узнать об этом художнику?» Наблюдал, как морщились композиторы, выслушивая словесные переводы их симфонических опусов. Музыка самостоятельна. Архитектура самостоятельна, и никакая она не «застывшая музыка». И живопись — самодержавна. Я не вытерпел, позвонил Татьяне Григорьевне, она нисколько не была обижена, напротив, она и рассчитывала на то, чтобы в ее работах зрители-собеседники (соучастники) разглядели смысл и сюжет, и это для нее очень существенно. А я вспомнил, что и на выставках Малевича, Кандинского, там, где уж «чистое искусство», где, казалось бы, главное — цвет, линия, мелодия, прием, я не раз занимался литературными разъяснениями их опытов. Да что я! И от экскурсоводов я слышал слова: революция, судьба, космос. Любой художник вписан в контекст истории, в восприятии потомков судьбы художников «помещены» в обстоятельства прошлого, взращены ими или погублены и от этого приобретают дополнительную ценность и смысл. И каждая их работа не существует для нас сама по себе, а «наложена» на сюжет драмы истории, борьбы художнических идей, судьбу автора и вызывает в нас не только эстетические, но и социально-нравственные чувства. «Черный квадрат» для нас уже не тот «Черный квадрат», каким он был для зрителей в 1915 году. Другое дело, что, не зная срединной сути своего времени, многих его явлений и тайн, мы часто воспринимаем его неосмысленно, между прочим, лишь как некую среду пребывания, и не «прикладываем» его к творениям сегодняшним, в особенности кажущимся элитарными. Но есть мастера и есть работы, которые сами высвечивают современникам суть их существования. Называют его.
Но что я все о сути, смысле, «чтойности», сверхзадаче? А собственно живопись как? Есть ли она при этом? Ремесленных иллюстраций ко всяким политическим или нравственным идеям и соображениям нам хватает. Высказывания Назаренко о жизни исходят из живописи, в живописи растворены и живописью обеспечены. Об этом уважительно сказано искусствоведами и коллегами Т. Назаренко. Добавлю только, что она мастер вольный. Порой и озорной. Может быть, она и мученица у холста, но кажется, что пишет она в свое удовольствие. Она свободно меняет манеру и приемы письма, способы обращения с цветом, техника позволяет, она выбирает художническую стихию, какая нужна ее мысли, руке и глазу именно для этого сюжета или состояния. С озорным желанием доказать, что она пишет натуру не хуже «фотографов», она создала обманку «Реклама и информация» (ныне собрание П. Людвига, ФРГ). В нашем цехе, как бы кого ни бранили, если вдруг спорщики сходятся на утверждении (не частом): «Да, но ведь это литература», — спор стихает. И оппоненты творчества Назаренко, не принимающие, в частности, картину «тематическую», соглашались: «Да, но ведь это живопись».
В этой живописи — жизнь людей и жизнь человека. И судьба художника. Я иронизировал. Зал-пенал. Зал — товарный вагон. Потом подумалось: а ведь это ущелье базилики. Или неф-корабль малого храма. Или — капелла. «Соборной» Назаренко предоставили персональную капеллу. «Крымская» капелла Назаренко… В «алтарном» месте ее оказался костер Пугачева. Напротив, на условной «западной» стене, мы увидели Музей революции, Склад революции, как некий символ общественных идей и их состоявшихся воплощений, а справа и слева от него старых людей, или участвовавших в революции, или просто живших в определенных ею обстоятельствах. Грустное это зрелище, уважаемые. А рядом, уже на «южной» стене, видение возникало более бодрое — стояние за большим столом людей (они — маски, но и типы из разных слоев) с рюмками, бокалами, кружками, стояние долголетнее — Великое Застолье, с пустыми разговорами и иллюзиями. Не знаю, случайно ли возникла «ось» Пугачев, Суворов (во главе конвоя) — Музей (склад) революции. Великое Застолье, или тут была режиссура, но так или иначе она, «ось», стала для меня существовать как некое структурообразующее начало. При этом мое воображение все время дополняло убранство стен недостающими на них работами Назаренко: «Казнь народовольцев», «Восстание Черниговского полка», «Партизаны пришли», «Мои современники», «Узбекская свадьба», «Московский вечер», «Праздник», «Фиалки» и др. На пространствах стен «северной» и «южной» не было отчетливых сюжетных циклов, а была стихия искусства и жизни, с непременным взаимодействием полотен в этой стихии.
На полотнах же этих — тишина предстояний, внутренней сосредоточенности человека или нескольких людей. И шум народного улья. Назаренко часто пишет многолюдье, движение толпы в пору праздничную, и в пору беспечно-бездарную, и в пору трагедийную. Ее радуют краски, гулы, ритмы искреннего людского веселья («Проводы зимы», «Узбекская свадьба», «Новогоднее гулянье», «Маскарад»). Она иронична, изображая суетные и простодушные развлечения горожан, не знающих, куда деть себя в бестолковщине жизни, но не зла, и сама она — всегда в толпе («Танцплощадка», «Гулянье в Филевском парке», «Весеннее воскресенье», «Воскресный день в лесу», «Товарищеский обед» — эпизод все того же Великого Застолья, горько-пародийная перекличка с колхозными праздниками изобилия соцреалистов). Она останавливает толпу в возобновленных ее воображением мгновениях исторической драмы («Пугачев», «Казнь народовольцев»). Народные сцены в зале на Крымской набережной были слиты, сопряжены с картинами «личной» жизни, составляя с ними очевидную целостность. А в них — люди любили, пестовали детей, расходились при долгих прощаниях, понимали и не понимали друг друга, слушали музыку, слушали собеседников и слушали себя, думали о смысле человеческого бытия, вспоминали, хоронили близких, замирали в предощущениях вечности, просто жили, праведно и неправедно. Среди их жизней, неотделимо от них, проходила, представленная нам, и жизнь художницы с ее заботами о сыне Николке, с ее отношениями с бабушкой, с ее азартной натурой, с ее разладами и ее любовью, с ее делом. Лукавые слова, скажете. «Неотделимо от них…» Да ведь все они — толпы, Пугачев с Суворовым, декабристы из Черниговского полка, народовольцы и их палачи, партизаны, снимающие с виселицы товарищей, нынешние быковские дачники, совместившие себя с чеховскими героями, девицы, разделывающие рыбу на Шикотане, панки на Николкином дне рождения, одряхлевший старик у одряхлевшего «Запорожца» без колес, джинсово-механические танцовщицы — это ведь все она. Одна.
Верно. Она. Одна она.
В искусстве равны все способы и объекты изображения (не равны субъекты, творцы), и, написав (описав) травинку, или навозного жука, или обломок металлической трубы, можно создать шедевр и угадать нечто существенное об эпохе и вселенной. Нет нужды говорить о важности суверенных пейзажа, портрета, натюрморта, опытов авангарда. Во всем может быть проявлено дарование. Талант же Назаренко, дар и обуза, хмель и вериги, таков, что она «обречена» запечатлевать зрительный ряд событийного потока жизни и состояний души. Исключительного в этом ничего нет. Хотя нынче сюжетных художников-композиторов не так уж и много. Обожглись на сгущенно-приторном молоке соцреализма. Но для Назаренко сюжетная живопись (пусть и не всегда с видимым действием) — естественная необходимость. Свобода и бремя. Сюжеты ее вызваны реальностями семидесятых — восьмидесятых годов. Светлейший бровеносец произносил «социалистические страны» так, что определил жанровое состояние общества. Но жить одним фарсом было нельзя, не оскорбляя самих себя. Я тут имею в виду людей совестливых, не увлекшихся устройством бытовых изобилий и удобий, а озабоченных несовершенством дел в Отечестве. Иные из них, малая часть, становились духоборами поступка, большинство же, соблюдая этикет установленных «приличий», просто жили в тихом инакомыслии, полагая, что рано или поздно перемены произойдут. Когда — неизвестно. Великое Застолье — Великое Застойе. В картинах Назаренко есть ирония, есть гротеск, но не они главное. Даже там, где резко говорится о бездуховности («Танцы», «Витрина»), очевидно сострадание, художница жалеет двух благополучных на вид танцующих автоматов, можно предположить, какая у этих «роковых» баб пойдет далее сладкая жизнь. Приятные же Назаренко персонажи в двусмысленном, искаженном существовании обращаются, как к спасению и опоре, к ценностям вечным, общелюдским. Свое понимание жизни художница растворяет в их раздумьях и судьбах. В них и ее хождение по мукам людским — «Свидание» (больница, приговоры и милосердие), «Чаепитие в Поленове» (прощание с хорошим человеком и мысли о смерти), «Воспоминание» (снова прощание и беззвучный плач у семейной фотографии, «порезанной» тридцать седьмым годом). В них — и необходимость перепроверить идеалы ушедших интеллигентов, дедов и прадедов, уяснить, о чем они грезили и что вышло («Лето в Быкове»). И — столь распространенное ныне воссоединение с прошлым, с намерением отыскать там правду, найти ответы на вопросы о человеческом достоинстве, свободе, выборах воли и плате за все. Исторические полотна Назаренко (по поводу их высокомерно кривились, их не допускали, но теперь к ним привыкли, они будто были всегда) менее всего похожи на киношно-оперные постановки (я преклоняюсь перед «Хованщиной» и «Борисом» и имею в виду бутафорско-костюмные «вампуки»). Это путешествие души и мысли художника в историю. Прорыв в нее с ощущением чужой боли и немоготы в моменты жизни трагические и, казалось бы, безысходные. Однако жизнь не прекращалась и докатилась до нас. Помимо трагедий в ней есть доброта. И любовь. Одним из главных персонажей выставки, да и всего творчества Назаренко, оказалась тихая старая женщина. Бабушка. Реальный человек, столь много значащий в судьбе художницы, и вместе с тем личность всеобщая — Матерь людская. Хранительница очага жизни. Труженица, в вечных хлопотах и отводах беды принявшая ношу простого бытия. Печальны картины «Жизнь» (триптих) и «Белые колодези». В «Белых колодезях» — уход человека, бабушки, и скорбь ближних. В трех квадратах «Жизни» бабушка застыла, но происходит движение времени (вне ее и в ней самой), вот прошлое со множеством ушедших людей, с событиями бурными и обыденными, вот день вчерашний — рядом в спокойствии, под ее покровом правнук Николка, порядок в доме, вот настоящее, смерть, исход в вечность, в дым чужих воспоминаний, в некое мерцающее облако доброй и деятельной души, которая никуда не отлетит из вселенной, а останется в ней как составная нашей с нами ноосферы.
Назаренко в своем воплощении, вольном или невольном, в своем реализме (слово это для иных ругательное, для меня же в искусстве реалисты — все, только у каждого своя реальность) — художник дерзкий, рисковый, порой и отчаянный. Дело тут и в натуре человека, способного, скажем, на узких улицах Памплоны преградить дорогу быкам, выгнанным на корриду. И дело в миропонимании и мировидении московскою интеллигента конца двадцатого столетия, знающего, что и как в этом столетии происходило, к чему привели выговоры природе и разбойные против нее действия, к чему пригребла наука, одарив человечество новыми смятениями и ужасами, дав в «век просвещенный» толчок мистицизму и вере в сверхъестественное. В частности, и поэтому в реализме Назаренко много новостей. В нем случаются совмещения прежде несовместимого. Среди собеседников оказывается человек иной эпохи, которого нет и о котором, возможно, не говорили, но он присутствовал в думах и явился. Прошлое входит в настоящее, сознавая необычные варианты ситуаций. Разрывается пространство и вмещает в себя картины и события, увидеть какие, казалось, было невозможно. Простой эпизод быта удивляет вдруг странностью космических тайн. Преображения, перетекания, пространственные и временные, вызванные необходимостями авторских решений, вместе с иными приемами, часто вольными, рождают реальный и воображаемый мир самостоятельного, единственного художника.
В искусстве самостоятельный, единственный художник, реализуя себя и являясь публике, никого не расталкивает — ни в своем времени, ни в прошлом, ни в будущем, не занимает чье-либо чужое, «освободившееся» место. Он занимает место никем не открытое, никем не названное, никому доселе не известное. Оно получает его имя.
Зал номер такой-то выставочного помещения.
«Крымская» капелла Татьяны Назаренко.
На этот раз…
Трагизм жизни. Доброта. И любовь.
6
Выставка закрылась. Ну и что? Ну знали подлинно (относительно подлинно), что есть Назаренко, тридцать — пятьдесят — сто человек. Теперь добавилось к ним еще три-пять тысяч побывавших. Ну прибавьте к ним наблюдателей из Львова, Киева и Одессы. И все. И это при тираже «Аргументов и фактов» в двадцать миллионов экземпляров. Какие тут могут быть властители дум?
Можно посчитать, что в разговоре о творчестве Назаренко автор был необъективен (давно интересуюсь ее работами, есть совпадения в наших представлениях о жизни, цвете и линии, лично знакомы). Отсюда «охи» и «ахи» неукрытого доброжелательства. А у других иные вкусы и иные легенды. Другим неизвестна и безразлична Назаренко, но им знакомы «свои» имена. Ну и слава богу! Стало быть, есть у нас художники! Не на каждом, конечно, суку сидит по Тициану, но есть. Исходя из виденного мною, предполагаю, что суверенными, единственными живописцами могут оказаться для публики Наталья Нестерова и Виктор Калинин, Ольга Булгакова и Александр Ситников, Ирина Старженецкая и Евгений Струлев, Макс Бирштейн, Михаил Иванов и Борис Жутовский (ныне он стал мемуаристом, и не рассмотрен, а прочитан, в мемуарах его упоминаются Павел Никонов и Николай Андронов, и они для большинства — лишь фамилии). Люди сведущие представляют свои списки. И есть, наверное, таланты совсем никому не ведомые. Они есть, но они как бы в недрах. Они не востребованы. Они не явлены и не извергнуты. А если и извергнуты, то с перелетом через пограничные столбы.
Чему тут радоваться? Мало чему. И как будто бы интерес к искусству у нас не иссяк. Но у многих он — с какой-то товарно-престижной окраской. Главное отметиться и главное добыть. Отметиться — заскочить на выставку, о коей ходят толки — Шемякина ли, Юккера ли, Кандинского, хоть на полчаса, а заскочив, посчитать, что ты видел. Добыть — каталог либо альбом, с переплатой, с унижениями, но зато ощутить: Шагал, Филонов — твои, прирученные, одомашненные. Потом каталоги и альбомы будут лежать в грудах. Увы, у многих в суете жизни времени нет для того, чтобы вступить с работами художников в длительное, неспешное и равноправное собеседование. Отвыкли мы, а ремесленники нас и отучили. И сейчас в интеллектуальном снаряжении искусству изобразительному чаще всего отводится положение хоть и уважительное, но второстепенное, как некоему непреложному украшению быта или знаку, способному разнообразить светский разговор (впрочем, чтобы не потерять лицо в светских беседах, многие пролистывают за пять минут и «трудную», вновь обретенную прозу — «Чевенгур» и «Котлован», например).
Досадно это и обидно. Спешим куда-то, шумим, рвем рубахи на груди, шелестим газетами, добываем продовольствие и мыло и не можем со вниманием оценить открытия и предчувствия художников. Пусть и не станут они сегодня властителями дум, но властителями чувств и вкуса стать могут. Свойственные именно им уроки постижения мира, необходимые в усилиях придать движение культуре общества, о нищем уровне которой мы не перестаем горестно восклицать. Не будем суетливы. Постоим у полотен.
7
И опять Успенский вражек. Татьяна Григорьевна Назаренко несет с улицы Станиславского свежий хлеб и сахар-песок. А вот и церковь Воскресения Словущего. Такой же чистенькой, благополучной, благовестной можно было увидеть ее у Крымскою моста на одном из московских пейзажей Назаренко. Но стоило обернуться, и церковь Воскресения напротив, на «северной» стене, возникала совсем иной. Там как бы триптихом оказывались картины Назаренко «Воскресная служба», «Пасхальная ночь» и «Цветы», созданные в разные годы и о разном. В «Цветах» (1979) художница написала саму себя и написала распятой.
Сцепления — художник и творчество, художник и судьба, художник и общество — в ее работе постоянны, неотвязчивы, приводит к решениям радостным и драматическим. Увереннее и счастливее художница пребывает в мастерских, своей и своих знакомых («Мастерская», «В мастерской», «Цвета в мастерской», «Новая работа»), здесь — свобода, здесь — необъяснимые чудеса творения, здесь всему хозяин ты. Хозяин мучений и удач. А дальше? Дальше ты уже ничему не хозяин. А надо идти на поклон к чиновнику, для которого искусство — школа послушания и отрасль промышленности, где удобнее всего вал посредственности и где портят настроение мастера «штучные», упрямые и неуправляемые. Экие они шушеры… Назаренко натерпелась (помню ее отчаяние после издевок над «Пугачевым») и имела право дерзко и горько пошутить над собой и над чиновными умами художественных советов, представив себя бесшабашной воздушной гимнасткой («Циркачка»), шествующей по невидимому или несуществующему канату над пошлостью и властью. Усмешка строптивой победительницы. Отчасти и напускная. От гордости. От боли. От слез. А пройдя над чиновными головами и свою на сей раз не сломав, художница оказывается перед зрителями. Перед людьми. Перед людьми она голая. И одинокая. А они на нее не смотрят или не обращают внимания («Обнаженная»). Или обращают («Зрители»), но на мгновение, и тут же начинают поглощать мороженое, громко судачить, хвастать обновами, расположившись в суете возле распятия художницы и ее реквиема по бабушке.
Терзание, неизбывное и неизбежное. Зачем ты? Нужен ли ты людям? Поймут ли тебя?
Каждая работа совестливого мастера — его страдание. Его распятие.
Запястья вскинутых рук художницы («Цветы») пронзили не гвозди, а тигровые лилии. Легче ли от этого? Но рядом с «Цветами» — «Пасхальная ночь», левее — «Воскресная служба». В возникшем триптихе одни из смысловых ударов выставки. Церковь Воскресения в «Пасхальной ночи» преобразилась. Она раскалена. Она — будто печь, которая вот-вот выпустит из себя жидко-огненный металл. Красная рубаха Пугачева — она невдалеке, на виду, — костер Пугачева, колокол его, словно бы бледнеет и сравнении с жаром «Пасхальной ночи». Но огненная лава не выливается на асфальт Успенскою вражка. Напротив, полуночная толпа людей со свечами в руках втекает в недра храма. Жар храма к картины — это жар их душ, жар их горестей и надежд. Пламенеющая душа художника.
Распятие Татьяны Назаренко и ее воскресение.
Вечное состояние творца.
1989Таинственный мир Натальи Нестеровой
Старая фотография. Воспроизведена в альбоме «Наталья Нестерова», изданном «Авророй». Пятьдесят девятый год, Дзинтари. Ученица пятнадцати лет уходит писать море и людей на берегу. В руке — этюдник. Мальчишьи штаны чуть ниже колен. Куртка-штормовка. Туфли-сандалии для дальних хождений по грешной земле. Светлые волосы будто растрепаны ветром. А ветра нет. Трудный подросток. Сорванец. С такой намаются. И она намается сама с собой. Во взгляде хмурость (или дерзость), упрямство, вызов кому-то. Независимость. Самодержавность. И недовольство (фотографом?). «Зачем вы меня остановили? Мне надо идти». И видно, что уже знает, куда ей идти.
Перед ней изгибы дороги. В кустах и деревьях. Дороги (аллеи, улицы, переходы, лестницы) нередки в ее картинах. Иные из них ровные, прямые, иные с поворотами в неизвестность. Или в невозможность. Вот «Никитский ботанический сад». Парковая дорожка, вишнево-гаревая, ухоженная, словно бы отутюженная. На ней человек, мужчина в черном пальто и черной шляпе, он уходит от нас и никак не может уйти. Он уходит уже девять лет, и ему не дано уйти никогда. Кто он, зачем он, какая у него судьба? Не знаем. Но он живет, как живут деревья и остриженные кусты вокруг, как живут рыбы в фонтанном бассейне, он идет и приглашает нас следовать за ним в тайну, В мир Натальи Нестеровой. Недавно холст «Никитский ботанический сад» встречал зрителей прямо при входе на выставку работ Нестеровой и Лазаря Гадаева.
О Наталье Нестеровой известно куда больше, нежели о мужчине, забредшем в ботанический сад в Никитах. О ней пишут, выходят наконец-то альбомы, ее картины приобретают уважаемые отечественные музеи и коллекционеры многих стран, ее имя с почтением поминают в Нью-Йорке, Париже, Гамбурге, Токио. И все же она личность загадочная. Художник-сфинкс. Из тех, что не любят говорить о своих работах («из какого сора…») и уж тем более что-то разъяснять в них. То, что в них есть, то и есть. И пусть каждый видит то, что видит, и разумеет то, что разумеет. Примем условия автора.
Кажется, что и названия своим картинам Нестерова часто дает неохотно, как бы по необходимости, лишь обозначая для зрителя место или сюжет живописного происшествия. «К чему подсказки?» А нередко никаких происшествий на ее холстах и вовсе нет. Нечто (люди, дома Пречистенки, балтийские чайки, карты, разбитые вещи) замерло. Или снится. Будто и не бурлит за стенами мастерской или галерей трагедийно-нервный конец тысячелетия. Бурлит, бурлит, конечно, и живопись Нестеровой, потому как она — истинное искусство, отражает суть летящих дней, беспокойства и надежды художника, и даже держа в памяти заботы и хлопоты будней, а в кармане — авоську, отойти от ее полотен долго не можешь. Мне случалось писать о Нестеровой, и нынче я вынужден повториться. Картины ее имеют свойство оживать и втягивать вас в пределы своей энергетической плотности. Это обеспечено даром и умением мастера. Полотна ее тут же берут в плен ваш взгляд, и ощущаешь в них такую энергию, такое напряжение красок, душевных и динамических состояний, что жизнь внутри прямоугольников холстов начинает казаться равносильной и равноправной жизни, что вокруг и внутри нас. При этом перед нами не копии жизни, а возможные варианты ее.
А поначалу ее работы представлялись забавой, игрой в странность, вызванной желанием «выделиться». Возле ее холстов качали головами, а порой и ехидничали. Потом к ним привыкли. А упрямая Нестерова, не изменив себе и своему искусству, вытерпев непонимание, и вправду выделилась. Она ни на кого не похожа. Осведомленный любитель, попав на очередную «сборную» выставку, скользнув взглядом по стенам, сейчас же сообразит: «Ага, а это Нестерова». Объявлялись подражатели, но у них ничего не выходило. Подражать большому художнику нельзя. Мартышкин труд… Но коли подражают, стало быть, признали, увлеклись. Оценили.
И к миру Нестеровой привыкли. Как привыкают к новой сложной или неожиданной музыке. Ведь какими, предположим, неприятными или дурными казались сочинения композиторов венской школы, а теперь без них не представишь современную музыку. С Нестеровой случай вроде бы проще. В ее искусстве немало старых мелодий. Она не создавала ни серийную додекафонию, ни супрематизм. Не переводила паровые локомотивы на электрическую тягу. Она с упорством и дерзостью создавала в себе художника, способного особенным образом передать волшебство и драму бытия. В этом самосозидании участвовали и свободная стихия натуры («Я беспечный ездок», — заявила Нестерова на открытии выставки), и дисциплина разума, и знание о многом, сделанном до нее. В отечественной культуре двадцатого столетия — гибельные обвалы и пропасти. Но в роду московских интеллигентов Нестеровых, на наше счастье, связь времен не распадалась. И обращение художницы к тем или иным приемам, скажем примитивизма, произошло в согласии с традицией высокой культуры. И слава Богу.
Да, странен, порой таинствен мир Натальи Нестеровой с ее условными персонажами, с лицами-масками, с карточными домиками и существами, с парковыми скульптурами, какие живее людей, с холодом и тоской старых зданий, с мертвыми и нападающими собаками, с нервными полетами птиц-кардиналов, с фантазиями автора, с ее умозрениями и с ее горячим житейским чувством, с ее гротеском и с ее элегическими любованиями, с ее озорством и с ее благонравием. Но это наш с вами мир. Другое дело, что он увиден истинным художником, каких доселе не было, а нам предложено: станьте соавторами, призовите на помощь свою душу, свой опыт жизни, свое мироощущение, и вы догадаетесь, ради чего живет и творит Наталья Нестерова. Но можно и не догадываться, а просто еще раз воспринять красоту и печаль жизни, тайны же пусть останутся тайнами.
На Крымской набережной на выставке Натальи Нестеровой и Лазаря Гадаева («…наконец-то дождались своего часа…») Нестерова была представлена публике лишь «частичная». Многим полотнам, существенным для нее и для нашей живописи, из «отдаленных» коллекций трудно было бы добраться до Москвы. Жаль, конечно. Но Нестерова два последних года со страстью писала специально для своего долгожданного Большого показа. И мы увидели новое в ней. Не новую Нестерову, а именно новое в Нестеровой прежней.
Беспокойней, тревожней, скажем, стали иные сюжеты, некое «эльгрековское» движение возникло в облаках. Другое. И раньше казалось иногда, что ее людям, домам и вещам в ограничениях холстов тесно (в «Людях на пляже», например), они готовы разорвать пространство картины, разлететься, занять всю стену. А то и небо над нами. «Камерная» Нестерова — и вдруг монументалист? А почему бы и нет? Она и прежде не всегда позволяла себе быть камерной. Но все же чаще ее точка зрения была земной. А нынче будто воспарила, и стало ощутимо в ее работах космическое видение. И персонажи ее получили именно всю стену («Человеческие маски», «Город Москва», «Улетающие кардиналы», «Времена года»). И естественным вышло обращение к сюжетам, пронизывающим народы и века («Тайная вечеря», «Избиение младенцев», «Бегство в Египет»), Провидение и человек, идеальные замыслы мироздания и житейская практика. И кто эти осуществители замыслов, числом тоже двенадцать («Человеческие маски»), в чьей воле, в чьих ладонях и на чьих весах людские души, наши заблуждения, страсти, забавы? И как быть человеку в ладу со всем живым, с морем, с камнем, с белыми птицами, с самим собой? Куда плывем мы («Плывущие»), к какому берегу?
Впрочем, что я тут фантазирую «по поводу» Нестеровой? Гвоздями рассудка чудо искусства не приколотишь к злобе дня. Да и ни к чему. Важно, что чудо это заставляет тебя думать о вечном и надеяться на доброе в гуле людских потрясений, при топоте толп и расколах земной коры…
Бурные румынские дни. Смотрю программу «Время». На трибуне митинга неожиданно вижу Анну Блондиану. Красивая женщина, такие украшают приемы и балы. Несколько лет назад удивил ее рассказ. Преподавательница диалектического материализма в Бухаресте, чтобы не голодать, решает держать на балконе кур. Но из яиц, ею купленных, вылупляются ангелы. Розовые путти, из тех, что окружают мадонн. Миропонимание ученой дамы не соглашается с возможностью их существования, однако ангелята — живые, они пищат, плачут, требуют пищи, тепла, ухода. И материнское возникает в ученой даме. Ей делать важный доклад об Основах; но приходится тащить на заседание кафедры (не с кем оставлять) розовых ангелят, каких не должно быть, и предъявлять их вместо доклада… В прошлом году впервые в истории Литинститута на первый курс женщин было принято больше, чем мужчин. В читающей публике на слуху нынче имена Л. Петрушевской и Т. Толстой. С горьким триумфом заняли свое место в отечественной культуре и людской совести Анна Ахматова и Марина Цветаева… Одна за другой прошли и стали явлением выставки Т. Назаренко, Н. Нестеровой, И. Старженецкой (кто следующие? Ольга Булгакова? Ксения Нечитайло? Ольга Гречина? Анна Бирштейн?). Но ничего тут неожиданного и необъяснимого нет. В годины житейских катаклизмов, ожесточений и отчаяний, озоновых дыр, ожиданий вселенских катастроф необходимы для сохранения человеческого бытия благоразумие и доброта женского начала. Вечной женственности. Матери. Жены. Дочери. Хранительницы очага. Кормилицы. Берегини (под ее покровом оказались на выставке крестьяне, поэты, чудаки, философы, влюбленные Лазаря Гадаева, но о них разговор особый, и не в этих заметках его вести). Отчасти и ведьмы…
Девочка-подросток в штормовке с этюдником в руке уходила писать море в Дзинтари. К каким тайнам и открытиям она еще придет?
1990И наступило — «после войны»…
Кто я есть, чтобы отважиться на воспоминания о дне победы, зная, что мои слова могут оказаться рядом с воспоминаниями людей воевавших, выстрадавших победу?
Вернее, кем я был в день победы, какие такие заслуги имел перед отечеством в ту пору? Что я могу помнить? Я просто прожил годы войны и встретил День Победы живым.
В ночь с 8 на 9 мая в нашем трехэтажном доме стало шумно, хлопали двери, люди кричали. Я проснулся испуганный. Мать успокоила меня: «Спи, спи! Завтра не пойдешь в школу». — «Почему?» — «Воина кончилась…» Я не должен был заснуть, но заснул. А утром и вправду не надо было идти в школу, в 243-ю, начальную, в Напрудном переулке. Я учился тогда в первом классе…
Что я могу помнить о войне?
Впрочем, оказалось — многое… Помню и из сорок первого. Нас трое. Двое мальчишек и девчонка. В июльскую жару, в подмосковном поселке. Родители наши в городе. Нам сказали: идет война. Падают бомбы и снаряды. От кого-то нам стало известно: если приложишь ухо к дороге и услышишь, как дрожит земля от взрывов, значит, немцы близко. Мы не раз укладывались на дачную просеку. Нет, земля не дрожала и не тряслась…
Помню, вижу, слышу те свои годы, ощущаю боли и запахи военной поры, и прежде всего запахи черной горбушки, жмыха, подсолнечного и соевого, горячей картошки, «настоящего лорха»… Но все эти воспоминания кажутся мне слишком личными, касающимися только меня и нужными лишь мне. Что может добавить память тогдашнего школьника к истинной, окровавленной памяти народа о войне? Да и знал я малую малость о том, что такое настоящая война.
К тому же за сорок лет в меня вошло столько сведений и откровений о войне — из документов, из свидетельств воинов и очевидцев, из архивных материалов, из пленок фронтовых операторов, из рассказов бывалых людей, из произведений литературы, кино, которым поверил, из исследований историков, — целые контейнеры информации, и ледяной и обжигающей, пошли в меня, и все, что я не видел и не пережил, стало моим, а мое детское подчас и забылось или перемешалось с чужим, отчего есть опасность приписать себе ощущения и мысли людей старших поколений.
И вот когда я, взрослый, обладающий апокалипсическим знанием прошлой войны, думаю о собственном детстве, оно начинает представляться мне благополучным, и потому мне как бы неловко теперь перед листом бумаги. Я не был под немцем, не был в блокадном Ленинграде. Меня не угоняли в Германию. Я не голодал (случались, конечно, голодные дни и недели, но я не умирал от голода, всегда выручала картошка, а особенное лакомство тех лет — посинюшки, или драники, из тертого сырого картофеля — и теперь мое любимое блюдо). Я не попадал под бомбежки (правда, бомбежки я видел, а однажды, в ноябре сорок второго, фашист, неизвестно как — говорили, из-под Сталинграда — залетевший за Чебоксары, сбросил не спеша, с заходами на поселок Юрино в дом, в котором жили мы, эвакуированные, двенадцать бомб, не попал, уложил их на берег Волги, с той поры и до конца войны я инстинктивно старался угадать по звуку, наши летят или немцы; но ведь это было однажды). В меня не стреляли. Я не стоял у станка в мерзлом цехе. Я не терял близких. Правда, многие мои родственники воевали, пропал без вести младший брат матери, отец ее (и мой дед, Сергей Никифорович, первый председатель сельсовета подмосковной деревни Починки, под Яхромой, а потом колхозный конюх) был угнан оккупантами в морозы на заготовку дров, простудился, захворал и умер. Но я почти не помнил ни дядю Колю, ни деда (сижу у него на коленях… белая борода, отраженная в серебре самовара… и все) и ничего не мог рассказать мальчишкам-ровесникам о них. Да и что ставить себе в заслугу несчастья своих родственников или их подвиги! А когда меня спрашивали, что делают мои отец и мать, я старался молчать, чуть ли не испытывая чувство стыда. Мать не была ни летчицей, ни связисткой, ни санитаркой (военным врачом прошла все годы войны моя двоюродная сестра, личность в нашей семье примечательная, я долго носил подаренную ею пилотку, форсил). Мать лишь вязала сети для маскировки орудий и танков, на них потом — я видел в кинохронике — набрасывали зеленые ветки и листья. Отец не воевал. У него был протез выше колена и костыль, он работал в «Вечерней Москве» и сидел в тихом кабинете здания на Чистых прудах. Человек по натуре рисковый и неспокойный, он редко реагировал на вой сирен и объявления воздушной тревоги. А однажды во время одной из бомбежек Москвы он снова не стал спускаться в бомбоубежище — ходил он медленно, и дел по номеру хватало, — а бомба попала в редакционное здание, пробила его насквозь невдалеке от отцовского кабинета, влетела в типографию и не взорвалась. Но об этом случае в годы войны можно было рассказывать лишь с улыбкой, как о некоем курьезе. А у других-то отцы воевали… Не пережил я вместе с Москвой самые тяжкие для города месяцы. С матерью нас эвакуировали в марийские земли, двести километров ниже Горького, в поселок Юрино. Юрино тогда раздалось и уплотнилось. Были здесь и эвакуированные, и беженцы из западных областей, даже из Польши. А потом стали привозить и блокадников из Ленинграда. И их и нас юринцы приняли хорошо. Как своих. Не помню, чтобы у нас было ощущение, будто мы сиротствуем в чужом доме, стесняя при этом хозяев. А война, казалось, была далеко. Отцы моих юринских ровесников были кто в ополчении, кто в дивизии Доватора, кто в тылу врага, кто на оборонных заводах, от них приходили вести добрые и печальные. Но мы-то, малые дети, радовались Волге, лету и зиме, санкам, весенним наводнениям, рыбешкам, оставшимся в воронках от бомб. Мы жили, болели, выздоравливали, росли, играли. Чаще играли в красноармейцев, не зная, что такое фронт и смерть. Не зная порой, что было в душах взрослых.
Кое-какое понятие, опять же детское, о том, что такое фронт и война, я получил только летом сорок третьего. Мы вернулись в Москву, и вскоре меня отправили в Яхрому. На земле два самых близких мне города — Москва и Яхрома. В Яхроме прошла молодость моих родителей. В Яхроме на Перемиловской высоте совсем недалеко от знаменитого теперь монумента защитникам Москвы похоронены мои предки. В Яхроме у меня и сейчас много родственников и знакомых. После войны я почти каждое лето (а порой и зимние каникулы) проводил в Яхроме. Жил у тети с дядей в крайнем к лесу доме влезшего на гору Красного поселка. По моим понятиям, этот дом был самой восточной точкой Подмосковья, куда добрались гитлеровцы. На террасе дома, обращенной к глубокой и длинной лощине, они устроили наблюдательный пункт и поставили пулемет. Но здесь, на правом берегу канала, они провели лишь сутки. Их вышибли уральцы и сибиряки. Они шли с востока горбом нашей горы и лощиной. На другой же стороне канала немцы держались дольше. Но не удержались. И началось именно от Яхромы (так мне всегда хотелось считать) легендарное наступление под Москвой… Почти два года прошло со дней боев на яхромских высотах, а я увидел Яхрому в сорок третьем не оправившейся от нашествия. Мост был взорван, временные деревянные опоры и устои поддерживали его справа. Огромная текстильная фабрика в дни боев горела. Канал при мне «лечили», во время боев воду из него спустили в яхромскую пойму, чтобы задержать продвижение гитлеровцев. Но главное было то, что осенние и зимние дни сорок первого как будто бы еще оставались во всех домах. Они были раной в душе города. Но город жил и, как все в отечестве, участвовал в войне. По Савеловской дороге шли составы с боевыми машинами, со снарядами, говорили: под Ленинград. В окопах, в блиндажах и дотах ребята постарше все еще находили оружие, патроны, гранаты, игры их становились серьезными, а то и жестокими и трагичными. И гибли мальчишки, и становились калеками…
Позже, в Москве, после одной из таких игр на чердаке флигеля в нашем дворе в Напрудном переулке и я угодил в больницу (как бы в компенсацию за эту свою неудачу я получил билет в сказку — на елку в Колонный зал, потом была и еще елка, и «Щелкунчик» в Большом за буханку хлеба: взрослые старались устраивать нам и праздники). Но война уже уходила на запад. Позывные «Широка страна моя родная», предвещавшие правительственные сообщения, не вызывпали тревоги, как это было в сорок первом и сорок втором. Репродукторы, залатанные в местах трещин ленточками папиросной бумаги, все чаше гремели: «Произвести салют!» Марши, следовавшие за приказами о салютах, были для меня в ту пору самой прекрасной музыкой. Впрочем, обычно о том, что вечером будет салют, мы узнавали от ребят из Самарского переулка, пропавшего ныне ради олимпийских строений. Самарские всегда первыми видели, что на площадь Коммуны и в парк ЦДКА опять привезли прожекторы. Салюты тогда были с перекрестьем в небе прожекторных лучей. Эти салюты, как и сводки Информбюро, преподавали нам географию страны. А потом и географию Европы…
Взрослые ребята из нашего двора и переулка — иные из них уже работали, иные суетились при «щипачах», в трамваях, для нас почти дяденьки, им было по двенадцать-тринадцать лет, — понятно, продумывали планы, как попасть на фронт (тогда говорили «бежать на фронт»). Иногда и мы, мелкота, где-нибудь на чердаках или задних дворах с дровяными сараями, какие были почти повсюду в Москве, присутствовали при обсуждении тех планов, удостаивались. На нас смотрели свысока, но мы старались доказать, что и мы не хуже старших, и мы можем кое-что сделать для победы. Доказательства эти приводили подчас к неожиданным эффектам. Так, я, еще не поступив в школу, бросил курить. И на всю жизнь. Недалеко от нас, за Трифоновской, на товарный двор Ржевского вокзала свозили, прежде чем отправить на переплавку, искалеченную фронтовую технику, чаше трофейную. После путешествий с приключениями на товарный двор мы разживались (чем для себя, чем на обмен) и оружием (доставали даже и «шмайссеры»), пусть помятым и негодным, и немецкими орденами, и легкими, серыми, будто посыпанными металлическим порошком монетами (для расшибалки и пристенка они были бесполезны), а иногда и пачками сигарет. Однажды, поощряемые подростками и к их развлечению, мы вместе с двумя моими сверстниками выкурили по пачке сигарет каждый, пряча небрежно после затяжек тлеющую сигарету в рукав («Как на фронте, чтобы снайперы ихние не заметили»). Позже, побывав в Париже, я понял, что это были французские сигареты «житан» с махорочными запахом и крепостью. Тогда же нас долго откачивали, мы были одурманены, да и выворачивало нас. Так я и завязал с курением. Но это, понятно, были мелочи войны…
До Дня Победы был в Москве еще один замечательный день, взволновавший город. Это был летний жаркий, зеленый, солнечный день (так теперь кажется мне), когда по Москве провели десятки тысяч пленных гитлеровцев (мы тогда говорили не «провели» а «прогнали», хотя движение пленных было неспешное). Это не был день злобы и мести (пусть из толп москвичей на моих глазах — у кинотеатра «Форум» — иногда и выскакивали люди, женщины и мужчины, с лицами злыми и словами проклятий, люди, имевшие для проклятий право и основания). Это не был день издевательства над раненым, но не добитым врагом. Это не был день зрелища диковинных и смертельно опасных зверей. Сами-то пленные оказались не главными в тот день. Они прошли и пропали…
Мне запомнилась тишина на улицах (а наверное, вся Москва была здесь), в этой тишине, казалось, тонула, утихала скребущая поступь, шарканье по асфальту солдат, офицеров, генералов в чужой форме, прячущих глаза. Это был день высокого достоинства народа, не сломленного, выстоявшего, думающего о горестях и потерях войны, о своей силе и своей сути. Это был день предощущения победы. Впрочем, взрослые-то догадывались, каким тяжким оставался путь к победе…
А потом та тишина разрядилась шумными гуляньями в парках возле трофейных самолетов и танков, под музыку духовых оркестров, уютно сидевших под раковинами на дощатых сценах. Непременным обещанием того, что победа скоро наступит, для нас, ребятни, было удивительное событие: в тот день впервые на нашей памяти стали торговать в Москве мороженым — пломбиром в вафлях (тридцать пять рублей) и эскимо в шоколаде (двадцать пять рублей). Правда, тогда на мороженое мне пришлось глядеть лишь издали. Из ребят нашего двора в тот день мороженое получил лишь сын сапожника Минералова. Под конец воины мы стали звать его Минералиссимус.
Но до конца войны оставалось еще почти десять месяцев…
И хватит. Тут пришла пора оборвать воспоминания. В те дни, когда я писал эти строки, взбудораженная память стала чуть ли не извергать сбереженное ею — то, что казалось давно забытым или навсегда задавленным гранитом, базальтом, перекрытиями впечатлений иных событий и лет. Но хватит…
Вспомнилось и другое.
Вспомнилось, как я, взрослый, с другом (он-то из ленинградской блокады), готовя разворот для «Комсомолки» о Сталинградской битве, сидел над бумагами, нашими и немецкими, в архиве Музея обороны Царицына и Волгограда и что я там читал.
Вспомнилось, как в Берлине не раз днем и ночью (тянуло!) бродил возле бывшей имперской канцелярии и думал о далеких страшных годах. То, что было когда-то имперской канцелярией и бункером Гитлера, стало полуметровым холмиком, поросшим сорной травой, — ночью среди обломков там шныряли юркие дикие кролики…
Вспомнилось то, что я знал о Хатыни, Бухенвальде, Освенциме…
Чем дальше уходит в историю война, тем больше оказывается известного о ней, тем более грозным предостережением человечеству становится она. Должна бы становиться…
И вот в соображениях об этом опять пришли мысли о благополучии моего детства.
Но я подумал и вот о чем. Тогда редко звучало выражение «после войны». А вот слова «до войны» произносились чуть ли не каждый день. Но эти слова были существенны для взрослых. И хотя я тоже что-то помнил из «до войны», по сути дела, «до войны» для меня не было. Я и мои ровесники росли детьми войны со всеми ее тяготами, страхами и заботами, и все в той жизни представлялось нам естественным. Для кого в силу обстоятельств тяжким и гибельным, для кого (как для меня) — благополучным. Нам не с чем было сравнивать нашу жизнь, иного для нас, казалось, и быть не могло.
Естественным для нас — пяти-, шести-, семилетних — было вот что. Разрывы бомб. Буржуйки посреди комнаты вместо обеденных столов. Зашторенные по требованиям светомаскировки окна. Перекрестья бумажных лент по стеклам. Источники света — керосиновые лампы, а то и лампады из гильз. Или лучины. Примерка противогазов, часто обязательная. Отоваривание карточек. Стояние в мороз, а то и по ночам в очередях. С чернильными номерками на ладонях, а иногда и на лбу. Мы знали, как нелегко родителям и как заняты они, и старались не ныть и не быть им обузой. Впрочем, из-за такой «обузы», возможно, и им было легче выжить… Ордер на галоши или ботинки — праздник в семье. Игры в бои, во взрывы эшелонов, в допросы и пытки наших разведчиков и партизан, пусть и с побегами и посрамлением врага (играли мы, конечно, в футбол и хоккей, но в футбол — консервными банками и тряпками, набитыми ватой, а в хоккей — без коньков, в нашем переулке ни у кого не было коньков, а коньки нам заменяли железные крюки, которыми мы зимой цеплялись за трамваи и грузовики)… Калеки вокруг — слепые, глухие после контузий, безрукие, безногие, на кожаных или деревянных культях… Тихие рассказы соседа по парте Толика о том, как его дядя, повар по профессии, в сорок втором году спятил, зарезал сестру, тетку Толика, и пустил на котлеты… Боязнь почтальонов — не принесли ли они похоронки соседям или родственникам (квартиры в нашем доме были коммунальные, вдов и осиротевших в них хватало)… Прически «под лысого» с короткой челкой (чтобы помочь в борьбе с насекомыми, как-то постригли машинкой весь наш первый класс, а потом и головы каждому помазали керосином)…
Но пришел День Победы.
С утра я не пошел в школу. В нашем переулке стояла еще одна школа, парадным выходом на 3-ю Мешанскую, новая, огромная, в четыре этажа, но — закрытая, бывшая средняя, 245-я (через четверть века в ней стал учиться мой сын). В войну в ней размещалась часть ПВХО. Все больше девушки, обслуживавшие аэростаты. Квартировала там и музыкантская команда. Утром 9 мая девушки из ПВХО во всем чистом, в отглаженных юбках, в смазанных сапожках маршировали по 3-й Мещанской. То в сторону Трифоновской, то в сторону Садового кольца. И музыканты при них старались вовсю. Играли марши Чернецкого и Иванова-Радкевича. Сворачивали и на булыжную мостовую Напрудного переулка. А мы, ребятня, бегали за ними и кричали: «Победа!» Потом сержант Драницын катал нас на союзном «виллисе»-амфибии по 3-й Мещанской. Сержант Драницын был ухажер одной из жительниц нашего дома. Он был шалый, беспечный и добрый малый (для нас — дяденька). Драницын катал по 3-й Мещанской ребятишек по пятнадцать, то гнал, то делал развороты чуть ли не на сто восемьдесят градусов, только что не переворачивался, а мы радостно орали. И потом пришел с работы отец, и мы втроем, с матерью, отправились в центр. Были и на Красной плошали, и возле Большого театра, и на Манежной (там выступал оркестр Утесова), и на улице Горького. Рассказывать в подробностях о 9 мая нет нужды. Все описано и снято на пленку. Скажу только, что такого дня более не было в моей жизни. Теперь поют: «Со слезами на глазах». Может, и были слезы, но я их не помню. Это был день радостного единения и единодушия. Случилось так, что все доброе, благородное, счастливое, что есть в натурах и природе людей, но часто не имеет выхода, выплеснулось, соединилось и создало общую ауру, общую энергию, общее состояние, общую душу Москвы. В этой общей душе были и свобода, и удаль, и как бы даже желание пуститься в пляс, и свершить несвершимое, и добро, и справедливость, и счастье.
Это был день, после которого для нас наступило время «после войны».
И — не сразу, а через несколько лет — то, что казалось естественным и единственно возможным, увиделось нам неестественным и вынужденным состоянием человека. Но для этого нужен был День Победы.
Вечно будут благодарны мои ровесники, дети войны, родине, взрослым, погибшим и оставшимся в живых, отстоявшим наше существование. Ради этого я писал эти слова.
1985Романтика латиноамериканской прозы
Я шел сюда в большом смущении. Упрекал себя в легкомыслии: сгоряча согласился участвовать в этом разговоре, полагая, что его предмет мне известен. А когда прочитал материалы, опубликованные в журнале «Латинская Америка», почувствовал полную некомпетентность в этом деле. Увы, неизвестен мне «океан» латиноамериканской литературы, или ее «галактика», или ее «горные системы» (многие сравнения в ходу); я знаком только с несколькими произведениями. С двумя романами Гарсиа Маркеса. С двумя романами Варгаса Льосы. И томом Кортасара. Для меня есть один великий роман, возможно и гениальный роман, и есть несколько произведений высокого класса. А вот об океане, о материке, где взрывом вулкана (опять же ходовое сравнение), подводного или наземного, оказался роман «Сто лет одиночества», я получил теперь некоторое представление из высказываний знающих людей, собравшихся здесь, а потому и не уверен, что мои слова или мое ощущение могут быть полезны в начатом разговоре. Но раз уж пришел и уселся за стол, скажу вот о чем.
Когда я читал материалы вашего журнала, у меня возникло не то чтобы чувство протеста, скорее чувство несогласия с наиболее решительными заявлениями, что латиноамериканская литература заскочила чрезвычайно далеко вперед, обогнав все прочие литературы и преподав этим прочим литературам и культурам урок. При этом шла речь об «усталости» прозы Старого Света, Северной Америки и т. д. Перечислялись открытия, сделанные прозой Латинской Америки последних десятилетий, «адреса» ее влияний. Слова об этом — более других — и вызвали мое несогласие.
Я читатель. Меня окружают книги. Они мне нужны, к ним я отношусь просто как человек, а не как литературовед, не как специалист, который занят изучением процесса во всей его временной последовательности. И для меня литература — вовсе не многодневная велогонка, в которой кто-то на каком-то из этапов должен получить желтую майку лидера, кто-то — приз и чья-то команда вот-вот первой ворвется на стадион. Для меня литература — единое целое, библиотека жизни. На одной полке у меня могут стоять Петроний и Гашек. Экземпляры этой библиотеки для меня — объекты общения с кем-то и с самим собой, средство понимания людей, средство самопознания, в них уроки разума и жизни, в них обретение надежды. Сегодня я протяну руку и возьму с полки Распутина, а завтра Монтеня. Этапов велогонки для меня в литературе нет.
Вот слышу об усталости европейской прозы, а я только что перечитал Томаса Манна, и для меня слова об «усталости», пусть и относящиеся к прозе последних лет, уже не важны. Манн оказывается для меня собеседником не менее интересным и необходимым, нежели, скажем, латиноамериканские прозаики. А потому мне и кажется, что «выдача» латиноамериканской прозе «желтой майки лидера» является делом отчасти искусственным и условным (выделяю опять же «Сто лет одиночества» — этот случай на самом деле особый).
Вызывают мое несогласие слова о некоей исключительности латиноамериканской прозы в процессе развитии мировой культуры. Для меня, как для читателя и человека, современная японская проза, как, впрочем, и средневековая, возникшая на другой почве, в других условиях человеческого существования, в других культурных традициях, не менее интересна, чем латиноамериканская. То есть латиноамериканская проза для меня не одинока. Разные культуры при тех социальных совпадениях, которые возникают в разных странах мира, при том, что ли, настроении человечества, общем его состоянии, обшей мифологии, возникшей и возникающей в конце второго тысячелетия, могут создавать произведения общечеловеческого уровня. Не одна лишь латиноамериканская литература.
Оказала ли на меня влиянии латиноамериканская проза? Пожалуй, пока нет. Произвела впечатление. И впечатление сильное. Прежде всего, конечно, «Сто лет одиночества». И потом Варгас Льоса — «Капитан Панталеон и Рота добрых услуг» и «Тетушка Хулия и писака».
Когда я прочитал «Сто лет одиночества», среди прочих пришла мысль: «А ведь я видел нечто подобное». Мысль была странная, но вот пришла. Потом я вспомнил, что именно я видел. Видел фотографии зданий Мехико, Лимы, Боготы, в частности в монографии Е. Кириченко «Три века искусства Латинской Америки». Искусствоведами признано, что Латинская Америка уже дала человеческой культуре явление мирового порядка: это архитектура трех веков колониального периода. И живопись, и скульптура той поры подчинились регламенту испанской церкви и были провинциальными и посредственными. А архитектура пошла своим, вольным путем. На те три века истории приходится и Высокое Возрождение, и классицизм. Однако архитектура Латинской Америки проскочила и Высокое Возрождение, и классицизм — они ей оказались ненужными. Зато латиноамериканские зодчие любили готику, а потом в особенности барокко, то есть искусство взволнованное, неспокойное. Барокко они довели до крайности. При простоте планов церквей декор их фасадов удивляет буйством фантастических форм и линий. Тут и разные контрасты форм, и гиперболизация иных из них, и многокрасочность, и напряжение. Это романтическое барокко.
Конечно, мысль об «отражении» латиноамериканской архитектуры в романе Гарсиа Маркеса была личностной и частной, но мне она показалась существенной.
У меня своя «домашняя» терминология, которая, наверное, не соответствует многим ученым словам. И вот для меня латиноамериканская проза является продолжением и развитием романтического направления в литературе. А направление это существует тысячи лет. Оно жило в устной мифологии, жило и в литературе письменной, в «Золотом осле» Апулея в частности. Многие свойства латиноамериканской прозы вырабатывались именно этим направлением. Обращение к мифу, например, к поэтическому и фольклорному восприятию мира. Оно было и в чисто реалистических вещах, в таких, как «Дон Кихот». А «космовидение»? Оно и прежде было. Оно было у Гомера. Оно было у Босха. Было у Свифта. Было у Вольтера. Оно было у Гёте в «Фаусте». Конечно, латиноамериканская проза самобытна, и ей свойственны достижения, о которых речь уже шла в выступлениях Кубилюса и Адамовича. Однако мне кажется, что при этом латиноамериканскому роману приписываются еще и открытия, которые были сделаны до него, даже тысячелетия назад. Порой же открытия были сделаны и в вещах, широкому читателю теперь малоизвестных, скажем в романе Ч. Мэтьюрина «Мельмот-скиталец». И там есть многие элементы, какие были развиты латиноамериканскими прозаиками (нет, пожалуй, там лишь «смехового» видения мира из-за особенностей натуры автора).
Можно выявить и другие связи латиноамериканской прозы с общим потоком литературы и искусства. Вот, например, умение говорить прямо, без эвфемизмов о вещах, для кого-то, предположим, «грубых». О ночных горшках и прочем. Эти слова и эпизоды идут не для какой-то литературной нагрузки — они естественны, дают ощущение полноты, сочности жизни. Фернанда в «Ста годах…» начинает употреблять всякие деликатные слова по поводу совершенно определенных явлений жизни. Амаранту это приводит в раздражение, и она говорит о том, что Фернанда, видимо, путает задницу с великим постом. Так вот, латиноамериканская литература (по всей вероятности, уже в традициях своей культуры) задницу с великим постом не путает. Для нашей, русской литературы это отчасти урок, не то чтобы предоставление каких-то возможностей — у каждой культуры свои особенности, и иные слова, какие в тебе не воспитаны, не произнесешь, — но все же это урок яркой передачи полноты жизни.
Однако опять же очевидны здесь и европейские истоки этого явления. Естественная грубость, или грубоватость, была и у Шекспира. Была и у Рабле, была и у Брейгеля, была и у Босха. Кстати, в Испании еще в XVI веке с большим интересом относились к Босху — не случайно самое важное собрание работ художника оказалось в Музее Прадо. И опять же эта «грубоватость» была присуща явлениям других культур. Брейгелевские картины жизни встречаются и в китайской живописи, и в работах монгола Марзана Шарава, творившего уже в начале XX столетия и не знавшего ни Брейгеля, ни Босха. Так что для меня латиноамериканская литература, при всех ее победах и действительных открытиях, существует в потоке общечеловеческой культуры. Вынесение ее в нечто исключительное и вызывает мое несогласие.
Еще об одном. Речь заходила здесь о том, что время у нас якобы итоговое и вершинное. А по-моему, в истории человечества таких итоговых и вершинных времен встречалось немало. В особенности для тех людей, которые в это верили. Порой назывались и даты. Скажем, 1400 год, когда ожидался конец мира. Иногда происходили события более оптимистические, и они тоже казались вершинными и итоговыми. Поэтому и явления литературы, представляющиеся нам вершинными и итоговыми (впрочем, гениальные произведения всегда вершинные и итоговые), могут оказаться явлениями промежуточными, а с другой стороны, вечными, причем на других витках спирали человечества они смогут приобрести и новые качества. Или новые отсветы.
Что же касается влияния латиноамериканской прозы на другие литературы, то и тут вопрос непростой. Влияния бывают разные. Иногда скорые, но и чисто внешние. Иногда то или иное явление «не спеша» входит в культуру другого народа, порой через столетия, как, например, творчество Достоевского. Тут влияние оказывается естественным и глубинным. Оно как бы уже «в крови» новых поколений. Порой же влияние новой человеческой позиции, или даже позы, как, скажем, «байроническое» влияние, способно удержаться лишь на двадцать — тридцать лет.
Роман Гарсиа Маркеса, произведя впечатление, напомнил нам, как можно использовать те или иные литературные приемы, и старые, и связанные с особенностями латиноамериканской культуры. Но вряд ли он «поколебал» литературные привязанности уже сложившихся мастеров. Да и, как правило, сильные увлечения новым талантом испытывают прежде всего молодые литераторы с несложившимися еще художественными и жизненными принципами.
Когда же говорят о влиянии латиноамериканской прозы на таких писателей, как Амирэджиби или Айтматов, то тут есть натяжка. Эти личности самостоятельны и сами по себе велики (Амирэджиби и написал-то «Дату Туташхиа» раньше, чем прочитал Гарсиа Маркеса). Приемы же, напомненные Гарсиа Маркесом, они использовать, не изменяя себя, могут. Это дело естественное. Вспомним хрестоматийный пример с тем же Мэтьюрином. Известно, что «Мельмот-скиталец», ныне полузабытый, но не достойный забвения, был внимательно прочитан многими писателями Европы и России. Считается, что из «Мельмота» «вышли» «Шагреневая кожа» Бальзака, «Черт в бутылке» Стивенсона. Тут вспоминали «Страшную месть», но «Страшная месть» вышла не только из украинского фольклора, а из страниц «Мельмота». Там есть и свой Плюшкин. Из «Мельмота» возникли первые строки «Евгения Онегина», да и в самом Онегине первых глав есть что-то мельмотовское. В связи с «Мельмотом» можно вспомнить лермонтовского «Демона», «Странника» Александра Фомича Вельтмана. Есть в «Мельмоте» и разговор с великим инквизитором. Достоевский тоже увлекался Мэтьюрином.
Кстати, и «Мельмот» возник не на пустом месте. Мэтьюрин продолжил готический роман, продолжил Сервантеса и т. д. Утверждение, что Пушкин, Гоголь, Достоевский вышли из Мэтьюрина, было бы, конечно, весьма условным. Все эти люди были сами по себе гениями, и они, взяв тот или иной прием Мэтьюрина либо сюжетный поворот «Мельмота» как подсобное средство, конечно же выражали самих себя.
Может, влияние латиноамериканской прозы на поколение литераторов, которые придут потом, на уже другом историческом витке, будет более сильным и ярким, нежели нынче. Но вряд ли оно будет исключительным. Ведь мифологией в XX веке писатели многих стран увлекались без всякого напоминания о ней латиноамериканцев. В частности, не выпускала ее из виду австрийская литература, о чем можно судить по вышедшему у нас сборнику «Австрийская новелла». Там не редко обращение к мифу, причем не к классическому, а к мифу народному, местному. Это и объяснимо: австрийская литература как бы находится под покровом немецких романтиков и венской школы музыки, создавшей, между прочим, и «Волшебную флейту» Моцарта.
И еще. Адамович уже говорил о значении научной фантастики. Она отражает мифологию (или пытается создать ее) именно нашего, XX столетия, с выходом в космос, с удивлениями, радостями или, наоборот, растерянностью человека перед ранее неведомым ему. Научно-фантастическая литература разрослась, много в ней вещей низкосортных, но некоторыми своими произведениями, как Саймака или Лема, она, несомненно, явление культуры и влияет на «обычную» прозу. (Латиноамериканцы пока обращаются к мифам прошлого, к фольклорным мифам.) И вот тот же Айтматов в своем романе «Буранный полустанок» использовал не только фольклорный миф, но и уроки научной фантастики, взяв ситуацию, которая до него разрабатывалась фантастами-специалистами. И такой путь плодотворен.
Все эти соображения и вызвали мое несогласие с отдельными высказываниями. Но вот пока я сейчас говорил, запал как бы исходил из меня, и теперь я ощущаю некую растерянность.
«Океан» латиноамериканской прозы мне на самом деле незнаком. Готовясь к этому разговору и перечитывая Гарсиа Маркеса, Варгаса Льосу, я испытывал увлечение и радость. Может, я слишком категоричен в своих суждениях? Уверен в одном: ежели появится новая публикация латиноамериканского писателя, постараюсь прочесть ее, потому что знаю: скорее всего, это будет литература высокого класса.
1987Далеко ли поплыли каравеллы…
Под каравеллами Колумба я вырос. Есть такой город Яхрома. Матушка моя родом из Яхромы, и в детстве я каждое лето проводил в яхромском Красном поселке у тетки. Степенное Подмосковье, рядом княжеский когда-то Дмитров, березы, ели, орешник. бузина на склонах высот Клино-Дмитровской гряды, хлопчатобумажная мануфактура. И вот посредине текстильного городка вознеслись две бронзовые каравеллы. (Теперь-то выяснилось, что не бронзовые. Сталь, дерево, но крашены под бронзу.) В тридцатые годы здесь рыли канал. От Москвы и до Волги. Кто рыл и как рыли, сейчас хорошо известно. Надсматривал над рытьем недальновидный нарком Ягода. Открывали канал уже без него, в 1937 году. При открытии канала белым теплоходом проплывал по каналу Сталин. По здешней легенде, он останавливался в яхромском шлюзе (№ 3), согласился посетить насосную станцию и произнес там краткие, но неизбежно мудрые слона. Якобы и про каравеллы. А каравеллы эти, размером, говорили, с настоящие, а то и поболее их, в 37-м году были поставлены на башнях шлюза № 3. Всюду вдоль канала возникали украшения, достойные декора эпохи — где монумент отцу народов, где девушка-небоскреб с чайкой в руках. А Яхрому, на зависть соседей, одарили каравеллами Колумба. Все сухопутные прежде места от Москвы и до Волги, получившие на канале хотя бы пристани, были объявлены отныне портами пяти морей, а моря, как известно, — племянники океанов. Во всей России лишь в Яхроме океанические ветры дули в паруса каравелл.
Каково было яхромским мальчишкам! К тому же самым лучшим в мире в ту пору считался фильм «Волга-Волга». А там теплоход «Иосиф Сталин», доставлявший в столицу письмоносицу Стрелку — Любовь Орлову, — трижды выходил именно из нашего шлюза, а не из какого-нибудь икшинского или деденевского (правда, по географии получалось, что он плыл не в столицу, а из столицы, но имело ли это значение, главное — народу были показаны яхромские каравеллы!). На вопросы наши: отчего именно в Яхроме каравеллы Колумба — взрослые, кто деликатно, а кто с пафосом, разъяснили, что дело не в Яхроме и не в Колумбе, тут символика, в семнадцатом году страна наша отправилась в куда более отважное путешествие, нежели Колумб, человечество ждет от нас окончательных решений, и что там какая-то Америка! Приятно было слышать от взрослых это.
Между прочим, примечательным кажется мне теперь и такое обстоятельство. Осенью сорок первого года к Москве подошла рать Гитлера, положение было трагедийное. Яхрома оказалась в Подмосковье самым восточным местом немецкого продвижения. Из Яхромы лесами немцы были намерены напрямую выйти к Троице-Сергиевой лавре и пересечь дорогу из Москвы в Сибирь. Бои шли здесь погибельные. Нынче в Яхроме на Перемиловской высоте поднялся притягивающий туристов монумент защитникам Москвы… Канал гитлеровцы перешли и заняли Красный поселок, на взгорбке, на восточном краю которого как раз и стоит дом моей тетки, дом моего детства. Но лишь на день. Приказом то ли Жукова, то ли Рокоссовского вода из канала была спущена, залила пойму, и немцы не смогли перебросить к Красному поселку и кирпичному заводу танки. Взорвали мост через канал, горела фабрика. А каравеллы остались. Десять дней стояли под ними солдаты Гитлера, а через десять дней полки сибиряков и уральцев погнали завоевателей на запад. Началось памятное в истории Второй мировой войны наступление Красной Армии под Москвой. Для меня — именно от каравелл…
Впрочем, в послевоенную пору менее всего занимали нас соображения о серьезных обстоятельствах эпохи. Мы знали, что пребываем в счастливом детстве, невозможном ни в какой иной стране, и знали, кому и чем за это обязаны. Мы играли на берегу канала в футбол, ныряли с бетонных лотков в теплую волжскую воду, а над нами плыли бронзовые каравеллы, они были здесь до нас, были здесь всегда, и плыть куда-то им следовало вечно…
Когда мне позвонили и предложили написать нечто об открытии Колумбом Америки, я удивился. С чего бы вдруг мне-то? Ну как же, вы (я то есть) интересуетесь латиноамериканской прозой и делились соображениями о ней. А совсем скоро человечество будет отмечать пятисотлетие великой экспедиции, и хотелось бы, чтобы в связи с этим высказались люди разных свойств. Из вежливости я согласился. Отчего же не высказаться? Выскажусь. Дело известное — открытие Америки… Каким безответственным наглецом я оказался! Знания мои предмета, как выяснилось, были на уровне ученика пятого класса. Пожалуй, и о Яхроме я знал не меньше. Какие-то информационные обрывки, какие-то видения возникали в моем мозгу… Долгое плавание, чуть ли не в несколько лет (нельзя же вот так сразу открыть Америку)… голодное ворчание моряков… бунт на корабле… потом кто-то кричит: «Земля! Земля!»… Когда это было? В каком году? В каком веке? Ах ну да, подсказано, пятьсот лет назад… Выяснилось, что и многие мои ровесники, с университетскими дипломами, имеют о плаваниях Колумба столь же мимолетно-снисходительное представление. Представление это разместилось на складе нашего сознания обязательным инвентарем, в подробности которого нет нужды входить. Данность есть данность. Понятие же «Открытие Америки» потеряло свою торжественную глубину, омертвело, превратилось в расхожий словесный блок, который можно вставить в любое смысловое построение, а то и пустить егозливым катышем по булыжникам быта: «Тоже мне, Америку открыл!» Стало стыдно. Я набрал книг с чувством должника. И увлекся. Теперь уже я открывал для себя эпоху, судьбы, истории трагедий и приключений, видел голубоглазого адмирала… Но обещанного так и не написал… Снова суета жизни отодвинула пятнадцатый век в свою дальность.
И опять звонок. «Вы не забыли?..» Естественно, забыл. Но чтобы не обидеть человека пренебрежением к делу его души, принялся бормотать извинения, хотел, мол, собирался, занозой сидит тема, записи даже делал, но где уж тут при наших заботах… И записи действительно нашел. Читал я среди прочего замечательное исследование Джона Фиске «Открытiе Америки съ краткимъ очеркомъ древней Америки и испанскаго завоевания» (в 2 томах, издание К. Т. Солдатенкова, Москва, 1892–1893 гг.) и вот что записал: «Почти закончил второй том Д. Фиске… И происходило-то все пятьсот лет назад, — и совсем иная жизнь на дворе, а вот волнуюсь. Есть вечное, необходимое мне сегодня. Прошлого нет и нет будущего. Они слиты в «сейчас». Есть только «сейчас». Для каждого из нас. От того сейчас рядом со мной — Кортес, Монтесума, Марина, их хитрости, их подлости, простодушие, величие… Зачем мне все это? Не знаю… Но стало быть, есть нужда…» Нужда есть. И есть волшебное свойство человека оживлять душой исчезнувших давно людей и вступать в их жизнь.
…Но, может быть, Колумб, Лас Касас, Кортес, Марина оживали для меня лишь потому, что я рос под каравеллами?..
И да. И нет. Для меня оживали не только персонажи далекого действа. «Оживал» и, превращаясь в нечто важное для меня, феномен Открытия Америки.
Я человек быта, а его хлопоты требуют времени, с детства для меня естественным стало пребывание во всевозможных очередях, я не выхожу из дома без спасительного изобретения граждан — авоськи, думать в толкотне жизни чаще приходится острием шариковой ручки (острием ли?). Для меня существенен интерес к документам разных столетий, к историческим исследованиям, но этот интерес любительский и бессистемный (или бестолковый?). А в суете летящих дней, да еще и с истериками многолюдных действий и говорилен, история в сознания моем как и в сознании многих знакомых, равна простой хронологии. Еще одной людской очереди, которой суждено растянуться на тысячелетия. Или на миллионолетия. Стоят или шествуют курфюрсты, превращающиеся по ходу очереди в саксонских королей, на фризе замка в Дрездене. А невдалеке на мостовой камень, его давил сапог Бонапарта. История… Даты расставляют людей во временной последовательности, создавая при этом у многих последних иллюзию того, что они, последние, далеко ушагали от первых по дороге к совершенству. Хронология облегчает людям школьное восприятие жизни и разводит их в некие отдаленные друг от друга помещения… Впрочем, прошу простить меня за эти домашние глубокомыслия. Я хочу лишь сообщить о своих чувствах, вызванных знакомством с феноменом Открытия Америки. Хронология-история стала для меня здесь служанкой-условностью, временные же состояния совместились, и я опять ощутил некий единый миг человеческого существования…
…А при знакомстве с феноменом Открытия Америки обнаружилось столько связей с мириадами явлений, великих и пустяковых, столько поводов для размышлений, для проекций на жизнь прошлую, на жизнь нынешнюю и предстоящую. На жизнь вечную.
С какой стороны ни взгляни…
А «стороны» у нашего исторического происшествия были — и торжественно-хоральные, и героические, и трагедийные, и постыдные, и забавные.
В причинах предприятия Колумба очевидна житейская, практическая необходимость. После взятия турками Константинополя прервались связи христианской Европы с Индией и Китаем, при этом было нарушено не только кровообращение мировых культур, но расстроилось и дело купеческое, товарное, оно и подвигнуто Европу к эпохе Великих географических открытий. Некуда было деваться.
Но среди тех открытий предприятие Колумба выглядит и авантюрой (хотя и не совсем). Авантюристом, впрочем, считали Колумба и некоторые просвещенные современники, справедливо полагавшие, что в предложенных Колумбом расчетах и картах несомненны ошибки. Они-то и не давали Колумбу ходу. А те, кто ошибок и несуразностей не увидели или не захотели увидеть, помогли совершить еще одну ошибку. Каравеллы Колумба отправились в страну Сипанго, а приплыли совсем в иную страну. От ошибки, стало быть, к ошибке? Или все наоборот? Как рассудить. …Ошибки в расчетах Колумба шли от незнания. Нет, неточно, не так. Полагаю, что в простодушных и наивных (как нам кажется) представлениях предков было не меньше знания о Вселенной, чем в наших. Они лишь обладали меньшими сведениями и наблюдениями, а стало быть, меньшим числом условных понятий, систем и полезных приспособлений. Но они-то, предки, как раз и приобретали те сведения. Пусть и малую толику их.
Так, авантюрой ли вышло предприятие Колумба? Ну хоть бы и авантюрой. Человек ринулся напролом в место, которого нет. Но в результате-то получил право выкрикнуть: «Земля!»
А коли бы не было карты Тосканелли? Знаменитый флорентиец, астроном и картограф, высокочтимый умами Возрождения, подарил на своей карте Азии десятки тысяч километров земной поверхности, необходимые неизвестным тогда Тихому океану и Америке, и поместил в нынешнем Мексиканском заливе Японию. Будь та карта «в порядке», великая экспедиция, возможно, и не состоялась бы. Да, из-за «заблуждавшейся» карты Тосканелли, в частности, и была открыта Америка.
«Америка России подарила пароход…» Пароход этот, «Севрюга», с делегацией талантов Мелконодска не доплыл до яхромского шлюза № 3…
А страну Сипанго, куда отправились три каравеллы Колумба, из европейцев никто не видел. О ней узнали в тринадцатом веке от хитроумного и делового венецианца Марко. Марко Поло тоже до Японии не добирался, однако слышал о ней в Китае от сведущих людей и мог смело сообщить соотечественникам, что дворцы там строят из золота, а женщины обладают таким искусством в любовных утехах, какого нигде более не отведаешь. При всем том, как выяснилось, позже Марко Поло оказался и большим фантазером. Однако и из его рассказов Европа узнала о том, что Азия не безгранична, ее омывает океан. Океан этот, как полагал Колумб, был Атлантическим.
Заблуждение человека. Отважная авантюра человека. Дерзость. Его фантазии и мечты. Его целеустремленность. Его любопытство.
И неизбежность.
Америка рано или поздно должна была явиться людям. И присутствие ее в мире должно было быть ими осознано.
Берега неведомого континента давно были ведомы. Известны путешествия исландцев (один из них назвал будущую Америку — Винной страной, Винланд), корабли и мореплаватели иных стран наверняка приходили к ним. Но это были посещения чьих-то чужих берегов, утыкание в них. А в 1492 году после экспедиции Колумба земной шар по необходимости собрался. Да, несомненно, именно тогда произошел сбор земного шара. При этом выяснилось, что нет антиподии, предсказанной античными мыслителями, и нет антиподов, которым следовало бы передвигаться вверх ногами, a есть одно человечество. В этом для меня суть Открытия Америки. Земной шар собрался и замкнулся. А событие это было предопределено и подготовлено развитием жизни на нашей планете.
Но если это так, если Открытие было неизбежным, кем же тогда считать Колумба? Если бы не он, то, стало быть, мог бы и любой другой? И не простой ли он инструмент (функциональное орудие осуществления) неизбежности? И не потому ли имя другого мореплавателя покрыло Западное полушарие? И не подобен ли он пилоту космического корабля, которого в наши дни усадили в кабину и отправили в выси люди более, нежели он, пилот, существенные? Если брать вселенский счет, то, конечно, и инструмент. По вселенскому счету и гении — инструменты. Или личности, способствующие движению (горизонтальному ли, вертикальному ли, спиралеобразному или еще какому, вперед ли, назад, не важно куда, а мне и неведомо куда). Сам же Колумб ощущал в себе нечто пророческое и мессианское. Он полагал, что не случайно назван Христофором. Христоносцем. Он готов был сравняться со своим патроном, покровителем путников и моряков, великаном, переносившим младенца Христа через речной поток и почувствовавшим вдруг такую тяжесть, будто на плечах у него был не ребенок, а весь мир. Когда пришло Колумбу, в юности ли, в зрелые годы, в пору удачи или, напротив, в часы отчаяния, ощущение, что на плечах у него весь мир и ему суждено перенести человечество в счастливое состояние, не знаю. Но думаю, что ощущение это было необходимо Открывателю. И думаю, что принятие во внимание пророчества святого Августина (при пересчете Колумбом: конец света — не за горами, века через полтора) и как следствие — желание одарить людей золотом, богатством приобретенной земли, дабы они в благополучии достигли конца света и освободили к сроку Гроб Господень, было для Колумба не игрой и не позой, а естественным пониманием своей планетарной предназначенности. Он знал себе цену и знал, что обязан сделать. И сделал.
…много званых, но мало избранных…
А избранными становятся достойные. (Или — соответствующие? Ведь избранными бывают и на роли злодейские, как-то не хочется называть их достойными.) Колумб был профессионалом высшего класса, мореплавателем, возможно гениальным. Однако профессионалов хватает, но не все из них желают произвести себя в Христофоры. Много бравых мужчин и великих путешественников пребывают в тепле городских квартир, а узнав о том, что какой-то провинциальный художник Федор Конюхов нацепил на плечи рюкзак и в морозы покатил на лыжах к Северному полюсу, понимающе улыбаются и вертят пальцем у виска. И сколько Христофоров, нам неизвестных, берут на себя ношу в делах вроде бы совсем незаметных. Но ими осуществляет себя человечество.
Поклон им. И хвала. И спасибо им.
При этом Колумб не видится мне неким монолитом. Каменным командором идеи. Человеком проявлял он себя гибким. Мог допустить установления соглашательские. Прибыв, скажем, к чудесному Жемчужному берегу и обнаружив несоответствия увиденного со сведениями Марко Поло, картой Тосканелли, он позволил себе предположить, что Земле не обязательно быть образцово сфероидальной. Она может быть и как бы мячом «со вздутием наподобие соска женской груди». Или как бы грушей с некоей вершиной, приходящейся именно на то место, куда он, Колумб, приплыл. А вершина эта предназначена Господом для земного рая. Эдема…
…или «недописки» Колумба. Нам хорошо известны приписки, способствующие велению: «Время, вперед!» А Колумб занимался «недописками». В первом своем путешествии вел два журнала. Один для себя. Другой для команды. В том, что для команды, каждые сутки преуменьшал число пройденных в «море мрака» миль, чтобы создавалось впечатление, будто пройдено еще мало, и не было поводов для роптания. Тише (на бумаге) едешь — дальше будешь?
На одном из первых обсуждений проект Колумба практическими людьми был назван — «мечтательным»…
Но сколь часто адмирал Моря-Океана проявлял и твердоалмазность натуры! И упрямство (или упорство). В плавании втором, вблизи берега Кубы, его спутники заворчали, засомневались, Индия ли перед ними. Адмирал заставил их под присягой дать письменные показания, что они находятся именно в Азии, те же, кого сомнения не успели покинуть, вольны были сойти на берег и сухим путем добираться до Испании. Условились и что тем, кто потом откажется от заверенных нотариусом показаний, укоротят язык. Несмотря и на собственные удивления в связи со многими несоответствиями, Колумб так и умер, не осознав, что открыл не числившийся на карте Тосканелли материк. Материк он и не намерен был открывать. Он прокладывал западный путь в Азию через «море мрака». Проложил…
Одна из королевских милостей, отпущенных адмиралу на закате его сухопутной жизни. По своему положению он был обязан передвигаться на лошади. Он болел, страдал от подагры. Лошадь ему позволили заменить мулом. Меньше трясло.
И другой великий мореплаватель Америго Веспуччи не знал, что открывал Америку. Имя его было подарено Западному полушарию лотарингскими интеллектуалами (в шутку ли, всерьез) при его жизни. И об этом он, скорее всего, не знал. Нужны были подвиги множества мореходов, прежде чем Европа поняла, что произошло. И, конечно, подвиг Магеллана, обогнувшего Америку с юга и прошедшего обнаруженный им Тихий океан (чтобы погибнуть на Филиппинах). Но Америго Веспуччи, добравшийся до берегов нынешней Бразилии, все же догадывался, что посетил южнее экватора землю, неизвестную древним и, возможно, отдельную от Азии (то ли остров, то ли еще что). А потому и назвал ее в частном письме «Новым Светом». Слово, произнесенное иногда между прочим, становится вдруг существенным навсегда. Письмо кормчего и астронома было вскоре напечатано и переведено. Три молодых интеллектуала, Люд, Рингман и Вальдземюллер, жившие в маленьком городке Сант-Дье вблизи Страсбурга под опекой просвещенного лотарингского герцога Рене, никогда никуда не плававшие, но обладавшие знанием, любопытством и воображением, письмо кормчего прочитали и, поразмыслив, присудили в 1507 году «Новому Свету» Веспуччи имя Америго. По их соображениям, в частности, выходило, что три известные части света получили имена женщин — Европа, Азия, Африка, почему бы теперь четвертой части света не дать имя мужчины. Иные исследователи предполагают, что в решении лотарингцев была доля шутки. Или озорства. И брошюра-то их разошлась в малом количестве экземпляров, и шутка (ну пусть и не шутка) возникла в тихой провинции… Судьбу и силу слова порой предвидеть невозможно. Одни открывают, другие осознают…
И все же четвертая часть света не Америго, а Америка. Так и должно быть? Земля, материк, мать-кормилица, вечное женское начало. А Океан, выходит, свирепый или добродушный мужчина? Может, оно и так…
Но что всегда печалит, гнетет в размышлениях об Открытии Америки. Гуманизм. Высокое Возрождение. Ну, не совсем Высокое, но близко к Высокому. И вот представители Высокого Возрождения, явившись в Новый Свет, крушат несовместимую с их понятиями и представлениями цивилизацию. Правда, что теперь печалиться, коли ничего не поправишь? К тому же находятся оправдания и объяснения. Тот же упомянутый мной Д. Фиске, исследователь серьезнейший, был уверен, что обитатели Нового Света находились в третьей степени варварства. Лишь перуанцев он относит к полуцивилизации. Стало быть, надо ли жалеть о прошлом человечества? Ко всему прочему, настаивая на своей «правильной точке зрения», Д. Фиске вводит рассуждения о жестокости индейцев. Мол, несомненно, они были более жестоки, нежели средневековые европейцы. Мол, те, европейцы, даже и при кострах и пытках имели определенную моральную цель, «которая, хотя она и была ошибочной и извращенной, давала, однако, особый характер этой пытке, характер, отличавший ее от мучений, наносимых просто для забавы…».
Да эти средневековые европейцы, а с ними и наслаждавшиеся убиением пленников индейцы — просто ласковые дети! Американскому ученому прошлого века и в страшных видениях не могло открыться, какие происшествия случатся в столетии двадцатом. А уж насчет моральных целей тут и говорить не приходится, все ими было устлано и обставлено. Люди грядущих тысячелетий будут вправе отнести и наши времена к средневековью. Хотя и нам не дано знать, что натворят они…
Д. Фиске без симпатий описывает «Длинный дом» индейцев. Вроде казармы, комфорт примитивный… После четвертого класса я попал в пионерский лагерь на станции Турист, рядом с Яхромой. Палата нашего отряда стояла метрах в ста от канала. Нам казалось, что живем в уюте. Местный крестьянин пожалел нас: эк вас разместили, на манер зеков, это же — барак каналстроевцев. Мы возмутились: небось бывший и недобитый кулак. Мы-то, юная коммуна, с алыми галстуками на груди, прекрасно набираемся здесь сил, а нас еще сравнивают с врагами народа!..
Но ладно. Допустим, что индейцы, не знавшие, что они индейцы, были нехороши. Каннибалы, людоеды, приносящие в жертву злым богам себе подобных. Значит, они заслужили превращения в рабов и лишения собственного, особенного пути развития? Но благородно ли при этом вели себя незваные пришельцы, осуществители Возрождения, вестимо понимавшие, что краснокожие куда слабее их и нет у них средств для серьезного сопротивления? Кабы все было просто… По большей части конкистадоры и не представляли Возрождение, а были практиками, профессионалами войны в отрядах быстрого реагирования, только что одолевшими и выгнавшими из Испании мавров (отличных работников) и некрещеных евреев (купцов и финансистов), за это достойными, по их мнению, даров небес, к тому же оставшимися без дела. На вновь увиденных землях дело для них открылось. Оправданием для их действий, и дурных, и порядочных, могла быть религиозная доктрина. А следуя ей, сопротивляющихся язычников легко было посчитать недочеловеками. Теми самыми антиподами. И отказать им в правах. Тем более что они охраняли золото и всякие прочие прельщающие завоевателей штуки.
А мог бы отправиться с ними в Новый Свет рыцарь печального образа из Ламанчи? И как бы повел себя? Смешил бы коллег книжным благородством или бы оказался фанатиком в борьбе с неверными? Не знаю. Но как проявил себя в Новом Свете последовательный гуманист Лас Касас, мне известно.
Для большинства явившихся в Новый Свет европейцев континент оказался неопознанным объектом, к странностям которого они отнеслись исходя из своих стереотипов. Впрочем, иные хитрецы сразу многое уловили и скумекали. Тот же Кортес, подаривший Испании Мексику. Он оценил мифологию ацтеков и стал действовать согласно ее протоколу. У ацтеков был дурной бог Тескатлипока и достойнейший бог Кецалькоатль. Кецалькоатль на время удалился на плоту из змей в сторону моря (на восток) вместе со своими светлоликими бородатыми спутниками, но обещал когда-нибудь вернуться и одолеть злого Тескатлипоку. Европейцы были признаны ацтеками Сыновьями неба, спутниками Кецалькоатля, прибывшими осуществлять благие деяния. Остальные подвиги решительного, склонного к авантюре смельчака Кортеса были делом рискованной, но техники. Помогало Кортесу, как и другим конкистадорам, и то обстоятельство, что туземцев, не знавших лошадей, приводило в ужас раздвоение сверхъестественного кентавра — всадника и коня.
Сыновья неба и дети природы… В случае с победами Кортеса над Монтесумой — лихо, подловато, вероломно. Но это на наш взгляд. А сами-то мы кто такие? Далеко ли поплыли наши каравеллы? Не были и мы уверены в своей правоте и в неправоте не принявших Высокую Идею и, значит, недостойных жить самими собой и по-своему?
А Марадона забивает голы рукой, скажете вы. Марадона? Марадона тут вовсе ни при чем. Кыш, Марадона… Так или иначе независимая культура (хотя, конечно, в ней возникали совпадения и с иными культурами, человек есть человек), существовавшая тысячелетия, была порушена в славную пору Возрождения. Обломки ее прикрыли гранитной плитой, позже заросшей зеленью. Между прочим, так не произошло при встречах сильных мира сего, попросту колонизациях, с культурами Африки, Индии, Китая. Видимо, оттого, что и прежде имелась информация об этих культурах, уже протекали давние «коммунальные» отношения между землями. Была привычка. А здесь столкнулись с непривычным и необъяснимым. И что же, ничего достойного при этом столкновении не углядели? Почему? Вот А. Дюрер осмотрел изделия из Нового Света и записал в дневнике: «Во всей моей жизни я не встречал чего-либо, что столь же поранит мое сердце, как эти вещи, ибо увидел я среди них изумительные произведения искусства и долго размышлял о тонкой изобретательности человека в далеких и чуждых странах…» Практики же не размышляли, им многое было именно чуждо, низменно, как отросток все той же антиподии, к тому же важней иного им было золото, а потому украшения и статуи превращались в слитки…
«Золото инков». Показ в музее на Волхонке. Очередь длиною в километр…
Но ведь и «Колумбы» двадцатого столетия («более, чем Колумбы»), в том числе и отечественные, признававшие лишь за собой историческую правоту, крушили неугодную им культуру и накрывали разбитое, раскуроченное бетонным монолитом. И тут происходили открытия, и для самих первопроходцев удивительные. Может быть, через пятьсот лет и их будут отмечать. Современникам же опыты и открытия доставались тяжко. И мы отправлялись в несуществующую страну. Брали ли при этом карту Тосканелли? (Колумб, правда, ехал не в утопическую страну, ему-то нужно было совершенно ощутимое, определенное: пряности, золото и пр. А вот Томас Мор, услышав о его путешествиях, в туманном Альбионе сотворил страну-утопию на бумаге. И мы были призваны в страну-утопию. Но никуда не уехали из страны реальной. О приключениях двадцатого столетия человечеству еще предстоит судить (или судачить) долго…)
«Я на мир взираю из-под столика, — сказано лукавым пересмешником Н. Глазковым. — Век двадцатый, век необычайный. Чем он интересней для историка, тем для современника печальней…»
Но все живое, для природы — естественное, никакие гнеты, никакие гранитные плиты вовсе уничтожить не могут. Живое, естественное это рано или поздно прорастет. К тому же неопознанный объект Нового Света потихоньку становится распознаваемым. Мы уже видим его иным, нежели люди Возрождения. Археологи, реставраторы, историки, филологи в последние сто пятьдесят лет сделали немало. Хотя и прибавили загадок. Возможно, при этом мы несколько романтизируем мир и культуру древней Америки. Причины тут разные. И новые наши космические представления. И увлечения (порой «игровые», что ли, из детского любопытства) теориями внеземного происхождения человечества. Не пришельцы ли Кецалькоатль и его спутники? И поисками в прошлом — будущего. И неким чувством вины. Или хотя бы сожаления… Но произошедшего в шестнадцатом веке отменить нельзя. Случившееся случилось. И нынешние сожаления досужего созерцателя в московском переулке, конечно, смешны. Но ведь чем-то они вызваны. Может быть, мыслями именно о будущем. А вдруг?.. А вдруг мы не одни по Вселенной. И встречи с иными цивилизациями возможны. (Правда, специалисты-уфологи утверждают, что НЛО, проявляющие любознательность там и тут, в контакты с людьми вступать не желают по причине темноты нашего состояния. Но ведь это пока…) Вот и думаешь о том, как бы не оказалась гипотетическая встреча космических цивилизации встречей непонимания, встречей несовпадения, встречей силы и слабости, встречей несовместимых и высокомерных доктрин, чтобы не привела она к трагедии. Какие тут нужны осторожности, нравственные, философские, физические тонкости, чтобы дурного не случилось. Все в мире хрупко. Хватит ли человеку и его возможным партнерам благоразумия и порядочности? Или Вселенной никогда не суждено собраться?
А то, что истребляемое неистребимо, а замерев пусть даже и на века, оживает и прорастает, принимая при этом и неожиданные формы, подтверждает движение культуры Латинской Америки. Прорастает даже и то, что и у инков, и у майя, и у ацтеков по разным сюжетам судеб уже не существовало («замерло») и до встречи с европейцами. И то, что, напротив, только вызревало, но не успело дать ростки. А в ходе долгого и соединительного существования с культурами латинской, негритянской, иными ожило и придало образу жизни, характеру, темпераменту, голосу, мелодии, осанке, пластике континента признанную всеми самобытность. Даже и мяч-то по зеленому полю латиноамериканцы «перемещают» особенным образом. И всюду проникающую сейчас ламбаду могли создать лишь они. Ну мяч и ламбада, предположим, пустяки (смотря, правда, для кого). А явленная миру в двадцатом столетии мощь латиноамериканской прозы, монументальной живописи, архитектуры? Это уже серьезно. Впрочем, и в колониальные годы архитектура Латинской Америки была мирового класса. Мне уже приходилось высказывать суждение об этом. Здешние зодчие на протяжении трехсот лет не слишком увлекались формами и линиями Ренессанса, классицизма, а вот неспокойные стили — высокая готика, маньеризм и в особенности барокко — их чрезвычайно волновали. Прежде всего при творении с затеями (буйством их) фасадов, порталов храмов и дворцов. В их искусстве несомненно отражение житейских и художнических вкусов народов континента, фантазий, пластики индейских скульптур, орнаментов, украшений. Когда я в первый раз читал «Сто лет одиночества», мне вспоминались вдруг фасады храмов Мехико и Сакатекаса, виденные мной, понятно, на фотографиях. Ощущение это могло показаться странным, вовсе необязательным. Возможно, его вызвали профессиональные соображения об использовании приема (здесь — барокко). Но ощущение это и теперь не уходит от меня. Без оглядки на европейцев латиноамериканская литература развиваться, конечно, не могла. Уроки литератур французской, испанской, итальянской, североамериканской, русской (в меньшей мере, кажется мне, — немецкой и английской) в ней ощутимы. Но нынче она первична и сама дает уроки. В лучших ее проявлениях сочетается для меня интеллектуализм, порой изящно-аристократический, с мощью и темпераментом натуры континента. А то, что было когда-то погашено, казалось остывшим вулканом, ожило, раскалилось и было исторгнуто латиноамериканской прозой. В этом тоже ее заслуга и сила.
Возвращавшиеся в Испанию моряки могли уже не валяться на палубах каравелл. Кое-что приобрели в мнимой стране Сипанго. Усмотрели, скажем, в быту туземцев «кама кольганте». И появились в Европе гамаки. В каждом крупном явлении много вещей «сопутствующих». Им вначале и значения не придают, а через столетия выясняется, что эти «сопутствующие» важнее золота. А уж пряностей тем более. В сорок втором году по Москве разнесся слух: «Карандаша выслали…» Возникла тут же легенда. Мол, на представлении в цирке на Цветном бульваре любимцу публики клоуну Карандашу был задан вопрос: «Эй, Карандаш, чего это ты сидишь на мешке с картошкой»? «Что я? — прозвучало в ответ. — Сейчас вся страна сидит на картошке». И выслали… Однако, и вправду нелегко бы пришлось нашему народу в двадцатом столетии, если б не она, родимая, рассыпчатая. И очистки ее были в войну хороши… Вот и представьте, что бы вышло, если бы карта Тосканелли оказалась верной и никакой Америки на свете бы не существовало… А сколько еще разных мелочей случились приобретениями! Маис-кукуруза, табак, вкусная толстая птица, опять же по недоразумению названная индейкой. И еще… И наверняка посетители и завоеватели Америки на иные из таких мелочей не обратили и внимания, и теперь нечто существенное, возможно, утеряно навсегда. Не упустить бы человеку ни одну из мелочей при встречах с другими мирами…
Дались, скажете, ему эти предполагаемые встречи! Дались. Возможно, из-за того, что для меня важны фантастические сюжеты в литературе. И в жизни. А чем дальше, их будет все более и более. И такие еще предстоят Открытия!.. Порой нам кажется, что предков мы превзошли, что мы куда мудрее их, к тому же под руками у нас есть и компьютеры, они-то все явления обтолкуют, цифрами и знаками дадут ответы на угрюмые и ехидные загадки… Повторюсь, не уверен, однако, что мы знаем о сути мироздания больше, нежели эллины или подданные фараонов. Или инки Перу. По моим дилетантским понятиям, науки, пусть и самые точные, к истине нас приблизили чуть-чуть. Они лишь систематизировали людские наблюдения и опыты, обозначили связи между ними для облегчения нашего с вами бытия. И создали множество приспособлений, самых хитроумных, опять же для облегчения и приятностей человеческого существования (вместо дубин — лазеры, и пр., впрочем, эти приспособления способны вызвать и погибель человечества). Но вековые наблюдения и опыты с объяснениями наук привели нас к таким безднам тайн, о каких неграмотные предки и догадываться не могли.
А искусства? Они-то пролагали путь к истинам? Думаю, что искусства (музыка, литература — в первую очередь) в гениальных своих созданиях сумели приблизиться к передаче ощущения людьми вечных истин. Прикосновения к ним человеческой души. (Тут, понятно, — мнение гуманитария…)
Но, может быть, человеку и не следует иметь «полное» знание? Наверное, и не следует. И чтобы не заскучать. В частности. И чтобы не потерять надежду. И чтобы быть вынужденным проявлять себя творцом и открывателем. «Голь на выдумки хитра…» Так уж выходит, что чем больше люди не знают, тем больше они могут создать и открыть. Но выходит также, что чем больше мы узнаем, тем определенней возникают в нас и чувства неуюта, тревоги, порой страха и нежелания открывать. Но всегда отыщутся Колумбы, которые ринутся открывать то, что другие открыть боятся. И открывают порой нечто именно от незнания того, что хотят открыть и каким способом. Для Колумба западный океан был «морем мрака». Нынче для нас «моря мрака», «антиподии» — дальние туманности, черные дыры… А ведь и туда ринутся Колумбы.
Вот только бы не совершались ради Великих Открытий опыты над людьми. Но, похоже, это — увы! — невозможно. И главное-то — люди, население, народы — сами с охотой принимаются участвовать в опытах…
А потом, когда-нибудь, нечто прорастает…
Теперь мы грустим оттого, что потеряли (и теряем) культуру. Помимо крови, колючей проволоки, разрушения храмов случилось и простое вытеснение интеллекта нации серостью, толпой, может быть во многом и не виноватой, ведь в ней существовали не только шариковы, а и обычные, но полуграмотные люди, их вытолкнули в пустоты обстоятельства эпохи, и они заняли места, какие не имели права занимать. В человеке происходили печальные превращения. Лишь нынче социальные мутанты, в их числе и я, задумались о возвращении к здравому смыслу. И к культуре. И тут же явились «из недр» блестящие отечественные мыслители, писатели, художники первой половины века, дав нам понять, каким может быть движение к достойному существованию… Впрочем, все на свете так взаимосвязано, так сцеплено, так пронизано человечество множеством нитей, сосудов, нервных клеток, совпадений, что порой «прорастания» происходят быстрые и отчасти неожиданные. Борхес. Кем-то он назван Великим Библиотекарем… Читаю в прошлом году конкурсные работы абитуриентов Литинститута. Рассказ из Амурской области. Явно под Борхеса. Сочинение из Липецка, жанр определен автором: «Вариации в стиле Борхеса». Приамурье, Черноземная Россия, Мадрид, Буэнос-Айрес. Совпадение умонастроений, литературных привязанностей, видений мира. Или мода и моментальное действие современных коммуникаций. Собранный земной шар…
Но знаменитый роман назван — «Сто лет одиночества». Тысячи лет одиночества… Да, при Открытии Америки собралось человечество, но это не значит, что состоялось слияние душ каждого из людей друг с другом. Человек по натуре своей одинок. Он стремится к общению, к пониманию и себя, и другого человека, но под небом он одинок. В романе Габриэля Гарсиа Маркеса сказано, в частности, о неизбежном разъединении одиночеств. Традиция же русской литературы вызывает надежды на соединение многообразий суверенных душ. Мне эти надежды ближе.
Муки и боль, надежды, пафос, ирония, насмешки в судьбе человечества…
Да не посчитают мои слова читатели, коли такие случатся, претензией на некие глубокомысленные откровения. В моих словах много упрощений и дилетантства — ученые люди могут над ними и посмеяться. Это всего лишь ощущения (или даже клочья их) обычного московского жителя (или скажем — обывателя), решившего сдержать обещание. Ну да, высказаться относительно Открытия Америки…
Полагал, что мне еще долго будет позволительно похваляться каравеллами детства. Но в начале года позвонил знакомый и сказал, что со шлюза № 3 в Яхроме их сняли. Гласность гласностью, а дознаться у нас толком, кто отдал распоряжение и зачем, дело унылое. Кто говорит: местные власти. Кто утверждает: речники, в чьем ведоме канал. Для них, мол, это никакое не произведение искусства, а просто тяжелые предметы на крышах башен управления шлюзом. А предметы эти нуждаются в починке. К чему на это тратиться? Упоминаются кооператоры, мол, им переданы каравеллы, на ремонт ли, на разборку ли, неизвестно. Не так давно кооператоры под Яхромой намеревались строить лыжные трамплины, но дело не пошло. К тому же сейчас кооператив есть, а завтра его нет. Высказывался довод: зачем, мол, хранить память о проклятой поре? Довод этот сомнительный. Именно-то и следовало бы оберегать каравеллы как свидетельство истории, как увековечивание памяти о подневольной жизни строителей канала. Так или иначе каравеллы сняли. За два года до предстоящих на Земле торжеств. Досадно. И грустно… Но вернули Яхроме каравеллы! Вернули!..
А каравеллы человечества в пути. Далеко ли они поплыли? Далеко ли приплывут?
1990ИНТЕРВЬЮ
Ирина Карпинос Магический реализм[1]
Писатель Владимир Орлов стал знаменитым, когда в начале 80-х годов прошлого века журнал «Новый мир» напечатал его роман «Альтист Данилов». Главный герой романа — демон на договоре — очень полюбился доперестроечной советской интеллигенции. После развала СССР Владимир Орлов не изменил писательскому призванию. Он преподает в Литературном институте и пишет новые романы.
— Владимир Викторович, как вам нынче работается в Литинституте на Тверском бульваре, 25?
— Сейчас восстановили исторический забор на Тверском бульваре со всякими белокаменными деталями, а в самом институте все по-прежнему. Однако изменился состав студентов. Теперь к нам приходят поступать внучатые племянники постмодернизма. Очень на них сказывается влияние этого постмодернизма: используют чужие тексты, чужие ситуации.
— Но вы сами отбираете студентов в свой семинар?
— Да, как обычно. У нас по-прежнему есть творческий конкурс. Главным образом, я беру ответственность на себя за выбор тех или иных студентов. Я с заочниками работаю, раньше приходили люди вполне состоявшиеся, например, у меня в семинаре были и дьякон, и доктор наук, и солистка Большого театра, и летчик-истребитель, и даже инкассатор. А сейчас чаще всего поступают 18-летние, у которых, кроме школы, за плечами ничего нет, и понимания, зачем они приходят в Литинститут, тоже нет. Поэтому многие отсеиваются. К третьему курсу у меня из 24 набранных осталось 14 человек. Из них, я думаю, человек 5–6 одаренных, которые действительно что-то смогут сделать в литературе. Если предыдущие поколения семинаристов были людьми XX века и могли находить с преподавателями общий язык, то эти уже родились во время нашей смуты. У них в школах и семьях, видимо, не слишком велик интерес к культуре, образованию и литературе. Часто приходят люди мало начитанные, не знающие даже, какие писатели у нас были в 60-е годы прошлого века. Скажем, Трифонова или Казакова никто не знает. И на меня они уже смотрят как на человека из какой-то глубокой старины: типа Писемского или Вяземского. Первые занятия просто тягостное впечатление оставляли: я их не понимал, и они меня не понимали. Потом постепенно и контакт возник, и сама атмосфера института заставила их читать и серьезнее относиться к слову и работе над текстами. Хотя эти ребята пока еще очень сырые.
— А это правда, что вы своих студентов учите писать детективные и исторические романы?
— Я их заставляю писать остросюжетные произведения. Чаще всего люди не умеют строить сюжет. Из прошлого моего семинара почти все студенты написали и опубликовали детективы, а также исторические сочинения. Причем сюжеты не я подсказывал, они сами брали из того, что им было близко. Очень важен момент соперничества. Все-таки Литературный институт — прежде всего игра, необходимая для того, чтобы писательство не было полным занудством.
— Новые ваши романы «Шеврикука, или Любовь к привидению» и «Бубновый валет» настолько не похожи по стилю, как будто написаны разными писателями. Сейчас вы заканчиваете роман «Камергерский переулок». А его вы пишете в каком жанре?
— Как ни странно, и «Шеврикука», и «Бубновый валет» созданы в моем соперничестве со студентами. То есть я их заставлял писать детективные и исторические тексты, а сам в это время ничего не писал. У меня затянулся перерыв после «Аптекаря», когда в стране была сплошная политика и до литературы никому не было дела. Мне казалось, что вся моя проза никому не нужна, а потом все же возникло желание снова писать. После «Шеврикуки» я решил попробовать себя в жанре, который предлагал освоить студентам. Так получился «Бубновый валет». У меня уже был триптих «Останкинские истории»: «Альтист Данилов», «Аптекарь», «Шеврикука». После триптиха с определенной останкинской интонацией мне захотелось написать роман от другого лица и другим языком, чтобы не заскучать в этой интонации. Поэтому я придумал совсем другого персонажа и начал писать роман как детектив. В силу того, что я десять лет проработал в «Комсомольской правде» и работу журналиста хорошо знаю, я вспомнил обстоятельства 60-х годов в молодежной газете и вообще в стране. Поначалу мне было очень трудно находиться в шкуре своего персонажа-газетчика Куделина, а потом я с ним слился и пошли уже куски более яркие по языку. Это была намеренная задача, и мне было интересно это делать. А в «Камергерском переулке» я опять вернулся к фантасмагории.
— То есть вы вернулись к любимому вами магическому реализму? Но это же не продолжение «Останкинских историй»?
— Нет. Камергерский — центр Москвы, он далек от Останкино, хотя там какие-то мостики могут быть перекинуты, есть даже общие имена, но они у семистепенных персонажей. В романе события сами по себе фантастические, там нет ни домовых, ни демонов. Происшествия в романе похожи на реальные, но они гротескные, преувеличенные и заостренные.
— Сейчас происходит глобальное упрощение и опрощение как самих писателей, так и литературных жанров. Магический реализм выродился в фэнтези, модернизм — в постмодернизм. Вы как-то пытаетесь этому противодействовать, когда пишете свои гротескные вещи?
— Я об этом не задумывался, просто пищу так, чтобы мне не было стыдно за мои произведения. Сейчас ведь литературный процесс в основном базируется на интересах издателей и на их коммерческих проектах. Поэтому ходовой является совершенно халтурная литература, всякие так называемые иронические детективы. Даже та литература, которая получает тусовочные премии, не самого, знаете, высокого уровня. Но у нас недавно образовался клуб метафизического реализма. В него входят и Зульфикаров, и Анатолий Ким, и Мамлеев, и Славникова, меня туда тоже записали, но я там ничего не делаю.
— Славникова в этом году получила русского «Букера». Вам нравится, как она пишет?
— А я не читал. В нашей среде большая разобщенность, и контактов между писателями почти никаких нет. В ЦДЛ никто не ходит, там уже совсем другие люди посещают мероприятия. У меня общение происходит в Литинституте и еще с моими приятелями из разных сфер деятельности.
— В автобиографических заметках вы пишете, что ваши приятели — художники и артисты. А именно?
— Из художников — Татьяна Назаренко и Наталья Нестерова. Это художники мирового класса. Последнее мое собрание сочинений в пяти томах вышло с обложками, на которых воспроизведены картины этих художниц. Если говорить об артистах, я дружил с Виталием Соломиным. В последние свои годы он преподавал в Щепке и во ВГИКе и хотел объединить моих студентов со своими, чтобы мои писали сценарии, а его — играли. Но не получилось.
— Да, Виталий Мефодьевич был из такой редкой породы умных масштабных актеров. Мне доводилось с ним беседовать… Скажите, а прототип вашего демона на договоре — альтист Юрий Башмет? Или это неправильные слухи?
— Неправильные. Башмет, когда вышел роман, еще не был заметной фигурой. Я тогда не знал его, да и сейчас у нас шапочное знакомство. Слухи появились после того, как в Японии напечатали «Альтиста Данилова» и на обложке был изображен Башмет. Это было как раз после его гастролей по Японии. Потом Башмет пригласил меня на телепередачу, и мы там все разъяснили. Но тем не менее, путаница между альтистом Башметом и альтистом Даниловым продолжалась. В какой-то степени разыгранный слоган «альтист Башмет» даже помог ему в карьере. На самом деле, как я сам для себя выяснил, Бах — прототип альтиста Данилова по сути. А в жизни — это мой приятель, альтист Владимир Грот из оркестра Большого театра. Он — потомок академика Грота, составителя словаря русского языка.
— В своих эссе вы называете Баха идеальным человеком. Почему именно его?
— Видимо, он близок мне по-человечески. Он мог жить, не завися от государства, оставаться самим собой и делать все, что ему необходимо было по предназначению.
— А как вам телеспектакль Михаила Козакова «Ужин в четыре руки», где Бах — скромный провинциал, не сознающий своего величия, а Гендель — самый знаменитый композитор той эпохи?
— Козаков же взял чью-то пьесу — ее, по-моему, написал англичанин. А в Англии Гендель был популярнее, чем Бах. Это неверная версия о безвестности Баха при жизни. И столько этих версий! Скажем, по мнению Юрия Нагибина, Бах не обладал чувством юмора. А у него есть произведения, которые говорят о тончайшем чувстве юмора. У него даже в фугах есть юмористические вещи. Мало ли толкований… Вот пушкинский Сальери совершенно не соответствует реальному Сальери.
— Ну, раз Бах — истинный прототип альтиста Данилова, помогает ли дух великого композитора продвижению экранизации вашего романа?
— Тут действительно какая-то мистическая история. Столько было вариантов экранизаций «Альтиста Данилова»! Три года у меня был даже контракт с Голливудом. Но наша сторона загубила все дело. Пять студий у меня пытались купить права, я скептически на это смотрел, но на «НТВ-кино» меня уговорили. Они все время рекламировали начало съемок и даже какого-то американца приглашали на главную роль. Но есть такое ощущение, что деньги уже потрачены, а бюджет фильма должен быть немаленьким, и сейчас пока все заморожено, сценарии писал не я, они купили у меня права — и все. И, по-моему, даже режиссера не смогли подобрать.
— Вернемся от экранизации к литературе. Кого сейчас в Москве считают серьезными писателями?
— Hу, скажем, Сорокина и Пелевина в Москве уже не считают серьезными писателями. А кого считают — трудно сказать… Я даже не знаю новых работ Андрея Битова. Мы все разошлись как-то в разные стороны и текстов друг друга не читаем. Толя Ким написал новый роман, но я не знаю, какой. А критика состоит из 30-летних ребят, они обслуживают свои компании и взрослыми людьми не интересуются. Поэтому в прессе мелькают одни и те же имена.
— А каких писателей любите вы?
— Таких слишком много. Но я работаю в жанре магического реализма, поэтому для меня Гоголь, Гофман, Булгаков, Музиль очень интересны. Этим летом перечитывал Салтыкова-Щедрина с большим удовольствием. Умберто Эко меня, конечно, интересует, почти все его романы.
— И его романы не кажутся вам холодными?
— Они расчетливы и, тем не менее, вызывают какие-то мысли и чувства. Его можно читать с сопротивлением и даже раздражением, а потом он, оказывается, очень воздействует на тебя. У меня даже в «Бубновом валете» один исторический персонаж — как раз из тех людей, которые могли бы стать персонажами Эко. А вот Павича я не могу читать. С одной стороны, он очень остроумен, а с другой — надоедает его игра в варианты. Коэльо совсем не принимаю, потому что это такое чтиво…
— Для бедных, да?
— Вообще-то, я не люблю это выражение. Когда у меня вышел «Альтист Данилов», главный редактор «Литературной газеты» написал, что мой роман — Булгаков для бедных. А кто такие бедные?
— По-моему, по отношению к Коэльо такое определение справедливо. Хотя «блаженны нищие духом»…
— У нас сейчас опять издателями поднимается волна, и поэтому в моде Уэльбек, Мураками и т. п. А вот Элинек, получившая Нобелевскую премию, мне понравилась. Я имею в виду «Пианистку», все остальные вещи у нее слабые. Большинство моих знакомых не принимают это сочинение, а на меня оно произвело впечатление.
— Я почему-то вспомнила в связи с Элинек свою питерскую подругу, однокурсницу по Литинституту Марину Палей. Она сейчас — известная писательница, живет в Роттердаме.
— А я ее хорошо знаю! Она была у меня в семинаре молодых писателей, и первая ее публикация вышла с моим предисловием. А потом я отнес ее повесть в «Новый мир», по какой-то причине ее дали читать Тане Толстой, и она эту повесть зарубила.
— Но зато потом в «Новом мире» вышла «Кабирия с Обводного канала», более поздняя повесть Марины Палей. Тогда публикация в «Новом мире» еще считалась очень престижной…
— А теперь эти журналы никто не читает. Главная беда, что сейчас так все заняты собственными делами, добыванием денег на прожитье, что у многих просто нет времени читать. Читают домохозяйки, поэтому женская литература такая ходовая. Та публика, которая когда-то зачитывалась «Новым миром» — врачи, техническая интеллигенция, учителя — даже они сейчас перестали читать. Самые читающие — неработающие дамы.
— Но они же мусор читают! Как вы считаете, профессия писателя будет когда-нибудь опять такой же престижной, как во времена, скажем, моей учебы в Литинституте в конце 80-х?
— Сейчас вряд ли престижно поступать в Литинститут, но зато после его окончания есть возможность устроиться на работу редакторами глянцевых журналов, где платят очень приличные деньги. Парень из моего семинара, который когда-то работал инкассатором, стал редактором журнала «Охота и рыболовство». А писателем сейчас можно назвать кого хочешь. Вот Ксения Собчак стала писательницей к своему 25-летнему юбилею, или этот болтун Андрей Малахов. В моду вошел так называемый рублевский роман: Робски, Минаев, гламур, антигламур. Эти люди Литинститут не заканчивали. Из последних знаменитостей у нас учился президент Монголии. Но, я думаю, когда народ станет жить сытнее и стабильнее, когда появится время для чтения, возвратится и большая литература. То, что в слове уже найдено, никуда не денется. Надеюсь, это возвращение начнется лет через 10–15…
— Вашими бы устами… Владимир Викторович, говорят, вы по старинке пишете пером, перепечатываете рукопись на машинке, а компьютер знать не хотите. Это правда?
— Я бы так и поступал до сих пор, если бы у меня не сломалась машинка. Но я по-прежнему пишу ручкой в тетради в клеточку, а потом перевожу написанное на компьютер. Как раз последние месяцы переводил летние главы из «Камергерского переулка». Цветаева говорила: «Я думаю кончиком пера». У меня то же самое.
2007Лина Тархова Кто он, «бубновый валет»?[2]
По Москве ходят слухи, что писатель Владимир ОРЛОВ заканчивает роман о «Комсомольской правде», где он когда-то работал. Известность и даже славу принес ему «Альтист Данилов», выдержавший двенадцать изданий на русском языке, опубликованный во многих странах мира. И вот новый роман — «Бубновый валет». Публика строит предположения: кто этот «валет», какие «короли» и «дамы» действуют в романе и каких разоблачений — какой же в наше время успех без сенсационных разоблачений? — можно ожидать от автора.
Встретившись с Владимиром Орловым, прежде всего уточнила, с кем мне предстоит беседа — с журналистом, ставшим писателем, или с писателем, который хотел бы забыть, что он журналист?
— Журналистом себя никак не ощущаю. Больше того, когда начал писать романы, пришлось вытравить в себе газетчика начисто.
— Что так резко? Ведь в свое время журналистская командировка подсказала вам идею первого романа, «Соленый арбуз». И сюжет следующей вещи, «Происшествия в Никольском», навеян письмом в «Комсомолку».
— Писатель и журналист — слишком разные профессии. Как-то к Алексею Арбузову обратились из журнала с просьбой дать какую-нибудь публицистику. Он ответил отказом: «Сейчас я пишу пьесу и не могу мыслить формулировками». Вот и я совершенно не умею формулировать, классифицировать… К тому же следование документу, факту убивает фантазию, а с нас в газете требовали не сто, а сто пятнадцать процентов точности. Вот и пришлось выбирать — либо ты газетчик, либо… Правда, писателем себя не называю, для меня это очень такое высокое понятие. Я себя считаю сочинителем.
— Который, куда же от этого деться, вырос из журналиста, из всем известной редакции. Насколько близки к прототипам герои «Бубнового валета»? И не боитесь ли в связи с этим неприятностей? Ведь люди редко воспринимают себя такими, какими их видят со стороны.
— Именно чтобы избежать всяческих упреков и обид, специально предуведомил, что все события и персонажи автором придуманы. Место действия — никакая не «Комсомолка», а просто молодежная газета, и герой — не журналист, а историк по образованию, служащий бюро проверки, технический, можно сказать, работник. В романах Останкинского триптиха — я использовал романтические ходы, приемы фантасмагории. И, приступая к новому, боялся, что освоенная уже интонация может подсказать какие-то банальные повороты. Потому и поставил себе задачу: чтобы была совершенно реальная вещь и совершенно непохожий на меня рассказчик. А какую среду я знаю? Журналистскую. Вот и взял молодежную газету, которую нигде не называю. Хотя по географии, по месту на этаже, в том числе и профессиональном, можно выстроить догадки. Чего, честно сказать, не хотелось бы. Вначале, да, намеревался использовать какие-то сюжеты из жизни газеты, но заработало воображение… И увело от конкретных ситуаций, людей, и возникла совершенно другая история — о любви, о человеке, который пытается отстоять себя, свою самостоятельность, самодостаточность вопреки всему, что на него наваливает жизнь.
Персонажи далеко отошли от тех, кто послужил как бы первотолчком к их созданию. Вот сейчас вспомнил: в жизнеописании одного героя присутствуют две реальные детали, надо убрать.
— Так обидчивы бывают прототипы? Мне встретилось у Феллини определение счастья: возможность говорить правду так, чтобы от этого никто не страдал. Что, трудно говорить правду?
— Не задумывался над этим. Я не знаю, что такое правда. Скорее всего, она у каждого своя. Но знаю другое: ни один крупный мастер не унижал ни своего героя, даже самого разотрицательного, ни читателя.
— Вы не побоялись сделать героем «Бубнового валета» обычного человека, который, если судить по прессе и телевидению, публике сегодня не интересен. Это не гигант мысли, не гигант секса, не политик, не маньяк. Редкостная фигура — нормальный гражданин без особых примет.
— Когда-то, в молодости, я очень ощущал существовавшую в обществе иерархию, все мы были, как бы точнее выразиться, загнуты. Приходил в Дом литераторов и казалось: они — те, кто сидит в президиумах, издает собрания сочинений, — великие, первые, а мы вроде как самозванцы. Но годы идут, и начинаешь понимать, что никакой такой очереди нет. Есть люди, проживающие свою естественную жизнь. И есть те, кто все время чего-то добывает. Это мои хлопобуды из «Альтиста», члены научно-инициативной группы хлопот о будущем. Вот это их будущее и пришло. Они как раз достаточно повзрослели, чтобы подоспеть к хлебным местам. Хлопобудов было видно всегда, но что удивительно — очень много их оказалось. И начали стрелять, друг друга уничтожать… Мне интересна совсем другая жизнь, где человек осуществляет, так сказать, свое достоинство.
— Нынешнее время не слишком расположено к таким людям.
— А другого-то у нас не будет, и не надо идти ему поперек, в этом времени надо просто жить.
— Всегда удавалось установить с ним добрые отношения?
— Да нет, по-разному бывало. Случился у меня и очень тяжелый период. После «Альтиста» публика ждала нового романа, раскрученного, как сказали бы сегодня, автора, и я предполагал, что он будет иметь не меньший успех, чем предыдущий. А вот не получилось. «Альтист» ответил какой-то потребности времени, а «Аптекарь»… Еще в 1986 году он мог иметь резонанс, но, будучи напечатанным в 1988-м, оказался обречен. Надо вспомнить, что тогда происходило. Все жили книгами Солженицына, шла волна запрещенных прежде мемуаров, романов. «Аптекарь» напечатали между «Доктором Живаго» Пастернака и «Факультетом ненужных вещей» Домбровского. То были обжигающие остротой, имевшие мученическую судьбу книги, их выход стал событием и политической жизни. А с экранов телевизоров не сходили лица «умнейших» и «честнейших» людей эпохи — Станкевича, Бурбулиса… Все жили злобой дня. Ко мне из Челябинска приезжала делегация от читателей, хотели выдвинуть в депутаты. Слава Богу, хватило ума отказаться. И тут появляется книга, где автор, точно игнорируя сиюминутный политический контекст, пытается что-то говорить о вечном…
Поехал на дачу, жил там один и перечитывал «Дон-Кихота». Эта книга может излечить, наверное, от любой хандры. Дон-Кихот — живой, переливающийся красками образ, в его глубине все время происходит реакция какая-то ядерная. Особенно близок оказался мне эпизод, где странствующий рыцарь приходит к знаменитому художнику, надо полагать, Веласкесу, и спрашивает: «Что пишешь?» — «А что выйдет». Вот так и следует писать, ничего заранее не пытаясь вычислить, сконструировать.
И я подумал: ничего не надо в себе ломать, не надо подстраиваться под тенденцию. Пиши, что душа велит, и если есть в тебе что-то, что сделает тебя интересным собеседником для других, — считай, ты свою задачу выполнил.
Там же на даче нашел номер «Литературки», которую, как мне помнилось, год назад жадно читал от корки до корки, все про политику, про перестройку. Перелистывал газету и поражался: и вот эта чушь, которая сегодня никому не важна, так меня занимала? При любых обстоятельствах самое надежное — оставаться самим собой. Я не вздыхаю о прошлом, я дорожу настоящим. Это прежде всего мои студенты, которые очень много для меня значат. Например, начать новый роман, раскачать себя на большую работу было тяжеловато. Но подумал: со студентов требую, а сам?
— Раньше редакторы журналов подгоняли: неси скорее рукопись?
— Да, гибель толстых журналов — очень большая беда. Звоню в «Новый мир», это «мой» журнал. Вот, говорю, заканчиваю новую вещь. Первый вопрос: «Какой объем?» — «Примерно двадцать четыре листа». — «Сократи вдвое и приноси». — «Да вы хотя бы прочитайте!» — «Нет, и читать не будем». Гранин написал двадцать листов о Петре, ему тоже предложили текст ополовинить, он отказался. Но на журнал обижаться нельзя — подписчиков почти не осталось, редакция вынуждена рассчитывать на разового читателя и не может печатать большие вещи с продолжением.
Да если и напечатают, кто тебя сейчас заметит? Только тусовочные критики, а они больше заняты междоусобной грызней, нежели анализом текстов.
— Но вам-то с критиками, кажется, повезло?
— Да не сказал бы. Известно, например, что была установка «Альтиста» раздолбать. Долго не появлялось ни одной рецензии, потом вышло несколько публикаций в «Литгазете» — ругательных. Но тогда журналы имели большие тиражи, и люди просто говорили один другому — прочитай то-то и то-то, и книга распространялась. И заказная критика ничего не могла с этим поделать.
— Зато свирепствовала цензура. Насколько я знаю, «Происшествие в Никольском» она сильно «обглодала»?
— Роман этот я принес в 1972 году в «Новый мир», к которому относился чрезвычайно почтительно. Через какое-то время редактор, Анна Самойловна Берзер, она готовила все новомировские знаменитые публикации, включай Солженицына, вернула мне рукопись, исчерканную, с большими сокращениями; «Все, что я сняла, поможет роману пройти цензуру…» Меня просили смягчить текст. Я колебался, ввел новый персонаж. Но сюжет с групповым изнасилованием все же казался в то время слишком шокирующим. Я убедился, что и Берзер абсолютно точно предусмотрела, на что отреагирует Главлит. Мне объяснили, что моя вещь нуждается в «просветлении». Под удар попал даже такой невинный эпизод: героиня, неверующая, заходит в церковь помолиться.
Я отказался принять замечания, хотя мы буквально бедствовали. С 69-го года по 76-й меня по неизвестным причинам не печатали. Позже «Происшествие…» все же вышло, в изувеченном виде. По нему хотели снять фильм, но когда со сценарием появлялись на киностудиях, слышали одно: «Через наш труп!»
— «Альтиста» цензура тоже пыталась «усовершенствовать»?
— Была только одна просьба, но категорическая. Поменять цвет быка с красного на любой другой. Оказалось, Красным Быком за границей называли Ленина. У меня и в мыслях не было никакой политики, и я решил — пусть бык будет синий.
— Знаю, вашей жене, пришлось взяться за адскую работу — сделать сотни вклеек в рукопись, изгоняя «нехороший» цвет. А что спасло «Альтиста», в котором многие потом находили опасные политические параллели, от более суровой кары цензоров — должно быть, фантастичность?
— Многое спасло. «Крыша» Родиона Щедрина в первую очередь. Роман проходил в «Новом мире» три года. На каком-то этапе было решено, что необходим отзыв авторитетного человека. Поскольку герой — музыкант, обратились к Щедрину: лауреат Ленинской премии, секретарь союза композиторов. Начались семь месяцев ожидания, он никак не мог выкроить время. А когда прочитал, захотел написать предисловие.
И еще немаловажное обстоятельство. «Новый мир» должен был служить в глазах цивилизованного мира как бы витриной либеральности советского строя. Но как раз в то время журнал публиковал «бессмертные» произведения Брежнева — «Целину», «Малую землю» и т. п. И не случайно в интервалах между этими «полотнами» появились «Картина» Гранина, «Уже написан Вертер» Катаева, «Буранный полустанок» Айтматова, «Самшитовый лес» Анчарова и «Альтист».
— Слушая этот перечень, трудно удержаться от восклицания: «Какие книги были! Почему сейчас нет вещей подобного уровня?»
— Каков бы ни был ответ, бессмысленно искать его только в особенностях нынешнего времени. Да, на прилавках лежат тонны макулатуры, и есть соблазн легких денег. Но я вижу и то, что публика уже устает от такого чтива. И еще вижу, хотя бы по своим студентам, что есть талантливая молодежь. У меня все же теплится надежда на то, что толстые журналы возродятся, и будет там и серьезная литература, и публицистика.
— Выходит, публицистика вам все-таки нужна? Кстати, как вы относитесь к определению журналистской профессии, которое звучит все чаще и настойчивее — вторая древнейшая?
— К сожалению, журналистика стала более бессовестной. Молодым газетчиком, я имел романтическую иллюзию, что мы помогаем обществу исправлять его недостатки. Верят ли хоть во что-нибудь сегодняшние бойкие «акулы пера»?.. Хотя надо сказать, что в последние годы произошло и нечто позитивное — умерла старая журналистика, в том числе так называемая моралистика, которая совершенно справедливо называлась у нас «сопли-вопли». Газетчик излагал ситуацию, разбирал позиции действующих лиц, выносил приговор. Кто ты такой, чтобы судить?
— Однако на таких материалах — при вечном дефиците хорошей литературы — воспитывались целые поколения.
— Может быть. При прежних гигантских тиражах и щепетильном отношении авторов к героям. Но все же — журналистское дело — по возможности точная информация. А мне постоянно что-то вкручивают в мозги. Вот телепоучитель с Первого канала. Для меня вторично, говорит он правду или нет, поскольку я вижу его весьма относительный интеллектуальный и культурный уровень, а он еще что-то пытается мне внушить. Из-за этого и в театр Любимова не мог ходить, там мне с жаром объясняли то, что я прекрасно понимал и сам.
— Приходится ли общаться с молодыми журналистами?
— Время от времени звонит какой-нибудь начинающий репортер с просьбой об интервью. О чем будем говорить? Оказывается, он и представления не имеет. Так, обо всем. Читал ли автора, с которым хочет встретиться? Нет. Очевидно, это считается излишним. Понятно, что общаться с такими «профессионалами» интереса не возникает. Журналистика в их представлении — нечто легковесно-шутовское, такие труженики пера, конечно, авторитета профессии не прибавляют.
— И нет журналистов, которым вы доверяете?
— Почему же, такие еще сохранились. Юрий Рост, например, Василий Песков, Ярослав Голованов. Эти люди никогда не лгали в своих сочинениях. Всегда ждал статей Селюнина, Шмелева, Черниченко, то есть честную социальную и политическую публицистику. Она мне и сейчас нужна.
2000Светлана Телятникова Увидеть Париж и… влюбиться в Москву[3]
Владимира Орлова представлять довольно просто. Он — автор нашумевшего в начале 80-х романа «Альтист Данилов». В середине 90-х получил премию Москвы в области литературы и искусства за роман «Шеврикука, или Любовь к привидению», в котором читатели повстречались с некоторыми персонами из «Альтиста» и «Аптекаря». Соответственно это останкинский триптих с единой кровеносной системой. Далее последовал роман «Бубновый валет». Затем — собрание сочинений в 6-ти томах.
Владимир Орлов — москвич в четвертом поколении. Его герои чаще всего живут в Москве.
«…Во скольких только городах я ни побывал, а надо мне было попасть именно в Париж, чтобы навсегда не стесняться Москвы. Господи, какой красавец город Москва явилась мне! И дело было не в том, что я после упоительного карнавала зимних игр в Гренобле, после бессонно-счастливой репортерской круговерти устал и затосковал по дому. И не в том было дело, что в Париже со слякотью у кладбища Батиньоль, где лежал Шаляпин, Москва увиделась мне снежной и голубонебой и пришли на ум «гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные…» И мокрый февральский Париж был прекрасен. Но и Москва, понял я, — город сказочный. Явилась и еще мысль: а Москва-то не хуже Парижа… Мысль человека, открывшего рот от удивления. Мысль пустая. При чем тут хуже, лучше! Париж и Москва открывают разные ряды. Париж не похож ни на какой другой город. Москва не похожа ни на какой другой. Но есть множество городов, похожих на Париж и похожих на Москву. Париж и Москва первичные и сами по себе…»
«Аптекарь»— Владимир Викторович, если перефразировать известную поговорку, то получим: «Скажи мне, кто твой учитель, и скажу, кто ты». Так кто ваши учителя?
— Я продолжатель мифологической традиции Апулея, Гоголя, Гофмана, Булгакова. Мои романы, в частности, населены и домовыми. Шеврикука — один из них. От родителей я знаю, что наши родственники, жившие в деревне, непременно оставляли на ночь кусочек хлеба для домового. Домовых много: овинные, банные… Подробно об этом можно найти у Афанасьева, Максимова. Они обладают разными характерами, но в основном домовые добрые. Правда, если хозяева ведут разгульный образ жизни, то те пакостят. Домовые — фантомы человека. В современных многоэтажках домовые гуляют по всему дому.
— А вы чувствуете домового, когда впервые приходите в дом?
— Не хочу на себя брать какие-то сверхспособности, но кое-что, по-видимому, чувствую. Иначе бы не писал…
— Благодаря «Альтисту Данилову» в 80-е годы вы пережили взлет. А что было до того?
— С 1969 по 1976 год меня почти не печатали. Вероятно, по цензурным соображениям. «Булгаков для бедных», — сказал обо мне Чаковский, главный редактор «Литературной газеты». А позднее прочитавший роман Сергей Ермолинский, друг Булгакова, написал: «Сравнение Орлова с Булгаковым может быть чисто поверхностным. Но их объединяет мужественность поступка и раскованность писательского воображения.»
— Сейчас вы являетесь членом Комиссии по присуждению премии Москвы в области литературы и искусства, основанной в 1992 году. Расскажите, пожалуйста, кто может ее получить?
— Премия Москвы в отличие от Букеровской или «Триумфа» — государственная. Она вручается мэром в День города. Принимать участие в конкурсе могут только москвичи по представлению организаций: театра, издательства, оркестра и т. д. В среднем награждаются от 10 до 30 человек. Например, среди лауреатов премии студент Литературного института Игорь Кочергин, молодой писатель Сергей Жебрунов, актер Малого театра Виталий Баринов, артист Большого театра Михаил Лавровский.
— Вы преподаете в Литературном институте. Какая там обстановка?
— Во-первых, в Литинститут перестали поступать графоманы, ибо эта профессия перестала казаться престижной и прибыльной. Приходят люди, у которых есть способности, и которые не могут не писать. Во-вторых, под крышей Литинститута собрались преподаватели разных убеждений, но никто не давит на студентов, не пытается обратить в свою веру. За пять лет наши студенты получают прекрасное филологическое образование.
Среди последнего моего выпуска есть сложившиеся писатели, своеобразные мастера — Василий Логинов, Самид Агаев, Макс Борисов, Олег Лебедев, Ольга Митина, Ирина Полищук.
— Вам не грустно, что имидж писателя претерпел изменения в худшую сторону?
— Существует настоящая литература, и существует чтиво. К сожалению, сегодня становятся популярными те, кто издает чтиво. Настоящих писателей всегда мало. Себя я считаю сочинителем, поскольку для меня имя «писатель» чрезвычайно высоко.
— А кто по профессии ваша жена?
— Журналистка. Много лет возглавляла журнал моды «Московский стиль». Недавно выпустила роман «Подиум». Сын и невестка — тележурналисты. Если учесть, что мой отец до войны был заместителем главного редактора «Вечерней Москвы», то получается журналистская династия из трех поколений. Ведь я тоже начинал в «Комсомольской правде».
— И последнее. По Москве прошел слух, что вы получили премию от партии любителей пива.
— И это правда. Вместе с Андреем Битовым и Юзом Олешковским. За мистическое освоение русской пивной мысли. В романе «Аптекарь» события происходят в пивной.
2004Елена Алексеева Останкино — место грозовое[4]
Автор «Альтиста Данилова» сегодня сочиняет еще один мистический роман о Москве
В 80-м в «Новом мире» вышел роман Владимира Орлова «Альтист Данилов». В нем рассказывалось о том, как в Москве, в Останкине, поселился полудемон-получеловек Владимир Алексеевич Данилов. В потусторонних сферах — демон на договоре. На Земле — альтист, позволивший себе запретную для демона любовь к земной женщине и навлекший на себя гнев небес. Фантастический сюжет развивался на останкинском пространстве. Романом зачитывались. Изучали как магическое послание. Особенно восприимчивые читатели общались друг с другом языком «Альтиста». Такая популярность в то время была только у «Мастера и Маргариты». И все гадали, кто такой Орлов, решившийся на магический реализм в эпоху расцвета иного реализма — социалистического. Он оказался журналистом из «Комсомолки», ушедшим на вольные писательские хлеба. Сегодня Орлов по-прежнему популярный писатель. В книжном магазине увидела, что его издают уже собраниями сочинений. Пишет сейчас новый московский роман «Камергерский переулок». Снова с приемами фантасмагории. На интервью я приехала к нему домой в Газетный переулок, что недалеко от Кремля. Когда-то же он жил в Останкине. И написал останкинский триптих, куда и вошел «Альтист Данилов». А родился и вырос Владимир Орлов в районе Мещанских улиц, недалеко от Рижского вокзала.
— Владимир Викторович, на ваших глазах ведь проспект Мира прокладывали…
— А его никто и не прокладывал. Это Никита Сергеевич Хрущев к открытию фестиваля молодежи и студентов в 1957 году распорядился несколько наших улиц назвать проспектами. Обыкновенные улицы переименовали в проспекты. Возвели в фельдмаршальское звание.
В Москве ведь проспектов не было. Проспект — прямая линия. А Первопрестольная, слава богу, кривая. С появлением проспекта Мира исчезли почти все Мещанские улицы, на которых прошло мое детство. Осталась только одна Мещанская улица, где жил Женя Евтушенко.
— В какой школе учились?
— В 273-й на 1-й Мещанской. Ее же окончила режиссер Татьяна Лиознова, снявшая «Семнадцать мгновений весны». А в соседней 609-й учился Высоцкий. Жил он напротив Рижского вокзала в доме военных (у него отец был офицером). Рижский вокзал был тогда настоящей окраиной. А на самом деле до Кремля было всего-то четыре километра. Но нам казалось, что он где-то очень далеко находится. И мы жили не центром, а от Рижского вокзала до Останкина. Нашим парком был Останкинский парк, куда нас еще родители водили. В школьные годы мы там катались на лыжах. А летом наши уроки физкультуры проходили на самом первом стадионе Москвы (ныне не существующем) в Самарском переулке. На его месте построен спорткомплекс «Олимпийский». Ходили в детский парк в Марьиной Роще смотреть, как на 30-метровом ледовом клочке тренируются будущие олимпийские чемпионы Белоусова с Протопоповым. Потом, уже будучи корреспондентом «Комсомольской правды», я общался с ними и писал о них. Еще мы любили ездить на трамвае на ВСХВ (ныне ВВЦ). Мы смотрели довоенные фильмы и знали, что существует Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. И родители нам о ней рассказывали. И она нас манила. В фильмах-то показывалось, какое движение народа происходило на выставке. После войны же это был мертвый город, особенно зимой. Как известно, с 41-го по 54-й год ВСХВ не работала. И мы проникали через заборы на территорию выставки, играли среди пустовавших зданий. Тогда их никто особо не охранял. И нам казалось это место какой-то фантастической страной. Гигантские павильоны с колоннами мы воспринимали как замки.
— Когда вы перебрались жить в Останкино?
— Когда стал работать в «Комсомолке», получил квартиру в Комсомольской деревне в Останкине. Она тянулась от улицы Королева до Звездного бульвара. Здесь строило свои дома издательство «Молодая гвардия».
В Комсомольской деревне жили младшие чины ЦК комсомола и сотрудники «Комсомольской правды», «Техники молодежи», «Пионерской правды». Обитал я здесь лет десять, до 78-го. Пока Союз писателей не дал мне эту квартиру в Газетном переулке. Веселая молодая жизнь проходила в Останкине. Я бы сказал, богемная. Актеры, художники, журналисты… Нам всем было по тридцать с небольшим. Тогда ночных заведений не существовало, и мы собирались по квартирам. Другим нашим местом общения, этаким клубом, был пивной автомат на улице Королева. И в «Альтисте», и в «Аптекаре», он у меня описан. Там сходилась вся мужская публика. В Англии есть пабы, а у нас был этот автомат.
— Вы были журналистом, писали на злободневные темы. Как вдруг пророс фантастический сюжет «Альтиста»?
— Это все необъяснимо. До этого я писал роман «Происшествие в Никольском», который был основан на совершенно реальных и трагических событиях. Схожую историю потом использовали в фильме «Ворошиловский стрелок». Роман был написан в 72-м, а в 74-м цензура его сняла из «Нового мира» и приостановила издание в «Советском писателе». Антисоветчины в нем не было. Шокировала история изнасилования.
«Альтиста» же начал писать неожиданно. У меня был знакомый альтист в Большом театре. Демонической внешности. Его демоном и называли. В компаниях ему всегда подавали блюда, которых мы не удостаивались. Я ему сказал как-то, что вставлю про это в комедию. Написал первых шесть страниц и бросил. Но у меня жена попала в больницу, и я, чтобы ее отвлечь от грустных мыслей, стал дальше писать. Когда дошел до ста страниц, понял, что это не просто развлечение жены, а получается вещь.
— Быстро ее написали?
— Нет. Я ничего быстро не пищу. Быстро пишут Донцова, Устинова. Я всего-то пока семь романов сочинил.
— Как же «Альтиста» напечатали?
— Очень сложно. Три года лежал в редакции журнала. Потом редактор отдела прозы «Новою мира» Диана Варткесовна Тевекелян, которая в свое время опубликовала «Мастера и Маргариту» в журнале «Москва», нашла тонкий ход — послала мой текст на рецензию композитору Родиону Щедрину. Тот прочитал и дал восторженную рецензию. А он в то время был в фаворе, лауреатом Ленинской премии. И его отзыв стал защитой от цензуры. Потом выяснилась главная причина, благодаря которой «Альтиста» напечатали. «Новый мир» в ту пору считался самым либеральным журналом. К тому времени Брежнев стал автором литературных сочинений. Напечатать их собирались в «Новом мире». И они там наверху сообразили, чтобы брежневские опусы воспринимались и поддерживались читателями, между ними надо напечатать все то, что цензура пропустить не может. Так, между «Целиной» и «Возрождением» Леонида Ильича опубликовали «Картину» Гранина, моего «Альтиста», «Уже написан Вертер» Катаева, «Живую воду» Крупина, «Самшитовый лес» Миши Анчарова, «Буранный Полустанок» Айтматова.
— Вам было важно, чтобы действие «Альтиста» проходило в Останкине?
— В таком романтическом жанре литературы есть писатели, которым все равно, где происходит действие. У того же Грина сюжет развивается в условной среде. Я же воспитан на Гоголе, Гофмане. Как писал Николай Васильевич, необходимо «сочетание фантазии с дрязгом жизни». С дрязгом жизни, то есть с совершенно реальными приметами существования человека. Мне очень важно было существование моих персонажей в реалиях московского быта. И поскольку этот столичный район я хорошо знал, то и переселил альтиста Данилова из дома напротив Новодевичьего монастыря (где он в реальности и жил) в кооперативный дом ансамбля Моисеева на Цандера. Потом выяснилось, что Останкино — самое грозовое место в Москве.
— Это научно подтверждается?
— Да-да. Известно еще, что в ледниковый период ледники шли, шли и в Останкине остановились. Здесь произошло соединение равнинного и горного. Этот район оказался климатическим и горно-геологическим эпицентром.
— И телебашню поэтому здесь установили…
— Нет, не поэтому. Башня здесь появилась, потому что это самая высшая точка Москвы по уровню моря, как и Воробьевы горы. Но там уже построили университет. Хотя Воробьевы горы все-таки ниже, чем Останкино. А Тамара Глоба как-то написала, что у астрологов (хотя я не верю во все эти дела) Останкино считается мистическим местом в Москве. Так что оказывается, все не так уж случайно.
— Сегодня вы преподаете в Литературном институте. Как ваши студенты относятся к «Альтисту»?
— Скорее всего, они его не читали. Большинству из них — 18–20 лет. В основном девицы. Потому что военной кафедры у нас нет, и ребята не особенно к нам идут. Да и вроде бы не престижная сейчас профессия. То, что они не знают, кто я такой и чего написал, для меня не имеет никакого значения. Когда на предыдущем курсе студенты меня читали, я запрещал вести на занятиях разговоры о моих сочинениях. Я понял, что мои нынешние студенты смотрят на меня, как на какого-нибудь Писемского, то есть на человека из XIX века, даже не из XX-го. Они не знали, кто такой Трифонов, кто такой Юрий Казаков. Главным для них кумиром был Довлатов. Легко читается, говорят. Высшее достижение — Вика Токарева. Поначалу не могли написать сочинение больше пяти страниц. А на той неделе одна из студенток принесла на двести страниц роман, другая — повесть. Я просто завел в них игру. На первом курсе сказал, что не поставлю им зачеты, если они не напишут сочинение меньше пятнадцати страниц. Дал им тему: «Три дня из жизни грузового лифта». Написали. И все по-разному. У всех чего-то сыграло. Сейчас они у меня пишут детектив «Вход и выход». Две студентки уже сдали свои тексты. Это те самые романы.
Я сегодня ночью проснулся и два часа не мог заснуть, сравнивал их поколение с нашим. Конечно, почти через каждую страницу у них описывается секс. Если какая-то случилась неприятность, надо срочно идти в магазин и какой-нибудь новой тряпкой себя утешить, такая шоппингтерапия. Мы в свое время в таких обстоятельствах покупали книги. Но я не осуждаю их, это другое поколение.
— Вам с ними интересно?
— Да. Хорошие живые люди. Конечно, в них много поверхностного, пустышного. Но на них просто интересно глядеть. И я от них получаю информацию. Я, например, совершенно не представлял себе реальную жизнь 20-летней девушки. Потом с ними начинаешь в какую-то конкуренцию входить. Два своих романа — «Шеврикука» и «Бубновый валет» я написал из желания самому себе доказать, что вот я их заданиями нагружаю, а сам-то могу чего-нибудь такое?
— А зачем сегодня поступают в Литинститут?
— Не знаю. Мои нынешние студенты все работают и зарабатывают куда больше, чем я как профессор.
— А где они работают?
— В основном в рекламных агентствах. Им, видимо, нужно приобрести литературную культуру. Но я вижу, что они увлекаются литературным процессом. Возможно, кто-то из них и станет писателем.
— Вы как-то боретесь с их пробелами в чтении?
— Конечно. Сейчас-то они уже что-то прочитали. Вообще, я считаю, что если сегодня существует традиция чтения, то она семейная. Я сужу об этом, прежде всего, по своим книжкам. Так получилось, что меня сейчас много издают. Вещи в основном все старые, но под разными обложками. И их раскупают. Я поинтересовался у молодых людей, которые покупали мои книжки, кто им посоветовал. Оказалось, родители или дедушка с бабушкой.
— В Интернете я увидела, что сегодня у «Альтиста» есть молодые поклонники. Видимо, им родители передали свое увлечение. А как обстоят дела с экранизацией «Альтиста»? Кажется, «НТВ-кино» собиралось четыре серии снять…
— Насчет четырех серий — это для меня новость. Я заключил контракт на полнометражный фильм. Говорят, что на главную роль пригласили актера Броуди, который сыграл у Поланского в «Пианисте». У них, по-моему, сейчас проблемы с режиссером. Но в этом году обещали уже снять весь фильм. В свое время у меня был контракт по «Альтисту» и с Голливудом.
— Да вы что!
— Да, обыкновенный контракт. В 87-м году. На три года. В главной роли собирались снимать Роя Шнайдера. Сыгравшего когда-то в знаменитом фильме Боба Фосса «Весь этот джаз». А демоном Кармадоном должен был стать Николсон. Но провалила контракт наша сторона. Тогда еще шла холодная война, и за три года так ничего и не вышло.
— Я смотрю, у вас компьютер на столе. На нем пишите?
— Нет. Это жены. Пишу ручкой. Как у Цветаевой, «я думаю кончиком пера». Передача человеческой энергетики на бумагу через перо — это реальность.
— А в Интернет ходите?
— Нет. Это не очень интересно.
— Я не нашла ни одного вашего интервью. И на литературных тусовках вас не видать. Во времена «Альтиста» вы тоже были достаточно закрытым человеком. Так что про вас ходили всякие истории.
— Ну, тогда просто была отдана команда громить меня повсюду и замалчивать обо мне. А интервью я не даю, потому что не люблю. В магазинах меня покупают, и слава богу. Кстати, когда начали показывать «Мастера и Маргариту» по телевизору, «Альтиста» вообще в магазинах «подмели».
2006Кирилл Решетников Потерянных поколений нет и быть не может[5]
Автор книг «Альтист Данилов», «Аптекарь» и «Шеврикука, или Любовь к привидению», Владимир Орлов выпустил новый роман «Камергерский переулок». В интервью корреспонденту «Газеты» Кириллу Решетникову писатель рассказал о своем восприятии современной жизни и о том, как она отражена в романе.
— Два главных героя «Камергерского переулка» — москвичи на середине четвертого десятка лет, представители поколения, от вас несколько отдаленного. Вы, очевидно, наблюдали за людьми этой возрастной категории?
— Естественно. У меня много знакомых этого возраста. Есть и просто знакомые, и родственники, и студенты, которые учились в моем семинаре в Литинституте. Так что наблюдений у меня много. Это наблюдения человека, который видит поколение не изнутри, а со стороны, но у всех поколений есть что-то общее. Я недаром упоминаю «Современную идиллию» Салтыкова-Щедрина, потому что у меня в романе ситуация-то схожая получается. А если взять героев Островского, то их истории тоже можно спроецировать на нынешние обстоятельства жизни, хотя сейчас другие люди, другой язык, даже другие способы любви. Может быть, было бы легче писать, если бы я был того же возраста, а может быть, и нет.
— Сергей Прокопьев, один из центральных персонажей романа, в свое время работал инженером, имел патенты на изобретения, занимал достойное место в жизни, но потом утратил его, вынужденно стал мастеровым. Случай очень типичный — может быть, тут есть основания говорить о потерянном поколении?
— Потерянных поколений и лишних людей в моем представлении вообще нет и быть не может. Все люди существуют сами по себе как личности. В романе ведь есть отдельный пассаж, немного, что ли, публицистический или эссеистский, по поводу слов Гертруды Стайн, которая обозвала потерянным поколением Дос Пассоса, Хемингуэя и Фицджеральда. Какое же они потерянное поколение? Стайн просто воспроизвела слова автомеханика, который отозвался о своем подсобном рабочем. Тот, дескать, воевал, нужного опыта у него нет, и с точки зрения автомеханика это потерянное поколение. Чисто субъективный взгляд. Потом это выражение вошло в обиход — социологический и не только. Оно стало употребляться на Западе, а теперь у нас некоторые объявляют потерянным поколением сами себя, плачутся в жилетку. В любых обстоятельствах все зависит от самого человека. Или он чего-то добивается, если это ему нужно, или плачется, оправдывая себя. Вот Соломатин в моем романе — он как раз такой. Фразер, способный ко всяким самооправданиям. Не таков человек творческий, желающий жить нестыдно — нестыдно для себя самого. Соломатин желает жить нестыдно, но у него не получается. Нет никаких потерянных поколений. Другое дело, что нынешние люди возраста моих героев выбирают корпоративную жизнь и загоняют себя в такие рамки, что потом им самим тошно становится. У них наверняка есть стремление к бунту или к чему-то подобному. Потому что невозможно долго существовать в соответствии с понятиями узкого сообщества, соблюдая не самые блестящие правила и добывая средства в первую очередь не для себя, а для хозяев. Таких людей, конечно, просто жалко.
— В «Камергерском переулке», по-моему, дана более обширная общественная панорама, чем в ваших романах, написанных в 1980-е годы. В новой книге рельефно показана жизнь разных социальных слоев.
— Если взять роман «Шеврикука, или Любовь к привидению», который я пока считаю наиболее серьезной своей работой, то там тоже была попытка это сделать. Правда, во всех предыдущих моих работах один основной герой, а в «Камергерском переулке» все расслоилось. С одной стороны, мне казалось, что я зря так сделал, а с другой — такая структура романа, может быть, дает больше возможностей рассмотреть разные варианты человеческого бытия.
— В книге присутствует мотив бесследных исчезновений. Пропадают не только люди, но и целые здания. Можно ли это понять символически, как констатацию того, что Москва в прежнем своем виде исчезает?
— Центр Москвы, конечно, теряет свою духовную суть. Верх берут другие нравы, другие ценности. Денежная лихорадка оттесняет людей культуры в глубину какой-то щели, они оказываются как бы в другом измерении, где остаются при своих понятиях о чести, о житье-бытье.
— Кстати, эта закусочная, которая находится в центре сюжета и которую называют Щелью — она действительно существует?
— Так в романе же все описано — ее купили, и сейчас там какое-то богатое заведение. А бывшая квартира Сергея Сергеевича Прокофьева в доме напротив, в которой раньше был музей, превращена в ювелирный магазин. Вот вам и все нынешние московские ценности.
— Можно ли, по-вашему, экранизировать «Камергерский переулок»? По-моему, это хороший материал для кино.
— Я меньше всего об этом думал. Я все-таки пишу слова, а не зрительный ряд. Но если кто-нибудь возьмется, то я, наверное, соглашусь.
2008Ольга Андреева Я только сочинитель[6]
За последние 20 лет изменилась не только политическая карта, изменились стиль и жанр эпохи. Множество знаменитых некогда фигур кануло в Лету, незаметно выпало из рук истории. Писатель Владимир Орлов — один из тех, кто остался.
Поступать в Литинститут в последнее десятилетие прошлого века было как-то неловко: гласность все-таки. Казалось, только начни писать — и сразу будет «Война и мир». Впрочем, те, кто все-таки туда шли, подозревали, что «Войны и мира» все же не получится. И им было стыдно. Поэтому я поступала тайно. А когда, пройдя творческий конкурс, приехала сдавать вступительные экзамены, неожиданно пережила сладкий момент славы: в институтском коридоре за спиной шептали:
— Она на прозу прошла, к Альтисту Данилову!
В том запредельно далеком 1995 году курс прозы набирал великий и ужасный Владимир Орлов, он же Альтист, он же Аптекарь, в недалеком будущем он же Шеврикука. Пять лет похожий на своих любимых домовых Владимир Викторович входил в нашу семинарскую комнату, смешно шаркал, смешно картавил, смешно сутулился, носил смешные растянутые свитера и рассказывал множество смешных историй. Мы влюбленно и благодарно хохотали, до хрипоты ругались и при этом твердо знали: вот так, сквозь смех и страсть споров, на нас в упор смотрит настоящая большая литература. Больше не бывает.
— В начале 90-х стало понятно, что литература позиции кончилась: никакой автор никуда за собой повести не может. С тех пор у литературы появился какой-то новый статус?
— Ну, в первой половине 90-х еще были остаточные явления. Правда, скандалами своими все союзы настроили людей на то, что писатели — люди скандальные и больше ничего. Но все равно литература-то кой-какая тогда создавалась. А сейчас ее просто вообще почти нет.
То есть сам термин «писатель» превратился неизвестно во что. У нас сейчас все «пишут книги». Причем даже не могут сообразить, что книгу не пишут — пишут повести, романы, рассказы. Даже в книгах жалоб делают записи, но их не пишут. Но этим овощам, которые на каждой коммерческой грядке возникают, — им наплевать.
Как бы ни были плохи писатели, которые сочиняли произведения, становившиеся иллюстрациями к краткому курсу КПСС, они все-таки были озабочены уровнем литературы. Например, Кожевников: его обслуживали два-три человека, которые его тексты редактировали, что называется, — переписывали. Чаковский, тот был главным редактором «Литературной газеты», вроде бы должен был обладать хотя бы грамотным языком, но его тоже переписывали, чтобы хоть какое-то благообразие было. А теперь это никого не беспокоит. Пошла такая безответственная каша…
— Как ваши отношения с властями складывались?
— Никак. Власти сами по себе, я сам по себе. Диссидентом я не был. Ну, были у меня эти восемь с половиной лет, где-то с 68-го по 76-й примерно, когда совсем не печатали. Началось все с романа «После дождика в четверг». Сначала в «Юности» меня сильно порезали. Убрали все главы, которые связаны были с историей одной стахановки. Я ее не придумал, эту историю. Просто она имела выходы на Сталина, на Калинина и прочих там. Ну, все это в журнале в какую-то маленькую главку свели. А когда книжка выходила, то это вообще непонятно куда девалось. И с той поры вот до 76-го года меня просто не печатали. Набирали — разбирали, набирали — разбирали. «Происшествие в Никольском» было набрано в «Новом мире» и разобрано. «Что-то зазвенело» — рассказ, который как бы предваряет «Альтиста Данилова», его набрали в «Юности»…
— Как это — предваряет?
— Ну, он даже как фрагмент вошел в «Альтиста Данилова». Там любовь домового к реальной женщине. Я женщину абсолютно реальную взял, а домового, который живет в лифте, в пружинах, придумал. И сам не понял, что написал. Стал показывать людям. В «Юности» набрали и разобрали. После «Альтиста Данилова» извинялись передо мной.
Потом у Стругацкого в «Библиотеке фантастики» набрали. Но пришло новое начальство из ЦК комсомола, и этот том тоже разобрали. Я пошел тогда к замдиректора издательства «Молодая гвардия» — Авраменко такая была дама, — надо было выяснить: может, создалось такое впечатление нелояльности или еще чего-то. Ну, пошел я, значит, выяснять отношения, говорю: «Почему вы сняли этот рассказ?» Она мне: «А потому что он слишком талантливый и выбивается из сборника». Ну, в общем, опубликовал его Олег Попцов в своем журнале «Сельская молодежь» в году 89-м.
Но все равно у нас, у поколения, которое в «Юности» начинало, было такое ощущение: нельзя писать так, чтобы тебе было стыдно — и по-человечески, и перед писателями, которых ты уважал: стыдно перед Гоголем, перед Достоевским. Сейчас полное отсутствие стыда у всех этих наших многомиллионных тиражниц — Донцовой, Марининой. Языка нету никакого.
И слово «писатель» — это вовсе не то слово, которое должно бы соответствовать истинному статусу писателя.
— А в чем разница?
— Ну, писатель — это все-таки какая-то общественная фигура, которая увлекает и жизненным подвигом, и позициями героев, поступками, раздумьями. Я просто сочинитель, я не трибун, ничего такого.
— Ваш рецепт бессмертия? Как остаться во времени, когда изменилось все то, что вас создало как писателя?
— Ну, во-первых, это зависит от натуры. Зависит от наполненности человека, который что-то создает. С другой стороны, вот во втором томе «Дон-Кихота» есть такой эпизод. Там люди задают вопрос знаменитому художнику — ну, можно предположить, Веласкесу, — как он пишет. Тот думает-думает, а потом говорит: «А как получится». Ван Эйк, один из самых любимых моих художников, подписывал свои работы «Как умею». Вот и я пишу как умею и как получится. И все время стараюсь дать какую-то информацию.
В 60–70-е годы отсутствие информации вызывало действие литературы. Потому что человек, не обладающий каким-то знанием о происходящем в мире, он иногда в произведениях искусства находил даже то, чего в них и не было. А если сейчас просто истории рассказывать, обыкновенные, то есть прямые тексты писать, они уже плоско накладываются на то, что мы знаем из СМИ. Другое дело, что СМИ наши тоже подчинены коммерческому характеру их деятельности: чем больше всякой крови, чем больше скандала, тем больше рекламы. Получается чистый невроз. Вроде ничего особо и не показывают, но все на каком-то вое, вопле, натуге какой-то. Это тоже создает отношение к литературе как к чему-то вторичному, или третичному, или семитичному, что в жизни никакой роли и не должно играть.
— Кто ваш сегодняшний читатель?
— Есть и молодые люди. Но в основном это — семейные библиотеки и семейные предания. Вот бабушка или мама говорит своей 16-летней внучке или дочке: «Прочти такую-то книжку». Тогда интерес какой-то возникает. Это семейное чтение, я думаю, сейчас и поддерживает какой-то интерес к литературе.
— «Соленый арбуз», «Происшествие в Никольском» — все они написаны в абсолютно традиционном стиле. И вдруг возникает «Альтист Данилов», который начинает какую-то новую жанровую историю.
— Ну как новую, когда был Гофман, когда были Гоголь, Булгаков? Где же тут новое-то?
— Значит, вам пришлось куда-то вернуться?
— Это, конечно, объясняется интересом к сказке. В детстве, где-то в 44 — 45-м году это было, я первый раз попал в Большой театр — мамаша продала буханку хлеба и купила билет на «Щелкунчик». Я еще в школе не учился. Там как раз в роли Маши Плисецкая дебютировала. И это для меня — в ту пору особенно: еще недавно жили-то под бомбежками — была такая сказочная жизнь, без которой, я понял, нельзя человеку существовать. И Гофман — один из самых любимых писателей, конечно, был тогда.
— Но «Альтист Данилов» — это конец 70-х. Застой, голый быт. Откуда возникла эта мистическая линия?
— Первый раз мне эта идея пришла в голову в 68-м году. Я, помню, отправился на Рижский базар, а там рядом пивной ларек стоял, и там трое: один интеллигент, один гегемон, и еще кто-то. Они на троих, значит, бутылку водки купили, и мне показалось: а вдруг сейчас выйдет из нее джин, и сразу трое будут его хозяевами. Но они совершенно разные люди, то есть каждый будет тянуть одеяло на себя. Ну, я записал это все. Потом из этого «Аптекарь» получился. Я хотел вообще написать про такой пласт молодежных лидеров тех времен, которые потом стали кто политологами, кто миллионерами. А они ходили в одну пивную. Ведь там все персонажи реальные совершенно. И этим реальным людям дается сверхвозможность, та самая, которая у нас образовалась в 90-е годы.
— То есть 90-е годы — это такая золотая рыбка, которая внезапно оказалась в руках людей, совершенно к этому неготовых?
— Ну, да, типа Ельцина, которые не из чего вышли. Из серости. Оттуда же и Иосиф Виссарионович, и Гитлер, и прочие.
— Это «Аптекарь». А с кого вы писали «Альтиста»?
— Был такой Володя Грот, альтист Большого театра. Володя на самом деле по матери Грот, то есть родственник бывшего президента Академии наук, автора словаря в XIX веке. А по отцовской линии он как раз Данилов. Потом мне однажды Вознесенский Андрюша сказал: «А ты наоборот Данилова не пробовал перевернуть?» Волинад получается, то есть Воланд, наоборот. Ну, я первую главу написал и бросил. А потом жена попала в больницу. Надолго. И с мрачным настроением была. Просила принести ей почитать. Я первую главу принес, а она: «А дальше? А дальше?» — так и стал писать.
— Почему именно музыка?
— А я слушатель был с детства. Приемников не было, а была единственная связь с миром — вот этот репродуктор склеенный. Тогда никаких записей не могло быть технологически, и поэтому каждую неделю давали вживую — я уже забыл, по четвергам, что ли, — оперу из Большого театра. Ну и театр я знал изнутри немножко: в Художественный ходил, а потом попал вообще в актив Детского театра — был такой рядом с Большим. То есть представление у меня было. Я однажды попросил Володю описать репетицию, чтобы было как описание музыки у Ромена Роллана, когда он о Бетховене писал, или у Томаса Манна в «Докторе Фаустусе». Но когда я эти две — три страницы получил, понял, что это перебор, что я про другое пишу. Я писал о творчестве прозаика, а не о музыке. Просто брал какие-то термины и переносил их на свое состояние. А потом Наташа Нестерова и Таня Назаренко — художники мирового класса — посчитали, что я про художников написал. То есть, видимо, важен сам процесс творчества — в этом дело.
— Последние ваши романы уже совершенно другие. Мистика исчезла, вернулся реализм?
— Вот я написал три вещи — «Альтист», «Аптекарь» и «Шеврикука», самая важная для меня вещь — и мне показалось, что я уже в какой-то одной интонационной среде нахожусь. Мне стало скучно, я решил поменять интонацию и вести рассказ от лица совершенно другого человека, на меня непохожего. Получился «Бубновый валет». С одной стороны, вроде как бы реалистическое произведение, а в то же время там есть события, которые в жизни не происходили, но могли произойти. Но мне кажется, с реализмом сейчас уже трудно. И поэтому следующее сочинение — «Камергерский переулок» — я писал опять с элементами фантасмагории, московской такой мифологии. Попытался передать картину жизни нашего времени, как и сейчас в «Лягушках».
— В каких «Лягушках»?
— Я сейчас роман пишу — «Лягушки».
— «Лягушки»? Как Аристофан?
— Вот мне все сразу говорят: «Аристофан». А я говорю: «Вы что, читали «Лягушки» Аристофана? С чего это вдруг?» Я-то сейчас два раза перечитал этих «Лягушек», там вообще почти никаких лягушек нет. Они где-то там поют, когда на лодке с Хароном переезжают, и больше никаких лягушек. А у меня есть повод назвать этот роман «Лягушками» — есть там одна совершенно реалистическая сцена, а она воспринимается как фантасмагорическая.
— Вы хотите сказать, жизнь настолько фантасмагорична, что и выдумывать ничего не нужно?
— Да. Я, когда писал «Альтиста», думал, что финал будет более драматический. Но у меня вдруг начало все совпадать: я главу напишу, а потом с этим персонажем в жизни произойдет совершенно такая же история. Я испугался и сделал нейтральную концовку.
— А часто вообще так бывает?
— Нет, не часто. Вот расскажу вам, как я написал эпизод, который потом со мной произошел. Отцу сделали операцию. Причем там по жизненным показаниям гарантий не было никаких, и я даже расписался где-то. Меня попросили поболтаться где-нибудь часов пять, в шашлычную сходить, еще там чего-нибудь, чтобы отвлечься. Ну, вроде операция прошла нормально. Еду я из Измайлова в Останкино на трамвае. На Каланчевке пересадка. Стою и думаю: «Вот бы сейчас стакан водки». И тут ко мне подходит человек и, стесняясь, начинает говорить: «Понимаешь, не могу пить один». Наливает мне стакан водки. Я выпиваю и машинально так смотрю на этот стакан. А он мне: «Все, больше вы и не хотели». И привет, я в свой трамвай сел, а он — в другую сторону. А у меня этот эпизод уже в «Альтисте» был написан. Именно так и был написан!
Или вот в «Альтисте» у меня Клавдия Петровна ворует куски лавы из вулкана Шивелуч. Мне просто само слово «Шивелуч» понравилось. По роману из этой руды изумруды потом сделали. Не проходит года — мне присылают вырезку из «Камчатской правды» о том, что в вулкане Шивелуч обнаружены черные изумруды.
— Вам говорили, что вы похожи на своих героев?
— На Азазелло я похож — это мне Новоженов сказал во время интервью по телевизору. Почему на Азазелло?
— Вы похожи на своего домового.
— Был домовой. У меня мамаша происходила из города Яхромы — была у них там деревня Починки. У них судьбы в семье были очень разные. Когда немцы там десять дней стояли, дед мой был старостой, потом — председателем сельсовета, но кончил конюхом, потому что против колхоза был. А один из сыновей стал председателем этого колхоза. А старостой этого самого деда сделали, потому что он не пил. Он еще делал детские игрушки из гагата. Так вот, и он сам, и сын его, председатель колхоза и партийный, все равно домовому ставили на ночь стакан молока. Так что это все равно как-то жило.
— Вы ведете мастер-класс в Литературном институте. Откуда возникла эта идея преподавания?
— А жить не на что было. Меня уговаривали много раз. Я говорил: «Нет». Научить писать никого нельзя, можно только создать условия какой-то игры, в которых может происходить саморазвитие человека как литератора и как личности, ну и чтобы нескучно было еще. Значит, меня звали — я не шел, а в 88-м опубликовали «Аптекаря»: его публиковали в трех номерах, и в этих же номерах были «Колымские рассказы» Шаламова, «Жизнь и судьба» Гроссмана, «Доктор Живаго». То есть я попал в замечательную компанию. Но только читали-то эти произведения, а мое казалось там совершенно… ну каким-то не таким. Критики все долбали меня, что, мол, надо писать на злобу дня, а я вот злобу дня игнорирую. И я глядел тогда на этих всех Собчаков — какие умные люди, мне казалось. В общем, я четыре года ничего не писал: считал, что вообще литература никому не нужна. А в 89-м пришел в институт и только с вами и начал писать «Шеврикуку», а до этого я только один рассказ написал. Это одна причина. А еще — из-за денег, разумеется. Я раньше как жил? Я брал в месяц 150 рублей с книжки, с гонораров, а 150 зарабатывал литконсультантом в «Юности». А потом ликвидировали и этих литконсультантов, и деньги все отменили. Ну, тысяч 30 у меня тогда было. Я года два назад пошел проверить, а сколько же там от этих тысяч осталось. 208 рублей у меня на этой книжке. Есть не на что было. Ничего не оставалось, как пойти в Литинститут.
— А можно было по вашим студентам, по тем текстам, которые они приносили на творческий конкурс, понять, что тогда в головах происходило?
— На первые два курса люди приходили еще с тем пониманием писательского дела и значения писателя, с которым жили мы в доперестроечные времена. То есть мы еще сходились в оценке тех или иных писателей второй половины XX столетия — Трифонова, к примеру. Мы хотя и были разного возраста, но как бы из одной среды. И тогда еще можно было где-то публиковаться, в той же «Юности». Следующий курс после вас уже пришел, когда интерес к писательскому труду был потерян, то есть не к труду, а к оплате писательского труда. Но все-таки люди шли с каким-то интересом. С ними еще тоже были у нас какие-то общие знакомые в литературе, хотя они уже более циничны. Что касается вот этого, последнего, выпуска, то тут уже над нами министерство висело с новыми проектами — бакалавры там и прочее. Решили: сколько поступает, столько и брать. Двадцать четыре человека ко мне поступили. Но я сразу понял, что мы из разных веков. Я для них — все равно что какой-то Писемский или там Помяловский. Ничего они не читали, меня вообще не знают, да им и безразлично все. Большинство работают в рекламных агентствах, прилично зарабатывают, и у них такое представление было, что с дипломом Литинститута им просто будет легче карьеру делать. Один пришел с большим количеством книг под Лукьяненко. Я сказал: ежели вы будете учиться, то вам надо забыть и про свои книги, и про Лукьяненко, а писать совершенно не так, как эта вся халтура, — он быстро отпал. В общем, из двадцати четырех осталось сейчас двенадцать. Так вот, они никого не знали — ни Казакова, ни Трифонова. Литература 20 — 30-х годов — они вообще не слыхали, что это такое. Одна только девица оказалась нормальная. Но она на год пропала, а потом прислала мне «Исповедь наркоманки» — она, видимо, сильно в это дело влезла. И жуткая скука на занятиях. Вот у вас все время споры были. А эти сидят, готовятся к экзамену, чего-то читают.
— Много из ваших учеников осталось в литературе?
— Не знаю. По-разному. Вот с вашим курсом мы как-то собирались в шашлычной — лет пять, что ли, назад. Помните? Вдруг к нам девушка подошла и говорит: я такая-то. Она с вами вместе начинала учиться, а потом ушла. И так одета хорошо. Села и начала рассказывать с такой гордостью, что она дамские романы пишет, что у нее уже какой-то там двадцатый выходит. А вы слушаете молча. Никто ничего не говорит. Она посидела, посмотрела на вас, заплакала и ушла. Ну вот — осталась она в литературе? Не знаю.
— Чему вы нас хотели научить?
— Ничему! Нас заставляли все время методички писать: чего мы хотим. А я ничего не мог написать особенного. И я тогда вспомнил, что был один из самых лучших преподавателей живописи — Чистяков, рисунок он ставил академический. Стал искать метод Чистякова: чего он хотел от учеников. И нашел, что ничего у него не было — просто показывал, что и как. А в нашем деле и этого не покажешь.
— А хотите, я скажу, чему я научилась?
— Ну.
— Ответственности. Вы ничего такого не говорили, но как-то это передавалось. Вы научили нас смотреть в глаза реальности, сохраняя какое-то чувство достоинства и ответственности. Наверное, поэтому я и бросила писать.
— Ничего себе, хороший учитель! Педагог! Должна быть жуткая потребность писать. Почему я «Шеврикуку» начал? Не потому, что я стал с вами соревноваться, а потому, что уже, видимо, чего-то во мне вызрело такое, что опять же не могло не прорваться. Самое трудная для меня из моих работ — «Происшествие в Никольском». И «Соленый арбуз», и «После дождика в четверг» я писал еще по инерции «Комсомольской правды» и под влиянием литературы 20-х годов, ритмической такой, темпераментно-энергичной. А с «Происшествием в Никольском» я ушел из газеты и решил написать так, чтобы язык был свой. Я там чуть ли не над каждой фразой сидел. И нашел-таки свой реалистический язык, плотный. А в «Что-то зазвенело» у меня все это слилось уже с каким-то гофмано-гоголевским началом.
— Что для вас значит отчаяние?
— Слово «отчаяние»-то — оно тупиковое: отчаяние бывает в крайних случаях. Ну, вот у меня были эти семь с половиной лет какого-то там умолчания. Я диссидентом себя не ощущал, просто было трудно: отец с матерью болели, с деньгами тяжело — 70 рублей в месяц. И меня спасало от отчаяния явление Хрюшки, которая улыбается.
— ???
— Был такой в Симферополе детский поэт Владимир Натанович Орлов. У него детская книжка есть — «Хрюшка улыбается». И как только я остался без денег, мне вдруг стали приходить переводы — по 10 рублей, по 20. Я на почту иду: «За что мне прислали?» Ну, мало ли, какой-то отрывок — и счет. Нет, гонорар: «Хрюшка улыбается». Однажды мне прислали даже 40 рублей из Питера. Уже не за само стихотворение, а за либретто оперы «Хрюшка улыбается», которое написал какой-то их питерский композитор по стихам этого симферопольского Орлова. Я эти 40 рублей тоже на почту отвез. На меня смотрели все как на сумасшедшего: тебе деньги приходят, а ты их отдаешь. А я никогда чужие, то есть совершенно незаработанные, деньги не беру — они счастья и удачи не приносят. Но я уже знал, что если вот я буду в трудном положении — тогда вдруг опять возникает эта Хрюшка. Вот недавно были звонки по телефону: «Не вы автор «Хрюшка улыбается»?» Значит, привалит скоро чего-нибудь такое.
2009Юрий Беликов Застывший мёд времени Ч.[7]
Владимиру Орлову по душе «озорство без оглядки»
Нашей машине перегородили дорогу… лягушки, купающиеся в пыли. Чудилось: они выплюхнулись из нового романа, над завершением которого сейчас работает Владимир Орлов на даче близ поселка Троицкое в глубинном Подмосковье. Эти сидячие и похохатывающие земноводные будто и ведать не ведали, что под колесами от них останется лишь мокрое место. Словно знали они: только странная демонстрация беззащитности может остановить механическую силу цивилизации, все больше загоняющей себя в тупик. Не об этом ли очередное творение классика «ирреалистического реализма», не поверите, так и называющееся — «Лягушки»? Мы заглушили мотор. Впрочем, Орлов предпочитает пока о «Лягушках» помалкивать. Я давно поймал себя на мысли, что многие его произведения наделены свойством предварения будущего. Например, «Альтист Данилов». Исполнилось ровно 30 лет, как этот роман вырвался из «Нового мира» в большой. Когда я его перечел, мне показалось, что во многом я читаю о времени нынешнем. Помнится, в Голливуде замышляли снять фильм по «Альтисту». Не срослось. Не будем сейчас обсуждать причины — они, как стрелы в святого Себастьяна, впиваются в автора. Сам факт, что в юбилейном для этого произведения году он подписал контракт с Камерным театром имени Бориса Покровского на постановку оперы «Альтист Данилов», свидетельствует об одном: роман снова входит в плотные слои атмосферы российского бытия.
— Владимир Викторович, время от времени меня одолевает затея составить «Книгу сбывшихся предсказаний». Вот написал прозаик или поэт нечто, я оно сбылось. Взять хотя бы «Время Ч.». После выхода «Альтиста» я довольно часто слышал этот позывной. И сам применял. Не считаете ли вы то, что произошло с нашей страной после «Альтиста Данилова», и то, что с ней происходит сейчас, — это сплошное материализовавшееся «Время Ч.»?
— Как сказал Умберто Эко, книга — это генератор интерпретаций. Сведущие люди подсчитали, что кроме тогдашнего тиража «Нового мира» было выпушено чуть ли не десять миллионов ксерокса с «Альтистом». Некоторые этими распечатками торговали. По 70 рублей — штука. Я тогда выступал в разных аудиториях — и на заводе «Динамо», и в академгородках, и в оркестрах, и в театрах — и понял, что, прочитав мой роман, каждый трактует его по-своему. В соответствии с собственными ожиданиями. Например, увидели сатиру, когда автор совсем не имел ее ввиду. А пародийные моменты, которые я себе позволял, интерпретировались читателями всерьез. Я, когда писал роман, в немалой степени озорничал. Вообще произведение, которое потом может остаться и вызывать интерес, должно иметь известный элемент озорства. Я только одной вещи Булгакова завидую по-настоящему. «Собачьему сердцу». Потому что там присутствует озорство без какой-либо оглядки. А когда ты пишешь с оглядкой на читателя и общество, то и выходит, как с моим последующим романом «Аптекарь». В нем я уже контролировал себя, боялся, что он будет хуже «Альтиста», пытаясь вложить в него определенные смыслы. И «Аптекарь» не был прочитан внимательно. В том числе и по той причине, что его опубликовали в «Новом мире» в 1988 году и он стоял в ряду так называемых отложенных романов, как пастернаковский «Доктор Живаго» или «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. «Аптекарь» угодил чуть ли не в один номер с Варламом Шаламовым. В ту пору Олег Чухонцев, будучи членом редколлегии «Нового мира», мне сказал: «Ты «Аптекаря» написал не для нынешнего времени. А прочтут и поймут тебя через энное количество лет». Так оно и вышло. Вот сейчас на телевидении сняли 8-серийную картину под названием «Аптекарь». Если же рассуждать о «Времени Ч.», то не я его придумал. Во всех смыслах. Во-первых, это чисто армейское выражение. Когда начинается артподготовка или еще что-то экстренное, назначается «Время Ч». Ольга Кучкина вела телепередачу с таким названием. И у нее однажды спросили: «Это имеет какое-то отношение к «Альтисту Данилову?» На что она ответила, что вообще не читала этот роман. В «Альтисте…» герою даются черные метки. И тут, конечно, открывается другой смысл. Не армейский. Но это «Время Ч.» в его судьбе — не в судьбе страны. Хотя кто-то толковал именно так.
— Сегодня и толковать не приходится. По сути, мы все стали жить в этом «Времени Ч.».
— Ну сами были хороши!
— А кто написал: «Время стекало в глиняный кувшин и застывало в нем гречишным медом»?
— Кажется, я.
— То есть писатель вольно или невольно приводит этот «застывший мед» в жидкое состояние. В некотором роде он сам становится «хлопобудом» — тем, кто заранее хлопочет о будущем. Вы еще в 80-х годах прошлого века изобразили эту таинственную структуру. И когда я смотрю на нынешнюю политическую элиту, на вчерашних комсомольцев, ставших федеральными министрами, то говорю себе: «Да вот же они — «хлопобуды»!»
— Это абсолютно точно. Потому что я знал многих ребятишек из Высшей комсомольской школы, перед которыми мне приходилось выступать. Все они были циники, ведали, что рано или поздно в стране что-то да произойдет, и были готовы к тому, чтобы получить деньги на первоначальный капитал. Вот это я как раз не придумал. Эти люди — передо мной.
— Или те же «будохлопы», коих вы, перевернув, как песочные часы, найденное слово, вывели из «хлопобудов»?.. Ткните в любую телевизионную кнопку — и увидите хорошо обученное племя хлопальщиков. Им все равно, чему хлопать, — лишь бы хлопать!
— Им, «будохлопам», деньги за это платят! Но вот вам еще пример для вашей «Книги сбывшихся, предсказаний»: герои «Альтиста» воруют камни с вулкана Шивелуч — им сказали, что там должны быть изумруды. Проходит года четыре после публикации романа — и я получаю вырезку из «Камчатской правды», где написано, что в вулкане Шивелуч обнаружены черные изумруды.
— Здорово! А я бы в эту, на глазах обрастающую текстом книгу поместил такой ваш прогноз: «По точным исследованиям «хлопобудов», лет через пятнадцать-семнаднать разведется у нас столько разных выпускников и так не станет хватать всяких необходимых людей — санитаров, продавцов, мусорщиков…» С единственной поправкой — сейчас эту нишу прочно заняли мигранты. И здесь бы задаться вопросом: «А не одолевает ли писателя глубокая печаль, когда он наблюдает, как сбывается его словесное озорство?»
— Ну, во-первых, я не перечитываю так уж часто свои книги. Но то, о чем вы спрашиваете, меня как раз одолевало. И началось с совпадения судьбы прототипа моего героя с теми событиями, которые описаны в романе. И я просто испугался, потому что могла приключиться трагическая развязка. К сожалению, потом-то он, прототип, сам повел себя так, что, дескать, он тот самый альтист Данилов и есть. Начал встречать меня и качать какие-то права. На этом месте мы с ним разошлись.
— Когда вы напечатали «Альтиста», вас сразу зачислили в фантасты. В Википедии так и написано: «Владимир Викторович Орлов — писатель-фантаст». Насколько вы с этим утверждением согласны?
— Я к фантастам себя никак не отношу. И фантастику как отдельный жанр литературы не принимаю. Когда я однажды сделал такое заявление на круглом столе с участием фантастов, они на меня обиделись и ополчились. Я просто живу в традиции сказки и фольклорного понимания явлений. Естественно, в крови у меня — Гоголь и Гофман. А «мистический реализм» и «магический реализм» — это все наклейки. Между прочим, мне даже Маркеса в учителя приписывали. И мне приходилось доказывать, что на сложившегося автора другой сильный автор никакого влияния оказать не может — разве только произвести впечатление. Поэтому я сам по себе.
— И к когорте шестидесятников себя не относите?
— Я вообще не понимаю, что такое шестидесятники. И ни к какой когорте не принадлежу. И, может быть, имел по этому поводу несколько бед, потому что ругали меня как раз за это. Когда был напечатан мой роман «После дождика в четверг», вышел в фельетонном стиле написанный материал в «Новом мире», что для меня было очень обидно. И когда один из моих знакомых спросил у автора той публикации: «Чего ты ему приписал-то?», он ответствовал: «А мне сказали, что Орлова тронуть можно — он один, сам по себе». К сожалению, у меня не было никакого покровителя. А это в литературе оказалось делом нужным.
— В «Останкинском триптихе», куда, кроме «Альтиста», вошли романы «Аптекарь» и «Шеврикука», вы изобразили многоуровневый мир ирреального — демонов, домовых и прочих. При этом не могли не столкнуться с прищуром церковных ортодоксов. Я не прав?
— Я уже сказал, что недавно был отснят 8-серийный фильм «Аптекарь». Так вот, по словам его продюсера, благословение на съемку получено от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Тут дело в другом. В теперешнем киномире, да и в театральном тоже, расплодилось столько якобы воцерковленных людей, что их количество уже перетекает в некое качество. Тот же продюсер мне сказал, что актер Владимир Ильин, который прочитал сценарий «Аптекаря» и которому давали хорошую роль, сыгранную потом Сергеем Никоненко, якобы сразу от нее отказался, посчитав, что, снявшись в фантасмагорическом сюжете, будет в этом случае выглядеть не предпочтительно: мол, они с женой ходят в церковь, в хоре поют… При всем при том я даже в обмен на «Альтиста Данилова» Библию получил. Один из священников вышел на меня. Попросил подарить ему «Альтиста». В обмен он одарил меня «Библией», дефицитным тогда изданием…
— Обмен Библии на «Альтиста»?
— А что касается того, что собственную придуманную сказку я соединил с мифологией в «Шеврикуке», то при этом я опирался на книгу этнографа Сергея Максимова о представлениях древних славян. И, говоря о тонких мирах, могу сказать: это все фантомы человека. Что-то, как и в греческой мифологии, порождено его страхами. А что-то, наоборот, — надеждами на то, что какие-то силы ему будут помогать. В частности, домовые. А вот новые фантомы, которые человек создает сам, как, например, духи Останкинской башни, уже следует отнести к разряду нечисти. Это то, что я называю «Отродьями Башни».
— Тоже ведь в точку. Их, «Отродий Башни», как в самом телевизоре, так и вышедших из него, мы уже вынуждены лицезреть денно и нощно…
— Теперь-то мы вообще живем в «Отродьях». А тогда, когда писался «Шеврикука», я даже посчитал, что делаю это с перекосом. Однако воплощение нынешнего российского бытия все расставило по местам. Да так, что после издания романа к нему проявил интерес кинорежиссер Александр Орлов, снявший до этого фильм об Алле Пугачевой («Женщина, которая поет»). «А как вы полагаете снимать «Шеврикуку»? — спросил я своего однофамильца. — Там же многие фигуры и фигур-то не имеют!» — «У меня полное ощущение, — ответил он, — все, что вы написали, — ни во что и переводить не надо. Все сейчас смешалось — и демоны, и домовые. Это — вся наша жизнь». Однако денег для экранной трактовки моего романа, конечно, не нашлось. Драгоценное предприятие было бы, если снять «Шеврикуку».
— Когда я ехал к вам из Перми и наблюдал из окон поезда нашу многострадальную страну, затянутую дымом пожаров, то вспоминал, как уже в 1993 году вы в «Шеврикуке» писали: «Но теперь искажаются поля людей, биологические и прочие, порождая ауру зла, неблагополучия, насилия и неподчинения. Очага семейные чадят. Потому там и тут происходят взрывы, выбросы недовольства, гордыни, смутьянства, которые приведут к волнению домовых. Оно может получить вселенский размах. Это в грядущем». И вот мы это грядущее получили в виде пожаров, ураганов, цунами… Не сдается ли вам, что наша славная академическая наука, подсаженная на хронический материализм, а вкупе с ней и наша власть оказались в теоретическом и практическом тупике перед логикою природы, явно сопротивляющейся человечеству?
— Они оказались в этом тупике не по своей вине, а уже в условиях всеобщего потока, который берет начало даже не в XX-м, а в XIX столетии. Этот поток несет техническое развитие, капитализм, добычу для себя благ природы. Главенствующие люди у нас сегодня кто? Добытчики.
— Сейчас то, с чем сталкивается человечество, необъяснимо его канонами. Вы не можете этого не видеть, потому что давно его изображаете. Когда я смотрел во время огненной блокады на укрупненное экраном лицо министра по чрезвычайным ситуациям Шойгу, оно было растерянным. Россия горит. Я слышал, как простая женщина сказала в телекамеру: «Поселок сгорел, как будто прошел скорый поезд. С таким же гулом». Мы, кажется, начинаем понимать, что надо учитывать и ирреальные силы?.. Ирреальные — с нашей точки зрения.
— Если вспомнить известное выражение Мичурина насчет «милостей от природы», то можно сказать: мы прилежные его ученики. Не только не ждем от нее этих «милостей», но и цинично заставляем природу через силу служить человеку. То есть мы сиганули даже через верхнюю планку мичуринского афоризма: «Взять их у нее — наша задача!» Собственно говоря, большинство технических изобретений — чистое приспособление человека к тому, чтобы он жил более комфортабельно, чем в пещерах. Но это понятное желание постепенно превратилось в бесповоротный процесс, который может привести к катастрофе, когда люди вновь окажутся в пещерах и человек опять начнет искать для себя очередные приспособления. Видимо, такова его природа.
— А вам никогда не казалось, что природа человека и природа Земли, или природа природы — они различны, если не полярны?
— Но это не природа природы. Сама по себе природа — порождение Творца. И к самоубийству, я так полагаю, Он не расположен. Бог уже одарил человека тем, что Он вдохнул в него жизнь. Но Бог испытывает. В «Аптекаре», где трое совершенно разных людей пришли к ларьку, чтобы добавить, им является берегиня, предложившая воспользоваться сверхвозможностями. Люди при этом вроде бы должны соответственным образом себя вести. Но дело в том, что они порядочные. И от сверхвозможностей отказываются. Потому что опытов над ними ставили такое количество, что им все это порядком надоело.
— На мой взгляд, Владимир Орлов вслед за Пушкиным обогатил народное самочувствие новой ремаркой. У Пушкина «народ безмолвствует», а Крейсер Грозный из «Шеврикуки» определил: «Народ не унывает!» Я думаю, вы в эту фразу вложили не только прямой смысл?
— Да, это неслучайная фраза. В народе нашем энергетика такова, что она из самых сумасшедших обстоятельств все равно вывозит людей на какие-то горизонты. У меня в «Камергерском переулке» есть на сей счет соображение. Вот наши шибко умные дамы-детективщицы судачат о том, что главный герой отечественного фольклора и выразитель русской натуры — это Емеля на печи. Тогда в качестве примера я написал, что русские Сибирь не завоевывали, потому что воевать там, собственно, было не с кем — им остяки не мешали. Но само освоение этой земли Ермаком с небольшой дружиною, прирастившей к России Сибирь, начиная от вашей Перми, а тогда — строгановской Соли Камской, говорит о том, что народ именно не унывал. Русские люди, опиравшиеся на свою энергетику, при том, что приходилось и кору жрать, и спать в сугробах, дошли аж до… Сан-Франциско. То есть вроде бы все плохо, но не унывает народ. Торит такие героические пути-дороги, что чужеземцам и не снились! В общем, у русских — по Пушкину: «…то раздолье удалое, то сердечная тоска».
— Что вы перечитываете, если эта «тоска» подступает?
— Из поэзии лучше Гаврилу Романовича Державина перечитать. Здесь, на даче, обнаружились у меня 8 томов 1918 года издания Салтыкова-Щедрина. С ятями да ерами. Обязательно — Гофмана, Достоевского. Очень хотел перечитать «Анну Каренину». Начал — и не могу. По причине того, что я, оказывается, знаю ее чуть ли не наизусть. Я считаю, что это лучший роман Льва Николаевича. Если речь о новом поколении, то какой-то провал сейчас в пересменке писателей с точки зрения словарного запаса, культуры языка и прочего. В частности, и у вашего Алексея Иванова, который теперь на слуху. Я читал только один его роман «Географ глобус пропил». Но Иванов-то еще ничего — у него какая-то культура есть, хотя поначалу там такие ляпы языковые, что поневоле подумаешь: на этом фоне все писатели даже последней советской поры — просто мастера мирового класса! Как Нагибин, Казаков и Трифонов. Три Юрия. А сейчас слову не придается никакого значения.
— Зато во главе угла — быстрота написания, распространение тиража и…
— … «негритянская» помощь! И тогда это было. Например, я очень хорошо знаю людей, писавших за некоторых именитых советских прозаиков. Но даже мастера, которые не имели большой славы, такие, как Николай Воронов, все равно писали и, судя по всему, продолжают писать прозу со знаком высокого качества. Что касается нынешнего уровня культуры, он же зависит от того, чему учат в школе. К сожалению, в моем последнем литинститутском наборе не только не слыхали о существовании Трифонова или Казакова, но и вообще ничего не знали. А казалось, еще совсем недавно люди читали много ныне забытых произведений. У меня на даче навалено «Новых миров» за 80-е годы, где вдруг, будто во мгновение ока, публикуются «Картина» Даниила Гранина, «Уже написан Вертер» Валентина Катаева, «Буранный полустанок» Чингиза Айтматова, «Живая вода» Владимира Крупина, «Самшитовый лес» Михаила Анчарова и мой «Альтист Данилов». И лишь потом, через несколько лет, я узнал, что, оказывается, нас всех втиснули в «рамки Брежнева». Нужно было создать из Леонида Ильича не только образ писателя, но еще и либерала. И опубликовать эти произведения в самом либеральном журнале страны, каковым тогда считался «Новый мир». Вот почему позволялось печатать вещи, которые в другие годы ни за что бы не опубликовали.
— Поневоле задумаешься: «В чьи же рамки надо втиснуть сочинения нынешних пересменщиков, чтобы они обрели такое же звучание, что и названные вами произведения»?
— А их ни в чьи рамки втискивать не надо — они сами себя втиснули в рамки коммерциализации. Навеки.
ТРОИЦКОЕ — ПЕРМЬ 2000Юрий Беликов Сам по себе[8]
Из беседы с классиком «ирреалистического реализма» Владимиром Орловым
— Есть прототипы, а есть произведенные вашими произведениями. В Перми, куда вы время от времени поселяете своих героев, живет альтист Анатолий Жохов. Гений импровизации. Он может «считать человека» или ауру только что услышанного стихотворения — и тут же перелить это в голос альта. А к инструменту он этому прикипел, когда-то прочитав, по его собственному признанию, «Альтиста Данилова». Мало того, он фактически материализует текст из вашего романа. Помнится, Мелехин обращается к Данилову: «… неужели тебе, альтисту, слабо сыграть то, что написано для какой-то скрипки!»? Так вот, пермский альтист Жохов по четным дням играет на скрипке, а по нечетным — на альте. Наверное, в этом уже состоялось развитие текста Владимира Орлова?
— Мне об этом любопытно слышать. В Перми я был только раз. В конце 60-х. Тогда я работал в «Комсомольской правде». В принципе, должен был ехать на совещание молодых писателей в Вешенскую к Шолохову. Но понял, что в Вешенской очень легко так загулять, что потом костей не соберешь. В результате очутившийся там Василий Белов прыгал со второго этажа. А тут меня срочно заставляют собираться в Пермь. Я поколебался и решил, что не поеду в Вешенскую — там, кроме пьянки, все равно ничего не будет. Так я оказался в Перми, где «прописал» потом своих героев — Мишу Коренева и Наташу из «Альтиста».
— Стало быть, не поехали бы в Пермь — не «прописали» бы. Послали бы их в Вешенскую. А так, читая «Альтиста», пермяки находят четкую «привязку к месту: «Он тогда из дома ушел, из оркестра, все хотел бросить и все начать сначала. Уехал в Пермь, — рассказывает Данилову про Мишу Коренева ваша героиня Наташа. — Стал работать в театре, в музыкальной части, комнату снимал в Мотовилихе в деревянном доме. Я у него и жила…» Значит, запомнилась вам Пермь?
— Может, оттого, что она произвела на меня мрачное впечатление. Я очень хорошо знаю Самару. Она примерно такое же расположение имеет, как и Пермь. Так же тянется вдоль берега реки. Но, в отличие от Самары, небо над Пермью было затянуто низкими тучами, дул холодный ветер. Это — несмотря на июль. А Самара, в общем-то, курортный город. Там и виноград растет, и абрикосы. Иллюзия, что ты сейчас к морю выйдешь. А здесь… Город тогда был застроен плохо. Я уж забыл, в какой гостинице мы жили. Мы — это я и Володя Чернов, молодой сотрудник «Комсомолки», которого я должен был натаскивать. В воскресный день я поднял этого самого Чернова утром рано. И мы поехали. Как у вас там северная пристань называется? Там запонь еще такая лесная. Это — за пределами города. Ну, в общем, оттуда мы на ракете дунули до Соликамска. И сейчас в «Лягушках» я тоже вспоминаю Соликамск. Тогда в стране вводили так называемую пятидневку. И нам по этому поводу надо было написать очерк. Но поскольку дело было в воскресенье, мы целый день бродили по местам Строгановых в Усолье. И вот эти места произвели на меня сильное впечатление. А в самой Перми смотреть особо было нечего…
— Но все-таки вы же упоминаете в своем романе театр. Это, я понял, театр оперы и балета?
— Да. Туда Чернов у меня все время ходил к балеринам.
— И Чернов вам, собственно, и принес эти реалии?
— Ну почему? В те времена я читал-то все-таки много: и о пермской хореографии в том числе. Поэтому какие-то представления имел. Но большее впечатление на меня произвел стенд «Не проходите мимо», увиденный мною в Перми. Я потом описал его в своем рассказе «Трусаки». Цитирую: «Там висели фотографии пьяниц. И вот что меня удивило. В подписях корили не любителей выпить на троих, как было бы в нашем городе, а «любителей спариться». Вот откуда, понял я сейчас, пошло «спарринг-партнер». Эта мысль меня взволновала и обрадовала. Не заржавели, значит, мы разумом. Не в одних иностранных словарях искать облегчение мыслям! Есть и у нас еще дотошные умы, способные раздвинуть границы языка и создать новые специфические выражения».
Пермь 2010Тамара Александрова Сочиняю, как умею…[9]
«Ходил за грибами и вдруг в меня вцепилась фраза, будто оса ужалила: «Домовой Иван Афанасьевич ждал субботы». Причем жало осы не оказалось болезненным. И дальше грибы попадались, и фраза вилась рядом, намереваясь ужалить еще раз…» Я прочла это у Владимира Орлова в эссе «Лоскуты необязательных пояснений» и вспомнила (мы знакомы давно, и обращение «ты» в нижеследующем тексте не панибратство), как он рассказывал о поиске первой фразы своего первого романа «Соленый арбуз»: надо, чтоб она сразу зацепила читателя. И чтоб писателю, добавим, не оставила возможности увернуться от работы.
Орлову всегда удается сразу же втолкнуть тебя в повествование. «У попа была собака. Поп ее, естественно, любил…», «В окно смотрела лошадиная морда…», «Прокопьев любил солянку…», а еще и «У Ковригина кончилось пиво…» Ни выстрелов, ни сентенций, пронзающих неожиданностью, так — обыденность, но почему-то предчувствуешь: не случайно у Ковригина кончилось пиво, сейчас что-то такое произойдет…
Ковригин — герой «Лягушек», девятого романа классика современной литературы, как все чаще называют Владимира Орлова. До этого написаны «Соленый арбуз», «После дождика в четверг», «Происшествие в Никольском», «Альтист Данилов», «Аптекарь», «Шеврикука, или Любовь к привидению», «Бубновый валет», «Камергерский переулок», рассказы, эссе.
Книги Орлова сегодня встретишь даже в маленьких книжных магазинчиках где-нибудь в провинции, они выстраиваются в ряд на стеллажах столичных гигантов. У него много верных поклонников, даже фанатов. Но есть и читатели, которые при знакомстве с текстом крутят пальцем у виска: странный какой-то этот писатель…
До «Соленого арбуза»
— Когда публику взбудоражил «Альтист Данилов», нередко — и меж собой, и на многолюдных обсуждениях — говорили: Орлов вышел из Булгакова, а ты напоминал, что до Булгакова был Гоголь, а до Гоголя — Гофман, любимый с детства писатель.
— Писателя Гофмана я оценил, естественно, во взрослом состоянии… А в детстве… Мама обменяла на Рижском рынке — мы жили рядом, в Напрудном переулке, — кипу старых, еще довоенных газет (торговцам они требовались для кульков), на буханку хлеба, а хлеб — на лишние билетики в Большой, на «Щелкунчика». Еще война шла, жизнь полуголодная, скудная, у детей и игрушек-то не было, и вдруг случилось волшебство: я попал в сказку, или прожил в сказке великого чудесника Эрнста Теодора Амадея Гофмана, и он вошел в мою жизнь вместе с Петром Ильичом Чайковским, Большим театром… Я долго хранил программку, где, между прочим, сообщалось: Маша — Майя Плисецкая. Дебют.
Лет через шесть — так, наверное, — поздно вечером звонок: Майя Михайловна и Родион Константинович Щедрин. Они только что вернулись из Парижа, были у Шагала и спешили передать мне его одобрительные слова об «Альтисте Данилове». Он прочел его в «Новом мире», который выписывал, всегда считая себя частью русской культуры… Ночью я не мог уснуть. Плисецкая, Шагал, один из моих любимейших художников, — его музыкально-цветовые фантазии на фоне старого Витебска у меня всегда связывались и с Гоголем, и с Гофманом… Все это было как продолжение того чуда военной поры…
— А сказки Гофмана после балета ты сам читал?
— Да, адаптированные. «Золотой горшок», «Щелкунчик и король мышей»… Я рано научился читать и писать. Когда мы с мамой жили в эвакуации в Юрино — это Марийская республика, — отец писал мне письма квадратными буквами, я сам отвечал. Мне было пять лет.
— Отец оставался в Москве?
— Он не мог воевать — у него не было ноги, в детстве делали операцию… В войну работал заместителем главного редактора «Вечерней Москвы». Редакция тогда находилась в Потаповском переулке. Во время бомбежек все спускались в бомбоубежище, а он оставался за своим столом — фаталист! Однажды бомба пробила шесть этажей — до типографии на первом — и не взорвалась. И когда нас бомбили в Юрино, тоже одна из бомб попала на асфальт, отскочила и улеглась на балконе двухэтажного дома.
— Знакомая бомба! Она же из «Лягушек»! Значит Журино, где происходят многие события романа, это Юрино? И вы с мамой жили в замке Турищевых-Шереметевых?
— На самом деле это дворец-замок Шереметевых. До войны там был дом отдыха, в войну поселили эвакуированные семьи ответработников. Жили со свечами и керосиновыми лампами. Койки стояли в зале, во всех коридорах… Сейчас замок прекрасно отреставрировали.
— Твою биографию можно, наверное, писать по твоим романам. Героя «Бубнового валета» ты поселил в своем доме в Напрудном. Ты там и родился?
— Да. Там жил и мой дед Яков Никитич, гравер. Его можно найти в Суворинской адресной книге «Вся Москва». Мастерская у него была в Средних торговых рядах, на Красной площади, но он мечтал купить собственный дом, чтоб при нем и мастерскую разместить. Двадцать тысяч золотых накопил в «екатеринках», а тут революция, бумаги стали бумажками.
— Дом в Напрудном не ему принадлежал?
— Видимо, только 2-й этаж, а потом нас уплотнили, и образовалась коммуналка, без ванны — ее ликвидировали, чтоб расширить прихожую и сделать вход во все комнаты, без горячей воды…
— В твоих сочинениях не раз появляется Яхрома (она же Влахерма), и тоже, чувствуется, не чужое для тебя место.
— Отец тогда писал стихи под псевдонимом Виктор Витязь, начал заниматься журналистикой, попал в «Молодой ленинец», нынешний «Московский комсомолец», где встретился с начинающим Шолоховым — он публиковал в газете свои первые донские рассказы.
Мама из Яхромы. Там они с отцом встретились. Он окончил какую-то комсомольскую школу, его распределили в подмосковный Дмитров, и он часто бывал в Яхроме, соседнем городке, там и познакомился с Машей Барбиной, Марией Сергеевной, активной комсомолкой. Она работала учительницей, а ее мать была ткачихой.
Много лет отец проработал в «Вечерке», писал фельетоны, театральные рецензии… Все время пробовал себя в прозе. В 1935 году в «Красной нови» был опубликован его роман «Искатели славы», имевший большой успех у публики. Там он описал многих реальных людей, они себя узнавали, и это вызывало их неодобрение. Появилась нехорошая рецензия, после которой могли и посадить. Обошлось, к счастью: партийный деятель Щербаков где-то публично похвалил роман. Но отдельной книгой он так и не вышел. Уже в пятидесятые годы отец пытался его издать — не получилось…
— Ты читал роман?
— Еще в школе. Там много сильных литературных вещей. Отдельные главы, экспериментальные, смотрятся как самостоятельные произведения. Но было мало соответствия с жизнью, все умозрительно: чувствовалось влияние литературы. В тридцатые годы у нас была очень сильная литература — по стилистике. Надо сказать, собрав большую библиотеку, отец сохранил все книги расстрельных писателей, от которых многие спешили избавиться.
— Стало быть, отцовские гены не ленились? А его непосредственное влияние ты ощущал?
— Да я его почти не видел! Тогда начинали работать поздно и заканчивали к утру. Когда я уходил в школу — он спал. Возвращался — он уходил на работу. Только по воскресеньям я забирался к нему в постель, и он читал мне «Дон Кихота», академическое издание с картинками. Читал без всяких объяснений и комментариев. Он вообще старался, чтобы я ни о чем не спрашивал, ничего не знал и ни о чем никому не рассказывал. Потому что уже многих знакомых и друзей посадили…
— К твоим первым сочинительским опытам Виктор Яковлевич относился с интересом?
— Когда я начал писать — еще в школе, — он мне как образцы подсовывал плохо написанные производственные романы, получившие Сталинские премии.
— Обладая литературным вкусом, понимал, что не добиться успеха без знания конъюнктуры…
— Успех-то у меня был ранний! Класса с третьего я сочинял стихи — лирические: о природе, о дожде… К какому-то юбилею Сталина нас заставили писать сочинение про вождя. Ну, я и написал в стихах и вместе с другими стишками отправил в «Пионерскую правду». Они напечатали, подписав «ученик 273-й школы». Медаль мне уже была обеспечена! И меня все время заставляли читать это дурацкое сочинение. Так я попал в литературный кружок Дома пионеров, который прославил Евгений Александрович Евтушенко — он несколько раньше меня сюда ходил.
Вел занятия в доме Геннадий Мамлин, детский поэт. Он попросил всех что-то прочитать. Выслушав мое сочинение, дал понять, что это очень плохо. И прочел в ответ свое длинное стихотворение про то, как Сталин стал Сталиным. Дома мы должны были написать в стихах об этом занятии: что происходило, о чем говорили. Мне стало скучно и на второе занятие я не явился.
Я тогда был увлечен театром. Пошло от первых впечатлений — и от «Щелкунчика», и от «Синей птицы» во МХАТе, которая тоже воспринималась как волшебство. Мне давали деньги на каникулы, и я их тратил на билеты. Тогда же неопасно было ходить по вечерам. Да и днем — Москва была почти пустая, без машин. Я как-то ногу сломал и целый месяц на костылях переходил, где мне было удобно, Первую Мещанскую — нынешний проспект Мира. Наша мужская школа находилась на задах этой улицы.
Самые знаменитые ученики — Михаил Вершинин, который написал слова знаменитой песни «Москва-Пекин», про Сталина, Мао, дружбу с Китаем навек, и Татьяна Лиознова. Она привезла сырой еще вариант фильма «Молодая гвардия», и мы с флагами шли по Первой Мещанской до Садового кольца на премьеру в кинотеатр «Форум». Ударение тогда на «у» ставили.
С шестого класса я был в активе Центрального детского театра.
Мы должны были пропагандировать театр, распространять билеты (это, по правде говоря, у меня плохо получалось), дежурить во время спектакля. Нам выдавали красные повязки, и мы следили, чтоб дети не стреляли из рогаток в актеров. Позже я стал писать тексты для театральных капустников…
Детский театр был рядом с Большим и филиалом Большого, на Пушкинской улице, Большой Дмитровке по-старому и по-нынешнему. Такое вот тесное соседство театров — говорят, даже подземными ходами они были соединены. Когда пел Лемешев, прибывала конная милиция, чтоб защитить его от «сыров» и «сырих». А мы защищали любимца старшеклассниц, — Сашу Михайлова. Он окончил студию МХАТ, играл Саню Григорьева в «Двух капитанах», да и вообще всех героев. В кино потом снимался, в картине про Лермонтова сыграл главную роль.
К тому времени в Детский театр пришли молодые Олег Ефремов, Лева Дуров. Вообще театр был хорош по составу и вокруг него были интересные люди, устраивали мастер-классы. Так я познакомился с Борисом Александровичем Покровским, он тогда «Аиду» поставил в Большом и очень интересно рассказывал о процессе работы. Произвел на меня огромное впечатление. В десятом классе я написал пьесу. Прототипами главных героев стали два моих одноклассника. Выпендрежные ребята, в общем-то неплохие, но, не такие, как мы все. У одного дед был министром путей сообщения при Керенском, у другого — отец лауреат Сталинской премии, изобрел смазку для наших танков. Мальчики всегда были при деньгах, начали шляться по разным злачным местам… Но главным в пьесе были даже не эти герои, а быт, повседневность того времени… Я с этой пьесой все забросил. Чуть медали не лишился. Девятый класс окончил на одни пятерки, а в десятом… Педагоги недоумевали: то ли он влюбился… А я как опыт ставил — и над жанром (изучал пьесы в журналах), и над собой: смогу — не смогу.
Литературу у нас преподавала Любовь Кабо, писательница, очеркистка, педагог интересный. Я дал ей пьесу почитать, и она посоветовала показать ее кому-то из драматургов. В театре передали мою рукопись драматургу Л., шел как раз спектакль по одной из ее пьес. Я жду отзыва, волнуюсь. А мне говорят: «Знаете, Володя, вот беда — Л. потеряла вашу пьесу».
Через какое-то время в Театре киноактера — премьера спектакля, персонажи все — один к одному мои. А что мне делать? Куда соваться? Она — лауреат Сталинской премии. Сидела везде в президиумах, вместе с Михалковым… Так закончилось мое постижение драматургии.
— А почему ты пошел на факультет журналистики, а не в Литературный институт?
— Я был принципиально против литинститута, считал, что научить писать нельзя.
— Теперь, после многих лет профессорства в этом институте, считаешь иначе?
— Так же. Я никого не учил писать. Старался соз-дать ситуацию игры, которая могла увлечь человека, подтолкнуть его к саморазвитию как литератора и как личности.
Да и к моменту моего выбора мне интересней всего была география. Собирал книги по географии, хотел пойти на географический факультет. Почитал программу — а там такие предметы! Я их не сдал бы никогда.
— Ты же был медалистом!
— Могли бы на собеседовании завалить. А мне нужен был верняк: маме сделали операцию, и диагноз поставили неутешительный…
В университете увлекся кино. Мне попал в руки сборник американских сценариев, и опять захотелось освоить форму. Написал несколько сценариев. Меня даже хотели взять на организованные сценарные курсы, с хорошей стипендией. Мог учиться параллельно. Успел там посмотреть много интересных, полузапрещенных фильмов, которые не выходили на экраны. Это тоже мне многое дало.
Однажды меня представили Григорию Александрову: вот юноша, подающий надежды. «Вы хотите работать в кино?! — с ужасом спросил Александров. — Быть сценаристом? Я вас прошу, не делайте этого!». А потом все отменилось само собой…
Отец вынужден был уйти на мизерную пенсию по инвалидности. А мама была домохозяйкой, правда, в войну работала на фабрике, вязала маскировочные сетки. Так что мне пришлось все бросить — и мечту о сценарных курсах, и занятия спортом: я неплохо бегал — и думать о заработке.
Поначалу писал разные спортивные мелочи, футбольные отчеты для информационной полосы «Советской России». Жил интенсивно, вертелся, в результате гонорар набегал неплохой. Содержал семью. После университета была «Комсомолка».
— Но здесь ты выдавал большие очерки — на подвал и на два. Уже вышла книга очерков «Дорога длиною в семь сантиметров». А в 1965 году вообще стал знаменитостью — автором «Соленого арбуза»…
Среда — в среду, в четверг и дальше…
— Роман появился в «Юности», которая ассоциировалась с самыми яркими молодыми именами и объединяла когорту кумиров — Белла Ахмадуллина, Аксенов, Вознесенский, Евтушенко… — ты почувствовал себя своим в писательской среде?
— Нет. Мы часто выступали вместе перед читателями, ко мне относились уважительно, но я не влился в эту компанию. Они «гудели» в ЦДЛ, а я, клерк, ходил на службу. «Комсомолка» же им представлялась чуть ли не органом КГБ, хотя была хорошая газета, позволявшая себе очень острые материалы.
— А когда ты почувствовал, что можешь жить вольным литератором, обеспечивать пером себя, семью?
— Думаю, этого никто не чувствует, потому что все на каких-то добавочных деньгах живут. Я просто физически уже не мог совмещать газету и литературу. Я же по ночам писал — и «Соленый арбуз», и «После дождика в четверг».
— И остался этот режим?
— К сожалению. Я-то думал: я — свободный человек. Отсыпаюсь несколько дней и начинаю писать. Но уже выработался ритм: не мог писать больше двух-трех часов. Но, конечно, все остальное время что-то варилось в голове. И потом, требовалось общение. Без знания реалий жизни невозможно.
Мы к тому времени переехали в Останкино: редакция дала мне квартиру, за десять лет я заработал 40 метров с небольшим на пятерых. Новые кварталы именовали Комсомольской деревней: здесь строили свои дома ЦК комсомола, издательство «Молодая гвардия». На улице Королева была пивная-автомат, куда сходились жители окрестных домов, рабочих общежитий и народ с киностудии Горького, из ВГИКа… Сложилась большая компания завсегдатаев, своеобразный мужской клуб. Можно было о футболе поговорить, новые книжки обсудить. Там я перезнакомился с множеством разных людей, слышал множество разных историй.
Были деятели из ЦК комсомола, так называемые лидеры молодежные. Из них же вышли в перестройку, в девяностые, и знаменитые политологи, и миллионеры — сверхвозможность такая свалилась. Среди взлетевших на разные должности, стремительно разбогатевших было больше серых людей, не пропустивших того, что плыло в руки…
— Вот, оказывается, откуда все герои нашего времени! Из пивной, которую ты прославил в романах.
— Помню, как мой приятель, завсегдатай, отговаривал краснощекого ответорганизатора (низший чин в ЦК комсомола), чтобы он не лез в зятья к Брежневу. Тот «влез» и сразу получил подполковника.
Кроме пивной, я ходил в консерваторию, в театры — иногда. И много бродил по Москве. Еще в школе полюбил так болтаться. Москва-то маленькая была. Нам казалось, что мы жили на окраине, а ведь до Кремля-то всего четыре километра.
Меня всегда увлекала архитектура. В «Комсомолке» занимался охраной памятников. Почти непроходимая в то время тема. Но все-таки удавалось всовывать какие-то заметки. Особенно тяжко было при Хрущеве. Рушили все без разбора, сломали тогда столько, сколько при Сталине. На одном пленуме по сельскому хозяйству Никита с возмущением говорил, что транжирят народные деньги на реставрацию каких-то церквей, замков. И началась кампания в поддержку установки партии. Мне в приказном порядке велено было подготовить к печати подоспевшее письмо механизаторов о том, что надо срочно сносить Пафнутьево-Боровский монастырь: в нем находится их училище, и им трудно заезжать в узкие ворота. Слава Богу, я наткнулся в Энциклопедии на упоминание о монастыре. Позвонил в министерство культуры — там вообще плач: это же XV–XVII век! Позже нашел документ, как Дионисий расписывал Храм, сколько чего ему выдавали в день, сколько яиц для раствора… Я, естественно, не стал поддерживать механизаторов. Потом мне говорили: карьерный шанс не использовал! И еще от одного «шанса» отказался, когда меня позвали воспеть проект Нового Арбата…
Я написал большую статью об уничтожении памятников, о том, что необходимо возродить колокольные звоны. Ее опубликовал журнал «Молодая гвардия» и отец тогда очень за меня волновался: «За это и посадить могут…»
Когда заканчивалось строительство гостиницы «Россия», пришлось вступаться за сохранение Английского посольского двора и ансамбля Знаменского монастыря — пандусу они мешали.
Зарядье и еще Кадаши давали такую возможность организовать заповедный район старой Москвы! Там было много зданий XVII века. Зарядье непоправимо покалечили…
— Построив «Россию»?
— Раньше. До гостиницы там возводили 47-этажную высотку, самую высокую из всех московских высоток. Возвели каркас, но на предвыборных открытках 47-го года его рисовали как готовое здание. Когда пришел Хрущев, стройку приостановили — требовались колоссальные деньги. Ну и Кадашевскую слободу — уже при Лужкове — непоправимо изуродовали, изломали, покрасили…
Литературы о старой Москве в то время почти не было, а я составил список памятников — много лет его пополнял — и обходил их. Интересно было открывать в обыкновенных домах следы XVII века — белокаменные основания, наличники. Это как азартная охота… Бродя, заходил куда-нибудь перекусить. Посещал пивную в Печатниках, Печатниковом переулке, на Сретенке.
— Там тоже были завсегдатаи, клуб, как в автомате на Королева?
— Тот автомат — уникальное место! Когда мы переселились на Большую Никитскую, я нередко ездил туда, хотя и не ближний свет. А в Печатниках народу было меньше. И не так интересно. После выхода «Альтиста» я там столько узнал о себе! Ходили всякие легенды. Мне сообщали про необычный роман, даже сюжет пытались пересказывать.
Спрашивали: а ты-то читал? Я отвечал: не только читал…
Еще я ходил в Столешников переулок, в бар-автомат «Ладья», а в обиходе — «Яма»: там лестница вела вниз, и ты должен был минут 40 отстоять на ней в очереди, за которой следили вышибалы. Двое были из Института физкультуры с волейбольного отделения, под два метра ростом.
Тогда объявили борьбу с алкоголизмом, все позакрывали, а «Яма» по какой-то причине уцелела и стала невероятно популярной. Народ собирался разнообразнейший. Вышибала меня однажды спрашивает: «Вы Орлов?» — «Да». — «А что же вы тут стоите?» — «Стою, как все». — «Идемте». Оказалось, выпускник факультета журналистики. Был без работы.
Когда куда-то ушел, передал меня другому вышибале…
Потом стали главными людьми «афганцы». Выяснения отношений, драки на почве «врешь-не врешь». Многие зарабатывали на очередях за водкой по талонам, на золоте — покупали рядом, в ювелирном магазине «по карточке москвича» (порядок такой ввели) и перепродавали приезжим. Позже эти люди уходили в разные криминальные группировки.
— Значит, ты оказался в бурлении всех мутных, диких процессов, которыми сопровождалась перестройка? А всего-то ходил пить пиво…
— Хозяин «Ямы» собирался устроить заповедник для питья и еды от памятника Долгорукову до памятника Чехову в Камергерском, успел даже несколько заведений открыть, но понял, видно, что много не заработает на этом, и продал в конце концов нашу пивную испанцам. А потом на этом месте образовался провал — настоящая огромная яма…
— Почему-то вокруг тебя всегда происходят какие-то мистические, фантасмагорические события. Стоило тебе написать в «Альтисте», что одна героиня ворует из вулкана куски лавы, для превращения их в изумруды, как изумруды там действительно нашли…
— Черные изумруды. Именно в вулкане Шивелуч. Об этом сообщила «Камчатская правда», мне вырезку прислали.
— Альтисту Данилову, вернее, его прототипу, настоящему Владимиру Алексеевичу, ты предсказал встречу с любимой девушкой. И все случилось, как в романе: ее звали Наташей, и она оказалась художником-модельером…
— И не такое случалось. Отцу делали тяжелую операцию, я часов пять болтался вокруг больницы… Нанервничался. Возвращаюсь домой, стою на трамвайной остановке и думаю: «Сейчас бы стакан водки!». Тотчас возник человек и, стесняясь, говорит: «Извини, не могу пить один». Наливает мне стакан водки, я выпиваю, а он мне: «Все, вы больше и не хотели». Тут трамвай мой подошел… А ведь этот эпизод — из «Альтиста»! Он уже был написан! По замыслу, конец романа должен быть трагическим. Но из-за разных совпадений я испугался…
— После Останкина, «Ямы» ты вылавливал персонажей в Камергерском?
— Я не вылавливал! Не изучал жизнь! Имеет значение только твой опыт — не чужой, твое восприятие происходящего вокруг тебя, твои переживания… Чужие рассказы ничего не значат.
В Камергерском, в закусочной, у нас образовалась своя компания — актеры из Художественного театра, звукорежиссеры, звукооператоры… Бывали тут люди из Детского театра, Большого, Оперетты… И всякая шушера, спекулировавшая билетами в Большой театр («билетеры» были в основном из КГБ, поскольку шла в ход валюта — в «Бубновом валете» это описано), и спекулянты учебниками — рядом же магазин «Педагогическая книга». Ниже по переулку, в кафе «Зима», отдыхали проститутки. Я там с ними разговаривал. Их «точка» была рядом, в подземном переходе…
— А что за история у рюмочной на Большой Никитской, где висит твой портрет как достопримечательности и гордости заведения?
— В том доме были до революции меблированные комнаты, внизу кухмистерская, куда жильцы могли спуститься в калошах, перекусить, выпить… И с улицы заходили. Бывал Станиславский — хозяин историю раскапывал, музыканты — напротив же консерватория, Охлопков, когда руководил театром Маяковского… Рассказывали (может, это легенда), когда он приходил в театр, сразу звонил в консерваторию, Нейгаузу: «Генрих, голова болит, встречаемся в аптеке». И шли в рюмочную.
В советские времена, в момент очередной борьбы с алкоголизмом, там поселялось какое-нибудь другое учреждение. Помню, была сберкасса. Потом опять рюмочная с хорошей, домашней, дешевой едой. Издательство устраивало там презентацию моего «Камергерского переулка». Подавали солянку, как в романе, как любил мой Прокопьев, горячую и живую… Критики, журналисты — все были очень довольны.
Абсолютно вольные хлеба
«В голове что-то варилось», неисчерпаемая Москва постигалась — по романам Орлова можно составить необычный путеводитель — московские пейзажи, которые не всякий способен увидеть, топонимика, архитектура судьбы домов, дотошность в деталях как проявление любви, оживающие исторические персонажи… Он энциклопедически образованный человек. Все романы наполнены информацией, не бесстрастной, а взволновавшей его самого, многое сам раскапывал годами, «…в голове моей набито столько всяких сведений, порой вовсе мне ненужных… однако иные из них просыпаются…» — говорит Ковригин в «Лягушках». В романе «просыпается» Марина Мнишек, которая определена толкователями событий в интриганки («А какие она могла плести интриги против России — она же девочка пятнадцатилетняя…»). Самозванец, одна из самых загадочных фигур истории. Он незауряден, он — самозванец, сам себя сделал, а не кем-то-званец… Думаю, этот орловский неологизм выпорхнет из романа и пойдет по жизни, оторвавшись от родителя…
В бродяжничестве по Москве в первую очередь, конечно, открывалось наше время с неожиданных точек обзора. А как строки ложились в «белоснежную тетрадь»?
— Первые два романа я писал под влиянием литературы 20-х годов — ритмической, энергичной, сказывалась и газетная инерция. Когда я начал «Происшествие в Никольском», то буквально сдирал с себя «газету», мне хотелось, чтобы проявилась моя интонация, чтобы я заговорил своим языком. Иногда по нескольку раз переписывал одну и ту же фразу, вырабатывая плотный реалистический язык. Все-таки у писателей моего поколения была ответственность за слово: нельзя писать так, чтобы было стыдно.
— Перед кем?
— Перед собой, перед теми, кого уважаешь. Перед Гоголем, Достоевским… Перед современниками — Трифоновым, Юрием Казаковым, это писатели мирового класса! Сейчас стыда нет. Наши многомиллионные тиражницы о языке не думают.
— Вы по-русски-то хоть что-нибудь понимаете? — Понимаю, — вздохнул Ковригин. — Очень много чего понимаю по-русски… Но не все. (Роман «Лягушки»).
— Так что моя работа на «вольных хлебах» шла медленно. Выбивали и плохие рецензии на роман «После дождика в четверг». По роману собирались фильм запускать, уже были подобраны актеры и вдруг все закрыли. Говорили, в кон не попал.
— Говорили знатоки тайных пружин? А что это значило?
— Кто их знает… У меня там все — все сюжетные ходы, всех героев связывает наводнение. Я видел его на стройке, на Абакан-Тайшете… Но иногда впечатления одного дня дают повод и материал для романа. В «Лягушках» — совершенно реальные первые главы…
— Как? Разве плотная нескончаемая толпа лягушек, упорно прущих к шоссе, под колеса, — не фантасмагории? Не метафора нашего сегодняшнего движения неизвестно куда?
— Нет. Сам наблюдал… Так вот, главные герои романа «После дождика…», переживающие наводнение, молодые люди, приехали на стройку из Влахермы — Яхромы, как нетрудно было догадаться, там остались их родные — и мое повествование перекидывалось из Саян в послевоенную Яхрому. У моих родителей был друг молодости, ставший одним из начальников Лечсанупра, кремлевской медицины. Он фигурировал в известном антисемитском деле врачей, хотя был русским. Уцелел, из тюрьмы вышел… В романе он — прообраз отца героини. Еще действует там профсоюзная деятельница, бывшая стахановка: со Сталиным встречалась, с Калининым, по каналу ходил пароход ее имени. А дальше — одиночество после славы, полупустая, полупьяная жизнь.
— Так зачастую и бывало.
— В журнальной публикации, в «Юности», ее облагородили, яхромские страницы пригладили. Когда роман вышел отдельной книгой, я вообще не обнаружил многих эпизодов из послевоенной жизни страны, в частности, слов «дело врачей» — не было такого! И Сталина вычеркнули. Действовала установка: «Забыть о двадцатом съезде и его обольщающей болтовне!»
Вскоре после выхода журнала вызывает меня Полевой, главный редактор «Юности»: пришла бумага из ЦК партии, туда написали, что я оболгал женщину, бывшую стахановку. Я говорю: «Героиня — не реальное лицо!» — «Но вы все точно назвали, даже ее адрес… Вы должны ехать объясняться, собрание будет человек семьсот…» На самом деле все просто совпало — номер дома, квартиры!
— Видно, вокруг писателя Орлова всегда вились домовые…
— Я хорошо знал фабрику, о которой писал. Председателем профкома там был мой родственник. И я спокойно сочинял, зная, что деятельницу из романа никак не приложить к реальным событиям. Обиженная женщина на собрание не пришла. Народ пошумел и решил, что ничего дурного я не написал, и нет повода, чтоб жаловаться на меня в ЦК…
И вдруг «Новый мир», остросоциальный журнал, который я настолько уважал, что даже не решался туда что-либо туда предлагать, публикует фельетон. Недобросовестный автор взял мои ранние очерки, смешал с текстом романа и поиздевался.
Меня это так вышибло! Месяца три вообще писать не мог. «Происшествие в Никольском» буксовало. А тут еще меня взяли в армию и отправили в Среднеазиатский Военный округ, на Китайскую границу. Служба начиналась с того, что в казарме авиационной дивизии каждое утро надо мной вставал майор: «Лейтенант Орлов, подъем!» — и протягивал стакан водки.
Когда я выхожу из романа, мне потом трудно вернуться. Может, поэтому я долго писал «Происшествие…». Сюжет по тем временам казался невероятно острым, непроходящим: в подмосковном поселке четверо парней изнасиловали свою приятельницу. Правовые люди дело закрыли. Девушка с покалеченной судьбой решила сама за себя постоять. А когда встретила с ножом в руке одного из обидчиков, поняла, что не может убить человека. Но роман был не об изнасиловании — об опасностях пустой жизни, о бездуховности.
Я отдал «Происшествие…» в «Юность», члены редколлегии забили его отрицательными суждениями. С надеждой и страхом понес рукопись в «Новый мир». Одобрили! Заключили договор, а редактором согласилась быть сама Анна Самойловна Берзер, которая готовила к публикации первые произведения Солженицына.
Но ее правка меня удивила: вся рукопись исполосована. Что-то вычеркнуто, что-то вписано. Я сказал, что могу принимать или отвергать замечания, но это уже не мой текст. «Не согласны?» — «Не согласен». — «Тогда пишите на каждой странице: «С правкой редактора не согласен» и расписывайтесь. Я хотела спасти ваш роман, — добавила с сожалением, — потому что он действительно интересный. А цензура снимет эти куски, не заботясь, как все будет согласовываться». Мне дали другого редактора. Рукопись почти без правки через какое-то время ушла в набор, определили в каких номерах 1974 года появится роман. А потом набор рассыпали…
Считалось, что цензура отменена, что Главлит следит только за тем, чтоб государственные тайны не проникали в печать. За все остальное отвечает редактор. Но цензор мог на что-то обратить его внимание. И попробуй проигнорировать. На экземпляре «Происшествия в Никольском», побывавшем в Главлите, я увидел легкие карандашные пометки — на тех местах, которые вычеркивала Анна Самойловна. Я мысленно перед ней извинился… Замечания бывали непредсказуемы. Когда шел «Альтист» потребовали заменить большого красного быка на синего. Лиля (жена — Т.А.) замазывала его по всей машинописной рукописи. Компьютеров-то не было…
Отдельной книгой роман «Происшествие в Никольском» должен был вот-вот выйти в издательстве «Советский писатель». Звонил зав. прозой: «Ничего подобного не читал в последнее время — так эмоционально…» Жду, когда книга поступит в магазины, и вдруг получаю письмо от него: перед выходом перечитали, такие страшные вещи — это все-таки единичные случаи… Требуется просветление…
Я не понял, что значит «просветление», обещал подумать, но отваги заявить: «Режьте меня, ничего не буду делать!» — во мне уже не было. Конечно, казнил себя. Роман вышел незамеченным, тогда говорили: если книге не предшествует журнальная публикация, то это могила неизвестного солдата.
— В «Лягушках» писатель Ковригин, от которого ты старательно дистанцируешься (роста прибавил, возраст убавил, собственное детство отдал его отцу), чтоб не узнали в герое автора. Но все равно читатели, даже лично с Орловым не знакомые, его узнают. Так вот Ковригин рассуждает о «нерожденных детях» — своих неопубликованных работах. Если они не обретали жизнь в печатном виде, то как бы оставались внутри автора, мешая зарождению и развитию в нем новых сочинений.
— Это я и студентам говорил…
— Как же ты жил семь лет с «Происшествием…» и в ожидании его выхода?
— В муках и радостях: когда писал, чувствовал, что пришел к собственной интонации, ее свободе. Только тяжело было проживать горькую историю с подростками. Во мне оказалось запертым чувство юмора… И неожиданно для себя — уже к концу работы над романом — я начал писать рассказ «Что-то зазвенело» — о любви домового к реальной земной женщине. Очень дорогой для меня рассказ.
— Как предтеча «Альтиста Данилова», как выход на новый виток творчества?..
— Можешь и так думать. В «Юности» рассказ сразу набрали — художник Иосиф Оффенгенден сделал прекрасные рисунки — и… разобрали. Получил письмо от Бориса Полевого — он любил писать письма, хотя накануне мог все сказать: «Уважаемый Володя, Вы написали хороший рассказ. Но у нас свободная американская редколлегия. И на редколлегии решили не помещать ваш рассказ». «Американская редколлегия» — осторожный ответственный секретарь. Так же и в «Смене»: набрали «Что-то зазвенело» — разобрали. Услышал, что Стругацкие составляют сборник фантастики. Аркадий прочитал мой рассказ, включил в книгу, но его выбросили. Я пошел в издательство «Молодая гвардия», к редактору: «Объясните, в чем дело? Это что, антисоветский рассказ? Чем он не устраивает?» Она ответила: «Он слишком талантливый». Возникла идея снять фильм. На Мосфильме известные режиссеры передавали рассказ из рук в руки… В результате самый известный сказал: «Да, рассказ интересный, но непроходимый, никто не разрешит поставить…»
В Питере на Ленфильме в это время взяли и закрыли производство четырехсерийной картины «После дождика в четверг». Был уже директор со штатом, автомобиль, почти все актеры подобраны…
Меня часто спрашивали: «Как жизнь на вольных хлебах?» Воля есть, говорил, хлебов нет. За семь лет я опубликовал только один маленький рассказ «Трусаки». Какие-то остатки гонораров быстро истаяли. Жена пошла работать (прежде не могла: сын был несовместим с детсадом), вскоре заболела, так что получала полоклада. Бывало, что на пропитание семьи я мог тратить рубль в день.
— Не мог хотя бы на время вернуться в газету?
— Нет. Я продолжал делать то, от чего натура уже не могла отказаться — писал. В моменты полного безденежья мне улыбалась Хрюшка.
Приходил перевод на десять рублей — колоссальная сумма! Но деньги были явно не мои. Когда пошел на почту, чтобы вернуть, выяснил источник поступлений: «Гонорар за стих. Хрюшка улыбается».
Сочетание Владимир Орлов нередкое, в том числе и в писательской среде. Был Владимир Николаевич Орлов, ленинградский литературовед, автор «Гамаюна». Эту замечательную книгу о Блоке до сих пор незаслуженно (для меня) вписывают в мою библиографию. Я же по просьбе питерского профессора никогда ничего не подписываю «Вл. Орлов» — это его монополия. И был еще в Симферополе Орлов Владимир Натанович. Вот он-то и сочинял забавные стихи про веселую Хрюшку. А так как она бесконечно мне улыбалась, то я потратил много времени и сил на то, чтоб гонорар переводили ее хозяину. А Хрюшка все равно — нет-нет, да и улыбнется. Значит, жди чего-нибудь — радостей, пакостей.
— Но регулярность «хлебов» как-то наладилась?
— Подрабатывал внутренними рецензиями, литконсультациями, как почти все советские писатели. Тогда редакции должны были отвечать всем авторам, приславшим свои произведения — сейчас такого нет, — разбирать их.
— И можно было что-то ценное выловить в графоманском потоке?
— Да. Однажды в «Юность» прибыли вахтенные журналы с острова Карагинский, в Баренцевом море. Работник маяка Борис Агеев на разлинованных страницах накарябал повесть. Сочинений «от руки» редакция не принимала, но я, прочитав, пошел к главному редактору и сказал, что это надо печатать. Как человек азартный, Полевой отправил маячные журналы машинисткам, а по прочтении повести распорядился доставить автора с маяка в «Юность». Борис Агеев выпустил потом несколько интересных книг. Мне это было радостно.
Занимался я и переводами. Переводил с лезгинского повесть о Сулеймане Стальском. Личность интересная. Мы-то знали его как ашуга, прославлявшего сталинскую конституцию. А он сочинял стихи любовные, пел на свадьбах.
Но материал был сырой, разваливался. Предложил автору что-то дописать, от чего-то отказаться, выстроил композицию. Писать по подстрочнику, то есть править подстрочник не мог, не получалось. Оставался месяц. Аванс получен. И тогда я сел за машинку и за месяц все написал от первого слова до последнего. И пошли такие страницы с восточным орнаментом, что мне стало жаль, что они будут считаться не моими.
И, главное, уже «Альтиста Данилова» начал писать. Написал несколько страничек, отнес жене почитать — она была в больнице, хотел ее немного развлечь, — а она: «Интересно, давай дальше». Так и пошло.
В 1977-м роман закончил. И знал, что теперь ни на какие компромиссы с издательствами не пойду. Хотя бы потому, что рукопись никуда не понесу. А куда нести? И вдруг звонок из «Нового мира»: «Нет ли у вас чего-либо нового». С чего, думаю, возник интерес к текстам неудачливого, несостоявшегося автора? Оказывается, мой рассказ про любовь домового гулял от читателя к читателю и до них дошел. Я удивился и понес «Альтиста». Рукопись была в двух папках. Диана Варткесовна Тевекелян, редактор отдела прозы, одну папку берет, а от второй отказывается. Я-то уши развесил, а они страниц десять прочтут — и все им будет ясно. Так они обзванивали человек двадцать. Через несколько месяцев попросили вторую часть…
Тут, видимо, помог Брежнев. Он стал писателем. В «Новом мире» печатались великие произведения Брежнева и надо было уравновесить их хорошей литературой, чтобы сохранить лицо либерального, остросоциального журнала. И пошли обоймой: «Картина» Гранина, «Уже написан Вертер» Катаева, «И дольше века длится день» Айтматова, «Живая вода» Крупина… Нас печатали между «Малой землей» и «Целиной». «Альтист Данилов» вышел в 1980 году.
— А как ты понял, что у романа успех?
— Буквально на второй день после выхода журнала начались звонки. Звонили с поздравлениями уважаемые люди, которым я не мог не верить. Потом начались рассказы, как читают, как вырывают журналы друг у друга. Многие переплетали журнальные страницы, делали ксерокс романа в огромном количестве, продавали по запредельной цене. Были многолюдные обсуждения. И какая-то бурная светская жизнь пошла. Даже те, кто прежде меня почти не замечал, вдруг стали друзьями…
— Издержки успеха?
Очень многие рвались познакомиться с Орловым — музыканты, композиторы, художники — роман-то о творчестве. Сам он знает: о творчестве писательском, но вот художники считали, что он все очень точно написал про них, Наталья Нестерова и Татьяна Назаренко написали картины по мотивам «Альтиста»…
А музыканты — само собой, читали про себя. Многие «точно знали», что герой — знаменитый альтист Башмет, пока сам Юрий Башмет не пригласил в свою передачу «Вокзал мечты» Владимира Орлова вместе с Владимиром Гротом, музыкантом оркестра Большого театра, настоящим прототипом альтиста Данилова.
Многие хотели познакомиться с Орловым. Двери дома не закрывались. Однажды позвонили из иностранной комиссии Союза писателей и попросили принять американского бизнесмена. Сопровождала его американская переводчица «Альтиста Данилова» Нина Буис. Она уточняла время, адрес. «У нас подъезд темный», — сказал растерянно писатель. — «Ничего, мы возьмем фонарик». — «И ступеньки выщербленные», — «У нас тоже бывают трущобы».
Так как гостей тут заведено кормить, Владимир Викторович зажарил курицу из писательского заказа, а жена, убегая на работу, сварила фирменную орловскую гречку с белыми грибами. К курице гость не притронулся, а вот кашу ел не без удовольствия. Это был Джордж Сорос…
Открытость Орловского дома — воплощение характера Лидии Витальевны, ее неукротимой доброжелательности. Даже когда жили в клетушках останкинской девятиэтажки, ее не смущало количество предполагаемых гостей на разных праздниках — главное, чтоб никого не обидеть. Сидели за столом на диване, на спинке дивана, втроем на двух стульях… Кто-то вообще устраивался на кухне.
Женился Владимир Викторович по большой любви — друзья это знают, — на своей однокурснице Лиле Вышегородцевой, девушке очень яркой. В методы завоевания входила даже демонстрация отваги — проход по карнизу седьмого этажа зоны «Е» университетской высотки на Ленинских горах, где было общежитие факультета журналистики. Все не зря!
Она умеет все делать талантливо, быстро и в удовольствие — так всем кажется. С удовольствием вела в журнале «Работница» отдел домоводства и моды. А потом возглавила «Журнал мод», сразу преобразив его до неузнаваемости. Когда появилась возможность самостоятельной жизни, создала газету и журнал «Московский стиль». Да времена наступили крутые — началась дикая инфляция. Редакция, экономя на аренде, переселилась к Орловым. И Владимир Викторович жил вместе с Шеврикукой — про него, самого любимого своего домового, он писал в то время — средь развешанных всюду платьев, расписных шалей…
Орлов — человек закрытый. Даже тень любимой женщины не мелькнула ни в одном из его произведений. И я посмела лишь спросить:
— Ты радовался, когда у жены один за другим вышли два романа — «Подиум» и «Бренд. Повод для убийства»?»
Ответил уклончиво:
— Когда выходит книга, испытываешь странные чувства, не похожие на радость. Но я рад, когда Лиля садится писать.
— Отношение к «Альтисту» тем не менее, было разным. Один известный критик предрекал, что шум, восхищение — это ненадолго. Через год о романе забудут. Сколько переизданий он пережил?
— Не могу даже сказать. Больше тридцати, наверное. Это у нас. А он же переведен на английский, немецкий, французский, итальянский, японский… Японская переводчица работала над романом девять лет. Троих детей за это время успела родить. Когда роман был уже у издателей, позвонила и передала их просьбу: они просили о разрешении поместить на обложке (черной, шелковой) графический профиль Юрия Башмета. Они, мол, понимают, что роман не о нем, но этого замечательного альтиста знают и любят в Японии.
— А как ты относишься к самостоятельной жизни своих «детей», когда к ним прикасаются другие художники? Вот снят восьмисерийный фильм по «Аптекарю»…
— Я не принимал участия в создании сценария и, естественно, волновался: что-то получится? Но картина не только не раздражила, как нередко бывает в подобных случаях, но и порадовала. Это хорошая работа режиссера Александра Баршака, актера Сергея Пускепалиса — он в главной роли, и других замечательных актеров — Михаила Ефремова, Сергея Никоненко, Юлии Рутберг… Но почему-то заказчики не спешат выпустить фильм на телеэкран.
Справедливо добавить к жизни романа без меня оперу Александра Чайковского «Альтист Данилов». Ее поставил Камерный оперный театр имени Бориса Александровича Покровского.
— Со времени появления «Альтиста» литературоведы все пытаются приписать, прикрепить тебя к какому-то определенному направлению, течению, виду, подвиду… Магический реализм, городская сказка, социальная сатира с элементами мистики… У твоего Ковригина всякая классификация, помещение личностей, их творений в какие-либо клетки, временные или стилевые (упаковка Моне, например, в «тару импрессионизма»), «вызывала цветение ушей». Но если без иронии, как ты определяешь себя в литературном процессе?
— Никак. Был такой художник Ван Эйк. Он подписывал свои работы «Как умею». Вот и я сочиняю, как умею.
…И тем не менее он творил с упоением, с радостью даже, не выдавливал из тюбика смысловую массу, слова сами являлись к нему, лишь иногда заставляли его морщиться и искать им замену. Конечно, случались моменты отчаяния, известные любому художнику. Порой даже останавливала Ковригина необъяснимая и тяжеленная, как валун под Медным всадником, тоска. Но потом притягивалось его натурой единственно верное слово, и тоска Ковригина исходила туманом… (Роман «Лягушки»).
2012Путешествие в «Камергерский переулок» (ответы на вопросы читателей)
Простая московская закусочная в центре столицы — что в ней столь необычайного, если ей посвящен целый роман? Оказывается, самый простой общепит может стать центром мистических событий, захватывающих переплетений сюжета и судеб ярких персонажей. Детективная, любовная, приключенческая линии, философские рассуждения и эпизоды московского быта слились воедино в романе «Камергерский переулок». Автор романа, финалист премии «Большая книга» Владимир ОРЛОВ ответил на вопросы читателей о новом романе и рассказал о своем творчестве.
Татьяна Соркина, Красногорск:
Пишете ли Вы сейчас что-нибудь? Или в ближайшем будущем планируете писать новый роман? Можете рассказать, что это будет?
Владимир Орлов:
Я уже два года пишу роман под условным названием «Лягушки», это фантасмагория, связанная с московской жизнью, но не только. Больше половины, мне кажется, я написал. Вчера закончил 34 главу.
Анна Шматкова Москва:
Добрый день! Скажите, пожалуйста, «Камергерский переулок» — это вымысел или сборник реальных наблюдений?
Владимир Орлов:
Вся литература — вымысел, и в то же время это результат твоих житейских наблюдений, твоей жизни вообще, твоих житейских страстей, привязанностей и так далее. Есть строго документальная литература, где автор не имеет права ни словечка лишнего сказать, чтобы не обидеть, не оскорбить, не исказить действительность. А есть художественная проза, у которой точного перевода житейской ситуации быть не может.
Арсений, Москва:
Уважаемый Владимир Викторович, добрый день! Скажите, Вы не приходите в ужас от современного общества, современной морали, современных устоев? Вам не кажется, что люди с каждым годом становятся злее, жестче и аморальнее? Вы почувствовали некий духовный провал вокруг себя?
Владимир Орлов:
Вокруг себя никакого духовного провала не чувствую, потому что живу среди людей, мне приятных, это очень достойные люди самых разных слоев общества — и художники, и артисты, и люди простых профессий. Что касается ужаса от современного общества, то я человек, чье детство прошло в войну и после войны, когда казалось вообще, что хуже ничего не бывает, так что все, что происходило дальше, казалось каким-то повышением совершенства жизни. Я был в пионерских лагерях, мы жили в бараках на берегу канала имени Москвы, потом оказалось, что это были бараки каналостроевцев, многие из которых на стройке погибли. А нам казалось, что мы жили в каких-то роскошных условиях, дети, выросшие в коммуналках. Нам казалось, что мы самые счастливые дети, потому что росли в Советской стране. До того мы привыкли ко всяким тяготам и лишениям, что сейчас ничего не удивляет. Действительно расстраивает, что люди стали злее, эгоистичнее, но они поставлены в такие условия, что вынуждены добывать средства к существованию. Потом еще Москва притягивает такое количество авантюристов, непорядочных людей, которые ищут здесь легких денег, богатых мужей, что они искажают, может быть в значительной степени, суть нашего города и нравы его. Но это все так и должно происходить, и происходило, видимо, во многих столицах мира. То есть ужаса я перед жизнью не испытываю, потому что занят своим делом и знаю, что есть вокруг люди порядочные.
Елена Артюхова, Москва:
В одном из своих интервью Вы признавались в интересе и любви к сказкам. Стараетесь ли Вы специально привнести некоторую сказочность в свои произведения или оно получается самостоятельно, без нарочного настроя и усилий?
Владимир Орлов:
Это опять же свойство натуры человека. Есть жесткие реалисты, которые во всем видят чистую материю, и есть люди, которые живут воображением, и оно им нисколько не мешает. Я как раз отношусь ко второй породе людей, с детства любил сказки. В тех обстоятельствах, в которых я рос: в пять лет испытал бомбежки, еще не поступив в первый класс, попал в Большой театр на дебют Майи Плисецкой. Если бы в нашей жизни не было «Щелкунчика», «Багдадского вора» в кино, то жить было бы очень скучно. Без привязанности к сказке, к фантазийному изображению мира я себя не представляю, это моя натура. Первые большие произведения написал, когда работал в «Комсомольской правде» корреспондентом, очеркистом, они основаны на реальных событиях. Роман с тяжелой судьбой «Происшествие в Никольском» подсказан письмом в редакцию. Я знал от начала до конца, что произошло. Но все равно я писал других людей, не тех, с которыми реальные события произошли, а имея прототипами натуры, мне более знакомые. А после чего моя личность потребовала какого-то выхода, задавленная этим бытом, трагическими обстоятельствами романа, я неожиданно стал писать рассказ «Что-то зазвенело» о любви домового к реальной женщине. Я понял, что мне это интересно. Если бы не было этого рассказа, не было бы и романа «Альтист Данилов». В этом романе прототипами также были знакомые, реальные люди. После этого все произведения «Шеврикука», «Аптекарь», «Камергерский переулок», и сейчас роман, который пишу под условным названием «Лягушки» — все они написаны в жанре романтизма, но это традиция, которая существует с начала мировой литературы, начиная с «Золотого осла» Апулея, Рабле, Сервантеса, Свифта, Метьюрина с его «Мельмотом Скитальцем»… Естественно, Гофман, один из величайших писателей в мировой литературе, Гоголь, Булгаков. Вот эти люди создали романтическое направление в литературе, очень близкое мне по возможностям передать свою личность, свое миропонимание.
Андрей, Железнодорожный:
Добрый день! А сейчас у Вас есть какое-нибудь любимое место, вроде той закусочной в Камергерском?
Владимир Орлов:
Есть. Называется это «Рюмочная» — недалеко от консерватории. Рюмочная — это условное название, здесь отдана дань жанру общепита. Вокруг «Рюмочной» — консерватория, ГИТИС, театр Маяковского, театр Розовского, театр на Малой Бронной, Литинститут недалеко, поэтому публика собирается интересная. «Рюмочная» существует с 1896 года, она называлась тогда «Кухмистерская», ровесница Художественного театра. Станиславский, который проживал там недалеко, в Леонтьевском переулке, захаживал, и Нейгауз, знаменитый пианист, звонил из Консерватории своему приятелю, знаменитому актеру, режиссеру Охлопкову, главному режиссеру театра Революции, и предлагал зайти с утра в «аптеку», имелось в виду это заведение. Было когда-то у нас место общения в Доме литераторов, но сейчас закрыто это заведение.
Александр, Москва:
Владимир Викторович, Вы же продолжаете работать в Литинституте? Вас радуют Ваши студенты?
Владимир Орлов:
У меня сейчас четвертый выпуск, и все эти семинары по-разному проходили. Во втором семинаре у меня студенты уже на третьем курсе имели книги, 19 человек окончили с дипломами, 9 человек с отличием и стали членами Союза Писателей. А вот последний выпуск меня разочаровал. Только сейчас, накануне диплома, ребята начали что-то писать. А чтобы стать писателем, нужна потребность писать все время. Ты должен писать столько, сколько графоман, но профессионально. А эти — страниц по пять в год писали.
Андрей, Москва:
Вы считаете себя «модным» писателем?
Владимир Орлов:
Нет, не считаю, я действительно был года два или три после публикации «Альтиста Данилова», примерно с 1980 по 1983 год человеком, оказавшимся в моде, поэтому все эти «медные трубы» испытал. Мне показалось, что это очень утомительное дело, и к хорошему не приведет. Ничего интересного в том, чтобы быть модным писателем, не оказалось. Часто кажется, что вещь, которую написал, вызовет большой резонанс. Например, мой роман «Бубновый валет». Но этого не случается почему-то. А вот «Камергерский переулок» вызвал неожиданный интерес. Модным писателем легко и приятно побыть, но потом вспоминать об этом, об этих веселых годах не очень замечательно. Сейчас отношение к роману «Камергерский переулок» я оцениваю как интерес читательский, а не моду. А в те годы мода — это сразу книга в дефиците, ее можно обменять на продукты и вообще на что хочешь.
Владимир, Троицк:
Люди из Вашего романа «Камергерский переулок» реальны? Вы их действительно видели или это собирательные образы, или Вы их всех придумали?
Владимир Орлов:
И да, и нет. Есть чисто собирательные образы, как персонаж Соломатин. Есть персонажи, которых я писал с реальных людей, как, в частности, нюхателя Севу. Есть телеведущий Мельников, в котором тоже угадывается, кого я имел в виду, хотя в нем слились два или три человека. Есть совершенно реальные люди, как местный житель, босиком заходивший в закусочную. Девушки, которые стояли там, в Газетном переулке, их приводили греться в закусочную, или в кафе напротив Художественного театра. Буфетчица Даша — это собирательный образ из двух барменш с Украины. И есть персонажи придуманные. Но не придумана вся атмосфера, энергетика Камергерского. Там действительно в доме, где закусочная размещалась, горела пастернаковская свеча. Там же нашли рукопись «Тихого Дона». Напротив — дом, где умер Прокофьев, и его не могли вывезти похоронить, потому что в этот день умер Сталин. Там же рядом театр. Пешком туда приходили из Кремля два друга, Сталин и Бухарин, сидели в публике, без всякой охраны, уходили тоже без охраны. Никто им не аплодировал. В театре бывали Чехов, Горький, Булгаков. То есть это сгусток московской энергии. Поблизости — Георгиевский монастырь, где останки Марфы Собакиной были обнаружены, будто она вчера умерла… Все это и было толчком для меня к написанию романа о Камергерском, где могут происходить самые невероятные события. Совсем недавно мне стало известно, что на углу Камергерского переулка в богатом магазине до первой мировой войны служил Георгий Константинович Жуков…
Светлана Тисенкова, Москва:
Номинирование на «Большую книгу» — это приятное событие для Вас?
Владимир Орлов:
Приятное, конечно. Но у нас сейчас очень много развелось номинантов, и это уже чуть ли не кавалер какого-то ордена. В «Камергерском» я упоминаю людей, кто сам себя выставлял на Нобелевскую премию, а затем рассказывал друзьям, что отказался от Нобелевской премии. У меня есть два знакомых, которые так и ходят номинантами, их повсюду объявляют, как номинантов Нобелевской премии.
Надежда, Москва:
«Альтиста Данилова» называли подражанием Булгакову. Да и в новом произведении «Камергерский переулок» прямо на первых страницах есть о нем упоминание. Действительно ли Булгаков играет весомую роль в вашем творчестве или это только миф?
Владимир Орлов:
Это скорее все же миф, потому что я о Булгакове знал со слов своих родителей как об авторе «Дней Турбиных», и слышал о его «Дьяволиаде» и «Роковых яйцах». Был момент, когда журнал «Латинская Америка», очень хороший журнал по тем временам, там нескольких писателей, в том числе Амирэджиби, Отара Чиладзе, Анатолия Кима, и меня в том числе — произвели в ученики Маркеса, от чего я решительно отказался, потому что на человека, который как-то сложился, вновь прочитанные книги могут произвести впечатление, но повлиять не могут. Для меня книги Гоголя, Гофмана вошли в кровь. Для меня больше влияние Гоголя, чем Булгакова. Однажды «Альтиста Данилова» назвали Булгаковым для бедных. Но Сергей Ермолинский, драматург и друг Булгакова, написал, что могут меня так называть люди, имеющие поверхностное представление и о Булгакове и обо мне. Иногда подходят со стереотипами, с которыми легче объяснить неожиданное явление. К Булгакову я отношусь с величайшим уважением.
Марианна Вертова, Андижан:
Участвуете ли вы в оформлении своих книг. Всегда ли вы довольны тем, как оформлены ваши произведения. Может немного детский вопрос, но нравятся ли вам книги с большим количеством картинок?
Владимир Орлов:
Я вообще очень люблю иллюстрированные издания, но просто сейчас это по коммерческим соображениям издательствам не выгодно. Хотя издательство ACT попыталось сделать в сборнике, где были «Альтист Данилов» и «Аптекарь», нецветные иллюстрации, но они оказались на мой взгляд неудачными. Мне нравились иллюстрации Григория Мурышкина к роману «Шеврикука» в «Юности». Каждый писатель мечтает об иллюстрации своих произведений. После «Альтиста Данилова» у меня состоялось множество знакомств с художниками и продолжается дружба с ними. Они часто дарят мне свои работы. Когда в издательстве АСТ вышел у меня шеститомник, решили на обложках поместить репродукции с этих картин. В частности, пять томов вышло с картинами Натальи Нестеровой на обложке, а один том — Татьяны Назаренко. Это мне показалось делом приятным.
Толик:
Что по-вашему воспринимается читателями лучше: правда, похожая на мистику или мистика, похожая на правду?
Владимир Орлов:
Все зависит от степени таланта писателя, и тут неважно, в каком он жанре работает. От таланта и ума собеседника. Мне интересен такой метод. Однажды я побоялся, что будут повторы, и после своего Останкинского триптиха — «Альтист», «Аптекарь» и «Шеврикука», я попытался писать другим языком, это был «Бубновый валет». Там был человек, на меня непохожий, и я с трудом входил в его лексику. А потом события пошли такие, что они не были фантасмагорией, но могли показаться невероятными. От читателя зависит, что он любит. Толстого, Достоевского — все писатели разные.
Алина Вышневицкая, Электросталь:
Мистика из Ваших романов в Вашу реальную жизнь переходит?
Владимир Орлов:
Случаются совпадения, которые пугают, или радуют. Так было с «Альтистом Даниловым». Героиня воровала куски лавы из вулкана Шивелуч, предполагая, что из них образуются изумруды. Через три года я получил вырезку из газеты «Камчатская правда», где сообщалось, что в лаве вулкана обнаружили черный изумруд. Но это мелочь. На меня потом выходили уфологи, пытались с помощью меня связаться с пришельцами, очень много чего происходило. Я заглянул в энциклопедию, чтоб узнать о природе молнии, спародировал энциклопедию, а потом выступал в научном городке, и меня доктор наук спрашивает — а как вы пришли к природе линейной молнии? Они потратили десять лет, чтобы прийти к тем же выводам. «Не можете ли вы пофантазировать о природе шаровой молнии?» — попросили меня… Из «Альтиста»: в жизни самого прототипа стали происходить события, о которых я писал. Поэтому я испугался за его судьбу и концовку сделал смягченную.
Николай, Мытищи:
Каким Вы видите Вашего читателя?
Владимир Орлов:
Самым разнообразным. После «Альтиста» мне приходилось выступать в самых разных аудиториях. Самые разные люди читают, читали. Какого-то особенного читателя своего я не вижу.
Илья Вячеславович, Москва:
А может, все же настал час, когда нам надо напомнить о том, что мы мелкие грешники?
Владимир Орлов:
Это в «Камергерском переулке» кассирша Людмила Васильевна так говорит, и вроде она не просто кассирша, а некое много чего понимающее существо. Каждому человеку каждый день приходится выслушивать и понимать, что он мелкий грешник. Но это ничего не меняет в его натуре.
Алена, Москва:
Откуда Вы черпаете вдохновение?
Владимир Орлов:
Ниоткуда. Вдохновение, по моему понятию, — это сосредоточенность. И концентрация мыслей и чувств. Мне интересно писать продолжительные произведения, романы. Интересна импровизация, когда ты начинаешь с первой фразы и не знаешь, как поведет себя герой, которого ты пока слабо представляешь. Если по болезни или другим причинам ты из этого состояния сосредоточенности выходишь, то очень трудно потом опять войти в роман. Так было с «Камергерским переулком», когда почти два года я не мог его писать. А когда есть сосредоточенность и в тебе что-то есть как в личности, и диктуют ли тебе Бог или небеса… Но иногда действительно я удивляюсь, почему это я написал и как. Но некоторые вещи вполне объяснимы, потому что, когда ты находишься внутри произведения, тебе могут прийти неожиданные соображения или строки. Так однажды я заканчивал эпизод, надо было куда-то бежать по делам и следовало записать концевую фразу. И тут мой персонаж Кармадон произносит неожиданно для меня: хочу побыть на Земле гигантским быком. И в «Альтисте» у меня появляется Синий бык, большой синий бык, который находился под хрустальным куполом. Когда рукопись попала в «Новый мир», он был Красным быком. Там посчитали, что это тонкий намек на Ленина в Мавзолее. Пришлось жене заклеивать все слова «красный», хотя для меня цвет быка не имел значения. Вот так из одной фразы возникла история про Быка Кармадона. Иногда случайные словечки, рифмы создают импровизационное удовольствие у своего автора. Поэтому я просто пишу, ниоткуда вдохновение не черпаю.
Наталья, Химки:
Вы писали «Камергерский переулок» как воспоминание о чем-то? Это немного биография?
Владимир Орлов:
Есть там, конечно, воспоминания о чем-то. Потому что я в школе был театралом и с шестого класса был в активе Детского театра. Мы не давали стрелять из рогаток во время спектакля и прочее. И очень хорошо узнали ближайшие театры изнутри. И Детский, и Малый, и Большой, а особенно Художественный. Для меня было праздником, мне выдавали на каникулы денег на билеты, и я пересмотрел многие спектакли по множеству раз. Для меня само понятие — Камергерский переулок — было одним из самых главных в Москве. А потом меня поселили в дом Художественного театра под названием Сверчок, в Газетном переулке, напротив Камергерского. Я поэтому туда часто заходил, многие знакомые появились из Художественного театра. В закусочной рядом с театром проходили творческие встречи и интересные беседы — уже в 90-е годы, когда едва хватало на кружку пива, актеры были полунищие, работы не было, кино все прикрывалось. Сергей Прокофьев меня всегда привлекал, но квартиру его я так и не посетил. Я уже говорил про сгусток энергии Камергерского переулка, творческой, трагедийной. Сейчас приходится жалеть, что все уже по-другому. В романе есть описание, как в нем уже собираются персонажи романов Робски… Первые три романа я написал об Останкине. Тоже совершенно особенное место.
Елена, Москва:
Герои «Камергерского переулка» — просто люди, как везде или именно москвичи? У них есть какие-то свои, исключительно московские черты?
Владимир Орлов:
Сейчас очень трудно назвать эти исключительные московские черты. Сейчас все, как в котле, перемешалось, перетопилось. Поэтому многие москвичи приобрели черты, не свойственные послевоенной большой деревне, как питерцы называли Москву. На самом деле за Садовым кольцом начинались деревянные дома. И нравы были особенные. Но тогда люди общей нищетой были связаны, друг другу помогали. Не было стычек, интриг. А потом, когда началось расслоение 50–60-х годов, нравы стали меняться в Москве. Грешить на лимитчиков неохота, потому что есть ядро. Как русский язык может все перемолоть и включить в себя все, так, я думаю, в конце концов московские нравы подчинят себе инородную шваль в отношениях. Хотя это упование очень зыбкое. Так в Ленинграде произошло, когда после войны туда съехались многие люди из северных областей, и город на интеллигентский походил мало. Но потом выработались именно питерские привычки, обычаи.
Николай Светляк, Долгопрудный:
Писатель — это судьба или профессия?
Владимир Орлов:
Судьба, конечно, и никуда от нее не убежишь. Были годы, когда меня не печатали по восемь лет, а в ход шли произведения с плохим языком, или предисловия к краткому курсу КПСС. Чтобы благополучно жить, надо было подчиняться тем правилам. Это было очень досадно, приходилось жалеть, что другой профессии нет. Но это все во мне перегорело, и что-то сделано такое, чего можно не стыдиться.
Leona-Ana, Москва:
А Вы правда относите себя к породе московских зевак? Очень понравилась книга «Камергерский переулок», спасибо большое!
Владимир Орлов:
Да, действительно. И лентяев, и зевак. По-моему, писатели вообще должны быть лентяями и зеваками. Иначе они превращаются в машину для добывания денег или славы.
Стас, Ивантеевка:
Что сейчас находится на месте закусочной из «Камергерского переулка»?
Владимир Орлов:
Я толком не знаю. Туда просто противно ходить. Там что-то похожее на солдатскую столовую, но с большими ценами и со случайными посетителями. Бывший хозяин, у которого сначала провалилась знаменитая пивная в Столешниковом переулке, а потом он умер во время совещания — проклято все это место…
Пивная находилась в церкви шестнадцатого века, хозяин ее скрыл это, чтобы не ставить ее на охрану как памятник архитектуры. Этот «бизнесмен» был из комсомольских работников, мечтал создать свой район, но не вышло.
Николай Чершинцев, Москва:
Существуют ли прототипы персонажей из «Камергерского переулка»?
Владимир Орлов:
Да, есть. И среди них Васек, который приходил босиком, который видел гуманоидов.
Иван Николаевич Дробышев, Москва:
Владимир Викторович, добрый день! Не жалеете о том, что ушли из журналистики?
Владимир Орлов:
Конечно, не жалею, надо было делать это раньше. Потому что это два ремесла совершенно разные. Конечно, я поездил по стране, видел жизнь людей и ситуации разные. Газета «Комсомольская правда» была газета очень достойная. Журналисты попадали в ситуации, из которых сейчас бы живыми не вышли. Роман «Происшествие в Никольском» написано по письму прокурора в нашу газету. Журналистом приятно быть молодым, когда ты носишься по стране. А потом надо делать выбор, или делать журналистскую карьеру, или вековать на сочинениях в морализаторском жанре, который у нас назывался «сопли и вопли». Я уже не мог в той форме существовать. За время работы в «Комсомолке» я написал два романа — «Соленый арбуз» и «После дождика в четверг». Причем писал их по ночам. Пока здоровье позволяло, я работал, потом ушел. И журналистский подход с ограниченным взглядом на жизнь, как и служебный язык, следовало в себе истреблять, переходить к более эмоциональному, емкому языку. В романе «Происшествие в Никольском» я распрощался с этим стилем.
Леонид, Москва:
Что Вы думаете о современной литературе? А о современных читателях?
Владимир Орлов:
Я ее плохо знаю. Мне столько приходится читать рукописей своих студентов, выпускников, что перечитать что-нибудь необходимое — Салтыкова-Щедрина, Гофмана, не хватает времени. Живу по литературным легендам. Даже работы своих приятелей не успеваю читать. С Битовым встречались, ни он меня не читал, ни я его. Легенды существуют — Пелевин, Сорокин, Елизаров. Мне думается, что существует за гранью литературы свалка литературы для больниц. Как призналась одна из авторов, она пишет романы — успокоительные таблетки. У многих сейчас нет копирайта, то есть авторами произведений являются издательства. Явно, что существует бригадный метод. Он и раньше существовал, я знаю, кто за кого писал, а называлось — редактировал. Но это старались делать на художественном уровне. Не говоря о том, что существовали писатели высокого класса — Катаев, Казаков, Трифонов, Нагибин, некоторые деревенщики. Сейчас это не заботит. Очень много стилизаций. Но не возьмусь судить, у Сорокина я читал только одно произведение, у Пелевина — два. Но на них большой спрос, значит, что-то для людей в них есть. Вошли в моду восточные, или латиноамериканские учения, вроде Кастанеды, который, скорее всего, есть коллективное сочинение. С уважением отношусь к Улицкой. Дима Быков мне очень интересен. По темпераменту, яркому словцу он редкий человек. Большая потеря — Аксенов… У нас критики считают, что какой-то литпроцесс происходит, и они им управляют. Я думаю, что никакого процесса нет, а есть личности, которые этот процесс производят. Иногда эти личности проявляются и на пустом месте. Хотя во многих видах искусств заметно возвращение к высокому художественному уровню, чтобы это падение звуковое, стилистическое, которое началось в 90-х, было преодалено и произошло возвращение к хорошему художественному уровню. Беда еще в том, что нет журналов с большими тиражами. Раньше не нужна была критика, а нужны были журналы и молва, которая дала бы знать, что читать. И через годы эти вещи оставались.
Анастасия, Королев:
Кто Ваш любимый персонаж в «Камергерском переулке»?
Владимир Орлов:
Да все любимые. Даже те персонажи, которые тебе неприятны, они все равно твои дети.
Елена Е., Москва:
Когда в одной из глав «Камергерского переулка» Вам звонил Мельников, он называл Вас Профессор. Это действительно Ваше «прозвище» среди своих?
Владимир Орлов:
Нет. Профессор у нас один на всю страну, это который погоду объявляет по какому-то каналу. Просто Профессор — это совпадение персонажа со мной есть, есть мои черты, слова и убеждения, в частности, про потерянное поколение. Меня иногда могут называть профессором, потому что я им и являюсь в Литинституте. У нас в Литинституте два профессора Орлова. Один историю читает, а другой — я. Он Александр Сергеевич, у него прозвище Пушкин. А у меня прозвище Классик.
Гера Фотич, Санкт — Петербург: Вопросов задавать не буду, и так все понятно. Хочу пожелать удачи! Не знаю насколько уж там объективные судьи… давно живу в этой стране. Хочется надеяться на лучшее…
Ульяна:
Встречаетесь ли вы с читателями? Что больше всего интересует сейчас читающую аудиторию? Какой самый необычный вопрос вам задали за последнее время?
Владимир Орлов:
После «Альтиста» в обязательном порядке мы должны были встречаться с читателями, но на самом деле встречи были интересные. В Доме композиторов даже держали конную милицию для поддержания порядка. Причем встречи были со знаменитыми на весь мир музыкантами, среди них альтист Михаил Толпыго. Встречи сопровождались исполнением произведений, которые упоминались в романе. Иногда мне приходилось на ночь останавливаться в научных городках, и тогда разговоры о романе, о литературе, об обществе продолжались ночами. Сейчас встречи происходят только в магазине, когда подписываешь книги, но это дело утомительное, потому что обычно жарко в этих магазинах и вопросы успевают задать только простенькие. Когда вышел «Камергерский», в Интернете появились разухабистые отклики. Например, одна дама упрекнула меня в старомодности и высказала претензию, что слово солянка у меня написано с маленькой буквы, когда это название ночного клуба. Она и не подозревала, что было такое блюдо. Вот такой необычный вопрос: почему солянка с маленькой буквы?
Сергей Яковлев, Подмосковье:
Существует ли идеальный герой? Есть ли приемы в литературе, которые стопроцентно работают на читателя или каждый раз приходится изобретать что-то новое?
Владимир Орлов:
Насчет приемов в литературе — это надо обращаться к профессиональным ремесленникам. Они могут назвать приемы, как подействовать на человека, чтобы вызвать слезу или другую реакцию. Я знал журналиста, который на вольных хлебах работал для разных изданий, для каждого из них писал разным стилем, который требуется в той или иной газете или журнале. К сожалению, в последнее время у нас герой хотя бы порядочный не в почете. В Каннах фестиваль был — там все какие-то полуублюдки, грубо говоря. Они маргиналы и поступки совершают такие, которых стыдиться приходится нормальному человеку. Я знаю, что, например, эротику можно написать, как Нагибин, не то что без мата, а без единого термина. У нас все объясняется депрессивным состоянием человечества, чтобы поплакаться и показать людей, как скотин. Это не мое. Я рос с другими понятиями о человеческих ценностях, поэтому старался написать о людях, которые не теряют достоинства ни при каких обстоятельствах. Так было и в «Альтисте», и в «Шеврикуке», и в «Бубновом валете». Насчет идеального героя — думаю, таких нет. Даже попытки создать в советское время таких персонажей, как Маресьев — оказались неудачными. Это общипанный герой, в жизни он таким не был.
Завершающее слово Владимира Орлова: Я хочу вас всех поблагодарить, не ожидал, что будет такое количество вопросов, некоторые из них серьезные и в точку.
13–15 июля 2009 годаВОКРУГ ОРЛОВА
Юрий Рост Презентация классика в рюмочной[10]
«Рюмочную» надо бы написать в кавычках, потому что так называется это душевное заведение, где Владимир Викторович Орлов производил представление (по-нашему презентацию) своего нового романа «Камергерский переулок». И откуда, выпив стопку и сказав слова приязни (сто страниц с интересом мной прочитаны), я прибыл в редакцию писать этот текст.
Орлова люблю давно, что давало мне основание первое время не особенно читать его книги. И без того знал, что он хороший писатель. В капустниках старой «Комсомолки», где Володя, работая очеркистом, начинал свой литературный путь (Как сказано! Похоже, что я тоже писатель), мы с другим классиком, Ярославом Головановым, распивали (Господи! Да что же со мной? Похоже, Фрейд блудит), распевали, конечно же, частушки: «Был осенен Некрасов мечтой неброской:/Белинского с базара нести в авоське./Восприняли мы глубже поэта слово:/На сданные бутылки несем Орлова».
Мы пели, а Вова тем временем писал. «Соленый арбуз», «После дождика в четверг», «Происшествие в Никольском»… Печатался в «Юности» (в то время это — ого!), книги издавал и законно стал членом Союза писателей. На зависть всем коллегам, которые полагали, что журналист — это вроде полковника, а уж писатель — тот в штанах с лампасами! (Не много ли я ставлю восклицательных знаков?! Может, там была не одна стопка?)
Орлов между тем не загордился и продолжал попивать пиво в разнообразных пивных сначала в Останкино, а потом и в центре города, куда переехал на улицу Огарева, где в квартире, угрожающей жизням обвалом потолка (по сей день!), вместе с чудесной женой Лилей, тоже заразившейся писательством, собирал друзей, которые до десяти вечера выпивали и витийствовали с Орловым, а после уж как-то сами.
Он ушел из редакции, перебивался за счет трудившейся жены и работал. А потом ошарашил читающую публику «Альтистом Даниловым». Сильно умные критики пытались найти и объяснить, на что это похоже. А ни на что. На Орлова. Он продолжил свою русскую литературу, создав мир в рамках Москвы — которую знает и чувствует как никто другой — и за ее пределами. «Аптекарь», «Шеврикука», «Бубновый валет»…
Успеху «Альтиста», безусловно, способствовало то, что в прообразы одного жизнерадостного плута (такая объективная самооценка невозможна после двух рюмок. Что с памятью-то?!) Юрия Михайловича Ростовцева он довольно бесцеремонно взял вашего покорного слугу, посадил его на лошадь и с попугаем на плече (тут вранье: в реальности не было попугая!) заставил ездить по Тверской. «С лицом кормленого ребенка». (Каково!)
В «Камергерском переулке» меня нет, но, видимо, чтобы усилить успех книги, на обложку поместили фрагмент полотна нашей любимой подруги Натальи Нестеровой, где Володя, доктор Мысловатый и я (справа налево) идем по московскому переулку. А на соседней картине Наташи неизвестный в шляпе читает Орлова. Вот так мы живем.
Теперь совет. Если вы хотите прочитать новый роман Орлова, а заодно и предыдущие, ступайте в книжный магазин «Москва» на Тверской (там директором мой друг Марина Каменева), скажете: от меня, и вам книги продадут. Достанут из-под прилавка и продадут.
Будем здоровы!
2008Леонид Репин Где в столице выпить пива?[11]
Вместе со своим старинным другом, известным писателем Владимиром Орловым, наш обозреватель Леонид Репин отправился на днях в поход по любимым пивнушкам своей юности. Оказалось, иных уж нет, а в тех, которые остались, все теперь совсем иначе…
Что скажешь о пиве? О нем надо петь. Один мой друг заметал: «Леня, не можешь петь, не пей». А я не пить пиво не могу, а вот на ухо медведь наступил. Так как же мне быть? Не надо доказывать: пиво пьют все и везде. Даже пингвины в Антарктиде. Сам видел, как один клювом долбал пивную банку: выпил, судя по всему, и еще захотел. Совсем как мы. Подход такой же.
Первый заход. Пивной бар «Повеса». Улица Королева, дом 3.
Когда останкинское грозовое небо дрогнуло в оглушительном грохоте весенней грозы, а молниеносный разряд воткнулся в железобетон долговязой башни, я понял, что вот-вот должно произойти нечто необычайное…
Я сидел один в уютненькой пивнушечке и неторопливо потягивал свежее бочковое пивцо «Афанасий» из Твери. Однако когда я, оторвавшись от кружки, поднял голову, рядом со мной оказался гражданин в отутюженном фраке и крахмальной сорочке. Тонкая, аккуратно подстриженная бородка обрамляла его удлиненное лицо.
Я невольно зажмурился: быть такого не может здесь! А когда открыл глаза — и правда, тот же самый гражданин уже обретался в джинсах и клетчатой рубахе с засученными рукавами, и борода его испарилась куда-то. Теперь я узнал его: Владимир Алексеич Данилов, альтист из романа Владимира Орлова. А может, это и сам Орлов, по собственной прихоти материализовавшись в Данилова.
«Ну что, мыкаешься? — спросил Данилов, он же Орлов. — Пришел в нашу старую поилку-автомат, а нет его?». Я удрученно вздохнул: «Давно уж нет…».
«Такое место проворонили… Теперь и пойти-то некуда… Разве найдешь теперь такую пивную?» «Да, — соглашаюсь я, — душевная стоячка была… Но и эта тоже вообще ничего…».
«Ну, да, — хмыкнул мой собеседник, — фешенебельно очень. Одна молодежь тусуется. Словом перекинуться не с кем. И бильярд этот еще… Громыхают шарами… А сколько пиво стоит?».
«Двенадцать рэ за ноль четыре».
«Вот видишь, — злорадно усмехнулся Орлов-Данилов. — Нет теперь в Москве народных пивных. Закрыли все. Я, правда, слышал, будто на Крестьянской заставе сохранилась одна из старых».
«Легенда, быть такого не может».
«Не знаю, надо бы съездить проверить, да некогда все…».
Здешнее пиво ему понравилось.
Второй заход. Пивной бар на Сущевском валу, возле Марьинского универмага.
В новом месте нас против воли совсем охватили ностальгические воспоминания. «А Яму-то помнишь на углу Столешникова?» — «Да как же не помнить? Бойкое было место. А теперь и близко не подойти: испанский дорогой ресторан… И дух прежний весь выветрился. Никто там и не вспомнит о нас…» — «А что нас помнить? Главное, чтобы мы не забыли».
Что и говорить, злачное, колоритное было местечко! Притягивал отчего-то этот низкий мрачноватый подвал. И пиво в автоматах было хорошее. То, что запах туалета привольно гулял, вроде бы и ничего, старались не замечать. Зато нравы — обнажались, как голая грудь из-под рубахи расстегнутой. Закуска была, однако, дороговатая, и каждый старался со своей приходить. И бутылку водки или портвейна с собой приносили. Из-за пустой такой бутылки, помню, две бабы остервенело подрались: кружками били по голове, чаше, правда, промахивались, а разнять их даже и не пытались.
«Тебя там знали все… — завистливо я говорю. — Всегда пускали без очереди». «А то… — усмехнулся Орлов, он же Данилов. — А «Жигули» на углу Нового Арбата? Дорого, конечно, зато все остальное…».
«Да, первый пивной ресторан в Москве. Часами в любую погоду стояли — хоть в дождь проливной, хоть в мороз, лишь бы попасть. А недавно я заглянул — сидят человек пять или шесть, поперек себя шире, с затылками бритыми, и у всех под мышкой слева что-то топорщится. А цены…».
Да, нет теперь и «Жигулей». Хоть слезы лей. Да только прошлое, сколько ни плачь о нем, сколько ни поминай, все одно — не вернуть. Да и надо ли? Пусть проживает в воспоминаниях.
«А пиво, однако, и здесь ничего, — замечает Данилов, опуская кружку на покрытый скатертью стол. Читает на картонной подставке: — «Степан Разин». Из Петербурга».
Третий заход. Пивной бар в кафе «Выставочное» на ВДНХ.
За стойкой, как дрессировщица на манеже, грациозно движется молодая особа с белокурой, роскошной гривой. Я давно за ее выступлениями наблюдаю. Ее зовут Люда, и мужички к ней часто подходят просто так, чтобы получше ее разглядеть. Всякие другие попытки завоевать ее внимание, увы, бесполезны: проверено.
Любимое занятие Люды — решать кроссворды. Глядя на меня внимательно, возможно, даже и испытующе, спрашивает: «Любовная связь супругов на стороне?». Я выдерживаю этот тонизирующий взгляд и с вызовом ей отвечаю: «Адюльтер». Она подсчитывает карандашом клетки в строчке кроссворда и объявляет многозначительно: «Подходит». Но это только слова: Люда 17 лет замужем и ни разу мужу не изменяла. И даже не собирается. А пиво из ее рук трезвенно охлаждает и кажется особенно вкусным. Люда наливает в кружку всегда под рисочку.
Публика — одна молодежь. В основном бритоголовая. И очень шумная. Хотя, бывает, забредет и семейка приезжая перекусить, гости столицы. Пельмени здесь готовят вкуснейшие.
Все хорошо бы, да музыка уж очень гремит. Нормальному человеку долго не выдержать. Этим, кстати, грешат и многие другие места московского общепита: люди приходят общнуться, а им по ушам мешалкой…
А пиво, меж тем, как напиток коварный, незаметно вершило подрывное, тайное дело. Кто не знает: пьешь-пьешь в свое удовольствие, а потом как взовьешься! И никакая сила не удержит на месте! А после — ничего, опять жизнь в радость. Вот и меня, и даже Данилова в туалет потянуло. А там — праздник! Причем в самой непосредственной близости от мужских и женских кабинок… То ли день рождения у туалетной работницы, то ли получка. По три рубля от всякого сюда входящего туалетная нимфа принимала левой рукой, а в правой держала вилку с нанизанной копченой колбаской. Когда левая освобождалась, она брала двумя перстами тонконогую рюмочку.
Компания была небольшая, но шумная, а туалет — препоганый: кабинки даже без дверей.
Данилова, видно, вконец прижало, и он стремглав проскочил мимо кордона, пообещав заплатить на обратном пути. В ответ ему милостиво кивнули.
Четвертый заход. Пивная «Волга» на Малой Якиманке, дом 24/8. У входа — тяжелый якорь с массивной цепью. Говорят, на нее особо буйных временами сажают. Внутри — уютная теснота. Всего четыре стола на шесть мест каждый. За стойкой в это время священнодействует Олечка. Я ее про себя Золушкой называю, потому что как только наступает половина девятого, она срывается с места и исчезает.
«Ну-ка, ну-ка… — потянул Данилов меня за рукав. — Чую запах какой-то… Постой… Спецслужбой пахнет. Присядем и оглядимся».
«Ну ты, брат, даешь! — удивился я. — Эта пивнушка — любимейшее место офицеров ФСБ и налоговой полиции! Еще и артисты любят сюда захаживать. И как только ты угадал…».
«Погоди. Вот этот, — он указал взглядом на крепко сбитого мужчину со скромным лицом Джеймса Бонда и мгновенно обезоруживающей улыбкой молодого Никулина, — вот этот только что вернулся с опасного боевого задания».
«Нет, — говорю я уверенно. — Он прямо из бани сюда».
«А ты откуда знаешь?» — теперь удивился Данилов.
«А мы вместе в баню ходим. По четвергам».
Оля-фея поманила меня хитренько пальчиком и многозначительно отворила дверь стойки.
«Пойдем-ка, я чего тебе покажу», — позвал я Данилова. И мы оба проскользнули за стойку.
На двери секретного, только для своих работников и пользующегося особым доверием туалета табличка: «Зав. отделом кадров. Прием по личным вопросам с 16–18». Рядом — другая дверь: «Партком». Сбоку пришит кнопками портрет вождя всех народов в белоснежном парадном мундире. Тут же развернуто алое знамя СССР с гербами всех союзных республик. Подлинное.
«Стой!! — вдруг закричал кто-то страшнейше у нас за спиной. — Кто такие?!» Данилов мгновенно исчез, а я вздрогнул, пробитый шрапнелью мороза по коже.
«А, это ты…» — сказал умиротворенно бородатый детина с хищным разбойничьим взглядом. Мой знакомый, актер Олег. Тот самый, что в фильме «Белое солнце пустыни» в сцене захвата баркаса кричит: «Абдулла, таможня дает добро!».
Данилов, успокоившись, рядом возник. «Пойдем, гусей покормим», — говорю я ему. «Кого?!» — поперхнулся Данилов, отпивая пиво из кружки, Олегом предложенной. «И кроликов».
На тайном, закрытом дворике, видимо, для отдохновения работников спецслужб содержится небольшой зоопарк. Чтобы они могли непосредственно пообщаться с живой природой. Животные, однако, погладить себя не дали, а гуси изготовились явно к атаке, и мы поспешили ретироваться. «Куда вы?» — успела Оля спросить, но мы уже позорно бежали, сопровождаемые победным гусиным гоготом.
Пятый заход. Пивная-закусочная в Камергерском переулке.
Сидим мы с альтистом Даниловым, воплотившимся в реального своего создателя Владимира Викторовича Орлова, в уголочке, за двухместным столиком, и никто нам говорить не мешает. Орлов каждый день, уже который год, заходит сюда. И всегда в определенное время. Поработает, попишет чего ему замышляется и сюда, пропустить пару кружек.
Здесь подают «Афанасий»: всегда свежее вкусное пиво.
О чем говорили? О старых друзьях — о тех, кого нет уже, и о тех, с кем просто долго не виделись. Наши сведения дополняли друг друга. Спросил его, как возник замысел написать совершенно необычный роман «Альтист Данилов». Случайно, вроде бы. В лесу, кажется. А может, и в городе. Словно волна какая нашла. Сел и рассказ написал «Что-то зазвенело». И шестна-дцать лет не мог его напечатать. И вообще его лет семь не печатали и за границу не выпускали: какая-то сволочь, видно, стукнула.
«А что сейчас?» — спросил я его. Недавно в «Юности» вышел его новый роман «Шеврикука», а сейчас он пишет роман «57-я солонка». «А почему — 57-я?». «А я и сам не знаю. Там ты есть», — хитровато он улыбнулся. Ну, думаю, не ждать ничего хорошего. Наверняка каким-нибудь домовым выведет.
Мы вдоволь попили пива, а потом попрощались, и он двинул домой. Немного ссутулившись, пошел быстрыми, мелкими шажками прострачивать родной Газетный переулок.
1998Владимир Добкин Фантазии Орлова на фоне пивной[12]
Однажды в жизни мне повезло. Подобно одному из чеховских героев, а также некоему О. Бендеру, разыскиваемому безутешной вдовой, я попал на страницы.
И не в скупые строки газетной хроники, а на страницы большого художественного полотна, романа и — что теперь скромничать — может, вместе с ним и в историю отечественной литературы.
Если не лень, откройте роман Владимира Орлова «Альтист Данилов», и в конце сорок второй страницы обнаружите, что музыкант в земной жизни и демон в девяти слоях (правда, не совсем настоящий, а на договоре) срочно ищет семьсот рублей, чтобы вернуть их Добкиным. В свое время Данилов якобы одалживал эту сумму на приобретение альта знаменитого мастера Альбани.
Суть, разумеется, не в том, что ни на земле, а точнее, в пивном автомате на Королева, 5, где, кстати, сам Данилов бывал не по нужде, а разве что из любопытства, ни тем более в одном из тех космических слоев, где демон парил в свободное от музыки время, денег я ему не одалживал, а если и случалось — то не такую сумму: таких денег не водилось, выверни карманы хоть у всех обитателей автомата одновременно. Просто Орлову было лень тратить свою фантазию на придумывание фамилий своим героям или подобно большинству писателей брать их из телефонной книги. А потому и хлебосольные Муравлевы, и Кудасов со своим фантастическим чутьем на даровое угощение, и румяный злодей Ростовцев, и хитрый домовой Валентин Сергеевич, и еще полтора-два десятка героев, важных и пятистепенных вроде меня, носили в рукописи свои подлинные имена, фамилии, а кое-кто даже и адреса, по которым проживали согласно прописке или так, по причине семейных сложностей.
И хотя буйная писательская фантазия перемешала характеры и обстоятельства их жизни в такой смачный винегрет (любимая еда писателя в молодости), что и разобраться в этой симфонии для альта с оркестром из друзей и приятелей-собутыльников было попросту невозможно — действующие лица по прочтении рукописи перед сдачей в набор решительно потребовали фамилии их заменить, что совестливый писатель и сделал. Жена Муравлева, к примеру, найдя себя в романе бездуховной по причине постоянного переноса сумок с едой для мужа, сына и собаки Салюта, все-таки разрешила оставить имя собаки. И на том спасибо. Собака, кстати, была очень умная и тоже, как писатель Орлов, совестливая. Придя с работы домой в плохом расположении духа, Муравлев обычно обращался к ней с общественным вопросом: «А ты Брежнева читала?» И собака, скуля, забивалась под диван, стыдясь своей неграмотности.
Я же, находясь в длительной зарубежной командировке и уже имея возможность одолжить на альт требуемую сумму без процентов (боже, тогда это и в голову не приходило, а теперь с пера сорвалось!), рукопись не читал, а потому и не мог подать голос протеста.
А мог — так все равно бы не подал. В отличие от многих действующих лиц романа, мы были связаны с писателем не только дружбой, но и местом постоянного времяпрепровождения. Не знаю, как насчет шинели Гоголя, но из автомата на Королева, 5 вышли вполне заметные люди. Вышли, конечно, не все, он больше впускал, но вот уж Орлов точно появился оттуда с двумя романами под мышкой — «Альтистом Даниловым» и «Аптекарем».
Когда романов еще не было, в пивной я чаще всего видел Орлова с его неизменными двумя хозяйственными сумками: в одной дары овощного магазина — капуста, крафтовые пакеты картошки и соленые помидоры в пластиковом пакете по 30 коп. за кило, в другой — молоко, кефир, хвосты хека и шестикопеечные мясные котлеты. Посланный служащей женой за покупками, вольный художник на часок-другой заворачивал в пятый дом (а его и обойти было невозможно — и продмаг, и овощной как бы прикрывали автомат с флангов) и, выкроив два-три двугривенных из тощего семейного бюджета, потягивал коричневатую жидкость, почему-то именовавшуюся колосом, да еще и золотым! И думал, слушал, иногда шевелил губами, словно снимал пену (ее не было), сочинял в ожидании встречи с пишущей машинкой.
Пивная на Королева — это, скажу вам без преувеличения, целая эпоха. В самом начале шестидесятых, в доавтоматический период, я застал там еще высокие мраморные столики вровень с горлом человеку ростом метр семьдесят. К столикам были приварены крючки для хозсумок, как бы поощрявшие домашних хозяев «заглянуть на ручеек». Хозяйки туда не ходили, но когда ответственные работники стали забывать появившуюся новинку — кейсы а-ля Джеймс Бонд, крючки сняли, а заодно убрали и сами столики. Район рос, строился, мест встречи по интересам не прибавлялось, установленные однажды деревянные столы под русскую избу располагали к долгосидению и нездоровым (непивным) мыслям, а потому после очередного ремонта убрали не только мебель, но и скосили градусов на сорок подоконники, дабы человек не мог пристроить кружку и помечтать о светлом будущем. Зато увеличилось количество рожков, а пропускная способность магазина-автомата достигла скорости турникетов ближайшей станции метро «ВДНХ». А туалет между тем как был о двух «очках», так и оставался.
Граждане, проживавшие в пятом доме и трудившиеся в основном в КБ Королева, жаловались в письмах в инстанции на тяжелые испарения и даже утверждали, что в космосе, несмотря на полное отсутствие кислорода, дышится гораздо легче.
Мы их понимали, к тому же публика в пивной в основном состояла из тех, кто, говоря современным языком, устанавливает паблик рилейшнс с народом: аппарат ЦК ВЛКСМ (без руководства), журналисты «Комсомолки» и молодогвардейских журналов, включая «Мурзилку» (с руководством), и, конечно, останкинские телевизионщики. И хотя все мы, в отличие от застенчивой собаки Салюта, Брежнева не только читали, но кое-кто за него и писал, — все вынуждены были ходить в палисадник не только за тем, чтобы вздохнуть и справа полюбоваться ракетой с титановым хвостом, а слева шампуром останкинской башни с тремя кусками мяса (списано у голодного Орлова) — ведь пиво не любит перелива.
Уже давно нет на этом свете ни собаки Салюта, ни ее хозяина, доброго товарища Витюшки, и многих других, да и самого автомата на улице Королева: теперь там местный отдел виз и регистраций, как бы приглашающий бывших завсегдатаев оформить загранпаспорта и катиться пить куда подальше. Так мы и разогнались!
Между тем многие, кто поспешил поменять фамилии в рукописи романа, теперь, когда его читает четверть населения земного шара, об этом искренне сожалеют. Еще бы — нашу жизнь, по Орлову, изучают даже японские технократы после десятилетней работы над переводом своей соплеменницы, которая попутно родила за это время трех ребятишек. Но им остается разве что пойти в милицию и поменять свои фамилии на имена героев романа, о чем, кстати, помышляет, по моим сведениям, хитрован Ростовцев, имеющий свою передачу на НТВ, где и о Девяти слоях и Колодце ожидания сегодня говорят так же буднично, как о сникерсе с марсом.
А я пью пиво и думаю: как хорошо вовремя уехать и вовремя вернуться.
1996Лев Скворцов Феномен прозы Владимира Орлова (По страницам романа «Камергерский переулок». Стилистические заметки[13])
Речь в статье пойдет о некоторых стилистических или собственно языковых приемах последнего романа В. Орлова «Камергерский переулок»[14]. Приемах, вообще характерных для повествовательной манеры признанного мастера «мистической прозы».
Заметим сразу, что никакой особой мистики в новом его романе в общем-то нет. А есть, если угодно, так, небольшая «чертовщинка», что ли, некоторая вполне реальная такая фантасмагория. Но без этого Орлов не был бы Орловым, это уж точно.
В романе «Камергерский переулок» повествование ведется о любимой автором-рассказчиком и персонажами закусочной в Камергерском (ранее — проезде Художественного театра), фирменным блюдом которой является солянка и которая, закусочная, по сюжету то ли будет перекуплена кем-то (и соответствующим образом переделана), то ли вовсе закрыта.
Закроют? Не закроют? — этот жизненно важный вопрос не остается без ответа: в итоге она оказывается точно закрытой.
«Такая пошла молва. Закроют. Продадут отмывателям денег. Впрочем, знатоки и толкователи столичной реальности успокаивали. Да это когда будет. Это когда еще закроют. Это ведь нужно, чтобы нашелся покупатель с сумой-калитой» (стр. 153). Ну, конечно, нашелся покупатель, и закрылось кафе-закусочная с неописуемой культовой солянкой.
Главное для автора «закрытие» проходит на фоне многих других закрытий, продаж, переделок и переименований. Например: ««Диету» на Тверской продали и закрыли. «Дары моря» на Тверской продали и закрыли, они остались только в кинофильме «Подкидыш» (стр. 232).
Приходят новые хозяева, действует по своему усмотрению новая элита, закрывающая и открывающая то, что ей надо, и свысока глядящая на «старых» нищих русских. По мнению одного из персонажей романа, таков вообще неминуемый ход истории:
«— Я знаю, — поведал Ардальон Соломатину снова шепотом. — Я все знаю. Их закроют. (Речь идет все о той же закусочной. — Л.С.). История! История требует. Центр первопрестольной не для бедных. Не для нищих. Для имущих! Для их проказ! А не для всяких этих профессоришек, писателишек, актеришек, мучителей струн и клавиш, офицеришек чести» (стр. 102).
Закрываются не только кафе и закусочные, но и разные другие учреждения: «За спиной у нас в бывшей «Политической книге» тихо существовал красно-зеленый ресторан «Древний Китай». — Ба! — только теперь сообразил я. — И «Оранжевого галстука» более нет! — Два месяца как, — сказал Линикк» (стр. 266).
Исчезают не только вывески бывших учреждений (вместе с заменой их содержимого), но и целые постройки, дома, в частности, здание старого МХАТа: «И тут как раз исчез дом номер три по Камергерскому переулку (…). Но как исчез? Или пропал? Сам, что ли, ушел куда-то?» (стр. 276). Остался от него один лишь волнухинский Пловец в волнах над входом, парящий теперь изредка в воздухе. И возникает неожиданно некая мистическая Щель, тоже питейно — закусочная точка, войти в которую может далеко не каждый.
Обнаруживается и опять-таки весьма загадочным образом исчезает известная, по давним рассказам очевидцев, бочка Есенина из-под керосина, а вернее, то, что осталось от нее и было обретено в одном из подвалов домов в Брюсовом переулке. Ее сплющенный корпус переживает своеобразный час триумфа, пока не срывается с постамента памятника себе и не улетает куда-то в небеса по никому не ведомой траектории на глазах изумленной публики. «Впрочем, — замечает автор в итоге повествования, — существовала ли вообще бочка из огорода слесаря Каморзина (где и сооружался ей памятник. — Л.С.), и если да, то куда она девалась» (стр. 537).
Здесь мы должны сделать некоторое уточнение. Внешне (подчеркнем: чисто внешне) повествование в романе, как уже говорилось, вполне реалистическое. Но черты и черточки легкого «мистицизма» пересыпают это повествование на всем его протяжении. Всякого рода «чудеса» — от конкретных их проявлений (пусть даже и локальных, в пределах Камергерского переулка) до широкомасштабных — идут в романе как бы вторым планом, впрочем, таким же важным и осязаемым, как и первый план.
Это и загадочная шкатулка, поиски которой ни к чему не приводят, и рассуждения о неких тайниках в подвалах окрестных домов, и факт «подписания кровью» сатанинского документа, и колющий своего хозяина «живой» хищный кактус, и таинственные убийства ряда персонажей, и «бермудский» треугольник ПЕМ (памятники Пушкину — Есенину — Маяковскому в Москве), «гуманоиды — энлотяне, регулярно прилетающие к жене-«полковнику» дальнобойщика Васька Фонарева; существующая в разговорах и не существующая в реальности улица Епанешникова; здесь же знаковые тени Камергерского переулка — от царской невесты Марфы и опричника Грязного и до И.В. Сталина и композитора С. Прокофьева, скончавшихся в одно и то же время, наконец, третье ухо олигарха Квашнина и прочая такая же чертовщина.
При этом автор не без иронии подтрунивает сам над собой в связи с собственным стремлением к разного рода мистификациям:
«И автор фамилию его (Оценщика) пока не называет. А может быть, и вовсе не назовет. Из-за наивной корысти приманить читателя пусть и признаком тайны. А возможно и по иной причине» (стр. 25).
Вообще для авторского повествования в романе весьма характерна открытая ирония или шутливо-ироническая тональность. Например: «А молодцы-привратники в штатском, стоявшие у дверей Думы (она-то рядом, любимица народная), здесь важничали, проявляя себя чуть ли не генералами и героями истории» (стр. 7). Или: «Сам вид ее (солянки) и запахи в Прокопьеве, особенно голодном, разрушали всяческие бормотания по поводу иллюзорности или бессмыслия бытия» (стр. 6).
Известно, что вершиной любой подлинной, в том числе и литературной, иронии является авторская самоирония, которая в романе «Камергерский переулок» представлена многократно. Например: «Мне бы сидеть за рабочим столом и свои тексты выводить ручкой, а я нажимал на кнопки пульта (телевизора), перепрыгивая с канала на канал» (стр. 277). Или: «И еще Альбетов напомнил мне персонажа мультшлягера 60-х годов, то ли Пончика какого-то, то ли принца… то ли… Увы, склероз» (стр. 321); «Конечно, не один Прокопьев опечалился. И меня предстоящее закрытие закусочной не обрадовало. Помимо всего прочего я опять ощущал себя винтиком. За меня принимали решения декоративный рабочий Шандыбин и декоративный крестьянин Харитонов. <…> Хотя, конечно, надо было дождаться решительного закрытия дверей закусочной, а уж тогда печалиться» (стр. 30); «Написав эти слова, я ощутил их вздорность» (стр. 51) и мн. др.
Подлинным шедевром авторской иронии (вернее, сатирического сарказма) оказывается остроумно-злой памфлет (на стр. 161 и след.) по поводу новой теории летоисчисления — «сплющенности времени» — некоего «бухгалтера Хоменко или Хвостенко», в котором любой современный продвинутый читатель легко угадает теперешнего академика-математика Фоменко с его пресловутой «новой исторической хронологией», заполнившей в последние годы полки наших книжных магазинов:
«Сплющенность времени, убеждал меня Мельников, позволяла сильным мира сего заказывать так называемым историкам выгодные для их кланов летописи, документы и даже поэтические произведения типа «Слова о полку Игореве». <…> Хрестоматийный пример. Куликовская битва. По заказу Романовых в летописных документах она якобы произошла в нынешней Тульской области в 1380 году. Но такого года в сплющенности времени вообще не было по причине ненадобности. И никаких Мамаев в помине не было. И Дмитрия Донского. И Рюриков никаких не было. То есть было. Даже два. Один редактор «Литературной газеты». Другой его сын, эссеист-сексоаналитик. Но их роль в истории Российского государства корыстно преувеличена. От них, конечно, пошли Рюриковичи, но по идеологической линии»… И далее: «В здешнем сплющенном времени все же допускалось некое движение событий, и даже — в логической или сюжетной последовательности. Понятно, что и тут не обошлось без отвлекающих человечество от истин заказных сочинений типа бодяги коллективных авторов под коммерческим псевдонимом Нестор «Повесть временных лет (уже противоречие сплющенности времени), или Откуда пошла есть земля Русская». Есть-то пойти она, может, и желала, по причине вечного аппетита, но самой такой земли не было. Была земля укров («урков» произнес Мельников, но поправился), племени происхождения загадочного, скорее всего от инопланетян. <…> Они имели гладкие, как у скафандров, блестящие на солнце покрытия со свисающим набок пучком антенн. Информаторы Геродота называли эти пучки очень приблизительно и довольно странно, сравнивая их отчего-то с азовской сельдью. (Имеются в виду «оселедцы». — Л.С.). Вскоре в племени укров возникли амбициозные отщепенцы, возможно, мутанты, со своим полуграмотным разговорным языком, и укры разделились на укров великих и укров малых. Великие укры остались вблизи Днепра, а малые укры со своим нелепым бормотанием поперли осваивать болота и еловые леса, где их гладкие покрытия обросли русыми кудрями»… и т. д. Опрокинутая история современных украинских «специалистов» здесь легко угадывается и по своей абсурдности сопоставима с «новейшей хронологией» упомянутого выше академика.
На эту авторскую иронию естественно и органично накладывается, дополняя ее, намеренная перифрастичность, иносказательность изложения в романе. Вот некоторые из многих возможных примеров:
«Сергей Максимович Прокопьев имел диплом инженера, трудился на военном заводе, но при известных трясках на исторических ухабах был выброшен в реалии жизни сокращенно-упраздненных» (стр. 15); «На первом этаже (дома) выводили из клинических смертей часы, согласно гарантиям» (стр. 72); «Кумир был поддатый, но не до потери основ самосохранения» (стр. 89); «Жидкости в сосудах Ардальона иссякли, и он отправился к стойке за пивом»… (стр. 102); «Возвращения Люды Васек дожидаться не стал, а освободив от жидкостей кружку и стакан, ринулся, по всей вероятности, в магазин «Красные двери» выполнять указание стервы-полковника» (стр. 31) и др.
Весьма выразительны по своей психолого-образной обрисовке портреты персонажей романа. Например:
«Был он (Агалаков) живописен, темно-русые волосы до плеч, шекспировская бородка и усы вызывали у собеседников мысли об артистической натуре. Стоял и передвигался Агалаков, не меняя позы <…>, голова была чуть откинута, будто бы Агалаков стоял перед полотном Паоло Уччелло» (стр. 53); «Фаина Ильинична (жена Каморзина), работавшая инженером на химическом заводе, дама в соку, крупная, пышноволосая <…>, отчего-то показалась гостю похожей на экскурсовода Политехнического музея. «При чем тут музей? Что за чушь!» — обругал себя Соломатин (стр. 72); «Олену Павлыш я разглядел на летнем цветном снимке. Хоть давай на разворот глянцевого журнала <…>. Рослая блондинка, ноги — от клюва фламинго, лишь сантиметров на пятнадцать защищенные от северных ветров джинсовой юбкой. Ну и так далее <…>. Добавлю, что в лице ее светилось несомненное благородство» (стр. 68–69); «Властителем интересов за столом оказался нынче шурин Каморзина Марат Ильич, крепкий, лысый мужчина с лицом зубного техника. Марат Ильич был доктор наук и, как выходило из беседы, заведовал магнитными полями» (стр. 74) и др.
Надо сказать, что и собственный портрет автора (автопортрет) выполнен в той же излюбленной им манере психологической иронии:
«А почему бы мне не устроиться если не в охранники либо в смотрители притротуарных стоянок, то хотя бы в ночные сторожа, тоже средний класс? Кто-то посчитал, что я похож на Габена, вот и ладно, рожа нехорошая, знакомо-свирепая, враги не обрадуются, протекцию раздобуду, посадят меня на ночь в сенях конторы <…>, стану я совмещать бдения с дневными делами. <…> Все. Хватит! Взгляни в зеркало. Это я себе. Взглянул. Не Габен. В сторожа не возьмут. Оно и к лучшему» (стр. 115–116).
Для стилистики повествования В. Орлова весьма характерны уточнения, разного рода оговорки, утверждения и подчеркивания в оценках и суждениях — как в авторской речи, так и в речи персонажей. Например:
«К тому же состоялся съезд бывших обладателей Олениных прелестей. Или съезд потребителей, не важно. Но именно съезд. Не пешком же они прибыли к ресторану «Пушкинъ»» (стр. 27); «Лесть и нежности Олены не могли его (Оценщика) обмануть, в ее затее ему была уготована роль разгоночной ракеты, и не ракеты даже, а ее ступени, третьей или пятой. Из тех, что обречены отвалиться и сгореть в атмосфере» (Там же); «Всех уволили (не по форме, а по сути), а Даше, шел слух, сделали предложение <…> стать чуть ли не распорядительницей всех дел в новой ресторации <…>. Слух, понятно, вызвал суждения. И лестные для Даши. И нелестные. И даже не то чтобы нелестные, а безобразные» (стр. 237); «С этим его внутренним убеждением <…> не соглашался следователь Игнатьев. Не то чтобы не соглашался, а, видимо, допускал и иное положение вещей. Или иное развитие событий…» (стр. 275); «Кроме главного своего ремесла тетка Полины занималась еще и знахарством. То есть вернее будет сказать — целительством. И «занималась» сказано не совсем точно, <…> тетка Полины врачевала себя травами. Себя, своих родственников и знакомых… (стр. 311)» и др.
С подобной манерой уточнения высказываний тесно связана авторская направленность на само словоупотребление, т. е. выбор слова, выражения и т. п. вместе с оценочностью их (с позиций автора или персонажей) — в тех или иных конкретных условиях и ситуациях. Например:
«Потом Соломатин пил за хлястики и пропел хлястикам эпиталаму. А может, эпиграмму. Или пусть будет — панегирик» (стр. 111); «А вот с постаментом выходит большая закавыка. Или с пьедесталом? Как оно вернее-то? — Можно и так, а можно и эдак» (стр. 77); «Полгода Даша (в химчистке) числилась «пятновыводящей». Слово это ей не нравилось. И в дискотеках совершенной нелепостью было рассказывать парням, что она пятновыводящая. Ну хоть бы пятновыводительница, куда бы ни шло» (стр. 144); «Итак, он был содержант (слово какое-то дурацкое, но не Альфонс же, не Альфонс — это уже профессия, а он соглашался стать содержантом любимой им женщины…)» (стр. 366); «Чуткий Агалаков из его, Квашнина, неделовых реплик, воспоминаний <…> вычислил («вычислил» к Агалакову никак не подходит — выпел, что ли, вырисовал, вырифмовал?) неизвестные желания и видения»… (стр. 175); «Оглядев ногти, Соломатин пообещал себе заняться ими… Но сразу же и подумал: а может, ему и по определению (словечко-то какое идиотское и полуграмотное, но вошло в моду, в эфирах, прямых и кривых, рассыпалось, футбольные трепачи без него и репортаж вести не могут) ему идеальные ногти не положено иметь. Он же сантехник, и именно этим интересен и объясним» (стр. 473) и др.
Здесь же следует отметить давнюю склонность В. Орлова к разного рода новообразованиям (одни только хлопобуды, и будохлопы чего стоят!). В «Камергерском переулке» обращают на себя внимание своеобразные авторские языковые новации словообразовательного характера: «отечественное среднеклассье» (от средний класс), «провожать в безвозвратье приятеля» (т. е. хоронить), «многокрасочье времени», «поднебесья искусства», «людо-потрясение» и некоторые другие.
Роман «Камергерский переулок» — это ироническое, лирико-эпическое и вместе с тем философское повествование о сегодняшней нашей жизни, с характерными ее приметами, деталями быта, типичными ситуациями, отражающими узнаваемую «сиюминутность» московской, да и не только московской, но жизни всей нашей матушки России первого десятилетия двадцать первого века.
Вот автор говорит о деятельности торговцев-коробейников: «Дама была коммивояжеркой, хорошо знакомой в закусочной, привычнее говоря, толкачом-коробейником ходового товара. Она и ее сотоварки обслуживали в округе служительниц продуктовых магазинов и всяких, по их мнению, забегаловок. Производили они впечатление продувных бестий, в отличие, скажем, от хрустальщиц. Те предлагали свои хрустали и фарфоры не то чтобы смущаясь, а словно бы стыдясь всего мира. Им на заводах в дни расплат вместо денег выдавали изделия, и приходилось путешествовать в столицу в надежде на щедрости москвичей. Сегодняшней коробейнице стесняться было нечего. Сумку свою она набила халатами, юбками, колготами, бельем и прочими дамскими радостями» (стр. 39). Вот он рассуждает о новых «завоевательницах» столицы: «Примеры продвижений завоеватеньниц и охотниц, прибывших из всяческих Ковылкиных и Грязей, были на слуху. Одна из них, любовница олигарха, отправленная им в запас, получила место телеведущей с помесячным поощрением трудов в десятки тысяч долларов. Другая, побывшая женой капиталиста всего полгода, высудила при разводе полмиллиона опять же не рублей и виллу в Сен-Тропе. И так далее» (стр. 23).
Или рассказывает об общем ухудшении московских нравов: «И теперь довольно добропорядочные некогда московские нравы <…> испорчены наездом в Москву плутов, политиканов, мошенников и бандитов любых мастей, а также глупых, но настырных и тщеславных баб, желающих даже с обувью сорок четвертого размера добыть себе принца» (стр. 536).
А вот касается новой массовой профессии «ночных бабочек» и путан: «Даша отшучивалась, Рогнеду (свою землячку-проститутку. — Л.С.) не осуждала, каждая профессия достойна уважения; кабы не бардак повсюду, а с ним и нищета близких, Рогнеда, может, училась бы теперь на стоматолога, о чем прежде помышляла» (стр. 145).
Наконец, говорит и о катастрофическом общем непрофессионализме, особенно в сферах современного массового «искусства» и литературы: «Нынче, при легкости вкусов, любой, написавший жалобу в химчистку, мог объявить себя писателем, а исполнивший в застолье громко и по-своему песню про омулевую бочку — и композитором «аранжировщиком» (стр. 395).
Проза В. Орлова не только иронична (как уже было отмечено), но и насквозь психологична, причем этот психологизм касается не только внутренних переживаний персонажей (и самого автора-рассказчика), но и отдельных как бы мимолетных эпизодов, оценок характерного жеста, взгляда и т. п. Передается этот психологизм обычно в рамках несобственно-прямой речи или внутреннего монолога — беседы или спора персонажа с самим собой. Например:
«Он (Соломатин) думать запретил себе об этой заблудшей душе, об этой дурехе прекрасной, но чего стоило ему запрещение! Не мог он не думать о ней и не мог ее забыть. Ну ладно, ее душа, она отлетела и мается теперь где-то или нежно покачивается в шелковых гамаках в пределах недостижимых. И тела ее уже нет. А вот о теле-то ее и не мог забыть Соломатин. Но не способен он был стать погубителем дивно сотворенного природой тела. (…) Не было на нем ее крови, не было!» (стр. 275); «Очень складно бы получилось. Если бы Прокопьев Дашу отыскал. А ему и хотелось бы отыскать. Но и хотелось бы, чтобы ее не оказалось дома, да и в Долбне вообще. То есть он как бы действие предпринял, совесть успокоил, а Даша взяла да и укатила к родителям (намерение свое она высказывала Насте). Значит, не судьба. Не ехать же ему в Херсон. «Слюнтяй!» — отчитал себя Прокопьев» (стр. 290).
В начале этого последнего отрывка (как и во многих других местах текста романа) обращает на себя внимание излюбленный автором прием парцелляции — «разбиения» точками сложных предложений на отдельные их части, «осколки», становящимися от этого значимыми и придающими повествованию драматическую напряженность: «Очень складно бы получилось. Если бы Прокопьев Дашу отыскал» и т. п.
См. показательные своей характерностью примеры внутренних монологов: «Манера, что ли, у него такая в общении с чадами? — удивился Соломатин. — Аж слезы блеснули в глазах. Или он вынужден юродствовать передо мной? Странно, странно, шутом Павел Степанович вроде бы себя на моей памяти не проявлял» (стр. 79); «Бред какой-то, восклицал Соломатин. Опять же про себя. В какое время мы живем, восклицал. А в твое собственное, отвечал себе Соломатин, время, в наше время, которое представляется тебе и только тебе — мерзким, противным, постыдным, вертляво-колотушным, неприятным для порядочных людей и угодным для пройдох и себялюбцев» (стр. 250).
Общие и частные философские рассуждения нравственного характера — о сегодняшней жизни, о наших днях — представлены в романе во всей их типичной узнаваемости. Например, о выражении «третья сила» (на стр. 431–432); «— Коля, если не прекратишь дискуссию, — заявила кассирша, — третья сила тебя отсюда выведет. И Коля притих. — Какая такая третья сила? — спросил я. И скорее всего, себя спросил, а не кого-либо еще. — Не берите в голову, — сказал Арсений Линикк. <…> Но не брать третью силу в голову я не смог. Какая такая третья сила, по мнению притихшего Коли, возьмет и проявит себя? Не бочка же Бакинского керосинового товарищества? <…> Но если брать высокие категории, то для меня в бытии существовали две силы. Добро и зло. А третья сила — что это? В чем она? Или в ком? Не в здешних ли ярусах пребывает она, копится, мается или мерзнет в томлении, в необходимости проявить себя? Или это просто Сила? Не первая, не вторая, не третья. А Сила. Просто Сила. Неведомая нам. Неведомая мне. «Вы об этом узнаете позже», — сейчас же прозвучало во мне. И я успокоился» (стр. 432).
Автор успокоился по поводу неведомой «третьей силы». Но нет ему успокоения по поводу привычной неустроенности российского нашего бытия и постоянного ожидания каких-то грядущих неприятностей:
«Но мы до того привыкли пребывать в ожиданиях неприятностей и перемен к худшему (вроде бы возникло нечто полуустойчивое, но не верим в него, вот-вот упадут цены на нефть и нате вам — обвалы, дефолт, сухие лепешки), что для нас главным становится не жизнь, а именно ожидание неприятностей. Или нелепиц и невероятных поворотов судеб» (стр. 30).
Масло в огонь подливают и средства массовой информации, в особенности же некоторые телевизионные каналы с предсказаниями конца света и всяких других катаклизмов:
«Пугали население неоднократно. Причем тексты к зрительному ряду зачитывались истеричными дикторами. Истерические интонации, похоже, вообще нравились хозяевам каналов. Запугивали птичьим гриппом (теперь вот мексиканским свиным гриппом. — Л.С.), сибирской язвой, эпидемиями, правыми рулями автомобилей, фреоном из холодильников, палеными водками, прочим, каждый волен вспоминать свои испуги (вроде всемирного финансового кризиса. — Л.С.). Но потом появлялись рекламные ролики, из которых следовало, что испуги надо отменить, что всему есть противоядия и противодействия, иные вакцины, иные сорта мяса, иные напитки, иные производители и так далее, платите деньги, и ничего ужасного с вами не произойдет» (стр. 486).
Спектр рассуждений автора и персонажей романа простирается от горько-ироничных ноток до грустно-лирических картин и зарисовок извечно безалаберной нашей страны России:
«Время у меня было. Денег могло не хватить. Но свободный человек в свободном государстве волен был именно зайти в коммерческое заведение, разглядеть цены, выругаться, выразить свое отношение к падению социальных нравов и благоусловий и вернуться в просторы рыночной свободы. Не солоно хлебавши» (стр. 265).
Этакая псевдосвобода и иллюзорная «воля», с одной стороны. А с другой — извечная наша российская безалаберность, наблюдаемая даже из окон подмосковных электричек:
«Но виды из окна электрички снова показались Прокопьеву безобразными. Безалаберная моя Россия! И все в ней вдоль железных дорог будто бы временное, не угомоненное порядком, не в последнюю очередь — порядком приличия и красоты. Хлам, нескладные, на скорую руку поставленные сараи и гаражи, засохшие деревья, на откосах следы застолий с погашенными кострищами, брошенные бутылки, химические пакеты, мусор, мусор, мусор. Бестолковость и безответственность привычек» (стр. 297).
В чисто стилистическом отношении интересно пристальное внимание В. Орлова к деталям (в, казалось бы, самых обычных бытовых описаниях), с использованием сугубо авторских перифраз, вставных реплик и лексических «переименований», как в следующей сцене угощения Соломатина в доме Каморзиных на масленицу:
«Понятно, Соломатину были рекомендованы благоудовольствия к блинам. Сметана, масло растопленное, рыба красная, красная же икра, селедка, варенье с дачи, соленые грибы, клюква, протертая в сахаре, горячие сосиски (хочешь — сотвори хот-доги), а также прожаренная до сухости, мелкая, будто корюшка, печорская навага («Печорская только к масленице и бывает, вы хребет из нее извлеките, заверните в блин, макните в горячее масло…»). Соломатин последовал совету и получил удовольствие» (стр. 73).
См. также рассказ-репортаж, поведанный автору по его просьбе, о поминках по закусочной (в связи с ее закрытием), которые прошли достаточно шумно, «с пением и плясками», но при этом с неожиданно мирным финалом.
«Просили Дашу и Людмилу Васильевну пройтись напоследок с вывертами между столиками, но те отказались. Пили крепко, но соблюдая культурные традиции. На камни Камергерского никто не полег. Конечно, всем хотелось набить морды — и старым владельцам «Закуски» (бабам — ноги повыдергивать), и в особенности владельцу новому. Но, увы, объекты возмущения находились вне пределов досягаемости» (стр. 236–237).
Что касается пейзажных зарисовок в романе, то они характеризуются одновременно краткостью, наглядной резкостью описания и авторской оценочностью при общей психологической тональности. Например: «День был светлый, безветренный, чрезвычайно благоприятный для жизни» (стр. 196); «Мы вышли в Камергерский. Ветер гнал над нами расщипанные им облака» (стр. 272); «Мы высыпали в Камергерский. Падал снег, мягкий, ровный, доброжелательный» (стр. 503) и др.
Тот же психологический настрой присущ авторским сравнениям (прямым или косвенным), а также ассоциативным описаниям поведения тех или иных персонажей, их жестов, мимики и т. п. Например, в сцене прощания Нины с Прокопьевым: «Эти ее слова «пружинных дел мастер» и прощальное помахивание рукой совпали с улыбкой, схожей с улыбкой наперсточника, покидающего облапошенного им лоха. Вспомнился вопрос кроссворда: «Человеческое свойство, которое используют лохотронщики». Азарт. Рассчитывают на его азарт. Ну и пусть» (стр. 202).
В описании утреннего телефонного звонка Соломатину по поводу якобы выигранного им приза содержится тройное (!) сравнение модуляций незнакомого голоса — со звуками пионерского горна, эротических всхлипываний и страстной телерекламы: «— Я вас поздравляю! — телефонный голос сейчас же стал юным и праздничным, как пионерский горн. — Ваш номер выиграл приз! То есть это был уже и не горн, объявление про приз вышло словно бы предоргазмным, эротическим всхлипом-восторгом, вполне равным по страсти прославлению чая «Липтон» с двумя нитками» (стр. 93).
Поражает в романе В. Орлова изобилие глаголов «речи» («говорения»), их разнообразие и, как правило, распространение за счет наречий оценочного плана и разного рода усилительных или вводных конструкций. Например:
воскликнул, поинтересовался, удивился, ответствовал, подумал, одобрил, съехидничал, произнес, вспомнил; улыбнулся, восхитилась, обеспокоилась, обрадовалась, скривился, поморщился, усмехнулся и мн. др., а также — сердито заявил, печально произнес, скромно отказался, растерянно заговорил, осторожно начал, грустно подумал; чуть ли не испугался, чуть ли не застонал, капризно махнул рукой, сокрушенно покачал головой, не смог удержаться; возмечтал, но тут же и рассудил; угрюмо (громко, трагически, печально, почти резко и др.) произнес и мн. другие подобные — иногда десятками в пределах одной страницы текста.
Эти глаголы (или синонимичные им конструкции) не только разнообразят манеру авторского изложения и передачу прямой и косвенной речи персонажей, но и служат усилению все той же психологической тональности диалогов и монологов в повествовании — причем как бы «изнутри», естественно, без какой бы то ни было нарочитости или стремления автора к чисто внешней «цветистости» описания.
Следует сказать, наконец, и о конструирующей роли в повествовании романа противительно-сочинительного союза впрочем, выступающего обычно в препозиции — в абсолютном начале предложения, реплики и т. п. Сам по себе этот союз многолик, полифункционален и полисемантичен. Главные его значения (или оттенки значений) это — «однако», «все-таки», «тем не менее», «вместе с тем», «причем», «и» («хотя и»), «но», «все же» и некоторые другие. Многозначность и разнообразие использования союза причем в тексте романа можно продемонстрировать на ряде примеров (с попутной их классификацией).
В значении «однако»: «Впрочем, почему подлость и глупость?» (стр. 263); «Но не мог этакий дом исчезнуть, не мог! Впрочем, в какое время мы живем, напомнил я себе (стр. 275); «Впрочем, мысли об этом можно было и гнать» (стр. 475); «Впрочем, предложение пока предварительное» (стр. 482); «Впрочем, возможно, только в центре Москвы не осталось особенных следов сотрясения» (стр. 505) и др.
В значении «все же»: «Впрочем, Даше пропажа временного жениха принесла, похоже, облегчение» (стр. 181); «Впрочем, некоторые из них о бочке несомненно знали» (стр. 362); «Впрочем, всерьез полосухинские шутки тронуть его затеи теперь не могли» (стр. 512) и др.
В значении «но» («но однако»): «Впрочем, о тех событиях Игнатьев как будто бы и не спрашивал» (стр. 275); «Впрочем, неприятный официант к Соломатину не подошел» (стр. 413) и др.
В значении «все-таки»: «Впрочем, это дело науки» (стр. 243); «Впрочем, ему и осаживать себя не было нужды» (стр. 420); «Впрочем, в слово «жива» хотелось верить» (стр. 398); «Впрочем, ради чего открылась?(о Щели). И какой в ней был толк?» (стр. 439) и др.
В значении «вместе с тем»: «Впрочем, был уже случай, когда прозвучал его боевой клич» (стр. 274); «Впрочем, в день Игры в снежки <…> Банкир мог нацепить на себя и Анну с Владимиром» (стр. 481); «Впрочем, успокаивая себя (Прокопьев), посчитал, что без его мозгов и рук, без его надзора, проекты осуществлены быть не могут. Напрасно посчитал» (стр. 511) и др.
В значении «хотя» («хотя и»): «Это лишнее и полуобязательное «я тебе», видимо, вызвало в дворнике острые коммерческие соображения. Впрочем, ненадолго (стр. 61); «— Вы хотели узнать, кто у меня так называемый папик? <…> — Да, — сказал Соломатин. — Впрочем, я догадываюсь, кто он» (стр. 521) и др.
В значении «и» («и тем не менее»): «Впрочем, чему было расстраиваться?» (стр. 353); «Впрочем, где теперь эти холмы?» (стр. 51); «Впрочем, все это продолжалось минуту…» (стр. 13) и др.
В авторском (и несобственно-авторском) изложении союз впрочем служит не только для противопоставления предшествующего и последующего, но и для простого присоединения того и другого, для продолжения рассуждения или его уточнения, а также для обозначения резкого перехода к другой мысли, другой теме и т. п.
…Повествование «Камергерского переулка» завершается чисто «орловским» итогом-обобщением, утверждающим неуклонно поступательный ход времени, однако в таких его конкретных и узнаваемых деталях и фактах, что само их перечисление и обостренная типизация приводит на ум читателя сугубо современные события и факты — просто под другими названиями, но вместе с тем столь же актуальные и злободневные:
«А так в Москве все происходило, как и должно было происходить в нашем прекрасном безалаберном городе. Вылуплялись в гнездах птенцы, в их числе и совята, похожие на плюшевые комки, волчица в Зоопарке выкармливала котят пумы и барсучонка, зеленели и цвели деревья и кусты, стреляли, мошенник Мавроди превращался в писателя, ломали дома в Южном Бутове, не допускалось на прилавки мясо варшавских буйволов <…> Дума опять страдала за народ из-за пива и табака, съезжались, слетались в Москву искатели приключений и рублевских вершин, и даже Пловец, по словам Васька Фонарева, не терял надежды, а пытался приплыть куда-то в десятиметровой высоте над тротуаром и мостовой Камергерского переулка.
С тем и закончим эту историю» (стр. 541).
Ну кто, спросим мы, кроме В. Орлова, мог так написать? И ответим: да никто. Ни Василий Белов или Валентин Распутин, ни Сергей Есин, ни Владимир Личутин — писатели с характерным индивидуальным «почерком» каждый. А из прежних ни Андрей Платонов или Михаил Булгаков (с творчеством которого литературная молва или незадачливые критики связывают нашего автора-современника по сюжетам и стилю без всяких на то оснований).
И совершенно прав писатель С.Н. Есин, заметивший мимоходом в своем недавнем романе «Твербуль, или Логово вымысла», что стилевые находки В. Орлова «втихую растаскивают молодые прозаики наших дней». А ведь надо признать, что это — одно из бесспорных доказательств мастерства и оригинально-художественной органичности его письма. Чутье-то не обманывает молодых, и дай им Бог лететь дальше и выше в своем творчестве, опираясь на достижения и на конкретные художественно-стилистические приемы и находки своего старшего Мастера-наставника.
Новый роман В. Орлова, как уже было сказано, это одновременно лирическое, эпическое и нравственно-философское повествование о сегодняшней нашей жизни, ее утратах и потерях, — не всегда, конечно, оправданных, но объективно неизбежных в связи с реалиями жестокой повседневности. Впрочем, ведь и сама жизнь любого из нас — с самого ее начала — это неизбежная и постоянная утрата ее. И тем не менее, согласимся, она прекрасна. И роман В. Орлова об этом тоже.
Что касается языка романа «Камергерский переулок», то это бесспорно образец подлинно Большого стиля в литературе, такого редкого, к сожалению, в наши дни. И спасибо за это автору, виртуозному мастеру русского слова, тонкому художнику-стилисту, иронично-мудрому бытописателю и «мистическому» фантасту одновременно.
С тем и закончим (говоря «орловским» языком) эти наши стилистические наблюдения.
Остается добавить, что в марте 2009 года Владимиру Викторовичу Орлову, профессору Литературного института имени A.M. Горького, присуждена Горьковская литературная премия Издательского дома «Литературная учеба» и Центра развития русского языка за роман «Камергерский переулок» в номинации «Фома Гордеев» (художественная проза). Награда высокая и в полной мере заслуженная.
2009Примечания
1
Опубликовано в журнале CASE, февраль 2007 года.
(обратно)2
Опубликовано в журнале «Профессия журналист» № 3–4 за 2000 год.
(обратно)3
Опубликовано в газете «Москвичка» № 3 за 2004 год.
(обратно)4
Опубликовано в газете «Звездный бульвар» в апреле 2006 года.
(обратно)5
Опубликовано в «Газете», июль 2008 года.
(обратно)6
Опубликовано в журнале «Русский репортер», апрель 2009 года.
(обратно)7
Опубликовано в «Литературной газете» в октябре 2000 года.
(обратно)8
Опубликовано в пермской краевой газете «Звезда» в октябре 2010 года.
(обратно)9
Опубликовано — в сокращении — в журнале «Gаlа Биография». Декабрь 2012 года.
(обратно)10
Опубликовано в «Новой газете», июнь — июль 2008 года.
(обратно)11
Опубликовано в газете «Комсомольская правда», май 1998 года.
(обратно)12
Опубликовано в журнале «Огонек», июль 1996 года.
(обратно)13
Скворцов Л.И. — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Литературного института
Опубликовано в журнале «Литературная учеба», книга 5, за 2009 год.
(обратно)14
Владимир Орлов. Камергерский переулок. Роман. — М., Издательство «Астрель», 2008 (Далее страницы указаны по этому изданию. — Л.С.).
(обратно)
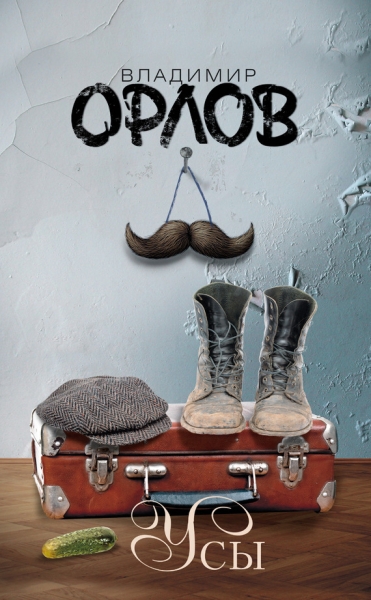
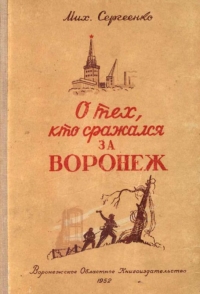

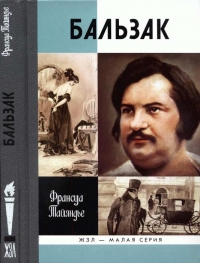
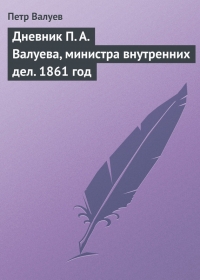


Комментарии к книге «Усы», Владимир Викторович Орлов
Всего 0 комментариев