В. Ф. Романов Старорежимный чиновник Из личных воспоминаний от школы до эмиграции 1874–1920 гг.
Памяти дорогих друзей и сослуживцев, погибших во время смуты
Предисловие
Чем более «углублялась русская революция», тем более нам — представителям «старого режима» становилась дороже, во всех мелочах, прежняя «Царская» Россия.
Излюбленным нашим занятием, в особенности вне родины, стало — вспоминать, рассказывать о прошлом, сопоставлять, сравнивать мирное время с пережитой и переживаемой смутой, а также — свое с чужим.
Из таких моих рассказов — воспоминаний составились настоящие записки, которым я дал название «Старорежимный чиновник», как принято теперь называть тех, кто служил во время Империи.
Так как я, по своему воспитанию, образованию, служебным занятиям и знакомствам, наконец, даже по первоначально легкомысленному отношению к революционным событиям представляю из себя среднего, а, следовательно, вполне типичного русского интеллигента — чиновника эпохи Царя Николая II, то, мне кажется, мои личные, частью служебные, частью просто обывательские, воспоминания могут дать будущему историку или романисту, хотя и скромный, но не лишенный значения, материал для характеристики качеств и быта русского служилого класса этой, величайшей в истории России, эпохи.
Современному же русскому обществу мои воспоминания напомнят о тех положительных качествах нашего Царского чиновничества, которые несправедливо и предвзято замалчивались нашей литературой и прессой и ценность которых неизменна при всяком государственном строе.
Эти качества: любовь к человеку и сознательно-добросовестное исполнение принятых на себя обязанностей — особенно ценны теперь, когда на смену им пришли завистливая злоба, вспоенная началами классовой борьбы, и личная нажива, для которой все дозволено атеистическим миросозерцанием марксизма.
Вскрываемые мною недостатки русского чиновника, общие для большинства средней русской интеллигенции, не таковы, чтобы умалить достоинства. Недостатки эти: в отсутствии национальной школы с односторонним преобладанием в нашем воспитании мягких гуманитарных начал в ущерб холодному опыту и в неумении работать размерено, без излишней впечатлительности, дисциплинированно, одним словом — по-немецки.
Устранить эти недостатки было бы, во всяком случае, легче, чем вновь обрести утерянные с 1917 года достоинства.
В. Романов
Часть I Воспитание и образование
Глава 1 Дома и в гимназии (1874–1893 гг.)
Влияние бабушки и матери. Избалованность и мечтательность; беспорядочное чтение. Малорусский театральный кружок. Разлука с семьей и пансион Киевской 1-й гимназии; пребывание в ней с 1883 по 1893 год. Недостатки преподавания; формализм. Охлаждение к церкви; увлечение утопическими идеалами; безнравственные влияния. Речной спорт; друзья юности; культурно-национальное влияние киевских театров; опера Прянишникова и драма Соловцева. Наши театральные приключения и партийно-национальная борьба.
Родился я в Киеве 4 марта 1874 года. Этот город, начиная с самого его древнерусского названия, всю жизнь был для меня самым любимым и красивым городом в мире. Точно также на всю жизнь сохранил я пристрастие к сосне, березе, пескам, болоту, груздям и рыжикам, дикой малине у лесных колодцев, т. к. такова скромная, но для меня родная природа Радомысльского уезда, Киевской губ., в котором находилось имение моей матери Гладышево, верстах в двадцати от городка Чернобыля на р. Припяти, в этом имении прошли лучшие годы моего детства. На всю жизнь осталась у меня и любовь к степям Бессарабии, тоже потому, что в уездном городе Бендерах, где служил в акцизе мой отец, я провел несколько счастливых лет детства.
Главным источником моего детского счастья была моя бабушка Надежда Ивановна Волжина, с которой я в детстве почти не разлучался, а затем всю жизнь был в самых близких дружеских отношениях. Своими основными достоинствами и недостатками я главным образом обязан ей. Это была женщина, воспитанная еще в обстановке крепостного права, некогда с большими средствами, властная, очень много, но без всякого разбора и системы читавшая, представлявшая из себя как бы живой энциклопедический словарь; она не была счастлива в браке, несмотря на высокую образованность ее мужа; долго была духовно одинока и всю силу любви, весь смысл жизни вложила в меня, как старшего ее внука; она очень любила и брата моего и сестру, но все-таки обстоятельства так сложились, что я был к ней всегда сравнительно ближе других. Я чувствовал с первых сознательных дней моей жизни так сильно эту любовь, так воспринимал ее, как нечто необходимое для моей жизни, что казалось иначе и не мог бы жить. Когда мне было года три, я помню ходил за бабушкой по пятам, даже стоял часто возле уборной в ожидании ее выхода. Наказываем ею я никогда не был; я ясно инстинктивно сознавал силу моего значения для нее, сознавал, что я ее «любимец», но когда я злоупотреблял таким моим положением и огорчал ее чем-нибудь, высшим наказанием для меня, вероятно гораздо более сильным, чем какая-нибудь порка, практиковавшаяся в некоторых семьях, было строгое выражение недовольства на лице бабушки, а в особенности признаки слез на ее глазах.
Я не педагог, но чувствую по себе, что любовь — одно из лучших действительных средств воспитания. Первое вполне сознательное чувство, которое проснулось во мне в раннем детстве под влиянием взаимной любви к бабушке — это какое-то особое преклонение перед старостью; я рассуждал чисто эгоистически так, встречаясь с чужими бабушкой или дедушкой: «у них вероятно есть тоже внук, такой, как я, которого они любят; значит, их надо любить, помочь им чем-нибудь, чтобы внуку их было хорошо». Из эгоистического чувство постепенно развивалось сознательное желание быть честным, полезным людям вообще. Практическая любовь ко мне бабушки, доставляемые этой любовью жизненные удобства, воспитывали мое моральное «я» с несравненно большим успехом, чем ожидавшая меня в будущем холодная прописная мораль различных учителей Закона Божьего, классных наставников т. п.
На всю жизнь запечатлелось в моей памяти такие два ничтожных мелких случая, повлиявшие на мою душу очень сильно.
Как то, в лесу, в нашем имении, в жаркий день, мы нашли кусты земляники или черники, я с братом набросились на них с жадностью — было жарко и хотелось пить; бабушка тоже собирала ягоды и затем отдала все их нам; я инстинктивно почувствовал, что ей приятнее видеть наше удовольствие, чем самой полакомиться ягодами; впервые тогда озарила меня мысль о красоте и смысле не чисто личного животного наслаждения; никакая литература, никакие проповеди в будущем так ярко, как этот простенький случай, не вскрывали передо мной значения альтруизма в жизни людей.
Другой случай — бабушка читала нам вслух какой-то старый английский роман. «Мистер Карлтон» — (до сих пор помню фамилию героя и его наружность) и его приятель, отправляясь на прогулку в лес с дочерью местного помещика, обещают последней, что они не буду стрелять при ней; шутя, приятель Карлтона, увидя дочь, снимает ружье и прицеливается; Карлтон его останавливает, ссылаясь на данное обещание. Прочтя это место, бабушка остановилась, приподняла очки на лоб и строго сказала нам: «вот, запомните дети, когда вырастете — будьте так же честны в исполнении своих обещаний, как мистер Карлтон».
Под влиянием таких мелочей, которые могут для взрослых показаться совершенно ничтожными, и складываются детские души — но для успеха воспитателя нужна именно действительная большая любовь к воспитываемым и к людям вообще.
Читали я и брат без всякого разбор и наблюдения. У нас была большая библиотека; бабушка и мать, скучая в уездном городке — Бендерах, открыли библиотеку для общего платного пользования; обычно выдавала книги и давала советы подписчикам бабушка; впоследствии, лет через двадцать, будучи проездом в Бендерах, я слыхал похвалу бабушке от одного местного старожила за эту ее деятельность. Пока бабушка была занята с подписчиками, я и брат вытягивали с полок разные книги и читали их на перегонки; к восьми годам я прочел уже очень много; вслух же бабушка читала нам различные страшные и поучительные романы, едва ли имевшие художественное значение. Историческая хроника Дюма, в особенности Королева Марго, навсегда осталась моей любимой книгой; помню также, что при чтении некоторых мест «Графа Монте-Кристо» бабушка сама вытирала слезы на глазах.
Помню ещё, что с самого раннего детства лица Пушкина и Лермонтова были для меня чем-то священным; я подолгу, раскрыв первую страницу их произведений, смотрел на их портреты и даже иногда целовал. Кроме художественной литературы, моей любимейшей книгой была и осталась таковой на всю жизнь Зоология Брема — но, будучи ребенком, я и к зоологии относился с точки зрения художественных настроений, с точки зрения мечты о далеких странах, зверях и птицах, наблюдательность же, настоящее опытное изучение природы от такого чтения во мне не развивались Бабушкино чтение вообще развивало во мне область чувства, будило инстинкты героизма и душевной красоты, но не давало знаний, если не считать многих, но весьма отрывочных, исторических и отчасти географических сведений. Это и программа классической гимназии, в которую я был определен в Киеве, предопределили мою судьбу и мои качества, как человека, наряду с серьезной работой любившего всегда различные приключения, личную свободу, оригинальных людей, не легко поддававшегося внешней дисциплине и больше всего пригодного не к повседневной практической, а скорее теоретической кабинетной работе.
Романтическое, а не реальное, настроение мое особенно ярко сказалось в любимой моей детской игре с братом: один из нас садился на качели, другой, бегая, раскачивал ее и называл себя именем какого либо животного из сказки; напр., я спрашиваю, кто пришел меня качать; брат отвечает: «лисичка»; затем появлялся «медведь», «пастушок» и т. д.; и вот наступал день, момент печали, какое то инстинктивное угадывание преходящести всего земного и следующей за ним вечности; задавался вопрос: «лисичка, ты ещё придешь когда-нибудь?» Ответ: «нет, никогда; это в последний раз я качаю тебя». Я помню, как после такого ответа сжималось сердце, делалось грустно, каждая секунда, проводимая с «лисичкой» казалась дорогой и, наконец, — «лисичка, прощай, прощай навсегда». По правилам нашей игры, попрощавшийся зверь не мог никогда уже более называться нами. Последнее «прощай», и затем — большая мировая печаль.
Из детского периода моей жизни в г. Бендерах особенно ярким событием является посещение мною впервые театра, произведшее на меня, конечно, потрясающее впечатление. Кружок местных любителей, преимущественно офицеров и их жен, поставил «Наталку Полтавку»; главные роли исполнились М. К. Хлыстовой (Наталка), моей матерью (мать) и братьями Тобилевичами; кружок этот, приглашению знаменитого Кропивницкого, впоследствии преобразовался в профессиональную труппу; в нее не попала только моя мать, несмотря не все ее стремление на сцену (у нее был прекрасный голос и большие артистические способности), т. к. этого не пожелал, кажется, мой отец. Кружок дал мощное развитие малорусской драме; он состоял из первоклассных талантов: М. К. Хлыстова, рожд. Адасовская, двоюродная сестра моей матери прославилась под фамилией Заньковецкой (взятой от названия ее хутора «Заньки»), братья Тобилевичи на сцене приняли фамилии Садовского, Саксаганского и Карненко-Караго, сделавшиеся гордостью малорусской сцены.
Моя мать, помимо сценических и вокальных способностей, в украинских кругах приобрела имя как поэтесса («Одарка Романова»). Знатоки языка весьма ценили всегда ее чистый, без галицийской полонизации и немецкого производства недостающих слов, язык Черниговщины и Полтавщины, а также ее удивительно музыкальный стих. Думаю, что в Украинской литературе некоторые из ее стихотворений будут всегда помещаться в школьных хрестоматиях, в качестве образцовых, а народные легенды (напр., «Сватанье мороза») в звучных стихах сохранятся в народе в обработанном их виде. Мать, сравнительно с бабушкой, меньше занималась нами, но влияние ее на нас тоже было исключительно «романтического», а не реально-материалистического порядка, она привила нам с ранних лет любовь к поэзии и музыке. К чести ее надо отнести, что в ней не было гадкого украинского фанатизма; Пушкина, а не Шевченко, прежде всего она научила нас любить, а от Пушкина — вся моя неискоренимая никакими событиями любовь к России вообще, а не к какой-либо отдельной ее части. По словам матери, первая фраза, которую она от меня услышала после долгой разлуки (я жил с бабушкой под Киевом), была сказана мною по-украински. Мать поздоровалась со мною и сразу за что-то сделала мне какое-то замечание; я обиделся, т. к. никаких замечаний не вносил вообще, и сердито ей заявил «а я тоби горобчика не спиймаю». Курьезно, что я за всю вообще жизнь не поймал ни одного воробья; значит, уже в три года у меня развилось какое-то самомнение, в стиле «Трех Мушкетеров» Дюма, ни на чем не основанная «спесь», как впоследствии прозвала меня одна девочка.
И вот, несмотря на то, что украинский язык в сущности был для меня родным, я почти без акцента владел русским языком, очень всегда его любил и тонко понимал; никогда не пришло бы мне в голову заговорить на Киевском волапюке «я скучаю за тобой» и т. п. Будучи взрослым, живя преимущественно в Петербурге, я, к сожалению, забыл малорусский язык, хотя все, конечно, понимал на нем, напр., посещал малорусскую драму. Я говорю «к сожалению», т. к., по моему убеждению, музыкальная мало-русская речь, если и не может и не должна являться конкурентом великого русского языка, то во всяком случае имеет все права гражданства, при сравнении, например, с южно-славянскими наречиями, в особенности для красочного изображения народного быта.
От матери, которая юные годы провела в консерватории в Москве, я впервые услышал о Чайковском и Московском его ученике Сергее Танееве; тогда только что появился «Евгений Онегин», мама с бабушкой играли в четыре руки, я ничего не понимал, но уважал Чайковского, как учителя матери; по ее рассказа, он рисовался мне изящным, томным молодым человеком, с женственными задумчивыми серыми глазами, нюхающим постоянно в классе какую-то соль или духи; Танеев — сверстник матери, был конфузлив, диковат, задумчив; его очень любил Чайковский. Я как бы предчувствовал в детстве чем, какими лучшими наслаждениями в жизни я буду обязан музыке вообще, в частности двум названным композиторам, таким близким мне, каким-то как будто родным, по рассказам матери, с ранних детских лет; тогда же фамилия «Глинки» была окружена уже в моих глазах тем же ореолом, как Пушкин. Это все — влияние матери.
Странно, что при всем этом я был в детстве удивительно немузыкален, не имел слуха, впрочем никогда его и не развил, в смысле возможности что-либо правильно спеть, хотя бы «чижика», пения терпеть не могу вообще, особенно женского, лет до двенадцати; впоследствии, увлекаясь оперой и симфоническими концертами, прекрасно разбирался в достоинствах капельмейстера, оркестра (слыша фальшь), певцов, быстро, с первого раза часто, усваивал красоты сложных произведений, не выносил пошлости (напр., многое из Массене), научился без принуждения играть на рояли, часто слышал от понимающих музыку, что хотя у меня нет техники, но видны большие музыкальные способности.
Оперы и в этом роде сравнительно доступные вещи я легко всегда играл a livre ouvert[1]. Рояль дал мне очень много в жизни, несмотря на дилетантизм моего исполнения; он заполнял часы моего досуга и усталости, а главное спас меня от карточной игры.
Итак, детские годы мои прошли под влиянием женщин и искусства. Отношения мои с отцом были всегда проникнуты взаимной любовью, но ближе сошелся я с ним уже в более зрелом возрасте. Он всегда очень любил игру в карты, которые я ненавидел, но за всю жизнь выпил, вероятно, не более двух рюмок водки; вина он не выносил органически. Я, в этом отношении, не пошел в отца; насколько он ненавидел вино, настолько я увлекался часто спиртными напитками. Я любил их и во вкусовом отношении, и за то приподнятое поэтическое настроение, которое они, при моем уклонении в сторону романтизма, давали мне во время трапез с друзьями.
В 1883 году я был определен в пансион классической Киевской Кой гимназии, впоследствии по поводу столетия получившей название Императорской Александровской, в память императора Александра I. Гимназия эта занимала тогда всю роскошную усадьбу, выходившую на четыре улицы, с огромным садом, окаймленным высокими тополями. Фасад громадного здания гимназии, так называемой Николаевской постройки, отличающейся всегда мощной красотой, выходил на одну из красивейших улиц Киева — Бибиковский бульвар. Напротив гимназии в восьмидесятых годах был пустырь, частью обработанный под огороды; впоследствии здесь был разбит красивый большой сквер — Николаевский, в центре его с памятником Императору Николаю I, обращенному лицом к великолепной красной громаде здания Университета.
Одним словом, и тогда, и теперь — это одно из живописнейших мест Киева.
Бесконечный главный коридор гимназии, полутемный коридор со сводами верхнего этажа, где помещался гардероб пансиона, общие дортуары на 50 человек, выстроенные рядом кровати с одинаковыми на каждой одеялами, комната для занятий с рядом мрачных парт, с двумя всего свечами на каждой для шести учеников, вообще казенный холодный вид всего здания — все это произвело на мои нервы потрясающее впечатление, и я долго тосковал о домашнему уюту и бабушкиным ласкам; как только наступала ночь и вообще там, где меня не могли видеть — я неистово плакал. Прощаясь с бабушкой, я бодрился, ибо был самолюбив, но, как теперь, помню то ощущение, когда она меня в воротах громадного сада поцеловала в последний раз, и я внешне бодро зашагал по дорожке сада к группе гимназистов. Это — ощущение перелома в жизни, сознание, что нечто очень хорошее осталось позади и началось что-то неизвестное новое и может быть печальное. Второй раз я испытал то же самое по окончании Университета и поступлении на службу и — в последний раз, наконец, когда понял, что личная жизнь кончена, так как почти все близкие друзья мои уничтожены большевиками, и жить, как прежде, больше не придется.
Я знал, что над новичками издеваются и бьют, но настолько не допускал мысли, что меня кто-нибудь мог бы ударить, меня, который был уверен, что я всем должен нравиться (мальчиком я был очень красив, и знал это) и который сам хотел всех любить, ибо так мне было внушено бабушкой, что действительно я ни разу не явился в пансионе предметом каких бы то ни было шуток, но сразу стал почти общим любимцем. Тут я впервые понял, что сила — действительно внутри нас.
Я был очень живой и остроумный мальчик, что ставило меня всегда во главе различных игр и шалостей; такое мое положение все более развивало во мне самолюбие и самоуверенность, укрепившиеся во мне на всю жизнь и часто портившие мои отношения с людьми, а главное — явившиеся плохой подготовкой к стоическому отношению к жизненным противоречиям.
Во второй год пребывания моего в пансионе, моему самолюбию дана была особенно благоприятная почва. Во-первых, я на латинском языке сочинил басню под названием, кажется, «Лисица и волк». Басня эта привела в восторг нашего учителя латинского языка и воспитателя пансиона добрейшего чеха А. О. Поспишиля и читалась массой гимназистов; я решил, что я — будущая литературная знаменитость. Во-вторых: у нас сформировался любительский цирк, дававший свои представления в саду; я получил в нем амплуа клоуна, и каждое мое выступление сопровождалось смехом, овациями, забрасыванием меня конфетами. Это окончательно вскружило мне голову. В цирке был оркестр на гребешках, гимнасты, наездники (гимназист ездил на гимназисте), дрессированные лошади и осел, обязанности которого выполнял именно самый глупый из наших сверстников. Мы все несомненно переживали в цирке подлинные ощущения артистов.
Представления наши закончились инспекторским разгромом цирка; вызвана кара была тем, что мы стянули из пансионского гардероба и, кажется, попортили много казенного добра (одеял, простынь и т. п.); труппа в разгаре представления была арестована педелями («дядьки» в пансионе) и приведена в цирковых костюмах под гримом (я напудренный и с красным носом) к инспектору на расправу. Строгий, но добрый и чуткий инспектор К. Н. Воскресенский, вызывал нас поочередно, расспрашивал каждого о роли в цирке; рассмеялся, когда явился перед ним «осел»; очевидно оценил нашу детскую наблюдательность. К высшей мере наказания был присужден директор цирка С-о, который, по слухам, впоследствии действительно поступил в настоящий цирк. «Директору цирка отвести, конечно, отдельный кабинет» — сказал Воскресенский, и С. был посажен в карцер за решетку. Остальные подверглись заключению в классах на свободное от занятий время. Я отсиживал, кажется, с перерывами несколько дней; помню, что наказание мне было продлено за то, что я использовал ящик («пюпитр») парты, перед выходом из заточения, в качестве уборной.
Справедливость или произвольность, а в особенности глупость наказания инстинктивно верное определяется детьми. Воскресенский понимал хорошо детскую душу и индивидуальность каждого пансионера; потому его строгость не вызывала ни ропота, ни насмешек.
В области [из] различных мер наказания припоминаю следующие, наиболее характерные, случаи.
Я очень любил есть всегда, в детстве в особенности. Мой аппетит возбуждался даже такими словами сказки: «петушок, золотой гребешок, маслянная головушка». Бабушка всю жизнь вела со мной борьбу, даже тогда, когда я был уже взрослым, по поводу моих излишеств в пище. Дневник мой гимнастический пестрит такими записями: «1-го съел три десятка слив, 2-го принимал касторку и не был на уроках» и т. д. Пансионский стол, по сравнению с домашним, был не только мало вкусен, но и не достаточен; первая половина дня была обставлена в этом отношении ещё удовлетворительно: в 71/2 ч. или в 8 ч. утра стакан чая с пятикопеечной булкой; в 12 ч. завтрак из одного мясного блюда и в 3 ч. дня обед из трех блюд; после этого перерыв до 71/2 ч. вечера, когда полагался только один стакан чая с булкой. К пяти-шести часам вечера большинство начинало ощущать голод, и за чаем особенно хотелось съесть что-нибудь более существенное, чем одна булка. Мы обычно брали за обедом в карман по несколько кусков черного хлеба с солью, который и съедали, запивая водой, часов в пять вечера. К чаю же можно было покупать на свои деньги кусочек сыра или колбасы, либо стакан молока. Денег на руки нам (малышам) не давалось (они хранились у инспектора), кроме 15 коп. в неделю на мелкие расходы (напр., на зубной порошок, мыло, ибо казенное почти не мылилось и т. п.). На расходы же по буфету в столовой вместо денег выдавалась подписанная инспектором записка на право забора закусок на один рубль, причем буфетчик Антон обязан был следить за тем, чтобы гимназисты не покупали у него слишком много; он исполнял строго и добросовестно это требование, у него приходилось просто вымаливать каждый кусочек колбасы или сыра, за что он прозывался «ярыгой», т. е. скупцом. Меня сравнительно Антон-Ярыга баловал, и записка моя на буфет использовалась сравнительно быстро, но тогда К. Н. Воскресенский задерживал на несколько дней выдачу следующей записки и я усиленно налегал на черный хлеб. В один прекрасный день, «директор» цирка показал мне, какого искусства достиг он в подражании подписи Воскресенского и предложил мне за угощение выдать буфетную записку; я, конечно, согласился, ибо ничего предосудительного в этом не видел, знал, что буфетчик за каждую записку, представленную им инспектору, получает расчет из денег, внесенных моей бабушкой на мои мелкие расходы. Очевидно, однако, что инспектор вел учет всех подписываемых им буфетных записок, т. к. продела наша была скоро обнаружена; С. понес какое-то тяжкое наказание, а впоследствии был исключен из гимназии, я же долго ждал наказания и переживал неприятные дни в этом ожидании; дождался его в такой форме: как то, встретив меня в коридоре, Воскресенский строго погрозил мне пальцем и сказал «обо всем узнает бабушка»; это для меня было хуже карцера, ибо я понял ясно, что сделал что-то очень скверное. Вдумчивый педагог правильно учел мою психологию и нравственное значение для меня бабушки.
Другой случай наказания: я в церкви во время обеда ударил шутя одного пансионера по лицу; меня вызвали в алтарь, где мне было предложено положить сто поклонов; карцер или лишение отпуска за такой проступок были бы для меня тяжелее, но моральное значение наказания было сильное.
Глупому наказанию я подвергся за такой проступок: наловив в саду несколько десятков лягушек, я часть их посадил в ящик парты одного из моих товарищей — вызывавшего постоянные насмешки своей «растяпостью»; когда он сел за занятия и полез в ящик за книгами, лягушки начали выпрыгивать из ящика; это привело «растяпу» в неописуемый и беспомощный ужас. По выяснении виновного, воспитатель заставил меня перенести всех лягушек под «часы» — большие стенные часы в коридоре, под которыми отбывалось наказание провинившимися «стоять на часах»; мне было предложено очертить мелом круг на полу, в пределах этого круга разместить лягушек и сторожить всю ночь, чтобы лягушки не выпрыгивали за пределы круга; я через некоторое время выкинул всех лягушек в окно в сад, а сам ушел спать.
В общем, сидеть в заточении мне приходилось довольно часто.
В гимназии я провел десять лет, начинал с приготовительного класса и включая двухлетнее сидение в пятом классе; три года я был в пансионе, а остальное время «приходящим», т. к. дела родителей моих пошатнулись, они переехали в Киев, имение было продано, и года четыре нам приходилось терпеть сильную материальную нужду включительно до недоедания и холода в квартире по недостатку дров.
В пансионе большинство жило единственной мечтой — надеждой поскорее дождаться праздничных или летних каникул.
Я усердно и радостно вычеркивал на календаре каждый прожитой до Рождественных праздников день; ничего я так не любил в то время, как утренние причитания нашего старого дядьки Ивана, по прозванию «ябеды»: «вставайте, вставайте, Рождество уже на веревке висит», это было в ноябре; в конце месяца Рождество висло уже «на веревочке»; в начале декабря «на ниточке»; а к двадцатым числам декабря «на паутинке»; в день же отпуска «паутинка рвалась», и тут добродушному Ивану не приходилось уже долго будить нас. Появлялась моя бабушка и тетка моего друга с детских лет В. И. Ф-ко, мы раздавали рубли нашим дядькам и весело разъезжались по домам.
Летние каникулы я проводил в нашем имении, а после продажи его — на пригородной даче бабушки у Китаевского монастыря.
Здесь обычно я жил и на Рождество, и на Пасху (двухнедельные каникулы).
В Китаеве, о котором я расскажу подобно ниже, особенно любил я Пасхальные каникулы; большего впечатления, чем в старых китаевских монастырях Страсти и Пасхальная заутреня никогда нигде на меня не производили, несмотря на скромную обстановку и плохой монашеский хор; старец игумен, старцы иеромонахи, старцы дьяконы, каждый по-своему делающие возгласы, оживленные праздником, с которым у каждого в далеком домонастырском прошлом, связаны многие дорогие воспоминания, приветливо радостное обращение их к молящимся со словами «Христос Воскресе!» и поспешный ответ мужиков и баб «Воистину Воскресе!», с ударением на последнем слоге, затем возвращение домой лесом уже после ранней обедни, на восходе солнца, когда ночные крики пугачей вокруг монастыря заменяются перекликанием иволг и синиц, затем угощение пасхами, куличами и бабами, в изготовлении которых я и брат любили принимать всегда живое участие — все это не может быть никогда забыто.
Каникулы были действительно заслуженным нами отдыхом, т. к. гимнастическим занятиям отдавалось в общем очень много времени: от 9 до 21/2 ч. дня (пять уроков) и часа два-три домашнего приготовления уроков или, по крайней мере, формального сидения за таковыми. Что же давали нам эти, посвященные непосредственно гимназии, занятия?
Подавляющее большинство моих учителей, когда о них вспоминаешь в перспективе далекого прошлого, были несомненно люди весьма порядочные, за скромное вознаграждение добросовестно исполнявшие возложенные на них обязанности, люди большой доброты и сердечности, но самая система преподавания не могла нас увлечь, заставить полюбить науку, а главное, дать нам сознание ее действительной необходимости. Уроки задавались от сих пор до сих пор, чрезвычайно редко урок посвящался какому-либо обобщающему чтению, живому рассказу, который поставил бы в связь разрозненно зазубренные сведения, дал бы из них интересные выводы; обычно весь урок сводился к спрашиванию выученного на сегодня, причем по большей части заранее можно было высчитать, когда дойдет до тебя очередь; уроки поэтому часто учились с пропусками несколько предыдущих, что еще более лишало смысла и интереса изучаемый предмет. За десятилетнее мое пребывание в гимназии я помню только несколько единичных уроков, которые заинтересовали и остались в памяти.
В первом классе это были художественно-образные рассказы из ветхозаветной истории священника Ильи Экземплярского; его манера говорить, красота жестов и удивительно приятный по тембру голос невольно приковывал внимание к каждому его рассказу; приняв монашество, он стал викарным (Чигиринским) епископом Киевской митрополии, под именем Теронима, а умер в сане Архиепископа Варшавского; все возгласы он пел сильным красивым тенором, а более красивой службы после него я ни разу не видел. «Призри с небеси, Боже, и виждь и утверди виноград сей, его же насади десница Твоя» — иногда закроешь глаза и перед мысленным взором встает величественная фигура этого Архиерея с лицом Святителя Николая Чудотворца и слышится в душу идущий, исключительный по красоте голос его.
В пятом классе гимназии нам учитель латинского языка Т. И. Косоногов, перед чтением Овидия дал нам очень красочную характеристику Аякса и Одиссея, оспаривающих право на меч погибшего Ахиллеса; Аякс простой, откровенный, неискушенный в красноречии и дипломатическом искусстве, храбрец воин, а Одиссей — умный, хитрый, красноречивый. Аякс грубо и просто перечисляет свои заслуги при взятии Трои. Одиссей же с ложной скромностью отдает должное Аяксу, умаляет свои собственные заслуги и лишь постепенно осторожно приводит слушателей к неоспоримому сознанию, что не будь Одиссея — не пала бы Троя; меч присуждается ему; Аякс убивает себя, из крови его вырастает нарцисс. Этот один из многих красивейших шедевров Овидия заинтересовал нас в целом, возбудил желание почесть его до конца только потому, что мы были до приступа к чтению ознакомлены с его содержанием, заинтересованы характеристикой, типом двух речей. А ведь все остальное что мы читали и бессмысленно дословно переводили на русский язык — давалось в виде бессвязных отрывков, в строк 20–25 каждый; художественная физиономия автора, его значение и особенности, полное содержание произведения оставались неизвестными; все в сущности сводилось механическому переводу отдельных предложений; еще, конечно, глупее были переводы с русского языка на латинский или греческий; грамматика преобладала над смыслом и красотой классиков. Между тем, оба древних языка были главнейшим предметом; неуспехи в них закрывали возможность получения аттестата зрелости; не выдержавшие скуки, иногда способные мальчики уходили в юнкерское училище. Сам я совершенно случайно избег той же участи. Уже в четвертом классе я был плох по языкам, в пятом же, когда за письменную работу получал единицу с плюсом, учитель объявлял торжественно, что «Романов поправляется». Мне назначена была после экзаменов «повторка» по греческому и «передержка» (после каникул) по латинскому языку. Я обозлился, взял себя в руки и, приехав на дачу в Китаев, прочел сразу полностью всю грамматику несколько раз и всего Юлия Цезаря, и вдруг мне стал ясен дух, строй латинского языка; в две недели я стал понимать, а главное, чувствовать его лучше, чем за пять лет гимнастического обучения; не хватало только слов, но и они приходили по мере чтения, не по 20 строк, а сразу по 20–40 страниц. С этого лета, я, без помощи учителей, понял высокую красоту латинского языка, красоту Овидия, Горация и проч., и стал выдающимся в гимназии «классиком». Но как ни курьезно, на передержке я получил единицу, потому ли, что еще не был уверен в себе, потому ли, что учителя были предупреждены против меня, как самого скверного в классе латиниста. Такова случайность экзаменов! Невероятно был изумлен новый мой учитель — классик И. А. Григорович, экзаменовавший меня на передержке, когда за первую же письменную работу по латинскому языку ему пришлось поставить мне пять — урок был написан без ошибки. Греческий язык, уже среди «учебного года, я изучил по той же «моей системе», как я латинский (сразу чтение всей грамматики и всего Гомера) и с тех пор по обоим языкам имел только высшие отметки. К старшим классам гимназии я достиг такого совершенства в знании древних языков, что к урокам почти не должен был готовиться: читал классические произведения и писал почти безошибочно. Робкий, конфузливый добряк-чех И. А. Григорович, часто подвергавшийся мальчишеским насмешкам за его смешной чешский выговор и чрезмерную застенчивость, избегал меня «вызывать», делал это только для «проформы», чтобы хотя раз в месяц в журнале против моей фамилии стояла соответствующая отметка; он чувствовал мое превосходство; перед вызовом меня как то нерешительно долго разглаживал классный журнал и затем, краснея, тихо произносил мою фамилию. Он требовал не литературного, а буквального, без пропусков, перевода каждого отдельного слова; отсюда получались такие дикие фразы: «он де мол не не любил», «она шла, неся на коленях ребенка» и т. п.; такие переводы и заунывный голос учителя, произносившего русские слова как-то однообразно нараспев по-чешски, наводили безумное уныние на учащихся и возбуждали в них только ненависть к классицизму.
Между тем, я, усовершенствовавшись в языках, быстро постиг, что остальными предметами могу не заниматься, ибо мой классицизм обеспечивал мне удовлетворительную отметку — тройку по всем предметам, как бы плохо я ни знал их. Спокойный всегда учитель математик — любимец гимназистов И. И. Чирьев, возвращая мне тетрадку с нерешенной задачей по алгебре или геометрии, приговаривал с легким упреком: «у Вас, Романов, если и были когда-либо какие-либо знания по математике, то они давно уже исчезли», а другой математик — вспыльчивый, но тоже общий любимец С. К. Ильяшенко, сознавая невозможность бороться с засильем классиков, объявлял, что тройка мне выводится в четверти только «за чересчур уж хорошее знание языков».
При таких условиях, я к восьмому классу гимназии не имел почти никакого представления об алгебре, но, как ни странно, добровольно в две недели залпом, так сказать, прошел с моим другом Володей Ковалевским курс тригонометрии и великолепно усвоил этот предмет, даже полюбил его: Ковалевский умел объяснить основы, сущность тригонометрии во всем ее целом виде, а не поурочно, заинтересовать ее логичностью и красотою фигурного рисунка.
Наиболее привлекала внимание врагов «классицизма» физика; единственный предмет, преподавание которого сопровождалось оптами в специальном физическом кабинете. Увы, я не могу вспомнить ни одного удачного интересного опыта, скучал я в физическом кабинете беспросветно, за все мое пребывание в гимназии был вызван один раз, получил единицу и в дальнейшем, как классик, был оставлен в покое; по этому предмету я абсолютно ничего не знал. Ни естественной истории, ни начал анатомии и физиологии в мое время в гимназии не преподавалось — в этом отношении мы, получив «среднее» образование, оставались круглыми невеждами.
География изучалась только до пятого класса гимназии и, кажется, повторялась в восьмом. Бессмысленное заучивание ничего не говорящих ни уму, ни воображению названий, сведений о том, что в Греции водятся козы, а где-то больше всего лошадей и т. д., родины, ее величайших богатств, мирового значения ее колоний — Сибири с Приамурьем, Туркестана и проч. мы не знали; этому предпочиталось зазубривание названий губерний, рек, без общего плана, связи, одухотворенного сознания величия России, ознакомления с ее экономическими возможностями. Когда я прочел случайно несколько лет тому назад учебник географии, составленный моим товарищем по гимназии Е. В. Кистяковским, я позавидовал нынешней молодежи; она действительно изучала свое отечество, а не голые названия и цифры. А между тем, и у нас был знающий учитель географии — маленький, с бородой Черномора, старичок Н. Т. Черкунов; он много путешествовал, многое лично наблюдал, собрал на свои скромные средства порядочную естественно-географическую коллекцию, которую завещал нашей гимназии; у него были немногие «любимчики», которых он приглашал к себе, демонстрировал им различные предметы своей коллекции, давал интересные объяснения, а главное устраивал игры в «железную дорогу» по географическим картам, что гораздо лучше, чем сухой учебник, способствовало запоминанию учениками различных городов, гор, рек и т. п. На роках же в гимназии, единственно, что было живого — это, пожалуй, различные веселые анекдоты из жизни экзотических народов, а в особенности китайцев. Я к числу любимцев не принадлежал, а потому и географические мои знания в гимназии были немногим больше физико-математических.
ПО истории в памяти моей остались несколько не уроков, а настоящих лекций учителя, впоследствии профессора Киевского Университета, П. В. Голубовского о континентальной системе Наполеона; вдруг, после бессмысленных описаний браков разных королей со всегда «прекрасными» королевами, после сухих хронологических цифр, была дана ясная, обобщенная, с объяснением причин и следствий, картина определенной исторической эпохи; стало сразу ясно, что без знания прошлого нельзя постигать настоящего, т. е. было разъяснено самое главное — значение и необходимость читаемой науки. И это было один раз всего за весь гимназический курс. Наш учитель истории — до старших классов гимназии, директор ее, А. Ф. Андрияшев занимал эту должность чуть ли не до 50 лет; это был очень важный, почтенный старец, которого за две звезды на вицмундире, большой живот и властно-хриплый голос я считал самым главным гимназическим начальством, выше попечителя округа. Обычная его резолюция была, когда до него доходило дело о какой-нибудь провинности гимназиста «на 34 часа в карцер». Произносилось это с важностью, но вместе с тем без всякой злобы, со старческой добротой; вот, мол, как напугал виновного. Он пользовался, как общественный деятель, большой известностью в Киеве: издавал ежегодный календарь, работал в обществе попечения о слепых и почему-то славился трудами по пчеловодству. По неизвестной нам причине, он прозывался «Аписом», так дошло это прозвище к нам из глубины веков.
Представить себе 1-ую гимназию без Аписа было невозможно, а потому, когда он был уволен в отставку, кажется, в 1890 году, и на его место был назначен более современный педагог математик И. В. Посадский-Духовской, стало как-то первое время грустно; особенно за утренней общей молитвой в актовом зале не доставало величественной фигуры прежнего директора, неизменно при звуках «Спаси, Господи, люди Твоя» начинавшего вытирать слезы на своих ласковых глазах, а при словах «Императору Александру Александровичу» плакавшего иногда настоящим образом; ведь он в тех же стенах слышал моление о победе «Николаю Павловичу». Так вот этот самый старый директор важным сиплым голосом не рассказывал, а вещал нам о Трое, Египте, в частности об Аписе действительно почему-то с особыми подробностями и чувством, о Сиракузских тиранах и проч., и проч. Все это без связи между собой, но для оживления урока большей частью с указаниями всех исторических мест на карте; при этом широкой ладонью он обыкновенно закрывал какое-либо место на карте и спрашивал весь класс: «что я закрыл?»; один кричал «Афины», другой «Фивы», третий «Спарту» и т. д. Всеми ответами он был удовлетворен, по-генеральски с кашлем хохотал и отвечал с удовольствием каждому крикуну: «верно, верно».
Новые языки преподавались так, что тот, кто знал их дома, обычно забывал или, во всяком случае, лишался правильного произношения под влиянием невероятного, без поправок учителя, чтения разнообразно, каждый по своему, произносивших иностранные слова учеников: напр., большинство не выговаривало французского носового «н»; слово «un» одни читали «ан», другие «эн», а третьи «он» и т. п., и только меньшинство произносило «un», и т. д. в том же роде.
Опять-таки и в преподавании новых языков требовались главным образом, сухие грамматические знания, зазубрение различных правил и исключений, сопровождаемое скучным чтением бессвязных отрывков. Обязательным был один язык: французский или немецкий, и большинство, чтобы избежать излишней скуки, предпочитало иметь свободный час вместо занятий обоими языками. Поэтому я, по окончании гимназии, понятие не имел о немецком языке, даже не мог прочесть слова, написанного готическим алфавитом и вынужден был заняться этим важным доя всякого культурного человека языком, уже будучи взрослым, с большими усилиями, но с малыми успехами. Французским языком я занимался самостоятельно дома, ещё будучи в гимназии, иначе и его я знал бы слабо.
Учителя французского и немецкого языка, вследствие их комичного русского выговора, были, как всегда, источником большого веселья и шуток со стороны гимназистов, хотя, в виду их порядочности и доброты, как француз Метро, так и немец Г. Р. Бергман (по образованию богослов) были всеми очень любимы. Особенность Метро представляла его крайняя вспыльчивость и чрезвычайно громкий, несмотря на сиплость, голос. Сипел он особенно сильно, как стало нам известно, всегда после посещения оперетки «Прекрасная Елена» — его любимейшей пьесы. Он имел привычку вызывать по алфавиту к кафедре сразу по 6–10 учеников и спрашивал у них урок у всех сразу; как теперь помню выкрикивание им: «Булах, Гагаринских обои, Радченко, Руманов и т. д.»; обычно поднимал страшный крик, когда ни один из спрашиваемых не знал какого-нибудь слова; молчание он считал признаком крайне невоспитанности: «ти невежа, мужик и тот отвечает, когда его спрашивают, а ти молчишь и молчишь». Если случалось ученику перепутать построение фразы, Метро неизменно приводил свой излюбленный пример: «когда ти слышал, чтобы сначала убивали, потом дрались и потом ссорились; всегда сначала бывает ссора, потом драка и, наконец, убийство». Когда Метро умер, мы все были очень опечалены, и его место занял молодой изящный и хорошо воспитанный обрусевший француз Регаме; он вел уроки интереснее, но, к сожалению, с теми же, указанными мною выше, учебными недостатками, живого знания языка, выговора, он не давал.
Немец Бергман, благодаря его добродушию, подвергался усиленному вышучиванию, порою доходившему до грубости, за которую, впрочем, и он отплачивал ученикам фамильярной грубостью, без всякой взаимной обиды. Комик Ваня Колоколов любил, например, вести с Б. разговор в таком духе: «Густав Ричардович, разрешите один вопрос. «Ну что там тебе такое?» «Отчего, скажите, пожалуйста, ваш брат такой знаменитый, умный человек, а вы…» Брат Б. был известный хирург, переехавший из Юрьева в Берлин, когда началось обрусение б.[ывшего?] Дерптского Университета. Б., краснея кричал на К.: «ну вже, болван, садись». Тогда К., обиженно, добавлял: «за что вы сердитесь, вы же не дали мне кончить; я хотел сказать: а вы еще умнее». Бергман улыбался и уже добрее говорил: «ну, вже садись, садись, дурак». Иногда Колоколов и Ко., при входе Б. в класс, озабоченно и с любопытством посматривали на потолок. Постепенно заинтересовывался и он, хотя и предчувствовал обычную шутку; посматривал на потолок мельком, затем вставал и смотрел пристально. «Ну вже что там такое нашли?»; ответ был всегда унылыми разочарованным тоном, с трагическим вздохом Колоколова: «ничего». Раздавалось звучное «дураки», и инцидент кончался. Моего друга Ваню Богданова, впоследствии известного инженера путей сообщения — строителя, Бергман вызывал всегда так «ну вже ты, Иван-болван, отвечай», а т. к. он в немецком не был силен, то учитель предсказывал ему самое мрачное будущее, говоря, напр.: «слушай, Иван, из таких как Штильман выходят профессора, а из таких как ты… сицилисты». Положение социалиста представлялось, справедливо, Бергману самым мрачным в жизни.
Наибольший интерес в гимназии возбуждают всегда уроки словесности, и учителя-словесники пользуются обычно наибольшими симпатиями. И, действительно, те часы, когда нам читались отрывки из русских классиков, были, и в мое время, самыми приятными. Но, к сожалению, и эти часы были редки; опять-таки над всем преобладала теория и подробное изучение устаревших образцов литературы: Ломоносова, Сумарокова, Державина и проч. Вместо того, чтобы пробудить интерес к чтению, память ученика забивалась сухими сведениями, как будто бы теория и есть источник литературы, а не следствие. Гончаров, Тургенев, Толстой, Майков, Достоевский, Фет и проч. только упоминались, изучение же останавливалось на Пушкинском периоде. При разнообразии общественно-семейных условий, в которых находились учащиеся, часть из них, попав, после гимназии, прямо на медицинский факультет, требующий много специального зубрения, таки не знала, что это такое за «Война и Мир», «Дворянское Гнездо», «Обрыв» и т. п. У меня был товарищ, который, например, предлагал мне держать пари, что автор «Войны и Мира» — Шпильгаген. А. А. Андриевский, наш любимый учитель словесности, старался в нас пробудить интерес к современной литературе; читал нам Короленко, рассказывал о постановке «Плодов Просвещения» Толстого и т. п., но мы знали, что он в оппозиции к гимназическому начальству, что он «не благонамеренный», что, значит, рекомендуемое им не есть «от гимназии», а, наоборот, нечто нежелательное в гимназии.
Вот в воспитании в нас такого сознания, что все сухое, скучное, с нашей юной точки зрения не нужное преподносится нам принудительным порядком, по каким-то посторонним действительной нашей пользе соображениям, и заключался главный нравственный вред тогдашней системы обучения, гораздо, пожалуй, чем недостаток знаний, проистекавший от плохой системы обучения.
Постепенно, по мере нашего возрастания, мы проникались мыслью, что окончание гимназии необходимо только как неизбежное зло, для получения права попасть в Университет, а главное — что вся гимназическая система придумана каким-то высшим начальством, нам враждебным. По мере развития нашего, к старшим классам, мы, при таких условиях, делались естественно врагами современно государственного, а некоторые — и социального строя; начиналось чтение либеральных и социалистических рукописей или брошюр; они убеждали и увлекали тем, что совпадали с нашим оппозиционным настроением в отношении власти, придумавшей «гимназию».
Такому настроению отчасти способствовало и то, что именно лучшая часть наших учителей, по доброте своей или же по действительному убеждению, способствовала нам в борьбе с гимназическими утеснениями и формальностями, либо иногда бессознательно выставляла их в смешном виде.
Страдавшие алкоголизмом классики Лисицын и Царевский были наиболее любимыми учителями. Первый, почти не спрашивал учеников, увлекался в классе чтением какого-нибудь Виргилия, мечтательно декларировал стихи Овидия, забывал об учениках и все чувствовали, что он действительно любит читаемое им и не делает как раз того, что требуется начальством. Царевский, в каком-то полупьяном экстазе, начинал вдруг наизусть «Анну Каренину»: «Все смешалось в доме Облонских» и т. д., а то иногда с пафосом убеждает кого-либо из гимназистов: «не пейте Смирновки, пейте только Поповку». Это такое необычное в сухой формальной обстановке гимназии, при ясной для всех истинной талантливости обоих больных классиков, подчеркивало, что правда и красота и знание на стороне не подходящих к гимназическому строю людей. Добрейший инспектор А. В. Старков, заменивший К. Н. Воскресенского, старался часто освободить робеющего на экзаменах гимназиста, в особенности при угнетении его каким-либо свирепым классиком. «На парусах поплыли они» переводил с трудом что-то из Вергилия один мой товарищ; вошел А.В., услышал последнюю фразу, увидел растерянное лицо гимназиста и подбадривающе закричал своим резким картавящим голосом «ну, прекгасно, прекгасно, тги ему и на пагусах домой». А. А. Андриевский, обозлясь на шум в классе, заявил, что это безобразие, что он обо все сообщит классному наставнику: «кто у вас классный наставник?» Ответ был «Вы, Алексей Александрович». «Фу, черт, а я и забыл». Общий смех и учителя и учеников.
Даже наиболее торжественные события в гимназии принимали порою комический оттенок.
Когда я был в младших классах, гимназию посетил Император Александр III; подготовка гимназистов к встрече Высокого Гостя началась, кажется, за месяц до его приезда; нас выстраивали в саду или на Бибиковском бульваре, по команде заставляли снимать фуражки; такие учителя, как Григорович, Черкунов и др., были очень смешны в роли командиров. «Станьте на флыгэлэ», командовал Григорович, и мы все покатывались со смеху; «шапки долой», командовал маленький Черкунов голоском, еле прорывавшимся из его громадной бороды, и опять веселый смех, но что хуже всего — это детское сознание, что нас хотят показать Царю не такими, какие мы на самом деле, т. е. хотят обмануть. Государь своей мощной, величественной фигурой, перед которой наш важный директор показался каким-то совсем ничтожным, чуть ли не учеником, произвел на нас громадное впечатление, но у меня почему-то больше остались на памяти красивых печальные глаза Наследника, будущего Императора Николая II. В конце восьмидесятых годов приезжал к нам министра Народного Просвещения гр. Делянов. Сопровождавшие его по классам директор Андрияшев на вопрос, сколько учеников в данном классе, отвечал наобум или на глаз: 30, 48, 52 и т. п.; в вашем классе, в котором сам Андрияшев был классным наставником, была названа им с большим апломбом цифра человек на 25 более действительной. По выходе из класса министра, учитель, весьма волновавшийся при разговоре с гр. Деляновым, чтобы после этого показать перед гимназистами свое равнодушие к высшему начальству, игривым тоном сказал: «да, жаль, что умер Гоголь; он бы хорошо описал эту картину». И мы все хохотали и от слов учителя, и от воспоминания о комичной старушечьей фигурке Делянова (он напоминал волшебницу Наину из Руслана), с важной безапелляционности объяснений, которые давал наш старый директор, об озабоченной фигурке в дверях класса инспектора и видневшейся за ним физиономии самого заслуженного нашего педеля Максима, на которой было написано сознание какого-то величайшего священнодействия.
Наряду с подрывом в наших глазах авторитета власти, у мня, да и у многих среди моих товарищей, начался упадок и религиозности, приведший в старших классах к атеизму, на излечение от которого потребовался ряд долгих лет чтения и работы над собою.
Мальчиком я был чрезвычайно привязан у церкви, очень любил и хорошо знал все подробности нашего богослужения, следя по молитвеннику; в четвертом классе даже упорно мечтал даже поступить, по окончании гимназии, в Духовную Академию. В нашей гимназии была своя домашняя церковь и два хора, певших по очереди: один — нашей, другой — второй гимназии, которая собственной церкви не имела. Хор второй гимназии качеством голосов и стройностью пения забивал наш; в нашем были выдающиеся дисканты, между прочим, сын помощника попечителя учебного округа Ростовцева, и совершенно исключительный по чарующему тембру голоса тенор Дувиклер; он впоследствии недолго пел в опере, после блестящего дебюта на Киевской сцене в роли Фауста, но вскоре внезапно потерял голос. Его сильное «Отче наш» в гимназической церкви осталось в моей памяти на всю жизнь; церковь замерла при первых же звуках, дьякон, боясь, шевельнуться, простоял на коленях у Царских Врат всю молитву до конца, многие дамы плакали, по окончании священник выслал певцу просфору. Моей мечтой было попасть в церковный хор. Меня обнадеживало то, что наш регент Федор Иванович, по прозванию «дудудушка», при встречах со мною, брал меня за горло двумя пальцами и нажимая на него неизменно говорил: «ну и голос же у тебя должен быть, дудудушка» (он заикался, а голос его звучал как из бочки). Я долго робел и не шел, несмотря на неоднократные приглашения Федора Ивановича, на пробу голоса. Но, в конце концов, осмелился и появился в музыкальной комнате; Ф.И. взял на скрипке какую-то ноту, предложил мне тянуть ее; я затянул и сразу произвел такое впечатление на регента, что он закричал: «пошел вон дудурак; твоя бабушка такой джентльмент (так он любил выговаривать это слово), а ты, черт тебя знает, что из тебя выйдет».
В этой форме им читались все нотации гимназистам, ибо он, помимо обязанностей регента, имел еще права помощника классного наставника; был он почему-то также и экономом гимназии; у него вышла на поприще эконома какая-то история с дровами, и добряка Федора Ивановича не стало в нашей гимназии. Колоколов (наш комик) рассказывал нам впоследствии, что он встретился где-то с Ф.И., причем, когда они походили мимо склада дров, тот будто бы недовольно отвернулся и пробормотал «проклятые дддрува».
Несмотря на личную неудачу, я страстно любил церковное пения; в то время уже славился в Киеве знаменитый хор Калижевского в Софийском соборе; в составе этого хора был такой первоклассный дискант «Гриша», что его личные концерты привлекали массу публики в Купеческое Собрание. Я уже говорил выше о том впечатлении, которое производила на меня архиерейская служба моего бывшего законоучителя Экземплярского (Иеронима); кроме того, одним их любимейших моих храмов был Братский монастырь на Подоле; этот старейший монастырь Киева поражает всегда своей неожиданной тишиной среди шума и оживления торговой части города; кажется, из современных лавок и рынков переносишься вдруг во времена Петра Могилы. В мое гимназическое время ректором Киевской Духовной Академии и епископом Каневским был слепой Сильвестра, проживавший и служивший в Братском монастыре; у него был тенор очень приятного музыкального тембра; он, так же, как Иероним, пел все возгласы, но особенно трогательно было чтение им на память, с полузакрытыми глазами, Евангелия; «аз есмь пастырь добрый; пастырь добрый душу свою полагает за овцы своя…», пел он, и вся церковь слушала, как один человек, бесшумно, тихо. Сильвестру неоднократно предлагались высшие назначения, но он уклонялся от них, говоря, что в Братском монастыре он знает каждую ступеньку и что в чужом, незнакомом месте ему — слепцу будет тяжело.
И вот с этим красивым духовным миром в полном противоречии находился гимназический религиозный режим. Сухие схоластические рассуждения, выговоры за непосещение гимназической церкви, а главное — если не лицемерие, то, во всяком случае, неумение найти искренние ноты, на что особенно чутко реагирует подрастающее поколение. Не стоит, неприятно останавливаться на подробностях этой наиболее мрачной …страницы старой гимназической жизни; могу сказать одно, что молодые души могут вверяться только исключительно чистым душой, религиозным воспитателям, а найти таковых в достаточном числе весьма трудно. Когда же ученик видит в законоучителе только выслуживающегося чиновника, делающего свое дело для начальства, а не для душ обучаемых, крах неизбежен. Я вспоминаю в данном отношении две характерные сцены, бывшие в классе моего брата. Законоучитель предложил гимназистам назвать наиболее любимых ими исторических героев; когда очередь дошла до К-го, который подозревался в вольнодумстве, он спокойно заявил: «Александр III»; священник начал пристально и зло смотреть в глаза К., как бы его испытывая; последний выдерживал взгляд, только по временам прыгали его толстые щеки от усилия сдержать смех; на несколько минут в классе водворилась глубокая мертвая тишина; затем раздался тихий, какой-то чересчур елейный голос священника: «почему?». К. немедленно ответил: «в виду… простого образа жизни Государя». Священник еще несколько минут пристально посмотрел на К., затем с казавшейся деланной кротко-радостной улыбкой, обратившись ко всему классу, воскликнул: «да, доходят слухи, доходят слухи».
И никогда, вероятно, он не понял какой вред юным душам причинялся этой глупой комедией; ничто ведь так не роняет власти, как смех; сам священник, создав смешное положение вместо простого вопроса и ответа, что могло бы пройти незамеченным для класса, приковал его внимание к выходке К-го.
Другой случай имел место во время предсмертной болезни Императора в Крыму.
Священник, чтобы оттенить в глазах учащихся значение происходящего печального события, во все эти тревожные дни, входя в класс, садился на кафедру, долго печально смотрел на учеников, затем шепотом говорил: «детки, Царь умирает» и начинал плакать; т. к. перед этой сценой приходилось иногда видеть священника в коридоре, на дороге в класс, спокойно или даже весело разговаривавшего с кем-либо из учителей, на детей горе его производило впечатление официального, казенного; не было во всем этом той естественной простоты, которая одна может дойти до души мальчика-юноши. Когда впоследствии, в Университете, проф. Государственного Права Романович-Славатинский говорил: «незабвенный Император Николай I», и слеза блистала в его одном глазу (другой был стеклянный), никто из студентов, несмотря на антимонархическое настроение тогдашнего большинства их, не сомневался, что так именно чувствовал этот старый честный государствовед, никому в голову не приходило бы посмеяться над его убеждением и чувством; в гимназии же казенный патриотизм вызывал только насмешку.
И в мелочах, читавшиеся нам душеспасительные нравоучения были в лучшем случае только смешны. Престарелый гимназист С., тщетно боровшийся с сильным ростом своей черной бороды и усов, увлек на какое-то безнравственное «любовное» похождение одного из сыновей священника; провинившийся сын был подвергнут какому-то домашнему наказанию, а на следующий день в классе, в котором обо все происшедшем стало уже почему-то известно, священник сразу же по открытии урока, обратился к С.: «встань и слушай: дурное сообщество портит хорошие нравы; повтори что я сказал». С. мрачным равнодушным басом пробормотал: «дурное сообщество портит хорошие нравы». По требованию священника бормотание это повторилось три раза; класс еле удерживался от смеха; так все это было ненужно, формально.
Когда умер наш несчастный любимец Лисицын, мы все приняли живое участие в его похоронах; многие плакали, а с одним из гимназистов на могиле сделалась истерика. На ближайшем уроке Закона Божьего мы выслушали нравоучение, что чрезмерная скорбь по умершим противоречит требованиям религии, что надо уметь противоречить требованиям религии, что надо уметь спокойно подчиняться Воле Божьей, что истерика А. была поэтому грешна и т. д. Увы, чувствовалось за всем этим в сущности неудовольствие, что мог быть так любим нами учитель-алкоголик, не одобрявшийся начальством. И нравственная пропасть между начальством и стадом его все более расширялась, особенно, когда бурные слезы по умирающем Царе стали в такое явное противоречие с поучениями о греховности острого проявления чувства по поводу ниспосылаемой Богом смерти.
Я не хочу осуждать; может быть наш духовный учитель был исполнен самых лучших намерений, убивать души наши умысла не имел, но, во всяком случае, ему не дано было чутья, таланта осуществить свои добрые намерения, ибо, повторяю, быть истинными духовными пастырями могу только десятки, а не тысячи.
Утопические мечтания о переустройстве государственно-общественной жизни человечества, с одой стороны, и циничные принципы: «все дозволено», с другой стороны, находили себе благоприятную почву в развращенной подобным воспитанием среде.
Я лично на себе испытал за гимнастическое время оба эти влияния; к счастью, первое — утопически мечтательное сразу же взяло верх и не только во мне, но и в подавляющем большинстве моих товарищей; таковы, очевидно, были у большинства семейные традиции и такова все-таки была нравственная порядочность большей части наших добрых учителей, что для восприятия нами безнравственных начал не было абсолютных условий.
Один из моих товарищей, не по годам серьезный, нравственно необыкновенно чистый и прямодушный, мечтатель В.Б. почему-то обратил на меня исключительное внимание, сблизился со мною и начал постепенно знакомить меня с социалистическими идеями; «вы увидите, как счастливы будут люди, когда не будут денег»; сам он был со средствами, а я беден (это было в четвертом классе гимназии), но, тем не менее, особенно почему-то противился этой мысли, спорил, смеялся, но через год уже твердо решил, что, не разрушив современного социального строя, нельзя сделать человечество счастливым. Мы начали издавать рукописный журнал; я в нем поместил рассказ, который привел в восторг Б.; «да это уже настоящее революционное произведение»; он его дал прочесть одному студенту-филологу, который очень похвалил только описание Китаевского леса; меня это тогда страшно покоробило и даже оскорбило: «слона-то он и не приметил», думал я, «а еще студент»; всегда влюбленный друг моего детства П. написал для нашего журнала несколько красивых лирических стихотворений «о ней»; сам Б. дал один рассказ, прочтя который, моя мать сказала «как будет хорошо, если он на всю жизнь останется таким, как в рассказе»; рассказ был исполнен идеальной нравственной чистоты, и пожелание моей матери, кажется, исполнилось; наши жизненные пути разошлись, но, по слухам, Б. сохранил до старости свою душевную чистоту; к счастию отрешившись от беспочвенного утопизма; он бросил гимназию из-за отвращения к зубрению классиков. Рисунки для журнала давал наш способный товарищ О., поступивший в Академию Художеств и, в поисках новых путей, кажется, давший, как художник, гораздо меньше, чем с него ожидалось в юности.
Дружба. Беседы, чтение с Б. были одной из светлых страниц моей гимназической жизни. Но полностью это не могло меня захватить; я жаждал, по моему настроению и индивидуальным особенностям, приключений, романов и т. п. На этом поприще я столкнулся с влиянием противоположным тому, представителем коего был Б. В пятом классе гимназии у нас появился прибывший, кажется, из Петербурга новый товарищ Е.К., по прозванию «виконт», ибо он претендовал на графский титул; мы в классе занимали место рядом; он приносил на уроки в банках одеколона разнообразную водку, угощал меня; мы начинали часто болтать. Когда священник рассказывал нам историю апостолов, К возмущался: «удивительное дело, везде их били; ну скажи об этом кратко и просто — всюду были биты; зачем эти подробности, кому это интересно; странные люди — добивались непременно, чтобы их били; ты можешь понять такое желание?» Все это он, по обычной своей манере говорить, цедил как-то сквозь зубы, со скучающе-равнодушным видом. Рассказ физика о Галилее, о том, как под ударами плетей он повторял: «а все-таки вертится», привел К. даже в некоторое волнение, и он воскликнул: «вот невероятный идиот». Пускаясь в философию, К. любил доказывать, что люди не делают преступлений только потому и тогда, когда знают, что этого нельзя скрыть и сто за преступлением наверно последует наказание: «знай только ты, что никто не увидит и никогда не узнает, ты бы сам украл».
Наш законоучитель несомненно угадывал в К. нечто «бесовское»; он почти совсем не выносил разговоров с ним и спрашивал у него урок возможно реже; говорил ему «вы», обращаясь к большинству гимназистов всегда на «ты». Помню, как однажды, в классе происходили любимые священником схоластические рассуждения на тему о значении для человечества Богородицы; каждым опрашиваемым давались надуманные бессодержательные ответы, своей внешней набожностью вполне удовлетворявшие священника; взгляд его упал на К., ему стало неловко не спросить и его: «скажите Вы, что думаете?» К. ленивой скороговоркой успел проговорить только «Прсвтая Богородица», священник не выдержал его тона и злобно прошептал «садитесь», перейдя к другому ученику. И действительно, «Пресвятая Богородица» и К…. это было несовместимо. От природы К. был умен, достаточно читал и был прекрасный товарищ, по-своему честный, во всяком случае, честнее тех, кто лицемерил; он открыто, не скрывая, использовал свои взгляды об относительной ценности честности. Не разделяя циничной идеологии К., наш кружок любил его за оригинальность и как тоже начало некого протеста против гимнастических устоев. Я почти всю жизнь разновременно, то в Петербурге, то в Киеве, встречался с К. Он, подобно Чичикову, начал службу в таможенном ведомстве, а затем почему-то перешел на столь противоречившее его натуре судебное ведомство, разбогател посредством брака, жил широко и впоследствии разорился, впав в совсем уже какое-то болезненное пьянство. Принципиальная его аморальность его жестоко его покарала. В «борьбе за существование» не все дозволено — показал своей жизнью К. А между тем я помню, как в наше безвременье К. и несколько юношей однородного типа восхищались Полем Астье, в действительно образцовом исполнении Киевского артиста Неделина, и считали правильным его конец от руки врага: «Поль Астье, вы сейчас безоружны, а потому я вас убиваю». Мораль из пьесы Доде извлекалась такая: «если не хочешь быть убитым, то будь всегда вооружен». К счастью, как я говорил, среди нас — гимназистов такая идеология исповедывалась незначительным меньшинством, но в ней уже были опасные признаки будущего разрушения России.
Как реакция на формализм и сухость гимназии, рано проявилась во мне и мои друзьях страстная любовь к водному спорту. Театрам, вообще искусству, а также к различным приключениям, романам и т. п.
Дача бабушки под Киевом, близ Китаевского монастыря, была расположена у Днепра; это одна из живописнейших местностей бывшего дворца Андрея Боголюбского, на холмах, между которыми два красивых, обрамленных вербами, пруда; с одного из холмов открывается очаровательная панорама на долину Днепра. Особенно памятны мне лунные ночи Китаева: белая колокольня монастыря, белый воск, блестящий под лунами луны на нарах завода, куранты колокольных часов, удары ночного сторожа в деревянную колотушку, тополя и окрестный лес — мощные старые дубы. Теперь все это изменилось: вместо векового леса — ограды, холмы тоже обезлесены, один пруд высох, другой лишен его главной красоты — аллеи из верб, но все-таки Китаев и сейчас один из поэтичнейших уголков под Киевом.
С Китаевом после продажи Гладышева, связана вся моя почти полувековая жизнь. Уже будучи на службе в Петербурге, я никогда не порывал связи с родным углом. Здесь именно развивалась моя страсть к водному спорту; в младшем возрасте плавание и лодка заполняли летом почти все мои досуги. Спорт был соединен с весьма веселыми приключениями, пополнял нашу компанию оригинальными типами, которые чаше всего встречаются среди любителей природы, приучал к ловкости и хладнокровию в моменты опасности, что мне весьма пригодилось впоследствии при моих странствиях по Приамурью. Гимназические власти не поощряли в то время спорта, а потому в нем для нас заключался еще и элемент приятного риска, соединенный со стремлением к запретному.
В старшие годы к спорту присоединялись различные виды искусства, молодые философские споры и романтические увлечения, более юмористического, чем глубокого свойства, скорее в духе литературных образов, чем реальных искренних переживания, но все-таки не лишенные красоты и поэзии.
Наша дружеская компания жила наиболее сплоченно и почти ежедневно собиралась именно во время летних каникул, хотя, конечно, не теряла взаимной связи и зимой. В ней были представители и вокально-музыкального искусства, начиная от дилетантов-свистунов и кончая будущими профессиональными артистами (известный баритон Бочаров), и представители живописи, и юноши большой ученой начитанности.
Хотя и бессистемно, но гораздо живее, чем на школьной скамье приобретались путем взаимного общения, новые знания.
Особенно памятны и дорого мне талантливые Ковалевские.
Старший сын академика живописи П. О. Ковалевского — Коля был весьма одаренным художником. У отца его всегда, даже при материальных затруднениях, было две, редко одна, лошади, которых он обожал, берег до того, что, напр., в Петербурге вел лошадь под уздцы с Васильевского острова (от Академии Художеств) до аллей Петровского острова, чтобы не ездить по мостовой, и, только пройдя пешком версты три-пять, садился на лошадь. Я с братом часто сопровождал П.О. на этюды, и это давало нам большое наслаждение. Писание этюдов сопровождалось философствованиями П.О. на различные житейские темы, с цитатами из прямо болезненно любимых им «Войны и мира» и «Анны Карениной». Мы горячо любили П.О. за его снисходительное отношение к нам, к нашим юношеским выходкам и за то, что он видел в нас не мальчишек, а почти товарищей, по крайней мере, в области любви к природе и литературе. Музыку П.О. не понимал и даже относился к ней, а, в особенности, к театру, как-то враждебно; он любил добродушно-насмешливо, когда мы увлечемся оперными воспоминаниями, цитировать: «есть престранное создание, пресмешной оригинал; есть Господне наказание — под названием театрал». Произносил он эти строки с большим пафосом. Один раз только, помню, я, он похвалил артиста, а именно Писарева (трагика Александрийского театра), когда у кого-то из знакомых прослушал действительно необыкновенное по красоте чтение им баллад А. Толстого («Веселый месяц май»).
Картин своих до выставки П.О. никому не показывал, но смотреть на писание им этюдов разрешал; то, что ему было особенно дорого, что он не предназначал для продажи, увидеть было весьма трудно и, во всяком случае, удавалось только без его ведома. Лучшее, излюбленное им, написанное не для продажи — это были сепии — иллюстрации к «Войне и миру» и «Казакам» Льва Толстого. Особенно резко остались у меня на памяти действительно с выдающимся мастерством и любовью сделанные «Кутузов на барабане ест курицу» и «Пьер на постоялом дворе». Кутузов и Пьер были кумирами П.О. Эта серия сепий, представляющая полную иллюстрацию к названным произведениям Толстого, после смерти П.О. в 1903 году, была продана его вдовой издателю «Нивы» Марксу и за смертью последнего осталась неизданной. Это большая, без сомнения, потеря для искусства.
Сын П.О. Коля, ещё не прошедший никакой серьезной школы, обнаруживал весьма крупные способности, а этюды его — сочностью и колоритностью превосходили даже отцовские. Несколько его картин уже имели большой успех на Киевской выставке. Жил Коля в маленькой беленной комнате мезонина нашей дачи; с балкона ее открывается дивный вид на Днепр, блестящей лентой вьющийся среди зелени и песков до далеко синеющих на горизонте гор. Этот вид был весьма ярко в нескольких полотках написан Колей, а все стены мезонина были покрыты остроумными карикатурами на нашу компанию. (Коля был легкомысленный, увлекающийся юноша с очень добрым сердцем. В Китаеве он влюбился и лет девятнадцати женился на молоденькой холодно-кокетливой Киевлянке. Брак оказался неудачным, жена неожиданно бросила Колю, он переехал в Казань, тосковал там сильно и застрелился на глазах брата — Володи.)
Брат его Володя являлся ученым философом нашей компании, и мы все очень гордились его начитанностью, которая действительно была велика, по сравнению с его возрастом; предполагалось, что он, по стопам своего дяди Николая Иосифовича (известного физиолога) и деда — знаменитого ориентолога, посвятит себя ученой деятельности. В действительности из него вышел очень хороший доктор, увлекающийся после Японской войны военно-морской службой: за участие в прорыве из Порт-Артура он получил солдатский Георгиевский крест (он пошел на войну добровольцем-врачом). Любовь к военной обстановке и, в частности, к флоту проснулась в нем внезапно и не могла быть совершенно предсказана по свойствам его застенчивой, склонной к кабинетным занятиям, натуры. Сказалась, очевидно, наследственность, т. к. отец его избрал батальную живопись не случайно, а в силу действительного тяготения к военному быту. Он участвовал в русско-турецкой компании 1878 года и сохранил на всю жизнь самые живые, часто дружеские, отношения с некоторыми героями этой войны; в частности, очень был привязан к Великому Князю Владимиру Александровичу, несмотря на странное охлаждение последнего к нему из-за следующего пустяка: П.О. изобразил на полотне один случай с Великим Князем во время войны, когда он со свитой, в которой находился и автор картины, по рассеянности въехал в полосу артиллерийского; снаряд разорвался в нескольких шагах от лошади Великого Князя, которая шарахнулась в сторону. Как строгий реалист, П.О. запечатлел на картине с полной правдивой точностью всю обстановку, и в своей позе Великий Князь усмотрел намек на его трусость; наступило охлаждение, прошедшее при встрече их уже пожилыми людьми в Петербурге; Великий Князь и П.О. расцеловались со слезами на глазах, и первый сказал печально: «как Вы постарели», а второй, не считаясь с придворным этикетом, ответил: «да и Вы, Ваше Императорское Высочество, не помолодели за это время». Фатальная картина, на которой были сделаны великолепно портреты всех участников упомянутого случая и холмистый пейзаж Болгарии, была подарена Ковалевским его другу — генералу А. И. Тальма, потомку знаменитого французского трагика и талантливому поэту-дилетанту. Особенно дружен был П.О. с помощником генерал-инспектора кавалерии А. П. Струковым, лихим кавалеристом, с которым сближала художника страстная любовь обоих к лошадям. По просьбе Струкова Ковалевский написал несколько портретов последнего Германского Императора Вильгельма в разнообразных позах на лошади; особенно эффектен был портрет Императора на лошади, берущей барьер.
Военные друзья П.О. были близки и его сыну, а это тоже несомненно способствовало тяготению его к военной службе. Во время Европейской войны Володя был уже флагманским врачом Балтийского флота, при большевиках же стал во главе организации, облегчавшей кадровым офицерам проезд в северную армию; вел дело смело и поплатился за него жизнью.
Зимнее гимназическое время посвящалось нами, главным образом, театру, который оказал такое крупное влияние на меня и моих друзей особенно в отношении укрепления любви ко всему национальному, что я не могу, вспоминая свои юные годы, не остановиться несколько подробнее на этой стороне моей жизни, даже под опасением заслужить упрек в нарушении основного плана моих записок.
В первый раз в жизни взят я был в театр лет десяти, будучи еще в пансионе. Давали «Демона»; состав исполнителей я помню до сих пор: Демон — Тартаков (тогда начинающий, но уже прославленный на юге России баритон), Тамара — Зарудная (красивое сопрано, впоследствии супруга композитора Ипполитова-Иванова) и Синодал — любимец Киевской публики тенор Ряднов. Мальчиком, как я упоминал уже, музыки я не постигал, и от «Демона» у меня не осталось в памяти ни одного мотива; впечатление произвела, главным образом, сцена нападения на Синодала и его смерти. И последующие редкие посещения мною оперы в младших классах гимназии не занимали меня совершенно с музыкальной стороны, но, главным образом, давали какое-то настроение красивого фантастического страха который овладевал мною с момента приступа к настройке оркестра; разнообразные дикие по бессвязности звуки различных строющихся инструментов в то время в сущности были для меня привлекательнее всей оперной музыки; в них, в этих звуках, я как-то предчувствовал страх предстоящего действия. После «Гугенот» и «Джоконды» я не мог долго спать, а когда заснул, видел страшные сны. Слушать оперу я научился только лет семнадцати; началось это как-то внезапно, сначала с пения, потом с оркестра; у меня после «Миньон» осталось в голове несколько мелодичных арий этой оперы, и с этого вечера я вдруг начал слышать в опере то, чего раньше не воспринимал. Дальнейшему развитию слуха способствовало, вероятно, то, что я много разбирал на рояли из прослушанных мною опер.
Городской оперный театр, прежний маленький, сгоревший в 1894 году, кажется, находился, когда я был в младших классах гимназии, в аренде у Савина, первого мужа знаменитой артистки; антрепренер этот был известен частыми своими прогарами; после одного неудачного сезона, он был даже заключен в тюрьму.
Поездка наша в оперу была каким-то торжественным событием, с приготовлениями, как на пикник: заготовлялись закуски, приобретались конфеты, заранее нанимались извозчики, отправлялись мы в театр за два-полтора часа до начала спектакля, долго сидели в ложе полутемного театра, наблюдали, как зажигались свечи у лож и на центральной люстре (тогда, кажется, даже газового освещения не было), слушали с волнением звонки, которых обычно бывало более трех, представление начиналось не в 71/2 ч. вечера, как объявлялось в афишах, а обычно с опозданием на час и более и кончалось оно иногда только к двум часам ночи (напр., пять актов «Гугенот»). Каждый год, в начале сезона, объявлялось, что готовятся к постановке «Руслан и Людмила» и «Рогнеда». Представление их откладывалось «в виду сложности постановки», до следующего сезона. Это обстоятельство и отзывы бабушки об этих операх заставляли меня с братом заранее относиться к ним с особым уважением.
В труппе Савина было несколько хороших голосов, но, по-видимому, дело шло на различных гастролях; оркестр был маленький, человек в сорок; хор отвратительный, в стиле «Вампуки», балет еще хуже — эта часть провинциальной оперы, всегда, впрочем, возбуждала во мне отвращение, и я полюбил балет только тогда, когда переехал в Петербург, и то не в первые годы моей жизни там — настолько я был предубежден против балета.
Из артистов оперы того времени, кроме И. В. Тартакова и Ржанова [так в тексте], могу отметить начинавшую свою сценическую карьеру М. М. Лубковскую, имевшую небольшой приятный голос и очень большие драматические способности, при красивой изящной наружности; лирического тенора Супруненко; меццо-сопрано Смирнову, знаменитую Киевскую Кармен; очаровательное по тембру, но безжизненное колоратурное сопрано Силину; драматическое сопрано Кончу и контральто Бичурину.
Репертуар был, конечно, самый провинциальный, сборный; русские оперы шли мало, если не считать «Онегина» и «Демона».
Драматического театра в восьмидесятых годах в Киеве не было; на Крещатик, где-то во дворе, в тускло освещенном узком зале, давало представление Киевское драматическое общество. Странно, что несмотря на большую, казалось бы, доступность моему пониманию комедийного искусства, я им увлекался гораздо менее, чем оперой; комедия была лишена для меня романтического страха. Но все-таки, несмотря на весьма скромные средства, Драматическое Общество оставалось в моих глазах воспоминанием, как источник тоже большого наслаждения; участники его были такие артисты, как М. Петипа, М. Потоцкая, тогда еще почти девочка и др. Ответственные роли играл тогда талантливый для вторых ролей артист Осмоловский, нашедший свое настоящее амплуа второго комика лишь в серьезной труппе Н. Н. Соловцова; лучшего камердинера в «Плодах Просвещения»» я, например, не видел. Несколько скромна была обстановка тогдашнего драматического театра можно судить по тому, что иногда, в случае болезни артиста, его заменял капельмейстер оркестра, а последний — это было нечто комическое; музыканты-еврейчики, когда становилось очень жарко, снимали сапоги. Переворот в театральной жизни Киева произошел, когда я был уже в старших классах гимназии, — в опере, благодаря антрепризе И. Прянишникова, а в области русской драмы — благодаря открытию постоянного драматического театра Н. Н. Соловцовым, именем которого до настоящего времени называется Киевский Драматический театр, в новом здании на Николаевской площади (ранее труппа Соловцова играла в скромном здании театра Бергонье на Фундуклеевской ул., бывшем цирке).
Этот период совпал со страстным моим увлечением театром, преимущественно оперой, которую я посещал чуть ли не ежедневно, а на праздники — два раза в день.
Прянишников, как режиссер, оживил оперные постановки, заставил жить на сцене хор, дал ряд постановок забытых Киевом или совершенно неизвестных Киевлянам русских опер: Руслан и Людмила, Рогнеда, Каменный Гость (Даргомыжского), Сын Мандарина (Кюи), Маккавей (Рубинштейна) и др.; за это же время состоялись первые постановки Князя Игоря (Бородина) и Пиковой Дамы (Чайковского). Я видел в стенах нашего старого театра П. И. Чайковского, дирижировавшего увертюрой 1812 год», и А. Г. Рубинштейна, присутствовавшего при представлении оперы «Маккавей», в которой… И. В. Тартаков (в роли Иуды) достигал пределов музыкально-художественного творчества. Подъем, с которым был принят общий кумир П. И. Чайковский, как на симфоническом концерте так и при первой постановке «Пиковой Дамы» (я, к сожалению, не был), не может быть забыт. Помню, что при каждом появлении его на эстраде, весь театр невольно почтительно поднимался (как в партере, так и в ложах); казалось, сидеть, когда «он» стоит, совершенно не возможно. «Пиковая Дама» сразу, с первого же представления, на котором я был, произвела на меня самое сильное впечатление из всего слышанного за гимназическое время; я не знаю более выдержанной в романтическом стиле оперы, как по музыке, так и по либретто, и люблю эту оперу до сих пор, несмотря на ее заигранность. Скромный, мечтательный «Евгения Онегин» делался моим любимцем постепенно. Обставлена была тогда эта опера лучшими силами труппы Прянишникова; тенор М. Е. Медведев исполнением роли Германа приобрел громадную популярность на юге России; это был незаурядный артист, с очень приятного тембра баритональным тенором, к сожалению, неправильно, по видимому, поставленным, без верхов и манерой как-то вытягивать ноты с напряженным унынием еврейского кантора; в ролях Лизы чередовались изящная М. М. Лубковская, великолепная во всех речитативах и погибавшая в высокой арии «у канавки», и холодная, но с мощным голосом Соловьева-Мацулевич, князя Елецкого безупречно пел И. В. Тартаков, не любивший, однако, этой второстепенной для него партии и позволявший себе иногда пропускать единственную свою арию; Томский — мощный бас Антоновский; графиня — весьма стильная по игре и голосу любимица Киевской публики Смирнова, и Полина (она же пастушок) Нечаева, с молодым голосом, некрасивая, но пользовавшаяся горячими симпатиями гимназистов.
Из других опер наиболее любимой мною была и осталась «Аида»; опять-таки потому, что я чувствую выдержанность ее стиля; как «Пиковая Дама» отвечает, по крайней мере, лично моему, представлению о романтике в опере, так «Аида» для меня музыкальное олицетворение Египта, пусть италианизированного, условного, но все-таки Египта; и когда жрец поет «храм Изиды перед нами», и когда блестит, искрится в музыке Нил (в увертюре к пятой картине), и когда идут жрецы судить Радамеса, и когда траурная Амнерис спускается на колени над его могилой, а Радамес кричит «камня гробового не сдвинуть рукой» и т. д. — все это для меня было и остается «моим» воображаемым Египтом. Странно, что в первый раз «Аида» мне настолько не понравилась, что я решил не слушать больше этой оперы; причина, вероятно, в плохом составе исполнителей; Медведев, например, не имея верхних нот, совершенно искажал дивную по красоте выходную арию «Милая Аида». Появление в роли Радамеса могучего тенора итальянской школы А. П. Кошица и в роли Аиды незаурядного драматического сопрано Астафьевой сделало эту оперу неузнаваемой по сравнению с прежними постановками. Кошиц был полным контрастом Медведева: насколько первый обладал широкой, мощной кантиленой и был великолепен в главных ариях Радамеса, Рауля, Елеазара в Жидовке, Пророка и проч., относясь с полным иногда комичным равнодушием к речитативным подробностям, а в игре ограничиваясь банальными оперными жестами, которых, как он заявлял с гордостью, у него было до 150, настолько Медведев был сравнительно слабоват в пении и красив в речитативе и драматическом действии; поэтому роль Германа в Пиковой Даме и была его коронной, а у Кошица самой слабой. Бедный Кошиц безумно любивший пение, трагически кончил свою жизнь (зарезался), когда сорвал голос в «Кольце Нибелунгов», а Медведев, потеряв голос скромно… и печально проживал одно время зимой и летом в Китаеве. Как-то грустно было видеть, как будто бы вспоминалась своя собственная невозвратная юность, его согбенную фигуру на тарантасике, когда он под вечер иногда возвращался из города на свою зимнюю дачу и не верилось, что это бывший кумир киевских меломанов, который так был красив вреди блеска и цветов оперного театра. Смотря на него, я почему-то всегда вспоминал Рудина в старости; Медведев по натуре своей не был еврей; у него не было ни расчетливости, ни скромности в образе жизни, ни семейственности, и он кончил, как кончает большинство безалаберных русских артистов. Благоразумный И. В. Тартаков, ученик итальянца Эверарди (который очень им гордился, говоря, что он воскрес в Тартакове), знал предел, за которым начинается богема и благополучно дотянул до глубокой старости, чаруя своим голосом даже в 60-летнем возрасте и заняв прочное место режиссера Императорского Мариинского театра в Петербурге.
Из новых постановок Прянишникова я был еще особенно восхищен «Каменным Гостем» Даргомыжского — этой гениальной мелодекламацией, в которой идеально сочетался волшебный стих Пушкина с яркой музыкой нашего великого композитора. К сожалению, опера эта прошла только раза два, три; тогдашняя публика не могла еще жить без арий, речитатив ей казался скучен, а больше нигде мне не пришлось слышать этого шедевра. Медведев (Дон-Жуан), Тартаков (Дон-Карлос) и Соловьева-Мацулевич (Донна-Анна) — в каждой фразе, в каждой из фраз были такими, как должен был воображать своих героев Пушкин. До сих пор я слышу насмешливо усталую фразу Медведева — Дон-Жуана о том, что испанки нравились ему глазами голубыми, но потом надоели; до сих пор помню, как картину какого-нибудь знаменитого художника, печальную фигуру Дон-Карлоса — Тартакова, предсказывающего Лауре печальную одинокую старость, и ее поэтично легкомысленный ответ у залитого луной балкона: «в Париже сейчас холодно, дождь, а у нас, посмотри… какое дело нам до Парижа». Должен, однако, сказать, что все-таки ни одна новая вещь не захватывала меня так всего, не возносилась на такие высоты эстетического самозабвения, как услышанная мною впервые уже на первом курсе университета «Снегурочка» Римского-Корсакова, а по переезде в Петербург его же «Садко», впервые поставленный в Большом зале консерватории московской труппой Мамонтова. «Снегурочку» киевляне тогда мало поняли и оценили, но небольшая группа слушателей, в том числе и я, несомненно, пережили зимой весну и на несколько часов гениальной музыкой были унесены из реальной жизни в область красивейшей русской сказки.
Что касается старой итальянской оперы, то мое увлечение ею, как это ни странно началось позже, чем новой, в частности русской; обыкновенно происходит наоборот; музыкальный вкус развивается от примитива к более сложному, а начавший поклоняться Римскому, Бородину или Вагнеру, Серову и т. д. отвергает культ старого Верди совершенно, он его даже ненавидит или, по крайней мере, делает вид, что ненавидит.
Увлечение мое итальянцами началось с появления в Киеве хорошей гастрольной труппы, украшением которой была, вышедшая в Киеве замуж за князя Ржевусского — Олимпия Боронат, знаменитое колоратурное сопрано, которую даже моя бабушка, благоговевшая перед памятью итальянских певцов времен Императора Николая I, весьма одобряла. Впоследствии в Петербурге я восхищался старым королем теноров Мазини и начинавшим тогда свой мировой успех тенором Карузо. Чем объяснять такой мой эклектизм в музыке? Врожденным безвкусием, несерьезной музыкальной подготовкой, влиянием восторгов бабушки, с которой я, впрочем, в юности горячо и даже грубо спорил, называя «Травиату» шарманочной пошлостью, «брыньканьем» и т. д.? И теперь ведь никогда не слушаю эту старую заезженную оперу, в которой даже веселые мотивы бала содержат в себе уж непонятные намеки на будущие страдания, не слушаю равнодушно. Мое объяснение, не знаю — правильно оно или нет, я другого никогда не мог подыскать, таково: опера старых мелодий, например, Травиата, современная, например, Борис Годунов — Мусоргского только по названию, совершенно, по-моему мнению, ошибочному, относятся к одной отрасли искусства; одно — это песня, другое — музыкальная драма; если мерку реальной правды в искусстве, так ярко выявленную в Борисе, Хованщине, Садко и проч., применять к «Травиате», то последняя, действительно, окажется ничтожной; если любишь пение, красивое пение, то не можешь не наслаждаться итальянской мелодией, при соответственных, конечно, исполнителях, и мне всегда казалось, что Вагнерианец какой-нибудь лицемерит, когда злобно отрицает всякую «итальянщину», как лицемерят теперь, например, придирчивые французские критики, утверждая, что «Снегурочка» устарела, ибо слишком примитивно-мелодична, что «Руслан» представляет только исторический интерес и т. д.; как будто бы «историчность» есть сама по себе порок, как будто бы красота мелодий не бессмертна. Я часто ловил строгих партийных критиков… как они, пусть не в театре, хотя бы даже в ресторане, а все-таки наслаждались пением, тем самым пением, про которое они в рецензиях своих шаблонно повторяли: «для какой надобности потребовалось антрепризе извлекать из архивов старушку Травиату и т. д. Никогда не верил я в искренность такого исступленного пропагандиста новой русской музыки — «могучей кучки», как покойный Стасов, когда он предсказывал скорую кончину «Евгения Онегина», называл «Фауста» музыкой для портных и сапожников. Он говорил все это потому что богами его были Римский, Бородин, Мусоргский и др., говорил в ослепленном фанатизме и в силу благородного побуждения заставить общество признать гениальность «кучки», но… но почему могли ему не нравиться, ну хотя бы письмо Татьяны, вальс Гуно — сомнительно, ибо Стасов не мог ведь не любить красоты? Итак, я никогда не стыдился наслаждаться всякой красивой мелодией, хотя и имел общих богов со Стасовым.
Н. Н. Соловцов сделал для Киева гораздо, конечно, больше, чем Прянишников, так как Киевская опера и в прошлом ее славилась хорошими певцами, обычно через Киевскую сцену, проходившими в Императорские столичные театры, драматического же театра Киев до Соловцова в сущности не имел. Труппа Соловцова появилась сначала в качестве гастрольной, в весеннем сезоне, кажется, 1890 года. Такая скупная, без действий пьеса, как «Раздел» Писемского, где наследники в течение трех актов ссорятся между собою, и та явилась для нас по тонкой художественности исполнения, целым откровением.
Украшением труппы был знаменитый комик В. Н. Давыдов. Затем со следующего года театр Соловцова утвердился в Киеве. Имена таких крупных артистов, как Рощин-Инсаров, Неделин, Киселевский, Чужбинов, Гламма-Мещерская, Зверева и др., сделались родными доя Киева. В своих постановках, в смысле художественного ансамбля, Соловцов достигал иногда такого совершенства, которое впоследствии, через десятки лет только, было дано Московским Художественным театром, но при этом в труппе Соловцова было больше, чем в Московском театре, яркой индивидуальной талантливости, при громадном разнообразном репертуаре, не дававшем возможности иссушать талант однообразием и заученностью. «Царь Борис», например, был поставлен с точки зрения устремлений даже Московского Художественного театра, безукоризненно, а громадный трагический талант Рощина-Инсарова, несмотря на его неблагодарный, слегка сиплый голос, сделал в моих глазах заглавную роль недоступной другим артистам: Борис и Рощин стали для меня синонимами. Не мог я также представить себе лучшего исполнения «Поля Астье», чем Неделинское, не видел и лучшего исполнения веселой комедии «В горах Кавказа», чем Соловцовым, Неделиным, Гламмой и Чужбиным. Сам Соловцов был замечательный артист на характерные роли (великолепен, напр., был в роли мужика в «Плодах Просвещения»), но любил почему-то иногда впадать в трагизм; играл Гамлета и тогда был слабоват. Популярностью в Киеве Соловцов пользовался такою, как в Петербурге дядя Костя — Варламов; появление его на эстраде, на различных благотворительных вечерах с неизменным «Индюком» и «Поросенком», вызывало смех и бурные приветствия всего зала еще до начала чтения. Дисциплина в труппе была образцовая; Соловцова боялись и уважали. Осмоловский, с которым одно время был дружен мой брат, в период склонности его к богеме, рассказывал о «Николае Николаевиче» различные истории всегда каким-то почтительным шепотом, а актер на вторые роли Кнорье прямо с ужасом (но всегда с любовью) вспоминал, как обрушился на него Соловцов, когда узнал, что летом где-то в уездном городе, Кнорье изобразил из себя гастролера и сыграл, кажется, короля Лира. С Осмоловским Соловцов в конце концов поступил очень жестоко: на гастролях в Одессе, Осмоловский, участвуя в какой-то мелкой роли в «Царе Борисе», сказал «Царевна Ксевна» вместо «Ксения»; Соловцов его разнес; на следующем представлении Осмоловский, волнуясь, чтобы не спутаться, твердил перед выходом про себя «Царевна Ксения, Царевна Ксения», вышел и снова ляпнул «Царевна Ксевна»; Соловцов пригрозил, что если ещё раз это повторится, Осмоловский будет выгнан из труппы; перед выходом на третьем представлении «Бориса» Осмоловский, по его словам, прочел мысленно даже молитву и, перекрестясь, снова провозгласил «Царевна Ксевна», и это было последним днем его участия в труппе Соловцова. Дальнейшей судьбы этого славного артиста я не знаю. Помню, что его любил и Куприн, тогда ещё мало известный газетный сотрудник, имевший наклонность к скромным кабачкам, где можно было наблюдать второстепенных, но характерных служителей всякого рода искусства.
Тогдашняя пресса нередко поносила Соловцова, упрекая его и в хаотичной неразборчивости репертуара, как будто бы провинциальный театр мог делать сборы при одном строго классическом репертуаре, и в склонности к рекламе (Соловцов делал, например, скидку на билеты для подписчиков издававшейся им газеты «Жизнь и искусство», сам назвал новый драматический театр по собственной фамилии и т. п.), а без рекламы тогда в Киеве трудно было рассчитывать на материальный успех; ведь Соловцов должен был завоевать равнодушную к русской драме Киевскую публику. Только смерть Соловцова в конце, кажется, девяностых годов, объединила всех в общем горе, не исключая и газетных критиков; тогда вспомнили и общедоступные спектакли, и дешевые билеты для учащихся, и массу благотворительных вечеров, устроенных покойным, а, главное, ту высоту художественного совершенства, которого достигал театр под режиссерством Соловцова. Похороны его на Аскольдовой могиле в Киеве были днем национального траура, почти весь интеллигентный Киев провожал покойного артиста к месту последнего его успокоения на живописнейшей Приднепровской горе. Также трогательно величественны были и похороны главных сотрудников Соловцова: убитого из ревности живописцем Маловым Рощина-Инсарова, Киселевского, Чужбинова, и, наконец, последнего из могикан, одинокого среди молодых артистов театра «Соловцова», Неделина.
Как Н. Н. Соловцов умел внушать окружающим его какое-то благоговейное отношение к искусству, можно судить по тому смущению, с которым Осмоловский выслушивал шуточные напоминания моего брата, что он его помнит в такой-то и в такой-то первой роли на сцене Драматического Общества; «оставь, оставь, не напоминай, конфузливо говорил Осмоловский, «я настоящие мои роли играю только у Николая Николаевича», чаще же Осмоловский совершенно отрицал, что он когда-либо играл крупные роли. Быть «капельдинером» в «Плодах Просвещения» на Соловцовской сцене было почетнее, в глазах истинного артиста, чем первым любовником в Старом Киевском театре; искусство было дороже личного самолюбия; таков был взгляд Н. Н. Соловцова, так чувствовали и члены его труппы. Зная об этом, я не удивлялся, впоследствии, словам И. В. Тартакова, что сколько бы раз он ни пел Демона, Онегина и проч., он без волнения выйти на сцену никогда не будет в состоянии, не удивлялся и описанию первых провинциальных гастролей прославленного комика Варламова, который, по рассказам его неизменной сценической сопутницы знаменитой Стрельской (комической старухи), так волновался при каждом выходе в новом городе, что еле мог перекреститься дрожащими руками, а раз она боялась даже, что он не удержит в руках шляпы. Эти волнения — признак почтения перед искусством, признак действительной артистичности, боящейся случайно чем-нибудь нарушить, так сказать, благолепие совершаемого священнодействия. И спокойная наглость многих пришедших на смену старым богам театра, особенно многочисленных еврейского происхождения, исполнителей означает только самомнение, а не подлинную талантливость. Но это — так вскользь.
Гимназические наши увлечения театром вызывали сильные преследования со стороны начальства: запрещалось посещение галереи, которая и была только доступна нам по цене при частом посещении театра (билет на галерее стоил 40 коп., а в последнем ряду партера 1 р. 20 коп.), в пансионе же разрешалось посещение лож не выше бельэтажа (не знаю чем объяснить подобный снобизм), наконец, в последние годы моего гимназического пребывания было установлено требование на каждое посещение театра получать разрешение инспектора. Я никогда не мог понять такого отношения к театру, так как гораздо хуже было времяпровождение отдельных «взрослых» гимназистов, увлекающихся картами, что не могло быть проконтролировано гимназическими воспитателями. Когда я беседовал на эту тему с добрейшим нашим инспектором А. В. Старковым, указывая ему на то, что я понял бы театральные запреты лишь в тех случаях, когда увлечение театром отрицательно отражается на успехах гимназиста, А.В. старался мне доказать, что частое посещение театра может вызвать пресыщение им еще на гимназической скамье и, когда мы вырастем, нам театр уже ничего не будет давать, благоразумие же, мол, требует растянуть это удовольствие на всю жизнь. Такая философия в отношении нашей компании, по крайней мене, не оправдалась: мы всю жизнь остались верны нашей любви к театру и музыке, любви, воспитанной именно в юные гимназические годы Прянишниковым и Соловцовым; поэтому-то, имена их для нас навсегда остались дорогими, дороже гораздо фамилий всех прочих наших педагогов вместе взятых, ибо не они развили в нас чувство здорового национализма и понимание красоты, а Глинка, Римский, Чайковский, Мусоргский и т. д., и т. п. Как ни странно, но русским я почувствовал себя больше всего и прежде всего в оперном театре. Я отлично помню, что первые мои впечатления от Руслана и Людмилы, Рогнеды и Снегурочки были этапами по пути укрепления во мне сознательной любви к родине, а в частности к Киеву (»я Киева гордость, я дочь Святозара»).
Запрещение галереи заставляло нас переодеваться в штатское платье, иногда даже гримироваться; помню, как мой сожитель и друг Миша Филиппенко, имевший золотисто-рыжие волосы выкрасился раз черным пахучим фиксатуаром; соседи страшно волновались по поводу невыносимого резкого запаха, подозревая, что это какая-нибудь дама неистово надушилась дешевыми духами; затем, под влиянием ужасающей обычно жары на галерее, М.Ф. начал таять и лицо его покрылось черными подтеками. Брат мой однажды так был неузнаваем в еврейском костюмчике и фуражке, что когда меня шутя, с ним познакомили, я серьезно назвал свою фамилию.
Обычно мы удачно в темноте галереи скрывались от дежуривших в театре помощников классных наставников и педелей, но иногда приходилось, при ненадежности положения, брать места в партере и тогда мы чувствовали себя какими-то бесправными, заброшенными. Дело в том, что на галерее все были знакомы, там происходила живая интересная критика исполнителей, там только можно было, не стесняясь, дикими криками выражать свои восторги или свистом порицать плохое исполнение, наконец, там был центр «партийной борьбы». С галереи мы быстро устремлялись к выходу из-за кулис или к квартирам особо любимых артистов, где еще устраивали последние овации. Вот эта борьба «партий» (процветавшая специально в оперном театре) и уличные овационные путешествия и представляли из себя наибольшую опасность в смысле возможности кары со стороны гимназических властей.
Как во время наших отцов, Киевский оперный театр был раздираем распрями сторонников Павловской с одной стороны и Кадминой с другой, так в мое гимназическое время партии группировались вокруг двух имен: Лубковской и Силиной, хотя репертуар их очень редко совпадал (первая пела, главным образом, лирические, вторая — колоратурные партии); остальные артисты, т. е. симпатии к ним галереи, распределялись между этими двумя именами, напр., Лубковисты поддерживали всегда меццо-сопрано Нечаеву, а Силинисты — Смирнову и т. д., вне партии, т. е. общими любимцами были Тартаков и Антоновский, ибо серьезных конкурентов у них не было на Киевской сцене, они были, так сказать, вне конкурса. Но, впоследствии, когда Киевская опера имела одновременно двух крупных теноров: еврея Медведева и русского Кошица, партийная борьба… приобрела неожиданно еще национальную окраску и достигла максимума своего обострения. Все Лубковисты, к которым принадлежала и моя компания, сделались яростными юдофобами. Евреи, гордясь наличностью в опере двух таких действительно крупных сил, как Тартаков и Медведев, старались всячески умалить достоинство русских артистов, а о таких, которые не имели конкурентов, например, о Фигнере, распространяли ложные слухи, что они еврейского происхождения; даже при дебюте Шаляпина в частной опере Панаевского театре, мне пришлось слышать разговор, что вот, мол, появился замечательный еврей-бас. Я всегда любил моих товарищей-евреев за их искреннее увлечение искусством, но никогда не мог примириться с их каким-то шовинизмом в деле преувеличенного прославления «своих». И чем больше я наблюдал музыкально-артистическую жизнь России, тем более убеждался в гораздо более мощной талантливости и русских, особенно, великороссом, по сравнению с евреями. В самом деле достаточно отметить только тот факт, что консерватория и музыкальные училища переполнены евреями (в некоторых их до 90 %), чтобы понять, как ничтожны результаты еврейского служения искусству: наряду с такими великими именами, как Глинка, Даргомыжский, Чайковский, Римский, Мусоргский, Бородин, Танеев, Глазунов, Рахманинов, Скрябин и т. д., и т. п. мы знаем в России одно еврейское имя, да и то относящееся к композитору в сущности второго разряда, — А. Рубинштейна; в области пения ни один еврей не поднялся до высоты Хохлова (кумира Москвы в восьмидесятых годах), Шаляпина, Стравинского, Фигнера, Собинова и и многих других. Любимец Киева И. В. Тартаков, при всей его талантливости, оскандалился и был освистан, когда вздумал в концерте спеть «Не плачь, дитя» после Хохлова, стараясь форсировать голос, чтобы хотя немного приблизиться к мощному голосу Хохлова. О драматических наших театрах нечего и говорить; из поименованной мною выше плеяды славных артистов Соловцовской эпохи был один только еврей — комик Чужбинов. Таких имен, как даже современные нам, Савина, Ермолова, Садовские, Давыдов, Варламов, Рощин-Инсаров, Сазонов, Дальский, Комиссаржевская и т. д., и т. д. евреи никогда в России не давали. То же, впрочем, и в литературе, ибо Толстого и Мачтета едва ли кто-либо решится сравнивать. Наличность нескольких мировых еврейских имен в европейском искусстве и литературе не может, конечно, влиять на мой вывод относительно несоизмеримости русских и еврейских художественно артистических задатков, тем более, что и Европа не знает евреев — создателей школ; Бетховена и Вагнера никому не придет в голову ставить на одну доску с Мейербером. Но при всем том у евреев, помимо действительной любви и глубокого понимания художественных красот, имеется большое преимущество перед русскими: это прилежание, настойчивость и бережное отношение к отпущенным Богом способностям. При равных данных, русскому редко приходит в голову, редко хватает силы воли «специализироваться»; может быть это отчасти объясняется еще тем, что все виды искусства в России были бесправным евреям гораздо более доступны, чем другие виды заработков. Отсюда — переполнение евреями различных оркестров и трупп, в качестве средних исполнителей, количественное, а не качественное, преобладание еврейского искусства и кажущаяся с первого поверхностного взгляда их большая даровитость. Наша юная театральная компания инстинктивно поняла несправедливость в оценке русских и еврейских сил Киевской оперы, и с молодою горячностью принялась за борьбу. Нашим знаменем сделался тенор Кошица, а на почве борьбы его сторонников с Медведевской партией разыгрывались бурные скандалы на галерее, занимавшие нас тем более, что они заключали в себе элемент опасности и риска. Я живо храню в своей памяти старого театрала подробности первого дебюта Кошица на Киевской сцене; этому, как всегда, предшествовали слухи о необычайной красоте нового тенора, каких-то громадных черных глазах, необыкновенных успехах его в Италии и т. д. Медведисты — нервничали. Когда Кошиц-Радамес появился с жрецом, сразу, при первом их диалоге, почувствовалось разочарование в наших рядах и ликование вреди врагов; К. оказался с добродушным русским лицом и обыкновенными серями глазами блондина; первые речитативы: «счастлив избранник» и т. д. он произнес без всякой экспрессии, к которой приучил нас Медведев, слегка даже в нос; но вот началась знаменитая ария «Милая Аида», и галерея замерла; казалось, что арию эту мы слышим в первый раз; такое мощное дыхание, такую чистую формулировку звука на высоких финальных нотах каждой фразы этой мечтательной арии, которых Медведев не пел, а как-то обрывал, показал — сразу же Кошиц, что даже «евреи» не удержались и покрыли громом аплодисментов заключительную фразу «венец тебе я дам». В дальнейшем исполнение было такое же неровное, то вызывая восторги театра (особенно выходная ария на берегу Нила «я вновь с тобой, моя Аида», объяснение с Амнерис, последний дуэт в склепе «прости земля»), то давая минуты торжества еврейской партии, в особенности, когда Кошиц поймал «петуха» на словах «жрец великий, я пленник твой» или комично равнодушно произносил речитативные фразы «кто нас подслушал; сам Царь?» и т. п. И в следующих своих дебютах Кошиц отличался такою же неровностью исполнения. Вторая роль, которую он спел в Киеве, была партия Елеазара в «жидовке», высокого подъема и чувства достигал он в знаменитой арии: «Рахиль, ты мне дана небесным Провидением», правдиво трагичен был в последующем объяснении с Кардиналом и тотчас же, в следующей партии, расхолаживал публику спокойнейшими вопросами о том, всех троих ли решено казнить, или только его с дочерью; на ответ «нет, двоих», он так добродушно произносил «я так и знал», что нельзя было не улыбнуться. Великолепен в вокальном отношении был Кошиц в Фаусте, особенно в Пой… партии, где ария «привет тебе последний день» давала богатую пищу мощному мягкому тенору, но вместе с тем, когда настал момент возвращения Фаусту молодости, когда вместо старца появился юноша, мы увидели такую странную физиономию добродушного швейцара с белокурыми баками, что у некоторых даже вырвалось искренно: «Боже мой!» А тут ещё Тартаков-Мефистофель, впервые выступивший в этой басовой партии и давший художественный тип нешаблонного оперного черта, а хитрого, маленького, вертлявого, во всем черном, с рыжими волосами, искусителе. Его тонкая игра и отделка всех речитативов затеняли совершенно Фауста-Кошица. При таких условиях, борьба за Кошица не всегда была легка, но так как его соперник Медведев, побыв краткое время, без особого успеха на Императорских сценах, вернулся в Киев с преждевременно уже утомленным голосом, а Кошиц за это время сделался гораздо сценичнее, победа в конце концов осталась за нами. На прощальном «сборном» спектакле сезона Кошиц, принятый уже на Московскую Императорскую сцену, был предметом бурных оваций (выступал в роли Турриду в «Сельской чести»), а Медведев, певший в трех последних картинах «Пиковой Дамы» был освистан. Растерянность еврействующих была искренне — печальной. Какие-то девушки — еврейки, желая смутить Володю Ковалевского и видя, что своими аплодисментами не заглушают его свиста, окружили его в ложе и кричали: «ну, ему хочется свистеть; а, не мешайте ему, пусть свистит, если он этого хочет»; К. не был уничтожен этим великодушием, достал ключ от своей комнаты и начал издавать звуки, мало уступавшие локомотивному свисту. Не поддается описанию, что сделалось с поклонницами Медведева; я думал, что они растерзают Ковалевского.
Припоминая такие весьма бурные спектакли — гастроли молодого московского тенора Клементьева, прославившегося впоследствии в созданной им роли Нерона в одноименной опере Рубинштейна. Выступление его в роли Германа, окончившееся полным его триумфом, окончательно вывело евреев из душевного равновесия и на галерее чуть не дошло до побоища.
Подобные истории не проходили для нас безнаказанно; если не педеля, то полиция вылавливала нас, для чего-то мы отводились в участок, там опрашивались наши адреса и затем мы выпускались на свободу. Особенно бурно проходили бенефисы любимцев. Однажды, после бенефисного спектакля М. М. Лубковской, на мою долю выпало зажигать бенгальские огни у ее квартиры, для чего я взобрался на уличный фонарь; только я приступил к исполнению своих обязанностей, как был атакован гимназическими педелями, спрыгнул с фонаря и бросился бежать к квартире Лубковской; на пороге я был пойман за одну руку педелем, а за другую мужем М.М. полковником Лубковским, которому и удалось втянуть меня в квартиру; я был счастлив, конечно, что попал к нашей любимице неожиданно в гости, но она чрезвычайно волновалась по поводу ожидавшей меня в гимназии кары; придуман был в конце концов такой план: на допросе я покажу, что М.М. моя тетка и что после спектакля я должен был у нее ужинать. На другой день я действительно был приглашен на допрос к нашему инспектору А. В. Старкову: «это безобразие, Вы позволяете себе», начал он медленно меня разносить; выслушав гневную речь добряка А.В., я спокойно и с достоинством объяснил, что я и Лубковские оскорблены поведением гимназической стражи, ибо я мирно шел к ней ужинать по окончании спектакля, а на меня набросились, тащили из квартиры. «Почему же Вы ужинаете у артисток, разве это подобает гимназисту?» На это я с гордостью отвечал, что Л. моя тетка и, вполне естественно, я был приглашен к ней после бенефисного спектакля. Инспектор, очевидно сам увлекающийся талантом Л., с большим оживлением начал меня расспрашивать о различных подробностях ее жизни: где она родилась, училась, дебютировала и т. п. Я лгал немилосердно и от наказания освободился. Л. была так внимательна, что на другой день приехала к моей матери справиться о моей судьбе.
Одно из самых бурных столкновений враждующих партий произошло на одном из бенефисов Нечаевой, певшей Амнерис в Аиде. Вызывающее поведение наших врагов на этом бенефисе внесло такое озлобление, что на одном из следующих очередных спектаклей произошла неожиданно, без всяких оснований, рукопашная схватка. Лидер «Силинистов», по прозванию, за его мрачную наружность и бас, «Спарафучилло» лишился очков, а один студент влез в карету к Силиной, погрозил ей кулаком и крикнул вслед: «и тебе старуха достанется». Она мне об этом рассказывала …по окончании сезона с неподдельным ужасом. Кстати о «Спарафучилло»; это был канцелярский чиновник местного суда П-ский, не пропускавший буквально ни одного оперного спектакля; в его одинокой и, вероятно, однообразной жизни мелкого чиновника опера, очевидно, была всем смыслом жизни; за 12 руб. в месяц он имел свой клуб, общество, эстетику. Прошло много, много лет, мои сверстники — юные герои галереи, уже лысые, некоторые важные, заседали в первых рядах партера (присяжные поверенные А. А. Кистяковский, А. А. Френкель — театральный поэт и С. Н. Горбнов, расстрелянный большевиками, прокурор С. И. Слепушкин и многие другие). Я из любопытства поднялся к галерее; там новая молодежь, для которой фамилия Кошица, Тартакова, Лубковской и проч. мало говорили, и вдруг увидел «Спарафучилло»; я расспросил о нем и узнал, что это завсегдатай галереи. Он и не подозревал, конечно, каким счастьем, каким дорогим воспоминанием о далеком хорошем прошлом было для меня видеть его «на посту». Казалось вот, вот раздастся его могучий на весь театр бас «только за пляску», — слова, которые он неизменно выкрикивал по окончании 2-го акта Миньон, в котором Лубковская изящно танцевала с зеркальцем; поклонник Филины-Силиной он всегда старался подчеркнуть, что в вокальном отношении Лубковская равняться с нею не может, а если ей и хлопать, то только за изящество в танцах.
Национальная борьба в оперном театре отличалась, естественно, еще большим озлоблением, причем иногда принимала чрезвычайно юмористический характер. Я сам был свидетелем такой сцены, которая потом рассказывалась виде анекдота. На второстепенных ролях работал у Прянишникова тенор Борисенко пел соло в хоре: «Ратаплан» в Гугенотах и т. д.; никто на него не обращал внимания, и вдруг в «Паяцах» на первом представлении этой оперы он вызвал бурю восторгов исполнением закулисной арии арлекина; с тех пор он начал выдвигаться и в Казани занимал уже амплуа первого тенора; успех Борисенко в Паяцах был столь неожиданный, что, так как содержания оперы большинство из публики еще не знало, некоторые перепутали его с Медведевым, выступавшим в заглавной роли; когда на вызовы вышел Борисенко, один пришедший в экстаз еврей кричал: «без различия вероисповедания Борисенко, Борисенко!» Помню ещё как в «Самсоне» Медведев, действительно с большим подъемом проводивший эту партию, привел в такой экстаз евреев, что они вызывали его уже не по фамилии, а просто вопили: «Самсон, наш Самсон»; это вызвало, конечно, соответствующую реакцию со стороны русской партии. Даже весьма солидный, уже не молодой, уравновешенный, ни в каких партиях не принимавший участия, блондин X., не пропускавший ни одного спектакля, в котором выступала Смирнова — у него была какая-то прямо Смирновомания, и тот был втянут в борьбу; «почему вы так нападаете на Медведева», спокойно обратился он в антракте ко мне; «он все-таки в общем недурно исполняет Самсона, конечно он бледен по сравнению с Далиллой-Смирновой, но…». Я его вывел из спокойствия, когда провокационно заявил» вы так думаете, в вот евреи другого мнения; они говорят, что Смирнова, как артистка, в подметки не годится Медведеву». Я не узнал флегматичного блондина, лицо его сделалось багровым, он, задыхаясь, несколько раз полувопросительно повторил: «Смирнова …в подметки»; для него это было просто святотатство …и через некоторое время я его видел в центре галереи, среди евреев, разносящим, почти с опасностью для жизни, Медведева; на последнем спектакле хладнокровный блондин, спокойно проведший вес сезон, свистел, ругался и вообще был выбит уже из колеи.
И так, театр, как и летние наши похождения, помимо серьезного национально-воспитательного его значения, давал выход нашему молодому «буйству», какой-то странной нашей наклонности к чему-то в роде хулиганства, к протесту против тихого мирного течения жизни, к чему-то контрастирующему с унылым однообразием гимназических уроков.
Мы бывали в полном восторге, если удавалось хорошенько взбудоражить полицию или педелей.
В Купеческом Собрании, например, на концерте Н. Н. Фигнера, я не мог решить от чего я получил более сильное впечатление — от пения ли этого великого артиста ли финальной сцены в вестибюле Собрания, где произошло столкновение с приставом величайшего оригинала нашей гимназии, впоследствии нотариуса, Ивана Колоколова. У него был несомненный крупный комический талант; мимика и интонации его были таковы, что пустейшая и глупейшая фраза, какой-нибудь рассказец, приобретали в его устах такой юмор, который заставлял смеяться даже самых серьезных людей. В дортуар пансиона он входил иногда взволнованный, огорченный и трагически-комично вопрошал: «господа, где мой нос?» И весь зал разражался хохотом. А то на каком-нибудь вечере начнет как бы самому себе рассказывать: «знаете, был господни, в Париже — повиндвинчивает ноги, повиндвинчивает голову (это слово уже с высочайшим пафосом!) …а сам ложится спать» и тому подобный вздор; вокруг него всегда собиралась постепенно толпа слушателей. Гуляя по Крещатику, он любил сзади тихонько взять за руку какого-нибудь незнакомца, и, когда он обернется, зловеще прошептать: «тише, нас подслушивают!» или, с неопределенным жестом в пространство: «он одобряет Казерио» (убийцу Австрийской Императрицы); от него шарахались, как от сумасшедшего. Однажды уже в Университете К. явился на практические занятия по политической экономии с громадной связкой всевозможных книг, какие только у него имелись дома; студент Горовой читал какой-то доклад; как он, так и сам профессор Пихно не без уважения посмотрели на К. и его книги, предчувствуя в нем сильного оппонента. Во время доклада К. нервно перелистывал книги, делал какие-то заметки и по временам так ехидно смотрел на референта, что последний постепенно делался все бледнее и растеряннее. Кончился реферат, профессор почтительно обратился к К. с вопросом «вам, вероятно, угодно возражать», последовал громкий с достоинством ответ «да»; Горовой побледнел, как стена; К. начал с презрительной улыбкой: «господин Городовой в своем докладе…» Пихно, видя смущение Горового, мягко остановил К. «фамилия докладчика не Городовой, а Горовой». К. снова начал свои возражения, назвав докладчика городовым. Повторилось это еще раз, К. извинился, что он сам не знает, что с ним сегодня, что у него какая-то болезненная рассеянность и т. д. Все это сопровождалось такой мимикой, что аудитория еле удерживалась от смеха; забрав все свои материалы, К. деловито исчез.
Так вот этот самый К. в вестибюле Купеческого Собрания среди расходившейся после концерта публики, неожиданно пронзительным голосом завопил: «Фи-и-и-гнер»; находившиеся вблизи К. отскочили от него с испугом, и тотчас же, проталкиваясь через толпу, появился задыхающийся толстяк-пристав Закусилов; это был главный наш преследователь, в сущности поразительной доброты человек. «Молодой человек», гаркнул он на Колоколова, «вы оглушили публику». «Молодой человек», отвечал приставу Колоколов, «а вы оглушили меня»; при этом лицо его изобразило такую гамму скорби, негодования и ужаса, что в публике начался смех. Смущенный названием «молодой человек», пристав яростно набросился на Колоколова и между ними началось длительное препирательство. «Я, молодой человек, давно за Вами слежу; Вы у меня на примете; я всю Вашу биографию знаю», угрожающе заявил Закусилов, а К. в ответ на это: «вы думаете, что я не слежу за вами, что мне ваша биография не известна, извольте: вы были выгнаны с должности станового пристава Таращанского уезда». Откуда К. взял эту подробность из служебной жизни Закусилова, неизвестно, вероятно, измыслил; но, во всяком случае привел в такое смущение пристава, что он вместо того, чтобы его арестовать, заявил, что окончательное объяснение по поводу происшедшего он откладывает до завтра, и попросил толпившуюся публику разойтись. «Да, завтра, молодой человек, мы объяснимся с Вами у местного полицмейстера», победоносно заключил Колоколов, почему-то делая особое ударение на слове «местного», которое он произнес с большим пафосом и выговаривая через е оборотное; затем, обращаясь к публике и выражая на своем лице какое-то таинственное торжество, он как-то особо конфиденциально повторял: «молодому человеку особенно, по видимому, не нравится слово — мэстного». Смех в вестибюле стоял гомерический. На другой день все дело кончилось, кажется, извинением К. перед добряком приставом.
Почему Колоколов не пошел на сцену, предпочел ей карьеру нотариуса — непонятно.
И много одаренных гимназистов моего времени, подававших надежды, предпочли обычный проторенный житейский путь превратностям артистической карьеры.
В гимназии периодически устраивались спектакли; в последние годы это даже поощрялось начальством; давали Ревизора, Женитьбу, Лес (отрывки) и на все ответственные роли всегда находились способные исполнители. Брат мой, например, отличился в роли «Яичницы», в Гоголевской «Женитьбе»; режиссировал Неделин, и нам, помню, было приятно, что директор гимназии И. В. Посадский-Духовской и учитель словесности П. С. Иващенко относились с почтительным вниманием к указаниям этого талантливого артиста и, затем, на память снялись с ним с гимназистами-актерами на одной фотографической группе. Ранее мир чиновников-педагогов и свободных служителей искусства отделяла стена предрассудков. Неделин, на вопросы некоторых из товарищей брата относительно сценической карьеры, говорил, что сцена дает по временам громадное нравственное удовлетворение, но в личную жизнь человека вносит так много страданий, беспокойств, волнений, что он никому не мог бы дать совет посвятить себя сцене.
Я лично никаких сценических способностей не имел; мальчиком сносно изобразил раз Плюшкина, участвовал в сочиненной моей матерью оперетке «В Арбуцких горах», где вся моя [роль] состояла в пении четырех слов: «вы чудо из чудес» в ответ на рассказ цыганки о том, как она живет в горах; наконец, в доме моего товарища В. я выступал, будучи уже гимназистом старших классов, в роли первого любовника — Николая в «Поздней любви» Островского и так был поносим среди публики, не узнавшей меня после снятия грима, то это навсегда отбило у меня охоту подвизаться на подмостках. Брат же мой мечтал одно время о поступлении в театральное училище, но увлекся судебной деятельностью.
Глава 2 Окончание гимназии. Университет (1893–1897 гг.)
Кража экзаменационных тем в гимназии; радость освобождения от нее и сознание своего невежества. Первые впечатления от юридического факультета Киевского университета; профессора Ренненкампф, Пихно, Соколовский и Владимирский-Буданов; критическое отношение к утопиям. Переезд в Петербург; стильная красота столицы; похороны императора Александра III и венчание Николая II; увлечение молодым Царем. Восточный и юридический факультеты; влияние профессора Коркунова. Переход в консервативный лагерь. Недостатки программы и способов преподавания на юридическом факультете; узко специальный характер его и отсутствие национальных начал. Столичные театры и искусство. Государственные экзамены; кутежи в Киеве; выбор государственной службы.
Так Днепром и театром была заполнена лучшая часть нашего гимназического времени.
Наше отношение в гимназии, к процедуре получения аттестата зрелости, как к неизбежному злу, ярко проявилось в обстоятельствах окончания нами гимназии и, вызвавших по нашему адресу даже резко обличительные статьи в прессе. «Киевлянин» объявил, что хорошо юношество, которое входит в жизнь ворами.
Дело в том, что главную часть экзамена на аттестат зрелости составляли у нас так называемые письменные испытания по древним языкам, математике и словесности. Тема испытания вырабатывалась в Управлении учебного округа, для всех гимназий округа одна. Темы в пакетах за печатями округа хранились в окружной канцелярии и затем рассылались во все гимназии. Группа гимназистов нашего класса вошла в переговоры с одним ловким Киевским евреем относительно похищения «тем»; сумма вознаграждения была установлена в несколько тысяч рублей и собрана по добровольной подписке; в нашем классе оказался один только юноша, да и тот первый ученик-зубрила, который отказался принять участие в нашем предприятии. Еврею с большим риском удалось остаться в канцелярии попечителя Киевского округа на ночь под столом, вскрыть ящик стола, вскрыть пакеты, переписать темы и затем запечатать их наново и вообще привести все в порядок.
Таким образом, за несколько дней до экзамена, мы знали о чем потребуется писать и все заранее подготовились. Один я, абсолютно не интересуясь древними языками, которыми я владел совершенно свободно, спал в какую-то непонятную лень; сочинение на тему: «поэт в произведения Пушкина» решил написать с экспромта, а задачу по алгебре прослушал невнимательно, слабо усвоил ее разрешение и ограничился тщательным, чисто-механическим подчеркиванием в сборнике логарифмов тех цифр, которые относились к задаче. Последнее обстоятельство и спасло класс от передержки все письменных испытаний: учебник (сборник логарифмов) оказался старым со многими другими, кроме моих, отметок; я в них так долго разбирался, что задача к сроку оказалась мною нерешенной. По древним же языкам весь класс так одинаково хорошо написал работу, что, в связи с возникшими в городе слухами о краже тем, была назначена переэкзаменовка. Только добряк Григорович никак не мог понять, как могли стать известными ученикам темы, и возмущался назначенной переэкзаменовкой. Я помню с каким трепетом все экзаменующиеся, застыв в молчании, ждали торжественного объявления тем директором гимназии; этому предшествовал осмотр печатей комиссией учителей; когда пакет подносился к окну и все внимательно осматривали печать, водворялась гробовая тишина; всеми владела мысль незамечен ли какой-либо дефект в печати; затем, ожидание не надул ли ерей, та ли тема, которая была им нам сообщена. Все это само по себе издергало уже нервы гимназистов, а тут еще вторичное письменное испытание по древним языкам. Учителя поняли настроение экзаменовавшихся и не препятствовали на вторичном экзамене знатокам греческого и латинского языков открыто диктовать перевод; в числе этих знатоков был, конечно, и я; когда мы входили в актовый зал, то за меня держался гуськом целый хвост товарищей, человек в двадцать; за другими тремя-четырьмя классиками-специалистами тянулись такие же группы; рассаживались за столы все группы, имея во главе своего, так сказать, лидера-знатока; я диктовал перевод своему соседу, он писал и одновременно читал следующему и т. д. по определенной линии. Экзамен, конечно, всеми был выдержан блестяще, а я за классические познания получил, как обыкновенно, удовлетворительные отметки и по математике.
Ощущение свободы, после окончания выпускных экзаменов, с такой захватывающей радостной силой, как весной 1893 года, никогда, вероятно, не повторилось бы в моей жизни, если бы через 25 лет мне не пришлось испытать равносильного счастья при освобождении от большевистского ига.
Окончившие гимназию, узнавались на улицах по их сияющим… физиономиям, даже если на них не было свеженьких студенческих фуражек; почти все, в день выхода из гимназии, закурили только для того, чтобы демонстрировать свое право курить на улице. Моя компания пировала, по поводу получения аттестата зрелости, где-то за городом, закончив кутеж на Жуковой Острове близ Китаева; не помню по какой причине я потерял свою компанию, кажется, потому, что бы занят приобретением штатского одеяния, но вспоминаю, какое ужасное впечатление на другой день произвела на меня физиономия Володи Ковалевского, который заснул после пирушки в лесу, положив голову на муравьиную кучу; лицо его стало раза в три больше нормального и все было покрыто красными прыщиками; особенно ужасен был нос; в довершение эффекта щеголял он почему-то в красной турецкой фреске и с громадным мундштуком в зубах.
Кстати о моем собственном костюме: я так хотел поскорее забыть о форменной одежде, что решил приобрести себе не студенческий, а обязательно штатский костюм; с этой целью я отправился в еврейский магазин готового платья — Людмера на Крещатике, где приказчик, вероятно, убедившись в моей полной неопытности в деле мод, посоветовал мне приобрести единственную во всем магазине пиджачную пару чисто розового цвета: «вам все в Киеве будут завидовать», убежденно говорил он мне, и костюм был мною приобретен; такого костюма я, действительно, не только в Киеве, но и вообще нигде ни разу в жизни не встречал; я всю жизнь, до революции, берег на память жилет от этого первого моего штатского одеяния, самый же костюм утонул во время моих опытов плавания в одежде. К розовому костюму я не нашел ничего лучше, как приобрести синее пальто, желтую соломенную шляпу по названию «здравствуйте и прощайте» (с двумя козырьками) и какой-то громадный пестрый зонтик; на глазах было водворено темно-синее пенсне, для большей солидности. Когда в яркий солнечный день я появился в таком наряде на Крещатике, большинство знакомых не отвечало на мои радостные поклоны: меня не узнавали и смотрели на меня с нескрываемым изумлением, а когда со мною встретилась моя тетка Леночка, она могла сказать только «ах», и ее добрые глаза исполнились слезами.
Но меня самого, при тогдашнем стремлении моем к протесту против всего общепринятого, костюм мой более, чем удовлетворял; он был эмблемой всего моего настроения, созданного гимназическим формализмом и беспорядочностью моего миросозерцания.
Случайно отбившись в день окончания гимназии от своей компании, я провел вечер в скромном ресторанчике «Север», против оперного театра, один, за бутылкой дешевого вина. Одиночество ли или реакция на первый бурно-радостный день свободы, но мне вдруг стало грустно; я стал сознавать, что закончена какая-то значительная часть моей жизни, что начинается нечто другое, новое и, быть может ответственное. Я задумался над тем, как малы мои знания, и мысль о необходимости доучиваться преследовала меня, мешая отдаться непосредственному веселью. Вернулся я домой печальный и вскоре засел за учебники географии, истории и даже алгебры. Так я начал учиться… по окончании гимназии.
Что же в общем представлял я из себя на пороге Университета? Довольно хорошее, по моему возрасту, знание литературы, особенно русской и Шекспира, весьма незаурядное знание оперной музыки, сильно развитое, благодаря литературе и музыке, чувство национальной гордости, скептическое отношение к современному общественному и государственному строю, вера в социалистические утопии, атеизм и сознание чувства долга по отношению к людям при одновременном стремлении ко всему экстравагантному, к какому-то «хулиганству» — вот, в общих чертах, как может быть охарактеризовано тогдашнее «я». Всем положительным я был обязан семье и внешкольным, так сказать, влияниям; всем отрицательным — влиянию, сознательному или бессознательному, современной мне системы обучения и воспитания в классических гимназиях.
Будущее мое «я» зависело, при таких условиях, от многих случайностей, предсказать его с уверенностью, мне кажется, было трудно.
Гимназия наша в пределах даже выпусков моего и моего брата, дала и ряд абсолютно честных тружеников, полезных России, и несколько типов в стиле героев Максима Горького, и людей без всяких принципов и полезной общественной роли, и, наконец, такого нравственного изувера, как комиссар народного просвещения при большевистском режиме Луначарский; зародыши будущего были во всех заложены ещё гимназическим режимом, но развитие их в ту или иную сторону зависело от последующих влияний и в частности от Университета.
Прошло 25 лет и Киевская Императорская Александровская гимназия воспитывала уже в детях действительный, а не казенный, национализм и патриотизм; в ее стенах происходило то, что в мое время было немыслимо: рискуя всем, даже самой жизнью, все воспитанники гимназии продолжали исполнять родной гимн, вплоть до принудительного закрытия гимназии, а мой 14-летний племянник, задумав взорвать пороховые склады большевиков, был пойман и поставлен «к стенке» для расстрела, но затем неожиданно помилован и получил в наказание 25 ударов шомполами.
Новое время сумело воспитать еще в стенах гимназии истинные, а не казенные начала патриотизма. Другой близкий мне юноша — двоюродный брат Сережа, за стойкое исповедывание этих начал, был расстрелян большевиками. В среде сознательной молодежи этого времени уже не было циников, которые не понимали бы «удовольствия» быть битым за идею, за то, что земля вертится».
Так за 25 лет изменились условия гимназического воспитания и жизни.
В университет я, как и все и всегда мало-мальски вдумчивые юноши, с гимназической скамьи, вступал с известной долей какого-то благоговения и надежды, что там, наконец, откроется для нас ряд истин; об упорной систематической работе, о том, что наука двигается вперед чрезвычайно медленно постепенным завоеванием крупиц истины, требует для этого обыкновенных чернорабочих, а не гениев, которые, может быть, раз в век собирают воедино все крупицы, обобщают их и делают выводы, дающие новые теории и системы — об этом всем думалось, конечно, мало. Одним словом романтическое воспитание окрашивало в романтические краски и предстоящие занятия в Университете. Первые лекции в юридическом факультете произвели очень сильное впечатление, начиная от их содержания и кончая такими отличными от гимназических уроков мелочами, как обращение к нам: «милостивые государи», отсутствие вызовов к ответу уроков, серьезная тишина в аудитории во время лекций и т. п.
Вступительную лекцию читал, покойный ныне, Д. И. Пихно; это был известный экономист и публицист, издававший старейшую в Киеве русскую национальную газету «Киевлянин», перешедшую теперь к сыну ее первого учредителя В. В. Шульгину, члену первых трех Государственных Дум и популярному деятелю национальной партии. Д. И. Пихно был внешне плохой лектор; глухой голос, манера тянуть «е-е», пока найдется подходящее выражение мысли, повторение за подлежащим соответственного местоимения, например: «наука „е-е“ она» и т. д. Но все окупалось серьезностью и, главное, искренней любовью к науке профессора. Поэтому, несмотря на «левое» настроение большинства студентов, консерватор Пихно пользовался должным уважением. На первой своей лекции он дал нам понять значение Университета — Universitas litterarum, по сравнению с различными специальными учебными заведениями; здесь, говорил он, читаются все науки; студенты в стенах Университета имеют возможность слушать лекции по любому, интересующему их предмету, а не только по своей специальности, а главное, путем постоянного обмена сведениями и мнениями с товарищами-студентами различных факультетов, расширять свой умственный кругозор. Пихно был прав: ни одно учебное заведение, кроме Университета, не дает больших возможностей к широкому гуманитарному образованию, к выработке цельного миросозерцания; специалисты — технологи, путейцы, электротехники и проч. работают гораздо усерднее и больше, но лучшие из них — обычно проходили раньше через Университет.
Я, воспользовавшись советом Пихно, прослушал ряд лекций на других факультетах, главным образом, на филологическом, предпочтение которому юридического, с моей стороны, весьма огорчило моих гимназических учителей-классиков. Известный славяновед профессор Флоринский, для чего-то расстрелянный теперь большевиками, живо заинтересовал меня славянским вопросом; большой интерес возбуждали во мне также лекции покойного Прахова по истории искусств. Зато две лекции по зоологии, кроме отвращения и скуки, ничего по себе не оставили; это был не мой любимец — живой образный Брем: серьезный, солидный профессор с седой бородой монотонным голосом рассказывал о том, как проявляется половая жизнь у пауков и у морских ежей; для оживления лекции он вдруг, не меняя серьезного выражения лица, жестам и походкой изображал паука, подкрадывающегося к паучихе. Тогда, на этой именно лекции, впервые у меня явилась мысль, впоследствии перешедшая в убеждение и определенное разочарование в методах Университетского преподавания, о бессмысленности дословного, подробного повествования большинством профессоров всего того, что содержится в учебниках.
На юридическом факультете самое сильное впечатление и влияние на нас имели лекции по теории права (в Киеве говорилось «энциклопедии») профессора Ренненкампфа; он был ректором Университета в 80-х годах, при нем произошли серьезные студенческие волнения в Киеве, в его квартире студенты разбили тогда окна, считая его угнетателем свободного студенчества. Такие сведения о том или ином профессоре переходят, по преданию, от одного курса к другому. И вот, несмотря на подобный формуляр Ренненкампфа, первая же его лекция закончилась громом аплодисментов переполненной аудитории; то же повторялось и на всех последующих лекциях, несмотря на просьбы профессора не выражать ему одобрения, так как это запрещено правилами Университета. Удержаться от аплодисментов не было возможности, с такой талантливостью, так захватывающе ярко, ясно и образно преподносил нам профессор различные теории права и государственно-общественного строя. Р. ничего не читал нам из своего небольшого сухого учебника; он предназначался исключительно для того, чтобы вызубрить его к экзамену, на котором Р. ничего другого и не спрашивал, кроме помещенного в учебнике. Это был, так сказать, минимум сведений, обязательный для каждого среднего юриста; максимум, нужный для научного развития, давался на лекциях, каждая группа лекций посвящалась одному философу права, одной теории; были проанализированы даже учения Руссо, Толстого. Вообще Р. подробно останавливался на утопических государственных и общественных течениях. Ему прежде всего был я обязан искоренением во мне увлечения мечтательно-социалистическими идеями. Это для меня и массы моих товарищей было весьма большим приобретением от Университета; мы впервые приучились мыслить и работать положительными научными методами. Сколько я в разное время впоследствии ни читал социалистической литературы, я всегда оставался социалистом постольку, поскольку дело касалось критики современного капиталистического строя, и переставал быть социалистом тотчас же, когда критика переходила к области положительного творчества, к области замены капиталистического строя каким-то другим, неведомым, фантастическим мечтанием, а не осуществимой действительностью. Я чувствую, что был прав уже по одному тому, что через четверть века, после лекции Ренненкампфа, социализму удалось блестяще разрушить Россию, но совершенно не удалось положительное творчество.
Кроме Ренненкампфа, я не пропустил ни одной лекции по истории права профессора Соколовского; это был красивый, с громким голосом, популярный в Киеве спортсмен; однажды он пробовал ходить даже по канату, сломал себе ногу и читал лекции кладя больную забинтованную ногу на кафедру; летом и зимой он ходил в пиджаке без пальто. Учебника его не было. На экзамене он требовал отвечать по записанным самими студентами его лекциям; это приучало быстро схватывать и записывать чужую речь, что впоследствии на службе оказалось весьма полезным при ведении журналов различных совещаний. Живой образный язык Соколовского, умение в каждой лекции дать связную логическую картину из законченной жизни правовых отношений на фоне внешних государственных событий великого народа, все это делало лекции по истории римского права особенно популярными, аудитория всегда была переполнена, меня же эти лекции привлекали еще, вероятно, и потому, что я слышал на них любимый мой язык — латинский.
Крупнейшую научную силу нашего факультета в Киевском Университете представлял знаменитый историк русского права Владимирский-Буданов, но читал лекции он так скучно, таким монотонным голосом, все время покручивая свои длиннейшие, спущенные вниз хохлацкие усы, что невольно на большинство слушателей нападала какая-то непреодолимая сонливость. «Замечаю, что многие спят», сказал однажды этот профессор таким спокойным размеренным, каким-то скандирующим голосом, не меняя тона его по сравнению с прерванным изложением сведений о каком-то древнерусском правовом институте, что только я и несколько студентов сидевших на первой парте, услышали это замечание; остальные продолжали мирно дремать или даже непробудно спать.
Все остальное, что читалось нам на первом курсе юридического факультета, было безнадежно скучно, нудно и даже не нужно, но об этом я буду говорить ниже. И так, увы, подобно гимназии, только отдельные лекции, отдельные преподаватели говорили нам живое, интересное, нужное слово.
Тем не менее, на первом курсе увлечение Университетом и влияние его были сильны. Юноши искали истины, колебались, находили и теряли ее. Не забыть, как циник и бонвиван М. выскочил из физического кабинета, чуть не сбил с ног Володю Ковалевского и радостно-победоносно прокричал ему: «электричество есть?» Тот с недоумением подтвердил этот факт. Тогда М. заявил: «ну, так и Бог есть; ага!»
В такой период времени особенно нужны юношеству те, кто кроме сообщения ему сведений о пауках и ежах, могут способствовать, если не выработке миросозерцания, то указанию путей, какими можно достигнуть этого. Вот почему, по рассказам моего брата, ломились аудитории от слушателей всех факультетов на лекциях, начатых в Киеве, после моего отъезда в Петербург, философом натуралистом Челпановым по философии и этике. Кто не находил, по вине профессоров или по собственному желанию, ответа на крупные вопросы, впадал в инертное состояние и жаждал только скорейшего получения диплома, формально вызубривая все, что по программе полагалось, или увлекался вне учебной деятельностью, подпольной политической, социалистической или украинофильской, ибо она не требовала упорного труда и была живее лекции о ежах.
Мои мысли о перемене факультета возникли под влиянием пристрастия моего к языковедению и так как, кроме лекций Ренненкампфа и Соколовского, все остальное на юридическом факультете казалось мне скучным. В намерении поступить на Восточный факультет меня укреплял мой друг с первых классов гимназии Н. В. Катеринин. Часто, за бутылкой вишневки, мы проводили вечера в его уютной меблированной комнате с балконом на углу Михайловской улицы и красивейшей площади Михайловского Монастыря. «Ну, подумайте, дядя (философствуя, он всегда обращался на «вы»), что нам дает юридический факультет? Уголовное право, гражданское право, полицейское право, финансовой право… все право, да право, ничего для сердца; а кончим мы восточный факультет, все-таки увидим новые страны, людей — китайцев, японцев». Для того, чтобы отрезать себе все пути отступления, К. не пошел даже на экзамены и пода прошение в Петербургский Университет о приеме его на Восточный факультет, я же благоразумно все-таки выдержал благополучно экзамены на второй курс юридического факультета.
Осенью 1894 года, в день Тезоименитства Императора Александра III — 30 августа, я прибыл с бабушкой в Петербург, где прожил и проработал, с небольшими перерывами, двадцать лет.
Город, главным образом, своим поразительно строгим выдержанным стилем, мощностью и красотой Невы с ее гранитными набережными, разноцветными фонариками, отражавшимися в воде многочисленных каналов и вообще нарядным праздничным видом табельного дня, произвел на меня громадное впечатление; с первого же дня я полюбил его, и потребовалось много лет работы, развлечения и усталости, чтобы меня потянуло в провинцию. После Киева Петербург — тоже любимейший мой город в мире. Многие сразу (а иногда и совсем) не замечают красоты нашей столицы; изобилие простых казарменных домов, унылый вид некоторых окраинных улиц, например, в районе Загородного проспекта, недостаток часто солнца скрывают от глаза самое красивое, что есть в Петербурге — его стиль, отсутствие дурного вкуса, мещанской вычурности. Известный художник поляк Семирадский, после долгого отсутствия из России, приехал из Рима в Петербург; у своего друга и однокашника по Академии Художеств П. О. Ковалевского, он часто восторгался Петербургом, изумляясь, как он мог в молодости не замечать художественной стильности этого города; «очевидно», говорил он, «надо развить художественный вкус, чтобы понять красоту Петербурга; в юности я совсем не видел того, что теперь вижу».
В первый же год моего пребывания в столице, мне пришлось видеть ее во всей ее величественной красоте в виду исключительных обстоятельств: похорон Императора Александра III и бракосочетания Александры Федоровны). Стилю Петербурга более, по моему мнению и вкусу, подходи печаль; траурные лампады, с подымающимся к небу черным дымом на фронтонах Александрийского Театре и других зданий, окутанные черным крепом электрические фонари, дававшие мрачное освещение длинным прямым улицам города, какая-то особая тяжелая тишина их — все это действовало на нервы, и несмотря на тогдашнее мое антимонархическое настроение, заставляло чувствовать где-то в глубине души, что в России, для русских, произошло какое-то действительно крупное событие, умер действительно кто-то сильный и мощный, а может быть и нужный России. У здания Городской Думы вывешивались объявления о ходе болезни Александра III; с каждым днем объявления эти делались тревожнее: пульс и дыхание ухудшались; у объявлений толпилось всегда много народа; по дороге в Университет я ежедневно прочитывал их; 21 октября объявление было окружено особенно большой толпой, я не мог его прочесть, но уже знал, что Царь скончался; под вечер я его прочел: «Император Александр III тихо во Бозе почил»; подошел какой-то глубокий старик — отставной фельдфебель, долго читал объявление старческими глазами, вдруг горько зарыдал и опустился на колени.
У меня и моих товарищей было ощущение радости, что в России новый Царь, к котором определенно тогда говорили, как о стороннике либеральных реформ, конституции. Но печаль масс и траурный вид города как-то нарушали эту радость; начинались сомнения, которым, под влиянием последующих событий в моей жизни, суждено было через несколько лет перебросить меня в другой противоположный лагерь, сторонников самодержавия, которые, независимо от той или иной их политической программы, получили, кажется в 1905 году огульное название черносотенцев.
Осеннее торжество Петербурга — бракосочетание молодого Императора, менее, с эстетической стороны, захватывало, чем печальный день похорон его отца. Я был на Невском, по обеим сторонам которого стояли толпы народа. Царь с молодой женой медленно ехал в раззолоченной карете (он, очевидно, и тогда не любил ничего деланного); одной рукой он все время как-то машинально покручивал усы. Изумило меня также, что вдовствующая Императрица Мария Федоровна, следовавшая отдельно тоже в золотой карете, приветствовалась с гораздо большим энтузиазмом, чем молодая чета; к карете бросилась толпа людей, в том числе много студентов, они бежали за ней и кричали «ура»; Царица ласково раскланивалась. У Аничкова дворца, куда проследовал Царь с супругой, начал скопляться весь народ, стоявший по пути его следования; я был общим течением увлечен туда же; полиция, боясь, вероятно, чтобы не было случаев падения в Фонтанку, загородила дальнейший выход от дворца; между тем, не знавшие об этом заграждении, пробирались со всего Невского ко Дворцу; становилось все теснее; за пением гимна и разных русских песен, почему-то, между прочим, и «Дубинушки», крики к подходящим: «повернуть назад», заглушались; дышать было все тяжелее и тяжелее; я чувствовал, как сжимается грудная клетка; видел рядом с собой совершенно бледное лицо В. Ковалевского; видел невероятно растерянное лицо Н. Катеринича; он, типичный полтавский помещик, любитель покоя и тишины, с первых дней возненавидел шумную столицу с ее, необычным для провинции, уличным движением, даже крик кучеров «поди» он принимал, как нечто лично оскорбительное; переходя Невский, он обычно зажмуривал глаза и кидался стремглав в гущу экипажей и пешеходов, как пловец в бурную реку; понятно, что беспорядок, давка, пение, крики и стоны перед Дворцом, привели его в состояние полной растерянности и негодования; я думаю, что это торжество, главным образом, повлияло на его решение вернуться в любимый, в то время очень тихий, Киев. Я выбрался из толпы, постепенно проталкиваясь кверху, по головам ее, и с тех пор получил навсегда отвращение к уличным сборищам; Катеринин или Ковалевский прибегли к моему способу, а другому удалось влезть на фонарь возле дворца, где он заседал до восстановления порядка, когда полиция, наконец, открыла пропуск через Аничков мост на Фонтанке.
Сильное впечатление произвели на меня также похороны А. Г. Рубинштейна; я никогда не мог себе простить, что по приезде в Петербург не пошел на объявленный им концерт; думал, что их будет еще много, успею. И вдруг известие о смерти великого пианиста. Печальная процессия прибыла в Александро-Невскую Лавру, в сопровождении массы народа, только к вечеру. Один архимандрит в полумраке оступился, сходя с высокой могилы, и упал на меня. Затем осталось у могилы только светское общество, и вот откуда-то, в сумерках кладбища, раздалась красивая декламация: «он слышит райские напевы, небесный свет теперь ласкает бесплотный взор его очей».
С первых же дней приезда в Петербург началось хождение мое с бабушкой по музеям, главным образом в Эрмитаж, в ботанический сад и т. п.; бабушка неутомимо сопровождала меня и тетку и давала нам разные объяснения; это было продолжением моего художественного образования, и стало пусто и грустно, когда остался один, а мой старый друг и учитель жизни, с которым я почти никогда до того времени не разлучался, уехала к себе в Китаев, после чего до самой смерти в 1910 году я встречался с нею уже только на каникулах, да при сравнительно редких ее приездах в Петербург на месяц-два; писали мы друг другу еженедельно всю жизнь, часто по-французски для практики в языке.
Петербургский Университет прежде всего удивлял, по сравнению с Киевским, несмотря на более внушительный внешний вид последнего, своею, так сказать, подтянутостью, чистотой не только аудиторий и коридора, тянущегося бесконечно во всю длину Университета — здания бывших Петровских коллегий, но и самих студентов; в отличие от провинциалов, они, большинство, по крайней мере, носили не синие воротники на сюртуках, а темные, иногда почти черные, были более корректны и вообще лучше воспитаны, не плевали, например, на пол, как это практиковалось в грязных коридорах Киевского Университета, в массе говорили на чисто русском языке, здесь не было слышно ни еврейского гортанного говора, ни киевского хохлацко-польского волапюка; здесь уже нельзя было бы Колоколову, который тоже почему-то решил временно сделаться столичным жителем, дразнить «куллег», как говорил он, подражая Киевскому говору, прося их передать «хурчыцю» и т. п.
Аудитории Восточного Факультета помещались в верхней изолированной, какой-то получердачной, пристройке Университета; восточников, особенно на китайско-монгольском отделе, который избрали мы с Катериничем, было очень мало; большинство предпочитало турецко-монгольскую группу. Катериничем овладели сомнения еще до приступа к занятиям; «ведь, знаете ли, дядя, пожалуй, что эта китайская наука здорово трудна будет; ведь подумайте-ка простое слово че-су-ча, а черт его знает, что это может значить», говорил он мне озабоченно, идя в Университет. В вестибюле восточного факультета, на несчастье, а может быть счастье К., было выставлено объявление с темами письменных испытаний для третьего курса китайской группы; требовалось перевести или разобрать критически какое-то сочинение, название которого было чрезвычайно многосложно: «фи-фу-ци-дзы-во» и т. д. читал медленно Катеринич, выражая на лице своем постепенно неподдельный ужас. Перед входом в аудиторию, он с печальной улыбкой проговорил мне только: «Да, попали мы с вами, дядя, в хорошую историйку». Лекция была, кажется, японца Иосибуми-Куроно; я записывал что-то и не заметил, как Катеринич вышел из аудитории до конца лекции. В этот день на других лекциях я больше его не видел, а придя домой, от тетки узнал, что у не был К. веселый, бодрый, так как уже зачислен на первый курс юридического факультета: «помилуйте, говорил он тетке, ведь с этим фу-дзы-пу и т. п., приедешь в Китай и хлеба не сумеешь попросить». И хорошо сделал этот, безумно любивший свою родную Полтавщину, человек, что не оторвался от нее и на родине сделался любимейшим мировым судьей, не столько судя, сколько утешая своих клиентов в различных их личных горестях; любители поговорить и пожаловаться хохлы и евреи, изливали свои души ему, а чтобы он делал будучи оторван от родной обстановки?
Мне восточная филология давалась легко; за 11/2, кажется, месяца я знал уже 600 китайских иероглифов, а для обычной обиходной речи их требуется всего 3500–3000; кажущаяся с первого взгляда трудность изучать всего отдельно начертание каждого слова облегчается впоследствии множеством производных слов и их начертаний: например, зная слово дерево, уже совершенно легко и просто пишешь слово лес, утраивая знак дерева, и т. п. С интересом я слушал лекции по истории востока профессора Веселовского, который в первых своих лекциях очень горячо и настойчиво советовал оставить восточный факультет всем тем, кто не чувствует себя склонным к науке и рассчитывает на какие-то практические выгоды от окончания этого факультета. Отчасти профессор был прав: для службы по ведомству иностранных дел в азиатских странах не требовалось, конечно, окончания специального факультета; язык страны легче всего можно было изучить на месте или в соответственных иностранных миссиях; факультет скорее всего имел, конечно, в виду подготовку ученых ориенталистов. Однако, все это было верное лишь отчасти; я впоследствии встречал нескольких весьма дельных наших консулов в Японии, получивших образование именно на восточном факультете, после окончания, большей частью, духовных семинарий; в дипломатическое ведомство их не пропускали; там требовались и связи и внешний светский лоск (держался даже, так сказать, экзамен по хорошим манерам), но ведь и консульская служба в восточных странах была и занимательна, и ответственна. Вообще на Восток, на Азию в русских учебных заведениях обращалось сравнительно мало внимания только по недоразумению, потому, что наши программы копировались с западноевропейских; мы больше знали о каком-нибудь Фридрихе-Барбароссе, чем о современных Китае и Японии, наших главнейших и важнейших соседях. О невежестве правительства и общества в дальневосточных делах, мне придется говорить подробно ниже в моих служебных воспоминаниях. После речей профессора Веселовского ряды наши редели.
С большими знаниями и умением заинтересовать, читал свои лекции знаменитый монголовед проф. Позднеев; тоже поверхностная кажущаяся трудность монгольского письма сверху вниз и с краев на лево, быстро преодолевались после первых же десяти-пятнадцати уроков.
Тем не менее, несмотря на легкость изучения и интерес к восточным лекциям, и я стал жертвой сомнения и уговариваний выбрать более живое дело, чем азиатская филология. Многие из моих Киевских товарищей, в особенности будущий адвокат А. А. Кистяковский, горячо убеждали меня вернуться на юридический факультет, говоря мне, что теряя время на зубрение азиатских языков, я отстану по развитию от других, к концу Университета буду невеждой и даже идиотом, за неимением времени для чтения. Меня увлекали на юридические лекции, я услышал действительно блестящие по логике сообщения государствоведа Коркунова и образные по форме изложения высоко-содержательные лекции знаменитого историка русского права Сергеевича. Я не сообразил тогда, что все заинтересовавшие меня дисциплины входят и в программу Восточного факультета (кроме истории русского права), где читалось государственное и международное право, что юридический факультет, в конце концов, львиную долю уделяет уголовному и гражданскому праву, имея, по-видимому, в виду, главным образом, готовить будущих судебных деятелей. Очень искренние и горячие указания на будущий мой идиотизм привели меня поэтому к решению бросить восточный факультет. С большими затруднениями я был принят на второй курс юридического факультета; ректор, впоследствии академик, Никитин противился моему переведу и настаивал на возвращении моем в Киев, так как тогда действительно практиковалось провинциальными студентами, желавшими перейти в столичный университет, зачисление на восточный факультет, имевшийся только в Петербурге, если не считать специального Лазаревского Института восточных языков в Москве.
Коркунов имел на меня громадное влияние, явившееся прямым продолжением того переворота в моих утопических взглядах, который начался в Киеве под влиянием лекций Ренненкампфа. Я познал и почувствовал всю сложность государственного организма, понял с какой осторожностью, во избежание катастрофического разрушения, надо подходить к перестройке форм, складывавшихся веками, над которыми думал и работал ряд великих умов человечества.
Одним словом, от анархических и социалистических начал, усвоенных в гимназии, я переходил к либерально-эволюционным взглядам, покоившимся на основе положительной науки. Тогда много шума в научных кругах наделала докторская диссертация Коркунова на тему «Указ и Закон». Выступавший в числе оппонентов, проф. Сергеевич заявил, что он прочел работу Коркунова и не мог найти ни одного возражения, прочел во второй раз и им овладели некоторые сомнения, прочел в третий раз и только тогда понял, что Коркунов совершенно не прав; такова сила его логики. Не удивительно, что для меня Коркунов был непогрешим во всех его взглядах.
Но, к сожалению, Коркунов и Сергеевич, если не считать отдельных лекций некоторых других профессоров, оказались и в Петербургском Университете исключениями. Уголовное право читалось при мне выдающимися криминологами Сергеевским и Фойницким, но этот предмет никогда не мог меня сильно заинтересовать и увлечь. Международное право читал пользовавшийся большой известностью в своей области проф. Мартенс; профессором гражданского права был чрезвычайно живой, во французском стиле, проф. Дювернуа, в темные петербургские утра, приветствовавший обычно аудиторию словами: «добрый вечер, господа». Подавляющее большинство профессоров читало скучно, нудно свои собственные учебники, некоторые с красивыми ораторскими приемами, например, экономист Исаев, другие, не имея абсолютно никаких данных для публичных выступлений, например «мекавший» и тянущий речь финансист Ходский. Но даже те, кто красиво излагал лекции, как Исаев, возбуждали во мне недоумение, для чего нужно им собирать нас, чтобы с чувством поизносить такие труизмы, что «труд, милостивые государи, бывает производителен только тогда, когда он интересен» и т. д. и т. д. — все эти общие места ученической политической экономии, нужны для логической связи основных положений учебника, но ведь всякому давно известно, обычно прочтенные еще на гимназической скамье. Я, кончив юридический факультет, так до сих пор и не в силах понять системы университетского преподавания; в ней, несомненно, кроется какой-то органический недостаток, в ней нет «духа живого». Думаю, если бы каждый профессор ограничивался сравнительно кратким введением в науку, знакомил только с ее целями и методами, предлагал студентам записать библиографию и дома прочесть такие-то и такие-то труды, а затем брал какой-нибудь один отдел или даже вопрос, ну, например, нашумевший в свое время, о выгодности для крестьян низких или высоких цен на урожай или, шире даже, о каптале по Марксу, и научно подробно разрабатывал перед слушателями этот вопрос, вместо дословного повторения экзаменационного учебника, несомненно слушатели его с гораздо большим вниманием относились бы к лекциям и нагляднее усваивали бы методы научной работы. Этой системы и с блестящим успехом придерживался, как я говорил, проф. Ренненкампф.
Кроме того, что меня поражало в программе юридического факультета и что также до сего времени остается для меня непонятным — это почти полное отсутствие изучения тех правовых норм, того правового строя, которые относились к главной массе русского населения — крестьянам; условия их освобождения от крепостной зависимости, землеустройства, переселения, волостного суда — об этом в стенах Университета или ничего не говорилось, или говорилось вскользь. Когда я уже был относительно пожилым человеком, впервые появился научно отработанный, хотя и под партийным углом зрения (кадетской партии) учебник Крестьянского права, составленный б[ывшим] правителем канцелярии Киевского генерал-губернатора Леонтьевым; научные звания были даны, затем б[ывшему] ревизору землеустройства А. А. Кауфману за его работу «Переселение и колонизация» (он, будучи уволен от службы в Министерстве Земледелия, получил за старую его работу сразу степень доктора политической экономии) и профессору Киевского Университета А. Д. Билимовичу, темой своей магистерской диссертации избравшему столыпинские землеустроительные реформы.
Над всеми предметами, как я говорил уже, преобладали на юридическом факультете судебные науки; это тоже неправильно; не все ведь готовятся к адвокатуре и магистратуре суда. Ясно, что юридический факультет должен был бы иметь два отделения, чтобы дать возможность выделить группу, не желающую специализироваться по уголовщине или вообще судебной работе. Почему для получения диплома 1-ой степени требовалось иметь отличные отметки по уголовному и гражданскому праву, а не по государственному? Ясно, что мы имели не юридический, а судебный факультет, подобно училищу Правоведения.
Наиболее всегда интересующая студентов практические занятия были в мое время весьма редки; я припоминаю чтение в Киевском Университете источников римского права, да некоторые рефераты по политической экономии и в Петербургском — разбор судебных дел, который приват-доцент Тимофеев обставлял, как настоящие судебные заседания, с участием присяжных заседателей, прокурора и защитника. Такие занятия очень полезны; так как приучают студентов говорить публично и владеть собою при возражениях за время пребывания в Университете, многие, живя скромной замкнутой жизнью и не бывая в обществе, совершенно отвыкают говорить, так как им не приходится даже отвечать публично уроков, как в гимназии; на экзаменах конфузятся, теряются. А между тем, для юриста, умение говорить и спокойная находчивость — обязательное условие его профессии. На одном из процессов, устроенных Тимофеевым, защитник, обращаясь к присяжным, закончил свою речь словами Сталь: «все понять — все простить». Обвинитель подхватил эти слова и во второй своей речи, заявил, что он всецело разделяет мысль госпожи Сталь, но так как из речи защитника понять ничего нельзя было, то ясно, что и о прощении не может быть и речи. Защитник счел этот выпад за личное оскорбление; студентов пришлось мирить. Нет сомнения, что лучше на университетской еще скамье приучить к спокойствию в подобных случаях, к умению на остроту ответить остротой, а не раздражением.
Итак, в общем, я должен признать, что Университет, если далеко не в той мере, как гимназия, все-таки в учебном отношении значительно разочаровал меня, в особенности недостатком в его программе и методах живых национальных начал.
Что касается, так сказать, внеучебной части университетской жизни, то часто бывшие студенты вспоминают об этом с большой любовью, в роде того, как институтки о своих подругах, увлечениях и т. п. Я же лично мои впечатления от этой стороны студенческой жизни могу определить только, как самые отрицательны: сходки, манифестации, кружки — все это возбуждало во мне неизменно отвращение, очевидно, как просто органически мне чуждое.
Знакомство мое с кружковщиной началось еще в гимназии; как-то, поздно вечером раздался звонок и ко мне ворвался экспансивный мой приятель — еврей, бывший тогда в художественном училище. Что слупилось, спросил я. «Ну-у, ты знаешь, где я был сегодня?» начал он, захлебываясь, и назвал один студенческий кружок. «И ты знаешь, что я узнал там? Я узнал, что нет Бога!» Он очень был недоволен, что я с полным спокойствием отнесся к этой неожиданной новости, заявив ему, что для меня в этом ничего нового нет, но настоял все-таки на том, чтобы я познакомился с председателем кружка, так как он, мол, очень заинтересовался мною, узнав, что я абитуриент, т. е. в этом году кончаю гимназию. Через несколько дней знакомство состоялось, председатель отнесся ко мне не без покровительственной важности; осведомился какой я выбрал факультет, сознательно ли сделал выбор и, слово за слово, я вдруг во всем нашел собеседование, почувствовал что-то знакомое, не внешнее, но по духу, по тому настроению, которое мною овладело; у меня перед мысленным моим взором начала вырисовываться фигура, манера говорить гимназического законоучителя; ханжеством, лицемерием, мертвой схоластикой, а не живым словом повеяло на меня. «Ну, что, каков?» восторженно обратился экспансивный мой приятель, по уходе нового «учителя». Я грубо выругался, и добрый П. пытался объяснить это мое настроение завистью. Сколько потом, в стенах Университета ни встречал я разных председателей, представителей, старост и т. п., я не мог отделаться от впечатления какой-то внешней елейности, благонамеренности с точки зрения известной партийности и того, что я больше всего всегда ненавидел в жизни — шаблонности, соединенной с лицемерием. Одна и та же манера говорить, один и тот же внешний вид как в сравнительно серьезных случаях, так и при такой, например, мелочи, как обращение к обедающим в студенческой столовой: «реагировать на происшедшее несчастие: у одного из посетителей украли пальто по недосмотру швейцара; бедняку угрожает вычет из жалования; он надеется на нашу помощь». Все это произносится как-то аккуратненько, с спущенными вниз глазами, со скромностью, свойственным честным, благородным юношам, и, кажется, вот-вот услышишь сейчас гимназическое: «деточки, побеседуем сегодня на тему…»
Все, что не подходило, хотя бы по внешнему виду, к «утвержденного образца» форме, вызывало какой-то нетерпимый гнев. Мой товарищ-циник К., возбуждавший, своей манерой говорить, отвращение в гимназическом законоучителе, встретил такой же прием и на студенческой сходке. Почему он, вопреки своему эгоистическому квиетизму, вдруг решил принять участие в общественном деле, я не помню; когда он взошел на кафедру, он произнес только одно слово «товарищи, я…»; сразу же раздались крики «Долой, долой» — только за манеру его говорить; он успел прокричать с кафедры совершенно спокойным тоном: «ну, так и…» далее общее упоминание родительниц всех присутствующих — это было гадко, но как нарушение шаблона, как протест против удушающей благонамеренности, приветствовалось всей здоровой, живой и жизнерадостной частью молодежи. Любитель комического оживления общества и враг пошлой скуки Колоколов неизменно посещал лекции 19 февраля, которые, несмотря на постоянные протесты студентов, читались по какому-то странному упорству учебного начальства, в этот великий для России день; лекции посещались двумя-тремя студентами; во время чтения лекций в коридоре шумели, таранили чем-нибудь дверь аудитории и т. д.; по выходе же профессора и слушателей из аудитории, им приходилось проходить через шеренги студентов, свиставших по, мене прохождения мимо них «виновных» лиц; Колоколов, гордо подняв голову в сознании исполненного долга, с невероятными гримасами раскланивался направо и налево и приговаривал бессмысленно «ну, и товарищи, ну и куллеги». «Образцовые» представители и старосты страшно негодовали на эти выходки К., моя же компания радовалась по поводу его смелости, не смотря на наше несочувствие чтению лекций в день 19 февраля.
Различные манифестации на улицах сопровождались обычно таким тупым озверением лиц у вожаков, такими грязными ругательствами, что уже одна внешняя стороны их возбуждала отвращение.
Оскорбляло меня, так называемое, «передовое» студенчество, в котором сильно было влияние инородческого элемента, также в развитом во мне и никогда не изменявшем чувстве национализма; последний считался, с точки зрения интернациональных задач молодежи, чем-то в роде дурного тога, а для окраинной нашей молодежи, по крайней ее непоследовательности, представлялся враждебным именно национальным стремлениям окраин.
Как-то раз, знакомый студент-поляк из Варшавы, протянул мне книгу журнала «Русское Богатство» и с улыбкой сказал: «оказывается, прекрасный журнал, кто бы мог подумать, судя по названию?»
Не останавливаясь на дальнейших подробностях, могу сказать одно, что студенческие организации сыграли для меня такую же роль, как гимназический формализм и лицемерие; гимназии я обязан был отвращением от религии и власти, студенчеству — от какого бы то ни было политиканствующего, в особенности утопического, либерализма, от партийной предвзятости. Думаю, что отчасти из духа противоречия, отчасти от оскорбления во мне моего национального и эстетического чувства, возненавидел я в конце концов все вообще чаяния студенчества, включительно даже до такой мелочи, как требование разных сходок о «допущении женщин в университеты», кстати сказать, переполненные в то время сверх всякой нормы, и т. п.
Одновременно у меня начало развиваться обожание молодого Императора, в духе описанного Толстым преклонения молодого графа Ростова перед Александром I. Царь тогда свободно гулял по улицам, его иногда окружала толпа; раз, провожая Алису Гессенскую из Аничкова дворца во дворец В. Князя Сергея Александровича, он был так оттеснен толпой, что просил «дать ему возможность довести домой его невесту». Однажды, я с одним товарищем стоял на Дворцовом мосту в ожидании проезда экипажей, когда медленно почти рядом с нами проехал Государь в маленьких открытых санках; мой бравый товарищ как-то испуганно и молодцевато вытянулся и взял под козырек, а когда Государь проехал, фатовато заявил мне: «как досадно, так близко, будь револьвер можно было бы убить тут же». Мне стало противно и я, именно, кажется, с этого дня начал смотреть на Царя какими-то иными глазами, видя в нем того Представителя России, которого надо беречь, который каждый день рискует жизнью, за то, что родился ее Представителем.
Пощечина, данная на экзамене каким-то студентом 2-го курса моему любимцу Коркунову, в то время, когда я держал выпускные экзамены, сильно тоже повлияла на меня; студент три раза тянул билет и ни разу ничего не мог ответить. Коркунов вскоре после этого стал болеть нервным расстройством, приведшим его к безумию, а затем к могиле.
К концу четвертого курса я был уже консервативных политических убеждений и предполагал выбрать себе военную карьеру, либо служить по Министерству Внутренних Дел.
Что касается моей частной жизни в Петербурге, то она, как и в Киеве, была заполнена, главным образом, театрами и отчасти, товарищескими кутежами.
В опере тогда были такие певцы, как М. и Н. Фигнеры, Л. Яковлев, Тартаков, Долина, Славина, Больска и др.; попасть в Мариинский театр стоило больших трудов; первые годы приходилось даже заказывать билеты по почте, так как в кассах они не продавались. Самая обстановка Императорского театра не имела той простоты и уюта, к которым мы привыкли в провинции. Первое же или одно из первых наших появлений в нарядном Мариинском театре вызвало нападение на нас театральной полиции. Давали оперу «Ромео и Джульетта», в которой так незабвенно ярок был Н. Н. Фигнер. Я слышал и до него и после него довольно много певцов с лучшими головами, но ни одного, который мог бы изгладить в моей памяти особую «Фигнеровскую» манеру произносить каждую мелкую, у других незаметную, музыкальную фразу. «Друг мой милый», зовет ночью под балконом Ромео-Фигнер Джульетту, и в этих трех словах столько нежности, сдержанной страсти и какого-то особого настроение южной ночи, что не можешь себе дать отчета, какими артистическими средствами достигается столь сложный художественный эффект. А крик Фигнера в последнем акте в склепе: «жива моя Джульетта» — как в нем были смешаны и радость, и испуг! Я десятки раз слышал Аиду до Фигнера, но впервые от него узнал красивую, обычно заглушаемую хором и оркестром; «о эти слезы из глаз драгоценных», в картине триумфа Радамеса. «Что значат эти слезы?», говорит Герман в «Пиковой Даме», когда происходит сцена объяснения его с Лизой; опять-таки, только у Фигнера тонко передавалось одновременное и изумление, и радость. Фра-Диаволо-Фигнер, только он умел таким смешанным тоном сомнения и надежды, спускаясь с гор, среди которых ждала его засада, спрашивать «Пеппо, ты один?» И много-много других драгоценнейших миниатюр оставил этот славный артист-певец в памяти тех, кто умел насладиться музыкальной драмой. Само собою разумеется, что наша Киевская компания, под впечатление Фигнера и роскошной, по сравнению с провинциальной, обстановкой Мариинской… сцены, мощного оркестра под управлением Направника и столь же мощного хора, находилась все время в приподнятом настроении; мы были не на излюбленной нами галерее, куда достать билеты можно было только с величайшим трудом, а в ложе, чуть ли не шикарного бельэтажа. Наши обычные киевские крики, уже сами по себе не могли не шокировать столичной публики, а тут еще Колоколов с его страшно пронзительным голосом и невероятными гримасами. После сцены в саду, где стража Капулетти, ищет с фонарями пробравшегося на свидание Ромео, главу каковой стражи изображал бас Майборода в каком-то то зловеще красном плаще, Колоколов неистовым голосом начал вопить «Июнь-усы», переделав так тотчас же фамилию «Майборода». В ложе появилась полиция; К. уверял, что он после России не видел еще такого артиста, как «Июнь-усы», смиренно извинялся, что перепутал немного месяцы и бороду с усами и т. п., но все-таки пришлось в дальнейшем сидеть тихо и прилично, во избежание изгнания.
Вообще, Императорские театры, давая очень много в эстетическом отношении, никогда, по интимной теплоте и живой связи молодежи со сценой, не могли для нас заменить родного Киевского театра.
Чтобы не возвращаться более в моих записках к музыке и театру, я должен упомянуть, что в мое время и драматический театр Петербурга — Александринский, изобиловал первоклассными талантами, а потому на всю жизнь оставил по себе самую теплую память, соединенную с горячей благодарностью. Варламов, Давыдов, Сазонов, Савина, Дальский, Стрельская, а позже Комиссаржевская — были украшением этого театра; в исполнении русских классиков, в особенности Островского, ими достигалась величайшая художественная простота и естественность. Представить себе, например, Петербург моего времени без дяди Кости Варламова, было как-то совершенно невозможно; самое появление его на улице, самая простая фраза, сказанная им, вызывали уже добрый жизнерадостный смех; помню, как, проходя мимо Александрийского театра, я часто видел Варламова, выходившего из театра, после репетиции: «извозчик, подавай-ка» раздавался на всю площадь его ласковый чисто-русский голос, и все проходившие мимо невольно весело улыбались.
Ярче всего в моей эстетической памяти сохранилось почему-то исполнение Тургеневского «Завтрака у предводителя дворянства». Неподражаем в этой пьеске был Сазонов; появлялся очень скромный, благовоспитанный полковник в отставке, почтительно просил предводителя, как отца дворян, заступиться за него по делу о каком-то пропавшем баране; со скромной готовностью затем соглашался, по предложению предводителя, принять участие в разборе земельной распри между соседними помещиками — братом и сестрой, и вот, по мере тупого упорства последний… из кроткого человека постепенно преображался в раздражительного грубияна, кончающего исступленным криком на «упрямую бабу»; удивительно тонко была отделана эта роль у вообще поразительного по своему разнообразию Сазонова.
Постепенно сходили в могилу великие таланты Александрийского театра, и о смерти каждого из них узнавалось, как о смерти какого-то близкого человека; теперь один только старец Давыдов, величайший комик русского театра, заканчивает свою жизнь на большевистской сцене большого Императорского театра.
В Петербурге к оперному и драматическому искусству добавилось для меня еще наслаждение симфоническими концертами и балетом. В Киеве симфонические собрания были тогда сравнительно редки; дирижировал ими весьма талантливый и невероятно живой, по его темпераменту, Виноградский, управляющий Киевским отделением Государственного банка. В столице мне пришлось, конечно, слышать очень много первоклассных дирижеров, как иностранцев, так и русских, но в особенности памятны мне и дороги по полученным впечатлениям, так называемые «Беляевские» концерты, на которых исполнялись новые произведения членов «могучей кучки», часто под управлением самих авторов: Римского-Корсакова, Лядова, Глазунова, Кюи и др. Концерты эти тогда еще не были в моде; абонемент на хорах Дворянского Собрания стоил, кажется, рубля четыре, если не дешевле; громадный зал Собрания почти пустовал; я и злился на косность нашей публики, и радовался, что имею возможность с такими удобствами, не в обычной духоте и толкотне, слушать произведения наших великих композиторов, да еще и видеть их самих. Тогда впервые я познакомился довольно хорошо с русской симфонической музыкой, в частности, с замечательными симфониями Танеева, рассказы о котором моей матери слышал еще в детстве; его опера «Орестея», как показалось мне, выдающейся красоты, в которой впервые выделился мощный тенор Ершова, приобретший затем славу в операх Вагнера, прошла на Мариинской сцене почему-то раза два-три и больше никогда не возобновлялась; между тем, насколько я помню, музыка Танеева необыкновенно красиво гармонировала с сюжетами древнегреческой трагедии; как шедевры, остались у меня в памяти, сцены мрачных предсказаний Кассандры и преследования Ореста эринниями — угрызениями совести. Почему Каменный Гость и Орестея нигде никогда не исполняются — я решительно не могу понять.
Вагнер, к которому столичные наши театралы относились в начале весьма скептически или как к какому-то скучному курьезу, стал потом очень популярен и понятен. «Кольцо Нибелунгов» — это величайшей красоты музыкально-драматическое произведение, давалось в последние годы уже ежегодно в течение всего Великого Поста, при заранее распроданном абонементе. То же произошло и с концертами «кучки», на которые впоследствии все билеты распродавались заблаговременно. А в мое молодое время бывали такие, например, курьезы: приезжает в столицу из Одессы бывшая оперная певица, известная на юге учительница пения; по просьбе моей матери, я взял на себя роль чичероне этой артистки; сопровождал ее в театры; между прочим, были мы на «Майской ночи» Римского; она очень изумилась, что им написана такая «милая» опера и кстати рассказала, что он приезжал в Одессу, причем фамилия его, как директора, печаталась жирным шрифтом, как какой-нибудь знаменитости, хотя «у нас», говорила эта учительница пения, «никто о нем ничего никогда не слышал; нас это возмущало, а между тем он, действительно, оказывается, пишет оперы». Таково было тогда музыкальное невежество; впрочем Одесса и одесситы в этом отношении особенно всегда славились, в виду космополитического населения этого города.
К балету, этому изящнейшему сочетанию пластики с музыкой, я привыкал, как я уже говорил ранее, постепенно, но в конце концов сделался страстным балетоманом. Я был на всех почти первых ученических дебютах будущих мировых звезд: Павловой II, Карсавиной и др. и гордился тем, что сразу же предсказывал им блестящую их карьеру. Лучшего сложения, большей красоты тела при пропорциональном развитии всех частей его без утрированной безобразной мускулатуры цирковых борцов, нельзя себе представить, чем на сцене наших Императорских балетов. Такие группы, такие отдельные скульптурные движения, как давали Гердт, Легаты, Кякшт и др. доступны только первоклассным произведениям знаменитых скульпторов.
Менее я интересовался выставками картин, хотя и жил долго в Академии Художеств, в семье художника. Там мало было действительно захватывающего; отдельные шедевры подавлялись обычно массой утомительно-шаблонных произведений. Только выставка картин Нестерова, да Всероссийская портретная выставка, дали мне впечатление равное тому, которое я получал от музыки. Пресса выставку Нестерова назвала торжеством «правых». Это действительно была по духу национальнейшая выставка: девушка на Волге с задумчивым русским лицом в платке, на холме, внизу река, ночные огоньки на пароходе; затем, Соловецкий монастырь; наш северный пейзаж в сотнях разнообразных поэтичнейших образцов, наконец, знаменитая «Святая Русь», где холмы, березки, люди — самые настоящие русские и Христос в сиянии — такой именно, каким привык его представлять себе народ, как пишут его на иконах — все это было национально до гениальности. На портретной выставке, занявшей все залы Таврического дворца — будущей Государственной Думы — были собраны тысячи русских портретов; здесь были и Петр Великий, и Мазепа, семейные портреты наших Императоров — проходила в лицах вся история России. То же было очень красиво и национально.
Государственные экзамены держал я весной 1897 года. Председателем Испытательной Комиссии был профессор финансового права в Харьковском Университете Алексеенко, будущий председатель бюджетной комиссии в Государственной Думе. Своей простотой, приветливостью и беспристрастностью, он приобрел большую любовь среди экзаменующихся. Один мой знакомый студент, встретив А. в коридоре Университета перед экзаменом, и не знал еще в лицо председателя экзаменационной комиссии, разговорился с ним, охарактеризовал некоторых из экзаменаторов словом «сволочь» и в заключение заявил, что вся его надежда на одного Алексеенко. Когда он его потом увидел за председательским местом в актовом зале, он так смутился, что отложил свои экзамены на год.
Грозой на экзаменах считались профессора уголовного права Сергеевский и Фойницкий; у каждого была своя манера экзаменовать; первый задавал разные вопросы, что называется, выпытывая, расспрашивал, чтобы судить об общем развитии студента; второй предоставлял, молча во все время ответа говорить студенту все что он знает по билету и затем, ничего не говоря экзаменующемуся ставил отметку. Я сам видел, как один студент очень бойко и долго без запинки говорил Фойницкому на тему вытянутого им билета; я был уверен, что он выдержал экзамен, а оказалось, что профессор поставил ему «неудовлетворительно». В зависимости от вкуса и наклонностей студентов, одни стремились попасть к Сергеевскому, другие к Фойницкому. Мне было безразлично, и я попал в очередь к Сергеевскому; я сделал какую-то ошибку, но ловко, путем софизмов, из нее вывернулся. Сегеевский мрачно заметил мне, что мое остроумие следует приберечь для гостиных разговоров с дамами, но поставил мне все-таки «весьма», что подтверждает мое мнение о нем, как о профессоре, прежде всего дорожившим не зубрением студента, а общим его развитием.
Я получил в итоге столько же отметок «весьма», сколько удовлетворительно, что давало право на диплом первой степени; на одно «весьма» меньше, и я имел бы диплом второй степени. Объявляя о результатах экзаменов, Алексеенко, с улыбкой читая мои отметки, заметил: «затрачено сил ровно столько, чтобы получить первую степень; ни на одну единицу больше». Страшный вздор я нес только по церковному праву, вытянув билет, совершенно мне неизвестный. Протоиерей Горчаков, не выносивший инородческих фамилий, и после того, как я, по собственному выбору, рассказал бракоразводный процесс, заявил: «ах досадно, такая хороша фамилия, а «весьма» поставить невозможно», Алексеенко же добавил: «это потому, что я вчера видел его уже в Аквариуме».
Никакой особой радости от окончания Университета, в особенности, конечно, сколько-нибудь похожей на впечатление выхода из гимназии, я не испытал; было просто чисто физическое удовольствие отдыха, после экзаменационного утомления, довольно сильного, так как в мое время на третьем курсе юридического факультета, никаких экзаменов не было, кроме одной письменной работы по избранному самим студентом предмету, главная же масса предметов относилась к выпускным «государственным» экзаменам; приходилось при выпуске держать уголовное и гражданское право, уголовный и гражданский процесс, римское, международное, полицейское, торговое, финансовое и церковное право, а также и один письменный экзамен не помню по какому именно предмету. Хотя я занимался и среди года, не откладывая всего к концу его, как поступали очень многие студенты-юристы, но все же зубрить приходилось достаточно.
Студенческая жизнь сама по себе была так свободна, столь мало стеснена какими-либо формальностями, присущими гимназиям, что радоваться окончанию этой жизни было, очевидно, нечего; над всем преобладало сознание, что юношеский период жизни закончен и что наступает пора какой-то долгой, на несколько десятков лет, работы.
Тем не менее, когда я переехал в Киев, где должен был отбывать воинскую повинность, я почувствовал себя на такой свободе, какой я никогда в жизни более не испытывал. У меня обнаружился серьезный дефект правого глаза (неправильный астигматизм), и не только мои планы относительно поступления на военную службу отпали, но даже и отбытие воинской повинности являлось для меня не обязательным; процедура освидетельствования и зачисления в ратники ополчения 2-го разряда, заняла все-таки несколько месяцев. Я решил не терять времени зря и готовиться к магистрантскому экзамену по излюбленному мною государственному праву. На этой почве состоялось домашнее знакомство мое с заслуженным профессором Романовичем-Славотинским; от него началось во мне, оставшееся на всю жизнь, преклонение перед памятью не оцененного историей Императора Николая I. Профессор в то время уже заметно дряхлел, и, по свойству стариков, отчетливо хранил в памяти далекое прошлое, забывая ближайшие события. Иногда, уйдя, после обеда, отдохнуть, он выходил к чаю, дружески приветствовал меня и удивлялся, что я так долго у них не был, совершенно забывая о нашем обеденном разговоре. Хорошей патриархальной чисто русской семьей было супружество Романовичей, такое же уютное, как их одноэтажной особнячок на Мариинско-Благовещенской улице с прелестным палисадником на улицу. Из таких особняков с палисадниками состояли в то время очень многие тихие улицы Киева; это давало им вид веселого сада; теперь на их месте безобразные громады «коммерческих» домов, преимущественно безвкусно вычурной еврейской архитектуры.
Но как я ни интересовался государственным правом, а живая жизнь была сильнее его, притягательнее, особенно при неискоренимой наклонности моей ко всякого рода приключениям и наличности в Киеве многих старых друзей. Начались различные экскурсии в окрестности Киева, сопровождавшиеся служением Бахусу, начались различные веселые похождения и в пределах города. Произошел даже ряд скандалов, финалом коих явилось разбирательство делу мирового судьи — популярного в Киеве, в особенности среди студентов, Бухгольца, близкого друга генерал-губернатора Драгомирова. Через Бухгольца прошел ряд студенческих поколений. Одно дело послужило даже темой для водевиля, написанного участником события. Студент Ч., теперь не безызвестный профессор, по натуре своей хитрый, жизнерадостный хохол, решил, не знаю по каким причинам, повести на один скандальный студенческий процесс к Бухгольцу своих знакомых девиц, в том числе и предмет своего увлечения, кажется, даже невесту. При допросе свидетелей, толстая содержательница одного из веселых домиков Киева начала жаловаться на безобразное поведение обвиняемых студентов в ее «заведении»; «вот», добавила она к своим ламентациям, «студент Ч. здесь в публике; он ведь тоже частый мой гость, а почему его никто ни в чем не обвиняет? Потому, что он всегда держит себя прилично». Говорили, что Ч., несмотря на свою большую голову и вихры, весь как-то, при этом помазании, скрылся в студенческом воротнике.
Один из самых близких моих друзей, Сережа Кистяковский, весьма серьезно занимавшийся медициной, в кутежные периоды, особенно был неудержим. В нашей компании он отличался каким-то утрированным инфантилизмом и ненавистью к дамам, так называемого, общества. Он был очень интересен по наружности, не так красив, как другой друг мой — его брат Леонид любимец Киевских дам, никогда, однако, не впадавший в пошлый дон-жуанизм, но интереснее Л. мужественностью своих черт. Он тем более привлекал внимание дам, что бы недоступен; в бытность его еще в гимназии, какая-то гимназистка держала пари, что поцелует его на улице; оригиналка эта, действительно, осуществила свое намерение, но подверглась тем же последствиям, как и гр. Нулин. Когда С. упрекали в грубости, хамстве, он спокойно отвечал: «равноправие — так равноправие». Человек этот по энергии, способностям и неуравновешенности, был совершенно незаурядный. Он, подобно В. Ковалевскому, пошел во флот, пробыл в Порт-Артуре все время его осады; очевидцы рассказывали мне о его необычайной храбрости: раз пришлось ему пойти с корабля в больницу в то время, когда по узкой тропинке разрывались в разных местах японские снаряды; все советовали ему переждать сильный огонь; он махнул рукой, сказал, что на войне на это нельзя обращать внимания и, к ужасу присутствующих, пошел, при чем видны были все время разрывы то за ним, то перед ним. На мои расспросы об этом эпизоде в Петербурге, он отвечал неохотно и очень кратко: «было очень страшно». Погиб он, как и Ковалевский, в Гельсингфорсе, во время большевизма.
Так вот, на какой-то выставке, между одним из наших товарищей, очень грубым типом, и какой-то польской четой супругов, произошло столкновение; студент обратился к супруге с каким-то циничным предложением, была вызвана полиция, началось составление протокола; супруг-поляк оказался большим формалистом: ломанным русским языком он требовал занесения в протокол дословных выражений оскорбителя; мы принимали в деле участие в качестве свидетелей; вдруг Сережа, к тому времени уже хорошо позавтракавший, озверел, напал на поляка за искажение им русских, кстати сказать, совершенно неприличных, слов, и, в конце концов, обвинил его в призыве к мятежу против России; возникло новое дело по обвинению нас, ибо мы все решили поддержать С., в оскорблении национальных чувств поляка, чуть ли не оклеветали его и т. д. Дело поступило к Бухгольцу. С. на другой день, раскаиваясь в своем поступке, который находился в полном противоречии с его гуманитарными взглядами и присущей ему вообще деликатностью, заперся, по своему, в квартире, где он сам, в виде покаяния, мыл ежедневно полы, ползая на четвереньках, неделю, иногда больше.
С течением времени, занятия мои государственным правом уменьшались, а кутежи усиливались.
Вернул меня к порядку — дог. Однажды, не совсем твердой походкой, возвращался я домой; был первый снег, образовавший гололедицу. На Пушкинской улице я повстречался с удивительно симпатичным молодым догом; я его погладил, он радостно подпрыгнул и положил мне лапы на плечи; я поскользнулся и сел на тротуар; дог окончательно развеселился и начал со мною продолжительные игры, закончившиеся уже не на тротуаре, а посреди улицы; малейшая моя попытка встать кончалась, к величайшей радости дога и проходящей публики, прочным сидением на грязной мостовой.
Такие эпизоды заставили меня задуматься над Киевской моей системой подготовки к магистрантскому экзамену и ускорить возвращение в столицу, где я решил зачисляться на службу по Министерству Внутренних Дел.
В это время моя бабушка гостила у знакомых ее в Петербурге и писала мне, что И. Н. Дурново, бывший тогда Председателем Комитета Министров, ее старый близкий знакомый, советует мне поступить в Переселенческое Управление; это учреждение только что было тогда сформировано и считалось в бюрократических кругах модным. Я вооружился энциклопедическим словарем, почел несколько статей о Сибири и та испугался мысли об отъезде в холодные далекие страны, о разлуке с близкими людьми, друзьями, с Петербургом Киевом, что категорически отверг данный мне совет. От судьбы нельзя уйти — через год я занимался уже именно делами инородцев Азиатской России, а через восемь лет был на службе именно в Переселенческом Управлении.
По прибытии моем в Петербург, Дурново расспрашивал бабушку, почему я не зайду к нему, но я так боялся высшей бюрократии, так любил свободу, что бабушке пришлось убеждать важного сановника, что я человек кабинетный, предан всецело науке и не умею себя держать обществе. Хорошее представление об ученом составил бы Дурново, если бы мог меня увидеть во время игры с догом!
В январе 1898 года я был причислен к Министерству Внутренних Дел с откомандированием для занятий в Земский Отдел, т. е. выполнил план, задуманный еще в Университете.
Отсюда начинается моя двадцатилетняя гражданская служба.
Часть II Служба мирного времени
Глава 3 Земский Отдел Министерства Внутренних Дел (1898–1901 гг.)
Умственный и нравственный багаж при поступлении на службу; вера в силу протекции. Первые впечатления от высших должностных лиц: князь А. Д. Оболенский, В. Ф. Трепов, Б. Е. Иваницкий; управляющий Земским отделом Г. Г. Савич. Сближение с сослуживцами; их характеристика; дружеские связи. Неожиданное получение первого места благодаря работе. Дела по ответственности земских начальников; всеподданнейший доклад киевского генерал-губернатора Драгомирова; отказ, благодаря ему, от введения института земских начальников в юго-западном крае. Инородческое делопроизводство; увлечение Сибирью; занятия в публичной библиотеке. Обеды 19 февраля. Придирки Савича. Уход И. Л. Горемыкина; новые министры: Сипягин и Плеве. Вынужденное оставление службы в Земском Отделе. Смерть Савича.
Прежде чем перейти к описанию моих первых шагов на государственной службе, надо дать себе отчет с каким умственным и нравственным багажом вступал я на новую дорогу моей жизни. Юридический факультет дал мне удовлетворительное специальное образование, но без всяких национальных основ; о том деле, которому я намеревался посвятить себя — о правовом и бытовом положении сельского населения России я имел самое смутное представление; Россию, русскую деревню, если не считать моих детских впечатлений, я знал очень мало; я страстно любил все русское, благодаря незаурядному знанию русской литературы, музыки и отчасти живописи. В политическом отношении, раздраженный нерациональностью передового студенчества и его шорной партийностью, я исповедовал консервативные взгляды, но как-то невыдержанно, без партийной односторонности, а потому, уклонялся по отдельным вопросам влево. За идеал бюрократа, за свой идеал, я взял себе толстовского Каренина и старался выработать в себе, хотя бы внешне, хотя бы на словах, корректную благородную сухость, что приходило в постоянное столкновение с наклонностью моей к живым приключениям и своеволию, находившемуся в полном противоречии в то время с требованиями служебной дисциплины. На службу, ее цели я смотрел весьма просто: надо добиться известного положения, что называется, сделать карьеру, заручившись какой-либо протекцией, чтобы можно было хорошо жить и приносить пользу. В то, что истинная польза государству и обществу может быть приносима на любом месте, как бы оно ни было скромно, лишь бы принятые на себя обязанности самым совестным образом, что высшей наградой за труд является личное удовлетворение собой, что служебная карьера в массе случаев делается на русской государственной службе личным трудом, способностями и усилиями с гораздо большим успехом, чем протекционным способом — обо всем этом перед поступлением на службу как то не думалось. Легенда о значении протекции так сильно, впрочем, вкоренилась в русское общественное мнение, что ее до сих пор очень часто многие, не близкие к бюрократическому миру, круги, а в особенности неудачники по собственной ограниченности или настроенные оппозиционно к правительству, считают за непреложную истину; отчасти распространению этой легенды способствовал действительно протекционный, но далеко не во всех случаях, способ замещения некоторых специальных должностей, например, губернаторов, при Дворе и т. п. Часто под протекцией ошибочно разумеются те деловые связи, которые завязываются уже на самой службе, благодаря личным способностям, работе и вообще качествам ума и сердца. Все мои служебные наблюдения, с первого до последнего года службы, как будет видно из моих воспоминаний, самым решительным образом опровергают рассказы о значении, так называемой, протекции, если говорить о правилах, а не об исключениях.
И так, веруя, как все, в силу рекомендательных писем, я, через бабушку, получил приглашение явиться к товарищу министра внутренних дел А. Д. Оболенскому, которому говорил обо мне И. Н. Дурново. Не без волнения переступил я, впервые в жизни, порог приемной комнаты высокого бюрократа, сначала в собственном доме его на Морской улице, а затем уже в здании министерства внутренних дел, близ Александрийского театра. Принят я был князем Оболенским очень просто и любезно, а не величественно, как это должно было бы быть, по моим студенческим и литературным представлениям о бюрократах. Осведомившись, что я хотел бы работать по крестьянскому делу, но не желал бы попасть в новое Переселенческое Управление, т. к. не могу расстаться с родными и друзьями, он заявил, что, в таком случае, надо причисляться к Земскому Отделу. Меня изумило несколько, что Земский Отдел ведает не делами земств, судя по его названию, а крестьянскими, но впоследствии я сам сильно раздражался, когда мои либеральные товарищи, избравшие свободные профессии, распускали обо мне слухи, что я добровольно посвятил себя делу удушения земств; я считал это, с их стороны, признаком крайнего невежества, так как городское и земское дело находилось тогда в ведении Хозяйственного департамента, преобразованного впоследствии в Главное Управление по делам местного хозяйства.
Когда я вышел от князя Оболенского, дежурный при нем чиновник Палтов, оказавшийся, к моему изумлению, тоже чрезвычайно любезным и внимательным человеком, научил меня, как надо написать и подать прошение «о причислении к министерству внутренних дел с откомандированием для занятий в Земский Отдел», и посоветовал мне в дальнейшем представляться начальству не в сюртуке, а во фраке, который и был мною срочно заказан в тот же день. Для представления документов и принесения служебной присяги, я должен был явиться в Департамент Общих Дел, а в Земском Отделе, по совету того же Палтова, побывать прежде всего у помощника Управляющего этим отделом Б. Е. Иваницкого; это была первая фамилия, которую я услышал в стенах министерства внутренних дел, и, по воле судьбы, вся моя дальнейшая служба, с небольшими перерывами, была, в течении двадцати лет, связана именно с этим первым моим знакомым по Земскому Отделу. Принят я был им очень приветливо; хотя ему не было тогда еще сорока лет, но он уже был сед и лыс; очень подвижное, нервное и умное лицо его с блестящими через пенсне юношеским огнем глазами становилось особенно привлекательным, когда он улыбался… Он достиг предельного для бюрократа назначения членом Государственного Совета. Здесь замечу только, что Б.Е. был общим любимцем молодежи Земского Отдела, а в обществе пользовался славой весьма остроумного собеседника; это качество осталось у него до старости, но с годами приобрело характер все более и более зрелого, раздражительного, хотя порою и очень тонкого юмора. Когда я познакомился с Б.Е. мне рассказывали много случаев о жертвах его находчивости и остроумия. Остался в памяти такой случай: в каком-то обществе Б.Е. встретился с фатоватым офицером конногвардейского полка; тоном провинциального простака он обратился к гвардейцу с вопросом: «В каком полку Вы изволите служить?» Тому уже самое незнание столичным жителем формы одного из наиболее блестящих полков показалось странно-обидным, и он, недовольным, полуобиженным, тоном ответил: «в конно-гвардейском». Второй вопрос в прежнем скромно-наивном тоне: «и хороший это полк?», окончательно взбесил офицера; бросив небрежно: «да, один из лучших», он зашагал по гостиной, обдумывая план мести; наконец, подошел в упор к Б.Е. и покровительственно осведомился: «а Вы где изволите служить?» Ответ: «в Земском Отделе». «И что же хороший это отдел?», насмешливо продолжал офицер. «Нет, неважный» скромно ответил Б.Е. Дальнейшего нападения после этого измыслить гвардейцу, конечно, не удалось. Подобных историй про Б.Е. рассказывалось множество, и это, при любви моей ко всему оригинальному и подходящему к границам скандала, не могло, конечно, не привлекать меня к нему. Б.Е. окончил два факультета: физико-математический и юридический; лет до тридцати был учителем физики, а, след, бюрократическую карьеру начал сравнительно поздно. Педагогические наклонности он сохранил на всю жизнь и любил разъяснять иногда простейшие вопросы, чем, впоследствии, часто меня изводил, так как в такие моменты я чувствовал себя возвращенным на ненавистную мне по скуке школьную скамью; юрист же он был всегда слабоватый, вообще, отвлеченной работы не любил, оживляясь больше всего при обсуждении различных, часто мелких, технических подробностей. В данном отношении мы, след, были полными контрастами и, я думаю, что бывали периоды, в которые он меня должен был, как человек нервный, ненавидеть…
В Департаменте Общих Дел — этом фактическом вершителе судеб нашей администрации — губернаторов и вице-губернаторов, куда я, как говорил уже, отправился для оформления моего причисления к министерству, я впервые встретил нелюбезный прием, даже не сухой бюрократический, каким я его себе рисовал теоретически по нашей литературе, а просто, выражаясь вульгарно, «хамский». Директор Департамента тогда был В. Ф. Трепов, заместивший, только что умершего от рака, барона Гревеница, по прозванию «рыжий»; впоследствии, в должности члена Государственного Совета, он прославился интригой против бывшего тогда премьером П. А. Столыпина, воспользовавшись законопроектом последнего о введении земства в юго-западном крае… Как многие еще помнят, покойный премьер придавал этому законопроекту значение «быть или не быть» ему у власти; законопроект прошел через Думу, но встретил оппозицию в среде «правых» Государственного Совета, благодаря тому, что Трепов передавал слух о недовольстве государя проектом закона; Столыпин прибыл к роспуску законодательных палат на несколько дней и провел юго-западные земства в порядке Верховного Управления (ст. 87 основных законов) и добился устранения Трепова из числа присутствующих членов Государственного Совета; это была большая победа Столыпина, но она могла бы быть гораздо крупнее, если бы палаты не были распущены, а законопроект был бы вторично внесен в Думу и принят ею; как тогда говорили, в таком случае, Столыпина ожидали в Думе овации, роспуск же палат, как принципиально не желательный, с их точки зрения, прецедент, повлек за собой демонстративный уход из председателей Думы, кажется, А. И. Гучкова и замены его М. В. Родзянко.
В. Ф. Трепова я никогда не видел раньше, по наружности его не знал; случаю угодно было, чтобы первое лицо в коридоре Департамента, с которыми встретился, был именно Трепов; я, полагая, что каждый человек имеет право разговаривать просто с другим человеком, очень вежливо попросил Трепова рассказать мне, когда можно быть принятым директором Департамента; меня осмотрели презрительно сверху вниз и, молча, оставили в коридоре в изумленном состоянии. Должен сказать, что в петербургских канцеляриях это был со мной единственный, исключительный случай подобного «мимического» собеседования начальства с просителем, и наблюдать мне в этом роде обращение приходилось иногда только со стороны полиции провинциальнейших городов России, некоторых почтовых и мелких канцелярских чиновников. На приеме Трепов был со мною, хотя уже и вежлив, но очень сух.
Попутно должен сказать, что вообще Департамент Общих Дел занимал в ведомстве внутренних дел какое-то особое положение: в нем были сосредоточены самые разнообразные, взаимно несвязанные дела по общей администрации, которые не могли быть отнесены по роду их к компетенции какого-нибудь определенного департамента, а главное — велись кандидатские списки губернаторов и вице-губернаторов, шла предварительная переписка о награждении их и т. п. Это придавало департаменту вес, не отвечавший, однако, деловому его качеству; в составе его были, конечно, тоже отдельные выдающиеся работники, например, заведовавший всей финансовой частью министерства вице-директор Шимкевич, позже С. Н. Палеолог, популярный теперь в Югославии руководитель делом устройства беженцев, и другие, но, в общем, состав этого Департамента был значительно по качеству ниже тех центральных учреждений, которые имели определенную деловую область, например, Земский Отдел, ведавший исключительно крестьянскими делами, Переселенческое Управление и проч.
Фактическое подчинение губернаторов, по существу являвшихся или, по крайней мере, долженствовавших быть органом междуведомственным, представительством верховной власти на местах, то влияние, которое на их служебную судьбу оказывали сравнительно второстепенные агенты этого министерства, служившие в Департаменте Общих Дел, превращало местных представителей верховной власти в чиновников одного ведомства и ухудшало их личный состав. В последние годы был установлен порядок обсуждения кандидатуры на все вообще должности с 4-го класса, в том числе и губернаторские, в Совете Министров, и ведение губернаторских формуляров перешло, кажется, к канцелярии Совета; этим подчеркивалась междуведомственность должности губернаторов, но, к сожалению, фактически Департамент Общих Дел продолжал до некоторой степени пользоваться прежним влиянием на назначение общей нашей администрации и прохождение ею службы.
Поэтому должность директора названного департамента считалась особенно выгодной, переходной к высшим должностям бюрократической лестницы. После важничавшего В. Ф. Трепова на его место был назначен очень корректный и приветливый А. Д. Арбузов, под начальством которого мне пришлось некоторое время работать в Земском Отделе, где он занимал должность помощника управляющего эти отделом; жизнерадостный, bon vivant, он не очень много времени уделял работе, но был любим за то, что никому не желал и не причинял зла.
В течении месяца я никак не мог представиться высшему своему начальству — Управляющему Земским Отделом Г. Г. Савичу; он принимал раз в неделю, и три раза подряд прием почему-то отменялся, а потому в течении месяца я не мог приступить к работе, так как от него зависело указать мне то делопроизводство (так в 30 назывались отделения Департамента, правами которого пользовался этот Отдел), в котором я должен работать и вообще оформить приказом мое назначение. В четвертую пятницу только я был, наконец, принят Савичем. Тогда это был еще очень молодой для занимаемого им места человек — лет 36, красивый, уже очень грузный, с одутловатыми щеками, налитыми кровью глазами, и вообще с признаками, указывающими на склонность к апоплексии, от которой он и скончался скоропостижно лет через десять после нашего первого свидания. Принят я им был, уже наряженный во фрак, сухо, но вежливо; улыбнулся он только при расставании, когда я уже уходил, а потом снова вернулся для ответа на какой-то его дополнительный вопрос. Я через несколько часов от новых моих товарищей узнал причину улыбки начальства; дело в том, что я взял у портного фрак без примерки; оказалось, что он вшил фалды как-то вкось по бокам, почему сзади открывался вид на мои брюки, начиная от их пряжки. Кстати сказать, фрак я одевал изредка в балет и на редкие вечера, которые я посещал; поэтому я обошелся одним фраком в течении двадцати лет, продав его на базаре уже при большевиках. Мой фрак — показатель глупости модников: разновременно, сезона три-четыре, на протяжении 20 лет, сохраняя один и тот же фрак, я бывал одет по последней моде; мне даже приходилось иногда выслушивать такие комплименты: «Ого, как Вы следите за модой: в Париже только что появились остроконечные обрезы, а Вы уже успели обзавестись новым фраком». Не правы ли те, кто утверждает, что моды — это ставка портных на глупость и суетность людей?! Особенно, конечно, женщин, ибо невозможно понять, почему одно и то же может идти и толстым, и худым, и брюнеткам, и блондинкам? Я без какого-то омерзения никогда не могу вспомнить об уродливых «турнюрах», которые были в моде в мое гимназическое время. Как будто бы не верх художественного вкуса одеваться индивидуально; так, как идет тебе именно, а не другим. Ну, как бы то ни было, а фрак мой, в первоначальном его виде, был уж чересчур «индивидуален», ибо вызвал улыбку даже занятого человека.
Покойный Г. Г. Савич был типичный чиновник: энергичный и умелый исполнитель велений начальства данного времени; поэтому он с одинаковой живостью проводил, прекрасно владея пером, указания и либерального по тому времени Министра И. А. Горемыкина — человека высоких умственных и нравственных качеств и заместителя его, ретрограда и не подготовленного ни к какой деловой работе, Сипягина. Но при этом Савич был живой, не стесняемый никакими формальностями, дух деятеля, стремящегося найти наиболее знающий, способный и талантливый состав сотрудников. Вне всяких протекционных соображений, с горячим увлечением он выискивал, при всяком удобном случае, какого-нибудь провинциального работника, обращающего внимание своими знаниями, работой. Из описания мною состава Земского Отдела видно будет, как высок качественно был тогда его состав. Приведу пока только характерный случай с попыткой Г.Г., свидетелем которой был я сам, пригласить на службу политического ссыльного Кочаровского. В печати появилась его книга о крестьянской общине; кто автор этой книги, его социальное положение нам не было известно; Савич пришел в восторг от этой книги и, со свойственной ему горячностью, дал распоряжение разыскать немедленно автора и предложить ему место делопроизводителя; после наведения справок оказалось, что Кочаровский — политически неблагонадежен; С. не придал этому никакого значения и обратился к директор департамента полиции с просьбой официально засвидетельствовать благонадежность Кочаровского; бывший тогда директором полиции Зволянский, приятель Савича, долго доказывал ему, что он абсолютно не может исполнить его просьбу. «Как же», говорил он чиновникам, «могу я выдать свидетельство о благонадежности человеку, который сослан в Якутскую область?», и называл Г.Г. сумасшедшим, но последний долго считал этот отказ со стороны Зволянского какой-то формальной придиркой и злился, так как без удостоверения о политической благонадежности зачисление на государственную службу было невозможно.
Систематической работе Савича и спокойной работе с ним его подчиненных очень много мешала его неуравновешенность, соединенная с каким-то самодурством в стиле старого московского купечества, усугублявшаяся к точу же склонностью его к спиртным напиткам. Вспыльчив он был до крайности. Часто из кабинета его раздавались неистовые крики его мощного голоса и долетали в приемную комнату совершенно нецензурные выражения. Особенно раздражался он на неисправность телефонных барышень, требуя немедленного ответа и соединения с просимым номером; настольный телефон прыгал в его руках, он, весь пунцовый, кричал: «черт вас дери, да вы слушаете или нет!» и т. д., включительно до самых грубых ругательств. Раз он продолжал неистово ругаться, ничего не слушая и не слыша, когда телефон уже был соединен с квартирой Горемыкина; дежуривший чиновник, стоявший у стола Савича, ясно расслышал в телефоне спокойный, но на этот раз удивленный голос министра: «Георгий Георгиевич, что это с Вами такое?». Чиновнику потребовалось несколько минут, пока ему удалось разъяснить взбешенному Савичу, что министр уже его слушает. Главным преследованиям и угнетениям со стороны С. подвергались ближайшие постоянные его сотрудники — два секретаря его: барон Н. Ю. Толь и В. Н. Полторацкий, прямо обожавшие Савича, в особенности первый из них, высокой доброты человек, старавшийся облегчить Савичу каждый его шаг, следивший за перепиской срочных бумаг, в течении большей части ночи, любовно исправлявший их после переписки и вообще редко расстававшийся с Савичем не только на службе, но и в частной его жизни; никаких служебных выгод при этом добрый барон не домогался, он мог бы давно быть губернатором, но он благоговел перед умом С. и сносил его вспыльчивый и грубый характер, зная, что он любим и ценим С., а для него С. был высшим авторитетом.
Кроме секретарей, больше и чаще других доставалось заведовавшему переписной частью Готовцеву; последний, в целях скорейшего получения вице-губернаторского поста, бросил место чиновника особых поручений при киевском генерал-губернаторе и взял для чего-то первое попавшееся скромное место в столице; в вице-губернаторы он так и не попал. Малейшая задержка в переписке какой-нибудь срочной бумаги вызывала нервное возбуждение Савича, что повторялось почти ежедневно, а в особо серьезных случаях он вызывал обоих секретарей и кричал: «назначить Готовцева вице-губернатором, нет, губернатором, немедленно, только чтобы духу его не было больше в Отделе». В критические моменты Г. имел обыкновение скрываться и тогда за него погибал старик курьер Поплавский, панически боявшийся Савича; другой старший курьер Катонский, прозванный «Катон», высокого роста, с громадными усами, держал себя всегда с величественным достоинством и успокаивающе действовал даже на Савича; некоторые провинциальные чиновники, даже предводители дворянства, подавали ему руку. Я, впрочем, никогда не мог понять, почему существовал у нас предрассудок не здороваться с курьерами за руку; среди них были очень почтенные люди, знатоки министерского делопроизводства, искренно привязанные к учреждению, во всяком случае, головой выше стоявшие многих полуграмотных писарей, с которыми принято было здороваться нормальным образом, как ос всеми чиновниками, а не одним кивком головы. Помню, как трус Поплавский однажды выбежал из кабинета С. с бессмысленно устремленными вперед глазами и пробежал мимо меня, задев даже меня за плечо, повторяя два слова: «Романова просят, Романова просят»; мне с трудом удалось его остановить и убедить, что дальше бежать незачем. Отдельные доклады делопроизводителей тоже нередко сопровождались криками, но последние, за очень малым исключением, импонировали даже Савичу знанием своей отрасли дела, а потому бурные, громкие разговоры их в кабинете начальства имели скорее характер острого спора, чем разноса.
Помню раз, во время дежурства при Савиче, вся приемная его, полная представляющихся лиц, в том числе несколько губернаторов и многочисленных просителей, мгновенно и панически опустела только под впечатлением долетевшего до нас издали разъяренного голоса Савича. Он впервые ввел дежурство молодых чиновников с высшим образованием для подачи справок и советов просителям и записи тех лиц, которые желают видеть его. Эта, на первый взгляд, мелкая мера имела серьезное значение для частных интересов, да и для репутации самого учреждения. Ранее, как во многих учреждениях и до последнего времени, дежурства несли, так называемые, неклассные «канцелярские» чиновники, люди и мало воспитанные, и совершенно не образованные; само собой разумеется, что никакого полезного совета, куда обратиться по данному делу, в каком порядке оно может быть разрешено и т. п., ожидать от такого «дежурного» чиновника нельзя; к этому добавляется обычная грубость маловоспитанного, но всегда желающего показать свое мнимое значение человека; нередки и случаи мелких взяток с их стороны, а, между тем, по ним масса публики составляла суждение о нравах и обычаях министерских канцелярий. Я знаю несколько случаев, когда совершенно почтенных, безупречных деятелей подводили именно такие безответственные мелкие агенты, письмоводители, журналисты и т. п. Например, одни судебный следователь прослыл среди еврейского населения взяточником и против него было возбуждено даже судебное преследование только потому, что письмоводитель его, зная заранее, какое дело по признакам его должно быть прекращено, уговаривал подследственное лицо дать следователю через него взятку; дело, конечно, прекращалось, и легенда о взяточничестве следователя укреплялась. Помню также, как в одном, мало в общем, почтенном учреждении, один канцелярист систематически брал взятки за проведение орденов различным агентам этого учреждения, зная наперед какие наградные представления предположено уже одобрить начальством. Однажды, в Департаменте Общих Дел, я наткнулся на такую сцену: директор какого-то частного банка, с очень плохим знанием русского языка, доказывал, в весьма почтительной форме, право какого-то служащего банка на получение какого-то сословного звания, говорил, что представление об этом давно сделано и обещание удовлетворить его было дано уже, почему ему хотелось бы узнать только, в каком положении его дело сейчас. На все просьбы и доводы директора банка, дежурный канцелярист, несомненно, ничего не знавший и не понимавший в деле, необыкновенно важным и покровительственным тоном повторял: «могу сказать, к сожалению, одно, Ваша просьба совершенно невыполнима». Очевидно, мелкому чиновнику доставляло искреннее удовольствие разыгрывать роль какой-то власти перед директором банка, хотя бы ценой лжи, ибо пойти просто в соответственное отделение и навести там по делу справки было бы, конечно, признаком, что чиновники — только мелкая сошка в Департаменте. Поляк сокрушенно, но не без изумления, выходил уже из здания министерства, когда я, слышавший весь разговор, остановил его и объяснил ему какое значение имеют слова канцеляриста и указал ему в какое отделение Департамента ему надо обратиться. Он был еще более изумлен моим советом, благодарил и несколько раз повторял: «а я думал, что от того пана зависит все мое дело». Подобную же сцену пришлось мне наблюдать и в Земского Отдела, после того, как у нас были введены дежурства для публики классных чинов. Я на пол часа почему-то опоздал на свое дежурство и, входя в первую приемную комнату, услышал еще издали знакомую фразу дежурившего канцеляриста (эти суточные дежурства предназначались исключительно для приема почтово-телеграфной корреспонденции): «к сожалению, подобные ходатайства никогда не удовлетворяются». Я поспешил подойти к просительнице-даме, к которой относилась эта фраза, и через несколько минут ее простейшая просьба была удовлетворена, а канцелярист был разнесен мною за вмешательство не в свое дело.
Я остановился несколько подробно на этой служебной мелочи потому, что от провинциальных оппозиционных адвокатов мне иногда приходилось выслушивать насмешливые рассказы, что для ускорения дела в Сенате им приходилось «смазывать»; взятки давались канцеляристам, а адвокаты верили или делали вид что верят, будто бы мзда принималась обер-секретарями и чуть ли не самими сенаторами.
В бюрократической машине не должно быть мелочей; в ней каждый винтик должен быть чист и исправен. Савич это понимал и придавал этому большое значение.
Я сидел в дежурной комнате, всегда с интересом беседуя с приехавшими с разных концов России администраторами, помещиками, волостными старшинами, инородцами и т. п. Прием начинался в час дня, а было уже три часа и Савич все не появлялся; большинство, как бывает на всех вообще приемах, томилось, зевало, ходило в зад и вперед по комнате; земские начальники расспрашивали меня каков Савич: любезен ли, не зол ли и т. д.; многие ведь вызывались для объяснений по службе; губернаторы злились, что им приходится ожидать, но уходить не решались, так как уже все равно потеряли много времени. Вдруг на лестнице и в вестибюле послышалось какое-то оживление, пробежал через переднюю со всегда испуганными глазами курьер Поплавский, на ходу прошептал: «управляющий приехал», и открыл двери в его кабинет, но в это самое время с лестницы донесся неистовый крик: «безобразие, хам, понятия нет о дисциплине, вон отсюда» и т. д.; в приемной все испуганно переглянулись, некоторые обратились ко мне с вопросами: «что это, кто это?» Я отвечал, конечно, что это приехал, мол, Савич, которого все так долго ожидали. Оказалось, что Савич по дороге в Министерство, по неосторожности извозчика, упал и колесо переехало ему ногу; это привело его уже само по себе в раздраженное состояние. Он, вообще, никогда не ездил на извозчиках спокойно; по живости его характера, ему всегда казалось, что везут его слишком медленно, что он зря теряет деловое время; случалось, что во время поездки на дачу к министру, он по дороге менял по три извозчика, он в бешенстве выскочил из пролетки и набросился на испуганного полицейского: «я еду к министру», говорил он, ударяя его пальцем по носу, «у меня срочные дела», снова удар пальцем по носу, «а ты смеешь меня задерживать». Околодочный так растерялся от этого бурного натиска, что ему и в голову не могло прийти составить протокол об оскорблении его при исполнении служебных обязанностей. Поднимаясь по лестнице после падения с извозчика, Савич увидел на диване жандарма, принесшего ему какой-то пакет от директора департамента полиции; жандарм развалился на диване так, что почти лежал на нем; Савича он не узнал, а может быть и совсем не знал. Боль в ноге, поврежденной колесом, а может быть, отчасти, и раздражение на департамент полиции за отказ признать благонадежным политического ссыльного, обратил весь гнев Савича на несчастного жандарма. Через приемную Савич прошел весь пунцовый, хромая, с налитыми кровью глазами. Просители и представлявшиеся как-то замерли, пошептались друг с другом и тихонечко начали расходиться; когда я вышел из кабинета Савича, чтобы по очереди, которую он сам устанавливал, пригласить к нему ожидавших его лиц, осталось всего три-четыре человека. «Ну, и черт с ними», сказал мне Савич, когда узнал, что все разошлись; он понимал, конечно, причину опустения приемной и, в глубине души, чувствовал себя, без сомнения, смущенным.
Мне, избалованному добрым отношениями в семье и среди друзей, любившему личную свободу и бывшему, с гимназической скамьи, в виду легких успехов в «науках», преувеличенного высокого о себе мнения, с болезненно развитым, избалованным дешевыми успехами, самолюбием, казалось совершенно невозможным, чтобы на меня кто-нибудь мог кричать. И, действительно, как в первые же дни моей пансионской жизни я не допускал мысли, что я подвергнусь, обычным в отношении новичков, издевательствам и не подвергся таковым, так и на службе я ни разу не услышал при разговоре со мной повышенного голоса вспыльчивого Савича, он, видимо, чувствовал, что я не допущу такого тона со мной; впрочем, надо сказать, что к молодежи он относился очень ровно и хорошо, и случаи крика на молодых чиновников были исключениями; кара провинившихся, обыкновенно, осуществлялась через их непосредственное начальство — делопроизводителей. Например, Савич страшно обозлился на добродушного немца барона Фиркса, когда тот, будучи дежурным, подал ему список лиц, желающих видеть Савича, в котором «член присутствия» было, по рассеянности, через ять; Фиркса Савич спросил только зловещим шепотом: «что это такое?», указывая на слово «член», а делопроизводителю наговорил неприятностей и запретил представлять когда-либо Фиркса на штатную должность, почему последний года два просидел причисленным к отделу без жалованья; затем был назначен на скучнейшее дело — по рассмотрению приговоров сельских обществ о ссылках порочных членов и различных ходатайств ссыльно-поселенцев; побыв более года на такой переписке он впал в тоску: «Поше мой», говорил он часто мне со своим милым немецким акцентом, «все ссыльные, да ссыльные, это невосмошно». Он начал посещать, сам будучи лютеранином, Петербургского Митрополита Антония, вел с ним большие беседы, а потом вдруг очутился в роли санитара в Швейцарии в какой-то иезуитской больнице.
Хотя на меня С. никогда не повышал голоса, а, в случае недовольства мною, только краснел и переходил в задыхающийся шепот, столкновение мое с ним, по свойствам моего, тоже взбалмошного, характера, было неизбежно. С. имел наклонность к тому, что называется «важничаньем»; например, выходя, по окончании службы, в приемную, он, на ходу, как то вбок, протягивал дежурному чиновнику руку, не глядя на него, и быстро говорил: «до свиданья-с»; пожимать руку начальства приходилось, часто видя уже только его спину. Я, взявший за свой идеал бюрократа, холодный корректный тип Каренина, в душе оставался склонным к дебошам студентом; манера прощаться со мною Савича обозлила меня, и я придумал мстительный план, как выйти из не нравившегося мне положения: после шести часов вечера я уходил в дальний угол приемной комнаты и стоял там до выхода Савича из кабинета; он, зная, что дежурный чиновник сидит за столом против дверей его кабинета, быстро выходил и сейчас же протягивал руку для прощания, я же медленно шел к руке начальства через всю комнату; протянутая рука висела в воздухе, лицо Савича делалось пунцовым и злым. Это было глупо с моей стороны, я не понимал тогда, что никакого умысла у торопящегося домой Савича задеть самолюбие молодого чиновника нет, но я получал от подобных выходок большое удовольствие: «на, мол, смотри и убеждайся, что свобода моя дороже всяких успехов у начальства». Когда я входил в кабинет к Савичу, я часто держал руку в кармане; он, молча, упорно на нее смотрел, а я делал вид, что ничего не замечаю. Иногда, когда ему надоедало почему-то долго видеть меня у себя в кабинете, он шептал: «голубчик, быть может, Вы могли бы ходить несколько скорее», я говорил почтительно: «слушаюсь» и двигался чрезвычайно медленно. Должен сказать, что к нарушению дисциплины, в сущности, подавал нам пример сам Савич, не говоря уже о его, часто нецензурных, выражениях и криках при посторонней публике, он, если не любил какого-нибудь начальника, открыто игнорировал его и даже ругал последними словами при своих подчиненных, даже при курьерах. Один товарищ министра, которого Савич терпеть не мог, прислал как-то раз к Савичу курьера за перепиской по какому-то делу; Савич писал срочную бумагу, обозлился, что его оторвали от хода его мыслей и крикнул: «скажи ему, чтобы убирался к…», последовало площадное ругательство.
При свойстве наших характеров, повторяю, отношение ко мне Савича должно было перейти в раздражительную вражду, и это именно обстоятельство заставило меня через несколько лет уйти из любимого мною учреждения. Но, несмотря на описанные мною черты характера Савича, а может быть, отчасти и благодаря им, я никакой злобы не питал к нему, наоборот любил его, как тип человека нешаблонного, незаурядного, чрезвычайно живого и, главное, вполне русского, т. е. удовлетворявшего главным и важнейшим, в мое идеале и представлении, чертам интересных и нужных людей.
Свойства живой души Савича особенно ярко сказались в той товарищеской сплоченности Земского Отдела, которую Савич считал обязательной для учреждения. Я помню, как он искренно был изумлен и рассержен, когда один чиновник обнаружил незнание имени и отчества какого-то, совершенно недавно причисленного к Отделу, молодого человека: «не знать, как зовут вашего товарища по службе это — стыдно», говорил Савич. Сам правовед, он никогда не проявлял никаких признаков предпочтения «своих» чужим: лицеистам, универсантам и т. п.; все сотрудники Земского Отдела были, в его глазах, одной семьей, которая пополнялась по признакам, главным образом, делового, а не личного свойства.
За такие качества Савича, хотя часто и бранили после вспышек его, но в душе любили все служащие Отдела.
Когда я представился Савичу, он мне сказал, что я назначаюсь в 3-е делопроизводство; я понятия не имел, хорошо это или плохо; веря в значение протекции, я решил, что не худо будет, на всякий случай, напомнить Савичу, что я направлен к нему князем Оболенским; он спокойно на это ответил: «я об этом знаю», и подтвердил, чтобы я от правился представиться заведующим 3-им делопроизводством С. В. Корвин-Круковскому. Всех делопроизводств в отделе тогда было, кажется, 16; размещались служащие в двух этажах очень тесно. Каждое делопроизводство имело, большей частью, только по одной комнате, в которой начальник отделения — делопроизводитель работал вместе со всем персоналом отделения. Поэтому я сразу же познакомился со всеми моими будущими сослуживцами по 3-му делопроизводству. Корвин, впоследствии начальник Управления по делам о воинской повинности, скончавшийся теперь во время разных эвакуаций в Кисловодске от сыпного тифа, был очень хорошо воспитанный лицеист, но тоже весьма нервный человек, почему у него часто были стычки с Савичем. Первая фраза, которую я от него услышал после обычных приветствий, меня слегка изумила в устах лицеиста — этого идеального, со времен Пушкина, олицетворения корпоративной товарищеской спайки: «очень рад», сказал он, слегка картавя по обычаю всех лицеистов, «что получаю сотрудника — универсанта: Вам, по крайней мере, не надо будет у нас переучиваться», и при этом нервный взгляд на некоторые дальние столы, за которыми помещались несколько таких же юных, как я, чиновников. Ближе познакомившись с ними, я узнал, что дело было вовсе не в их образовательном цензе, а просто в том, что они ни к какой служебной карьере не стремились, мечтали хозяйничать в своих имениях, службой не интересовались и, так сказать, отбывали временную повинность — посидеть в Министерстве первые годы по окончании лицея; лицеисты ведь причислялись к тому или иному ведомству сразу же по окончании курса, так сказать механически, а нуждающиеся в средствах получали даже какое-то ежемесячное пособие впредь до назначения на штатное место. Особой ненавистью к канцелярским делам отличался, среди моих новых коллег, милейший и добродушнейший барон Врангель, года через два получивший место земского начальника в своем уезде. Ничто его так не смущало, а нас не веселило, как появление на его столе какого-нибудь толстого дела с надписью Корвина: «прошу разобрать и переговорить со мной». Шутя, мы иногда, в отсутствии барона В., раскладывали на его столе кипу разных старых дел; он, с обычным опозданием, являлся на службу, с ужасом смотрел на свой стол и начинал перелистывать дела, сокрушенно качал головой и, незаметно-тихо, исчезал дня на два-три «по болезни», в расчете, что громоздкие дела будут разобраны в его отсутствие кем-нибудь другим. Понятно, что Корвин, заваленный работой, был рад всякой лишней рабочей силе в его делопроизводстве, а потому приветствовал мое появление. Хотя Корвин был, как я говорил, человек нервный и раздражительный, у нас вскоре установились прекрасные служебные отношения. Молодежь его боялась и уважала, т. е. при появлении его прекращала разговоры и не нарушала вообще тишины в комнате, чтобы не мешать ему заниматься. Называли мы его за глаза «наставником»; «тише, наставник идет», кричал кто-нибудь из причисленных: вспоминалась гимназия, становилось безотчетно весело, но новый «наставник» и «новая» гимназия куда были живее, интереснее старой.
На посторонние темы он редко беседовал с нами; во время работы часто злился, что-то шептал про себя, иногда опрокидывал чернильницу, и тогда вдруг раздраженно выкрикивал: «он таки дождется, что я его выгоню со службы»; «он» — это был земский начальник, переписку о провинностях которого изучал К. и заливал чернилом [так в тексте].
У Корвина было три помощника: один назывался «старший» (столоначальник) и два младших; причисленные были распределены между ними в качестве их помощников. Со всеми тремя я вскоре быстро сошелся и до конца жизни сохранил дружеские отношения, какие только возникают в молодости. Старший — юрист Петербургского Университета В. Ф. Добрынин, с характерным, английского типа, крупным бритым лицом, высокого роста, изящно всегда одетый, был человек очень хорошо образованный, начитанный, незаурядно от природы умный, но не способный ни к какой планомерной долгой работе; большие личные средства и любовь к широкой холостой жизни в столице отвлекали его постепенно от скромной чиновничьей работы и лет через 10–12 он бросил государственную службу, заняв обычные для богатых людей места в различных «правлениях» частных обществ. Но тогда, в молодые годы, он еще хорошо работал, следил за юридической литературой и явился для меня первым учителем на службе. Мы много провели с ним вместе веселых вечеров; какие-то черты Дориана Грея делали его в моих глазах очень привлекательным, особенно за бутылкой вина с длинными остроумными беседами о женщинах, главным образом. Он, тоже спасаясь от большевиков, заболел манией преследования и скончался в Новороссийске в вагоне.
Младшие помощники были Н. Н. Принц и юрист Московского Университета Н. И. Воробьев. Если бы Н.Н. был современником Л. Толстого при творении им Анны Карениной, то я был бы убежден, что многие черты Стивы Облонского он списал с «Принцика», как называли мы его. Отличительной чертой этого милого моего друга была бесконечная доброта и добродушие, желание каждому чем-нибудь помочь, развеселить; он, с первых же дней нашего знакомства, вручил мне тетрадку, собственноручно им составленную, с образцами различной деловой переписки. Видя изумление на моем лице и предугадывая вопрос: «разве все надо писать одинаково, по шаблону, а нельзя по своему?» он ласково улыбаясь, предупредил меня: «видите ли, в служебной переписке имеются издавна установленные формы по, так сказать, мелким текущим делам: например, вы читаете резолюцию делопроизводителя «о.б.п.», то есть оставить без последствий, находите у меня в моей тетради образец «о.б.п.», затем: «на расп. губ.» — губернатору на распоряжение и т. д. и т. д.; таких образцов здесь до сотни; привыкните к ним и будете в час в десять раз больше давать, чем при измышлении своих форм из головы; большие деловые бумаги, разные представления в Советы, рапорты в Сенат и т. п. — там, конечно, придется писать по-своему, но до этого Вы еще не скоро дойдете». Этот первый урок канцелярщины, так охотно и доброжелательно преподанный, сыграл большую роль в первых шагах моей службы. Как во всяком деле, так и в канцелярской работе, во время изученная техника его значительно облегчает работу, увеличивает производительность труда. Не даром ведь наши современники сапожники из бывших офицеров и чиновников абсолютно не в силах конкурировать, в смысле быстроты производства, с профессионалами: у них больше вкуса, изобретательности, добросовестности — чего хотите, по сравнению с простыми мастерами, но главного — школы, того навыка, который с юных лет дается практикой, знанием дела с азов, умением во всех мелочах, включительно до того, как разместить под рукой наиболее удобно материал и инструменты, каждый гвоздик, чтобы не потерять лишней секунды, вот этого дилетанту никогда не достигнуть. И в мелкой «текущей» работе чиновника технический навык и шаблон — громадный плюс: ненастоящий чиновник часто небольшое деловое письмецо сочиняет и мусолит в течении времени, за которое настоящий чиновник написал бы таких писем десяток.
В обществе распространен взгляд на наш канцелярский стиль, как на нечто, в лучшем случае, смешное. Это неверно. Предрассудок этот относится к далеким временам. Язык наших канцелярий отличается строгой грамотностью, сжатостью и, главное, точностью. Его единственный недостаток в первые годы моей службы заключался в крайней, обычно, сухости, но на моих глазах язык этот во многих ведомствах эволюционировал в чисто литературный живой язык, сохранив при том основное свое качество — точность. Смешного «канцелярского стиля» я не застал, но слышал о нем от одного дореформенного чиновника: его юмористическая сторона заключалась в крайне почтительном отношении подчиненных к начальству и начальников во взаимных отношениях между собою; например, докладчик писал, должен был писать, всегда сомневаясь в своих силах разобраться в деле, даже правильно изложив его сущность, в таком роде: «сущность дела едва ли не сводится к следующему», но, Боже упаси, сказать просто, что «дело заключается в следующем», это было бы нескромно, невежливо по отношению к более осведомленной высшей власти. Начальство к начальству никогда не обращалось с возражениями; надо было всегда похвалить предложенную меру, указать на ее положительные стороны, а затем уже высказать соображения о совершенной ее негодности. В таком духе в мое время писало только министерство финансов, весьма одобряя предложенные меры и кончая отказом в деньгах на их осуществление. Кроме того, некоторые архаичные приемы переписки сохранялись еще в канцеляриях самого затхлого министерства, если не считать его юрисконсульской части, а именно юстиции: там в каждом отделении имелся какой-то редактор, который исправлял и без того бесконечно в многочисленных инстанциях вылизанные бумажки.
Итак, добродушный «Принцик» научил меня элементарным началам канцелярской премудрости. Через несколько недель, когда мы уже окончательно подружились, он притащил на службу какой-то, невероятно поношенный, рыжий, а ранее, видимо, бывший черным, кожаный портфель: «поноси его первый год службы», сказал он мне, «это первый портфель… такого-то», и мне была названа фамилия одного важного придворного старца, «он приносит счастье». Я, как тетрадь с образцами бумажек, таки портфель, хотя он был и менее интересен тетрадки, принял с благодарностью.
П. был такой человек, с которым нельзя было не сблизиться быстро; уж слишком он подкупал своей добротой, а кроме того, и был очень стилен. Он любил острить, но остроты его «bons mots»[2] были без перца, слишком мягки и добры в стиле маркизов 18 века. Вне службы в холостой компании веселился от души, раскатываясь заразительным смехом, каким умеют смеяться только толстяки, при всяком удобном случае. Он не был женат, но жил всегда в семейной обстановке у своей горячо любимой тетки Е.П.К., матери одного из министров времен 2-й Государственной Думы; эта стильная красивая старуха напоминала мне своими строгими, но приветливыми чертами лица мою бабушку. Поэтому, хотя я и не любил вообще в холостой период моей жизни бывать в семейных домах, сравнительно часто навещал Е.П., иногда до поздней ночи просиживал за карточным столом, сам, по обыкновению, никогда не участвуя в игре, но получая большое удовольствие и отдых от наблюдения милой старосветской кампании игроков, в которой, кроме хозяйки дома и «Принцыка», принимала неизменное участие институтская подруга ее — старушка, сохранившая все манеры институтки и какой-нибудь престарелый генерал — член Государственного Совета и т. п.
«Принцык» жизнерадостно вскрикивал «шесть бубенций», «малый в пикенциях» и разные другие прибаутки; старушка-институтка никогда не пропускала таких возгласов без упрека: «Коля, где Вы получили воспитание?» Ответ был всегда: «в училище правоведения»; хотя это давным-давно было известно вопрошающей, но каждый раз она с чувством произносила: «не делает это чести вашему училищу». Старичок, от времен крепостного права, лакей Карп бесшумно подавал чай, иногда вставляя в общий разговор какое-нибудь замечание, вполне гармонируя своей манерой и держать себя, и говорить с доброй патриархальной компанией винтеров. Как-то раз, у генерала Р. Зазвонили в кармане часы с боем, заводившиеся им, чтобы напомнить о времени отъезда в какое-то заседание; напротив квартиры К. был трактир, который, на свободе, любил посещать Карп; услышав звонок и думая, что это звонят в трактир, он, испуганно, на всю комнату с большим чувством прошептал: «Боже мой, никак трактир уже закрывают».
Вот такие милые, с добрым юмором сцены, по контрасту с моей холостой жизнью, доставляли мне минуты тихого, хорошего отдыха. Мир же в семье К. был нарушен назначением сына Е.П. министром, как раз во время усилившихся террористических актов; появились на лестнице дома охранники, иногда не разрешавшие министру выходить из дома; он в таких случаях удирал и от охранников, и от волнующейся матери черным ходом, через кухню. А после — война, революция разрушили совсем счастье этой хорошей русской семьи; дорогой добрый друг мой Н.Н., по-видимому, погиб; сын К. — молодой офицер, был убит на войне; вся семья распалась и старый лакей Карп умер, слава Богу, до революции.
Так как у П. было в Петербурге множество родственников и знакомых, он всегда торопился в праздничные дни из одного дома в другой, а если попадал в нашу холостую компанию — в какой-нибудь ресторан, то всегда вынимал часы и быстро говорил: «имею свободных только десять минут; рюмочку водки и бутерброд, а затем должен ехать», но стоило задать ему какой-нибудь вопрос из области бюрократических или придворных слухов, как о десяти минутах забывалось, начинались его рассказы, споры и покидал он нас «далеко за полночь», иногда под утро. Вследствие родственных связей с высшим бюрократическим миром (его два кузена были министрами), которые, кстати сказать, П. не эксплуатировал для личных целей, довольствуясь скромной карьерой (впоследствии по Государственному Контролю), у него, действительно, всегда были в запасе разные слухи о том, что такой-то уходит, а такой-то на его место и т. п., причем, слух, действительно, осуществлялся когда-нибудь — через год, два и более, и Н.Н., радостно улыбаясь в таких случаях, с каким-то особенно хитрым выражением лица, говорил: «а я что предсказывал еще такого-то числа, помните, в таком-то ресторане», и чувствовал себя победителем. Во время Японской войны П. в особенности живо реагировал на всякие слухи, и, не говоря прямо, но какими-то весьма туманными и отдаленными намеками предрекал «конституцию»; шепотом, с блеском в глазах, он каждому конфиденциально передавал при каждом удобном случае: «готовится нечто весьма важное; вот ты увидишь, узнаешь в свое время». Когда это важное свершилось, он ликующе напоминал опять: «а я что говорил».
Другой младший помощник Корвина — Н. И. Воробьев не был так колоритен, как Д. и П., но нас сблизила с ним любовь к музыке; у него в его холостой квартире устраивались трио и квартеты при участии любителей сослуживцев и профессиональных музыкантов Императорского оперного и придворного оркестра; сам хозяин играл на скрипке. Необыкновенно талантлив был постоянный пианист этих вечеров — чиновник нашего отдела С. П. Киприанов; он часто с листа читал трио Аренского, Чайковского и т. п., давая мощный полный удар, следя за инструментами, поправляя их, так сказать, дирижируя. Но, увы, обычная русская невыдержанность и халатность не дали развиться его большому таланту; он бросил службу и уехал в Лейпциг, в консерваторию, к стати сказать, — так же неожиданно и внезапно, как поступил в Земский Отдел. У нас в Отделе он появился следующим оригинальным способом: явился на прием к Савичу и заявил, что желает причислиться к Земскому Отделу. На вопрос кто может его рекомендовать отвечал: «никто», а на вопрос о причинах желания служить в Отделе, объяснил, что его отец, служащий в ссудной сберегательной кассе, переехал на казенную квартиру на Фонтанке против министерства внутренних дел, почему ему будет близко ходить сюда на службу. Савич рассмеялся и, угадывая в Киприанове способного человека, зачислил его в отдел. В один прекрасный день мы с изумлением узнали вдруг, что Киприанов уехал в Лейпциг, а думали, что он просто по болезни не посещает службы несколько дней. Вернулся К. из Лейпцига года через два — у него не хватило денег на окончание консерватории; он сделал там большие успехи и занял какое-то скромное место в одном из музеев. Будь он еврей — мы бы его слушали, без сомнения, на концертной эстраде.
Н. И. Воробьев был очень исправный и усердный чиновник, но тяготел к жизни в своем имении на юге России, а за время Японской войны, где он добровольно работал в Красном Кресте, увлекся этнографией, собрал, возвращаясь в Россию, в Сиаме и других восточных странах, коллекцию музыкальных инструментов, и государственную службу бросил, посвятив себя всецело хозяйству в родных краях, после трагической гибели его брата — минеролога при падении, во время научной экскурсии на Эльбрус.
Таков был маленький кружок моих товарищей по службе в одной из ячеек Земского Отдела — в 3-ем делопроизводстве.
К предметам ведения этого делопроизводства относились дела об ответственности должностных лиц всех крестьянских учреждений, т. е. работа была исключительно юридического свойства. Но, несмотря на уверенность моего начальника, что мне не надо будет переучиваться, мне именно пришлось изучать почти совершенно неизвестное мне крестьянское законодательство в начале, конечно, преимущественно положения о земских и крестьянских начальниках, а затем и вообще Положения и различные узаконения о крестьянах. Настольной книгой для всех деятелей-юристов по крестьянскому делу являются комментированные И. Л. Горемыкиным толстые книги этих узаконений; это ценное издание ежегодно пополнялось новыми узаконениями и сенатской практикой, причем работа эта производилась уже членами Земского Отдела.
В первые месяцы службы приходилось, изучив «шаблоны», исполнять массу мелкой текущей переписки по резолюциям делопроизводителя; я не успевал ее закончить за шесть часов сидения в Отделе и работал часто еще дома по вечерам. За каждой мелкой бумажкой скрывается личный, иногда большой, интерес просителя; только усвоив себе правило, что мелочей на службе нет, а все требует одинакового внимания и заботливости, интересна или нет работа для самого исполнителя, можно достигнуть настоящей добросовестности в чиновничьем деле; так понимало работу большинство моих сослуживцев; за вечерние занятия на дому нам никогда не платили, они были совершенно добровольны.
Однако, занимаясь мелкими делами, я вскоре понял, что ждать поручения мне какой-либо более сложной работы, по инициативе самого начальства, не приходится: в канцеляриях более старые чиновники так всегда рады, что могут освободиться от массовой мелочи, что им и в голову обычно не приходит заняться дальнейшим обучением «причисленного», уже хотя бы потому, что на это надо тратить много времени. Между тем, для общей постановки дела, в целях своевременной подготовки своих заместителей, обучение молодежи нельзя не признавать одной из серьезных задач всякого начальства. Я в своей чиновничьей деятельности всегда впоследствии обращал внимание на эту сторону работы, и заботился не только о настоящем, но и о будущем, готовя себе заместителей в делопроизводстве. Также поступали и многие другие начальники отделений, понимавшие значение преемственности работы в чисто техническом ее значении.
При первых же шагах моей службы, приходилось завоевывать самому право на работу совершенно также, как в адвокатуре завоевывается практика. Надо было самому добиться поручения какого-нибудь крупного дела, чтобы удачным исполнением его обратить на себя внимание и получить право в дальнейшем на более сравнительно ответственную работу. Те, кто игнорировал это условие службы, безнадежно, обычно, оставались причисленными к министерству, не получая штатного места, или переводились в провинцию. В описываемое время при Земском Отделе состояло уже свыше 20 причисленных; в год максимально открывались 3–4 вакансии, и вот, по моим расчетам, мне приходилось кандидатствовать 4–5 лет — срок, который мне не позволяли мои материальные средства (я получал от отца в месяц 50 руб. и имел бесплатную квартиру в семье Ковалевских — в Академии Художеств, куда я переехал через несколько месяцев поступления моего на службу). Итак, я решил завоевывать себе деловую практику: испросил разрешение делопроизводителя знакомиться со входящими бумагами делопроизводства, выбрал сам себе раз одно сложное, но не спешное дело, требовавшее направления в Сенат, изучил подробно его правовую сторону и приступил к составлению рапорта Сенату от имени Министра. Как со стороны простым кажется канцелярский труд и как он сложен в действительности, в особенности для новичка, да еще получившего образование не по национальной, а общеевропейской программе! До сих пор помню какие муки я принял с составлением первого в жизни рапорта по делу каких-то крестьян Червяковых: и свидетели, и ответчики, и истцы, и владелец имения — все оказались с одной фамилией «Червяковы»; вся деревня от крепостного еще права носила фамилию помещика. При изложении дела это меня страшно сбивало. Не мог я также долго освоиться и с писанием «я» от имени Министра: все хотелось говорить от имени какого-то третьего лица; привычки писать под псевдонимом «М-р такой-то», что я потом проделывал всю жизнь, тогда у меня еще не могло быть, конечно. Тем не менее, самое главное — юридическое обоснование и заключение рапорта были сделаны мною правильно. Поэтому Корвин, прочтя эту мою первую ответственную работу, очень приветствовал меня, а затем, к величайшему моему изумлению, взяв красный карандаш, перечеркнул большую часть рапорта и добавил, улыбаясь: «не смущайтесь, пожалуйста, вы будете, несомненно, писать прекрасно; требуется только опыт; вы разобрались в деле совершенно правильно». Когда я прочел написанный К. рапорт по тому же делу, я не мог не признать, что по логичности, доказательности и систематичности он отличался от моей работы, как небо от земли; написано было то же самое, решение проектировалось мое, но форма была иная, обеспечивающая успех дела в Сенате. С этого момента началось, уже при инициативе самого начальства, расширение круга поручаемых мне дел. Я уже почувствовал себя каким-то винтиком в министерской машине. Возможность полезного влияния даже на маленьком весьма месте я узнал особенно тогда, когда мне удалось помочь пересмотру дела одного земского начальника, который был предназначен к увольнению. Переписка об ответственности земских начальников всегда изобиловала всевозможными курьезами, в особенности в области применения ими знаменитой тогда 61 ст. Положения о земских начальниках, дававшей им право ареста и штрафа в административном порядке: то какой-нибудь земский штрафовал крестьян за то, что не свернули со своими возами с дороги перед его экипажем, то за то, что отказывались приобрести барабан для порки виновных по приговорам волостного правления под звуки этого инструмента и т. д. Земские начальник, как известно, не пользовались популярностью; институт их был введен Императором Александром III вопреки мнению подавляющего большинства членов Государственного Совета; также меньшинством Совета принимались всегда и дальнейшие представления министра внутренних дел о распространении Положения о земских начальниках на другие части России… К нам в делопроизводство поступали копии всех всеподданнейших докладов для исполнения, согласно Высочайшим отметкам. В юго-западном крае удалось избежать введения земских начальников, благодаря необыкновенно смелому и энергичному сопротивлению киевского генерал-губернатора Драгомирова… Большинство Земского Отдела тоже не сочувствовало институту земских начальников. Поэтому, особенно при Г. Г. Савиче поблажки им не давалось, хотя в среде их, несомненно, было очень много вполне достойных и полезных работников, никогда, однако, не пользовавшихся в населении той хорошей популярностью, как позднейшие переселенческие и землеустроительные чиновники; придаток судебных функций и административного усмотрения являлся гл дефектом земских начальников, чего новой формации сельские чиновники не имели.
Итак, когда я познакомился с делом предназначенного к изгнанию земского начальника, меня поразили в переписке о нем печатные, заранее заготовленные, бланки судебного решения с таким текстом: «Идиотские требования…» затем пропуск для фамилии истца «не может быть удовлетворено, т. к.» и т. д. Ясно было, что земский начальник или психопат, или доведенный чем-то серьезным до полупсихопатичного состояния человек; обращало также внимание, что по данным дела все «идиотские требования» исходили от важных, большей частью, титулованных особ и предъявлялись к крестьянам. Мне удалось убедить Корвина, а через него Савича, что заочно нельзя разрешать подобного дела, что надо вызвать обвиняемого в Петербург; через несколько дней в приемной Савича уже сидел мой «клиент», удивительно оригинальный, старообрядческого типа, человек; Савичу, конечно, с большими усилиями удалось оставить его на службе, так как все дело сводилось к тому, как я и предполагал, что земский начальник был доведен до крайнего озлобления несправедливыми претензиями к местным крестьянам крупных помещиков — заводчиков. Он дал слово, что в дальнейшем будет приличен в форме общения его с просителями, но сдержать слова не был в состоянии и вынужден был бросить службу. Через год, когда мы с ним встретились, он говорил мне, что зарабатывает в десять раз больше, чем давало жалование земского начальника, ведет, в качестве поверенного, дела местных крестьян; приехал в Петербург искать себе помощника-юриста; я отказался ехать, так как тогда не мог расстаться ос столицей. Забыл, к сожалению, фамилию этого почтенного и оригинального по взглядам человека; он ненавидел все не народное: фрак, например, считал «чертовым одеянием» и т. п.
Интерес, который я проявил к работе, опыт, который я успел приобрести в первый же год службы, не могли пройти незамеченными при таком начальнике, как Савич; если он не обратил внимания на то, кто меня рекомендует, то на полезность мою для его Отдела он должен был обратить внимание. И, действительно, вопреки всякому ожиданию, через восемь месяцев, после причисления моего к Отделу, я был назначен на первую штатную должность — младшего помощника делопроизводителя. В жизни чиновника первое назначение — это крупнейшее событие, смешное, может быть, со стороны, но с искренней радостью переживаемое самим чиновником, вероятно, как первый дебют артиста на серьезной сцене. Когда секретарь объявил мне о моем назначении и предложил расписаться в прочтении приказа, я испытал чувство удовлетворения, какого впоследствии больше никогда на службе не испытывал. Было ощущение, что я стал на ноги, хотя материальная сторона не могла серьезно в то время занимать молодых чиновников Земского Отдела; штаты его были старые, введенные еще тогда, когда этот отдел входил в состав канцелярии Комитета по освобождению крестьян. Младшему помощнику делопроизводителя было присвоено жалование в размере 33 руб. 33 коп. в месяц, а со всеми квартирными и наградными деньгами составляло около 1100 руб. в год. Только через год или два в Отделе были введены нормальные штаты, принятые в других учреждениях, т. е. я стал по моей должности получать 1200 рублей в год жалования, кроме наградных денег, и мог, при моей очень скромной жизни, несмотря на частое посещение ресторанов, освободить отца от дальнейшей поддержки меня.
Было, след, какое-то другое чувство, какие-то другие основания радоваться своему первому служебному успеху. И в этом чувстве преобладало приятное сознание, что личная работа — важнее всего, а потому в дальнейшем, до конца моей службы, я никогда ни к каким протекциям не прибегал.
Мое глубокое убеждение, что всякий способный и добросовестный человек, если он только, действительно, стремился, действительно желал достигнуть высоких ответственных должностей, достигал их в России своими личными усилиями. Конечно, я не имею в виду массы терявшихся по глухим провинциальным углам чиновников; им часто трудно было выделиться, несмотря на их знания и работоспособность; но ведь и врачи, и адвокаты, которые по материальным соображениям вынуждены сразу же начинать работу вне культурных больших центров, карьеры не делали. За то провинциальная жизнь обычно лучше обставлялась в материальном отношении, особенно для лиц рано, еще на студенческой скамье, обзаводившихся семьями. Кроме того, надо сказать, что многие провинциальные работники, особенно судьи, так привязывались к своей деятельности, что часто отказывались променять ее на более по рангу высокое, но менее интересное для них место. Это наблюдалось мною даже и при материальном недостатке; я знал мировых судей, жены которых сами стирали белье, но которые так дорожили своим положением, своей работой, что их нельзя было соблазнить высшим назначением, например, в прокурорский надзор. Кстати сказать, много таких судей, в качестве представителей «нетрудящегося буржуазного класса» истреблены теперь большевистскими чрезвычайками.
Если и ялично, например, закончил свою службу на вице-директорской должности, то объясняется это, отчасти, тем, что служба моя была прервана войной и революцией, а, отчасти, свойствами моего свободолюбивого характера, потерей с годами вкуса к карьере, предпочтением ей иногда чисто личных стремлений.
Я знаю массу примеров, когда люди, без всяких связей и протекционных путей, достигали большого, относительно, положения, не исключая и министерских портфелей. Мой брат, например, в 38 лет был уже прокурором судебной палаты, несмотря даже на то, что не пользовался расположением министра Щегловитова. Гофмейстер А. В. Кривошеин — молодой министр начал службу в Петербурге, абсолютно не имея никаких ни родственных, ни придворных связей; по натуре своей, поставив себе единственно — главной целью жизни — добиться влиятельного по службе положения, он каждый шаг своей жизни сообразовал с этой целью и добился ее. Приамурский генерал-губернатор и шталмейстер Двора Н. Л. Гондати, также мещанского, подобно А. В. Кривошеину, происхождения, получил назначение на пост, который раньше вообще не предоставлялся гражданским чинам; вся его карьера была делом его личного труда и стремлений. Не стоит перечислять массу других, прошедших перед моими глазами, карьер; я назвал первые бросившиеся мне в память фамилии моих знакомых и начальников. Всем памятны назначения на министерские посты С. Ю. Витте, Ванновского — сына учителя, Боголепова — сына дьякона и т. д. и т. д. Служба в России была, несомненно, демократична, т. к. открывала пути способностям и личному труду для каждого, независимо от его происхождения.
Несмотря на то, что я был назначен в обход, так сказать, многих, ранее меня причислившихся к Отделу, у меня со всею молодежью сохранились наилучшие отношения: элемента несправедливости в моем назначении не было.
Знакомство и сближение мое с чиновниками других отделений Земского Отдела началось с первых же дней службы и постепенно у меня завязывались новые приятельские, дружеские или просто добрые отношения. В ряду этих знакомств один молодой чиновник — такой же причисленный к министерству, как и я, стал одним из самых близких моих друзей на всю жизнь, вплоть до его смерти в 1918 году, когда он, подобно многим другим бессмысленным жертвам нашего столетия, был расстрелян большевистской бандой по дороге в Киев; сначала ходили слухи, что он отправлен в Бутырскую тюрьму в Москве; я, ожидая его в Киеве, переходил от горя к надежде и, наконец, получилось подтверждение его гибели, очевидно, по той же причине, как и десятков тысяч других «представителей нетрудящегося класса», хотя он всю жизнь упорно и добросовестно работал, не имея личных средств и, после 15 лет такой работы, получил вполне заслуженное им назначение на место делопроизводителя в том самом Отделении, в котором я начинал свою службу. Немецкого происхождения с немецкой фамилией — барон Б. А. Симолин был типично русским человеком, для которого Россия была лучшей страной в мире, а родной его город Казань — лучший город в России. Он очень волновался, хотя, как всегда, в очень доброй форме, когда речь заходила о сравнительном значении и преимуществах того или иного Университета; свою Казанскую alma mater он ставил выше даже Московского Университета; любил особенно ссылаться на тексты любимых всеми студентами песен, в которых, действительно, часто упоминается и Волга, и река Казанка с Булаком, и Св. Харлампий, и прочие, дорогие казанцам места. Впрочем, несомненно, провинциальная и тихая по виду Казань, когда я ближе познакомился с этим городом, представляла из себя хорошее культурное гнездо, со своими университетскими, театральными и помещичьими традициями; русскому человеку не мог быть не мил этот городок. В то время я, однако, любитель столицы и Киева, яростно нападал на С. за его пристрастие к глухой провинции и осмеивал его искреннейшие дифирамбы Казани и Волге. На почве сильно развитого во мне национального чувства и потянуло меня к барону С., с которым мы виделись почти ежедневно, даже после того, как он женился на племяннице нашего общего сослуживца и приятеля В.Я.Е-а, несмотря на то, что обычно брак отдаляет людей от их прежней холостой кампании; в молодые годы барон любил «богему»: жил в меблированных комнатах и с особым удовольствием готовил на керосинке какое-то излюбленное им «казанское» блюдо; ел и пил он так заразительно аппетитно, что и после обеда даже многие, не говоря уж обо мне, соблазнялись его стряпней; и в кулинарном деле, как во всем, он был глубоко национален: растягаи [так в тексте], осетрина, ботвинья, соленая капуста кочаном, вобла и т. п. — это были любимейшие его блюда; при кулинарных операциях одевалась обязательно татарская «тебетейка»; изготовление пищи и угощение сопровождалось всевозможными жизнерадостными причитаниями: «ну-ка, Романов, попробуй», и с чувством успешно исполненного долга, мне на вилку подносился какой-нибудь шипящий еще кусок; привычка самому иногда готовить осталась у него и после женитьбы его, к чему несколько иронически, но не без любви относилась его жена, жившая с ним душа в душу. Я вспоминаю о всех этих мелочах с большой любовью, потому что в них заложено было очень много хорошего непосредственного чувства, чего-то свежего и юного, что не ушло от С. до конца его жизни; вспоминаю, как о контрасте с теми представителями, которые принято иметь о столичных чиновниках, как о каких-то сухих безжизненных манекенах.
Частым гостем С. был наш любимец «Принцип», приезжавший, как всегда, на «десять минут» и просиживавший в комнате С. часто до утра, а также неизменный член нашей компании доктор-хирург М. В. Костеркин; последний тоже кончил Казанский университет, поэтому с С. его связывали общие студенческие воспоминания, а кроме того, С., как естественника по образованию, привлекали к К. и медицинские его рассказы. С доктором К. с которым я долго жил совместно, после отъезда из Петербурга Ковалевских, связывала меня такая же дружба, как и с бароном С. Это был удивительно стильный по его простоте и нравственной чистоте, человек. Незаурядный хирург, работавший в одной из крупнейших столичных больниц, он органически ненавидел всякую рекламу, а потому и частную практику имел небольшую; рекламой же он считал не только чтение в ученых обществах рефератов по всякому мелочному случаю из практики, но даже и держание экзамена на степень доктора медицины; он, несмотря на убедительные советы его товарищей, никак не мог понять на что ему надо зубрить различные предметы, не относящиеся к его специальности, когда он имеет массу работы в хирургической больнице. За всю мою Петербургскую жизнь я не помню ни одного случая, когда бы К. опоздал в свою больницу, как бы поздно мы ни засиживались в нашей холостой компании; ровно в 8 часов утра и в будний день, и в праздник К. был на своем месте. По отзывам специалистов, из него выработался очень хороший хирург, но карьера его не занимала. Основной чертой его характера было стремление к абсолютной искренности, поэтому он так и привязался к барону С., у которого душа была на распашку. На меня же К. часто злился, считая, что я люблю «поломаться». Например, садимся ужинать и я, обычно специально для К. говорю: «чувствую, что организм мой требует сегодня мятной водки»; из-под нависших на глаза белых бровей К. сейчас же устремляет на меня злой взгляд: «ну, кому нужно это лицемерие; при чем тут организм? Просто хочешь выпить, так и говори!». В различных вариациях, такие сцены повторялись у нас неизменно при каждом свидании. Барон С. добродушно нас мирил и мы успокаивались до следующей «ссоры». Но любили мы друг друга очень сильно, и когда пришел конец моей холостой жизни К. был чрезвычайно огорчен. Узнав от меня о предстоящем событии в моей жизни, К, хотя было утро (мы были тогда вместе в отпуске в Ялте), лег снова в кровать, закрылся одеялом, долго вздыхал и ничего мне не говорил; очень нескоро из-под одеяла раздался его голос, какой-то странно-задушенный и мрачный: «и кому это нужно?» С браком моим он, кажется, так никогда и не примирился в полной мере. Я был последний холостой его друг.
Барон Б. А. Смолин, кроме кулинарного искусства, служил еще и драматическому искусству, хотя, в общем, имел мало данных для сцены. Я, делая ему рекламу, приходя в театр, громко среди публики спрашивал у кассы прежде, чем купить билет: «а Басанин (он играл под этой фамилией) участвует сегодня?» и, только получив утвердительный ответ, покупал билет; публика удивленно переглядывалась, так как играл он, обычно, второстепенные роли. Один летний сезон, уже будучи на службе, работал даже за плату в секретном порядке, в какой-то профессиональной дачной труппе.
Не буду останавливаться на целом ряде других хороших, добрых, честных, стильных, нешаблонных людей, с которыми я встретился на первом месте моей службы; их было много. Служебный, деловой интерес представляли для меня те, которые уже стояли во главе самостоятельных частей Отдела — «делопроизводств», так как по их знаниям и деловым качествам я мог судить какой ценз требуется для продвижения по службе. В этой среде, так сказать, старших чиновников я познакомился также с рядом весьма незаурядных людей, о многих из которых сохранил на всю жизнь самые лучшие, полные уважения, воспоминания.
Назову наиболее памятные мне.
Вторым помощником управляющего Земским Отделом, в первые годы моей службы, был С. А. Куколь-Яснопольский. Внешне это был человек очень сухой, корректный, с умным лицом, всегда изящно одетый, обычно в визитке. Он был связан всю жизнь сердечной дружбой с другим помощником управляющего, о котором я говорил выше, Б. Е. Иваницким, через которого я, впоследствии, познакомился с С. А. и его семьей частным домашним образом; тогда только я узнал какое благородное, доброе сердце, какая высокая корректность души скрывалась у С. А. за сухой внешней его корректностью. Это был русский джентльмен в полном смысле этого слова во всеми положительными национальными свойствами, с добавлением к ним европейского, скорее всего, английского, воспитания. Излюбленная им отрасль дела была коннозаводство; специалисты признавали его одним из лучших знатоков лошади в России; он всегда следил за литературой о лошади, выписывал массу журналов и различные новинки в этой области. В товарищеском кругу, за стаканом вина, это был остроумный, спокойный, милый собеседник, от общения с которым делалось всегда как-то хорошо, чисто на душе, вероятно, от сознания, что есть на свете такие «уютные» люди и что эти люди — русские, несмотря на свой английский облик. Глубоко религиозный человек и убежденный консерватор, он несколько затерялся, когда настало тревожное время в России; по себе он судил о других и не понял, не угадал той пропасти, в которую вел Россию последний министр внутренних дел Империи Протопопов и продолжал добросовестно сотрудничать в ведомстве уже в должности товарища министра. Но даже знаменитая Верховная Следственная Комиссия Временного Правительства, старавшаяся изыскать возможно более преступлений со стороны царской бюрократии, и та вынуждена была, после первых же допросов, отпустить на свободу благородного С.А., несмотря на служебную близость его к Протопопову; ни в чем, кроме честности, обвинить С.А. нельзя было.
С христианским смирением принял С.А. свою долю лишенного заработка, выброшенного за борт человека; личных средств у него не было и он, в зиму 1921 г. скончался от материальных невзгод в нищете и голоде, считая все происшедшее Волею Бога, на которого нельзя роптать.
От нас из Земского Отдела С.А. ушел, кажется, в 1900 году, будучи назначен на должность начальника вновь образованного, выделенного из состава Отдела, Управления по делам о воинской повинности, в каковой должности его впоследствии, как я уже говорил, заменил его помощник С. В. Корвин-Круковский — мой первый учитель по службе. Дела воинской повинности, чрезвычайно нервные, особенно при выработке и исполнении мобилизационных планов, были не под силу двум делопроизводствам нашего Отдела и затрудняли очень работу управляющего по ведению им других сложных отраслей специально-крестьянского дела.
Поэтому воинские дела и были выделены из Земского Отдела в самостоятельный Департамент или Управление, как стали в последнее время называть департаменты, подобно тому, как за год до поступления моего на службу было выделено переселенческое дело.
У нас знатоком дела по воинской повинности и неутомимым работником в этой области считался делопроизводитель А. П. Федоров, явившийся в новом Управлении главным сотрудником Куколя и Корвина. Подобно всем чиновникам с духовным образовательным цензом, он отличался необыкновенным трудолюбием и строгим формализмом; когда его помощники, во время различных мобилизационных разработок или, в особенности, пробных мобилизаций, уходили куда-нибудь из дома, они обязаны были оставлять точные адреса, например, Мариинский театр, кресло № такой-то. А. П. Федоров прошел школу чиновника у старого дореформенного служаки некого Платова, признававшегося, по введении в России всеобщей воинской повинности, первым специалистом по этому делу. Платов был грубый провинциальный чиновник, во время занятий иногда, в припадке недовольства, запускавший чернильницей в своих помощников. В губернском учреждении, в котором он служил несколько десятков лет, у него вышла грязная юмористическая история, отдававшая гоголевскими временами, которая послужила предметом разбирательства в административном департаменте Сената. Я, из любопытства, прочел указ Сената по этому делу, кстати сказать, хранившийся в делопроизводстве того самого Отдела, на службе в котором состоял виновный. Сущность этого дела, изобиловавшего многими бытовыми подробностями, сводилась к следующему: некий мелкий чиновник Оранжевый получил в подарок от губернатора, при его отъезде к новому месту назначения, брюки; последние очень понравились Платову и он их отобрал от своего подчиненного; тот взбунтовался, наговорил дерзостей, за что П. распорядился выпороть бунтовщика. Сенат подверг Платова вычету какого-то значительного числа лет из времени его службы. Нужны были, следовательно, совершенно исключительные знания и работоспособность, чтобы с таким формуляром попасть в центральное учреждение.
А. П. Федоров усвоил от своего старого учителя все знания и умение работать, но, конечно, без его самодурства и архаичности в служебных отношениях.
При Савиче, да, кажется, и после него, должности делопроизводителей замещались, гл о, чиновниками, особенно выделившимися в провинции, преимущественно на должностях непременных членов губернских крестьянских учреждений; должность делопроизводителя, большей частью, являлась для них переходной на губернаторские или высшие министерские должности (вице-губернаторские, директоров департаментов и т. п.).
Наиболее выдающимися из приглашенных при мне таким порядком делопроизводителей были: Г. В. Глинка, И. М. Страховский и И. И. Крафт.
Г. В. Глинка — юрист Московского Университета, помещик, земец, бывший одно время помощник знаменитого присяжного поверенного Плевако и затем непременным членом крестьянского присутствия в своей родной Смоленской губернии, единственный в живых близкий родственник нашего великого композитора — представлял из себя, во многих отношениях, человека совершенно незаурядного и выдающегося знатока сельского быта и права. Я постепенно сблизился с ним до искренне-дружеских отношений и впоследствии значительную, лучшую часть моей службы провел под непосредственным его начальством. Поэтому, в дальнейших моих воспоминаниях, мне придется еще возвращаться неоднократно к этому дорогому мне, по многим причинам, человеку, несмотря на те служебные трения и, так сказать, «сцены», которыми изобиловали наши отношения по службе.
За время моей работы в Земском Отделе я был на дому у Г.В. не более двух-трех раз. У меня остался в памяти красивый строгий облик его матери, которую он обожал, по-видимому, в такой же степени, как я свою бабушку; с тем же обожанием относился он к своему единственному сыну Воле? — молодому правоведику, перешедшему потом в Политехнический институт; впоследствии Воля и его жена составляли всю семью Г.В., и он с ними почти не разлучался. Невероятно тяжелую душевную боль и борьбу пришлось пережить прежде чем решиться сообщить Г.В., что его Воля убит большевиками при первом занятии ими Киева в 1918 году.
Отличительной чертов Г.В., которая не изменилась в нем никогда, была его глубокая религиозность и столько же глубокий национализм, какая-то прямо болезненная любовь ко всему родному, в особенности же к нашему крестьянству. Религиозность его выражалась не только в обычном посещении богослужений, но и в выдающемся знании священных писаний и церковной истории. Народничество его принимало порою какие-то даже уродливые формы, которые на службе злили, а в частной жизни смешили. Он убежденно или просто бессознательно как-то, в этом я не мог разобраться, считал, что умнее русского крестьянина нет никого и ничего на свете, почему «интеллигентское» вмешательство в его жизнь может быть часто только вредно: сам, мол, народ отлично разберется в том, что ему надо. Довольно сумбурные взгляды его на этот предмет были проникнуты чем-то вроде Толстовского утопизма. Конечно, в них была огромная доля истины — мы скоро, без сомнения, будем свидетелями, а если не мы, то наши дети, мощного расцвета крестьянской России, надо думать, с призванным крестьянством царем во главе; но до такой идеологии не доходил тогда Г.В., а просто в мелочах злился на всякие вредные, по его мнению, опыты с крестьянством; например, злобствовал он часто на ученых агрономов, считая, что они дают крестьянам не то, что им надо; начинались нападки его на агрономию всегда с примера, как когда-то в его уезд приехал какой-то агроном для чтения крестьянам лекций по молочному хозяйству: «читал, читал», злобно говорил Г.В., «а не догадался сукин сын, узнать сначала, есть ли у крестьян коровы; на кой черт им знать, как получаются молочные продукты и как по интеллигентному ходить за коровой, когда самой-то коровы, черт ее дери, нет!»
В Земском Отделе Г.В. дослужился до должности помощника управляющего этим отделом по делам продовольственным; фактически в его руках, таким образом, было сосредоточено руководство всем продовольственным делом Империи. Когда Савича на должности управляющего Отделом заменил Гурко, то последний, как человек очень властный, начал теснить Г.В., предполагался даже перевод его на низшую должность, но он уехал в командировку и странствовал до тех пор, пока не состоялось назначение его на должность помощника начальника Переселенческого Управления, по приглашению тогдашнего начальника этого управления А. В. Кривошеина; в этом управлении, которое Г.В. скоро и надолго возглавил, открылась ему широкая почва для его талантливой энергии и любви к крестьянам; широко и бесплатно наделять землею крестьянские массы — это наиболее отвечало душевным стремлениям и бессознательным идеалам Г.В. О моей работе в этом управлении, под бессменным руководством Г.В., я расскажу ниже, теперь же вернусь к сослуживцам по Земскому Отделу.
И. М. Страховский представлял из себя тип ученого юриста; всегда ровный, спокойный, приветливый, он и на службе, и дома более всего интересовался правовой стороной крестьянского дела; его статьи, в популярном среди юристов журнале Гессена и Набокова «Право», отличались тонким анализом, изящным стилем и обращали на себя внимание в юридическом мире. Не знаю, каким он был губернатором (без сомнения строго лояльным и корректным), но настоящее место его, конечно, было в столице; какие причины помешали ему удержаться в Петербурге — я не помню.
И. И. Крафт, даже для смелого по выбору сотрудников Савича, представлял весьма необыкновенное явление в петербургской канцелярии. Провинциал-сибиряк, без всякого образовательного ценза, он начал службу почтальоном или сортировщиком писем в г. Якутске; одно время был даже волостным писарем; на свой опыт, будучи уже губернатором, он любил ссылаться в разных важных совещаниях, чем приводил в немалое изумление других губернаторов и различных сановников. Постепенно, работая над своим самообразованием, читая, он дослужился в Сибири до советника Забайкальского Областного Правления, где на его способности обратил внимание военный губернатор области и наказной атаман Забайкальского казачьего войска Барабаш, взявший с собою И.И. на должность старшего советника Тургайского Правления, когда он был переведен на должность военного губернатора в той области; здесь И.И. близко ознакомился с бытом и правовым положением киргизского населения, среди которого пользовался большой популярностью; по поводу последней, врагами И.И. распространялись ложные слухи о небескорыстной роли его в деле защиты киргизских интересов; он, действительно, понимал интересы эти довольно односторонне, как видно будет ниже, но, без сомнения, искренно и глубоко любил киргизов; маленькие же сбережения его, за весьма продолжительную службу и очень экономную жизнь, были лучшими показателями его честной работы. В Оренбурге, являвшемся центром управления не только Оренбургской губернии, но и Тургайской области, почему это был единственный в России город, в котором проживало два губернатора, Крафт начал заниматься в архиве и в результате издал ценную работу: комментированные законодательно-историческими первоисточниками и сенатскими разъяснениями положения о степных областях и киргизах. Эта работа, по переезде его в столицу, открыла ему двери Археологического института, несмотря на отсутствие даже среднего образовательного ценза, и он окончил курс этого Института, уже будучи на службе в Земском Отделе.
Савич о деятельности Крафта имел сведения от Барабаша и, конечно, как только освободилась вакансия делопроизводителя по делам сибирских и степных инородцев, пригласил его на эту должность.
Глубокий провинциализм Крафта, самый внешний его вид — он нарядился в какой-то чрезвычайно дешевый сюртук, купленный, по случаю, за 8 рублей и, согласно столичной моде, в цилиндре, приобретенном на толкучем рынке, весь какой-то взъерошенный, как пудель, — все это долго служило предметом различных веселых шуток со стороны сослуживцев. Помню, как один мрачный циник, разочарованный в женщинах, презиравший и любивший их только в самых грубых целях, уговорил Крафта поехать с ним в «высшее светское» общество Петербурга; Крафт испугался, но после долгих уговариваний, согласился и был привезен на маскарад в приказчичий клуб, известный своими, легкого поведения, маскарадными дамами. Его спутник предупредил его, чтобы он ничему не изумлялся, так как столичные нравы отличаются необыкновенной вольностью по сравнению с сибирскими. Несмотря на это, Крафт, изумленный роскошью зал старинного особняка, который занимал Приказчичий Клуб, был все-таки совершенно потрясен, когда услышал разговоры и почувствовал на самом себе, действительно, необычайно свободные жесты двух дам, которым он был представлен в необыкновенно почтительной форме его товарищем. Пока его дергали за его длинную бороду, он еще считал, что это признаки великосветского вольнодумства, но, когда началось еще более фамильярное обращение, он догадался в какой круг общества ему пришлось попасть в первые же дни его столичной жизни. Савич, которому рассказали об этой истории, много смеялся, вызвал Крафта к себе и, притворяясь серьезно рассерженным, сделал ему выговор на тему, что вот, мол, серьезный человек, так сказать, ученый, и вдруг, не успел приехать в столицу, как попал уже в полусвет, т. е. пустился по скользкому пути. Крафт, принимая шуточный разнос начальства за серьезный, был очень сконфужен, оправдывался, что он ехал с целью познакомиться с Петербургским светом и т. д., и вышел из кабинета Савича красный, как рак, в недоумении, кто мог донести Савичу о его приключении.
Через несколько дней Савич лично уже встретил Крафта поздней ночью с дамой, наружность которой не оставляла сомнений, что она принадлежит к завсегдатаям приказчичьих маскарадов. На ближайшем докладе Крафта Савич спросил, что это за дама гуляла с ним. Крафт опять сконфузился и нерешительно проговорил, что это племянница губернатора Барабаша. Савич только улыбнулся по поводу столь наивной хитрости Крафта.
В самом департамента Крафт, приходя на службу, по провинциальной привычке, рано утром, по ошибке представлялся курьерам и т. п., а раз был сбит окончательно с толку: в каком-то доме он играл в винт с важными чиновниками, среди игроков был некий Мацкевич. Когда на другой день Крафт пришел на службу, первое лицо, встретившееся ему в вестибюле, был именно Мацкевич, которого Крафт поспешил почтительно приветствовать, как нового своего знакомого. Вдруг сверху раздается голос нашего курьера Катона: «Эй, Мацкевич, послушай, приехал уже товарищ министра?» Крафт остолбенел от такого фамильярного обращения с Мацкевичем, но потом узнал от меня, что Мацкевич главный курьер Переселенческого управления, в помещении которого находится и кабинет одного из товарищей министра.
Несмотря на свою деловую серьезность, чрезвычайно солидный внешний вид: большая черная борода, очки, глухой, как из бочки голос, очень застенчивые манеры, Крафт имел большую слабость к женскому полу, различным веселым похождениям, осложнявшимся нередко довольно серьезными неприятностями, из которых иногда и мне приходилось его выручать.
Пробыв много лет в должности губернатора, сначала Якутского, а потом Енисейского, т. е. исключительно личным трудом достигнув предельного для него служебного положения, он умер во время войны, как-то одиноко, на руках одного моего сослуживца: «придется сделать последнюю в жизни глупость», сказал он в последнюю минуту. Материалистических взглядов на жизнь, чуждый, какой бы то ни было метафизической философии, абсолютно ничего не понимавший в музыке, да и вообще в искусстве, он был честной рабочей силой сибирского уклада; сблизить меня с ним могла только работа, и в этой области я ему очень многим обязан, о чем скажу несколько слов ниже.
При мне был приглашен из провинции Савичем, на скромное место старшего помощника делопроизводителя, и такой необыкновенно способный человек, как П. П. Зубовский, впоследствии товарищ министра земледелия.
Из делопроизводителей, которых я застал уже в Отделе от прежних времен, особенно остались в моей памяти, как наиболее характерные, П. И. Рождественский, Д. И. Пестржецкий и В. И. Якобсон.
Рождественский был делопроизводителем со дня учреждения Земского Отдела в 1861 году, т. е. работал еще в Отделе, как в канцелярии Комитета по освобождению крестьян; не в пример прочим, он имел чин тайного советника. По внешности он сохранил вид чиновников эпохи Императора Николая I: брил усы и подбородок, носил пушистые, всегда аккуратно причесанные баки; клок волос на лбу был всегда завит; для приведения его в такой вид, к нему на дом каждое утор являлся парикмахер. Со всеми сослуживцами одинаково, не исключая совершенно зеленой молодежи, он был поразительно любезен и ласков; в старческих его глазах светилась такая масса любви к людям вообще, а к товарищам по службе в особенности, что о нем смело мог бы Гоголь сказать: «вот, кто исполнил мой совет не терять по дороге к старости движений молодой души, сберечь их до конца». Умер он, получив давно заслуженное им назначение на должность члена Совета Министра.
Д. И. Пестржецкий, подобно И. М. Страховскому, был чиновник ученого типа и впоследствии получил, действительно, профессуру в Училище Правоведения. Подобно большинству кабинетных работников, он был человек очень рассеянный, но желая быть всегда любезным, он для каждого сослуживца имел обычную готовую фразу для недолгого и легкого собеседования при встрече. Меня он, например, любил встречать фразой: «а все-таки слышен у вас малороссийский выговор», другому моему сослуживцу — семейному человеку — бросал ласково всегда: «ну, как здоровье ваших деточек?». Потом, перепутав через несколько месяцев к кому относятся деточки, а к кому малорусский выговор, начинал справляться у меня о здоровье тех, кого я никогда в жизни не имел. Я не обращал на это внимания и так же ласково, как задавался вопрос, отвечал глубокой благодарностью. Д. И. Пестржецкий был при мне главным составителем и редактором знаменитых Горемыкинских сборников крестьянских законов.
В. И. Якобсон, удивительно добрый, мягкий и воспитанный человек, был фанатиком чиншевых дел, которые были сосредоточены в его делопроизводстве. Он убежденно считал дураком всякого высшего чиновника, если он пытался не соглашаться с его заключениями; он мне очень хвалил в Земском Отделе только одного Б. Е. Иваницкого: «все-таки Борис славный и умный человек», говорил он мне (за глаза Иваницкого почти все называли Борисом), «не то, что такие-то» и далее шел длинный синодик бывших и нынешних видных чиновников крестьянских учреждений, сенаторов крестьянского (2-го) департамента и пр., «он все-таки понимает сложность и своеобразность чиншевых дел». На мои расспросы в чем именно выражаются знания Б.Е. в области этих дел, я получал разъяснения, которые, в сущности, указывали на полное равнодушие Б.Е. к чиншевому праву и совершенно правильное доверие его к такому специалисту, как В.И., бумаги коего, рапорты в Сенат, главным образом, пропускал Б.Е. без всяких разговоров. Те же, кто пытался «разговаривать» с В.И. и возражать ему, заслуживали от него эпитет дурака; поэтому у него, при всей его доброте, был целый ряд сановников, которых он считал чуть ли не своими личными врагами. Молодежи, интересовавшейся тем или иным чиншевым институтом или данным крупным процессом, Якобсон всегда очень охотно и радостно читал целые лекции; такие же лекции он иногда преподносил и группам приезжавших в Петербург крестьян-просителей, которые, любя всякую «ученость», прямо благоговейно ему внимали. Он с такой ревностью относился к порученным ему делам, что раз, уехав в отпуск, распустил своих помощников и, к изумлению начальства, запер на ключ свой кабинет, чтобы никто не мог в его отсутствие, «впутаться в его область».
Говорили, что он неоднократно отказывался от более выгодных по службе назначений, лишь бы не расстаться со своей излюбленной работой.
В последний раз, перед войной, я встретился с Якобсоном на одном товарищеском обеде; полушутя я напомнил ему об одном чиншевом процессе, слушавшемся в Сенате и затем высказал свои соображения почему Якобсон хорошо относился только к одному Б. Е. Иваницкому. Он очень оживился, начал со мною спорить, но было время расходиться и он несколько раз повторил мне, что нам надо будет еще встретиться, чтобы подробнее побеседовать по затронутому мною вопросу. Следующая и последняя наша встреча произошла на площади Министерства внутренних дел у Чернышева моста в день первого выступления большевиков. Трещали пулеметы, в городе царило какое-то бестолковое волнение, все торопились по домам, и я радовался, что добираюсь до тихого сравнительно Чернышева переулка; вдруг на площади меня останавливает знакомый ласковый голос, такой же спокойный, как всегда: «мамочка, откуда это вы, куда?» С портфелем дел передо мною стоял милый В. И. Якобсон. Слово за слово, под треск пулеметов, на который он не обращал никакого внимания, Якобсон вдруг вспомнил о нашем «чиншевом споре» за последним обедом; «э, нет, мамочка, этого так оставить нельзя, нам надо, как-нибудь, подробно побеседовать; сейчас, конечно, не совсем удобно, но если задержитесь в Питере, то зайдите к нам в министерство; мы подробно поговорим, и я вам прочту выдержки из моего рапорта в Сенат». Я не задержался в столице ни одного лишнего дня, и собеседование наше так и не состоялось. Я уверен, что до последней возможности фанатик своего дела Якобсон оставался на своем скромном, но полезном посту.
Взаимному сближению всех чиновников Земского Отдела много способствовали ежегодные наши обеды в день освобождения крестьян — 19 февраля. Через месяц службы, побывав на таком обеде, я с большинством сослуживцев, согласно обычаю Отдела пить брудершафты, был на «ты». Обеды наши носили очень теплый задушевный характер; в них принимали участи не только служащие 30, но, большей частью, и тех Управлений, которые выделились из его состава: Переселенческого и Воинского. Председательствовал на обеде старейший по возрасту, а не по должности, т. е. в течение лет десяти, кажется, наш заслуженный делопроизводитель П. И. Рождественский; когда подавалось шампанское П.И. торжественно вставал и прочувственным дрожащим старческим голосом произносил: «первый в благоговейном молчании тост наш памяти незабвенного Царя-Освободителя Императора Александра Николаевича». Затем им же провозглашался тост за здравие «ныне благополучно царствующего Государя Императора Николая Александровича», и этими двумя тостами старец Рождественский считал свои председательские обязанности законченными. Начинались различные тосты, спичи и речи, без разрешения председателя обеда. В бюрократической жизни, до введения у нас представительных учреждений, обеды, в сущности, были почти единственным местом применения ораторских талантов чиновников, так как в старом Государственном Совете или Сенате приходилось выступать только самым высшим министерским чинам. Не будь Государственной Думы, никто и не подозревал бы какой сильный оратор скрывается, например, в Столыпине. Русские любят поговорить, и за обедами нашими произносились даже почти «программные» речи, направление которых колебалось в зависимости от подъема или упадка патриотически-национальных настроений в России; в период реакции, например, при Сипягине, в речах слышались оппозиционные ноты, они восхваляли более всего самую великую реформу, стараясь подчеркнуть игнорирование современности, в период же конца Японской войны и угроз по адресу верховной власти поднималось чувство защиты ее от разрушителей, исполнялся многократно гимн, говорились горячие патриотические тосты — чиновничество отражало на себе переживание страны. На одном из первых моих обедов я нашел у себя под салфеткой, так же, как и все мои соседи, воззвание о необходимости свергнуть «тирана» и т. п., составленное в знакомых мне уныло-шаблонных тонах студенческих прокламаций. Как могли незамеченными пробраться в такой ресторан, как Донон, где ранее обычно устраивались наши обеды, распространители прокламаций — не знаю. На том же обеде была сказана самая длинная речь, какую мне когда-либо приходилось слышать за обедом, почему у меня едва не вышло столкновение с оратором, закончившееся, в общем, хорошими приятельскими отношениями. Это был вновь причисленный к Отделу В. А. Глухарев, перешедший вскоре к более удовлетворявшей его наклонностям службе по прокурорскому надзору. Он, действительно, говорил очень свободно, красиво, но с невероятными длиннотами. Начал он свою речь «осени себя крестным знамением русский народ» и рассказал нам всю историю освобождения крестьян; так как во время речей нельзя было шуметь, трудно было даже есть и пить, я не выдержал, прервал его речь и сказал, что вывод из речи Глухарева уже ясен — он хочет предложить нам тост за русского крестьянина; произошло крупное объяснение с обиженным Глухаревым, но нас вскоре помирили. Из-за красного словца Глухарев часто вредил себе по службе; так во время усиленных работ по хуторскому устройству крестьян, когда новый управляющий Земским Отделом увозил на лето к себе некоторых молодых чиновников для разработки каких-то материалов по земельному устройству, Глухарев в своей застольной речи наговорил чего-то такого о «хуторских мальчиках», что управляющий на другой день после обеда заявил ему: «ну, счастье ваше, что вы предпочитаете прокурорскую службу крестьянскому делу». Обычно, в том же ресторане, но в другом зале, обедали мировые посредники первого призыва; депутация от нас приносила им поздравления с великим днем, а затем некоторые из них приходили к нам для ответного приветствия. Ряды этих заслуженных деятелей с каждым годом редели. Помню в среде их характерные лица Семенова-Тяньшанского и князя Хилкова. Однажды появился среди нас сын знаменитого Унковского; он пожелал нам, чтобы Земский Отдел был всегда «не от дел, а к делам». Впоследствии я познакомился с этим необыкновенно жизнерадостным и подвижным человеком ближе; он совершенно не мог обходиться без острых словечек: «это вы, М.А.?», сейчас же раздается радостный ответ: «c'est je, как говорят французы»[3], и дальше целый каскад прибауток.
Особой торжественностью отличался наш обед в день пятидесятилетия освобождения крестьян. Обед был устроен в большой квартире Министра Внутренних Дел на Морской улице; председательствовал за обедом П. А. Столыпин, рядом с ним сидели разные министры или бывшие министры: И. Л. Горемыкин, В. Н. Коковцов, И. Г. Щегловитов, А. С. Стишинский и проч. В своем тосте за сотрудников его по крестьянскому делу, Столыпин, охарактеризовав значение каждого отдельного ведомства, предложил выпить за Щегловитова, за тем за Коковцова и т. д. Коковцов немедленно использовал эту умышленную или без умысла рассеянность нашего премьера и в ответном тосте сказал: «почти лице старче»; так как П.А. забыл об этом старом правиле и так как ведомство финансов имеет для крестьянского дела более значения нежели министерство юстиции, то он считает себя вправе ответить на тост П. А. Столыпина, нарушив установленный им порядок, т. е. ранее министра юстиции. Нас, молодых чиновников, почему-то происшедший «маленький конфликт» очень развеселил и мы, находясь уже под влиянием «закуски», устроили оратору, после его речи, шумную овацию, пели «чарку» и заставили П. А. Столыпина выпить бокал шампанского «до дна», что, как мы потом узнали, ему не разрешалось по состоянию его сердца.
Через год после моего поступления на службу меня постигло первое служебное огорчение. По натуре своей, в личной жизни я был глубоким консерватором: не выносил никаких перемен, сильно привязывался к людям и к месту; идеалом моим было прожить, как Гончаров, лет сорок на одной улице в одной квартире, прослужить всю жизнь в одном учреждении с одними и теми же людьми; поэтому то я так боялся Сибири. И вот вдруг, совершенно неожиданно, мне передают распоряжение Савича о переводе меня в инородческое делопроизводство, в помощь к вновь назначенному делопроизводителю И. И. Крафту. Грустно было расставаться и с привычной мне компанией ближайших сослуживцев, и с делами, которые уже юридически становились для меня привычными и понятными и интересными; еще грустнее стало мне, когда я увидел внешне довольно мрачную провинциального вида фигуру моего нового начальника.
Я был единственным помощником Крафта; в первый месяц он был занят каким-то срочным законодательным представлением, говорил со мною мало и заваливал меня исполнением каких-то многочисленных мелких статистических справок; пришлось заниматься самыми нелюбимыми моими операциями — арифметическими. Меня снабдили чрезвычайно ценными и полными статистическими обследованиями Забайкалья, произведенными Комиссией известного деятеля Сибирского Комитета А. Н. Куломзина. Этот выдающийся бюрократ был главным вдохновителем работ образованного еще при императоре Александре III комитета по перестройке Сибирской железной дороги. Занимая, по сравнению с местами министров, подчиненное положение управляющего делами Комитета Министров, а затем и Сибирского, фактически Куломзин пользовался громадным влиянием, и его выдающимся способностям и умению работать, не покладая рук, Сибирь обязана началом всех тех колонизационных мероприятий, которые были связаны с постройкой великого железнодорожного пути мирового значения. В широкой публике труды даже первостепенного государственного и научного значения, которые появлялись в так называемых бюрократических сферах, почти совершенно не были известны: ими пользовались только специалисты; пресса их замалчивала; поэтому-то и имели место такие случаи, как, например, присуждение степени доктора политической экономии бывшему ревизору землеустройства А. А. Кауфману, тотчас же после того, как он вынужден был оставить государственную службу, за его старую работу, которой ранее никто ни в обществе, ни в прессе не интересовался. Живи Куломзин в другом государстве, где оппозиция введена уже в нормальное русло, в нормальные условия борьбы, он, несомненно, имел бы за свои труды ученые степени и, во всяком случае, не оставался бы известным только узкому кругу чиновничества; впрочем, и в среде последнего так мал был интерес к Сибири, что Куломзина знали больше по различным слухам о его оригинальном властном характере, о его, так сказать, самодурстве. Этими слухами ограничивались и мои сведения о Куломзине. Я знал, например, что когда ему представлялись два окончившие курс лицеиста, причисленные к канцелярии Комитета Министров, он справился у каждого по очереди относительно образовательного ценза; первый гордо заявил: «Императорский Александровский лицей с золотой медалью». Куломзин на это раздраженно заметил: «Золотая медаль, зубрила, ничего хорошего из первых учеников никогда не получается». Второй, услышав это замечание, очень подбодрился, ибо окончил Лицей весьма средне, но и ему Куломзин сказал неприятность: «В таком легком учебном заведении как Лицей и не получить даже медали; лентяй, чего же можно ожидать от вас на службе?» Позже, в 1905 году, во время разных забастовок, весь Петербург говорил о том, как Куломзин добровольно взял на себя обязанности почтальона и сумкой отлупил швейцара в каком-то аристократическом доме за наглый его вид и какую-то дерзость. С трудами Куломзина, а не анекдотами о нем, мне пришлось впервые познакомиться в Отделении И. И. Крафта. Среди сухих цифр и небольшого к ним текста нескольких десятков зеленых толстых томов о Забайкалье передо мной вставали громадные богатства этого края, жизнь бурят, казаков и каких-то «семейских» старообрядцев, огромность задач по устройству такого края — одним словом, я вступил в область чего-то совершенно нового, неведомого, ничего общего не имевшего с так хорошо изученными мною Римом, Афинами, Троей и проч. Первые мои статистические шаги под руководством Крафта ознаменовались довольно крупным скандалом. Однажды Крафт меня поздравил: «со вчерашнего дня вы приобрели некоторую известность в Комитете Министров; благодаря вам было отложено его заседание». Оказалось, что я, взяв, по ошибке за множитель не 0,5, как следовало, а 1,5, преподнес в своей справке такое количество кедровых орехов в каких-то бурятских волостях, что у Куломзина явилось сомнение в правильности вообще наших исчислений, и назначенное к слушанию дело пришлось отложить.
Чем более я работал в инородческом делопроизводстве, тем более возрастал мой деловой интерес. Текущей мелкой переписки у нас было мало; европейские губернии России больше давали всяких жалоб и проч.; Сибирь далека, и местному населению не до переписки со столицей. Оставалось достаточно времени для чтения даже в служебные часы, а читать было что: по какому-то странному исключению, дела инородческого делопроизводства, со времени Императора Николая I, ни разу не сдавались в архив; вся старинная переписка, с некоторыми подлинными резолюциями Николая I и следующих императоров, была у нас под рукой; имелся ряд интереснейших докладов Сибирских генерал-губернаторов и губернаторов; имелась многотомная переписка по, знаменитому, но ранее мне, конечно, совершенно не известному делу расхищения башкирских земель; эта башкирская эпопея чрезвычайно меня заинтересовала и, по поручению Крафта, я даже составил записку, в которой изложил свои соображения, как следовало бы в земельном отношении устроить башкир, чтобы избежать непроизводительной гибели их крупных надельных лесов. Вся сущность «башкирской панамы» заключалась в том, что пользуясь избытком земли в башкирских наделах, наше дворянство, под видом культурно-колонизационных задач, скупало за бесценок, со спекулятивными целями, громадные лесные и земельные пространства до тех пор, пока на это явление не было обращено внимание Правительством, когда сделки были признаны недействительными, а виновные лица заключены на различные сроки в тюрьму, в том числе и несчастный Оренбургский генерал-губернатор Крыжановский, абсолютно честный человек, ставший жертвой легкомыслия его жены и, кажется, дочери. Император Александр III, этот «защитник классовых интересов высшего сословия», как называла его всегда наша либеральная пресса, запретил совершенно приобретение дворянами башкирской земли; право приобретать ее предоставлялось только крестьянам. Можно смело сказать, что некультурный и ленивый народ — башкиры погибал только от того, что имел в своем пользовании земельные пространства, далеко превышающие трудовую норму; с этим народцем, конечно, в иной, более примитивной форме, происходила та же история, что со значительной частью наших помещиков после освобождения крестьян: кто не хозяйничал сам, а проживал в столицах или за границей, привыкнув «лодырничать», шел быстрыми шагами по пути разорения. Башкир, сдав в аренду часть своих земель и продав часть леса, даже при самой дешевой цене, мог, ничего не делая, пьянствовать всю зиму, от труда отвыкал, а земельное его имущество хищнически эксплуатировалось и истощалось. Тот же самый, что у помещика, путь к разорению. Моя записка о принудительном отчуждении хотя бы надельных лесов по тогдашнему времени оказалась, конечно, слишком смела. Один мой сослуживец, считавший себя либералом, которому Крафт дал мою работу на заключение, в конечном своем выводе написал даже такую фразу: «одним словом, автор предлагает, в сущности, ограбить башкиров и затем выпороть их». Предположении о «порке», вероятно, было основано на том, что, по моему мнению, в случае каких-либо беспорядков при проведении земельной реформы можно было бы опереться на военную силу. Это был первый момент в моей службе, когда я стал неизменным сторонником принудительного отчуждения земельных латифундий по соображениям общегосударственным, т. е. усвоил, отчасти, точку зрения на земельный вопрос формулированную впоследствии в программе партии народной свободы.
Вспоминая о башкирских делах, не могу забыть о таком курьезе: как-то в наше делопроизводство был назначен на должность журналиста, т. е. чиновника, записывающего входящие и исходящие бумаги, скромный пожилой человек, не обычного писарского вида, а интеллигентный; говорили, что это гимназический товарищ нашего товарища министра А. С. Стишинского, какой-то неудачник. Роясь в шкафах, расставляя дела, новый наш журналист вдруг нашел том башкирской эпопеи; он страшно оживился; в шесть часов вечера не пошел домой; утром, придя до начала занятий, я его застал уже на месте, в пенсне, жадно читающим архивные дела; он весело на меня посмотрел и сказал: «Боже мой, как интересно, масса знакомых лиц!» Потом я узнал, что он по окончании юридического факультета служил по судебному ведомству в Оренбургской губернии и сам просидел довольно долго в тюрьме за участие в «башкириаде». Не только значит «сладкий дух березы», но и воспоминания о тюрьме за уголовщину могут светлые юные воспоминания.
Чтение архивных дел дополнилось живым словом моего нового учителя И. И. Крафта; сначала урывками на службе, а потом, когда мы сблизились и когда под неряшливой и несколько суровой внешностью его я открыл содержательного, много видевшего и знающего человека, и на дому у него я выслушивал интересные повествования его об условиях сибирской жизни вообще, в частности о быте и нуждах различных наших инородцев, в особенности же киргиз, якут и бурят. Раз в месяц мы небольшой компанией собирались в ресторане, где за обедом и после него И. И. Крафт продолжал свои рассказы, иногда читал что-нибудь из написанного им. Кроме нескольких ближайших сослуживцев бывал в нашей компании переселенческий чиновник Кигн [в тексте первоначально — Кингль], известный в журналах под псевдонимом Дедлова; он расширял мои сведения о далеких наших окраинах. Так, помимо своей воли, но по воле судьбы, я втягивался в изучение, в интересы той громаднейшей части России, которая первоначально столь пугала меня. Я, избалованный культурными впечатлениями столичной жизни, воспитанный на классицизме, относился, конечно, весьма скептически к тем дифирамбам, которые пел Крафт шири и приволье сибирской жизни, а в особенности патриархальным нравам полудиких племен Азии; мыслей его о необходимости почему-то оберегать этот архаический быт я не понимал, спорил с ним, доказывая необходимость энергичного обрусения. Знакомство мое с приятелями Крафта — киргизами, приезжавшими иногда в Петербург хлопотать по делам их обществ, не убеждало меня, чтобы стоило сохранять в неприкосновенности их быт. Это были очень приветливые разумные люди, но они так были далеки по их стремлениям от моих идеалов, так были чужды того, что особенно было дорого мне, в особенности нашего искусства, что я первоначально отказывался найти общие точки соприкосновения с ними.
Являясь к Савичу они одевались в какие-то восточные дорогие одеяния; особенно бросался в глаза совершенно фантастический головной убор их — какие-то позолоченные ковчеги; я старался разузнать у них какое значение имеют различия у каждого формы этого убора, когда и кем они установлены, не обозначают ли они принадлежности к определенному роду и т. д.; ответы были всегда уклончивые, с хитрой, слегка смущенной улыбкой; впоследствии сблизившись более и заслужив большее доверие, я узнал, что экзотическая форма представителей киргиз была совершенно вольным измышлением их, значительная часть ее снаряжалась даже уже по приезде в столицу и цель всего этого маскарада заключалась в желании возможно более импонировать петербургскому начальству. Не те же ли самые причины побуждали в свою очередь столичных чиновников заказывать себе форменные сюртуки, которых мы никогда не надевали в городе, фуражки и проч. При отъезде в провинциальную командировку? Кто к кому приспособлялся и кто над кем посмеивался в этих случаях — киргиз ли над бюрократом или последний над азиатом? Так и китайцы, презирая европейский вкус ко всему пестрому, выделывают для Европы различные мелочи в том стиле, который последняя наивно считает истинно-китайским.
С киргизами Крафт ездил в Мариинский театр; давали оперу «Дубровский» с Н. Н. Фигнером в заглавной роли. Мне Крафт с торжеством заявил, что наши гости признали Фигнера гораздо более слабым певцом по сравнению с какой-то своей степной знаменитостью; самая обстановка, по их мнению, была несравненно менее благоприятна для пения и наслаждения им, чем безграничная степь при закате солнца или в лунную ночь, когда самый запах трав как бы тянет к песне; в чтении пушкинский «Дубровский» им гораздо больше нравился, чем на сцене. Сам Крафт находил, что опера — это какой-то такой сплошной шум, что можно только удивляться бездействию полиции, которая не составляет протокола за нарушение общественной тишины.
Так, в лице моем и степных друзей Крафта, сталкивались два мира: один — искусственного романтизма, другой — живой природы, естественности. Но оба эти мира уже незаметно соединились мостиком; было одно имя, которое одинаково звучало и для меня, и для азиатов: Пушкин не был для них пустым звуком; они уже его читали, они его знали. Над этим стоило задуматься; это уже вырисовывало перспективы захватывающего интереса, это говорило о той мировой роли, которая суждена России в Азии, не потому, что сильна русская армия, а потому, что русский народ мог дать Пушкина.
По мере моего развития становилось ясно, что в наших спорах были неправы мы оба: и я, и Крафт. Я хотел разрушения быта, национальности; Крафт, идеализируя его, мечтал о его сохранении чуть ли не во всей неприкосновенности, как-будто бы можно было отвратить неизбежный ход исторического развития. На этой почве Крафт боролся за сохранение в возможно большем размере степных латифундий за киргизским народом. Отводом земельных участков под переселение крестьян ведал тогда Департамент Государственных Имуществ Министерства Земледелия, где ревизором землеотводных работ был упоминавшийся мною ранее энергичный и талантливый А. А. Кауфман. Между ним и Крафтом происходили на почве взаимно-противоречивых стремлений их частые трения; Крафт не любил лично в таких случаях беседовать с Кауфманом и поручал переговоры мне. Я помню, как иногда раздражался Кауфман и говорил мне: «да повлияйте вы на вашего киргизофила; он уже черт знает чего домогается; так ведь киргизы навеки останутся пастухами, а русскому крестьянину не останется в степях ни одной пяди земли». Я убежденно был на стороне Кауфмана, на стороне государственно-принудительного распределения земель. Курьезно, что через десять лет та же самая кадетская партия, к которой принадлежал Кауфман, старалась дискредитировать работу переселенческого ведомства в степных областях, работу, основанную на точных статистических данных, по тем только основаниям, что требовалась оппозиция правительственным аграрным мероприятиям во что бы то ни стало. Но об этом придется поговорить мне еще подробнее в своем месте.
В различных киргизских знакомых моих не мало изумляло меня в начале, что среди них были люди с высшим образованием — юристы, доктора. Мы так привыкли, что образованный человек уходил у нас от народа, от его толщи, что возвращение универсантов-киргиз [так в тексте] в родные их степи показалось мне с первого взгляда особенно симпатичной чертой. В этом отношении я разделял восхищение Крафта. Но впоследствии понял ошибку. Образованный киргиз обычно принадлежал к классу богачей, различных родовых начальников; ему не было никаких оснований бросать свое состояние на произвол судьбы; он, в сущности, возвращался не к народу, а к своему имуществу и привилегированному положению. Кочевой быт при сосредоточении громадных пастбищ в руках отдельных семей, сильно способствовал крайне неравномерному распределению материальных средств среди киргизского населения. Отстаивая киргизские интересы, Крафт как впоследствии и правительственная оппозиция в Государственной Думе, не давали себе или не хотели дать себе отчета, что они, в сущности, являются защитниками классовых, а не народных интересов в киргизских степях. С течением времени среднее и высшее образование, действительно, стало проникать в толщу киргизского населения и, действительно, к чести киргиз надо сказать, что их образованные люди, не в пример нашим, получившим образование крестьянам, возвращались в свои родные деревни — кочевья. При сохранении национальной низшей школы и разумных аграрных мероприятиях, киргизское население постепенно, без резкой ломки и насилия, обращалось к русской культуре, не теряя своей национальной самобытности и благородных черт мусульманства. Дело, следовательно, эволюционировало правильным, чисто государственным, путем. В молодые годы я только инстинктивно угадывал этот путь, не имея достаточных орудий для защиты его.
Дабы я получил возможность наиболее широко ознакомиться с литературой по инородческому вопросу, Крафт, с разрешения Савича, предложил мне половину служебного времени заниматься в Публичной Библиотеке и составить компилярную справку по истории, правовому положению и быту различных наших азиатских народов, на основании всех имеющихся литературных источников, как монографий, так и газетных статей и даже мелких заметок.
Я получил разрешение заниматься не в общей зале библиотеки, а в особом, так называемом, русском отделении. Там царила полная тишина, работало обыкновенно четыре-пять человек. Нарушалась эта тишина только по временам исступленным голосом члена «могучей кучки» Стасова, который вдруг подбегал к ученому библиотекарю и неистово кричал: «посмотрите, где он видел такой нос у Гоголя, разве мог быть у Гоголя такой нос?» и т. п. Хотя я вздрагивал от неожиданных восклицаний Стасова, но мне всегда было приятно видеть и слышать этого юного сердцем старца, с могучей фигурой русского боярина. В отделении Публичной библиотеки мне, волею судьбы, суждено было работать за одним столом с моим любимым профессором Коркуновым. Он писал биографическую статью о своем учителе — государствоведе Градовском; очень ласково, своими необыкновенно умными «мужицкими» глазами смотрел на меня и неизменно выражал удовольствие, что я не довольствуюсь текущей чиновничьей работой, а занимаюсь еще и в библиотеке: «это очень, очень хорошо», говорил он своим глухим сипловатым голосом, «работать надо всю жизнь, умом жить»; но он жил и сердцем: издал небольшой сборник своих стихотворений, среди которых были очень недурные по мысли и технике. Кстати, от него лично я узнал здесь, что является вымыслом история, которую любили рассказывать в университете про экзамен его у Градовского: последний будто бы поставил ему, несмотря на хороший ответ, не пять, а только три, и по поводу недоумения Коркунова заявил, что «для всякого студента заслуживает пяти, но для Коркунова не может быть оценено выше трех». Коркунов улыбнулся на этот мой рассказ и сказал: «это было бы для меня очень лестно, но в действительности этого не было». Здесь было мое последнее свидание с знаменитым профессором. Вскоре он умер в Гельсингфорсе, где отпечатал объявления о предстоящем его концерте и был помещен в больницу для душевно больных.
Вооружившись знаменитой Межовской библиографией, я составил себе список книг и газет, которые я должен был прочесть и использовать для моей работы. Получился весьма объемистый каталог. Впервые перестали для меня быть пустым звуком имена знаменитых сибироведов — Ядринцева, Щапова и др., впервые предстало предо мною такое курьезное, но имевшее для культуры Сибири свои положительные последствия, движение, как украинофильское. Увы, очень многие из наших ярых украинцев и не подозревают, что название, за которое они так по дон-кихотски борются, присваивалось уже другому окраинному «самостийничеству», ничего общего не имевшему с малорусским. Литература этого движения, особенно газетная, наивна, порою противна даже, но она пробудила в обществе интерес к изучению Сибири и имела хорошее значение демонстрации против крайней централизации нашего управления, к сожалению, во вред живым интересам края, как придется мне еще говорить, сохранившейся до последнего времени. Противен был, конечно, тот узкий и бездарный шовинизм, который проникал в Иркутскую прессу того времени. У меня, например, резко остался в памяти: 1) Номер газеты, в которым сообщалось о смерти Тургенева; где-то на второй, кажется, странице маленькая заметка о том, что тогда-то мол умер известный «русский» писатель, написал он то-то — перечислены главные романы; и 2) Номер той же газеты в широчайшем траурном ободке на всю газету, сообщающей о потере, понесенной Сибирью в лице ее «великого» поэта Омулевского. Это было глупо, но, повторяю, свою пользу приносило; русское общество узнавало о заслугах действительно хорошего, хотя и не первоклассного, конечно, русского поэта, а о Тургеневых оно и так, конечно, было хорошо осведомлено.
Разыскивая статьи об иностранцах в различных газетах, начиная с первых дней выхода их в России, я не мог, конечно, удержаться от прочтения заметок о той области, которую я так любил, т. е. о театрах. Это дало мне возможность значительно расширить мои сведения по истории наших театров, воочию на протяжении многих десятков лет убедиться, как часто слепа и пристрастна пресса, претендуя на руководство общественным мнением и вкусом: достаточно прочесть разнообразные противоречивые рецензии о творчестве великого русского таланта Чайковского, чтобы понять, как художник-артист должен являться себе высшим судьей и не сбиваться с намеченного пути ни похвалами, ни порицанием газетной критики. Не без волнения перелистывая пожелтевшие страницы старых газет, я читал эстафеты о том, что Наполеон перешел со своими войсками границу России и т. п. Я, так сказать, непосредственно прикасался к нашей старине, к великим моментам нашей истории и не раз у меня поднималось в глубине души сожаление, что я не пошел по научной дороге, далекой от всяких житейских мелких дрязг, по крайней мере, во время самого процесса работы.
В результате моих работ в Публичной библиотеке получился весьма солидный по объему и, вероятно, удовлетворительный по содержанию, за отсутствием в литературе другого сводного сборника всех источников по инородческому вопросу, труд в несколько сот (около тысячи) страниц, написанных мною от руки; в ведении к моей работе я дал исторический очерк русского продвижения в Азии, включительно до позднейшего занятия нами Квантунского полуострова; литературные данные, с указанием источников, были использованы о каждом, даже самом незначительном, инородческом племени Азиатской России, как то об айносах, ороченах, гиляках и т. п.; большой отдел был повещен миссионерскому делу, в прошлом имеющему несколько блестящих имен, а в общем, на всем протяжении Сибирской истории, являющем наиболее темные ее стороны, особенно, если сопоставить его приемы и результаты с выдающимися колонизационными способностями самого русского народа. После редакционного просмотра моей работы И. И. Крафтом, она была передана Г. Г. Савичу, который остался ею чрезвычайно доволен. В то же время меня ожидал другой деловой успех: я закончил разбор очень сложного земельного дела кыштымских заводов; на составленном мною в Сенат весьма пространном рапорте, товарищ министра А. С. Стишинский написал весьма лестную для меня резолюцию, в необычных выражениях восхвалявшую автора и просившую сообщить его фамилию. Кстати сказать, одно время Крафт довольно долго уклонялся от составления сенатских справок и рапортов для Стишинского, а поручал это всецело мне, так как был оскорблен его резолюцией: «что за ерунда?». Он добился таки, в конце концов, извинения со стороны товарища министра.
Но, несмотря на мои деловые успехи, как ранее мною упоминалось, в это время началось уже раздражение Савича против меня, усилившееся вследствие какой-то сплетни, сущность которой осталась мне неизвестной, но некоторые намеки на которые передавались мне моими друзьями впоследствии. Я испытывал на себе ряд мелких, но раздражавших меня придирок: например, я вызывался к Савичу, который, показывая мне какую-нибудь кляксу или мелкую описку, задавал вопрос: «Что это такое?» или «в какой грамматике вы узнали, что слово искусство пишется через одно «с»; я отвечал, что клякса — это перепечатка невысохшей запятой с другой страницы, что грамматики, требующей неправильно писать слово искусство, я не знаю и т. д. Спокойствие мое еще более раздражало Савича. Меня стали обходить по службе: освободилось восемь вакансий помощника за то время, которое я числился первым кандидатом на эту должность, а я все оставался в прежней должности; мои младшие товарищи меня обходили по службе, но должен сказать, что это нисколько не влияло на наши взаимные приятельские отношения — они сами, получая назначение, открыто и громко возмущались несправедливостью; например, добрый и горячий С. Ф. Никитин, будучи назначен на должность, на которую я считался бесспорным кандидатом, расписываясь на приказе о назначении в секретарской комнате рядом с кабинетом Савича, поднял такой крик, что испуганные секретари постарались поскорее выпроводить его.
В один прекрасный день я был приглашен к Савичу, который торжественно заявил мне, что он, в заботах о моем здоровье и дабы я мог жить поближе к своим родным, говорил обо мне с Киевским генерал-губернатором Драгомировым, который согласился на мое назначение мировым посредником в Киевскую губернию. Это была принудительная высылка меня из Петербурга. Я поблагодарил С. за внимание, сказал ему, что я здоров совершенно и климат столицы мне не вредит, что я еще на университетской скамье решил служить в 30 и бросать в нем службу не желал бы. «Да, оставайтесь, пожалуйста, но помните, что дальнейшее движение здесь для вас закрыто». Я добавил: «только при вас». С. побагровел, должна была произойти бурная сцена, если бы я не поспешил уйти из кабинета начальства.
Нервничание Савича увеличивалось еще под влиянием слухов об уходе любимого и почитаемого им министра Г-на. Когда последний в 1899 году находился в заграничном отпуске, стало известно о замене его Д. Сипягиным; он прислал своим родным телеграмму, не знаю искреннюю ли, но, думаю, что да, судя по характеру Г. — «поздравьте, наконец меня освободили». У нас в отделе все, за исключением двух-трех непримиримых правых, были искренно огорчены предстоящей заменой; образованный и корректный во всех отношениях Г-н был уважаем и любим. Прощался он с чинами министерства в большой зале его близ Александрийского Театра; зал был переполнен чиновниками; некоторые, в том числе особенно Савич, плакали. С., как живой и умный человек не мог не давать себе отчета, что, если он и удержится при новом министре, то ценою известных сделок со своей совестью, он плакал, несомненно, искренно, теряя честного, знающего и умного начальника.
Новый министр через несколько дней обходил все делопроизводства 30, как-то подчистившиеся к этому дню и принявшие более парадный вид; делопроизводителям он подавал руку, ему называли номер делопроизводства и род дел, которые относятся к данному Отделению; от себя С., кроме обычного приветствия, ничего делопроизводителям не говорил, а нас, молодых чин-ков, приветствовал только поклоном.
Это был довольно грузный, высокого роста, с большой русской бородой, но с каким-то нерусским, по причине сильно торчащих ушей, лицом, лысый, в общем приветливый, человек — тип богатого барина-помещика; манеры, некоторая величавость и ласковость их не могли укрыть от наблюдательного глаза, что перед ним не деловой и не умный человек. Рассказы моих сослуживцев о посещении Земского отдела следующим министром, назначенным в 1902 году на место убитого Сипягина, а именно В. К. Плеве были совершенно иными. Этот, с очень большими знаниями и опытом, чиновник отлично знал, какие дела заслуживают наиболее внимания в каждом делопроизводстве; он был в департаменте, как у себя дома; с каждым почти делопроизводителем беседовал с большим интересом и живостью; с И. И. Крафтом, например, очень долго говорил о дальнейшем распространении на Сибирь Положения о крестьянских начальниках, о башкирских межевых работах и проч. Одним словом, и внешним своим видом, удивительно живыми и умными глазами, и служебным опытом он сильно импонировал чиновникам. Хотя я тогда и не служил уже в 30, я, интересуясь просто сильной личностью В. К. Плеве, старался собрать от более или менее близких ему людей сведения о нем уже после его смерти 15 июня 1904 г. от руки убийцы-революционера Сазонова. И вот, насколько мне Сипягин был неприятен его, выражаясь просто, глупостью, настолько Плеве, как мужественный, сильный волей и умный человек, казался мне интересным, несмотря на все нападки на него во всякой мало-мальски либеральной прессе. И действительно, если сопоставить этих двух представителей правительственной реакции, то получаются, мне кажется, довольно интересные выводы, и образ Плеве, если только отрешиться от партийной предвзятости, вырисовывается далеко не в тех мрачных красках, как рисовали его современники; во всяком случае он колоритен и интересен.
Сипягин вредил своим неумением и отсутствием какой-либо программы именно тем задачам, которые он должен был, по своим взглядам, преследовать; он не умел подбирать сотрудников потому, что он не умел разобраться в подготовке и знаниях людей; он позволял себе такие, раздражавшие даже его единомышленников, распоряжения, как приказ подшить к делу, без доклада Государю, всеподданнейшие адреса дворянства по поводу дня освобождения крестьян; при нем возможно было появление в ревизионных отчетах о деятельности земских начальников таких бессмыслиц, как заключение одного ревизора-оппортуниста, что такой-то земский начальник слишком большой формалист, т. к. он недворянского происхождения и т. п.
Каюсь, при всем моем отвращении к политическим убийствам и духовным их инициаторам, я не мог скрыть чувства радости, получив в театре известие, что Сипягина больше нет. Плеве по всем данным был идеальным олицетворением типа чиновника-карьериста; для карьеры, как говорили о нем, он готов был на все, но и в нем самом для этого зато были все данные: мужество, настойчивость, ум и знания. Он понимал прекрасно, что дело обуздания революционного движения не может быть сведено только к чисто механическим полицейским мерам; он был человеком государственной складки ума. Мой приятель, друживший с сыном Плеве — очень хорошим и скромным чиновником, рассказывал мне, с какой гордостью Плеве-отец показывал ему в своей казенной квартире государственного секретаря кресло, в котором работал еще знаменитый Сперанский: «Вот здесь сидел он, если бы хотя бы раз увидеть его», — говорил с почтением В. К. Плеве. Он глубоко ценил знания и способности своих сотрудников, например, о своем товарище министра А. С. Стишинском, тонком юристе крестьянского дела, он говорил при обходе Земского отдела: «Если бы А. С. жил в Риме, ему бы там за его тонкий юридический стиль поставили памятник». Он понимал отлично, что консерватизм не есть возвращение вспять; сам себя реакционером он никогда не считал; требовал от губернаторов работы и знаний; разносил их, увольнял, заменял другими. Понимал значение реформ и говорил иногда: «Запоздали с ними, теперь придется расплачиваться нам». При нем была отменена, например, смертная казнь за политические убийства, и именно его убийца благодаря законопроекту своей жертвы не был лишен жизни; этот факт почему-то всегда замалчивался. И главное — Плеве знал, что за опоздание в реформах расплата близка, он высчитывал, сколько обычно бывает неудачных покушений, и высчитал, что следующее покушение на него будет его смертью. Не проще ли в такой обстановке даже заядлому карьеристу уйти со сцены? Никто, обвиняя Плеве, никогда не подумал, особенно Витте в своих воспоминаниях, какие же причины побуждали Плеве оставаться на своем посту уже будучи приговоренным к смерти. Не следует ли эти причины назвать их настоящим именем — «благородное сознание своего долга?» Ведь если карьерист-воин, дослужившись до высоких должностей, не бежит от службы после объявления, хотя бы и гибельной беспобедной войны, то он получает к названию «карьерист» еще и эпитет «герой».
Так поступил и Плеве и за это очень и очень многое должно было бы быть прощено ему, как цельному человеку, даже его непримиримыми врагами.
Смерть Плеве сильно огорчила меня, хотя я и не работал никогда с ним лично.
Около года я терпел выходки Савича, но потом все-таки вынужден был оставить службу в 30; это было, по пережитому тогда настроению, самое крупное мое огорчение за всю мою служебную жизнь, первый удар по моему самолюбию, к чему я совершенно не был подготовлен. Несмотря на скромное мое положение, прощальный обед, устроенный мне сослуживцами, привлек весь 30; говорилось много речей, в которых подчеркивалась несправедливость Савича, а бурными криками, после тостов за Б. Е. Иваницкого, сочувствие ему за то, что он взял меня в порученное ему недавно Управление водяных и шоссейных сообщений и торговых портов.
Вскоре после моего ухода вынужден был оставить службу в 30 и мой гонитель — Г. Г. Савич. При Сипягине он еще мог удержаться, но властный Плеве, не любивший при том до крайности людей пьющих, подыскал на должность Управляющего 30 своего собственного кандидата — В. И. Гурко, который вскоре был назначен товарищ министра с подчинением ему 30; Гурко, вероятно, для того, чтобы сохранить за собою влияние на дела этого Отдела, избрал на должность своего заместителя очень доброго, порядочного, работоспособного, но не яркого человека — Я. Я. Литвинова, особенностью которого в нашей среде был необычайный образовательный ценз: он был врачом, затем увлекся работой в земстве, а позже в крестьянских учреждениях. Савич извлек его из провинциального учреждения, и Литвинов, вероятно, неожиданно для себя, оказался во главе крестьянского дела.
Гурко, человек умный, смелый и любящий риск, был оклеветан в общественном мнении по поводу неисправности поставщика Лидваля; если бы последний при тех низких ценах, которые он предположил на поставку хлеба в голодающие губернии не провалился случайно, Гурко прославился бы за громадное сбережение государственных средств; риск не удался, и оппозиция воспользовалась этим, чтобы затоптать его в грязь разными сплетнями. Во время процесса Гурко в Сенате, тихий провинциал-семьянин Литвинов был очень комичен, когда его допрашивали не знает ли он такой и такой-то звезды шантанного мира, о котором он имел такое же понятие, как о китайской грамоте. После увольнения Гурко, Литвинов уцелел на своем месте, настолько он был мало заметен, в особенности после яркой, незаурядной личности Савича. К последнему, несмотря на причиненные им мне огорчения, я совершенно, как уже упоминал, не мог питать какого бы то ни было чувства злобы; наоборот, я в глубине души сохранял к нему всегда чувство любви, так тянуло меня ко всему, что не могло быть названо пошлым, мещанским.
Возобновились мои отношения с ним только лет через десять и то на весьма короткий срок. Я работал тогда уже в Переселенческом управлении, над составлением дальневосточного справочника для переселенцев; Савич же, после кратковременного по смерти плеве возвращения его к активной деятельности на должности помощника начальника Главного Управления по делам местного хозяйства, ушел на тихую роль редактора «Сельского Вестника». Он по телефону предложил мне отпечатать мой справочник в типографии «Вестника»; был очень любезен, звал к себе зайти поболтать о старых временах, напомнил, что у него еще хранится моя работа об инородцах, что ее следовало бы отпечатать; я заметил, что она уже несколько устарела и что ее надо будет пересмотреть и дополнить; обещал на днях побывать у него. Затем, в одном знакомом доме через несколько недель после моего разговора с Савичем, где меня удерживали, я сказал, что тороплюсь к Савичу, к которому давно собираюсь. Хозяйка дома мне с удивлением возразила: «Но ведь уже поздно, восемь часов, а панихида была назначена в шесть». Так и не пришлось мне больше повидаться с моим первым начальником. Савич умер так же неожиданно, так же беспорядочно, где-то в гостях, а не у себя дома, как были неожиданны и беспорядочны все его поступки и на службе, и в частной жизни, как живут и умирают очень и очень многие, одаренные Богом, но разбрасывающиеся и вечно чего-то ищущие русские люди.
Похороны его ярко подчеркнули весь живой разнообразный склад души и образа жизни покойного. Наряду с высокими придворными чинами, важными генералами и чиновниками видно было много бритых артистических физиономий, были представители и литературы, и мелкой прессы и даже просто «богемы». Задушевное слово перед выносом сказал священник; он говорил то, что я, а, вероятно, и многие другие, всегда думал, при моих столкновениях с Савичем: говорил, как был одарен покойный, как разнообразно и много работал и т. п., те же недостатки, которые были в нем, то нехорошее, что он мог, по свойствам своего характера, причинять иногда даже и близким людям — все это нами должно быть забыто; о них состоится праведный и милостивый суд Судьи всего мира.
Большая разношерстная толпа проводила останки Савича до его могилы в Александро-Невской Лавре.
Свою работу об инородцах я так и не получил из архива покойного: не хотелось беспокоить его вдову.
Глава 4 Служба по ведомству водных и шоссейных путей (1901–1906 гг.). Война с Японией и революция в 1905 году
Серое чиновничество; сближение с отдельными юристами; кратковременное пребывание в адвокатуре. Роль Б. Е. Иваницкого, как главы ведомства; отношение к нему министра кн. М. И. Хилкова. Старые и новые инженеры; реформы. Мое участие в разработке законопроектов о судоходстве и сплаве, о найме служащих, об эксплуатации силы падения воды, о Черноморско-Балтийском водном пути. Крупное значение и захватывающий интерес этих вопросов. Наши военные неудачи; пораженчество. Манифест 17 октября 1905 г. о конституции. Уличные сцены. Мое сочувствие самодержавию. Государственная Дума первого и второго созыва как тормоз для государственной работы. Мой «кадетизм» и персональная ненависть к «кадетам».
С большим смущением и предубеждением даже я вступил на службу в чужое ведомство. Необходимость расстаться с людьми, среди которых было уже много моих истинных друзей, а также вообще лиц, которых я уважал и ценил, как выдающихся честных работников, принудительное, так сказать, не по моей воле устранение меня от дел, которыми я уже начал живо интересоваться и обучение новому совершенно чуждому мне делу — все это не могло не действовать угнетающе вообще на мою психику.
Обстановка в новом для меня ведомстве, действительно, была такова, что не скоро удалось мне прийти в относительно нормальное состояние душевного равновесия. С течением времени мне пришлось и здесь увлечься полной живого интереса работой и завязать связи с несколькими весьма почтенными и достойными деятелями, но, должен сказать, что мысль о том, чтобы вернуться к крестьянскому делу никогда меня не покидала в течении пятилетней моей службы в чужом ведомстве. Управление водяных и шоссейных дорог и торговых портов, как тогда оно называлось, во многом еще носило следы старых дореформенных учреждений. Б. Е. Иваницкий был приглашен князем М. И. Хилковым — тогдашним министром путей сообщения на должность начальника названного Управления в целях, вероятно, освежения его. Б. Е. И-ий был первый глава этого учреждения без инженерного образования. Он пользовался большой любовью и доверием со стороны министра и сам был привязан к нему лично, как к оригинальному и безупречно честному человеку, весьма горячо. Я помню такие резолюции кн. Хилкова на докладах по управлению водных путей, как например: «не понимаю, не согласен» и т. п. Чиновники, особенно инженеры, вышучивали за это министра, не понимая, что в этом проявлялось хорошее здравое отсутствие формализма с его стороны и полное доверие к своему сотруднику, без чего никакая работа не может быть интересной и производительной.
Лично я по службе был у кн. Хилкова только один раз; осталось впечатление чего-то очень теплого, ласкового. Характерна одна подробность: князь подписал среди принесенных мною бумаг одно личное письмо Витте, как Министру, а в городе, когда я вернулся, было уже известно об увольнении Витте; так неожиданно произошло это даже для членов Правительства.
Назначение «штатского», не принадлежавшего к касте инженеров путей сообщения человека на должность их руководителя не могло, конечно, не порождать известного озлобления, особенно в той среде, которая имела основания бояться «освежения».
Личный состав и без того был разделен в Управлении водных путей той перегородкой, которая отделяет привилегированную касту специалистов-инженеров от обыкновенных смертных — просто чиновников; в первое же время появления во главе путейского дела чиновника Земского Отдела еще более обостряло изолированность чин-ков, в особенности тех, которые появились в ведомстве вслед за Иваницким; на них смотрели, как на «лезущих в управление по протекции», в силу личного знакомства их с новым начальником-юристом. К числу таких подозрительных типов принадлежал, конечно, и я, несмотря на то, что никаких личных, кроме далеких служебных, отношений у меня в то время с И. не было. Поэтому, в новой для меня среде, я встречал большей частью вежливый, но достаточно холодный прием.
Сближение с чиновниками, т. е. с массой их, как это произошло у меня в первые же дни службы в Земском отделе, не могло иметь места, так как здесь преобладал какой-то серый глухо-провинциальный тип того служащего, которого принято называть «чинушом». Общего интереса к делу у большинства не было, потому что дело это было для них, так сказать, чужое, главным образом, техническое, потому что до высших должностей, за малым исключением, дослужиться здесь не инженеру было очень трудно; на службу масса смотрела только, как на источник заработка, доступный людям с небольшими сравнительно способностями и знаниями; это было нечто вроде положения почтово-телеграфских чиновников, мелких полицейских и т. п. Все интересы и заботы сосредотачивались на личной семейной жизни; большинство имело, как это обычно бывает в мелкой буржуазной среде, много детей; жило мыслью о их кормлении, одевании, воспитании. Поэтому здесь возможны были, так в начале меня изумившие, но столь естественные для злободневных забот о куске хлеба, прошения о пособии, как, например: «на погребение тяжко больного отца», на чем Б. Е. Иваницкий положил довольно злую, но вполне естественную резолюцию: «на погребение живых людей никогда пособий выдавать не буду», или в таком роде: «чувствуя крайнюю потребность вступить в первый законный брак, прошу… и т. д.» Впоследствии, ближе знакомясь с отдельными представителями этого серого чиновничества, я открыли во многих из них добрые сердца и природный ум, и начитанность, и понимание искусства. Особенно я полюбил старика архивариуса P-а, по образованию юриста. Он почти всегда сидел у своего архива на лестнице, на площадке, мимо которой приходилось проходить многим служащим, преимущественно юрисконсультской части; это давало ему возможность с каждым на ходу перекинуться несколькими словами, поделиться текущими политическими новостями. В архив он заходил только в тех редких случаях, когда требовалось выдать кому-либо какую-нибудь справку или старое дело, либо принять дела, подлежащие уже сдаче в архив. Я сначала изумлялся, почему он, человек с высшим юридическим образованием, удовольствуется столь скромным положением, но потом стал понимать его спокойную философию: «по какой должности мог бы я», говорил он мне, «дослужиться до такой пенсии, как жалование архивариуса? Теперь я обеспечен пожизненно, читаю, что хочу, беседую с интересными людьми и стою вне всяких чиновничьих дрязг, волнений, обиженных честолюбий и т. п.» Строгий моралист скажет: «кому нужно, какая польза от такого прозябающего человека обществу». Я же всегда буду защищать таких скромных Р-ых ибо, и ничего не делая, они бессознательно полезны: никто с них никогда не видел зла, а это уже само по себе возвышает нравственно людей, но самое главное, что многие в минутных своих горестях и печалях находят большое утешение от беседы с подобными простейшими философами, чем-то в роде монахов-отшельников в мире; у Р. Не было семьи, он был одинок и всю благожелательность к людям изливал на лестнице, подбодряя и утешая, когда надо чин-ков, волнующихся по поводу и мелких своих служебных неудач, и семейных неурядиц. Я иногда шутя говорил P-у, что буду проситься на его место, так мол мне хочется покоя; он смеялся и просил подождать его смерти.
Даже некоторые старшие чины на вице-директорском уже положении, поражали меня своей внешней серостью по сравнению с составом Земского отдела. Вспоминаю, например, очень добродушного, но с хитрецой, одного заведующего отделом (так назывались в Управлении вице-директора или помощники начальника Управления) А-ева. В различных комиссиях, в которых собирались и представители других ведомств, и водные судопромышленники, он, нарушая всякую торжественность, принятую в правительственных совещаниях, называл присутствующих «братцы» — «Ну, как же, братцы, не пора ли нам уже начать совещаться?», примерно таким приветствием открывалось им заседание. Зависимость чиновников-юристов, каким был А-ев, от различных мало понятных им в деле, технических подробностей и необходимость полагаться на экспертизу техников-специалистов, создавало иногда также курьезы, которые давали повод инженерному миру несколько свысока относиться к чиновнику. Однажды, например, при обсуждении в большой комиссии судопромышленников правил о перевозке огнеопасных грузов, председательствовавший в комиссии А-ев особенно убеждал присутствующих признать крайне опасным какой-то груз, название которого я уже забыл. Свои убеждения A-в основывал, конечно, на сведениях специалиста — морского техника, который, в виду редкости груза, дал его даже такое описание: «состоит главным образом из шерсти, похож на мыло». «Братцы», убежденным голосом просил A-в, «ну уж этот-то груз, несомненно, надо отнести в первый разряд по огнеопасности: иначе уж никак нельзя». К удивлению А-ва никаких возражений из среды «братцев» не последовало, хотя ранее они старались по поводу всякого груза смягчить строгость правил. A-в уже довольно улыбнулся, когда вдруг какой-то особо любопытный член комиссии спросил: «да что же это такое за груз; я такого названия и не слышал никогда». A-в быстро обернулся в сторону нашего моряка специалиста, но того не оказалось на месте; A-в тер некоторое время себе лоб, потом благодушно развел руками и заявил: «черт его знает, братцы, что это за штука такая». Общий смех и перешли к обсуждению следующих статей.
Постепенно нашлось несколько людей, юристов, выделявшихся из общей серой массы, с которыми я сошелся близко. Несколько месяцев я работал в скучнейшем в общем эксплуатационном отделе Управления. Мне повезло, однако, здесь в отношении работы, так как я получил личное поручение Б. Е. Иваницкого составить справку об иностранных законодательствах по водным путям и, т. н., водным товариществам, получившим блестящее развитие в Германии. Управление имело богатую библиотеку, в которой я имел все необходимые источники и обработал весьма интересный в юридическом отношении материал. В названном отделе моим ближайшим начальником явился правовед Н. А. Пантелеев — сын Иркутского Генерал-губернатора. Очень живой, веселый, остроумный и прекрасный товарищ — он представлял из себя как бы оазис в серой среде окружавшего его чиновничества; почему он избрал себе такой род службы — он, кажется, сам себе не давал ясного отчета; помню только, что он был тогда либерального образа мыслей и считал службу в технических ведомствах более приятной, чем в политических, к каковым он относил, например, Земский Отдел. Мы подружились быстро, но вскоре же и расстались, хотя личные отношения не порвались, и я бывал в его семье, а также часто довольно встречался и на нейтральной почве. Вопреки своим взглядам, он не выдержал скуки эксплуатационного отдела и перевелся в одну особую канцелярию Министерства внутренних дел, которая также неожиданно была упразднена, как и создана; это была канцелярия по дворянским делам. Любя острить, П., представляясь директору канцелярии Мордвинову и смотря на портреты Екатерины II и Александра III, висевшие на стенах директорского кабинета, выразил изумление, почему не помещен портрет издателя «Гражданина» князя Мещерского, который является столь ярким защитником дворянских привилегий. После этой фразы карьера П. в дворянской канцелярии была кончена, и он перевелся в тот самый Земский Отдел, из которого я попал к нему в помощники.
Комичная история вышла с моим визитом к П. в Дворянскую Канцелярию в первые же дни его службы там. Канцелярия только что была сформирована, размещалась в нескольких разбросанных комнатах рядом с Департаментом Общих Дел; курьеры не знали кто где помещается. Я спросил П., мне предложили подождать, пока ему доложат обо мне и, как мне показалось, указали на ближайшую дверь, где, я думал, находится общая приемная; я вошел в большую очень комнату с рядом стульев вдоль стены; в комнате за большим столом сидел только один пожилой человек. Считая его за такого же ожидающего приема, как и я, не обратил поэтому на него никакого внимания, я стал прогуливаться вдоль одной стены комнаты и рассматривал висящие на ней портреты. Вдруг я заметил, приближаясь к столу, что сидевший за ним господин уже не сидит, а как-то полупривстал и пристально испытующе смотрит на меня; затем раздался его взволнованно-тихий голос: «но, что же вам надо здесь?!» Я объяснил, кого я поджидаю, на что мне было разъяснено, что это кабинет директора канцелярии, а не приемная; я извинился и вышел. Когда я сидел в отделении П., к нему зашел М-в сказать, что он уезжает в какую-то комиссию: «если вашему гостю почему-либо приятнее побыть с вами в моем кабинете», добавил он, улыбаясь, «то милости просим». П. Очень смеялся, напомнив, что теперь все сановники напуганы террористическими актами, почему мое странное появление в кабинете директора могло, естественно, навести его в начале на самые мрачные предположения.
Второй юрист, с которым я познакомился, а затем несколько лет под руководством которого интересно проработал, был тогдашний помощник управляющего юридической частью управления, впоследствии директор канцелярии министра путей сообщения и сенатор (Н.И.) Туган-Барановский. Эта часть управления, для юристов наиболее интересная, главным образом, привлекала желающих работать и интересующихся работой чиновников; в ней были сосредоточены юрисконсультские дела и разработка наиболее сложных законопроектов. Служебное преимущество этой части заключалось в праве ее чиновников зачисляться в адвокатуру, причем лица, отказывавшиеся от прав государственной службы (пенсии и производства в чины) имели право быть не только помощниками, но и присяжными поверенными; служба в части засчитывалась в пятилетний стаж для получения звания присяжного поверенного.
О Т[уган]-Б[арановск]ом до моего знакомства с ним я слышал от Б. Е. Иваницкого, как о человеке на пути к влиянию, способном; мне ставилось в некоторый упрек, что я его игнорирую. Игнорирование же мое выражалось только в том, что я избегал с ним встречаться и здороваться, так как он производил на меня впечатление важничающего, как-то особенно небрежно подающего руку молодым чиновникам. Замечание И. при моем упрямстве еще более оттолкнуло меня от мысли искать сближения с Т. Однако, случай или судьба здесь, как часто со мной бывало, быстро привели к противоположному, т. е. к продолжительной и наиболее интересной, за время службы моей в чужом ведомстве, связи именно с Т.
В каком-то большом совещании, рассматривавшем предположения Т., мне было поручено составить журнал совещания; я и юридически, и по стилю очень удачно формулировал возражения Т. его противникам и конечные выводы совещания. Когда я принес Т. Проект журнала, он его бегло просмотрел, потом, видимо, с интересом перечел внимательно еще раз и спросил: «кто это писал?» Узнав, что автор — я, он немедленно предложил мне работать вместе; я, конечно, согласился и был переведен из скучного для меня эксплуатационного отдела в юридическую часть; кстати, должен сказать, что вскоре я был назначен чиновником особых поручений VII, а потом VI класса, оставаясь, фактически, на работе в названной части, а впоследствии я почти до конца моей службы мирного времени занимал должность чиновника особых поручений разных классов, хотя фактически нес, конечно, различные штатные обязанности: начальника отделения и вице-директора.
Т.Б. был человек незаурядных способностей, хороший образованный юрист, но большой неврастеник, как преобладающее большинство тех, кого мне приходилось видеть своим начальством. На этой почве у него довольно часты были столкновения, более юмористического, чем серьезного характер с Иваницким. В манере держать себя с подчиненными, не умышленной впрочем, но скорее по рассеянности, Т. был неприятен какой-то своей небрежностью, особенно в способе подавать руку. Я ему об этом сказал в первые же дни нашей совместной работы; уходя со службы, он всем сослуживцам в день нашего разговора кланялся очень почтительно, почти в пояс, а затем, смеясь, спросил меня, доволен ли я им теперь; я ему заявил, что подчеркнутая вежливость также обидна, как и небрежность. Такие объяснения не портили наших хороших служебных отношений. Т. был, кроме того, очень честолюбив и сильно горячился, когда, по его мнению, его недостаточно ценили или долго о нем забывали; впрочем, как я уже говорил, у него были для хорошей карьеры все данные. Один остряк говорил мне про Т., что если он в утренней газете прочтет о назначении какого-нибудь епископа архиепископом, то сейчас же вспоминает о медленном своем, по его мнению, продвижению по службе и нервничает после этого целый день.
В юридической части качественно состав служащих напоминал мне дорогой по воспоминаниям Земский Отдел; здесь был ряд хороших, воспитанных и остроумных людей. Взаимные отношения не отдавали архаичными дореформенными временами. Помню, например, как один мой сослуживец на шутливый упрек, что он в служебное время читает газету, тогда, как по закону чиновник в свободное от занятий время обязан читать свод законов, очень остроумно парировал это замечание: «я закона не нарушил, ибо по закону я должен читать свод законов в свободное от занятий время, у а меня же сейчас масса неконченых служебных дел». Такие юридические шутки, живое дело, которое начало меня постепенно захватывать, хорошие в общем товарищеские отношения постепенно примирили меня с происшедшей в моей чиновничьей жизни переменой.
Для большего разнообразия в работе я зачислился в сословие помощников присяжных поверенных, где пробыл, однако, не долго, не более, кажется, двух лет. Не понравилось мне там по первым поверхностным, конечно, моим впечатлениям, да и не было у меня намерения отказаться от государственной службы, которая привлекала меня больше чем свободные профессии, так как в душе я лелеял мысль вернуться все-таки к крестьянскому делу.
В обществе распространен ошибочный взгляд, что адвокатура обеспечивает ту свободу, которой не дает государственная служба; это большое заблуждение. Там, где дело идет о заработке, о добывании себе куска хлеба, там вообще не может быть речи о большой свободе. Сотни адвокатов, как мне пришлось лично наблюдать, лишены на многие годы даже тех месячных отпусков, которыми пользуются чиновники; уехать в отпуск малоизвестному адвокату равносильно потере практики на срок значительно превышающие его отпуск. Кроме того, мелкие адвокатские дела цепляются одно за другим, сроки судебного слушания их зависят не от адвокатов, и часто задуманный отпуск приходится откладывать с одного месяца на другой в течении нескольких лет подряд. Более того, масса адвокатов не только к делам прикреплена, но еще и к определенному району города, к определенной квартире; я знал адвокатов, которые не меняли давно им надоевшей неудобной квартиры только из-за боязни потерять клиентов, привыкших к известному месту конторы. Остаются знаменитости, так сказать, единицы, лавры которых не дают иногда спать некоторым чиновникам. Но прежде всего для «знаменитости» нужен талант, способности, которые и на государственной службе выводят на арену интересного влиятельного дела. Зависимость «знаменитости»; так сказать рабство ее, еще сильнее, чем в средней адвокатской или чиновничьей среде. Тут уже совершенно невозможен частный отказ от выгодного выигрышного процесса; «знаменитость» непрестанно должна поддерживать свою популярность, как истинный карьерист постоянно думает и поступает, имея в виду преследуемую им цель.
Свободы личной в свободных профессиях нет. Можно говорить только о большей сравнительно интересности работы и лучшем материальном положении, но и в этом отношении далеко не так обстоит дело, как принято его рисовать в различных общественных кругах, но чиновничьих в особенности. Работа среднего и тем более мелкого адвоката, каковых подавляющее большинство, ничем не интереснее работы среднего столоначальника, так как для заработка надо браться за массу мелких шаблонных трафаретных дел о мелких кражах, взысканиях, оскорблениях и т. п.; рука на них быстро набивается, работа обращается в скучное однообразное ремесло. Для знаменитостей же, для громадного их большинства, неизбежны часто такие же, если не худшие, сделки с совестью, как и для типичных карьеристов бюрократического мира при переменах политического курса. Я не могу забыть фразы одного первоклассного адвоката — моего товарища, который мне говорил, что нет иска, в котором не было бы зернышка формальной правды; уметь взрастить, укрепить, развить это зерно — в этом и заключается искусство выдающегося адвоката. В переводе на обывательский язык это ведь означает, что нет такого неправосудного дела, за которое не взялся бы знаменитый адвокат с надеждой объегорить противника.
Материальная сторона адвокатской службы выше, конечно, чиновничьей, но не привыкли еще русские люди беречь копейку и чаще конечный жизненный итог в материальном отношении у адвоката и у чиновника или одинаков, или прочнее даже у последнего.
Я не думаю сказанным мною бросить вообще тень на адвокатское сословие, среди которого очень много хороших, достойных и принципиальных людей. Я имел в виду только подчеркнуть некоторую предвзятость и односторонность взглядов нашего либерального общества на чиновничью работу. В итоге, мне приходится повторить только, что почтенна всякая работа, в каждой преследуются не одни личные, но и общественные выгоды, а такая работа возможна на всяком поприще, независимо от того носит ли последнее название свободного или чиновничьего, полной же личной свободы для живущего своим трудом человека нет и не может быть.
Когда я встретился в ставке со старым моим знакомым по адвокатуре П. Н. Переверзевым, он мне убежденно говорил, что «теперь», т. е. после революции, он ни за что не променял бы государственной службы на адвокатуру; так как технические принципы государственной службы и адвокатуры всегда в общем одни и те же, независимо от того или иного режима, то это заявление старого адвоката меня особенно убеждает о мнимых преимуществах адвокатуры, как представительницы «свободного» труда.
На меня самое удручающее впечатление произвело бесконечное, с 9 утра до 2 или 3 часов дня, сидение мое в приемной в ожидании назначенного мне президиумом Совета помощников присяжных поверенных представления этому президиуму. То что я увидел и услышал в зале заседания президиума, окончательно оттолкнуло меня от мысли посвятить себя всецело «свободному» сословию. За большим столом, покрытым красной скатертью, с важностью восседало человек шесть, почти исключительно евреев. Мы, новые члены сословия, были посажены на стульях у стены; председатель внимательно осмотрел нас, каждого по очереди опросил относительно фамилии его и патрона, а затем начал говорить. Опять пахнуло на меня гимназией, лицемерием, студенческой сходкой; так было все это шаблонно, глупо, пошло. Как небо от земли отличался этот какой-то маскарадный прием от простого делового отношения ко мне со стороны Савича при первом моем деловом представлении ему. Пробыв недолго в «свободном» сословии, я вышел из его состава навсегда.
В чисто чиновничьей среде Водного Управления должен еще отметить встречу мою со старшим моим гимназическим товарищем И. А. Рубаном, с которым, вследствие его крайне живого общительного характера и чрезвычайно доброго сердца, я скоро и близко сошелся, сохранив с ним самые теплые дружеские отношения вплоть до его преждевременной смерти во время Европейской войны от какой-то неожиданно постигшей его тяжелой болезни — туберкулеза легких. И.А. всей душой был предан судебной деятельности, но, желая жить в столице, решился перейти в совершенно чуждое ему ведомство, на относительно, впрочем, хорошо оплачиваемую должность правителя канцелярии Управления. Его вскоре потянуло к любимому делу и ему удалось вернуться в прокурорский надзор, в котором он и закончил свою службу на должности товарища прокурора петербургской судебной палаты, пробыв довольно долго прокурором ревельского суда. Рубан старался всячески меня вовлекать в семейные дома. Как я уже говорил, свои редкие досуги я проводил обычно в холостой компании или в оперном театре; чаще же всего отдых мой заключался в лежании на громадной кушетке в компании различных моих товарищей и друзей. Эта кушетка в семье Ковалевских так и называлась «залежи интеллигенции». Мы слушали бесконечные рассказы П. О. Ковалевского то о пребывании его в Риме, то на философско-семейные темы, всегда подкрепляемые выдержками из Толстовских произведений; часто бывали и различные, как всегда, беспорядочные политические споры, особенно с приезжавшими из провинции товарищами; наш общий любимец и друг, посвятивший себя частной работе в Туркестане, А. Кистяковский часто и долго гостил в столице; по своим взглядам он усвоил почти полностью программу кадетской партии еще задолго до ее возникновения; он и был тем ферментом, который поднимал жар спорящих; «залежи интеллигенции» с его участием порою затягивались до утра.
И. А. Рубан отвлекал меня от домашнего сидения; сблизил на почве уже частного, а не только служебного знакомства, с Б. Е. Иваницким, а через него и с семьей их общего друга С. А. Куколь-Яснопольского, затем с Г. В. Глинкой, в семье которого я бывал ранее только урывками, и другими знакомыми.
Круг этих лиц, да холостых друзей, в сущности и составлял долгие годы мое единственное общество, так как прочих моих семейных знакомых я посещал очень редко в качестве праздничного визитера.
Что касается не чиновничьего, а привилегированного инженерного состава нашего Управления, то он резко делился на две группы: одна старая, большей частью находившаяся в скрытой оппозиции к новому начальнику Управления не инженеру, и другая молодая, стоявшая на стороне последнего.
Тип старого инженера, за целым рядом, конечно, исключений, характеризовался преданностью прежде всего своим личным интересам; среди них, в особенности в провинции, на должностях начальников округов путей сообщения были люди с большими знаниями, опытом и энергией. Округ, охватывая определенный водный бассейн, например, Волжский (Казанский округ), Днепровский (Киевский округ) и проч., представлял весьма сложную и крупную в техническо-административном отношении единицу; должности начальника округа был присвоен высокий класс — четвертый, одинаковый с губернаторским местом; соответственно, с чиновничьей точки зрения, был высок и оклад жалования. Однако инженерная точка зрения на материальную сторону службы была иная. Инженер еще на студенческой скамье усваивал взгляд, что он, как специалист, должен иметь возможность не только безбедно жить, но и богатеть. Поэтому большинство старых начальников округов составляли себе, обычно, хорошие состояния, которые по размерам их явно превышали самую высшую сумму сбережений, доступных при самой экономной жизни чиновнику с окладом до 8–10 тыс. р. в год. Инженеры не считали ниже своего достоинства класть в свой карман все сбережения, которых удавалось достигнуть экономией против утвержденных цен на работы, получать процентное вознаграждение от различных подрядчиков и поставщиков; худшие же и наименее устойчивые попросту брали взятки и крали казенные деньги. Общественная точка зрения была им, конечно, чужда. Сказанное особенно относится к инженерам-полякам; они, к сожалению, всегда давали в России главный контингент нечестных чиновников. У меня были среди поляков хорошие знакомые, приятели, даже один очень близкий друг — доктор З. В. Чернявский; я довольно хорошо знаю польскую среду и должен сказать, что люблю ее именно за те качества, которые больше всего желал бы видеть в русских: за горячую любовь к своей Родине, за национализм; хорошо знаком я и с польской литературой и после русской она давала мне максимум духовного удовлетворения; если не считать Шекспира, Гете и Мопассана, Оржешко и Сенкевич всегда были моими настольными книгами. При всем колебании моих политических взглядов, я никогда не мог примириться с участием русской императрицы, впрочем, кстати сказать, вообще чрезвычайно не любимой мною, как все рекламное, в несчастном и бессмысленном разделе Польши. И, тем не менее, я не могу не сказать, при моих служебных воспоминаниях, что худший элемент на русской государственной службе, за исключением высоко честных и благородных единиц, представляли поляки. Инженерное дело, как наиболее материально выгодное, они особенно предпочитали. Объяснение сказанному мною надо, очевидно, искать в психологических основаниях: большинство служащих поляков считало, что они служат не родной стране, в которой дозволено им все в отношении наживы и ничто не может обязывать к честному исполнению долга. Я уверен, что теперь у себя «дома» психология эта изменилась, и многие наши враги-поляки стали честными работниками на пользу своей, а не чужой, родины.
Одно время, чтобы смягчить хищнические наклонности начальников округов, возникла курьезная мысль, при начатом, по инициативе Б. Е. Иваницкого, пересмотре положения об управлении округами и их штатах, увеличить содержание начальников округов до норм, отвечающих их привычному незаконному заработку; мысль эта, если не ошибаюсь, принадлежала самому министру. Это предположение вызвало сильные возражения со стороны представителей, кажется, финансового ведомства, совершенно справедливо указывавших, что привычка инженеров зарабатывать что-то сверх жалования так сильна, что все равно они будут получать жалования 20 т. р. в год, а привычную добавку к жалованию приобретать прежними способами.
Само собой разумеется, что старый инженерный мир не мог хорошо относиться к человеку совершенно иных с ним взглядов, другого общественного и служебного воспитания, каким был Б. Е. Иваницкий. Я помню, как в одном, именно польском, обществе мне пришлось быть свидетелем разговора о Б.Е., после возвращения его из продолжительной командировки заграницу, где он выполнил весьма ответственное и сложное, сопряженное с очень крупными расходами поручение по заказу судов для пробного полярного рейса от Архангельска к устью Оби. «Ну, теперь он, конечно, обеспеченный человек», сказал кто-то, не зная моих личных отношений с Б.Е. Я вспылил и довольно резко просил не судить о всех по инженерам-полякам. Когда я рассказал потом про скромный образ жизни Б.Е. и, вообще, дал его характеристику, как лица, которое я давно и близко знаю, мне, по-видимому, поверили, но не без удивления, что возможна покупка чиновником громадных судов без личной наживы.
Слишком добрый и мягкий по своей натуре, Б.Е. не мог явиться тем начальником, который способен был произвести то, что называется радикальной чисткой ведомства. Его отношение к людям нечистоплотным, его борьба с ними проявлялись исключительно внешним образом, в крайне резком, порою просто грубом общении с ними; с каждым годом эта резкость и грубость усиливались; легкая раздражительность сделалась привычным свойством Б.Е. и переносилась уже часто, даже по мелочным причинам, с тех, кто действительно заслуживает его гнева, на лиц им любимых и уважаемых. К брани быстро привыкали, не могли не привыкнуть те, для кого служебное положение и сопряженные с ним материальные выгоды были альфой и омегой их бытия. «Брань на вороту не виснет», а выгнать со службы, до этого добрый Б.Е. не дойдет, такова была психология старого состава Управления. Не встречая, при таких условиях, отпора своим выходкам, начавшим по резкости их превосходить иногда те сцены, свидетелем которых я бывал в приемной первого моего начальника Савича, Б.Е. доводил иногда служебные разносы до таких пределов, что потом о них рассказывались весьма занимательные и часто преувеличенные анекдоты.
В моей памяти сохранилось два очень характерных не анекдота, а случая подобного рода.
Однажды, достаточно бездарный генерал-моряк вывел Б.Е. своим тягучим докладом в такой мере из терпения, что он крикнул: «я не понимаю, дослужились вы до генеральского чина, в вместо делового доклада лепечете что-то непонятное, как бебешка». Слово «бебешка» переполнило чашу терпения генерала, тем более, что он своим розовым аккуратненьким лицом и маленьким ростом действительно напоминал нечто детское, и он отправился прямо к министру жаловаться. Совет, данный ему добрейшим князем Хилковым поверг его в полную растерянность, и он долго спрашивал с сослуживцев, как ему действовать дальше. Министр сказал: «ну, не обращайте внимания на крики Б.Е., он и на меня иногда кричит; это не от злобы, он очень добрый человек».
Другой случай, исполненный массы юмористических подробностей, которые мне трудно передать, заключался в следующем. В Петербурге, в нашем Управлении, как-то появился весьма престарелый инженер-инспектор шоссе, кажется, лет десять, если не более, не посещавший столицы; репутацию он имел прескверную. На расспросы его приятеля поляка-инженера, чего он прибыл, тот отвечал, что давно не видел высшего начальства и чувствует какую-то душевную потребность представиться, чтобы хотя посмотреть, как выглядит новый начальник. «Ну, как знаешь, но не понимаю чего тебе лезть, когда не зовут тебя», заметил вскользь столичный приятель; однако прямого и ясного объяснения почему было бы провинциалу гораздо лучше не напоминать о себе и убраться из Петербурга подобру-поздорову, дано не было, и тот просил доложить о себе. По словам моего приятеля, бывшего в это время в приемной, когда открылись двери в кабинет И. и шоссейный инспектор стоял еще на пороге, раздалось громкое приветствие, которым был встречен последний приблизительно в таких выражениях: «а-а, воры, пожаловали к нам, наконец!» Затем дверь закрылась; слышался неистовый крик и через некоторое время в полубессознательном состоянии появился обратно инспектор, упавший на первый попавшийся стул; его поливали водой, чтобы привести к сознанию; курьера, державшего стакан с водой, он со страха величал: «ваше превосходительство», а когда, наконец, пришел в себя, его приятель задал ему злой вопрос: «ну что, осталась в тебе еще душевная потребность видеться с начальством?» «О, никакой!» прошептал несчастный, и больше его в Управлении никогда не видели.
Способ обращения Б.Е. с недостойными инженерами не мог, как я говорил, заставить их уйти со службы: он только, так сказать, косвенно способствовал их уходу, не со службы только, а вообще из сего мира; так, один влиятельный начальник округа после служебного объяснения с Б.Е., придя домой, скончался от паралича сердца; некоторые переводились не на активную роль членов совещательного органа при Управлении — комитета, другие уходили в отставку за выслугу лет.
Шедшее на смену им новое поколение инженеров было в большинстве проникнуто уже новыми, не грубого материально-эгоистического свойства, стремлениями; это были или карьеристы, воодушевленные мыслью о государственных пользах, или люди ученой складки, для которых успех работы, ее прогресс составляли смысл их скромной служебной деятельности, или просто хорошие честные работники-техники.
Несомненно, личность нового начальника Управления, его широкие взгляды на государственное дело, начатые им реформы во всех областях довольно таки отсталого ведомства, каким было Управление водных и шоссейных путей, стоявшее всегда в тени со сравнению с железнодорожным ведомством, в весьма большей степени способствовали появлению и служебному продвижению нового типа инженеров.
Постепенно со многими из них на деловой почве, а с годами и на личной, я близко сошелся.
Общение с новыми для меня людьми было полезно мне в том отношении, что открывало передо мною путем живого слова, как обучение меня Сибири И. И. Крафтом, водного дела для нашего народного хозяйства. Зазубренные в свое время без смысла и связи названия великих рек России оживали, получали кровь и плоть; вырисовывались громадные народнохозяйственные возможности при надлежащем устройстве и эксплуатации наших естественных путей сообщения. Вторая, кажется, по хлебным оборотам Мариинская система делалась любимой, понятной, возбуждала чувство национальной гордости. Сравнение смелого размаха Петра Великого с последующим, относительно робким, продвижением нашего речного дела вперед заставляло критически относиться к настоящему и развивало желание быть хоть чем-нибудь полезным этому делу, в меру сил толкать его вперед, всемерно защищать, его — другими словами наступало то, что одно дает смысл всякой принудительной работе — живой интерес к ней.
Ряд технико-экономических партий работал по обследованию наших водных путей, по проектированию новых систем. Наиболее крупной, можно сказать смело величественной, представлялась работа проект водного пути между Балтийским и Черным морем посредством соединения Западной Двины с Днепром и ряда шлюзных устройств, а также канализация Днепровских порогов. В Управлении имелись уже весьма ценные и интересные материалы по этому делу, представлявшие не только специально технический, но и выдающийся экономический интерес. Так как в мое время обсуждались различные предложения частных, преимущественно иностранных, соискателей по проведению означенного пути, то мне было поручено составить сводную историческо-статистическую справку о данных его обследования, охватывавшего до 25 губерний. Я не могу здесь останавливаться на подробностях этого великого по своему экономическому значению плана, который, дополняясь проектом соединения Дона с Волгой, включал в одну речную систему бассейны трех морей: Балтийского, Черного и Каспийского; по частному вопросу об эксплуатации порогов Днепра мне придется говорить несколько подробнее ниже. Теперь же замечу только, что отсутствие в стране капитала и несчастная наша боязнь вторжения иностранных капиталов, в связи с еще более несчастными и еще менее обоснованными, все иногда заполнявшими, стратегическими соображениями, затормозили осуществление названного мною проекта. Для меня же лично изучение этого дела имело большое значение, как потому, что вводило в область новых знаний, так и потому, что способствовало сближению моему с рядом новых интересных людей — специалистов и дало, благодаря этому, возможность воочию наблюдать эволюцию нашего инженерного мира, нравственный прогресс русского служилого люда, даже в тех частях службы, которые еще недавно казались наименее доступными ему. Эта подробность моих служебных наблюдений особенно ценна для меня, как горячего националиста, ибо она укрепляет веру в русские силы, в силу русского народа. Если наиболее некогда темное и развращенное наше ведомство — судебное, живым духом реформ Императора Александра II, могло найти в несколько лет тысячи кристально-честных деятелей, для которых, вопреки знаменитому по гнусности заявлению Керенского, понятие «честь» заменяло все личные материальные выгоды в жизни, если уже на моих глазах, считавшийся весьма подозрительным, акциз мог быть превращен, главным образом, энергией одного человека — Витте, а отчасти и его предшественников и некоторых их сотрудников, в совершенно чистый род службы, к которой потянулась масса молодежи с высшим образованием, если тому же человеку удалось найти в России громадный кадр людей тоже с высшим образованием для сформирования столь соблазнительной для взяточников податной инспектуры, в которой злоупотребления считались совершенными исключениями и т. д., и т. д., то еще лишний штрих к сказанному мною: мои личные светлые впечатления от новых инженеров не могут не представлять утешительной, радостной картины для всякого, кто хочет верить в русский народ и его честные творческие силы.
Из молодых инженеров особенно сблизился я с выдающимся, европейски образованным, специалистом-гидротехником, инженером путей сообщения С. П. Максимовым; его, как вообще и всю инженерную молодежь, а также, конечно, и честных представителей старого инженерного мира, очень ценил и любил Б. Е. Иваницкий, которому эта молодежь отвечала естественно тем же. Максимов впоследствии перешел в ведомство землеустройства по отделу земельных улучшений, в котором занимал должность помощника управляющего Отделом (вице-директора), так что наши служебные пути встретились и по оставлении мною службы в ведомстве путей сообщения. Он интересовался не только технической, но и правовой стороной дела, в которой умело для не юриста разбирался. Совместно и довольно долго пришлось мне работать с ним по сложным вопросам эксплуатации силы падения воды в связи именно с проектом канализации Днепровских порогов, каковая работа и установила между нами приятельские отношения.
Из инженеров новой формации назову П. П. Чубинского, Тренюхина, С. В. Васильева, Тухолку, Старицкого, Попова — все они, как и многие другие, фамилии которых теперь мною позабыты, были весьма незаурядными, а некоторые и прямо выдающимися честными деятелями.
Талантливый и с громадной инициативой инженер П. П. Чубинский широко развернул свои технические и организационный способности на Дальнем востоке в ответственной должности начальника управления водных путей Амурского бассейна, т. е. по европейской терминологии — округа путей сообщения. Обстановка р. Амура, для правильности ее требовавшая тщательных повторных исследований, крайне сложная при извилистости и изменчивости фарватера, являлась технической гордостью нашего ведомства и возбуждала почтительное изумление со стороны иностранцев. Огромность бассейна этой реки с полноводными, но мало изученными притоками (Зея, Бурея, Сунгари и др.) требовала серьезного научно-технического изучения; с этой целью там работал ряд инженерных партий. Чисто хозяйственные операции по содержанию довольно крупной казенной флотилии, разрешение массы правовых вопросов, связанных с полицией безопасности и благоустройства водных путей, с делом найма многочисленного персонала служащих на частные суда, наконец, разрешение различных ответственных пограничных вопросов с нашим правобережным соседом — Китаем и проч, и проч. — все это ставило местное водное Управление в исключительное, по сложности работы, положение.
Кстати, вспоминаю где-то прочитанные мною воспоминания одного из наших ссыльных революционеров, где он, описывая свои скитания, приведшие его к временной работе в Управлении водных путей Амурского бассейна, с «глубокомысленной» иронией замечает: «в России и такое было Управление». Это невежество, всегда заставлявшее меня вспомнить Крыловскую «Свинью под дубом», удивительно характерно вообще для нашей революционной среды. Утопическая, без конкретных, сколько-нибудь основанных на реальных знаниях, данных, брошюрки заменяли этим несчастным русским людям всякое образование, в особенности знание подлинной России; поэтому так легко разрушалось по их инициативе во время революции все то, ценности чего они понимать не могли, то, что при всяких социально-политических строях остается неизменно необходимым для блага народа.
С П. П. Чубинским я работал впоследствии совместно в Амурской Экспедиции, и эта работа и сдружила нас.
В заключение, для характеристики новых веяний в инженерной среде, должен упомянуть о том изумлении, в которое привели разных поставщиков и подрядчиков приемы работы, введенные новым молодым начальником киевского округа путей сообщения Тренюхиным. Когда евреи-подрядчики, при заключении условий на работу, объявили ему сумму личного его процентного от них вознаграждения, он согласился на их предложение, а затем, при утверждении цен на работы, сбросил соответственную сумму с этой цены, заявив удивленным контрагентам, что они ведь сами признали, что работы фактически обойдутся без убытка для них дешевле на сумму предложенного ему «гонорара». Также поступал и заместивший Тренюхина в должности названного округа инженер Попов.
О личном богатстве от службы эти люди уже не думали. Не революционным, а эволюционным путем достигалось самое ценное для всякого человека и народа качество — умение честно работать; революция, развратив население и перебив лучших его работников, причинила на многие десятки лет гораздо больший ущерб России, чем материальное расхищение ее богатств, на котором главным образом сосредотачивается ошибочно внимание русских и европейских врагов керенщины и большевизма. Но об этом в своем месте.
Работы по реформированию дела заведывания водными путями при Б. Е. Иваницком касались, как я и говорил, всех сторон дела. Заведывание портами, после различных ведомственных трений и обострения отношений между Б.Е. и сторонниками в. кн. А.М., ставшего во главе дел торгового мореплавания, было изъято из ведения нашего Управления, и главное внимание последнего всецело сосредоточилось на реках и отчасти шоссе.
Мне лично, с переводом моим в юридическую часть, пришлось принимать непосредственное близкое участие в разработке: 1) нормального устава судоходства и сплава, 2)правил о найме служащих, 3) положения об эксплуатации силы падения воды.
Кажущаяся, судя по названию работ, для поверхностного взгляда, сухость и как бы второстепенность их, обманчивы; более близкое знакомство с их содержанием открывает весьма заманчивые для государственно-мыслящего человека вообще, а для юриста в частности, деловые перспективы. Я не могу останавливаться на утомительном для не специалиста подробностях названных законопроектов, но охарактеризовать их в кратких, так сказать популярных и бытовых чертах, считаю не лишним для полноты моих служебных воспоминаний.
Начну с устава о судоходстве и сплаве. Постановления закона по этому предмету составлявшие приложения к уставу путей сообщения, устарели до курьезности и в большей их части на практике уже не применялись; они содержали в себе правила еще Петровского времени, когда законодатель стремился, в целях большей доступности текста закона мало образованному обывателю, знакомить его не только с той или иной правовой нормой, но и различными основаниями, обусловившими ее издание, а кроме того нагромождал закон массой подробностей чисто циркулярного характера; были, например, статьи устава, которые за успешное исполнение тех или иных операций судоходной инспекцией обещали ей различные награды: «не только денежные, но и самим орденом или чином»; определялось даже сколько дней в неделю запрещается напиваться и т. п. Канцелярия Государственного Совета не решалась уничтожить архаические правила в кодификационном порядке, что в сущности было бы самым правильным; она добросовестно ждала замены их новыми законодательными нормами, по инициативе «заинтересованного ведомства». Последнее действительно пыталось дать новые законодательные правила взамен устаревших, но попытки эти не имели успеха, так как техники-специалисты, поглощаемые всегда массой мелочных подробностей, не имели ясного представления, как разграничить область законов от области административного циркулярного усмотрения; они определенно сознавали одно, что судоходное дело настолько живое и подвижное, что если подчинить его неподвижным и трудно изменяемым нормам закона, то кроме вреда от этого ничего не получится: либо закон вскоре не во всех частях будет исполняться, либо он будет обходиться путем злоупотреблений должностных лиц. С другой стороны, в лучшей, наиболее юридически образованной среде ведомства не было сомнений, что и полный произвол, безграничное, несдерживаемое никакими законодательными нормами, усмотрение ведомства в деле подчинения судоходства и сплава каким-либо полицейским стеснениям представляется совершенно недопустимым. Еще до назначения начальником Управления Иваницкого, МПС входило с законодательным представлением проекта положения о судоходстве и сплаве; этот проект, по объясненным мною причинам, заключал в себе целый ряд мелких полицейских правил и заканчивался весьма курьезной, чтобы не сказать более, с правовой точки зрения, статьей, которая предоставляла министру путей сообщения отменять, изменять и дополнять все правила Положения в Государственном Совете или Комитете Министров (не помню теперь) вполне естественно министру путей сообщения был задан вопрос, почему он собственно домогался постатейного рассмотрения представленного им проекта, когда в сущности законодательное значение имеет одна последняя его статья, дающая министру право обязывать судоходцев и сплавщиков любыми, по его усмотрению, правилами.[4] Само собой разумеется, что в таком дискреционном праве, в виде постоянной меры, министру было отказано.
При Иваницком дело приняло уже иное государственно-правовое направление; предварительная разработка его была поручена Н. И. Туган-Барановскому, а затем выработанный законопроект был внесен на рассмотрение междуведомственного совещания. К участию в этой работе Н.И. пригласил меня.
В основу законопроекта были положены нами такие общие соображения: 1) законодательные правила судоходства и сплава должны заключать в себе исключительно общие нормы, совершенно не касаясь изменчивых технических подробностей, опираясь на каковые нормы, сдерживаясь так сказать их пределами, исполнительное ведомство получит законное право регулировать в подробностях этот важный вид народного промысла и 2) дабы многочисленные административные правила, которые будут издаваться в развитие закона, были возможно более обеспечены от произвольного усмотрения одного ведомства и были всегда возможно ближе к действительным условиям жизни, издание таких правил должно производиться не единоличным усмотрением министра, но через коллегиальный орган, совет по делам судоходства и сплава, состоящий из представителей различных ведомств и выборных представителей от самих судопромышленников и сплавщиков. Таким образом, в отсталое в правовом отношении дело вносилась свежая струя привлечением у нему различных специалистов и общественности.
Разработка законодательных норм по судоходству и сплаву потребовала весьма напряженной работы, понятной только юристу: требовалось внимательно изучить громадный материал разновременно издававшихся полицейских правил, систематизировать его, отобрав из устаревшего хлама все жизненное и, наконец, самое главное, из целого ряда однородных мелких правил извлечь одну, обобщающую их, законодательную норму, которая не только подводила бы законный фундамент под существующие административные правила, но и служила бы основанием для возможного их развития в будущем. Все это требовало очень тонкой, чеканной и для юриста занимательной работы. Занятия мои с Т-Б в этой области продолжались долго, кажется, целую зиму; проект был одобрен и министром и начальником Управления, а также благополучно в общем прошел через междуведомственное совещание, после чего был разослан еще на заключение всех министров.
Вторая довольно крупная работа, которая была поручена мне уже единолично — это разработка законопроекта о найме служащих А. 195 по судоходству и сплаву. Знаток судоходного дела морской офицер А. И. Одинцов составил весьма обстоятельный проект соответственных правил, но они частью устарели, частью опять таки по недостатку у автора юридических методов мышления, требовали серьезной переработки. Не полагаясь на материалы А. И. Одинцова, хотя и чрезвычайно ценные для меня, но не снабженные совершенно ссылками на какие-либо источники, я прежде всего познакомился со всеми аналогичными законами по другим отраслям труда, как в бедном по этой части нашем законодательстве, таки в западноевропейском, особенно германском. Затем я прочел русскую литературу по этому предмету, которая, к моему величайшему изумлению, вполне впрочем естественному при недостатках нашего образования, оказалась весьма богатой именно в интересовавшей меня области судоходства. Печатные труды санитарных врачей округов путей сообщения, совершенно почти неизвестные нашему обществу, как все «казенное», в таких подробностях цифровых и описательных освещали быт и тяжелые условия труда различного рабочего нашего люда на реках, начиная с матросов и кончая пароходными лакеями и знаменитыми волжскими крючниками-грузчиками, что осталось только, внимательно изучить их, извлечь из них те конечные выводы, которые могли бы быть переработаны в законодательные обобщающие нормы. Попутно мне хочется еще раз сказать, как обидно, как досадно, что Университет наш, давая схоластические сведения о «значении прилежного труда для его производительности», о том, что «веревка есть вервие простое» и т. п., не знает и не хочет знать родной жизни, задачи из которой с успехом поддаются интереснейшей научной разработке, хотя бы, если не на лекциях, то в виде практических занятий. Право, студенту-экономисту было бы гораздо полезнее порекомендовать прочесть, например, работы об условиях труда наших грузчиков, в связи с главой по рабочему вопросу, чем преподносит ему изустный в течении года пересказ печатного учебника.
Само собою разумеется, что та картина рабочей обстановки, которую дали мне изученные мною материалы, поставила меня всецело на сторону служащих и против эксплуататорских наклонностей промышленников-нанимателей. Это не могло, конечно, не отразиться на общем направлении моей работы. Т.Б., познакомившись с составленными мною законопроектом, назвал его, смеясь, социалистическим, но признал, что как база для торга с судопромышленниками он вполне целесообразен и если даже подвергнется некоторым изменениям под их натиском и во внимание действительно упущенным мною некоторым затруднениям для них (например, про моему проекту потребовалась бы перестройка некоторых мелких пароходов для улучшения жилищных условий прислуги), то во всяком случае явится крупным шагом вперед в нашем законодательстве о рабочих.
Не помню, что затормозило дальнейшее продвижение моей работы, но законопроект о найме долго оставался у меня в портфеле. Министр как-то внезапно заинтересовался этим проектом; на вопрос Т.Б. под рукой ли у меня проект и хорошо ли переписан, я обещал принести его на другой день. С портфелем, в котором находилась моя многомесячная работа, я отправился обедать с приятелями по Земскому Отделу в ресторан; министр куда-то уехал на один день, и представление ему законопроекта было отложено. Обед наш, по поводу какого-то чествования, прошел в отдельном кабинете чрезвычайно оживленно, и уже под утро только я вернулся домой. На другой день Т.Б. спрашивает у меня снова о законопроекте, я иду по привычке к своему столу, чтобы достать бумаги из портфеля и, в тщетных поисках его, припоминаю, что вчера со службы на обед я ушел с портфелем, а пришел домой без него. Начались безрезультатные поиски и по телефону и личные; в конце концов я должен был объявить начальству о пропаже так долго составлявшегося законопроекта, как подлинника, так и переписанного на машинке для министра. Т-Б был очень взволнован, главным образом тем, что неизбежно увольнение меня от службы, очень сетовал на мое легкомыслие и убеди еще раз самому съездить в ресторан поискать портфель; к большому моему изумлению и радости последний, действительно, был найден мною почему-то на кушетке возле стола; это событие было отчествовано тут же мною должным образом в вызванными по телефону друзьями из Земского Отдела, уже знавшими о моей неудаче и сильно за меня волновавшимися, но с тех пор я никуда никогда больше не брал с собою никаких служебных дел при поездках по частным делам.
Законопроект мой начал свое обычное странствие по ведомствам и совещаниям.
Наконец, последняя, пожалуй наиболее интересная и увлекательная работа, в которой я принял участие, заключалась в разработке вопроса «об эксплуатации силы падения воды», как гласило официальное его название, или о «белом угле», как принято было говорить в технической литературе.
«Белый уголь», т. е. использование водопадов и речных течений для получения электрической энергии, получивший мощное развитие в Америке и отчасти в Западной Европе, России почти не известен. Проект соответственного устройства Днепровских порогов был, как я уже говорил, разработан, в связи с проектом Черноморско-Балтийского водного пути. Осуществлением электрификации Днепровских порогов были бы достигнуты грандиозные экономические задачи: русский Манчестер — Екатеринослав и весь его фабрично-заводской район получали бы дешевую энергию в количестве, обеспечивающем в десятки раз увеличенное, по сравнению с существующим, производство, не говоря уж о том, что юго-западный край, с Киевом во главе, был бы соединен сплошным дешевым путем сообщения с Черным морем, которое с низовьями Днепра отрезано теперь от среднего и верхнего его плеса именно Екатеринославскими порогами.
Однако, использование силы падения воды в Днепровских порогах, вполне осуществляемое технически, сталкивалось с серьезными затруднениями юридического свойства. Каковы права частных прибрежных владельцев на эту силу, а если таковая и была бы признана, подобно праву судоходства, принадлежащей общественно-государственному распоряжению, то какие пределы вознаграждения берегового владельца за принудительно отчуждаемую от него, обычно скалистую, береговую полосу: по местной оценке стоимости земли, либо по расчету, принимающему во внимание специальную ценность берега, расположенного у таких источников двигательной силы, как Днепровские пороги и т. п.? На эти вопросы в нашем законодательстве не заключалось сколько-нибудь определенных ответов. Владельцы, осведомившись о тех выгодах, которые дает им приречное расположение их имений, не желали дешево расстаться с ценной их частью, но, не располагая достаточными средствами на производство крупных гидротехнических работ, сами не эксплуатировали силу падения воды, которую они считали своей собственностью, а, выражаясь вульгарно, лежали, как собаки на сене. Кроме того, надо сказать, что, в свою очередь, эксплуатация силы падения воды сложно сплеталась с правом судоходства и сплава, так как, понятно, то или иное гидротехническое устройство не могло не влиять на общее состояние водного пути и требовало государственного разрешения и наблюдения за частным предприятием по эксплуатации силы водного падения. Это вызывало необходимость создания на местах особых специальных административно-технических органов.
Все изложенное побудило наше ведомство приступить к разработке общего вопроса об условиях добычи белого угля, поставив дело о Днепровских порогах в зависимость от выработки общих для России правовых оснований пользования водной силой для получения двигательной силы.
С высочайшего соизволения с указанной целью было образовано особое совещание, под председательством единственного, кажется, сенатора с образованием инженера путей сообщения, престарелого Фадеева; в состав совещания вошли крупные юридические силы различных ведомств, а разработка и подготовка материалов, также и ведение журналов Совещания было возложено на чинов нашей юридической части, с усилением их состава несколькими молодыми специалистами-инженерами. Во главе образованного таким образом делопроизводства совещания, как было приято у нас называть исполнительные органы совещаний, был поставлен присяжный поверенный М. И. Свешников. В бытность мою студентом, С. занимал, на правах привет-доцента, вторую кафедру государственного права; читал живо, имел свою аудиторию, но, как говорил Коркунов, давал слушателям скорее календарные, чем научные сведения, так как по натуре своей он был всецело практик, а неученый, почему, выйдя в оппозиционном порядке из состава профессоров, он всецело предался адвокатуре, преимущественно по делам различных акционерных компаний и проч. Дела его то шли в гору, то падали; поэтому его полную фигуру с упитанным бритым лицом типичного бонвивана приходилось видеть то в удобной собственной коляске, то пешком, когда он весь красный и потный, от тяжелой и непривычной ему ходьбы бегал по всему городу по различным учреждениям и клиентам. Пешая его фигура была моим последним воспоминанием о нем: в 1905 году он во главе процессии адвокатов с каким-то, кажется, флагом в руках с трудом, но торжественно шествовал по Литейному проспекту; позже мы не встречались. Это был типичный столичный интеллигент от оппозиции: способный, красиво говорящий, больше всего в этой жизни любящий удобства сытой жизни и не выдерживающий никакой длительной упорной работы, если в особенности она не обещает сколько-нибудь приличных материальных выгод. Хотя иметь общение с С. было в общем всегда приятно, как с живым и остроумным собеседником, но, конечно, назначение его во главе делопроизводства или канцелярии серьезного совещания в деловом отношении не могло ничего обещать хорошего. Милый, добрый и высоко добросовестный сенатор Фадеев сначала отнесся с полным доверием к своему сотруднику-«профессору» и адвокату; возлагал, видно, на него большие надежды и в первые недели не вносил никаких предположений в совещание, не получив соответственной справки или заключения «профессора». Первые дни С. действительно увлекся работой, но вскоре переложил на меня главную ее часть; постоянно отвлекался от дел переговорами с разными своими клиентами-концессионерами, писал наскоро в заседаниях совещания проекты различных частных уставов, иногда внезапно покидал заседание для длительных разговоров с ожидавшими его даже в коридоре Управления клиентами; опаздывал, а часто и совсем не приходил в назначенный час на квартиру сенатора Фадеева, где он устраивал предварительные совещания с ним чинов нашей канцелярии по отдельным юридическим подробностям.
Старец Фадеев, в тщетных поисках «профессора», разводил иногда беспомощно руками и добродушно говорил про него: «Что же это за работа? Там пробежал, здесь плюнул и исчез». В конце концов, несмотря на свое благодушие, Фадеев начал не на шутку сердиться и стал игнорировать С., фактически передав делопроизводство совещания в мое ведение.
Те, кто не соприкасался с внутренней жизнью наших министерских учреждений и в особенности кто относился к ним с предубеждением, никогда, конечно, не представлял себе с какой горячностью, с какой чисто научной пытливостью постигнуть истину, протекали многие «казенные» совещания.
В нашем совещании, по ознакомлении с законодательными и литературными материалами, сразу же определились два течения мысли: одно, стоявшее на точки зрения широких государственных интересов; другое, отстаивавшее, по основаниям впрочем чисто правовым, частноправовые интересы. Оба течения были представлены серьезными юридическими силами: первое поддерживали главным образом юрисконсульты министерства юстиции Нечаев и финансов — Гренгросс, второе — сенатор Гасман; прочие участники совещания распределились почти поровну между этими так сказать лидерами двух противоположных взглядов. Обе стороны проделали чрезвычайно обстоятельные исторические изыскания в области нашего водного права, начиная с Уложения царя Алексея Михайловича и отдельных законов Петра Великого. Государственники, парируя обвинение их в колебаниях устоев права личной собственности, снабжали свои доводы целым рядом исторических справок, которые, с моей точки зрения, вполне убедительно доказывали истинно-государственный взгляд наших царей, особенно, Петра Великого, на речное наше хозяйство, как на достояние общественное, в котором береговой владелец имеет лишь некоторые права в интересах своего земельного имения, в пределах не нарушающих интересов общественных и государственных. Защитники частноправовых интересов оперировали, с не меньшей горячностью, данными позднейших законов, которые они считали вредными и опасными колебать. Это — так сказать схема возникшего разногласия; я не могу говорить о подробностях, чрезвычайно интересных для специалистов-юристов; вокруг таких подробностей разгорались часто весьма тонкие по юридическому анализу прения. Должен только заметить, что в горячих поисках затуманенной законодательными и бытовыми наслоениями истины, нервы у активных членов совещания так истрепались, отношения так обострились, что лидеры противоположных течений мысли перестали подавать друг другу руку, а иногда заседание совещания закрывалось Фадеевым до окончания его, по причине слишком обостренного характера прений. Припоминаю, что в первые дни работ совещания, когда начала уже определяться непримиримость основных точек зрения на вопрос, раздался предостерегающий голос одного умного и очень практичного инженера В. Е. Тимонова. Он был настолько практичен, что, как говорили о нем злые языки, менял свою внешность в зависимости от наружности данного министра: то он ходил в поношенном сюртуке, с растрепанными волосами на голове, со всклокоченной бородой, то при министрах не ученой, а светской внешности одевался с иголочки, стригся и имел бороду в виде аккуратного клинышка a la Henri IV. В совещаниях он всегда был интересен тонким и злым своим остроумием; например, когда говорили об исправности какого-то шоссе, он, любезно улыбаясь, задал вопрос, почему именно на этом самом шоссе сокрушился автомобильный свадебный поезд дочери одного сановника, по небрежности ли шоферов или, быть может, вследствие некоторых недостатков именно самого шоссе.
Зная пристрастие Т. быть оригинальным, идти против общего течения, увлеченные делом юристы не обратили внимание на его предостережение, а оно заключалось в том, чтобы выработать специальный новый закон в отношении одних только Днепровских порогов, а общими юридическими вопросами заниматься уже потом, сколько угодно. На этот раз, как показало будущее, Т. оказался прав; из-за общего вопроса надолго затормозилось разрешение дело о белом угле для Екатеринославщины. Нам, всем юристам, показалось тогда, однако, обидным прерывать начатое общее изучение сложного юридического вопроса и заниматься какими-то частностями. Предложение Т. было единогласно отвергнуто.
В разгар обострения споров в совещании, однажды ночью, среди сна, как это часто бывало со мною при увлечении какой-нибудь служебной работой, меня вдруг осенила, показавшаяся мне тогда блестящей, мысль примирить противоположные течения, сочетав государственные и общественные интересы. Я тотчас же, встав с постели, набросал схему моих соображений, а утром поспешил к сенатору Фадееву поделиться моим открытием. Я забыл теперь различные подробности дела, но, насколько могу вспомнить, мое предложение сводилось в общем к предоставлению береговому владельцу права, в течении известного срока после того, как поступит предложение другого частного лица или правительственного ведомства, самому использовать силу падения воды для однородных по размеру и общественной выгодности гидротехнических устройств. Фадеев радостно ухватился за мою мысль, очень благодарил меня и уверенно говорил: «ну, слава Богу, теперь верно, мы придем к концу». С согласия Фадеева, я составил подробно мотивированную записку и доложил совещанию; когда по ней открылись прения, то к искреннему моему и Фадеева изумлению, они сразу же приняли столь обостренный характер, что в результате заседание пришлось закрыть, а некоторые из членов совещания отказались принимать в нем участие вообще.
Бедный Фадеев был чрезвычайно удручен, я пытался его утешить, говоря, что у нас есть еще способ закончить работы, что во всяком случае выработаны нами уже положения о местных водных учреждениях, органах надзора и пр., а вопрос о праве на движущую силу воды можно направить в дальнейшие инстанции в двух редакциях и что вообще нельзя терять надежды на созыв хотя бы последнего совещания для подписания протоколов и прочих заключительных действий. Фадеев печально посмотрел на меня и сказал со вздохом: «нет, чувствую, что мое место даже не в совещаниях, а там», и он поднял руку вверх по направлению к небу.
И действительно, через несколько дней я провожал уже к месту последнего успокоения этого честного старого работника. Несомненно, страстная работа совещания подорвала физические силы Фадеева, у которого было больное сердце, и ускорило его кончину. Можно радоваться одному, что не дожил Фадеев до времени, когда тысячи подобных ему расстреливаются за принадлежность к «нетрудовому классу населения».
После скандала в совещании в связи с обсуждением моей записки я имел первое неспокойное объяснение с Б. Е. Иваницким. «Как вы решились входить с какими-то самостоятельными представлениями, не посоветовавшись даже с М. М. Свешниковым; ведь вы недавно со школьной скамьи и видите, что наделали!» Я обиделся, объяснил, что я кончил Университет, служу пятый год, и ушел недовольный начальством, но, конечно, не объяснив, почему нельзя и не стоит советоваться с «профессором».
После смерти сенатора Фадеева начались тщетные поиски заместителя ему в совещании. Сенатор Варварин, с которым велись предварительные переговоры, прямо так и написал: «ознакомившись с журналами и материалами [выделено в оригинале] совещания, не нахожу возможным принять в нем председательствование». И действительно, груда исторических изысканий, а главное обостренные отношения в среде совещания, которые ярко выявлялись в его журналах, не могли быть привлекательными для свежего, со стороны, человека.
К этому времени наступили события, которые все вообще наши законодательные предположения, а не только по белому углю, затормозили на много лет: война с Японией и первая после нее революция.
На этих событиях я должен, хотя бы самым кратким образом остановиться в моих воспоминаниях, конечно, только постольку, поскольку они отразились на моей личной обывательской и чиновничьей жизни; за эти пределы не распространяются, как я говорил, задача моих записок. Наша война и наши новые, порожденные первой революцией, законодательные учреждения имеют своих специальных мемуаристов.
Война в столице глубоко волновала общество, в особенности чиновничий мир: мы остро переживали каждый шаг военных событий; печалились гибелью адмирала Макарова, художника Верещагина, генерала Кондратенка; ненавидели адмирала Алексеева за его бездарность и ликовали по поводу назначения главнокомандующим генерала Куропаткина. У каждого из нас пошел на войну ряд близких людей… Провинции нашей, в массе ее, война была чем-то чуждым, не интересным. Оппозиционно большей частью настроенное, под влиянием прессы и земств, провинциальное общество в лучшем случае не интересовалось этим событием, а в худшем исповедовало веру в то, что «чем хуже — тем лучше». Слухи о том, что виновники войны — мы, а не японцы, что у нас был выгодный и почетный способ избежать нападения на нас японцев, что наша дипломатия и другие заграничные представительства на Дальнем востоке проявили преступную и тупую неосведомленность в отношении политических целей и военных средств Японии — все эти слухи постепенно разрастались, но в государственно-мыслящих людях они могли только пробудить желание исправления ошибки, без унижения русского авторитета на Дальнем Востоке, в среде же утопистов, к которым принадлежало большинство оппозиционной интеллигенции, вызывали одно стремление — к поражению.
Наши государственные ошибки на Дальнем Востоке получили, по моему мнению, наиболее яркое и понятное выражение в вышедших теперь мемуарах С. Ю. Витте. Для меня, посвятившего ряд лет службы делам Приамурья, данные и соображения Витте теперь особенно близки и дороги, как подкрепляющие мои собственные взгляды, но, повторяю, во время японской войны над всем преобладало у меня естественное чувство скорби по поводу наших военных неудач.
Столкновение в настроениях и взглядах с инако мыслящими и чувствующими представителями нашей оппозиционной, особенно провинциальной, интеллигенции вносило уже в наши споры сильное раздражение, увеличивало пропасть между двумя, совершенно непримиримыми, идеологиями.
На одной стороне находились те, как я, которые знали и чувствовали, что в России, при ее непочатых богатствах и массе требующих разрешения, так сказать, обыкновенных текущих вопросов во всякой решительно области, с которой хотя бы случайно соприкоснешься, не наступило еще время для резких скачков вперед по пути политическо-социальных задач, на другой стороне были те, кто по принципиальным или часто просто личным соображениям верил, что главное для России то, что написано в европейских научных книгах либо социалистических брошюрках, т. е. ограничение самодержавной власти, четырехвосгка (всеобщее, прямое, тайное и равное голосование), передел и раздача частновладельческих земель и т. п. Значение для России самодержавного строя прекрасно выявлено опять таки в тех же мемуарах Витте; он вполне отчетливо выражает те причины, которые могли побуждать известную часть государственных работников держаться за этот строй, единственно удобный для быстрого проведения главным образом хозяйственных реформ. Я не стану здесь повторять его доводов. Мне важно только отметить наличность такой убежденной идеологии, к которой я тогда примыкал всецело и под влиянием событий укреплялся все сильнее и сильнее.
Я не давал еще тогда себе отчета, что в жизни народов, государств, как и в частной жизни человека, наступают такие моменты, когда доводы ума и логики должны уступать место психологии, области простого человека. Психологически, а не по объективным условиям для России, или по крайней мере для единственной влиятельной части ее населения — так называемой интеллигенции, наступило время предпочесть конституционный строй старому Самодержавному, как для крестьян чисто психологически настало время потребовать себе помещичьи земли, как в нынешнее смутное время психологически необходимо оказалось попробовать большевизма и коммунизма. Никакие доводы логики и ума вообще не имеют в таких случаях силы, раз известная масса населения, подготовленная односторонней прессой и пропагандой, настроена так, что в первый удобный для нее момент с общим увлечением и подъемом потянется за тем, что ей кажется в данное время для нее наилучшим. Наше правительство не знало контрпропаганды, да и едва ли сумело бы с нею быстро и хорошо справиться, а раз этого не было и широко развивалась проповедь других идей — крушение старого самодержавного строя было неизбежно.
Крестьянам и интеллигенции внушалось, что стоит отдать помещичьи земли нашим землепашцам и наступит общее их благоденствие; десятки лет эта мысль всячески вдалбливалась в головы крестьян, внедрялась в их сердца, как какая-то радужная мечта — «синяя птица», и теперь В. И. Гурко («Что есть и чего нет в мемуарах Витте». Журнал Летопись. 1922.) и другие авторитеты нашего землеустроительного дела могут сколько угодно, оперируя чисто научными цифровыми выкладками, доказывать отсутствие оснований и невыгодность раздела частновладельческих имений, им не победить ни логикой, ни цифрами, не победить умом там, где замешалось чувство, не признающее ни цифр, ни логических доводов. Ведь своевременной контрпропаганды по вопросу о национализации или социализации земель В. И. Гурко не устраивал.
Итак, к 1905 году, я, не считаясь, повторяю с психологическими условиями, был ярым сторонником самодержавия, ибо в этом убеждении укреплял меня мой ум. Но кроме того и постоянное оскорбление во мне моего национального чувства выпадами пораженцев, считавших, что за какую-то четыреххвостку можно платить сотнями тысяч жизней русских офицеров и солдат, не могло не настраивать меня крайне враждебно к революционному движению этого времени.
Колебания и уступчивость Царя, когда смерть Плеве была использована, как подходящий момент для делания «весны» новым министром внутренних дел Мирским, издание различных Высочайших актов, взаимно противоречивших друг другу, наконец, совершенно неожиданное появление конституционного манифеста 17 октября — все это впервые враждебно настраивало меня к тому, к которому я относился некогда с полной верой и обожанием, не позволяя себе учитывать его мелкие ошибки и слабости.
Не помню, 17 или 18 октября утром я был у Г. В. Глинки с В. В. Иваницким и некоторыми другими знакомыми; последнему обещали срочно прислать из редакции Правительственного Вестника оттиск ожидаемого манифеста; точное содержание его еще не было известно; говорилось только, что ожидается объявление конституции. Наконец, появился курьер с узким свежеотпечатанным листком бумаги, в котором заключались судьбы России. Объявлялось, помимо всяких свобод, что ни один новый закон не будет иметь силы без предварительного одобрения Государственной Думой или Советом, т. е. давалось именно то, что составляет сущность всякой конституции, ограничивающей власть монарха; почему нашей прессе и различным оппозиционным профессорам требовалось продолжать свои утверждения, что в России нет конституции, об этом не стоит здесь говорить. Я понял, что неограниченной, самодержавной власти, хотя термин этот и остался в наших основных законах, но уже в ином смысле, более в России нет. Было подано вино, и я впервые в жизни отказался принять участие в тосте за Царя, предложенном Г. В. Глинкой; все присутствующие были естественно сильно взволнованы. Дома не сиделось, на службе не работалось, тянуло на улицы посмотреть, как отразился манифест на настроении масс, принимавших тогда большое участие в различного рода забастовках. Я провел, с небольшими перерывами для сна, около двух суток вне дома, преимущественно на Невском. При моем отвращении к толпе это было для меня большим подвигом, тем более, что кроме самого искреннего отвращения, при моих взглядах и настроениях, я ничего не мог получить от «конституционных ликований».
По Невскому день и ночь ходили толпы, разделяемые политической враждой или соединяемые симпатией. То появлялась толпа с национальным флагом, на котором была надпись: «да здравствует свобода и Царь», то с красным, то с зеленым, то с бело-синим и т. п. Некоторые флаги, некоторые моменты продвижения толп по широкой длинной линии Невского были, сами по себе, красивы, но не умолкающий какой-то дикий, грубый крик, с звериными завываниями наиболее исступленных участников процессии, крик, который не умолкал потом в собственной голове даже во время сна, но пошлые побоища одной толпы с другой, при встрече враждебных флагов с раздиранием до крови физиономий и истреблением флагов, но пролетавшие на извозчиках в стоячем положении какие-то лохматые студенты преимущественно кавказской наружности, сиплыми звериными голосами кричавшие: «ночью, товарищи, на тюрьмы» и другие лозунги и проч., и проч., все это было до гнусности гадко, унизительно для человеческого достоинства и культуры. Запечатлелись в памяти на всю жизнь некоторые образы: с разбитым, истекающим кровью, носом какая-то пьяноватая проститутка, со шляпой на затылке, патетически кричала: «помогите, кровь свою проливающей за свободу». Затем пристав, проезжавший в пролетке мимо Казанского Собора; усы, как у кота, вокруг глаз добродушные морщинки, посмотрел в сторону собора, хотел перекреститься, вдруг взгляд его упал на орущего что-то с возвышения у собора студента без шапки с южной копной курчавых грязных волос; у ног студента, разинув набожно рот, какая-то старушка, типичная церковная принадлежность, вероятно, нищенка; пристав долго смотрел на эту группу и потом отвернулся в сторону с таким выражением, как будто увидел какую-то невероятную нечисть, в роде самого черта что ли. Наконец, поздним вечером на Васильевском острове, возле университета — громадная толпа, сходка студентов; какой-то сиплый голос кричит, что Черноморский флот обстреливает Крым и Одессу, как будто это так было бы радостно для обстреливаемых городов; я стараюсь на извозчике пробраться мимо университета по набережной; обычное место городового занято каким-то студентом; жестом типичного провинциального околодочного, грубым голосом он останавливает извозчика: «сворачивай, здесь проезда нет»; извозчик ворчит: «вот те на, новая полиция!» и мы возвращаемся к Дворцовому мосту. В том же роде пошлые сцены разыгрываются и в день открытия первой Государственной Думы. Все это создает и укрепляет во мне настроение ненависти в этому учреждению. В нем начинаются бесконечные речи, дела останавливаются. То, что дорого, возбуждает живой интерес в деловой среде, очень мелко для представителей «народного гнева». Самые разумные меры, только потому, что они исходят от Правительства, тормозятся. Один член оппозиции договаривается до того, что по поводу прекрасной прогрессивной декларации Министра народного просвещения Кауфмана-Туркестанского заявляет в персе: «будь эта речь сказана в европейском парламенте, ее приветствовали бы аплодисментами». Но у нас надо критиковать во имя оппозиции. Всякое мелкое дело, например, о срочном кредите на университетскую оранжерею признается «вермишелью», которой Правительство умышленно заваливает Думу, как будто бы государственную, хотя бы и мелкую работу можно остановить, как будто бы сама Дума не начала бы метать гром и молнии, если бы в каждом мелком, для нее не интересном, случае нарушалась конституция, и кредиты отпускались в порядке управления. Получается впечатление, что одна цель оппозиции — это добиться министерских портфелей, а разные текущие государственные нужды — на втором плане. Ничего, абсолютно ничего, ни первая, ни вторая Дума не делают для того, чтобы планомерным, мирным так сказать походом на Правительство показать, что они в своей среде имеют людей, которые и по работоспособности, и по знаниям выше стоят чинов Правительства, ничего не делают такого, что воочию показало бы безусловную деловую необходимость Думы. Это пустословие и отсутствие практических А. 209 способностей уметь завоевать себе деловое положение со стороны первых двух Дум явилось роковым для последующих взаимоотношений между таким чистым душой человеком, как царь Николай II, и нашими новыми законодательными учреждениями. Лидеры оппозиционных партий (я не говорю, конечно, про утопистов — для них закон не писан) не умели понять простейшие вещи, что Царь — это могучая сила, которую им важнее привлечь на свою сторону, переделать его, так сказать, психологически, чем считаться рабски с каждым словом нашей дешево-либеральной прессы; эти лидеры не умели завоевать для себя, т. е. для своих партий, влиятельного делового положения, признания их независимости, а этого достигнуть было легко при таком Царе, который всей душой искал только правды и добра своему народу, особенно крестьянам. Впрочем, остается еще открытым вопросом, способны ли были вообще «лидеры» к чему-либо другому, к какому-либо творчеству, кроме словопрения.
Царь не мог не отойти душой от Думы, потому что он видел в них мелкую, с его точки зрения, борьбу честолюбий, самолюбий, притом чуждую толще русского народа — крестьянству.
Я лично, оскорбленный в моих патриотическо-национальных чувствах, в такой мере озлобился на Думу, что объявил моей тетке, сдававшей в ее большой квартире на Таврической улице две комнаты, о намерении моем переселиться от нее в случае сдачи ею квартиры «кадету» или, тем более, кому либо из социалистов Думы. Наша квартира по близости ее к Государственной Думе очень привлекала именно провинциальных ее членов. Наниматели комнат чрезвычайно изумлялись, когда моя тетка добросовестно опрашивала их еще до осмотра квартиры в прихожей о политических их взглядах и объявляла, что вот молу нее есть такой-то и такой-то племянник. Надул меня и ее, конечно, еврей, который заявил, что он только прошел в Думу под флагом кадетской партии, за неимением в их городишке другой партии, а фактически по своим убеждениям он почти правый. Потом я мог убедиться из думских отчетов, что он ревностный член своей партии, но, как квартирант, он был человек приятный, и я, конечно, не мог настаивать на его выселении.
Здесь я должен с полной откровенностью отметить то, что с первого взгляда может показаться странно-противоречащим всему мною только что рассказанному: я с первых же дней новой политической жизни в России, желая ориентироваться партийно, почти всецело примкнул, оставаясь принципиально сторонником самодержавия, к программе именно партии народной свободы; от октябристов меня отвращало главным образом то отрицательное их отношение к вопросу об автономии Польши и «психологическое» непонимание земельного вопроса. Программу кадетской партии я считал и считаю наиболее для описываемого мною времени государственной, но вредные, неумная тактика ее и чисто персональные особенности возбуждали во мне вражду к данному составу лидеров этой партии. При мечтах моих о «самодержавном» проведении реформы, я рисовал себе большинство их именно такими, как они намечались в «кадетской» программе: свобода Польши, принудительное отчуждение части помещичьих земель, вообще подчинение частных интересов, а часто просто привычек и симпатий государственным, хотя бы и по чисто психологическим основаниям, равноправие евреев — все это составляло мое политическое «credo», частью по доводам ума, частью по доводам сердца, считавшегося с психологией общественных явлений и течений. Я не сомневался и не сомневаюсь, что подобно тому, как самодержавие провело такую величайшую реформу, как освобождение крестьян, так проводились бы сверху, а не снизу, естественно дополняя эту реформу меры; медленно, но прочно, без ненужных жертв. Моя ошибка заключалась в том, что и само самодержавие психологически было тогда уже трудно отстаивать.
Сказанное мною о моем «credo» я считаю очень характерным в отношении выявления отношения правящих сфер к Государственным Думам первых двух созывов; как много и умно надо было бы сделать, чтобы завоевать доверие со стороны тех сил, которые не имели никаких объективных оснований им доверять, раз возможны были такие единомышленники их, как я, которые их искренно ненавидели.
В нашем ведомстве, как и в других, начались частые смены их главных начальников — министров. Иваницкий еще до ухода князя Хилкова был назначен товарищем министра, но, кажется, уже не считал себя прочным и предвидел назначением в Сенат. Начальником Управления, вместо Иваницкого, был назначен инженер, пользовавшийся большим авторитетом в гидротехническом мире, Н. И. Максимович, замененный через несколько лет вновь не инженером князем Шаховским. Курьезно, что Максимович специалист-техник, а не чиновник, бывший начальник округа, а не министерский служащий, с первых же своих шагов стал уделять много внимания канцелярскому формализму, чего не было совершенно в его столичном предшественнике. Меня он удивил сразу же тем, что лично пришел в мою комнату редактировать пустейшее пригласительное письмо к одному промышленнику. Мне потом часто приходилось наблюдать, что максимум внешнего канцеляризма разводили не те, кого принято было упрекать в этом, а именно провинциалы, в особенности из состава земских и, так называемых, общественных деятелей, вплоть до членов Временного Правительства, наследники коего — большевики перешли в этом отношении всякие пределы и возможности, сведя всю почти текущую правительственную работу к бумагам и воззваниям.
В Управлении становилось скучно работать; меня ожидало назначение на должность делопроизводителя, т. е. начальника отделения в Эксплуатационном Отделе; когда открылась соответственная вакансия, я отказался от назначения. По этому поводу Туган-Барановский сказ ал мне: «но таким образом для вас закроется дальнейшее движение по службе у нас». Сказано это было другим тоном и по другим основаниям, чем предупреждение Савича в Земском Отделе, но я понял, что, действительно, надо подумать о другом деле; тянуло меня, конечно, к сельским ведомствам. Переговорив с Г. В. Глинкой, я получил принципиальное согласие его на принятие меня в Переселенческое Управление и ожидал вакансии, надеясь, естественно, на заблаговременное предупреждение меня, дабы я в свою очередь мог, как того требовала служебная вежливость, предупредить свое начальство. Вдруг, в один прекрасный день меня приглашают к товарищу министра, у которого сидит Начальник нашего Управления Максимович, и я при нем выслушиваю ряд упреков в неблагодарности и узнаю, что мое назначение в Переселенческое Управление состоялось. Б. Е. Иваницкий, упрекая меня в неожиданном переходе в ведомство землеустройства, что он в результате нашего разговора признал вполне естественным для меня, не предполагал тогда, что через несколько месяцев мы с ним встретимся вновь и в этом ведомстве.
Глава 5 В ведомстве землеустройства (1906–1914 гг.)
Наша переселенческая политика до девятисотых годов и позже. Злобно-несправедливое отношение к переселенческому делу со стороны 1-й и 2-й ГД и прессы. Развитие этого дела под руководством Г. В. Глинки. Отсутствие государственного колонизационного плана; ложный взгляд на Сибирь. Характеристика Г. В. Глинки, как начальника и человека; его религиозность и народничество; знакомство его с Распутиным. Ближайшие сотрудники Глинки. Дела Дальнего Востока. Мои поездки в Приамурье. Характеристика местного состава; отзыв о нем кн. Г. Е. Львова. Неврастения на почве работы и служебных столкновений. Генерал-губернатор П. Ф. Унтербергер. Командировка по высочайшему повелению на Дальний Восток Б. Е. Иваницкого; Хабаровское совещание. Учреждение постоянного совещания по делам Дальнего Востока под председательством П. А. Столыпина. Высочайшее командирование в Приамурье особой экспедиции под председательством Н. Л. Гондатти; состав и труды экспедиции; их научное и практическое значение. Мой доклад П. А. Столыпину; его отношение к дальневосточному вопросу. Трения и неприятности в Петербурге. Отношение к экспедиции прессы: замалчивание и ложь. Смерть Столыпина и конец Дальневосточного Совещания. Мои служебные неудачи и смута в моей душе. Назначение в Отдел Земельных Улучшений. Конец службы мирного времени; некоторые выводы.
Около восьми лет лучшей поры моей служебной деятельности было отдано мною переселенческому делу, наиболее интересному и живому в ряду правительственных работ того времени.
Дело это было сосредоточено с 1906 года в ведении образованного из Министерства Земледелия Главного Управления Землеустройства и Земледелия, в состав которого было включено Переселенческое Управление, ранее представлявшее из себя орган министерства внутренних дел.
Когда мысленным взором бегло оглядываешься на те этапы, которые прошло это дело, как в области критической, в отношении к нему нашей публицистики, так и в области практической — правительственного отношения к нему, невольно мне всегда приходит в голову вульгарное сопоставление судеб его с моим фраком. Как этот единственный парадный костюм мой на протяжении двадцати лет то попадал в особую честь у модников, то забраковывался ими как старомодный, так и в переселенческой нашей политике одни и те же принципы и явления признавались то прогрессивными, либеральными, то реакционными, в зависимости от модных лозунгов нашей оппозиционной мысли, в зависимости от тактики, а не объективного отношения к делу. Впрочем, то же самое можно сказать и относительно остро волновавших в свое время общественные правительственные круги других основных вопросов нашей сельской жизни: о земских начальниках и общине. Я сам читал в старых номерах 70-х годов серьезного прогрессивного органа печати «Голоса» горячие доводы против предрассудка, побуждавшего нашу власть слепо следовать теории Монтескье о разделении властей; газета ссылалась на английских мировых судей, как на пример целесообразности и экономного соединения судебных и административных функций. Та же газета через десять лет метала уже гром и молнии против введения института земских начальников, как грубо нарушающего именно общепризнанное в науке начало о недопустимости смешения упомянутых функций. Надо ли вспоминать, как защита крестьянской общины признавалась у нас то признаком славянофильской ретроградности, то на наших глазах модным, либеральным лозунгом против так называемых «столыпинских» землеустроительных реформ.
Переселение крестьян в наши азиатские колонии долго встречало препятствие со стороны реакционных наших кругов, защищавших классовые интересы нашего крупного землевладения: боязнь помещиков остаться без дешевой рабочей силы делало их врагами свободного переселения. Право переселения было обставлено различными более или менее сложными формальностями и разрешениями. Наша прогрессивная печать справедливо негодовала на внесение в это великое государственное дело узких эгоистических стремлений одного сословия. В девяностых годах ко времени окончания предпринятой по инициативе Императора Александра III постройки величайшего в мире железнодорожного пути, соединившего в конечном итоге Европу с побережьем Тихого Океана, общегосударственные задачи начали побеждать частно-классовые, как это обычно бывало у нас при самодержавном строе, вопреки утверждениям, которые любят повторять наши утописты. Правила крестьянского переселения постепенно смягчались, и с 1904 года (если мне память не изменяет, я пишу ведь без всяких материалов — только по памяти) была установлена незыблемо полная свобода переселения в Сибирь для лиц сельского состояния; требовалось только, по соображениям осмотрительности, ознакомиться предварительно с земельным участком лично или через групповых представителей — так называемых ходоков. Кроме того разными, большей частью административно-полицейскими правилами, регулировались очереди отправки переселенцев из разных губерний Европейской России, во избежании массового скопления переселяющихся на железных дорогах и т. п. Само собою разумеется, что свобода переселения обуславливала широкое усиление работ по размежеванию земельных участков, ускорению землеустройства местного инородческого и старожилого населения, по ряду вспомогательных работ: гидротехнических, агрономических, ботанических и почвенных обследований, дорожных, наконец, даже по постройке школ, церквей и организации продажи в кредит сельскохозяйственных орудий. Для осуществления таких работ требовался громадный кадр всякого рода специалистов. Понятно также, что при объявленной свободе переселения надо было широко распространять среди населения сведения об отводимых под заселение землях. Уже при мне, лично начальником Переселенческого Управления, было составлено, написанное простым и образным языком, объявление-листовка, сжато дававшее все главнейшие сведения, необходимые для лиц задумывающих переселение; объявление, напечатанное жирным шрифтом предупреждало о всех ожидающих переселенцев трудностях; кроме такого объявления, на основании литературных данных и подробных донесений с мест, составлялись справочные популярные книжки по каждому отдельному району заселения, массами рассылавшиеся в волости для продажи по дешевой цене. В книжках, помимо сведений о земле, климате, промыслах и т. п., содержались все главнейшие правила переселения и ряд справочных сведений с адресами правительственных учреждений, почтово-телеграфных контор, расстояниях от станции до станции на железной дороге, реках и грунтовых дорогах.
В первые же месяцы моей службы в Переселенческом Управлении я составил такую книжку по Забайкальской, Амурской и Приморской области.
И вот прежде всего именно эти ценные справочники, а ничто другое были использованы оппозицией в нашем новом законодательном учреждении, чтобы обрушиться на новую переселенческую политику правительства, пошедшую именно по пути, который еще недавно противополагался реакционным классовым интересам. Какой-то кавказец, не помню его фамилии, потрясая листовкой-объявлением Глинки, гневно выкрикивал с кафедры Думы банальные фразы о том, как правительство наше, «желая оградить классовые интересы дворянства», торопится переселить малоземельных крестьян в Сибирь и тем затормозить разрешение аграрного вопроса. Листовки, наши книжки, рассматривались исключительно, как реклама, как зазывание, сбивание с толку «бедного» крестьянина; жирно напечатанное предостережение об осторожности, о необходимости подумать, прежде чем решиться на переселение, игнорировалось, конечно, оппозицией и рабски вторившей ей нашей либеральной прессой. В жертву партийности, выброшенному оппозицией лозунгу раздачи помещичьих земель приносилось большой государственной важности дело заселения наших окраин. Наши специалисты, особенно грузины, отличались вообще крайним невежеством, но партия народной свободы не могла не понимать, какой вред приносит она государственному делу, дискредитируя в общественном мнении мероприятия по заселению русскими людьми наших окраин. Это было тем более непростительно, что вдумчивые представители партии, как и сам Г. В. Глинка, отлично знали, что в основе нашей переселенческой политики лежит не стремление устранить безземелье в губерниях Европейской России, а именно забота о заселении, главным образом, Сибири и Туркестана русскими людьми, почему в справочниках прямо подчеркивалась трудность быстрого, хорошего устройства на новых местах для лиц, не располагающих никаким запасом собственных средств. Безумная, не по существу дела, которое, как всякая человеческая работа, имела, конечно, свои недостатки, о чем скажу ниже, а чисто демагогическая формальная критика переселенческой политики, отбивала у нашей интеллигенции, без того чрезвычайно невежественной в отношении отечествознания, в особенности знания наших колоний, какое бы то ни было желание знакомиться с «казенными» трудами Переселенческого Управления. Между тем, его ученые партии изучили всю Сибирь в естественно-историческом отношении; или был издан атлас Азиатской России, который по художественности исполнения, руководимого известным профессором по истории искусств Праховым, и по его научному значению, составил бы предмет гордости любого европейского ученого общества. Хотя бы в этой, так сказать чисто ученой изыскательной области, несчастная наша оппозиция — этот идейный вождь нашей интеллигенции, сочла необходимым рекомендовать ей труды «казенного» ведомства. Нет, это было ниже ее достоинства, ее сокровенных намерений: похвалить за что-нибудь царского министра — это значило бы отдалить от себя момент завоевания его портфеля. До большого нравственного ничтожества доводи людей политиканство!
Тот размах, который вполне естественно, а не в рекламном, конечно, порядке принимало переселенческое дело, требовал, чтобы оно возглавлялось смелым, порывистым русским человеком, и А. В. Кривошеин, этот с необыкновенным чутьем выбирать способных и талантливых людей чиновник, не мог ничего сделать более удачного, чем рекомендовать своим заместителем на должности начальника Переселенческого Управления Г. В. Глинку. Его энергия и его умению преодолевать препятствия мы были обязаны тем, что бюджет по колонизации Азиатской России, несмотря на невероятную скупость наших министров финансов, возрос за десятилетие, кажется, в пятнадцать раз, дойдя с 2 миллионов до 30 миллионов в год.
Здесь я подхожу к наиболее слабому или вернее просто слабому месту нашей переселенческой политики; оно обнаружилось уже после того, как первые две Государственные Думы, показавшие полную свою деловую импотенцию, были разогнаны; так говорю, ибо считаю, что проявление одного «гнева», включительно до юмористически-гневной поездки части разогнанных депутатов в Выборг, не может, конечно, почитаться деловой работой. Слабая сторона переселенческого дела составляла уже предмет критики, порою довольно резкой со стороны 3-ей Государственной Думы, критики, которая, надо сказать, встречала сочувствие со стороны большинства самих переселенческих чиновников, являвшихся в лице их старших представителей лишь козлами отпущения за общие грехи Правительства, что было неизбежно при единстве кабинета министров.
Энергия переселенческого ведомства в развитии им специально дела переселения крестьян не находилась в соответствии в работой и взглядами других ведомств, особенно финансового и путей сообщения, без участия которых не могла идти правильным путем колонизация азиатских наших владений.
Несчастная наша централизация и плохое вообще понимание окраинных условий порождали ничем не оправдываемый взгляд на Сибирь, степные области, Туркестан, как на обычные Российские губернии. Понятие «колония» и нашему правительству, и нашему обществу было чуждо, если не считать наивных украинофильских увлечений в Сибири, о которых я уже упоминал выше. Хотя наши азиатские владения и по отдаленности их, и по своеобразию местных условий, и, в особенности, по пространству их ничем не отличались от колоний крупнейших западно-европейских держав, у нас они управлялись не вице-королями, а в лучшем случае генерал-губернаторами с совершенно призрачной самостоятельностью от центра; их особые права в сущности сводились к мелочам чисто полицейского характера, которыми они только и отличались от обыкновенной губернаторской власти. Что касается губернаторов, то это были, фактически чиновники Министерства внутренних дел. При этом, как раз в окраинные наши губернии, где не было должного общественного контроля, в виде выборных земских и дворянских учреждений, назначались наименее опытные администраторы, преимущественно военные; перевод в Европейскую Россию считался повышением, в то время, как в деловом отношении, в смысле разнообразия и ответственного значения действительно крупных культурно-колонизационных задач, губернаторство в Забайкалье или Приамурье, например, требовало гораздо большей инициативы, знаний и опыта, чем где-нибудь в Москве, Киеве и т. п. Во время одной из моих поездок по Сибири я дал, в письме на имя Г. В. Глинки, подробную характеристику нашей дальневосточной губернской администрации; о некоторых из губернаторов я выразился так резко, что, когда Глинка прочел мое письмо нашему министру Кривошеину, последний отказался передать его Столыпину, посоветовав Глинке самому это сделать при удобном случае. Столыпин на моем письме сделал надпись: «к сожалению, он прав», но система выбора военных губернаторов осталась прежняя.
То же отношение к нашим колониям отражалось и на деятельности центральных ведомств. Интересы Европы преобладали над Азиатскими. В то время, как железнодорожные вопросы легко проходили, поскольку они касались наших западных границ, особенно по стратегическим соображениям, громадная наша колония Сибирь оставалась при одной колее. Если экономическое влияние магистрали распространяется на 100–150 верст от нее, то легко понять, что усиленный прилив хлебопашцев в Сибирь требовал одновременно подъездных путей и параллельной даже магистрали для южной Сибири. Между тем, только в 1913 году появилась одна ветка Тобольск-Омск и с громадными трениями было дано разрешение на проведение южной магистрали от Туркестана на Алтай. Переселенческое Управление выполняло свои колонизационные задачи, другие ведомства отставали от них и настало время, когда избыток хлеба оставался на местах у крестьян; его экспорт по отдаленности железнодорожной магистрали, был не выгоден.
Я не буду говорить подробно о нелепостях нашей тарифной политики в отношении окраин, о недостатках средств, отпускавшихся на водные и грунтовые сообщения, почему в сущности единственным строителем дорог в Сибири являлось Переселенческое Управление специально для крестьян-переселенцев, а не в интересах, конечно, сколько-нибудь крупной промышленности и т. п. Несколько слов по этому поводу мне придется сказать при описании мною работ в Амурской Экспедиции. Теперь же мне важно только отметить, что в России не было, одним словом, специального ведомства колоний, существовавшего во всех крупных государствах Европы, а потому и не было с надлежащей государственностью и полной продуманного колонизационного плана, а было только переселение крестьян, имевшее, несомненно, первостепенное культурно-экономическое значение для наших азиатских владений, но являющееся лишь одной стороной всякой колонизации, требующей одновременно и торгово-промышленных мероприятий. Переселенческому Управлению приходилось по собственной инициативе и собственными силами корректировать одностороннее направление работы, вводя в круг ее отвод земельных участков под поселения городского типа и под бессословное промысловое использование.
Под крестьянские чисто земледельческие участки отводилось до 15 десятин удобной земли на каждую душу м.п., а в Приамурском крае, до издания новых правил, даже по сто десятин на каждую семью. 15-ти десятинная норма понижалась, конечно, там, где качество земли было особенно высоко, например, в Алтайском округе, в котором покойный император Николай II уступил под переселение крестьян громадные земельные пространства из личной собственности Царя за ничтожную сумму (10 и 20 коп. с десятины, дабы не создавать прецедента безвозмездного отчуждения частновладельческой земли), земли были таковы, что 8–10 десятин на душу признавалось вполне достаточными для обеспечения хозяйственного благополучия переселенцев. Один сельский сход, узнав, что ходоки его деревни отказались от зачисления земли в Алтайском Округе в виду уменьшения в нем душевого надела с 15 до 8 десятин так был огорчен нераспорядительностью ходоков, что постановил выпороть их, когда они вернулись в свою деревню из Сибири. Под промысловые участки отводилось от нескольких сот квадратных сажен до нескольких десятков десятин, в зависимости от рода хозяйства.
Меры по отводу таких участков развивались сравнительно медленно. Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что большую роль в этом отношении играли народнические тенденции. Начальник Переселенческого Управления, который, может быть, и без умысла каждую пядь земли берег для крестьянства и прямо ликовал, когда Царь щедро уступил свои земли под переселение. Глинка, по моему мнению, не мог быть, по свойствам его увлекающегося характера объективен там, где дело касалось «мужичков», этой «соли земли русской» в его представлении. Без сомнения, в известной степени он был прав, но высшие задачи государства требовали, по моему мнению, иных взглядов.
Когда я пытаюсь объяснить себе почему наше правительство там упорно придерживалось каких-то кустарных приемов в отношении богатейших колоний России, я думаю, что и правительство, и наше общество находились всегда под гипнозом целостности территории Российской Империи; было странно признавать колонией те части ее, которые соединены со столицами сплошным железнодорожным путем, а не отделены от метрополии морями, подобно английским, германским и французским колониям.
Итак, поскольку дело касалось собственно свободного развития крестьянского переселения, трудно было найти более подходящего, скажу прямо талантливого, проникнутого горячей любовью к русскому землепашцу и верой в его творческие силы, исполнителя, чем Г. В. Глинка; его руководство переселенческим ведомством составило самую блестящую страницу в этом деле. Но поскольку Г.В. приходилось сталкиваться с теми затруднениями, которые проистекали от общего дефекта нашей колонизационной политики, он мне кажется, разбирался в них слабо, слишком примитивно, приписывая некоторые неудачи только скаредности нашего финансового ведомства. Препятствия и неудачи, при горячности характера Глинки, приводили его в раздраженное состояние; с годами он делался таким же вспыльчивым крикуном, каким был покойный Савич, каким сделался и Б. Е. Иваницкий. Одним словом, и третий мой начальник, по отсутствию выдержки в русских людях, школы, так сказать, самообладания, был тяжел в служебных отношениях, то, что называется капризен. Все это, в конце концов, не могло не отразиться на моем собственном, от природы чрезвычайно хладнокровном характере. Разговоры в повышенном тоне с начальством сделались для меня обычным явлением. К чести Глинки должен сказать, что им всегда допускался обоюдный громкий разговор — это был горячий, порою грубый, но всегда товарищеский спор, а не разнос начальником подчиненного. Поэтому почти все сослуживцы по Переселенческому Управлению, действительно, горячо были привязаны к своему начальнику; им гордились и его любили, а слабости прощались.
Для характеристики моих отношений с Глинкой приведу несколько случаев, дающих представление о бытовой стороне моей новой службы и душевных свойствах Глинки.
Как-то, в состоянии раздражения, я на переданную мне просьбу одного генерал-губернатора ответил говорившему со мной по телефону чиновнику особых поручений при этом генерал-губернаторе, что я не могу быть исполнителем всяких глупостей, что вчера о том же меня просил мой прямой начальник Глинка и то я не исполнил его просьбы. Дело шло о даче какой-то служебной справки в таком направлении, которого я совершенно не разделял. Чиновник особых поручений немедленно передал содержание нашего разговора и генерал-губернаторы, и Глинке. Я был приглашен в кабинет последнего и он мне прямо и просто поставил вопрос: «Б. передал мне, что вы назвали ему меня дураком; это правда?» «Да», отвечал я и повторил содержание нашего разговора. «Как же это так?» Я объяснил, что разговор наш происходил частным образом, что в припадке раздражения и сам Глинка величает иногда министра дураком. «Да, это верно», уже смеясь, заметил Глинка, «но все таки какая же сволочь Б.»; последний очень был потом сконфужен, тем более, что он, без сомнения, не имел намерения мне вредить, а действовал тоже сгоряча.
Когда мне не доплатили за одну командировку сто рублей, я, обидевшись по «принципиальным соображениям», усматривая в этом произвол, опротестовал Глинке его распоряжение; в конце концов между нами завязалась пикировка, закончившаяся телеграммой мне Г. (я был тогда в Чите): «ваше обращение нахожу служебно недопустимым, товарищеском отношении не корректным». Я решил подавать в отставку. Когда я прибыл в Петербург, меня на вокзале встретил радостный и ласковый Глинка; несмотря на мое желание ехать домой, чтобы привести себя в порядок, он почти насильно повез меня прямо в Управление; здесь почему-то представлял мне всех давно знакомых сослуживцев, а когда я вошел в свое Отделение, то Глинка сделал какой-то жест рукой в соседнюю счетную часть и оттуда появился начальник ее и торжественно на каком-то блюде поднес мне пакет; я вскрыл его и там оказались сто рублей. Я был хорошо унижен перед всеми сослуживцами, но Глинка так добродушно и радостно смеялся, что мне ничего не оставалось, как расцеловаться с ним.
Бывало на службе произойдет злобная перепалка, выслушаешь и наговоришь много колкостей, а вечером дома слушаешь пение Глинки и все забывается; у него был небольшой баритональный голос, но манера его петь, тембр голоса и музыкальная дикция были таковы, что большего удовольствия от камерного пения я никогда не получал; особенно я любил его собственный романс «Огонек» на слова Апухтина «Заперты ставни, забиты ворота; где же ты светишь и греешь кого ты, мой огонек дорогой?!» Когда он пел эту фразу, мой один сослуживец и друг Глинки, после обычной стычки говорил мне: «вот ненавижу прямо его порою, злюсь, а запоет, подлец этакий, и плакать хочется». Глинка само себе аккомпанировал, играл все по слуху и, кажется, нот не знал; я никогда не слышал такого вдохновенного и сильного исполнения нашего национального гимна. Приверженный всей душой церкви, Глинка больше всего писал в области духовной музыки.
Кстати, заговорив о церкви, я не могу не вспомнить какое вообще значение придавал Глинка религии в жизни нашего крестьянства. Ему пришлось вести горячую борьбу за отпуск кредитов на постройку костелов в польских переселенческих деревнях. Он, до мозга костей православный человек, любивший и знавший православные обряды во всех их мелочах, чрезвычайно скептически относившийся ко всему не русскому и не православному, понимал своим сердцем верующего, как тяжело и опасно положение таких инославных, которые надолго будут лишены своих храмов. Наше духовенство, так же, как и католическое, уйдя в свои богословские споры забывало нередко о живой душе человека, о том, что Христос — главное, а остальное — второстепенное, и готово было бы иногда предпочесть полное отсутствие церкви постройке лишнего костела, как теперь поляки в изуверстве своем решат русские церкви, которые могли бы быть в Польше лучшим свидетелем культурной веротерпимости ее. Глинка был более чуток и так горячился в своих хлопотах за польские переселенческие церкви, что, когда дело увенчалось успехом, к нему на дом приехал католический митрополит благодарить его. Глинка много смеялся по поводу вопроса митрополита не католик ли он; так странен был для такого православного человека, как Глинка, этот вопрос. Но, очевидно, иначе психология Глинки для католического иерарха становилась совершенно недоступной: он, вероятно, не разрешал бы православным переселенцам постройки своих церквей.
В период «распутинских влияний» в столице, фамилию Глинки некоторые начали примешивать к личности этого негодяя. Действительно, как только на столичном горизонте появился «старец», Глинка поспешил его разыскать и познакомиться с ним; Распутин, как и ко всем знакомым, обращался к Глинке на «ты». НЕ пойти к «старцу» Глинка, по натуре своей религиозного народника, не мог; «старец — богоискатель из народа» — это ведь был идеал для Глинки.
Какое же деловое или протекционное влияние на Глинку имел Распутин, об этом я могу рассказать со слов очевидцев — моих сослуживцев.
Однажды в приемную Управления явился какой-то господин и, передавая с известной торжественностью письмо дежурному чиновнику, заявил: «это от старца Григория начальнику Управления, доложите ему обо мне». Дежурил молодой «причисленный», который отличался не принятой у нас и очень не любимой Глинкой утрированной почтительностью при собеседовании с начальниками, титулованными особами и вообще важными лицами. Беря письмо, он всей своей фигурой изобразил полное почтение перед просителем и немедленно отправился с письмом Распутина к Глинке. «Простите», отрывисто сказал Глинка. Что происходило в кабинете Глинки неизвестно, но только проситель через минуту-две не вышел, а как-то вылетел, как будто бы под воздействием посторонней силы, из кабинета Глинки весь в поту, красный. Увидев любезного дежурного чиновника, он подошел к нему излить свою оскорбленную душу: «подумайте, письмо от такой особы и, вдруг, подобное обращение; кто бы мог ожидать!» Молодой чиновник, всегда и во всем считая правым начальство, на этот раз уже был чрезвычайно сух и холоден: «к тому, что угодно было сказать вам его превосходительству господину начальнику переселенческого управления я ничего от себя не могу добавить» — такой фразой, произнесенной с надлежащей важностью, напутствовал он совершенно растерявшегося просителя.
Глинка был человек глубокой религиозности, богоискатель, он тоже мог не разобраться сразу в грязной личности Распутина, но в отличие от тех монахов, которые позволили себе так неосмотрительно провести Распутина ко Двору, он был человек живой души, живого дела; его вера не была мертва. Поэтому для него «старец» мог быть предметом духовного интереса, но не способом придворной карьеры, тем менее средством личной эгоистической борьбы за религиозное влияние при Дворе.
Глинка, впрочем, органически не выносил протекционных давлений на него, особенно в сколько-нибудь грубой форме. Его подозрительность в этом отношении была так велика, что он несправедливо настраивался против лиц с большими связями. Так, он был как-то особенно умышленно груб с одним из моих молодых помощников — племянником весьма влиятельного в придворных сферах министра, только потому, что подозревал его в намерении использовать свою родственную связь; этот помощник возненавидел, кажется, Глинку и должен был оставить службу в нашем Управлении; впрочем, для меня в деловом отношении это не было большой потерей. Я не помню ни одного мало-мальски заметного назначения по переселенческому ведомству, во время управления им Глинкой, состоявшегося в порядке протекционном. Очень быструю карьеру проделал мой другой молодой помощник — лицеист Т., имевший какие-то родственные связи с высокими мира сего. Он в возрасте до 30 лет занимал уже ответственные должности на Дальнем Востоке и в Туркестане по нашему ведомству, а затем вернулся в столицу на сравнительно с его годами очень большое место помощника Переселенческого Управления. Злые языки обвиняли и его, и Глинку в использовании связей. Я находил неосторожным такое быстрое продвижение по службе молодого Т., не потому что сам был обойден при этом, но просто считая необходимым для известных должностей наличность надлежащего не только служебного, но и житейского опыта. Однако, должен сказать, что, если бы не способности и умение работать, которые с первых же дней обнаружил Т., никакие его связи не могли бы побудить Глинку содействовать его быстрым служебным повышениям. Очевидно, в этом случае, как и в некоторых других, сказалась увлекающаяся натура Глинки, далеко не всегда имевшего силы оставаться на почве холодной справедливости. Как протекции, так Глинка не выносил и никаких громких, трескучих фраз, которыми любили рекомендоваться некоторые чиновники, добиваясь какого-нибудь назначения.
Я еле удерживался от смеха, будучи свидетелем в кабинете Глинки разговора с ним одного просителя, домогавшегося какого-нибудь назначения в Сибирь; Глинка старался выяснить деловой ценз просителя, а тот с типичными «интеллигентскими» манерами и шаблонными фразами говорил общие места о «святости долга» и т. п.; наконец, когда Глинка, постепенно раздражаясь, услышал от просителя, что он бы хотел быть «так сказать оком его превосходительства в Сибири», он окончательно вспылил, закричал, что ему шпионов не надо, что его чиновники на своих местах делают свое дело честно и т. п. проситель ушел от Глинки крайне недовольный, обиженный.
Особенно раздражали Глинку, так называемые, светские любезные дамы; среди них в столице была всегда какая-то постоянная группа любительниц посещать министров и других высокопоставленных лиц, у которых они своей праздной болтовней и мелкими, ненужными просьбами отнимали много времени в приемные часы, заставляя дольше ожидать приема серьезных просителей и чиновников. Глинка крестьян принимал, обычно, в первую очередь, во всяком случае раньше подобных «кумушек». Так как, увидя в приемной мужика, Глинка пускался с ним в бесконечные разговоры, с радостной пытливостью расспрашивая у него о всех мелочах деревенской жизни, дамы уже заранее злились на подобное «хамство». В кабинете у Глинки они старался быть внешне любезными, но долго не засиживались. «… merci, до свидания», лепечет бывало какая-нибудь из таких просительниц, а Глинка хмуро ее обрывает, провожая к дверям кабинета: «ну, merci — не знаю за что, а до свидания наверное».
Вспомнив о собеседованиях Глинки с крестьянами, не могу не упомянуть, какое впечатление произвел на группу ходоков переселенцев молебен в Управлении, на который они случайно попали, придя к Глинке по делу. Когда диакон провозгласил сочиненное самим Глинкой многолетнее «переселившимся и переселиться хотящим» т. е. ходокам, видно было, как растроганы были крестьяне, что о благополучии их молятся в Петербурге.
Подобно своему знаменитому предку, Глинка был удивительно беспорядочен в частной его жизни, что особенно отражалось на внешнем его виду: всклокоченные волосы, хохлацкие усы вниз и обычно какой-то не столичного вида костюм. Я раз уговорил его сшить сюртук у дорогого портного, чтобы, по крайней мере, в заседание Думы являться в приличном виде; у старого его сюртука подкладка так износилась, что торчала из под него в виде какой-то бахромы. За сюртук было заплачено 120 рублей; такая цена очень огорчила и злила Глинку, тем более, что и новый сюртук вскоре потерял свой фасон, и Глинка раздраженно говорил: «вот вам и дорогой портной, ерунда все это!» Как-то раз я пришел к Глинке после обеда; он прилег отдохнуть в своем кабинете на кушетке; вижу под головой его какой-то темный комок вместо подушки; это был новый модный сюртук. Тогда я понял причину столь быстрой потери им своего фасона.
Эта небрежность в частной жизни переходила и на служебные занятия Глинки, выражалась в рассеянности, опаздывании на доклад министру, разбрасывании бумаг по столам, карманам и т. п. За ним в этом отношении надо было внимательно и любовно следить. Любовно потому, что при желании повредить ему ближайшие его сотрудники всегда могли бы использовать его недисциплинированность. Надо было напомнить, что сейчас ему следует ехать туда-то, подписать такую-то бумагу; отыскать его по телефону, если он где-нибудь застрял, забыв о назначенном докладе министру; привести в порядок бумаги на столе, а иногда и обшарить карманы Глинки; разложить в известной системе переписку, предназначенную для доклада Министру и т. д.
Наиболее близкие к Глинке чиновники были идеальным в данном отношении его дополнением. Старший помощник его П. Н. Яхонтов, человек доброго сердца и высоких нравственных качеств, на службе был очень сух, формален, аккуратен. Он, горячо любя Глинку, оберегал его как нянька. Случалось нередко, что Глинка за кипой дел, вдруг прекратит чтение или подписывание бумаг, вспомнит про вчерашний вечер и начнет весело рассказывать, как вчера в Мариинском или другом театре «здорово» пел или пела такие-то и т. п. Яхонтов мягко остановит Глинку: «потом, потом расскажете нам, а пока вот надо то-то» и подсунет под руку Глинке какую-нибудь спешную бумагу. Секретари его М. Е. Сурин и В. Б. Ферингер были привязаны к Глинке, как в Земском Отделе к Савичу его секретари. Сурин заведовал многочисленным личным медицинским составом переселенческих больниц и проходных пунктов, а также особенно близким сердцу Глинки делом оборудования походных церквей; всякая заминка в этом деле приводила Глинку в ярость, на службе происходили жаркие перепалки его с Савичем, а после службы они искали свидания друг с другом, так как были сильно взаимно привязаны вообще, а в особенности пристрастием к пению, в частности родных хохлацких песен. Кстати сказать, оба они всегда зимой носили серые «смушковые» шапки; Плеве, встречая Глинку в такой шапке, которая очень шла к его красивым чертам лица, расспрашивал даже о нем, не мечтает ли, мол, Глинка о гетманстве. Добросовестнее Ферингера я, кажется, за всю мою жизнь не встречал чиновника; в его ведении находилась переписка о всем громадном личном составе местных учреждений переселенческого ведомства; он вел формуляры всех агентов, начиная с землемеров и кончая заведывающими областными районами, докладывал о желательных перемещениях, назначениях, следил, чтобы не пустовали различные вакансии, испрашивал пособия служащим и т. д., и т. д.; одним словом нес на себе тяжесть различных мелких, большей частью очень скучных и в карьерном отношении невыигрышных дел, без правильного хода которых, однако, не может правильно работать ни одна деловая машина. Помимо служебной переписки Ф. вел еще громадную частную переписку со служащими по различным мелочам их службы; у него всегда под рукой был большой запас открыток и на каждый вопрос из далекой Сибири Ф. немедленно отвечал своему корреспонденту; поэтому его знали и любили почти все провинциальные работники, как мелкие, так и крупные. От массы работы и на дому, и в Управлении Ф. часто бывал раздражителей, вспыльчив, отвечал порою резко и грубовато, но рассердиться на него нельзя было: уж слишком много активной доброты к человеку светилось в его славных немецких глазах. В лице Ф. Глинка имел вторую, после Яхонтова няньку-друга, сотрудника, так сказать, по мелочам службы. Пока Глинка был окружен ближайшим образом этими тремя, абсолютно чистыми душой помощниками, с которыми и у меня установились самые добрые отношения с первых дней моей работы в Переселенческом Управлении, я пользовался полным служебным доверием Глинки; впоследствии же, к сожалению, это отношение его ко мне изменилось отчасти, может быть, по моей собственной вине — невыдержанности моего характера, отчасти же потому, что другие советники Глинки были уже люди не «моего романа». Они были честные, вполне добросовестные, умные работники, но, как мне казалось, некоторые из них злоупотребляли в личных интересах некоторыми слабостями Глинки, особенно его впечатлительностью и способностью легко менять мнения о людях. Один из новых советчиков Глинки оказался, к глубокому нашему огорчению, неустойчив и в моральном отношении; наша среда благотворно на него действовала, ибо честность и бессеребрие проникали всю эту среду сверху до низу, но по выходе из нее, когда Россия ступила на путь потрясений, он не устоял и все свое внимание, всю свою работоспособность отдал стяжательству.
Я не останавливаюсь подробно, как в моих воспоминаниях о службе в Земском Отделе, на характеристике отдельных моих сослуживцев по переселенческому ведомству, чтобы не повторяться. Отличительной чертой большинства их была горячая любовь к родине и порученному им делу и абсолютная деловая честность. Из наиболее талантливых моих современников по службе в Переселенческом Управлении должен отметить И. И. Тхоржевского и Г. Ф. Чиркина: первый — изящный поэт, который в области официального языка сыграл такую же, примерно, роль, как Дорошевич в области фельетона.
Второй — Г. Ф. Чиркин дал очень много печатных работ по различным колонизационным районам.
Говоря об абсолютной честности переселенческого управления времени Глинки, я могу рассказать один характерный случай, иллюстрирующий наивный «романтизм» старорежимных чиновников, как говорят теперь некоторые современные дельцы, отзываясь о «чрезмерной» нравственной щепетильности. Типографские работы Управления исполнял обычно студент-еврей Вайсберг, имевший собственную типографию, унаследованную от отца. Помимо материальных соображений он, действительно, искренно был привязан к составу нашего Управления, привык к нему, любил даже Глинку, несмотря на нередкую грубость последнего, когда запаздывала, хотя бы на один день какая-нибудь работа. Желая отблагодарить всех нас чем-нибудь за постоянные заказы ему, Вайсберг в день нового года разложил на столе каждого чиновника роскошно изданный иллюстрированный календарь. Такой подарок вызывал смущение среди чиновников, начались разговоры, не будет ли принятие дорогого календаря компрометировать нас, как взятка, и после совместного обсуждения решено было вернуть все календари Вайсбергу. Последний, зная наши нравы, не придавал, конечно, сколько-нибудь плохого значения своему подарку и был огорчен чрезвычайно. Успокоить его удалось принятием всеми в подарок от него простенького карманного календарика, разъяснив ему, что для него и для нас важна память, внимание от него, а не стоимость календаря.
Кстати, в связи с этой, может быть, наивной, но все-таки хорошей историей, я припоминаю случай вымогательства от Вайсберга процентного вознаграждения за принятие исполненной им работы. Глинка, для оживления наших литературных трудов, решил взять на службу одного сотрудника какой-то большой московской газеты. Он составил справочную книжку для переселенцев, сдал ее печатать Вайсбергу и не принимал от него исполненной работы, пока тот не заплатил ему какой-то процент от стоимости работы. Смущенный Вайсберг пришел к нам в Управление советоваться с нами, как ему быть, не скомпрометирует ли такая необычная в нашем обиходе сделка Управление. Об этом от нас узнал Глинка, и, к счастью, представитель свободной профессии был изгнан из Управления, пробы в нем без всякой существенной пользы для дела менее двух месяцев.
В жизни провинциальных наших учреждений, в виду многочисленности и разношерстности их состава, случались, конечно, различные служебные злоупотребления, но и здесь они были сравнительно редки; масса работников, особенно землемеров и агрономов, работала идейно, часто была не благонадежна политически, справедливо и несправедливо будировала против центра, страдала утопической мечтательностью, как большинство средней провинциальной интеллигенции, но на службу не смотрела, как на средство наживы. О местных наших работниках я буду говорить ниже, здесь же только замечу, что всякое злоупотребление в нашем ведомстве чрезвычайно нервировало и удручало искренно весь состав нашего Управления, как одну семью. За время моей службы в центральном управлении был только один случай растраты, по легкомыслию, казенных денег, недолго служившим у нас кассиром. Когда еще не была выяснена точно сумма растраты, мы решили сложиться и пополнить растрату чтобы не выносить сора из избы, при систематической враждебности к нам Думской оппозиции. Однако, впоследствии, растраченная сумма оказалась нам не по средствам, и дело было передано суду. В провинциальных наших учреждениях громкое, сравнительно, дело возникло о растрате довольно большой казенной суммы при постройке дорог в Иркутской губернии; в растрате оказался замешанным, совершенно неожиданно, руководитель переселенческим делом в этой губернии С. Он пользовался тем лучшей репутацией, что был очень дружен с нашим, абсолютно честным и преданным делу, ревизором землеотводных работ У., который не за долго перед обнаружением растраты, ревизовал его и нашел все в полном порядке. Известие о растрате С., который запутался в силу несчастных личных обстоятельств, произвело такое впечатление на нашего ревизора, что он долго нервно болел, а от дрожания головы так и не излечился.
Кстати, говоря о служебных злоупотреблениях, я должен упомянуть, что и в первом учреждении по крестьянским делам, в котором я служил — Земском Отделе, не было за мое время ни одного случая взятки или растраты. Мой приятель Б. был уволен только за то, что в срок не отдал долг знакомому земскому начальнику; последний в чем-то попался, был привлечен к ответственности и в оправдательных своих объяснениях, между прочим, упомянул, что «вот, мол, Б., служа в делопроизводстве по ответственности земских начальников, должен ему 200 рублей; однако, этот факт сам по себе нельзя ведь рассматривать, как принятие взятки». На переписке по этому делу П. А. Столыпин, по поводу ссылки на Б., положил резолюцию: «Б. сам должен догадаться, что он теперь обязан сделать», и Б. подал в отставку.
Переселенческое Управление делилось на несколько отделений-делопроизводств, дела между которыми распределялись не по обычно принятой во всех департаментах системе в зависимости от рода их, но территориально, т. е. были следующие отделения: 1. Европейской России — дела по выселению; 2. по Д. Востоку и Кавказу; 3. по степным областям и Туркестану и 4. по губерниям Сибири. Кроме того были, конечно, специальные отделения: счетное, ревизорское, по складам и т. п. Во главе делопроизводств стояли чиновники особых поручений VI, а по выслуге более продолжительного срока и V класса, дававшего право на производство в «генеральский» гражданский чин.
Мне было поручено заведывание дальневосточными и кавказскими делами; последние давали сравнительно мало инициативной работы, так как с учреждением Кавказского Наместничества дело было в значительной степени децентрализовано; за Петербургом оставалось, главным образом, рассмотрение и обоснование перед законодательными учреждениями сметных предположений. Дальний же Восток потребовал большего изучения материалов и представлял возможность проявления широкой инициативы.
Заведывающим переселенческим делом в Приморской области был С. П. Шликевич, человек с большой инициативой, горячего темперамента, который приводил его порою к несправедливой оппозиции центральному ведомству. Он, как многие из наших провинциальных агентов, не считаясь с объективными условиями работы центрального Управления, с теми затруднениями, которые приходилось последнему преодолевать в Государственной Думе, задерживавшей утверждение смет на пол года и более. По закону, до утверждения сметы приходилось жить месячными отпусками кредитов в размере одной двенадцатой прошлогоднего бюджета; понятно, что никакое большое хозяйство, в особенности столь живое и многостороннее как переселенческое дело, не может идти правильно, раз финансовые средства на него переводятся не сразу в необходимой сумме, а небольшими частями, тем более, что потребность в том или ином расходе не распределялась равномерно по отдельным месяцам; например, выдавать ссуды переселенцам нельзя было в течении всего года, а требовалось немедленно по приступе их к хозяйству на новом месте, также необходимо было сразу снабжать необходимым запасом средств межевых и других техников при самом отъезде их на полевые работы, нередко в весьма отдаленные от центров, глухие места. Задержка в кредитах не могла не нервировать местных руководителей делом, в особенности, когда истомленные долгим путем крестьяне начинали волноваться по поводу неполучения обещанной им денежной помощи на домообзаводство, грубили местным агентам, порою подозревая их в расхищении денег, назначенных на помощь переселенцам и т. п. Местные агенты, сами нервничая, склонны были обвинять свое центральное ведомство в недостатке энергии, в неумении ускорить отпуск кредитов, испросить их в размере достаточном для действительных потребностей дела. Кроме того, на нашем Дальнем Востоке назрел ряд вопросов государственно-колонизационного значения, разрешение которых встречало препятствие в упомянутых мною выше общих условиях, в отсутствии широкого колонизационного плана. В последнем отношении положение заведывающего Приморским районом переселения было особенно интересно и ответственно. Предшественниками Шликевича по этой должности были такие незаурядно-крупные деятели, как А. А. Риттих, будущий последний министр земледелия Империи, и Н. Л. Гондатти, впоследствии Приамурский генерал-губернатор. Нов их время для переселения землепашцев, притом в относительно весьма скромных размерах, было вполне достаточно удобных земельных пространств, а кроме того желтая опасность не вырисовывалась еще так ярко, как после Японской войны, когда пришлось работать Шликевичу. Глубокий патриот, он чрезвычайно горячился, что различные его широкие предположения тормозятся в Петербурге. В это самое время я вступил в заведывание дальневосточным отделением в центральном Управлении; познакомился с имеющейся литературой о Дальнем Востоке, с трудами так называемых Хабаровских съездов, которые созывались местными генерал-губернаторами и имели значение настоящих местных земских соборов; опять-таки широкой публике эти труды, несмотря на все их прогрессивно-общественное и государственное значение, почти совершенно не были известны. Я изучил переселенческое законодательство времен мало оцененного русским обществом по незнанию и непониманию им наших колонизационных задач, великого государственного деятеля гр. Муравьева-Амурского. Все эти материалы дополнялись живыми нетерпеливыми донесениями Шликевича. Передо мною открывался схематический план, которым необходимо руководствоваться нашему Правительству для освоения наших богатых дальневосточных окраин. О плане этом я буду говорить при описании работ Амурской Экспедиции, подведшей под него прочный, основанный на научных данных, фундамент. Разрабатывая схему плана, я чувствовал себя в начале весьма беспомощно и одиноко. Слишком завалено было наше Управление мелочами крестьянского переселения, чтобы могло уделить много внимания широким колонизационным мероприятиям в отношении одной нашей самой далекой окраины, а, главное, разработка и осуществление такого плана выходили за пределы одного землеустроительно-крестьянского ведомства; требовалось создание какого-то органа, объединяющего начинания различных ведомств. План касался и устранения таких стратегическо-кабинетных препятствий, которые чинились военным ведомством колонизации Приамурья, например, запрещением проводить дороги от побережья в глубь страны, и разрешения земельного казачьего и старожило-крестьянского вопроса, который получил, в искажение государственной мысли гр. Муравьева-Амурского, узко-классовое направление предоставление в пользование небольшой кучки людей громадных земельных и лесных пространств, наиболее удобно расположенных по береговой полосе Амура и Уссури, и устройства сети дорог, необходимых для оживления нашей промышленности, главным образом золотой и лесной, приведения в порядок подъездных водных путей, и пересмотра тарифов на рыбу, так составленных, что русская кета попадала в Петербург из Лондона и т. д.
Я приступил к разработке проекта об учреждении особого дальневосточного комитета. Глинка в общем сочувственно отнесся к этому моему начинанию, хотя и не очень долюбливал те общие вопросы, которые не имели прямого отношения к интересам крестьян, но в «сферах» против проекта было чрезвычайное предубеждение под незабытым еще впечатлением от печальных результатов деятельности подобного комитета, приведшего к русско-японской войне. Мое упорство в этом деле привело к некоторым результатам: кн. Васильчиков, стоявший тогда во главе ведомства землеустройства и земледелия, полупил принципиальное согласие Государя на разработку положения о предметах ведения постоянного совещания по делам Дальнего Востока, как решено было назвать этот орган, во избежании напоминания о печальной памяти комитете. Государь повелел даже кн. Васильчикову представить ему список лиц, наиболее подходящих к должности председателя в намеченном Совещании. Составить этот список, с деловой характеристикой каждого кандидата было поручено мне, с указанием, что в список не должен быть включен никто из деятелей прежнего комитета, в особенности же адмирал Алексеев, опозорившийся в Порт-Артуре. Я теперь не помню фамилии всех внесенных мною в список лиц; уверенно могу сказать только, что в него были включены ген. Куропаткин и Б. Е. Иваницкий; наиболее подробная и яркая справка была дана мною, по вполне естественным причинам, о последнем. Я указал на те преимущества его, которые заключались в знании им и крестьянского дела, и вопросов, связанных с нашим дорожным делом. Предположения, близившиеся к осуществлению, почему-то затормозились года на два, и единственный результат моих настояний по этому делу свелся к приглашению Б. Е. Иваницкого, который в то время уже не был у активной работы, будучи назначен сенатором, на должность товарища главноуправляющего землеустройством и земледелием. Назначение это было для него совершенно неожиданным и обрадовало его как возвращение на активный пост. При встрече он мне, не без удивления, говорил, что его по телефону кн. Васильчиков просил переговорить относительно сотрудничества; между тем он знаком с князем ранее не был. Без сомнения, моя справка сыграла решающую роль в выборе кн. Васильчиковым ближайшего помощника себе. Еще лишний штрих в подтверждение высказанных мною соображений о минимальном значении протекций в нашем старом служебном строе, по сравнению с деловыми соображениями.
В разгар моих работ приехал в Петербург из Владивостока С. П. Шликевич. Когда он появился в нашем Управлении, ко мне прибежали молодые чиновники сказать об этом и, смеясь, предсказывали немедленную мою расправу с ним: очень, де, у него злой вид. Действительно, взаимное наше представление отличалось чрезвычайной сухостью; он злился на меня, видя во мне столичного «чинуша», ничего не понимающего в местных делах и бездействующего, а я злился, чувствуя себя заранее несправедливо обижаемым. Светлые свирепые глаза Шликевича впились в меня без каких-либо признаков не только приветливости, но даже вежливости; как-то под влиянием выражения этих глаз одна дама, сидевшая на пароходе против Шликевича, смущаясь его пристальным машинальным взглядом на нее, долго крутилась и, наконец, не выдержала и громким шопотом, слышным все палубе, воскликнула: «у-у, демон!» Я тоже, вероятно, был мало приветлив, ибо по складу моего лица, даже тогда, когда хочу быть любезным, часто заслуживаю упреки в отсутствии приветливости.
Через несколько часов собеседования, когда Шликевич увидел во мне единомышленника и не ленивого, а работающего, у нас установились хорошие отношения, перешедшие через несколько месяцев, при моей поездке на Дальний Восток, в близкие, приятельские.
Особенно тогда волновал Шликевича у меня казачий и старожило-крестьянский вопрос. Это первое дело, которое требовалось и можно было бы разрешить, не выжидая созыва дальневосточного совещания.
Гр. Муравьев-Амурский для защиты пограничной полосы начал селить вдоль Амура и Уссури забайкальских и других казаков, обычно штрафных, от которых рады были отделаться их общества. Никогда в своих правилах о переселении не предрешал Муравьев вопроса о том, что вся указанная полоса будет предоставлена казакам; равным образом, надо сказать, что нигде в его правилах не имелось постановлений, в силу которого надлежали бы безусловному закреплению и за крестьянами-переселенцами стодесятинные их наделы; наоборот, говорилось прямо, что надел, который в течении пяти лет не будет личным трудом [так в источнике] переселенца обрабатываться, подлежат отобранию от него. Таким образом, дело по плану Муравьева покоилось на истинно-государственных колонизационных основаниях, а не на узко-сословных и частноправовых началах. Между тем, с течением времени, муравьевские заветы были забыты: генерал-губернатор Духовской, основываясь на одном весьма юридически спорном полномочии наказного атамана, очертил на карте совершенно произвольно район войскового казачьего землепользования, с тем, чтобы во избежании чересполосица, в этот район не допускались крестьяне. Войско начало считать себя чуть ли уже не собственником всего очерченного района, не ожидая его окончательного землеустройства. По этой причине до 15 миллионов десятин земли и леса оказались под запретом для крестьянского переселения, в то время, как вся численность войскового населения не превышала ничтожной цифры в 60 000 душ обоего пола. Запрет коснулся именно наиболее удобно расположенных пространств, ибо опыт переселенческого дела показывает, что массовое заселение всегда идет по долинам рек и до их заполнения не может быть искусственно переброшено в оторванные от естественных путей сообщения районы. Обширные наделы не могли, конечно, не привлекать к себе желтых арендаторов китайцев; земля истощалась, казак отвыкал от землепашества. Повторялось, одним словом, нечто вроде башкирской земельной истории, но гораздо более опасной по своим политическим последствиям. Казачество в наших правящих сферах, несмотря на давно изменившиеся исторические условия, являлось каким-то фетишем, прикасаться к которому не разрешалось. Кубанские и прочие рады достаточно, кажется, показали в наше смутное время узкий сословный эгоизм и антигосударственность нашего казачества в его массах, но и теперь все-таки упорно повторяются слова в защиту «исконных прав», как в свое время исконным признавалось и крепостное право. Борьба в казачьем дальневосточном вопросе была трудна и крайне медленна; шаг за шагом, путем утомительных ведомственных трений и представлений Сенату удавалось отвоевать под общие переселенческие нужды тот или иной кусок земли, пока не последовало общее разрешение вопроса по образовании Дальневосточного совещания. Неприкосновенности наделов старожилов-крестьян, в нарушении Муравьевских правил, так и не удалось поколебать, хотя и они могли бы дать некоторый колонизационный фонд, и хотя этой мерой тоже была бы сокращена желтая аренда.
Я не могу останавливаться на всех перипетиях земельного вопроса, тянувшегося несколько лет, на всех тех волнениях, обидах и столкновениях, которые переживали по этому поводу Шликевич на месте — во Владивостоке, я — в центре. Кончилось дело тем, что мы оба заболели довольно сильным нервным расстройством. Шликевич — раньше, я — позже. У Шликевича было много врагов, на него писались доносы. Знаменитый фельетонист «Нового времени» Меньшиков, не проверив достоверности своего корреспондента, посвятил большую статью делам Дальнего Востока, в которой обвинял Шликевича чуть ли не в государственной измене. Сведения Меньшикова указывали, что Шликевич, как поляк, которым он, кстати сказать, никогда не был (он дворянин Курской губернии), умышленно тормозит заселение Уссурийского края, имеет сношения с Японией и т. п. Я написал Меньшикову довольно резкое письмо, в котором рассказал, как Шликевич борется за каждую пядь земли в интересах русских переселенцев; предлагал лично или через кого-нибудь другого ознакомиться со всеми делами и перепиской моего отделения, чтобы убедиться, что мои заявления — не голословны. Меньшиков ничего не ответил на мое письмо, если не считать вскользь брошенной им в следующей очередной статье фразы о том, что некоторые упрекают его в неточности иногда даваемых им сведений, не понимая, что он не министр, имеющий на местах в своем распоряжении массу чиновников. Поразительно легко относилась наша пресса к репутации и нервам чиновников: налжет, что-нибудь и даже не сочтет долгом исправить свою ошибку. Я уж не говорю о нашей оппозиционной прессе — та допускала заведомую ложь. Например, я сам читал в какой-то дальневосточной газете совершенно фантастические описания приезда в Никольск-Уссурийский, теперь убитого, конечно, большевиками, протоиерея Восторгова, так ненавидимого нашей левой прессой и так радостно всегда встречавшегося даже левыми переселенческими чиновниками за его удивительное умение говорить с крестьянами, подбадривать и успокаивать их; один эс-дек говорил мне, после одной из таких речей, с возмущением: «представьте, и я не выдержал: плакал, сам злясь на себя». Описание газеты начиналось так: «небезызвестный священник Восторгов, выйдя из поезда ранним утром, прежде всего направился в станционный буфет, где, по обыкновению своему, выпил большой стакан водки» и т. п. в том же духе. Восторгов никогда ничего спиртного не потреблял и добродушно хохотал, читая мне эту газетную заметку. Но на то и была эта оппозиционная газета, почему же Меньшиковым и ему подобным было стыдно заявить публично, что они ошибались в таком-то и таком-то случае — этого не понять. Шликевич во мнении читателей «Нового времени» так и остался «государственным изменником». Сам он счел ниже своего достоинства опровергать возведенную на него клевету. Он просто начал плакать, без всякого иногда серьезного к тому повода. Увидит какого-нибудь старика со старухой, подумает, что и он с женой когда-нибудь будет так же беспомощен, и заплачет; скажут при нем слово «казак» — плачет часа два подряд. К этому примешивался, конечно, обычный неврастенический страх.
Я почувствовал себя плохо совершенно неожиданно. Возвращался домой, и вдруг ноги отказались мне служить; я взял извозчика, хотя до квартиры моей оставался всего только один квартал; мне казалось, что я упаду на панели. Начались истерические спазмы в горле, боязнь перейти через площадь, боязнь упасть на улице и т. п., я пересиливал себя сначала, ходил на службу, но стоило мне прочесть слово «казак», как у меня холодели, как лед, руки, горло сжималось, и я должен был убегать из Управления. Пришлось лечиться; помогли мне углекислые и электрические ванны; особенно благотворно действовали на меня ножные и ручные теплые ванночки с электрическим током. Года два, однако, после этой болезни я не выносил звуков музыки. Шликевич был помещен в санаторий для нервных больных под Москвой. В осенний мрачный вечер, когда моросил скучный дождь, и парк санатория был весь окутан белесоватым туманом, мы ходили с Шликевичем по аллеям парка и печально беседовали. Я ехал в продолжительную командировку в Хабаровск; нервы мои еще были чрезвычайно плохи, прошло только чувство страха, но истерический спазм в горл остался, Шликевич же часто плакал. Мы оба считали, что наша работа, способность работать кончена, что теперь придется только как-нибудь доживать свою жизнь. Расстались мы с большой грустью, не предвидя, что впереди нас ожидала еще большая живая деятельность, как в дорогом нашим сердцам Приамурье, так потом и на театре великой войны.
Неврастенику надо постепенно научиться взять себя в руки, научиться владеть собой, заняться, так сказать, самовнушением; особенно полезно для этого прочесть о Крестных Муках Христа и понять после этого ничтожество собственных мелких переживаний; благотворно действуют также героические сказания, например, «Огнем и мечом» Сенкевича, который так и говорил впоследствии, что написал он это свое произведение «для укрепления сердец». Я совершенно исцелился от болезни только тогда, когда нашел истинный путь к укреплению своего сердца, когда мне стало стыдно своей слабости; медицина же лишь облегчала и ускоряла поиски этого пути. Тогда же, во время моей поездки в Сибирь, я переживал отвратительные припадки малодушия; каждый час продвижения моего на восток наводил на меня все более и более мрачные мысли — я думал, что больше не увижусь с родными и близкими людьми. Порою, когда становилось очень плохо, я еле удерживался, чтобы не пересесть в обратный поезд; я с завистью смотрел на каждого пассажира, который двигался на запад; завидовал моим попутчикам, которые ехали во Владивосток всего на одну неделю; перед Байкальским озером, которое, казалось, станет стеной между мною и родным городом, я уже начал собирать вещи, чтобы оставить поезд, но пересилил себя с большим напряжением воли и благодарил потом судьбу, что преодолел свое малодушие, за которое мне пришлось бы, конечно, впоследствии всегда краснеть. Я ехал ведь не для личного развлечения, а в помощь местному председателю Главного Управления Землеустройства и Земледелия В. П. Михайлову, впоследствии перешедшему на должность Начальника Алтайского Округа Кабинета Его Величества, и скончавшемуся теперь на юге России от тифа.
Я несколько забежал вперед, так как первая моя поездка на Дальний Восток состоялась раньше на год, до болезни моей, которая и явилась, вероятно, отчасти, следствием большого нервного утомления после первой моей командировки.
Для того, чтобы подготовить материал совещания по делам Дальнего Востока, мысль о котором не была оставлена, главноуправляющий нашим ведомством испросил в 1908 году Высочайшее соизволение на командирование с этой целью в Приамурский край Б. Е. Иваницкого; я был назначен в его распоряжение в качестве начальника его канцелярии, для систематизации собранных материалов, ведения журнала местных совещаний и составления отчета; в помощь мне был дан мой собственный помощник по отделению, ожидавший нас уже в Иркутске, А. А. Татищев, а хозяйственной частью нашего путешествия заведовал чиновник особых поручений камер-юнкер Ф. И. Ожаровский, удивительно добрый, внимательный, старавшийся всемерно облегчить всякую мелочь нашей кочевой жизни. К общему нашему горю, он, по каким-то личным причинам, покончил с собою вскоре по возвращении нашем в Петербург.
Поездка наша и в деловом, и в бытовом отношении была чрезвычайно интересна, в особенности для меня, впервые побывавшего на нашей дальневосточной окраине.
С первого часа у меня начались мелкие столкновения с моим начальником. Я не привык долго находиться под чей бы то ни было опекой; одно дело — служба, другое — совместная жизнь в одном вагоне (нам был дан отдельный удобный слон вагон); создается обстановка, при которой все время находишься на службе, под бдительным начальническим оком. В Сибири долго потом рассказывались различные анекдоты о наших «семейных» сценах. Так как они характерны для определения чиновничьих взаимоотношений моего времени, я вкратце остановлюсь на них.
Иваницкий, с его педагогическими привычками, был, конечно, весьма тяжел для меня вмешательством в его различные мелочи моей путевой жизни. Я же не мог его не раздражать тем, что не умел отказаться от многих, давно усвоенных личных привычек; кроме того, как я уже неоднократно отмечал, я был весьма плохо дисциплинирован и избалован моей свободной с детства жизнью, я любил слегка хулиганить. В деловом отношении приемы нашей работы тоже были различны: Иваницкого интересовало дело во всех его технических подробностях, он, как физик, мыслил индуктивным способом, я же — классик и юрист признавал только дедукцию; меня занимали общие положения, из которых уже для меня сами собой вытекали частности. На этой почве Иваницкий часто раздражался, что я забыл записать при разговоре с кем-нибудь из местных агентов какую-нибудь подробность, название какой-нибудь деревни, либо не взял в Петербурге какой-либо цифровой справки и т. п. Я же, с первых дней, а особенно ночей, когда я лучше всего всегда думал, мысленно составлял общий план работы, предрешал ее основные выводы. Как всегда бывает, истина добытая и путем индуктивным, и путем дедуктивным, должна быть одна, а потому итог работ примирил мое начальство со мною, но процесс их сопровождался часто большим взаимным раздражением, мешавшим спокойной работе и утомлявшим нервы. Русские в этом отношении не умеют, как немцы, бережно обходиться со своей и чужой мозговой энергией; треплют ее, как неискусный кучер горячих лошадей.
«Недоразумения», как я и говорил, начались с первых дней нашей совместной жизни. Иваницкий запретил мне брать с собой штатское платье; я вынужден был, ворча, заказать себе форменное одеяние, хотя шпаги так и не купил (за всю мою жизнь я не имел этого оружия). Мне досадно было затраченных на форму денег, но Иваницкий находил, что форма будет способствовать большей моей дисциплинированности. На вокзал я всегда любил приезжать за пять-десять минут до отхода поезда, чтобы не толкаться долго в толпе. Так я поступил и на этот раз. Начальство мое уже давно находилось на вокзале; ко мне, по его поручению, говорили по телефону; считалось, что я опоздал и не еду. Поэтому в вагоне сразу же было заметно недовольство мною. Разговор начался с того, во что обошлась мне форменная одежда; я назвал какую-то низкую, сравнительно, сумму. «О, да у вас, значит, много осталось денег от прогонных», заметил Иваницкий. Когда я возразил, что мне пришлось произвести некоторые другие расходы, например, оплатить квартиру вперед, заплатить долги приятелям, попрощаться с ними и т. п., Иваницкий уже озабоченно спросил: «сколько же вы взяли с собою денег?» Я назвал сумму, немногим большую чем стоила мне форменная одежда. Тогда Иваницкий, хотя и шутя, но уже сердясь, начал выпытывать у меня, не намерен ли я остаться на постоянное жительство во Владивостоке, или, быть может, предполагаю брать взятки с местных чиновников и т. д. «Как же вы, на какие средства приобретете себе обратный билет?», обратился ко мне Иваницкий, когда я ему спокойно возразил, что ни жить постоянно в Владивостоке, ни брать взятки я не собирался; «на кого или на что вы рассчитывали, выезжая из Петербурга; вы должны были отказаться от командировки, если растратили ваши прогонные деньги». Я заявил, что рассчитывал, в случае нужды, перехватить именно у него. Иваницкий надулся и возразил, что он мне ничего не даст, так как у него самого денег в обрез, и что вообще он умывает руки во всей этой моей истории. И, действительно, когда настало время отъезда, он мне ничего не дал, а сказал Ожаровскому: «купите этому билет, но только не говорите, что я дал деньги». Потом я узнал, что Иваницкий вытребовал из Петербурга свое жалование, чтобы купить мне и себе обратные билеты.
Всю дорогу Иваницкий следил, чтобы я вставал рано и являлся на утренний кофе на позже 8 часов утра; когда я опаздывал, я бывало это часто, в силу моей привычки лучше всего спать под утро, Иваницкий очень волновался; видя иногда меня в коридоре идущим в умывальную без верхней одежды, он громко шептал: «видеть не могу этот цвет увядшей надежды»; такого цвета, вялой зелени, было на мне нижнее белье. Заботился он также о том, чтобы я не простудился. Когда мы приехали, уже поздней осенью в Уссурийский край, он настоял, чтобы я купил себе калоши. Я не привык к этому виду обуви и забывал их при первом удобном случае, почему по требованию Иваницкого мне приходилось покупать их неоднократно. Близ Никольска-Уссурийского, в помещении волостного или полицейского управления Иваницкий разбирал один земельный спор, возникший по всеподданнейшей жалобе местных кулаков. Государь, введенный в заблуждение жалким тоном их прошения, вначале стал на их сторону, но, после всестороннего освещения дела на месте, оно было разрешено справедливо. Когда мы, возвращаясь, после допроса жалобщиков, подъезжали уже к станции, т. е. проехали почти весь, довольно широко раскинувшийся город, Иваницкий обратил внимание на мои сапоги без калош; «где же ваши калоши?», озабоченно спросил он; «очевидно, там, где мы были, в волостном правлении», отвечал я. На предложение вернуться за калошами, я отвечал отказом, и рассерженный Иваницкий объявил, что в таком случае он сам поедет разыскивать мои калоши. Я, в свою очередь, рассердился на такую опеку и предоставил ему ехать, но, конечно, не одному, а вместе. Калоши были разысканы, а потом Иваницкий, в течении нескольких дней, недовольно показывая на меня, говорил среди наших чиновников: «хороши современные чиновники; товарищ министра должен заниматься поисками их калош!»
На той же станции было назначено рано утром совещание местных лесничих. Перед заседанием Иваницкий предложил мне пойти постричься. Так как он был лыс, парикмахер быстро привел его в порядок, а со мною возился дольше, и я опоздал на заседание. По растерянности лесничих и выражению лица Иваницкого, я понял, что мое отсутствие всех истомило, так как Иваницкий за что-то, в ожидании открытия заседания, разносил лесничих. Когда я вошел, Иваницкий встретил меня такой фразой, произнесенной крайне раздраженным тоном: «если вы не желаете быть вежливым с вашим начальством, то по крайней мере подумали бы о ваших сослуживцах, теряющих зря деловое время». Я обозлился, так как к парикмахеру я был отведен именно самим Иваницким, и совершенно официально отрапортовал: «ваше превосходительство, я не считал приличным являться на заседание с половиной бороды». Лесничие и другие члены совещания еле удерживались от смеха, а Иваницкий потом мне сказал, что если бы я сопровождал Плеве, то давно уже этапным порядком был бы возвращен в Петербург.
В Хабаровске, решив пойти в баню, я вынужден был подвергнуться одеванию меня, по распоряжению Иваницкого и при его участии, в его шубу и разные теплые вещи; это напоминало мне времена детства. Иваницкий был искренно обрадован, когда узнал, что в выбранный мною день баня закрыта, но, конечно, не преминул саркастически высмеять свойства моего беспорядочного характера: «наряжается в баню и даже не справится открыта ли она; так вот и на службе: не признает никакого порядка», говорил он.
Все эти мелочи, при воспоминании о них, рисуют только добрые черты характера моего начальника, но во время работы сильно злили меня и мешали мне сосредоточить мысли над занимавшим меня делом, тем более, что до окончания работ не было уверенности, при выслушивании порою злых упреков Иваницкого и сравнении меня с другими петербургскими чиновниками, что я буду в состоянии удовлетворить всем его деловым требованиям и что он разделит те соображения, которые давно уже назрели у меня, за время моей столичной подготовке к дальневосточному вопросу.
Работа была очень напряженная и нервы трепались.
Местные чиновники боялись товарища министра не потому, что им было чего бояться или стыдиться в своей деятельности, но просто потому, что они наслышались уже о его вспыльчивости и придирчивости на словах. Однако, вскоре они осваивались с его манерой держать себя и через короткий срок совершенно не стеснялись его, видя в нем только старшего товарища и привязывались к нему. Помню, как долго подготовляли к встрече с Иваницким одного из самых неотесанных «подрайонных» — Луцкевича, как назывались переселенческие чиновники, ведавшие частью области — уездом, двумя или более, в зависимости от местных условий. Это был типичный мелкий степной помещик; здоровый, коренастый, с сильным сиплым голосом, с громадным кулаком, в смазных сапогах. Он любил крестьян, служил идейно, впрочем, как и большинство «переселенных» — так называли наших чиновников переселенцы. Говоря о делах, он любил неожиданно изо всей силы ударить собеседника своей широкой ладонью по колену, доводы свои подкрепить отборными русским ругательством и т. п. Шликевич и другие старались внушить Луцкевичу примитивные понятия служебной дисциплины; товарища министра, мол, надо называть «ваше превосходительство», говорить с ним спокойно, без крика и жестов, не чертыхаясь и т. д. Добродушный Луцкевич выслушивал все эти увещания с полным вниманием, смеялся по поводу сомнений в неумении его совладать с собою. Представление Луцкевича товарищу министра состоялось в вагон-салоне; я застал их уже за оживленном разговором; рука Луцкевича крепко держала колено Иваницкого, к счастью не поднимаясь в воздухе; во время доклада прорывалось слово «черт его…», после чего докладчик кашлял и подыскивал другие выражения. Иваницкому этот энергичный наш работник понравился, но служебная судьба его была печальна: он был предан суду за растрату. Дело это очень интересно для тех, кто за формой не видит часто живого дела, особенно для наших контрольных чиновников. Наплыв переселенцев в Уссурийский край в 1909 году был так сравнительно велик, кредит на выдачу ссуд на домообзаводство так опоздал, что чиновники, когда получали деньги, из кожи лезли вон, чтобы поскорее удовлетворить первую острую нужду новоселов. Работа шла и днем и ночью. Ссуды выдавались порою без расписок получателей, во избежании задержки очередей; оформлялась выдача на другой или даже через несколько дней. В результате у Луцкевича не хватило расписок на несколько десятков тысяч рублей. Никто из сослуживцев его не сомневался в его честности, всем было ясно, что его горячность и безалаберность были причиной его формальной неисправности; близким к нему нашим чиновникам было известно, что он не только не растратил казенных денег, но и вложил в дело помощи переселенцам весь личный капитал, вырученный от продажи его имения, кажется, тысяч двадцать. Тем не менее, по официальным основаниям, Луцкевича пришлось устранить от должности до разрешения дела судом. Коронные судьи, при всей их обычной суровости, с полной идеальной справедливостью разобрались в этом деле: они признали, что в той обстановке, в которой работал Луцкевич, нельзя было требовать от него исполнения всех формальностей, что, так как никто из крестьян не заявил о неполучении или ссуды в районе Луцкевича, то о растрате не может быть и речи, что переселенческое ведомство обязано уплатить Луцкевичу полное содержание за все время состояния его под судом и следствием (т. е. за два года, в течении которых Луцкевич получал по закону только половинное содержание) и предоставить ему при первой возможности место, равное тому, которое он занимал ранее. Луцкевич, однако, за это время устроился уже в тайге на каких-то частных работах. С делом Луцкевича было связано как-то и нарушение, допущенное Владивостокским казначеем; этот скромный агент министерства финансов в ту же горячую переселенческую пору выдал Луцкевичу и другим чиновникам авансы в несколько сот тысяч рублей, кажется, свыше миллиона, не оформив эти выдачи оправдательными документами, так как деньги требовались в исключительно срочном порядке. Через неделю все было, конечно, оформлено, но в течении недели казначей, семейный человек, не мог быть спокоен за свою судьбу. Управляющий казенной палатой сделал, кажется, замечание или выговор казначею, и этим ограничились кары за его формально большую «провинносгь». Я лично беседовал с казначеем по поводу происшедшего, и на мое заявление, что он все-таки сильно рисковал, так как получатель крупного аванса мог бы и умереть, я услышал простую, без всякой рисовки, фразу: «да ведь у переселенцев нужда была сильная в деньгах; как же не помочь, хотя бы и с риском, в таком случае?» Я, к сожалению, забыл фамилию этого незаметного героя-альтруиста.
Один наш видный переселенческий деятель «первого призыва» П. П. Архипов был так чужд контрольным тонкостям, что, не будучи в состоянии отсчитаться [так в тексте] в давно израсходованном им авансе, написал просто: «могу сказать одно, что деньги пошли полностью на переселенцев, а не в мой карман». Потребовалось, однако, вмешательство Кавказского Наместника, чтобы этого честнейшего нашего работника освободили от начета по Высочайшему повелению.
Знакомясь при моих поездках в Сибирь все ближе с разнообразными агентами нашего ведомства, я все более и более проникался чувством глубокой радости за русский народ, который мог выдвигать из своей среды столько оригинальных недюжинных работников. Их имена оставались неизвестными обществу, они не достигали ни крупного служебного, ни сколько-нибудь прочного материального положения, они получали личное удовлетворение в самой работе. Сотни неизвестных людей совершали часто географические экспедиции, часто в те места, в которых еще не было ни разу ноги исследователя; многие доклады землеотводных чинов имели большое научно-литературное значение. Работа их часто сопрягалась с большими опасностями для жизни. Я знаю случаи, когда приходилось в далекой тайге лишаться всех запасов продовольствия, чтобы облегчить себе продвижение вперед к поставленной цели. Знаю одного фанатика-исследователя из дальневосточных переселенческих чиновников, который умышленно потопил все продовольственные запасы своей партии, чтобы отрезать ей путь отступления, когда в ее среде начались колебания и возникло предположение с остатком провианта вернуться в Благовещенск. Такие люди становились похожи на майнридовских героев; они знали всеми фибрами своего тела и души, знали и чувствовали дикую прелесть природы далеких окраин Сибири, почти обожествляли эту природу, были красиво суеверны. Мне не забыть с каким выражением лихорадочно блестящих черных глаз и верою в особую духовную мощь моря, закричал на нас упомянутый мною фанатичный чиновник, когда мы смеялись по поводу невероятно сильного подбрасывания волнами нашей моторной лодки при выходе в свежую погоду из устья пограничной с Кореей реки в открытое море, где на рейде ожидал нас пароход. «Молчите, море мстит за смех над ним!», было сказано нам таким тоном и с таким повелительным жестом, что невольно среди нас установилось гробовое молчание; впрочем, положение наше в устье реки — самом опасном месте плавания в Японском и Охотском морях — было действительно весьма рискованное: остановись мотор на несколько секунд только, и мы погибли бы; волна в устье достигает высоты почти двухэтажного дома, лодку медленно вытягивает на гребень и затем стремительно бросает вглубь, так, что кажется, будто, вот-вот разобьется о дно, всегда более приподнятое в устье реки.
Князь Г. Е. Львов, будущий неудачный глава нашего неудачного временного правительства и тот, ознакомившись с составом местных переселенческих работников, не постеснялся дать им эпитет «героев». Этим заявлением кончается большой печатный труд Всероссийского земского союза по обследованию Приамурья. Книга эта составлена тенденциозно, проникнута вся желанием показать несостоятельность нашего правительства, почему верные критические мысли перепутаны в ней с необоснованными мелкими выпадами. Но тем ценнее заключение книги о личном землеотводном составе переселенческого ведомства. Кстати, всякому, кто хочет познакомится в кратких, но ясных чертах с историей освоения нами Приамурской окраины, стоит прочесть прекрасно составленный сжатый исторический очерк, являющийся введением в книгу Земского Союза. В остальном собранные им данные значительно устарели и недостаточны по сравнению с обширными печатными трудами Амурской экспедиции, о которых я буду говорить ниже.
Досадно, что беспристрастному отзыву князя Львова о наших «переселенных» не следовала периодическая пресса; тогда бы общество хотя что-нибудь знало и ценило в нашем окраинном правительственном аппарате, а, может быть, поинтересовалось и прочесть что-либо из интереснейших печатных работ переселенческого ведомства, во всяком же случае знало бы больше правды, чем из меньшиковского фельетона о государственных изменниках в составе этого ведомства.
Местные наши агенты были любимы населением; слово «переселенный» произносилось крестьянами совершенно иным тоном, чем «земский». «Переселенных» знали и с ними охотно советовались. Однажды на одну нашу партию обследователей, спускавшуюся по реке в лодке, было сделано с берега вооруженное нападение; «производитель работ» был ранен; когда нападающие с берега узнали форменные фуражки наших чиновников, они начали выкрикивать извинения; не узнали, мол, сразу кто это.
Иваницкий, сделав визит Приамурскому генерал-губернатору Унтербергеру в Хабаровске, решил объехать сначала наиболее типичные старожилые и переселенческие деревни, осмотреть некоторые работы по отводу переселенческих участков, посетить некоторые лесопромышленные и рыболовные предприятия и т. п., а затем уже обсудить собранные данные и план дальнейших действий в совещании под председательством генерал-губернатора.
Поездка по переселенческим районам представляет тоже особый интерес, что наглядно видишь процесс зарождения хозяйственно-культурной жизни, начиная от первого шалаша вновь прибывшего переселенца и кончая богатыми, каких может быть мало и в метрополии, селами со школами, здания которых не уступают нашим средним губернским гимназиям, с церквами и проч. Срок более или менее прочного хорошего устройства на новом месте достигал пяти лет; все стадии пятилетнего развития новосельческих поселений можно было наглядно изучить в день-два, так как группы новых отведенных участков примыкают к отведенным за последние годы. В бытовом отношении чрезвычайно интересно то, что в течении тех же двух дней можно проехать, так сказать, по всей России: переселенческие деревни, за небольшими исключениями, заселяются выходцами из одной и той же губернии или даже уезда и волости; поэтому из чисто хохлацкой, например, деревни с уютными белыми мазанками, через несколько часов пути попадаешь в бойкую ярославскую деревню, либо к профессионалам по нищенскому промыслу пензенцам, либо в серую, лениво бездарную жизнь белоруса, наконец, даже в старообрядческую обстановку наших реэмигрантов из Турции и Румынии и т. п. Быт, особенности русского крестьянства нигде нельзя, кажется, изучить скорее и легче, чем в наших колониях. В один день, бывало, то приходишь в восторг от самостоятельности, сметливости и жизнерадостности наших северян: архангельцев, ярославцев и проч., то смеешься по поводу нытья и детской хитрости малоросса, вечно ноющего, чтобы выпросить что-нибудь лишнее для улучшения своего хозяйства, обычно, всегда и так прекрасно устраиваемого, то злишься, когда видишь полную апатию какого-нибудь витебца и т. д. Кстати, о пресловутой малоросской хитрости: как-то в приморском переселенческом участке, в разгаре лова рыбы, количество которой днепровские жители и вообразить себе не могут, я шутя спросил хохла-новосела у громадной лодки полной рыбы: «хорошо ловится?» Он почесал себе затылок и отвечал угрюмо, что ожидал большего, а затем добавил: «а що же буде добавочна доподмога?» Как контраст с этим, всегда ожидающим чего-то лучшего, вспоминаю мою встречу у парома с ярославской очень красивой молодицей, проживавшей в одном из самых диких таежных участков — в Тарском уезде Тобольской губернии. «Ну, как живете?» «А как на каторге», последовал со смехом веселый бойкий ответ. Действительно, в этом лесном участке происходила героическая борьба с богатой, но суровой природой, но никто ни о каких «доподмогах» — пособиях не заикался. Там жили те, кем сильна Русь.
При моих поездках я всегда думал о том, как хорошо узнала бы наша учащаяся молодежь родину, если бы, кроме европейских столиц, она совершала экскурсии по нашим колониям. И как бы она научилась тогда любить коренное русское население.
С Иваницким мы посетили подготовительные работы к постройке Амурской железной дороги. Тогда начинались, кажется, только изыскания. В совершенно глухой, дикой местности, на границе Забайкальской и Амурской областей устраивался материальный склад, строились бараки для рабочих. На реке Зее у меня остался в памяти один переселенческий участок: Суражевка. Он был так назван в честь единственного переселенца, выходца из Суражского уезда Черниговской губернии, который почему-то расположился на этом далеком, неприветливом и в земледельческом отношении мало интересном участке. В официальной ведомости участков Амурской области так и значилось в графе о населенности участков: «душ обоего пола — одна». Тогда нельзя было предвидеть, что население с одной душой обоего пола обратится в довольно большое уездный город.
Такие чудеса делает железная дорога в дикой тайге. Об этой интересной подробности моей работы я расскажу ниже при описании деятельности Амурской экспедиции.
Путешествие наше с Иваницким по приморским селениям на север и юг от Владивостока (Татарский пролив и залив Посьет) познакомило нас с опасностями, которым подвергались так часто наши местные агенты; мы были близки к гибели, чему в следующие мои странствия по Приморью я подвергался, впрочем, неоднократно. По пути из Татарского пролива во Владивосток по море стало тихо, как зеркало, и постепенно стало обволакиваться густым молочным туманом. Это было предвестником бури — через несколько часов мы попали в «тайфун» — так называемый воздушный смерч на Тихом океане, направление которого объявляется телеграфом во все порты, и мореплаватели в этом случае избегают районов близких к движению тайфуна. Нашу «рыбоохранную», изящную, но не большую, всего в 500 тонн, яхту «Лейтенант Дыдымов» начало сильно трепать. К вечеру появился у Иваницкого командир яхты Щербина испрашивать указаний; нас наносило еще на неубранные после войны с Японией минные заграждения; неминуемо предстояло нам взорваться на них; поэтому надо было бы взять курс в открытое море на Японию, но за благополучие поворота, в виду высокой волны, командир не ручался. Иваницкий распорядился, конечно, сделать поворот в открытое море. Ощущение было чрезвычайно сильное: казалось, что мы рухнули в какую-то пропасть. Во время поворота приамурский управляющий государственными имуществами В. К. Бражников, известный ученый ихтиолог и человек большой отваги лично стоял у капитанской рубки; его смыло волной и он уцелел лишь случайно, ухватившись в темноте рукой за железную перекладину и повиснув на некоторое время в воздухе. Всю ночь мы держали курс на Японию и потом очень сожалели, что под утро повернули на Посьет, будучи уже вблизи Японии, куда мы могли бы зайти на законном основании.
В Государственной Думе были предвзятые нарекания на неудачный заказ нашим ведомством двух яхт для охраны наших морских промыслов; вторая яхта «Командир Беринг» была однотипной с первой. Нападки думской оппозиции сводились именно к указаниям на плохую, будто бы, устойчивость наших яхт и непригодность их к плаванию в таких бурных морях, как Охотское и Японское. Иваницкий был очень доволен, что случай дал ему возможность лично убедиться в прекрасной мореходности наших яхт. Капитан Щербина, делавший продолжительные ежегодные рейсы на Камчатку и вдоль ее побережья, всегда хорошо отзывался о своей яхте. Щербина был то, что называется «морской волк»; он много рассказывал мне про своего начальника капитана Гека, в честь которого нашим ведомством был назван рыбоохранный катер. Семью Гека вырезали китайцы-хунхузы, почему он убивал их беспощадно при всяком удобном случае. Это был человек, для которого жизнь представлялась бесцельной; в последнее свое плавание, уже будучи стариком, он вызвал своего помощника Щербину на рубку и передал ему управление, а сам тут же застрелился.
Ночь на «Лейтенанте Дыдымове» мы провели, конечно, тревожно, а некоторые, склонные к морской болезни, и весьма болезненно; впрочем, таких среди нас было мало. В каюте Иваницкого ударом волны выбило иллюминатор; ее заливало; его с чемоданом выбрасывало то из каюты в столовую, то обратно; понятно, он почти не спал. Я же помещался в одной каюте с Шликевичем: он на загороженной койке, а я на клеенчатом диванчике, почему при сильных ударах меня сбрасывало все время на пол. Спать было трудно, но мне большое развлечение доставлял Шликевич своим злым ворчанием. Он перед эти поссорился с Иваницким из-за того, что три деревни подряд называл одним именем «Буссовка» (Буссе был энергичный переселенческий чиновник, первый из назначенных в Приамурскую область для руководства здесь переселенческим делом; его отчеты были очень интересны и ценны), а кроме того уговорил Иваницкого совершить поездку на одну станцию для демонстрации изобретенного каким-то крестьянином плуга, режущего древесные корни; когда мы приехали, ударил мороз, и плуг не мог работать. Шликевич считал, что силы природы не в его власти, а Иваницкий говорил, что он, как местный человек, должен был бы знать местные климатические условия. Это и другие мелочи влекли мимолетные ссоры, и Шликевич порою в тарантасе писал прошения об отставке, а затем наступало, конечно, примирение. Перед бурей произошла ссора, и Шликевич всю ночь в разговоре со мною упрекал Иваницкого в том, что он виновник нашей гибели, что из[-за] праздного любопытства Иваницкого мы болтаемся теперь по морю и т. д… Это собеседование очень скрасило мне ненастную длинную ночь.
Через месяц или полтора мы вернулись в Хабаровск, пробыв некоторое время во Владивостоке для предварительного совещания с местными деятелями. Из владивостокских чиновников у меня резко запечатлелся в памяти образ старого вице-губернатора, уже тайного советника, Омельяновича-Павленко; это был очень умный и чрезвычайно хитрый хохол. Не зная, чья сторона возьмет верх в казачьем вопросе, как умный человек понимая все его колонизационное значение, он в совещании высказал по этому вопросу такое мнение, что понять его содержание не было совершенно ни какой возможности. Как Иваницкий ни наседал на старика, чтобы он выразил свои мысли и как старожил края, определенно сказал «да» или «нет» — ничего не выходило. Омельянович начинал свои ответы с излюбленной им фразы: «оно, конечно, с одной стороны, если…» и затем так запутывал свою речь, что Иваницкий махнул рукой и оставил его в покое.
Среди местных чиновников Омельянович славился тем, что не было такого затруднения, из которого он не находил бы выхода. Даже с мелочами шли к нему советоваться. Например, кому-то надо было написать письмо начальнику главного тюремного управления; должность эту занимал тогда Галкин-Врасский, но чиновник не знал точно его фамилии, кончается ли она на «ий» или «ов», т. е. надо ли писать «Врасскому» или «Врасскову». Обратился к Омельяновичу; последний заявил, что «оно, конечно, и сам я не знаю точно его фамилии, написать же надо отчетливо «Враско», а две последние буквы скорописью, неразборчиво».
Мне лично пришлось иметь следующее курьезное объяснение с Омельяновичем. Из Петербурга Иваницкий получил Высочайший запрос, готова ли церковь в каком-то селении Уссурийского края; был по телефону запрошен губернатор, и Омельянович, за отъездом последнего, в тот же день ответил, что церковь построена. Когда мы проезжали через это селение, Иваницкий пожелал лично осмотреть церковь; оказалось, что постройка ее еще не началась. Я был срочно отправлен во Владивосток для выяснения недоразумения. Выслушав меня, Омельянович совершенно спокойно возразил мне: «оно, конечно, сведения, которые я дал, оказались неверными, но зато я ответил без задержки в тот же день».
По открытии совещания мы опасались резких столкновений с генералом Унтербергером, взгляды которого вообще на способы колонизации Приамурья, а в особенности по казачьему вопросу, были резко противоположны нашим.
Этот честный русский немец был бы хорош в любой европейской губернии, ибо он, хотя по образованию военный инженер, был чрезвычайный законник. Там, где требовались смелость и широкий полет мысли, он пасовал. На наши окраины он смотрел, как на запас для будущих далеких поколений для России; считал, что форсировать их колонизацию незачем; иностранного капитала боялся, как хищника, который разграбит русские богатства. Что природа не терпит пустоты, что если не мы, то наши желтые соседи протянут руку за нашими втуне лежащими богатствами — об этом он не думал. Раз незачем усиленно заселять русскими людьми Приамурье, то ясно незачем колебать прав старожилого, крестьянского и казачьего населения на землю, хотя бы даже если бы эти права и возбуждали какие-либо юридические сомнения. Одним словом — благоразумная осторожность и умеренность во всем. Например, приезжает столичный представитель крупной фирмы с предложением эксплуатировать для добычи йода богатейшие по запасам и количеству йода водоросли нашего побережья в Татарском проливе; с ним начинается такая длительная торговля о различных мелочах производства, что можно подумать, будто бы мы не получаем йода по крайне дорогой цене из Франции, а у нас самих производство его поставлено уже чрезвычайно широко, будто бы лишний рынок сбыта продуктов не привлечет лишнего русского поселенца и т. д.
Одним словом, несомненный честный русский патриот, каковыми были многие из наших прибалтийских немцев, Унтербергер не имел в своей натуре «колонизационной изюминки». Мой знакомый встретил этого почтенного генерала в начале смуты в Петербурге; он был очень опечален происходящими событиями, но главное, что его мучило было не революция; «это внутреннее русское дело, Россия переживет беспорядки», говорил он, «ужас в том, что в Петербург могут теперь войти германцы». Такова была психология этого человека, характеризующая его, как гражданина своего отечества.
Петербург, особенно придворные сферы, зная такие качества генерала Унтербергера, долго не могли понять, что он не на месте. Только в результате сенаторской ревизии Приамурского военного округа и настойчивости П. А. Столыпина удалось добиться в 1911 году назначения более подходящего лица на должность Приамурского генерал-губернатора с разделением в крае впервые гражданской и военной власти. Этим лицом явился бывший переселенческий чиновник Н. Л. Гондатти, о котором мне придется говорить при описании работ Амурской экспедиции. Покойный Столыпин лично рассказывал Гондатти с каким предубеждением Государь относился к доводам его о необходимости поставить во главе генерал-губернаторства гражданского чиновника. Мера эта была принята сначала в отношении Иркутска, куда на место генерала Селиванова, честного, прямого, но не искушенного в современной администрации солдата, был назначен пользовавшийся среди населения большой популярностью «штатский» генерал-губернатор Князев, и только через год после этого состоялось назначение в Хабаровск Гондатти.
Благодаря такту Иваницкого, многочисленное и разнообразное по составу совещание благополучно миновало все острые подводные камни; несогласия генерал-губернатора с его партией и представителей нашего ведомства подробно, но в общем спокойно, обсуждались и спорные заключения заносились в журнал в двух редакциях, с тем, что окончательное решение последует в Совете Министров. Только чрезвычайно неуравновешенный помощник Шликевича — М. Н. Савинский, во всякое дело вносивший много иной страстности, порою бывал почти груб в своих выражениях генерал-губернатору. Иваницкому пришлось даже однажды после заседания извиниться перед Унтербергером за горячность Савинского. К чести Унтербергера надо сказать, что он вполне терпеливо относился к задору Савинского и сказал Иваницкому, что он не в претензии, так как в резкости Савинского видит только большую любовь к делу. Иваницкий увлекся живостью Савинского и, несмотря на его молодые годы, провел его, после очередной ссоры со мною, на место Шликевича, когда последний был назначен представителем нашего ведомства при генерал-губернаторе. Савинский, по отсутствию служебной выдержки, дающейся, обыкновенно, с годами, не долго продержался на самостоятельном месте, хотя и был весьма энергичным работником. Во время войны он преждевременно умер, под впечатлением смерти единственной дочери.
Мои выступления в совещании показали, как отвыкли мы еще с университетской скамьи связно, продуманно, без волнений говорить при большой аудитории. При первом моем докладе о хуторских работах, я так запутался, что явственно слышал сердитый шепот сидевшего против меня Иваницкого: «что за чушь он несет?» Это, конечно, не могло меня подбодрить. Впоследствии мне пришлось много поработать над собою, чтобы привыкнуть к самообладанию при публичных выступлениях, к сожалению, со времен революции сделавшихся для меня, помимо моей воли, на много лет весьма обычным занятием.
В Хабаровском совещании подверглись обсуждению не только вопросы о крестьянском переселении, но и об отводе промысловых сельских участков, о лесо- и рыбопромышленности, о сети дорог для общеэкономического оживления края, в частности богатых приисковых районов и т. д., т. е., другими словами, была уже дана, снабженная местными материалами, схема колонизационного, а не узко-переселенческого плана. Составленный мною и отчасти Татищевым журнал работ совещания представил обширный труд, страниц 300 печатного текста. Его содержание с несомненностью предрешало уже необходимость какого-то междуведомственного органа для принятия тех или иных решений и окончательной разработки поставленных широко колонизационных задач. Индуктивный и дедуктивный методы работы, как и следовало ожидать, сошлись в конечных итогах; Иваницкий, читая журнал, уже довольным тоном говорил: «ну, за это вам надо поставить пять с плюсом!»
Лестный отзыв, по поводу произведенной нами работы, был дан в Петербурге таким авторитетом, как старик А. Н. Куломзин. В то время он был членом Государственного Совета, но интересовался всеми мелочами переселенческого дела, заходил к нам в Управление, обижался, если какое-нибудь издание Управления случайно забывали ему послать, вообще продолжал проявлять неизменный живой интерес к делу, несмотря на частые довольно припадки болезни. Однажды я был приглашен в кабинет начальника Управления, у которого сидел Куломзин. В законодательных учреждениях тогда рассматривался законопроект об Амурской железной дороге; Куломзин пожелал для поддержания этого проекта иметь подробную цифровую справку по вопросам земледельческой колонизации Амурской области. Он мне указал какие должны быть включены в справку данные, причем предрешал некоторые цифры и выводы. Я на последнее предложение заявил, что мне надо подумать. Куломзин вскинул с удивлением пенснэ и посмотрел на меня строго-внимательно. Глинка, во избежании каких-либо недоразумений, поспешил сказать Куломзину, что я, мол, такой тип, который может писать только то, что думает и знает. Куломзин, с еще большим удивлением осмотрел меня всего, а, когда я вышел спросил Глинку: «что, этот тип новой формации?» Сильный человек, Куломзин не выносил противоречий и, действительно, импонировал своим умом. Мой ответ не повлиял отрицательно на его отношение ко мне, но произошла странная история: я все-таки написал не «то, что думал», а чего хотел Куломзин и даже должен был расписаться на моей справке; по отпечатывании в типографии Государственного Совета, эта справка в среде государственной канцелярии и была известна именно под названием «Романовской». Она для тактических целей того момента была полезна, но включенные в нее данные я сам через год горячо опровергал в последующих своих печатных трудах.
Похвала Куломзина по поводу работ Хабаровского совещания была чрезвычайно ценна для нас, ибо он зря и легко похвалы свои не расточал.
В следующем, 1909 году, с уходом Шликевича в отставку по болезни, я снова отправился в Хабаровск, чтобы, как я уже упоминал, помочь новому представителю нашего ведомства В. П. Михайлову в разработке некоторых подробностей, касавшихся отвода промысловых участков, хуторов, тарифов на хлеб и рыбу, организации заграничного экспорта леса и т. п.
Если бы не нервное мое расстройство и огорчение по поводу оставления службы Шликевичем, я уже с радостью уезжал из Петербурга. Месяц почти до отъезда я просидел на заседаниях Государственной Думы; бледные по содержанию, ненужные речи оппозиции, невежественное кривляние кавказских социалистов — все это было чрезвычайно далеко от живого настоящего русского дела. Ближайшие громадные задачи упускались, а говорилось о чем-то далеком, о какой-то «маниловщине», но Манилов мечтал с добротою, а тут в каждой мелочи слышалась одна злоба. Не забыть мне, как один представитель оппозиции беседовал любезно с Глинкой, а потом, вскоре взойдя на кафедру, сразу приобрел какое-то озлобленнейшее выражение лица и с деланным враждебным отвращением начал говорить об ошибках и бездействии переселенческого ведомства. Глинка перед первым выступлением в Думе сильно волновался, советовался со мною о схеме его речи, я ему подробно рассказал, что бы надо было включить в речь; он охал, вздыхал, затем произнес прекрасную, обстоятельную программную речь, в которой не было ни одного почти слова из моей схемы. Развлекали в Думе выходки В. М. Пуришкевича; я с ним встретился в Думе впервые после оставления им недолгой службы в земском отделе; когда мимо нас проходил Милюков с подвязанной щекой, Пуришкевич радостно приветствовал его словами: «ага, побили, наконец». Милюков в ответ кисло улыбнулся. Кстати, речи большинства кадетских лидеров отличались удивительной сухостью и были, большей частью, мертвенно скучны. Скучен был и живой Шингарев, в особенности потому, что он с одинаковым пафосом говорил по вопросу государственной важности и об относительной стоимости, например, яйца в Дании и у нас; дешевые знания и и трескучие фразы утомляли порою до озлобления. Из такой обстановки приятно было вырваться.
В разгар наших работ в Хабаровске, мною было получено сообщение о том, что последовало Высочайшее повеление образовать постоянное совещание по делам Дальнего Востока, под председательством П. А. Столыпина, как председателя Совета Министров; управление делами совещания было возложено на Г. В. Глинку. Это известие дало мне большое нравственное удовлетворение, так как я знал, что принятая мера есть плод моей личной инициативы и настойчивости. Такое сознание является всегда большим стимулом к производительной усиленной работе.
К сожалению, смерть Столыпина в 1911 году, т. е. через полтора, приблизительно, года после учреждения совещания, не дала возможности извлечь их этого учреждения всей той пользы, на которую можно было рассчитывать. Наши финансовые ведомства боялись крупных затрат, которые требовались сколько-нибудь широкими, планомерными колонизационными мероприятиями. С утратой Столыпина, если не считать энергичного, но, сравнительно, недостаточно влиятельного А. Б. Кривошеина, заменившего князя Б. А. Васильчикова в должности главноуправляющего землеустройством, не оставалось у нас лица, которое могло бы с настойчивостью и влиянием покойного премьера отстаивать необходимые ассигнования. Однако, многие вопросы, в том числе и знаменитый казачий, получили если не полное, то хотя бы частичное разрешение. Главнейшим же результатом деятельности дальневосточного совещания было широко задуманное и выполненное изучение в колонизационном отношении районов строившейся Амурской железно дороги. По инициативе Столыпина с этой целью было испрошено Высочайшее повеление на командирование в Приамурье особой экспедиции.
Начальником экспедиции был назначен томский губернатор Н. Л. Гондатти, а Управляющим делами ее и представителем ведомства землеустройства и земледелия — я. В состав экспедиции, помимо представителей всех ведомств, входили различные специалисты: по геологии, агрономии, ботанике, водным и шоссейным сообщениям, гидротехнике, санитарии, статистике, животноводству и проч.; кроме того, в распоряжение экспедиции была прикомандирована партия военных геодезистов и топографов. Одним словом, состав экспедиции обеспечивал выполнение возложенных на нее задач вполне научными, истинно колонизационными методами, что, во всяком случае, при всяких практических трениях и затруднениях должно было дать громадный вклад в область познания русским правительством и обществом значительной части нашей дальневосточной окраины. Сознание открывающихся перед экспедицией возможностей поднимало настроение, воодушевляло ее участников, а состав их был весьма незаурядный.
Н. Л. Гондатти, по окончании курса естественных наук в Московском Университете, был оставлен при нем, но вскоре уехал на Камчатку на должность начальника округа, где занимался этнографическими исследованиями, и с тех пор работал, исключительно, в Сибири, страстно к ней привязавшись. Он умел очень красиво, красочно, приятным тягучим московским говором рассказывать о различных своих окраинных впечатлениях; слушать можно было его часами, не утомляясь. Работать с ним было очень приятно и легко, так как он давал широкий простор личной инициативе и отличался чрезвычайным спокойствием; за всю мою служебную жизнь это был первый начальник мой, который никогда не волновался, не говорил вспыльчиво со своими подчиненными. По его словам, такие черты характера он выработал в себе постепенно, усилием воли, в молодости же был, будто бы, крайне раздражителен. Постоянная, ровная ласковость его со всеми при долгом знакомстве с ним возбуждала, однако, какие-то подозрения, сомнения в ее искренности. Грубость Глинки мне лично была, в конце концов, дороже, так как искренность в человеческих отношениях всегда была дороже других качеств. Мне пришлось-таки лично убедиться, что Гондатти недолюбливал меня, на словах выражая мне дружеские чувства. Другим недостатком этого человека было болезненное самолюбие; наедине ему можно было говорить все что угодно и заставить разделять ваше мнение, которое затем он выдавал, как свое давнишнее убеждение; те же, кто пытался при посторонних настойчиво отстаивать свой личный взгляд, например, в совещании, нарывался часто на сопротивление Гондатти, принимавшее порою даже характер враждебного упрямства. Вполне разумные проекты одного моего приятеля инженера, всегда говорившего властным авторитетным тоном, систематически критиковались Гондатти в наших общих совещаниях. Поняв истинную причину этих неудач, я посоветовал инженеру докладывать свои проекты Гондатти заранее наедине. С тех пор неудач не было; Гондатти был горячим единомышленником моего приятеля, заявляя в совещаниях, что он «уже давно составил себе такое мнение». Эта слабость Гондатти, да еще любовь его абсолютно всем все обещать даже при заведомой неисполнимости данной просьбы, слегка затрудняла, конечно, нашу совместную работу, но положительные качества Гондатти были настолько велики, что в главнейшей своей части работа шла успешно, без всяких трений.
Ко времени приезда Г. в Читу — штаб и сборный пункт нашей экспедиции в первый год ее работы, я составил общий подробный план действий. Партии специалистов подлежали отправке непосредственно в район Амурской железной дороги для подробных обследований различных природных богатств этого района, с одновременной съемкой тех местностей, на которые не имелось еще карт, и разработкой плана подъездных путей. Но так как Амурская железная дорога, соединяя Забайкалье с Хабаровском магистралью около 1500 верст, должна была внести крупные изменения вообще в экономическую жизнь Приамурья, то отдельные чины экспедиции получили задание обследовать уже в общих чертах, каждый по своей специальности, и более отдаленные регионы, на которые должно было распространяться влияние дороги, включительно до богатейших рыбных промыслов устья Амура и Охотского побережья. Для глазомерной съемки некоторых, совершенно не изученных еще окраин, например, перевала из Забайкальской области в Якутскую, в наше распоряжение, с разрешения генерала Селиванова, была командирована партия офицеров местных стрелковых полков; эти офицеры, покрывшие впоследствии неувядаемой героической славой свои родные полки во время европейской войны, и в мирное время держали себя героями культурной работы. Вполне интеллигентные, добросовестные и выносливые, они с опасностью для жизни, совершили трудный переход через Становой Хребет, привезя нам уже к зиме, которая застала их в тайге и без провианта (пробавлялись охотой) ценные географические описания и схематические карты, заставившие наших ученых признать ошибочность некоторых мест на прежней карте указанного района. Опять хочется мне сказать: как досадно сознавать, что наше общество знало нашу офицерскую среду, главным образом, по рассказу Куприна «Поединок» и т. п., а ничего не слышало о культурной ее работе.
Наиболее ответственным делом экспедиции, кроме работ по сельскохозяйственному обследованию, было проектирование подъездных путей. Во главе этого дела стоял энергичный живой инженер П. П. Чубинский. Организованные им партии своими обследованиями обхватили все главнейшие левобережные притоки Амура, произвели изыскания некоторых шоссейных магистралей от Амура к нашим богатым приисковым районам на границе Амурской и Якутской областей и выяснили экономическое значение служебных подъездных путей к Амурской железной дороге, так называемых «времянок», которые всегда после постройки магистралей уничтожаются, здесь же, в большинстве, имели серьезное колонизационное значение. Можно смело утверждать, что работам партии Чубинского Приамурье было обязано тем, что экономическое влияние Амурской железнодорожной магистрали сразу же было расширено. По получении кредитов на приступ к постройке намеченных грунтовых путей, Чубинский прибег к героическому средству для осуществления полностью плана дорожного строительства, одобренного амурской экспедицией. Кредиты отпускались, как всегда, по частям, скуповато; по смете 1911 года на первые сто-двести верст и т. д.; не было уверенности, что какие-либо события не задержат отпуск денег в следующем году и вместо тысяч верст путей дело сведется только к постройке сотен. Поэтому, чтобы отрезать пути отступления Правительству, Чубинский получая деньги на определенное число верст, не строил их, а производил предварительные работы по всей сети задуманных дорог. Когда это обнаружилось, в конце-концов, Чубинский едва не лишился места, но вышел победителем: к войне, к 1914 году, почти весь наш план был осуществлен.
А какое значение имело дорожное строительство для экономического развития Приамурья можно судить хотя бы по такому примеру, оставшемуся у меня в памяти: цена драги (машины для правильной добычи золота) в Америке была, в мою бытность на Дальнем Востоке, 200 000 рублей; столько же стоило доставить драгу при бездорожье края, от станции реки Амура до приисков. Неудивительно, что на большинстве приисков золото добывалось кустарными, портившими залежи способами. Я лично был на приисках одной английской кампании у Охотского побережья; это были прииски, считавшиеся уже отработанными, невыгодными, но англичане, привезя машины, с большой выгодой работали на них. Рядом возникло, конечно, огородное хозяйство, имевшее прочный сбыт; началась вообще культурная жизнь в дикой глуши. Никогда не забуду того впечатления, которое произвела на меня английская колония после долгого странствия в бурю и проливной дождь по тайге. За мною к пристани был выслан изящный английский кэб, представлявшийся чем-то совершенно несуразным на фоне мрачно дождливой таежной непогоды; он сломался на первой же версте пути. Я всю дорогу полувисел на сидении, обнимая кучера с длинным хлыстом за шею; вода обливала меня, как душ от головы до пяток; деревья силою ветра ломались то там, то сям; обратный путь нам пришлось совершать с партией дровосеков, шедших впереди нас и рубивших упавшие деревья; иначе двигаться по дороге нельзя было. И вот, из мрака, холода и дождя я вдруг попал в какой-то уголок Европы; хорошо освещенная, теплая, с хорошей мебелью комната, мягкое волохатое белье, прекрасный одеколон, великолепный ужин с закусками, ромом и винами, в желтой обложке современные романы, томный доктор в шезлонге, про которого я вскоре узнал, что в тайгу из Лондона его загнала неудачная любовь — все это было какой-то сказкой, а главное — жизнь, работа на приисках и вокруг них, как будто бы какой-то оазис в пустыне. Иностранный капитал, техника и русские рабочие — создали жизнь там, где десятки, а, может быть, и сотни лет все еще было мертво. Колонизационный закон таков, что жизнь порождает новую жизнь: там, где появился какой-нибудь одинокий «заимщик», за ним потянется другой, тем более это относится не к отдельному человеку, а целому предприятию.
Я видел «заимки», окруженные уже поселениями; новоселы учатся у первого «заимщика»; он же их, обычно, презирает. Сибирский «заимщик» — это особый тип человека: сильный, здоровый, храбрый, он больше всего на свете любит самостоятельность и независимость от людей, которых ему заменяет природа. Он ищет далекого от селений места, приводит в культурное состояние участок земли, никому: ни правительству, ни отдельным людям не нужный еще, с величайшими трудами добивается пшеницы или арбузов там, где им, казалось бы, никогда не расти, и вдруг бросает с героическим трудом устроенное хозяйство, как только к его «заимке» приближаются поселения, идет дальше, как будто бы его провиденциальная роль — завоевывать природу. Это первый, добровольный переселенческий обследователь. Такие же «обследователи» изыскивают залежи золота в одиночном порядке; по их пути идут ученые геологи.
Геологические партии нашей экспедиции обследовали различные обширные районы на золото и каменный уголь, громадные залежи которого (бурого, впрочем) были найдены у самой линии строившейся железной дороги.
Общие же вопросы по золотопромышленности, равно, как вообще по торговле и промышленности, изучал представитель министерства торговли профессор-технолог А. Н. Митинский. «Купец, а не технолог», как живо и весело отрекомендовался он мне при первой нашей встрече. По свойствам своего характера, это был, действительно, типичный русский купец: умный, энергичный, жизнерадостный, наблюдательный, но я явно выраженным признаком «моему нраву не препятствуй», особенно, когда он для подъема своего настроения и работоспособности предавался отдыху за бутылкой вина. Он очень быстро приобрел громадную популярность среди представителей местных промышленников, особенно в приисковых районах; к большинству из них обращался на «ты», ругал их последними словами за косность и вообще разносил их при всяком удобном случае, что заставило их признавать безусловную авторитетность профессора. Как-то в ожидании владельца одного из крупных приисков, М. разделся и влез в реку, чтобы отдохнуть от жары; приехал владелец, обрадовался, что у него профессор и пошел его разыскивать; М. вышел к нему в костюме Адама, но тот, нисколько тоже не смущаясь, представился профессору, подал его мокрую руку и титуловал превосходительством. М. все свои выводы и наблюдения записывал немедленно, во всякой обстановке, на длинных полосах бумаги и в таком виде сдал свой отчет нам. Мне, как редактору всех трудов экспедиции, пришлось, в буквальном смысле слова, измучиться над разбором и приведением в систему этих разрозненных записей. Тем не менее, отчет М. был удивительно жизненен, интересен и мог служить для правительства почти исчерпывающей базой для направления нашей торгово-промышленной политики в Приамурье. Резко, не любя стесняться в выражениях своих мыслей, раскритиковал, между прочим, М. отсталость хозяйственно-технических приемов на приисках Его Величества в Нерчинском округе. Управляющие ими преследовали обычно одну цель — дать доход не менее того, который давался их предшественниками, всякая затрата на улучшение дела увеличила бы этот доход в десятки раз, но, понятно, не сразу, а через несколько лет, может быть, уже при другом управляющем, а, следовательно, для личных целей данного управляющего представлялось невыгодной. Государя обманывали и не возмущаться этим нельзя было. Между тем, как я расскажу ниже, данные Митинского, подкрепленные и моими личными наблюдениями, введенная в составленный мною сводный отчет, явились одной из причин печального, лично для меня, конца моей работы на Дальнем Востоке.
Что касается собственно сельскохозяйственных работ, то, как и в других областях, они производились с одной стороны, специальными партиями ученых почвоведов и ботаников, изучавших новые районы, а с другой стороны, отдельными лицами, которым поручалась разработка того или иного специального общего вопроса. Во главе почвенных изысканий стоял глубоко преданный делу, многолетний сотрудник Переселенческого Управления, профессор Н. И. Прохоров; в его распоряжении находился целый кадр студентов и студенток. Я посетил, между прочим, самый северный пункт этих работ — Токмак на реке Зее близ границы с Якутской областью; там производилось изучение явлений, так называемой, вечной мерзлоты и опыты с посевами путем неоднократной перепашки местных почв. Один студент был оставлен экспедицией в этом пустынном, диком месте на всю зиму для заведывания опытной почвенно-метеорологической станцией. Когда я с ним прощался, мне было даже страшно за него: какая-нибудь серьезная болезнь и юноша без помощи мог бы пропасть. Помню, как я встретил там одного заболевшего аппендицитом студента; требовалась срочная операция; он пролежал в шалаше недели две в ожидании парохода и уже условился с одним лодочником о сплаве его вниз на лодке в ближайшую больницу, т. е. приблизительно, верст за 500 от Токмака, когда, случайно, подошел наш пароход.
На реке Зее, вверх от города «Зея-Пристань» — центра золотопромышленности, правильных пароходных рейсов не было; приходилось, главным образом, пользоваться случайными пароходами, подвозившими продукты в приисковые районы. Я попал именно на такой пароход, лишенный всяких удобств и потерпел крушение при довольно юмористических условиях. Содержательница одного «веселого домика», выйдя замуж, решила переменить свою малопочтенную профессию на более красивое занятие: купила небольшой весьма старый пароход, погрузила его рисом, в двойной против грузоподъемности парохода норме, и отправилась для продажи этого продукта в приисковые районы вверх по Зее. Чтобы не терять времени в ожидании лучшего парохода, я оказался среди немногочисленных пассажиров его с сопровождавшим меня стражником; несколько рабочих, китайцев, баб с детьми, да громадный старый таежник-золотоискатель, несомненно, на душе своей имевший несколько убийств, составляли, кроме хозяев, все наше пароходное общество. Духота, грязь и вонь были очень тяжелы, но я радовался тому, что ускоряю свое прибытие в Токмак; мне предстояло еще проехать по краю несколько тысяч верст и на лошадях, и на пароходах, и на лодках; понятно, приходилось дорожить каждым днем летнего времени. Я сразу же обратил внимание на чрезвычайную загруженность парохода: вода была совсем близка к его бортам. На другой день рано утром, когда я вышел на палубу, я был изумлен тем, что вечерний скалистый пейзаж реки, которым я любовался накануне, не изменился. Я подумал, не простояли ли мы ночь на какой-нибудь пристани. Капитан объяснил мне, что мы проходили через перекат «Разбойник» и что сейчас мы подходим к другому перекату по имени «Владимир»; переход совершается так: на берег забрасывается канат, его привязывают к прибрежной сосне и наматывают затем канат медленно и осторожно на пароходную лебедку; таким примитивным способом пароход подтягивается от одного дерева к другому, делая за часов десять версту-две. Перед «Владимиром» мужчинам предложили выйти на берег; остались на пароходе бабы с детьми, таежник и я, потом только понявший почему мой компаньон-стражник так горячо убеждал меня пройти пешком по берегу. Я стоял рядом с капитаном, молодым человеком, довольно наглой наружности. Ему хотелось показать мне свой опыт и ловкость. Он самоуверенно цедил через зубы, когда канат подтягивал пароход: «все дело сводится в этих случаях к искусству капитана; неопытный человек не проведет благополучно пароход; надо следить, чтобы пароход шел по прямой линии, так как по бокам острые подводные камни; если пароход сядет на такой камень, то, в виду канатной привязи, его ставит поперек течения, и тогда — конец; полетишь вверх дном». Как только он кончил это объяснение, произошло как раз то, чего, по его словам, должен и может избегнуть опытный судоходец: мы почувствовали два-три сильных толчка в дне парохода, и его медленно стало разворачивать поперек реки. Бледный, как стена, капитан, потерявший всю свою самоуверенность, бросил руль и совершенно растерянно крикнул: «теперь мы погибли», а потом начал вопить по направлению к матросам, стоявшим у сосны: «руби канат, руби канат, сволочи!» На пароходе начался невообразимый плачь баб и детей. Передо мною мелькнуло бледное, жалкое лицо свирепого «таежника»; у него тряслись губы и руки. Я, как всегда на воде, по давней с детства привычке к ней, был совершенно спокоен; крикнул машинисту, чтобы он загасил топку и подошел к борту, выискивая место, куда прыгнуть, надеясь вплавь достигнуть берега; я забыл, что Зея — не родной мой Днепр и упустил из виду, что в этом случае меня сразу же разбило бы о камни, как на всяком сильном водопаде. Через пять минут мы были у берега на пароходе, погруженном в воду до верхней палубы. Вопреки предсказаниям капитана, мы, к счастью, не перевернулись, так как канат лопнул или был разрублен, пароход от этого быстро описал дугу, понесся стремительно вниз по течению, колотясь о камни и почему-то оказался у берега, носом снова вверх по течению. Началось вылавливание багажа, затопленного в каютах; мне удалось вытянуть мой чемодан. Затем долго вылавливали матросы мешки с погубившим нас рисом; его раскладывали тонким слоем вдоль берега. Хозяйка парохода с мужем сидела на берегу, плакала навзрыд и причитала: «видно, Бог не хочет, чтобы мы занимались пароходным делом», предполагая, вероятно, что перегрузка по ее собственной жадности парохода было делом Божьего вмешательства в ее дела. Среди скал Зеи табор наш со складом разнообразного багажа и риса был очень поэтичен: мы напоминали каких-то контрабандистов. «Таежник» на мой вопрос чего он так перетрусил, довольно наивно ответил мне: «вам хорошо говорить так, вы, видно, человек привычный», а, между тем, человек в тайге, по словам знавших его лиц, не раз смотрел спокойно в глаза смерти. Так уж относительно понятие храбрости. Было очень досадно сознавать, что можешь потерять очень и очень много времени; по словам некоторых, мы могли сидеть на берегу в ожидании парохода и неделю, и две, но судьба сжалилась надо мною, и я продолжал свое путешествие на более культурном пароходе уже вечером того же дня; только проход перекатов я уже совершал пешком.
На всех станциях профессора Прохорова я наблюдал любовное, порою даже близкое к экстазу, искание знания местных условий нашей учащейся молодежью; всходы, например, пшеницы, там, где она еще не культивировалась, приветствовались с таким восторгом, как появление на море долгожданной земли.
Из работ по сельскому хозяйству отдельных членов экспедиции я должен особо отметить, не останавливаясь на подробностях, следующие. С. П. Шликевич, принявший охотно участие в экспедициях, уже будучи в отставке, дал, на основании собранных им лично и другими сотрудниками историко-экономических данных, очень интересную, тонко продуманную монографию о земледелии в Приамурье, в его настоящем состоянии и в отношении видов на будущее. Эта монография должна была бы служить исходной базой в нашей земледельческой политики на Дальнем Востоке. Она обосновала разрозненные взгляды на невозможность прочного закрепления за Россией Приамурского края при посредстве чисто крестьянской колонизации, без одновременного торгово-промышленного развития края и без создания из Приамурья особой колонии, так сказать «Желтороссии», которая радом государственно-экономических выгод была бы прочно спаяна с Россией.
Наличность этой, основанной на данных опыта и проверенных цифрах, работы должна бы исключить на будущее время возможность повторения таких фантастических проектов наших некоторых кустарных колонизаторов, как генеральный штаб военного министерства, который предлагал как-то, кажется, в 1907 году запретить переселение в Сибирь, разрешая его только в Приамурье, дабы ускоренным темпом уплотнить здесь русское население. Что-то в этом роде писал и бывший петербургский градоначальник Клейгельс, записка которого по переселенческому делу, поданная им прямо Государю, пройдя различные высшие инстанции, была передана на мое заключение, как начальника дальневосточного отделения; я испросил через ЕВ. Глинку разрешение министра принять его безграмотное произведение к архивному делу, дабы не терять непроизводительно время на его критику. Теперь добытые знания и опыт могут быть снова надолго потеряны, возможность появления фантастических предположений о колонизации наших окраин не исключается и труд С. П. Шликевича надо рекомендовать в первую голову всякому, кто хочет подойти к нашей дальневосточной проблеме.
Кроме этой основной работы Шликевич собрал и систематизировал материалы о нашем пушном промысле и торговом.
Другую фундаментальную и первостепенную научно-фантастического значения работу по земледелию представил труд переселенческого агронома Крюкова. Сведения о годных для землепашества районах Забайкальской, Амурской и Приамурской областей, их географическое и естественно-историческое описание, были разбросаны в многочисленных, большей частью не печатных, отчетах различных «производителей работ» переселенческого ведомства и других специалистов. Систематизировать, обработать весь имеющийся материал, дополнив его новыми данными, полученными партиями экспедиции, и было поручено Крюкову. Его труд, около 500 печатных страниц, надо рассматривать как настольную книгу по земледельческой колонизации Приамурья. Пригодный для землепашества запас земель в названных трех областях был исчислен, на основании точных данных, в несколько миллионов десятин (кажется, до трех) и то при условии производства, конечно, некоторых мелиораций, преимущественно гидротехнических, но ни в каком случае не в несколько десятков миллионов, как хотелось бы некоторым мечтателям, думавшим, что употреблением русского крестьянского населения разрешается сложный вопрос о борьбе нашей с желтой опасностью; поэтому уплотнению ставился предел естественными условиями края: 200 000 душ м.п. русского крестьянства на громадной территории нашего громадного Д. Востока (считая до 15 дес. на душу) не могли быть оплотом против миллионов китайских переселенцев, которых могла принять Маньчжурия. Снова становилось ясно, а для нас просто подтверждалось, что для удержания Приамурья требуется ряд смелых широких колонизационных мер, а не одна земледельческая его колонизация, т. е. нужна правильная работа всех, а не одного Переселенческого Управления. Что было нужно самое главное в этом отношении — об этом ниже. Интересно только отметить, что разнообразные труды Амурской экспедиции, языком опыта и цифр различных авторов, неизбежно приводили к одному заключению, к одинаковым выводам.
Параллельно с изучением новых районов в экспедиции, шло подробное изучение существенных переселенческих и старожилых поселений.
Амурская и Приамурская области были в этом отношении обследованы подробно по весьма широкой программе особой статистической партией. Во главе партии стоял известный русский статистик С. П. Швецов, социалист по его партийной принадлежности. Партийность, когда приходится работать над живым делом научными методами, никогда не отразится отрицательно, по моему глубокому убеждению и опыту, на результатах работы. В нашей Думе и в прессе партийность вырождалась в политиканство, в антигосударственные и антиобщественные тактические приемы, в действительно же рабочей среде, надлежащим образом руководимой, партийность побеждается интересом и целями работы. Я вспоминаю, как такой глубокий консерватор, каким был бывший иркутский генерал-губернатор Селиванов, герой Перемышля и единственный, кажется, генерал, отказавшийся присягнуть временному правительству в 1917 году, отстоял нашего энергичного руководителя переселенческим делом в Забайкальской области Д. М. Головачева. Департамент полиции требовал его удаления с государственной службы; после долгих безуспешных препирательств Г. В. Глинки, дорожившего работой Головачева, его спас Селиванов, заявивший, что он берет на свою личную ответственность наблюдение за Головачевым. Старорежимная бюрократия умела извлекать деловые выгоды из опыта и знаний всех, кто хотел и умел работать, как Петр Великий, по недостатку интеллигентных сил, пользовался в Сибири услугами, сосланных туда преступников, требуя от них административной работы на пользу края. Старое правительство никогда не могло бы дойти до такого безумия, как наши временные правители, гнавшие массами опытных судей, даже офицеров, при заведомом их недостатке и отсутствии равноценных заместителей. Отдельные случаи ухода из России некоторых ученых по причинам политическим, обращали на себя внимание прессы, о них кричали, как о признаке мракобесия, но отдельный случай не есть правило, это не равносильно тому разгрому, который производится в России с 1917 года.
Я высказал это, чтобы оправдать перед сомневающимися совершенно сознательное приглашение нами, т. е. Гондатти и мною заведомого социалиста Швецова в состав экспедиции. По возвращении в Петербург он был арестован, впрочем, кажется, не надолго, но ценные научно-статистические обследования, произведенные его партией в Приамурье, в значении и в качестве их от этого нисколько не пострадали. Все пять (кажется) больших печатных томов этого обследования всеми своими цифрами и выводами подтверждали блестящее прочное положение крестьянского сельского хозяйства на Дальнем Востоке и опровергали излюбленные нашей левой прессой ламентации по поводу жалкой судьбы переселенца.
Отдельно велось в экспедиции обследование животноводства. Работало два специалиста Лемперт и Чупаев. Они дали ценные указания на пути и способы улучшения скота и лошадей в Приамурье.
Наконец, надо еще сказать, что экспедицией собран был большой материал о ходе китайской колонизации в соседней с нами Маньчжурии и по вопросу о распространении на Приамурье земского самоуправления.
По первому вопросу работал представитель иностранных дел В. В. Граве, приятный, корректный, как все наши дипломаты, молодой человек, с которым быстро установились хорошие, почти дружеские отношения, но, вопреки качествам многих наших дипломатов, относившийся с большой серьезностью к порученному ему делу. Он объехал верхом многие китайские поселения в Маньчжурии и дал интересный обзор мер китайского правительства по заселению пустующих земель. Должен попутно сказать, что земледельческий класс Китая, так мало известный русским людям, производил на меня всегда, при посещении китайских деревень, по его работоспособности, кротости и нравственным устоям самое хорошее впечатление. Европа много приобретет когда-то, может быть и в недалеком будущем, от сближения с настоящим китайским населением, а не его, конечно, отбросами, которые теперь служат большевикам. Как высоко ценится нравственная личность в Китае сама по себе, независимо от ее скромного общественного положения, я сужу уже по надписи на одном памятнике, перевод которой я получил, кажется, от В. В. Граве. Памятник был поставлен по повелению императора в честь женщины, которая, отказавшись от личного счастья — от замужества, всю свою жизнь посвятила воспитанию многочисленных своих малолетних братьев и сестер, поставила их на ноги, вывела в люди. Надпись эта содержала подробное трогательное описание жизни женщины, исполнившей свой долг самопожертвования.
Вопрос введения в Приамурье земства натыкался всегда в своем разрешении на то нелепое заблуждение, которое, как и масса других ошибочных выводов о русской жизни вообще, покоилось на пристрастии наших ученых, публицистов, а за ними и правителей, к так называемым средним цифрам. Делят различные цифровые данные на всю площадь России и приходят в ужас, как относительно мало развита у нас сеть железных дорог по сравнению с Европой, даже каким-нибудь балканским государством и т. п.; как будто бы живая часть России и ее необъятные тундры и леса — одно и то же. То же, чисто механическое деление численности населения и его подоходной платежеспособности на громадные пространства дальневосточных областей приводило к сомнениям, как же справится земство с такими пространствами, какими материальными средствами и личным составом обслужить ему, например, 37 миллионов десятин земли Амурской области. А, между тем, заселенная земледельцами часть этой области, два-три громадных уезда, по плотности населения, так же, как и значительная часть Уссурийского края, не уступали такой старо-земской крестьянской губернии, как Вятская.
Член экспедиции В. А. Закревский объехал почти все волосные правления Приамурья и на местах собрал и систематизировал все подготовительные для введения земства данные о сельских сборах и повинностях. Его материалы, снабженные решительными доводами в пользу земского самоуправления в Приамурье, составили большой печатный том в несколько сот страниц.
Очень характерны для нашего старого времени условия, в которых кончал в Петербурге обработку своих материалов этот чиновник, далекий мне по некоторым личным свойствам, но глубоко уважаемый по честному исполнению своего долга. Мы жили с ним, во время печатания трудов экспедиции, в одной гостинице, так как столичную квартиру свою я, вследствие продолжительности командировки, оставил. Перед обедом или вечером Закревский заходил в мой номер рассказать, как подвигается его работа. Иногда я звал его пообедать или поужинать вместе, но он отказывался, говоря, что зван к знакомым. Я обратил внимание, что с каждым днем Закревский становится все худее и бледнее. На мои расспросы о здоровье он отвечал, что устает от работы. В конце-концов выяснилось, что попросту Закревский голодал. Секретарь экспедиции Ф. В. Болтунов узнал случайно, что Закревский обедал очень редко и ел, обычно, один раз в день горшочек простокваши за 10 копеек. Содержание по экспедиции дополнительное к основному, было прекращено для Закревского с первого, кажется, мая, работа же его затянулась еще на несколько месяцев, на жалование его, как непременного члена губернского присутствия, проживала в Сибири его семья и ему в Петербурге можно было существовать только при крайней экономии. Бросить работу не закончив или скомкав ее, не проследив самому за корректурами, Закревский не хотел и предпочитал жить впроголодь. Я испросил ему из запасных средств пособие, но знаю, что не будь этого — он все равно доделал бы свою работу до конца.
Все полезные работы экспедиции, как я упоминал выше, сопровождались в новых районах производством военно-топографических работ. Неудачный выбор руководителя ими не повлиял на ход работ так как почти все офицеры-топографы, во главе со старшим из них, милейшим полковником Ладновым, в высшей степени добросовестно и с интересом относились к работе; помимо новой съемки, топографической партией был дан систематизированный список всех имеющихся в крае астрономических пунктов. Один штаб-офицер, фамилии которого я, к сожалению не помню, погиб от выстрела какого-то хулигана в самом начале полевых работ.
О работе моей с офицерами военно-топографического корпуса я всегда вспоминаю с чувством живой благодарности и искренней теплоты.
Перехожу, в заключении, к моей личной работе. Я уже говорил, что я был назначен управляющим делами экспедиции, т. е. на мне лежала, прежде всего, чисто канцелярская работа: разассигнование средств, распределение личного состава, проверка денежной отчетности, затем общее редактирование большинства печатных трудов экспедиции и составление единого сводного отчета с общими выводами и колонизационным планом. Вся моя канцелярия состояла из одного секретаря, Ф. В. Болтунова, чрезвычайно старательного, необразованного, но от природы очень неглупого, способного чиновника, требовавшего, однако, бдительного над ним надзора, во избежании вольных и невольных с его стороны ошибок; для переписки имелась одна, порою две машинистки; для отправки почты — пьяница сторож-сибиряк, который очень обижался, когда я его упрекал за нетрезвый вид, и категорически заявлял мне, что он уже потому не может пить, что ему давно это запрещено докторами. Вот и все — все наши канцелярские силы. Ясно, что работы было по горло. Гондатти очень внимательно относился к делу; ежедневно посещал канцелярию (зимой, когда все мы вернулись с полевых работ), лично проверял денежные книги и т. п. Какую канцелярию при масштабе работ экспедиции развело бы новое правительство России, можно себе легко вообразить!
Всякие формальности, особенно контрольные, были доведены мною до минимума, что легко было сделать при таком, далеком от формализма, начальнике, как Гондатти. Ревизуя денежную отчетность я руководствовался степенью возможного доверия к данному лицу. Например, когда Болтунов обратил мое внимание на подозрительность больших расходов одного землемера, представлявшего внешне блестящую отчетность, так любимую нашим государственным контролем, я, несмотря на то, что стоимость купленной и проданной им партии лошадей подтверждалась даже нотариально засвидетельствованными документами, попросил Б. переговорить сначала частным образом с землемером, предложив ему сократить все расходные документы в два раза, а при отказе исполнить это — пригласить ко мне. Предложение мое было исполнено беспрекословно и нотариальные документы исчезли, а были даны обыкновенные расписки, соответствующие ценам других однородных агентов экспедиции. Отсутствие формализма дало возможность секретарю экспедиции составить обстоятельный финансовый отчет, в котором точно была исчислена стоимость единицы каждой отдельной нашей операции. Отчетность наша и финансовый отчет Болтунова не вызывали никаких замечаний со стороны государственного контроля.
Так как кроме обязанностей управляющего делами, я одновременно являлся в экспедиции и представителем Главного Управления Землеустройства, то я объезжал работы различных наших полевых партий, а кроме того, по соглашению с Гондатти, выполнил два чрезвычайно интересных поручения: 1) обследование нужд района г. Николаевска в устье Амура, как конечного пункта влияния амурской железной дороги, от последней станции которой — г. Хабаровска было всего около 800 верст водного пути до выхода Амура в Татарский пролив, а отсюда в Тихий океан и 2) окончательное установление пунктов на линии железнодорожной магистрали, где можно было рассчитывать прочное устройство торгово-промысловых, городского типа, поселков.
Обе эти работы в колонизационном и бытовом отношении настолько интересны, что я остановлюсь на них несколько подробнее.
Вопрос о том, имеет ли выход река Амур в открытое море или нет, являлся краеугольным в деле решения Императора Николая I закрепить русский флаг на этой окраине. Ряд ученых экспедиций давал отрицательный ответ на вопрос об устье Амура. Последняя, особо авторитетная в ученом отношении, академически-немецкая экспедиция, категорически заявила, что Сахалин полуостров, что Амуру нет выхода в океан. Николай I на докладе экспедиции положил простую, но высоко проникновенную резолюцию: «не верю». Чутьем каким-то император угадывал то простое, чего не могли понять ученые. Их ошибки объяснялись просто: Амур, т. е. его фарватер так извилист, узок и сравнительно мелок в устье, что только после тщательного изучения удалось составить его так, чтобы суда не застревали на мели; лиман Амура это какое-то громадное мелкое озеро; первое впечатление — продолжение материка до Сахалина. Проявился великий фанатик Амурской идеи — капитан Невельский; он всю свою жизнь отдал поискам выхода из Амура и присоединению Приамурья к России, стремление к чему длилось сотни лет в лице наших казаков, продолжателей дела Ермака, во главе с знаменитым Ерофеем Павловичем Хабаровым. Правительство Николая I не сочувствовало планам Невельского; его поддерживал только Царь, который писал ему: «действуй смело, я стараюсь защитить тебя перед министрами». Невельский доказывал, что обладание устьем Амура дает выход России в Тихий океан, т. е. на ту мировую арену, где страдающая от тесноты Европа будет решать судьбы своих великих держав; великодержавная миссия России требовала безусловно обладания нашего Приамурьем. Невельский самовольно, если не считать нравственной поддержки его Николаем I, водрузил русский флаг в устье Амура и основал город Николаевск. За это ему поставлен памятник во Владивостоке, но при жизни он подвергся служебным преследованиям, от которых его не мог оградить даже Самодержец. Правительство, не имея чутья на будущее, считало, что Николай I вовлекся на путь авантюр, могущих вызвать политические осложнения. В делах Д. Востока наше правительство, к сожалению, систематически отличалось глубоким невежеством, значение которого смягчалось инициативой и энергией только отдельных лиц; во главе их стоит император Николай I и исполнители его заветного желания: капитан Невельский, защитники проводник мысли о государственном значении для нас Приамурской окраины, а затем граф Муравьев-Амурский, первый устроитель и колонизатор Приамурья, и граф Н. П. Игнатьев, дипломатический мирный завоеватель Уссурийского края.
Итак весь смысл, все оправдание наших усилий занять устье Амура заключалось в глазах Николая I в том, что эта река могла нам дать выход в океан.
Что же пришлось нам увидеть на месте? Какое претворение идей царя?
Обмелевший приморский фарватер Амура, затруднявший вход в его устье мало-мальски крупным судам, которые при дальнейшей глубине реки могли бы без перегрузки доходить до самого Хабаровска, т. е. на 800 верст вглубь материка. Редчайшее качество речного пути! Изыскания на производство работ по углублению Амурского бара были произведены инженером Чубинским и др., но денег на их осуществление не находилось. Мало того, военное ведомство в этом богатейшем промышленном районе, где завязывалось наше экономическое состязание с японцами, решило создать, по чисто теоретическим соображениям, крепость. Начались различные стеснения, обычные для укрепляемого района. Суда могли проходить через него только в определенное время дня, некоторые участки запрещалось отводить под поселения, опротестовывались предложения переселенческого ведомства о проведении той или иной грунтовой дороги от крестьянских промысловых участков к городу, да и вообще вглубь материка. Одним словом, военное ведомство придерживалось такой линии поведения, что казалось будто бы мы заняли Амур с специальными целями решать различные стратегические задачи, а не для политическо-экономической эксплуатации всех тех выгод, которые давало нам обладание рекой. Колонизаторы говорили о необходимости улучшить, развить сообщение Приамурья с океаном, а генеральный штаб, поглощенный решением безжизненных теоретических задач, в ожидании какого-то неведомого врага, изыскивая способы, как бы получше заградить вход в Приамурье со стороны моря. Помню, что Гондатти, будучи уже генерал-губернатором, остро спорил с приехавшим на Д. Восток военным министром Сухомлиновым по этому вопросу. Спор закончился фразой Г., сказанной министру, уже сидевшему в вагоне отходящего поезда: «Ваше Высокопревосходительство имеете передо мною только одно преимущество: то, что Вы первым будете говорить с Государем Императором». И действительно, в конце-концов, колонизационно-государственная точка зрения победила: нелепый и вредный проект военного укрепления устья Амура был оставлен.
Однако во время изучения мною положения и нужд Николаевского района, спорный вопрос стоял во всей его остроте.
Плохо обстояло дело и с другими отраслями нашей колонизационной политики на этой окраине.
Развитие русской рыбопромышленности, сделавшей к тому времени уже громадные успехи, не соответствовало мощности наших промыслов. Я не могу останавливаться на их подробном описании; скажу только, что не бывшему на этих промыслах трудно себе даже вообразить всю их громадность: ход кеты представляет из себя потрясающую картину. Один местный старожил в своем обращении к экспедиции метко напомнил нам, что из-за промыслов меньшей емкости происходили не раз мировые войны. Ведомство землеустройства имело удовлетворительный надзор за правильностью производства промысла; заблаговременно поставило на научную почву изучение жизни кеты, устроило завод искусственного ее разведения для пополнения запасов, так как другим государствам были уже известны случаи внезапного истощения даже богатых запасов, без правильных мер предосторожности и т. д. Наши рыбопромышленники проявляли большую инициативу и энергию; способы лова совершенствовались, начали появляться рефрижераторы — для хранения запасов рыбы в замороженном виде, начиналось консервное дело. Во всяком случае приемы работы русских предпринимателей и японцев, получивших после войны право на участие в эксплуатации наших промыслов, отличались как небо от земли; грязный, небрежный, с пользованием низших сортов соли, засол кеты японцами не давал им возможность даже мечтать о заграничном экспорте. Русская же кета пробила себе путь в Европу, в особенности на рынки Лондона. Но культурной работе одного нашего ведомства и энергии промышленников было недостаточно. Требовалось, чтобы и в прочих частях управления дело было согласовано с реальными насущными его нуждами. Между тем, другие ведомства или бездействовали, или вредили. Промышленности нашей нужен был кредит; а в Николаевске ведомство финансов упорно не желало открыть отделение Государственного Банка, хотя бы на время промысловых работ; русские промышленники находились в зависимости, главным образом, от японского кредита, что упрочивало влияние у нас Японии. Железнодорожные тарифы на экспорт рыбы были таковы, что делали невыгодным вывоз ее в Европейскую Россию; не хватало хорошей соли; административный центр района — г. Николаевск, в который стекались на время промыслов массы пришлых рабочих, где находились конторы предприятия, в административно-судебном отношении был совершенно не устроен: на северной половине Сахалина имелся ненужный там губернатор, в Николаевске же малочисленная полиция не справлялась даже с мелким текущим своим делом; в пустынной Камчатке учреждался преждевременно окружной суд, а в Николаевске не было даже отдельного товарища прокурора; в случае надобности он вызывался из Владивостока — около недели пути и т. д., и т. д. Колонизационного плана не было, была разрозненная деятельность ведомств, ибо побережье рассматривалось не как колония величайшей ценности и значения, а как обыкновенный захолустный уезд.
Все, что я видел, наблюдал, объезжая Амурский лиман и Охотское побережье, я запечатлел в своем специальном отчете «о нуждах Николаевского района Приморской области», составившем особый печатный труд экспедиции.
Между прочим, в моем отчете мне пришлось коснуться еврейского вопроса — это и послужило главным основанием недовольства мною.
Я знаю, какие острые споры возбуждает всегда этот вопрос, как трудно говорить о нем, в особенности теперь, когда русское общество справедливо раздражено современным еврейским засильем в России. И тем не менее, я не имею ни причин, ни нравственного права отказываться от того, что писал в 1911 году.
Колониальная наша политика, как везде и всюду, для ее успеха не может строиться на узко-национальных началах; она должна, по моему глубокому убеждению, идти путями американскими. Всякий полезный работник, будь это эллин или иудей, должен быть использован колонией, в особенности же такой, как наше Приамурье, где, с одной стороны, быстрое массовое заселение края недостижимо, в виду наличности ближайших к метрополии богатых запасов земли в Западной Сибири и т. п., а с другой стороны — наши соседи Китай и Япония, находясь, находясь географически в более благоприятном положении по сравнению с нами, легче могут укреплять свое политическое и экономическое влияние в пустующих районах. Отсюда была ясна для меня необходимость закрепления русского влияния на Дальнем Востоке по признакам подданства, хотя бы даже поселением тех же желтых, например, корейцев, не говоря уже, конечно, о евреях и при помощи иностранных капиталов безвредных нам держав, в первую очередь, конечно, американских. Это мой колонизационный «символ веры», от которого я никогда не отступал и не отступлю.
Между тем, общеуездная, а не колонизационная политика нашего ведомства внутренних дел сделала то, что как раз в бытность мою в Николаевске на Амуре здесь был получен общий циркуляр о переселении евреев к местам их приписки. Министерство колонии, без сомнения, такого циркуляра никогда не издало бы, так как оно знало бы, что видел я на месте, а именно, что главную массу рыбопромышленников Охотского побережья составляли евреи — преимущественно совершенно обрусевшие, и незнающие даже жаргона, потомки ссыльно-поселенцев; что с ними, с их работой связывались интересы десятков тысяч русских рабочих, что их места неизбежно должны были занять иностранцы-японцы; что местом приписки их являлись почти для всех другие города той же дальневосточной окраины, почему, например, на место еврея, проживающего в Николаевске, прибыл бы еврей из Благовещенска и наоборот, но стой только разницей, что вновь прибывший и уехавший были бы оторваны от привычной, полезной для нашей окраины, работы. Я резко по телеграфу опротестовал полученный циркуляр перед генерал-губернатором, который на свою ответственность приостановил его действие.
Все изложенное побудило меня высказаться в своем отчете за предоставление евреям г. Николаевска равноправия в местном городском управлении, а некоторым органам печати дало повод подозревать меня в подкупности.
Другая работа по устройству городских поселков на линии Амурской железной дороги дала мне большое нравственное удовлетворение, так как результаты моего участия в ней я имел счастье видеть собственными глазами, что удается в жизни редко. Впрочем, должен сказать, что многие из предположений по Николаевскому району были также осуществлены по настояниям дальневосточного совещания: отброшены стратегические упражнения военного ведомства, даны средства на углубление Амурского бара, упразднено Сахалинское губернаторство и учреждено Николаевское, пересмотрены железнодорожные тарифы на экспорт дальневосточной рыбы.
В первое же лето работ экспедиции на линию Амурской железной дороги был командирован энергичный переселенческий чиновник Приморской области А. К. Григорьев с партией землемеров, которому было поручено описать и произвести съемку всех поселений и удобных для них мест при будущих крупных станциях дороги: при депо, пересечении железнодорожной магистралью больших рек, приисковых шоссе и т. п.
Затем, руководствуясь сделанным описанием поселков, я совершил их объезд, с целью зафиксировать те из них, которые обещали прочное развитие и выработать отвечающие местным условиям правила отвода поселянам усадебных участков.
Поездка моя сопровождалась многими интересными приключениями, встречами, впечатлениями.
Ехать приходилось по отвратительным проселочным дорогам или по служебной времянке, наскоро устроенной, с глинистым грунтом, с гатями через обширные болота.
Весь путь находился как бы на военном положении: постройка большой дороги привлекла не только местных, но даже иностранных разбойников-грабителей, например, из Кавказа и из Турции. Грабежи и убийства были постоянным явлением. В одном поселке я обратил внимание на массу столовых; что ни изба, то вывеска — «столовая», «отпускаются обеды» и т. п. Столовых было, вероятно, столько же, сколько и семей, проживавших у станции; везде восточные физиономии. Ясно было, что содержание столовой это только ярлык для легального права проживания. По сношении с губернатором был произведен арест всех рестораторов, и я в их компании ехал до Читы, откуда они последовали к себе на юг, на далекую родину. Ночевать часто приходилось под открытым небом в повозке, но ямщики в таких случаях отъезжали очень далеко от магистрали, в сторону.
Первый поселок был как раз в том диком месте, где за два года перед этим я с Иваницким видел подготовительные к постройке дороги работы.
Он был назван по имени железнодорожной станции «Ерофей Павлович» в честь Хабарова, фамилию которого носит конечный пункт Амурской железной дороги — г. Хабаровск.
Странное ощущение, понятное только людям увлеченным колонизационной работой, владело мною, когда я обедал в этом поселке в ресторане под звук небольшого оркестра и биллиардных шаров в соседней комнате. Матери, вероятно, испытывают подобное чувство, следя за подрастанием своих детей.
Всего прочных торгово-промысловых поселков по линии Амурской дороги возникло до 30; благодаря заблаговременным межевым работам экспедиции удалось предупредить их обычно хаотическое, беспорядочное заселение.
Наиболее интересный пункт представила из себя упоминавшаяся иною знаменитая «Суражевка», с одной душой обоего пола: пересечение здесь железнодорожной магистралью мощной реки Зеи, впадавшей в Амур у г. Благовещенска, то обстоятельство, что именно от Благовещенска Амур полноводен, экономическое тяготение к этому пункту приисковых районов — все это указывало на возможность создания здесь крупного городского центра. Поэтому, Гондатти и я посетили Суражевку в самом начале полевых работ. Шел дождь, мы с трудом по липкой глине обходили неудачный переселенческий участок и я живо помню, как Гондатти, уйдя вперед, начал звать меня: «идите скорее сюда, какой дивный вид на Зею; этот лесок обязательно надо сохранить для городского парка». Я охотно поспешил к Гондатти, но так увяз в глине, что кучерам пришлось меня вытаскивать. Распланировку будущего города решено было произвести согласно позднейшим научным данным: улицы шли от торгового центра города радиусами; были сохранены, конечно, все насаждения, необходимые для будущих скверов. Переселенцы-сураженцы, приехавшие сюда по совету своего земляка-пионера, получили усадьбы, но полевые земли им были отведены наново, в другом месте.
Через год я снова был в Суражевке; на месте пустыни и грязи я увидел уже магазины, парикмахерские, кинематографы. Пьяные суражевцы сдавали свои усадьбы по баснословно высоким ценам в аренду; они стали жертвой неожиданного для них благополучия, но нарождалась, вместо землепашества, новая городская торгово-промышленная жизнь.
К следующей зиме был одобрен составленный мною проект льготной продажи усадебных участков на Суражевском переселенческом участке, и через год здесь был уже довольно оживленный уездный город, получивший, с высочайшего соизволения, в честь Наследника Цесаревича, название «Алексеевск», а во время смуты, отнявшей у российских граждан все свободы, переименованный в «Свободск».
Описание всех железнодорожных поселков вошло в общий сводный отчет экспедиции и в составленные А. К. Григорьевым и дополнительно мною специальные очерки, причем очерк Григорьева появился в печати, а мой остался в рукописи.
Все печатные труды Амурской экспедиции составили свыше двадцати пяти больших томов, не считая различных карт и чертежей, на издание которых не хватило средств. Ценный картографический материал хранился (цел ли теперь?) в музее Управления водных путей Амурского бассейна. Гондатти, получив назначение на должность генерал-губернатора, срочно уехал из Петербурга, не успев даже прочесть общий сводный отчет; подпись его на нем я получил по телеграфу. Мне же пришлось представить все печатные труды экспедиции Председателю Совета Министров и доложить ему подробно о результатах и выводах наших работ. Это был единственный случай, когда я долго разговаривал с покойным П. А. Столыпиным, оставившим во мне большое впечатление. Принят я был около пяти часов вечера. Я боялся, что утомленный очень большим в тот день приемом самых разнообразных провинциальных деятелей, Столыпин отнесется недостаточно внимательно к моему специальному докладу. Я был поражен бодрым видом Столыпина, хотя он за весь день, по словам дежурного чиновника, ни одной минуты не отдыхал и стоя раз только перекусил. Столыпин внимательно прочел подробное оглавление всех трудов Амурской экспедиции. Читая, он задавал ряд вопросов, требовал подробных объяснений. Особенно заинтересовался работой агронома Крюкова о земельных запасах Приамурья, и вообще сразу было видно, что главные колонизационные надежды он возлагал на наше крестьянство. Он правильно учитывал значение крестьянского переселения, как единственного способа массового заселения русскими людьми пустующих окраин. Но, как я уже говорил выше, такой взгляд был односторонен, не осуществим по естественно-экономическим причинам, т. е. не осуществим в тех, конечно, размерах, которые давали бы нам уверенность в прочном удержании Приамурья под нашим влиянием. Угадывая, по вопросам Столыпина, его заблуждение в оценке этого дела, которое так широко было тогда распространено в наших правительственных кругах, я искал случая, чтобы высказать свои соображения. Повод к этому подал сам Столыпин, в свою очередь, видимо, догадавшийся, что моя точка зрения — иная. «Ну, вот Вы близко ознакомились с нуждами нашего Дальнего Востока, скажите же мне, что, по вашему мнению, самое главное для того, чтобы нам сохранить этот край за Россией». Я ответил: «самое главное это — правильная внешняя политика». Столыпину мой ответ был не по душе; он живо, с легкой даже резкостью, возразил мне: «я совершенно с вами не согласен, прежде всего надо уплотнять в Приамурье русское население, и этого можно достигнуть только переселением землепашцев — это самое главное». Я, задетый за больное место, встретив возражения против того, что составляло мое глубоко-продуманное убеждение, понимая какое практическое значение имело бы перевести главу правительства на правильный широкий колонизационный путь, начал горячо возражать, доказывать, что земледельческое переселение — это только одно из звеньев общего колонизационного плана, важнейшее, но не самое главное, ибо, пока мы поселим в Приамурье каких-нибудь двести тысяч крестьян, могут произойти такие мировые события, при которых, без политического союза с нашими желтыми соседями и тесной экономической связи с Америкой, мы не справимся с нашей исторической миссией на Д. Востоке. Столыпин задумался и потом уже приветливо сказал буквально следующее: «я получаю отпуск на два месяца; я даю вам слово, что все это свободное время мною будет отдано изучению трудов Амурской экспедиции, и тогда, я надеюсь, у меня будет окончательное представление об этом важном государственном деле».
Я слышал от лиц, близко знавших покойного нашего премьера, от массы лиц, говоривших с ним о различных местных делах, что он чрезвычайно добросовестно изучал всякое дело и никогда не действовал по дилетантски, как, например, его заместитель по должности министра внутренних дел Маклаков; он решительно не мог бы, подобно последнему, не знать, что нет железнодорожного пути от Камчатки до Петербурга. Я был уверен, что Столыпин свое слово сдержит — это был человек, которому нельзя было не верить, даже при мимолетном знакомстве с ним. В каждом слове Столыпина выражалась искренность, нравственная порядочность и воля; такое впечатление он производил на всех; мои и других моих сослуживцев наблюдения заставляли нас, однако, признавать, что по силе и, главное, гибкости ума, он, быть может, уступал некоторым нашим крупным деятелям, например, Витте, но отсюда еще весьма и весьма далеко до такой характеристики Столыпина, которую ему дал Витте в своих мемуарах, характеристике, унизившей зря автора мемуаров, а не того, кого он хотел унизить из явного чувства какой-то мелкой ревнивой зависти. Тем не менее, заговорив об этих мемуарах, я не могу удержаться от совета всем, кто заинтересовался бы дальневосточным вопросом, прочесть посвященные ему, глубоко государственные соображения Витте.
Я ушел от Столыпина, окрыленный надеждами на успех наших начинаний на Дальнем востоке. Эти надежды мне были тем более дороги, что в нашем ведомстве и в канцелярии дальневосточного совещания я встретил не то отношение к нашей работе, на которое мог рассчитывать. Г. В. Глинка был завален текущими переселенческими делами, его внимание не могло быть сосредоточено специально на делах Дальнего Востока; кроме того, думаю, большое значение в его отношениях к трудам экспедиции имели указанные мною выше особенности его, как фанатичного «мужикофила». Эти труды были для него слишком, так сказать, учены. Помню, как он возмущался нашими обследованиями животноводства. Чукаев привез в Петербург скотский навоз из различных регионов Приамурья для анализа в лаборатории и определения таким образом качества местных кормов. Глинка почти кричал на меня: «что вы делаете, как вы допускаете это безобразие; ведь все это стоит денег, ведь поймите же вы, что денежки все крестьянские, мужицкие и, вдруг, их тратят на баранье г-о». Такие сцены происходили и по поводу некоторых других наших изысканий. Печатные труды было поручено читать некоторым сотрудникам Глинки. Резкие отзывы о неправильной постановке дела на приисках Государя Императора и т. п., в особенности мои соображения по еврейскому вопросу — все это не было понято как следует.
Что касается дальневосточного совещания, то оно не было Министерством колоний, специальным ведомством; в состав его входили чиновники, занятые другими текущими сложными вопросами, они могли уделять колонизационной работе только часть, притом небольшую, своего служебного времени. В частности, для представителей финансовых ведомств широкие предположения Амурской экспедиции были мало приятны по неизбежности производства больших расходов в случае их осуществления.
Труды экспедиции были разосланы не только в различные казенные общественные библиотеки, но и главнейшим органам печати, т. е. представлены, так сказать, и на суд общественного мнения.
Как же относилась пресса к нашей серьезной государственной работе? Во всяком случае, хуже, чем правительственные круги; из последних все-таки многие заинтересовались некоторыми из возбужденных нами вопросов, заметная часть их, как упоминалось мною выше, с некоторыми трениями, получила все-таки разрешение, наша же пресса, в лучшем случае, попросту замалчивала в общем работы экспедиции, в худшем — лгала, кроме, конечно, дальневосточной печати, которой близки были нужды края. Такой серьезный «профессорский» орган, как «Русские ведомости», только во имя оппозиции правительству, унизился до вредной лжи еще в самом начале работы экспедиции; он писал, что целью экспедиции является насаждение дворянского землевладения в Приамурье; так ученые корреспонденты понимали наши намерения дополнить крестьянскую колонизацию торгово-промышленной. Газетами было подхвачено только мое мнение о евреях; об этом писали много, правые — понося меня, левые — восхваляя. Все остальное, исключительно до великих заветов нам Николая I, Невельского и гр. Муравьева, признавалось, очевидно, второстепенным, ненужным.
Я уехал в 1911 году в Хабаровск с одной надеждой на то, что Столыпин поймет все и поможет.
По дороге в вагоне я узнал из газет о покушении на жизнь Столыпина; подъезжая к Харбину, я прочел, что опасность для его жизни миновала. В Харбине, где я остановился на день, парикмахер еврей брил меня и с большим чувством произнес: «какое несчастье, потерять такую силу как Столыпин». Я ему на это возразил, что по газетным сведениям опасности уже нет. «Ну, что же вы говорите, он уже умер!» патетически воскликнул еврей.
Надежды мои рушились. Гондатти был тоже опечален. Мы знали уже, что заместителем Столыпина будет В. Н. Коковцов. Последний по уму и честности мог бы представить гордость любого правительственного кабинета Европы. Наши гимназисты зубрили и зубрили об Аристиде, как об идеале честности хранителя государственной казны. Немногие из них, вероятно, слышали от своих наставников, что мы имеем своего Аристида — нашего современника, который за 40 или 50 лет службы, дважды занимая пост министра финансов величайшей в мире империи, на черный день имел лишь весьма скромные сбережения, да, кажется те 200 000 рублей, которые пожертвовал ему Царь за его длительную ответственную работу на пользу государства. Но наш Аристид слишком долго хранил и накоплял государственные средства, слишком боялся их растраты и в силу многолетней привычки сделался скуп в такой мере, которая закрывала перед нами надежды на сколько-нибудь широкие колонизационные перспективы.
Я продолжал работать, но веры в успех работы было уже мало. В это же время я случайно навлек несправедливое недовольство мною главноуправляющего землеустройством А. В. Кривошеина. У него явилась мысль устройства в Приамурье казенных лесных заводов; не знаю кем именно эта мысль была внушена покойному министру, но, как говорили мне потом, он сам будто бы был инициатором указанной меры; в таком случае, приходится признать, что даже люди с очень большим практическим чутьем, каким, несомненно, обладал Коковцов, могут впадать в «маниловщину». Сущность предположения сводилась к тому, чтобы при помощи казенных лесных заводов проложить для частной лесопромышленности пути на иностранные рынки и дать переселенцам по дешевой цене срубы домов и различные их принадлежности: рамы, двери и т. п. План этот объяснялся малым знанием местных условий; в крае уже имелось несколько крупных лесных предприятий, которые экспортировали лес в Японию и Австралию, для которых казенные заводы явились бы только вредными конкурентами, а переселенцы не знали сами, как сбыть им лес своих участков, и, конечно, никаких изделий казенных заводов не стали бы покупать. В совещании по этому делу, созванном прибывшим из Петербурга вице-инспектором корпуса лесничих, таким формалистом, каким, к сожалению, по какой-то непонятной причине, является большинство наших лесных чинов, я очень резко высказался против этой лесной затеи; о том, что мы обсуждаем лишь вопрос, как осуществить приказ Министра — предупрежден я не был.
Доводы против проекта приводили, конечно, и все лесопромышленники, начавшие заваливать Петербург слезными телеграммами, в которых, по-видимому, судя по газетным сведениям, ссылались и на мое мнение.
В конце концов, я получил грозную телеграмму от Глинки, что министр предупреждает меня об увольнении меня со службы в случае, если я не буду содействовать устройству лесных заводов. Так как я не получал никаких поручений по этому делу, в технической стороне которого я ничего не понимал, то я отозвался полным непониманием данного мне приказания. Кстати сказать, через несколько месяцев Кривошеину пришлось отказаться от плана устройства казенной лесопромышленности.
Однако, я почувствовал обиду и непрочность своего положения, почему, не без огорчения, согласился на предложение Гондатти представить меня на должность вице-губернатора во Владивостоке. Назначение это, к моему счастью, не состоялось, по причинам, о которых не стоит распространяться; говорю я, «к счастью», так как мои чисто личные обстоятельства сложились так, что требовали моего присутствия в Европейской России.
Я получил продолжительный отпуск, а когда вернулся в Петербург, то был принят очень холодно А. В. Кривошеиным и как-то отчужденно Г. В. Глинкой. Тем не менее, я был назначен на высшую должность ревизора землеустройства в Западной Сибири. Это отрывало меня от дальневосточных дел, но особенного сожаления я не испытывал; фактически, со смертью Столыпина дальневосточное совещание перестало существовать. Бороться за его восстановление я не чувствовал в себе сил: все прошлое мое, моя подготовка к службе и неуравновешенность, не давали мне умения вести упорную многолетнюю борьбу за одно какое-нибудь дело; Невельские вообще в мире, а в особенности в России — редки. Я мирился с моим новым назначением, хотя и недоумевал, почему человеку, хорошо ознакомленному с Дальним Востоком надо поручать землеустроительные дела Западной Сибири; мирился потому, что должность ревизора давала мне много времени для чтения, ему не приходилось возиться с мелкими текущими делами, а, кроме того, была сопряжена с интересными поездками по Сибири.
Однажды, ко мне на дом пришел помощник Г. В. Глинки, уже не П. Н. Яхонтов, а другой — Г.Ч., с которым я был, в сравнительно далеких отношениях. Он начал разговор на тему о том, что ожидается освобождение вакансии второго помощника Глинки, что меня обходить, конечно, не желали бы, но что, мол, имеются сведения о моем нежелании оставлять должность ревизора. Откуда исходили такие сведения меня не интересовало; мне было ясно, что меня хотят в корректной форме обойти по службе, и, чтобы вывести поскорее Ч. Из затруднительно-наивного положения, я подтвердил «имевшиеся у него сведения». На должность второго помощника начальника переселенческого управления был назначен его ближайший сотрудник и приятель Г. Я понимал, что мне в Переселенческом управлении оставаться не следует; работать, когда не пользуешься доверием, мне всегда казалось невозможным. По счастью, в то же время мой бывший сослуживец по управлению водных путей С. П. Максимов, занимавший место помощника управляющего отделом земельных улучшений (т. е. по старой терминологии вице-директорское место), сообщил мне, что управляющий Отделом князь В. И. Масальский ищет себе второго помощника — юриста, и что, если я соглашусь, он будет, вероятно, рад пригласить меня на эту должность. А. В. Кривошеин, для которого при выборах сотрудников на первом месте всегда стояли интересы дела, одобрил выбор князя Масальского, несмотря на недавнее свое недовольство мною. Так как учреждение должности второго помощника еще не было одобрено в законодательном порядке, я вновь был назначен чиновником особых поручений при министре, а затем было испрошено соизволение Государя императора на предоставление мне вице-директорских полномочий.
В Отделе Земельных Улучшений я прослужил всего около полугода. Мне пришлось, главным образом, работать над сметными предположениями, а в остальное время подписывать кучу текущих мелких бумажек и ассигновок, чем я разгрузил для серьезной работы кн. Масальского. С последним у меня сразу же установились хорошие, корректные отношения; Масальский был довольно редким явлением на службе: не по примеру большинства поляков-чиновников, вел дело безупречно честно, был искренно предан ему. Дело было громадное по экономическому его значению и быстро, сравнительно, развивалось в тесном сотрудничестве с земствами; последние на мелиоративные работы получали от нашего отдела, кроме инструкторов, денежные пособия по такому разумному расчету: сколько ассигновало земство, столько и мы.
По какой-то странности судьбы, в Отделе Земельных Улучшений я вновь ненадолго встретился с законопроектом о пользовании силой падения воды, накануне внесения его в Государственную Думу, увы, перед началом уже великой войны. Я слишком недолго прослужил в отделе земельных улучшений, чтобы завязать более или менее близкие связи с его личным составом. Могу сказать одно, что и здесь я встретил обычный тип добросовестного, а частью и талантливого русского чиновника и инженера. Кроме выдающегося по своей научной подготовке С. П. Максимова, отмечу такого специалиста по водному праву, как Д. С. Флексор; некрещеный еврей, он своей работой в молодые годы достиг чина действительного статского советника и был прекрасный товарищ; одним из отделений ведал, перешедший со мною, мой бывший помощник по дальневосточному отделению Е. Е. Ковалевский, культурный во всех отношениях человек.
Отдел Земельных Улучшений был последним этапом моей мирной гражданской службы.
* * *
Мысленно я проследил различные периоды моей государственной службы. В моей памяти воскресал ряд близких, дорогих мне лиц, порою тяжелых по характеру, но всегда честных и горячо любящих родину деятелей, ряд пережитых деловых достижений, волнений и неприятностей.
Теперь можно уже подвести итоги всему описанному и подойти, к исполнению намерения быть совершенно искренним и правдивым, к самому тяжелому для моего нравственного «я» моменту, той смуты в душе, которая заставляет меня признать себя так же виновным в происшедшем в России государственном перевороте — по первоначальному сочувствию этому событию, как виновно в нем в той или иной степени, активно или пассивно, громадное большинство русской интеллигенции.
Сделанный мною обзор сравнительно небольшой части государственной работы, выполнявшейся в царствование Императора Николая II, той части, в которой мне пришлось принимать непосредственное участие, устанавливает с бесспорностью систематический, упорный ход вперед, как было и при предшественниках Николая II, подчинения частно-классовых интересов общегосударственным. В сущности, если глубже вдуматься в пережитый нами период истории, если отбросить различные споры, возникавшие на почве частностей и личных самолюбий, то русское общество, принимавшее участие в политической жизни страны, делилось на два лагеря: один, стоявший на точке зрения мирного прогресса, эволюции; другой — утопически — революционный, для которого всякие государственные улучшения являлись лишь средством социального переворота.
Реальный, неутопический лагерь резко враждовал внутри себя, расходясь в вопросах о сроках и способах эволюции; одни горячились, торопились, другие боялись катастрофы при слишком быстром ходе машины прогресса.
Эти раздоры, главным образом, не по содержанию их, не по существу дела, а по тактическим приемам борьбы, по антигосударственности этих приемов, привели к тому, что правительство и русское общество прозевали опасность великого разрушения государства фанатиками социализма; в той же сфере жизни, которой посвящены мои записки, раздоры сделали то, что для мало-мальски либерального человека считалось дурным тоном глубоко интересоваться, а тем более одобрять что-либо из делаемого казенными руками, правительственными органами. Так как критиковать всегда легче, чем творить, то весьма средние по способностям и знаниям земские деятели, адвокаты, профессора и т. п. пользовались в обществе незаслуженной популярностью, на них возлагались преувеличенные надежды. Вот почему, в результате систематической травли нашего чиновничества прессой, общественными деятелями и частью даже самого «будирующего» иногда чиновничества, русское общество не сознавало каким редким по качеству и добросовестности исполнительным аппаратом, несравненно более совершенным, чем в государствах Западной Европы, располагал Россия; понятно, это было слишком поздно, подобно тому, как слишком поздно был оценен по достоинству офицерский состав нашей армии.
Чиновник в своей работе мог получать деловое удовлетворение только в пределах достигаемых этой работой результатов и только в пределах «своей» бюрократической среды, там, где были «мы», а не «они» — наши, всегда неблагожелательные, критики. От общества чиновник, плоть от плоти и кость от кости этого самого общества, отделялся стеной предрассудков и тем более замыкался за этой стеной, чем несправедливее казалось ему отношение к нему общества. Либеральный состав чиновничества, видя, как неправильно забраковывается технический аппарат управления по смешению его с самой системой управления или озлоблялся и тяготел к наиболее консервативным кругам, или, в поисках большей популярности, сам переходил в лагерь безответственных критиков. Последний выход был наиболее свойственен всем тем, кто имел основания считать себя обиженным, обойденным, не достигшим почему-либо поставленных целей. Такова была судьба не только слабых духом людей; пример — Витте. Критика самими чиновниками правительственного аппарата еще более, конечно, подрывала веру общества в его деловые качества.
Лично я, оскорбленный в своем служебном самолюбии и деловых планах, не перешел на сторону активных врагов правительства, но испытывал большое душевное разочарование, видя перед собою только, с одной стороны, относительно бездарные враждебные силы, а с другой стороны, недостаточную, как мне казалось, активность правительства, при всех данных у него понимать широкие государственно-общественные задачи. Это, в связи с рядом последующих неудачных, с моей точки зрения, шагов правительства во время великой войны, подготовило во мне настроение или убеждение, заставлявшее желать политического переворота, как надежды на нечто лучшее.
Когда я задумываюсь над этой, постигшей меня уже в зрелом возрасте, душевной смутой, я сознаю, что корни ее таятся не в последних годах, а в обстановке первых сознательных лет моей жизни: в том воспитании и образовании, которое получала большая часть нашей интеллигенции; оно было крайне односторонне, умягчало души, создавало честных людей, но не закаляло сердец для борьбы, не сделало нас выносливыми в борьбе; оно было слишком односторонне, романтично и мало реалистично.
Вместо того, чтобы скромно и настойчиво продолжать свою работу по тому делу, которое я изучил и которое достаточно показало, что, хотя и с затруднениями, несмотря на мое относительно скромное служебное положение, можно достигать больших результатов и, быть может, по примеру дальневосточного совещания, добиться создания специального ведомства колоний, т. е. внести свою полезную крупицу в дело государственного устроения России, предпочел будировать, т. е. пошел по проторенному легкому, не трудовому пути нашей оппозиционной общественности.
Это должно было, смутив мою душу, привести неизбежно меня, как большинство неустойчивой русской интеллигенции, к ложным шагам и настроениям, о которых я буду говорить ниже, при воспоминаниях моих о нашем смутном времени.
Часть III Первая великая Европейская Война и смута в России
Глава 6 В Красном Кресте на юго-западном фронте (1914–1917 гг.)
Первые дни в столице после объявления войны. Приглашение на работу в Красный Крест; организация его военных управлений. Высший личный состав на местах. Мой отъезд в Киев. Первоначальные трудности работы; неустроенность санитарно-эвакуационного дела. Развитие частной благотворительности. Перевязочно-питательные отряды и санитарные транспорты. Расширение состава учреждений; порядок приглашения персонала. Добрая репутация и популярность Красного Креста. Отсутствие протекционизма. Сотрудники-поляки; их заслуги. Особо уполномоченные при армиях. В Люблине и Львове. Отступление; зловещие слухи и сплетни; первые признаки смуты. Характеристика моей ежедневной работы. Борьба за сохранение кадра опытных санитаров. Наградная эпидемия. Пребывание вдовствующей Императрицы в Киеве. Мои две поездки в районы боев. «Брусиловский» прорыв. Подъем духа; темные стороны: беженцы и отпускные солдаты-«дезертиры»; тыловая опасность. Конец нормальной работе Красного Креста; ее итоги и значение. Несколько слов о принце А. П. Ольденбургском. Земский и Городской Союзы.
Летом 1914 года я жил на даче по Финляндской железной дороге в Куокалле. Ежедневно приходилось ездить на службу; было самое горячее для центральных учреждений рабочее время — проведение проектов смет через совещание с участием представителей финансовых ведомств. На мне лежало состояние общей объяснительной записки к смерти Отдела Земельных Улучшений, и в начале июля я, чтобы не терять времени на поездки в Петербург и обратно, занимался дома, взяв все необходимые материалы на дачу.
Война обрушилась на нас совершенно внезапно. Убийство австрийского эрц-герцога Фердинанда в Сараеве, ультиматум Сербии со стороны Австрии, глубоко всех возмутивший, мобилизация, в виде угрозы, нашей армии, наконец телеграмма о том, что Германия объявила войну России — все это следовало, как-то чрезвычайно быстро одно за другим; по крайней мере, в тиши Финляндской дачи мы, не питаясь никакими обычными столичными слухами и разговорами, вдруг поняли, что мирная работа и жизнь закончены. Как по мановению какого-то волшебного жезла изменилась вся обстановка нашего привычного существования. Мне надо было отправиться в Петербург для сдачи своей работы в типографию; я пошел в обычный час на вокзал; там скопление дачников, какого раньше никогда не бывало; поезд, перегруженный так, что пассажиры сидели на ступеньках вагонов, даже не остановился на станции, полетел мимо. Пришлось ждать следующего поезда; весь день я провел на станции; поездов прошло много, но они или не останавливались совсем, или были так переполнены, что войти в них нельзя было. Вечером, в открытие окна нашей дачи долетали откуда-то крики «ура»; говорили, что это манифестация в честь сербского посланника Спалайковича, поживавшего в Куокалле. Днем приходили знакомые чиновники, также, как и я отрезанные от своих учреждений. В разговорах чувствовалось сознание громадности надвигающихся событий; говорили только о предстоящей войне; выход ее ставился в зависимость от того присоединится ли к нам Англия или нет; некоторые давали обещание изучить английский язык, если Англия будет воевать, спрашивали у меня, как по-английски то или иное слово. Обычные наши прогулки по взморью стали казаться какими-то мрачными и опасными: паникеры распространяли слухи о возможности быстрого неприятельского десанта; им не верили, но прожектора Кронштадта все время по ночам нащупывали наш берег; яркий луч света останавливался вдруг на несколько минут на нас, как будто кто-то старался нас рассмотреть, и становилось почему-то жутко на сразу обезлюдевшем берегу залива, еще недавно по вечерам собиравшем толпы гулящих дачников. Вероятно, нервы с первого же дня войны уже были сильно натянуты. После безуспешных попыток в течение трех дней попасть в поезд и в виду решения нашего вообще уехать из Финляндии, мы решили добраться до Сестрорецка на лошадях. Говорили, что будто бы мины относятся к нам уже враждебно, могут начать отказывать в лошадях, почему надо торопиться. Путешествие из Куокалле на лошадях, на загруженных различными вещами повозках, растерянные лица нашей прислуги, ряд других обозов, увозивших еще недавно совсем мирных дачников — все это подчеркивало в нашем сознании значение происходящего, как чего-то важного не только в государственном отношении, но и для нашей обывательской личной жизни. Создавался конец, на тот или иной срок, привычной обстановки; когда не было ни у кого, вероятно, сознания, что это не на время, а навсегда.
В Петербург мы приехали ночью; хотелось очень есть; вещи мы отправили домой с прислугой, а сами, я и жена, прямо пошли ужинать к Контану; мы были в такой грязи и пыли, что еще три дня тому назад нам и в голову не могло прийти отправиться в фешенебельный ресторан в таком виде; теперь была война и рушились старые привычки; швейцар нисколько не удивился, так как таких как мы, очевидно, перебывало в ресторане уже много. Мы ужинали в кабинете с окнами в общий зал; в последнем было уже не то, что было обычно ранее; группа подвыпивших офицеров разгуливала по длинной зале ресторана, а не сидела за столиками; кто-то приставал к румыну-капельмейстеру, за Германию он или нет, и угрожал убить его, если Румыния не выступит на нашей стороне. Уходя от «Контана», мне и в голову не приходило, что в этом любимейшем моем ресторане, где столько в моей жизни было хороших дружеских встреч и бесед, я больше никогда в своей жизни не буду; я чувствовал только, что сейчас, в данный момент, в настоящей его обстановке, это было какой-то уже не хорошо знакомое мне, а совершенно чужое учреждение. Когда мы вышли из ресторана на Мариинскую площадь, там толпился народ, кричал «ура»; мы посмотрели по направлению общих любопытных взглядов толпы, мы увидели, что конные статуи на мрачном здании Германского Посольства освещены; в лучах света были видны фигуры людей, копошившихся возле статуй; их связывали веревками, чтобы опустить на панель; когда это удалось, статуи были потоплены в Мойке, под дикие крики толпы. Я читал в первоапрельском номере какой-то газеты помещенную, в виде шутки, заметку о том, что В. М. Пуришкевич и к-о [компания], злясь на дом германского посольства, кстати сказать, действительно, не гармонировавший с красивейшей по ее окрестности площадью Мариинского Дворца (Государственного Совета) и Министерства Земледелия, похитили ночью конные статуи с немецкой постройки; к заметке была, кажется, для большей ее убедительности, приложена даже фотография дома без статуй. Почти все мои знакомые догадались, что это известие — шутка на 1-ое апреля. То, что казалось смешной шуткой в апреле, приходилось видеть собственными глазами в июле; была война, когда всякая нелепая шутка претворилась в действительность. На улице Гоголя мы прошли мимо приюта нашего литературно-артистического мира — знаменитого богемного ресторана «Вена», излюбленного некоторыми моими друзьями; с него была сорвана вывеска и он был закрыт. Вблизи мы заметили разбитые витрины кондитерской «Berrin», название которой толпа приняла за Берлин. Далее по Невскому темно было и в уютном итальянском ресторане «Альберт», и в популярном немецком ресторане «Лейнер». Над всеми улицами стоял неумолкавший гул толпы, уже разнузданной, несдерживаемой полицией, охмелевшей от ожидаемого пролития крови. Встречались громадные процессии с национальными знаменами, с портретами Царя, певшие гимн.
Был несомненный подъем патриотического чувства, было несомненное единение народа с Царем, как с его высшим на земле представителем, был искренний порыв и желание победы над врагом, но уже таково мое органическое отвращение ко всякой толпе, к участию улицы в государственных делах, что на душе у меня от этой первой ночи в приведенной на военной положение столице оставался какой-то осадок.
Я ненавижу войну, как проявление самых грубых, звериных инстинктов человека, как позорное несчастье — болезнь человечества, но, конечно, считаясь с неизбежностью этого зла, я должен был, как и масса русского народа, всеми фибрами своей души желать гибели немцев. Это чувство заставляло меня стараться закрыть глаза на грубость уличных сцен, на то дикое искажение мирного строя жизни, которое обнаружилось с первого дня, даже часа войны, и которое внешне на улице напоминало мне самое отвратительное из всего виденного мною до этого времени в моей жизни: революционные шествия толпы в 1905 году.
В первой великой европейской войне была одна подробность, которая, мне кажется, в отличие от многих других наших войн: с турками, японцами, интернациональной армией Наполеона и т. п., делало эту войну для сознательной части русского населения особенно патриотичной: в ряду наших врагов находилась Австрия. В России можно было встретить германофилов, турко- и японофилов, франкофилов и т. д., каких угодно филов, но только не австрофилов. Настоящий русский человек — австрофил не мог иметься в природе, так как для того, чтобы быть сторонником Австрии необходимо было не быть русским. Эта Империя, гнойник на теле Европы, существовала только милостью и попустительством великих держав, боявшихся распрей между немецко-славянскими народностями средней Европы и Балканского полуострова. Так как для целей Австрийской Империи наиболее опасным конкурентом была всегда великая Россия, то не было такой клеветы, грязи и мерзости, которая систематически не распространялась бы о России распоряжением и по инициативе австрийского правительства. Многие десятки лет разнообразное население Австро-Венгрии и ее соседей питалось вымыслами о варварстве и бездарности русских; высокие качества богоносной души русского человека, которые вообще трудно понимаются мещанами многих европейских стран, кичащихся своей чисто поверхностной культурой, необыкновенная русская одаренность во всех областях художественного слова и звука, наши писатели, музыканты, артисты, философы, наконец, даже наши административно-колонизационные успехи все это проходило мимо поля зрения большинства несчастных подданных этой «по недоразумению», империи. Жизнь России преподносилась им в бульварной прессе, кинематографах, разных пародиях, следы которых мы, к сожалению, наблюдаем еще теперь воочию в странах-наследницах земель Австрии, в таком виде, в таком сходстве, какое имеется между «Фаустом» Гуно и опереткой под названием «Фауст наизнанку», либо еще ближе будет к истине, если сопоставить творения великого Гомера с опереткой Оффенбаха «Прекрасная Елена». Эта антикультурная, вредная для человечества гнусность усугублялась постоянным натравливанием на Россию галичан, а через них слепых в своем жалком, нелепом шовинизме и мелком честолюбии наших украинцев-малороссов. Кроме того, многие уже в начале войны знали, какие средневековые, истинно-большевистские приемы применялись австрийскими властями к арестованным политическим врагам: ломание пальцев, вбивание гвоздей под ногти и т. п., не говоря уже о массовых расстрелах, — приемы весьма далеких исторических времен варварской России; следы их мы опять-таки воочию можем видеть теперь, в освобожденных от австрийского ига странах, на поврежденных членах многих прежних «счастливых» подданных этой современной «татарщины». Культура в Австрии была при этом чисто показная, не глубокая и не широкая; чистые и нарядные улицы Вены не могли заменить санитарных и хозяйственных мер, например, для богатейшего Далматинского побережья, которое при всех его богатствах, является лишь жалкой пародией на устроенное русским правительством и русскими людьми Черноморское побережье, с его мандаринными рощами, богатейшими вообще фруктовыми садами, виноградниками и вином.
Короче говоря, возможность сокрушения такого позорного для современной культуры явления, как Австрийская Империя, со всех точек зрения, а в особенности с нашей национальной, оправдывало бы всяческие жертвы с нашей стороны на участие в великой войне.
Вот почему и я, как глубокий националист, несмотря на всю трудность для меня помириться, в силу давних моих политических и иных склонностей, о которых здесь не стоит говорить, с мыслью, что Россия и Германия, а за нею вновь и Турция, волей провидения враждуют, все-таки был полон патриотического подъема, перед которым отступали на второстепенный план прочие мои впечатления и ощущения.
В первый же день моего пребывания в Петербурге я был вызван к телефону Б. Е. Иваницким, который был уже тогда не только сенатором, но и членом Государственного Совета, передав должность товарища главноуправляющего Землеустройством популярному общественному и государственному деятелю гр. П. Н. Игнатьеву, вскоре назначенному на пост министра народного просвещения. Иваницкий мне сообщил, что Главное Управление Российского Общества Красного Креста избрало его на должность главноуполномоченного Общества на юго-западном фронте театра военных действий и что он предлагает мне место начальника его канцелярии. На мой ответ, что мне надо подумать, так как я связан незаконченной работой по своему ведомству и должен озаботиться также о устройстве жены, И. немедленно вспылил и стал упрекать меня в недостатке патриотизма, в постыдности колебаний, когда все сейчас должны работать только на войну. После этого разговора я, конечно, согласился принять предлагаемое назначение, и на другой день было получено согласие на мою командировку со стороны А. В. Кривошеина, которая, по мнению Б. Е. Иваницкого, не должна была продолжаться более трех месяцев. Эта мера в «три месяца», убеждение, что Европа не может выдержать войны в течение более продолжительного срока, была в начале войны чрезвычайно распространена. Моя жена — та еще более сократила предельный срок войны: «отчего не поехать в Киев недели на три», ответила она на мой вопрос, стоит ли идти на краснокрестную работу.
На другой день после разговора с Иваницким, я уже участвовал в совещаниях Главного Управления Красного Креста, обсуждавших различные предварительные меры по организации фронтовых и армейских управлений Красного Креста и кандидатуры на различные должности. В поведении Главного Управления на Инженерной улице царило приподнятое оживление; коридоры и залы Главного Управления были полны толпой лиц, желавших предложить свои услуги Красному Кресту; передо мною промелькнула знакомая и дорогая мне, по другим воспоминаниям и настроениям, стройная фигура И. И. Фигнера; знаменитый, но уже оставивший сцену баритон Л. Г. Яковлев тоже пошел в Красный Крест, в качестве начальника автомобильного отряда. Состав требовался большой, но выбор лиц надо было производить с чрезвычайной осторожностью. Иваницкий и я приглашали сотрудничать с нами в начале войны только лиц нам лично известных; преимущественно из состава ведомства землеустройства; таким путем закладывалась прочная, спаянная взаимным доверием административная ячейка нашего управления. Что касается собственно медико-санитарного персонала, то заблаговременно и тщательно разработанный Главным Управлением мобилизационный план обеспечивал срочную явку в его распоряжение достаточного для первого периода войны кадра опытных врачей, преимущественно хирургов, сестер милосердия, общинных, или так называемых военного времени, прослушавших ускоренные курсы при общинах, и санитаров, подготовлявшихся к делу на особых сборных пунктах.
Военные Управления Красного Креста были организованы так: на каждом отдельном фронте, т. е. на северном, западном, юго-западном, из которого впоследствии был выделен южный (румынский) и кавказском находился Главноуполномоченный, входивший, согласно Высочайше утвержденному перед самой войной, положению о полевом управлении войск в состав управлений Главнокомандующего и подчинявшийся непосредственно главному начальнику снабжений данного фронта. Кроме того для внутреннего района Империи, т. е. для всего, так сказать, тыла, неподведомственного главному командованию, имелся главноуполномоченный, Управление коего находилось в Москве, и при Ставке Верховного Главнокомандующего состоял особый представитель. На места главноуполномоченных были избраны: для северного фронта А. Д. Зиновьев; западного генерал Дашков, замененный вскоре начальником кабинета Его Величества генералом Волковым, а затем в 1916 году А. В. Кривошеиным; юго-западного, как я уже говорил, Иваницкий; румынского Хомяков, бывший председатель Государственной Думы и Кавказского Л. В. Голубев, крупный черноморский землевладелец и винодел; внутренним районом краснокрестной помощи ведал б. председатель московской губернской земской управы А. Д. Самарин, а представителем при верховной ставке состоял б. министр народного просвещения П. М. Кауфман-Туркестанский. При каждой армии имелся особый уполномоченный, носивший сложное наименование: «особоуполномоченный»; при некоторых отдельных частях или в отдельных районах фронта имелись уполномоченные: корпусные, губернские, уездные и т. п. Некоторые отряды особого назначения или сформированные на специальные средства, например, Государственной Думы, Дворянства, общества нефтепромышленников и проч. имели уполномоченных, избранных жертвователями и лишь утвержденных Главным Управлением. Во главе всякого рода лечебных заведений, как передовых, так и тыловых, стояли врачи, главным образом хирурги; прежде практиковалось назначение начальниками таких учреждений лиц из административного состава, но происшедшие между ними и врачами трения, а также отсутствие у последних необходимой для пользы лечебного дела самостоятельности, побудило в последнюю войну изменить этот порядок; однако, не все врачи были довольны предоставлением им административных функций, так как масса сопряженной с ними канцелярской и денежно-хозяйственной работы отнимала у врача много времени, в ущерб его прямой специальности, если только он не полагался всецело в канцелярско-хозяйственном отношении на заведывающего хозяйством.
В Петербурге, по соглашения с главноуполномоченными, был приглашен Главным Управлением только высший состав местных военных управлений Красного Креста, т. е. помощники главноуполномоченного, начальники отдельных частей его управления и особоуполномоченные при армиях: весь прочий состав приглашался уже самими главноуполномоченными, преимущественно на местах работы.
Что касается санитарно-медицинских учреждений, госпиталей, этапных и подвижных лазаретов, передовых перевязочно-питательных отрядов, то таковые формировались по заранее до войны составленному мобилизационному плану многочисленными общинами Красного Креста, не исключая и самых отдаленных, Благовещенской, Иркутской, Харбинской и т. п. Дополнительное материальное снабжение эти упреждения получали из громадных центральных складов Красного Креста в Москве или Петербурге, питавших также и фронтовые склады, которым, однако, когда война затянулась, пришлось производить и самим на местах крупные заготовительные операции.
На места начальников частей нашего юго-западного управления Красного Креста были приглашены, главным образом, опытные, известные своей работоспособностью и честностью чиновники; так, сложная и живая хозяйственная часть была поручена ведению районного переселенческого чиновника С. В. Резниченко, Управление складами В. Д. Евреинову, управлявшему несколько лет делами комитета по трудовой помощи населению; счетной частью ведал чиновник, заведывавший этой частью в центральном переселенческом ведомстве. Во главе медицинской части был оставлен, конечно, специалист — известный московский хирург профессор И. П. Алексинский. Должности помощников главноуполномоченого, а также слабоуполномоченных были замещены различными видными общественными деятелями; среди них выделялся Н. А. Хомяков, человек тонкого ума и громадного житейского опыта; он, впрочем, сравнительно недолго был на нашем фронте и получил, как я говорил, назначение на пост главноуполномоченного южного фронта. Остальные помощники главноуполномоченного, отвлекаясь другими различными общественными, а частью и личными делами, сравнительно мало были полезны В. Е. Иваницкому, и фактически его ближайшим административным помощником являлся я, в каковом звании я вскоре и был утвержден Главным Управление; прочие начальники частей нашего управления, в сущности, являясь каждый по своей отрасли дела непосредственными помощниками главноуполномоченного, пользовались большой относительно свободой и инициативой в работе и подчинялись мне лишь, так сказать, в формальном отношении на время частых разъездов Иваницкого по армейским районам.
Таким образом, в составе собственно нашего центрального управления, я находился в прежней, хорошо знакомой мне, среде «старорежимного» чиновничества, если не считать некоторых специалистов-врачей; вне же этой среды, в составе местных губернских и прочих деятелей, мне приходилось иметь дело с массой местного выборного элемента: предводителями дворянства, председателями и членами земских управ, членами Государственной Думы, просто помещиками юго-западного края, духовенством и т. д. Но, повторяю, руководящий и вдохновляющий дело орган был по главному составу своему «чиновничий». Поэтому, с точки зрения поставленной мною в моих записках скромной задачи дать характеристику нашему старорежимному чиновничьему классу во всех проявлениях его работоспособности, будет любопытно проследить кратко, как проявлялась и какие результаты давала эта новая, лично для меня, чиновно-общественная деятельность в течение нескольких лет.
Я выехал в Киев с очень небольшим составом сотрудников в двадцатых числах июля, не выжидая окончания совещаний в Главном Управлении, в которых принимал участие В. Е. Иваницкий. Ехать пришлось уже в страшной давке, духоте и грязи; война сразу изменила комфортабельную привычную обстановку наших поездов; путешествие мое из Петербурга в Киев продолжалось уже не сутки, как до войны, а трое суток; мы пропускали воинские поезда.
Под наше Управление местный богач М. И. Терещенко, впоследствии член Временного Правительства, предоставил бесплатно три дома на Бибиковском бульваре рядом с Александровской гимназией; я был счастлив, что попал снова в знакомую родную обстановку родного города, но наслаждался этим счастьем, конечно, мало; только ранним утром, идя по бульвару на службу, я радовался, что вижу давно знакомые и любимые здания, тополевую аллею, каштаны вдоль улицы.
Слишком трудными казались мне первые шаги на новом моем поприще. Через Киев проезжали уже начальники различных отрядов; я снабжал их деньгами; расписки их хранил в карманах; записывал выдачи на обрывке бумаги; приводили вдруг партии лошадей, надо было срочно раздобыть фураж, а хозяйства я никогда не любил и не понимал. Вдруг, как снег на голову, появились первые раненные; думалось тогда, что настоящая война еще нескоро; мне сообщили по телефону, что на вокзале 25 раненых, спрашивали на чем и куда их везти; справляюсь по телефону в военном госпитале, отвечают, что имеется только одна линейка, да и та сломалась. Эти первые два десятка раненых произвели такое впечатление и поставили в такой тупик, как будто бы их было десятки тысяч — что впоследствии, через несколько месяцев, никого из нас уже не удивляло и не приводило в растерянное состояние. Однажды, в нашем управлении появился военнопленный; пришел сам с вокзала; что надо с ним делать, куда направить, я не знал; приютил его просто по человечеству и оставил ночевать в канцелярии. Иваницкий, приехавший в этот день из Петербурга, накричал на меня, что я могу за это отвечать по закону, но и сам он тогда, и военные власти Киева еще не знали, где сборный пункт для военнопленных. Одним словом, в первые дни войны был какой-то первозданный хаос. А между тем, среди массы, иногда совершенно мелких организационных забот, надо было, хотя бы поверхностно, познакомиться с правовым положением нашего Управления; я ничего в этой области не знал. Как я упоминал уже, положение о полевом управлении войск было введено в действие только несколько дней тому назад; печатные экземпляры его считались редкостью; мой единственный экземпляр нужен был и другим служащим; читать его, равно, как и различные краснокрестные инструкции, приходилось урывками. Меня, как правоверного юриста, не могла даже война выбить из сознания, что наша работа не пойдет в разрез с общим планом главного командования только при условии строгого знания нами пределов наших прав и обязанностей. Случай с первым военнопленным лучше всего характеризовал положение. Иваницкий понимал неправомерность моего поступка, но разобраться в деле тоже не мог, по незнанию его юридической стороны. Весь захваченный военными событиями, думая и говоря только о том, что относилось к войне, ни на кого не полагаясь, кроме, как на самого себя, он чрезвычайно нервничал, горячился, кричал, вникая буквально во всякую мелочь, включительно до гайки на каком-нибудь автомобиле или подковы на лошади. Меня это крайне раздражало; я находил, что в переживаемое нами время нужно, прежде всего, спокойствие и умение с доверием распределять функции между всеми сотрудниками, не вмешиваясь в мелочи их работы, так как иначе она становилась для исполнителя мало интересной. Справиться, однако, с темпераментом нашего начальника не было возможности, и у меня с ним, к изумлению прочих сослуживцев, установились с первых же дней боевые отношения, причем я нередко бывал, действительно, слишком резок и груб. В итоге, как-то само собой распределились наши функции, и работа, в общем, пошла производительно-дружно. Иваницкий жил нуждами армейских учреждений, очень часто разъезжал по учреждениям, занимался с особой любовью хозяйственно-техническими операциями, в частности из автомобилей и конных транспортов сделал себе прямо какой-то фетиш, служа которому он беспощадно портил и себе, и другим нервы. Я сосредоточился на поддержании в порядке канцелярско-формальной стороны дела, на установлении самых широких связей и общения с общественными деятелями края, на пополнении личного состава различных отрядов путем тщательного отбора кандидатов на должности, на собирании и разработке отчетных материалов. В общем, Иваницкий был занят фронтом, я — тылом, и в таком распределении наших обязанностей, мне кажется, был залог успеха порученного нам дела.
Первые недели и на фронте отличались тою же растерянностью и беспорядочностью, какую мне пришлось наблюдать в Киеве. Поверхностному наблюдателю могло бы показаться, что мы совершенно не готовы к войне; так, по неопытности, казалось и мне. В действительности же, машина войны уже была заведена, она начинала работать, но еще не в том темпе, который требовался событиями. На громадном пространстве Российской Империи приводился в исполнение мобилизационный план каждый день на фронт прибывали новые части и новое снабжение, в том числе и санитарно-лечебное. План Красного Креста осуществлялся блестяще: наши лазареты с начала августа работали уже в Ровно и других западных городах в первые же дни боев и пошли в Львов тотчас же по занятии его.
В Киеве, где не было известно, как перевезти в госпиталь первую маленькую партию раненых, через неделю после этого уже ходили от вокзала специально оборудованные трамвайные вагоны. На самом вокзале начал работать прекрасный приемный покой и питательный пункт, оборудованные на средства управления юго-западных железных дорог. Открывался один за другим ряд городских лазаретов, под опекой энергичного головы города И. Н. Дьякова, а также ряд больших и маленьких лазаретов частных лиц или обществ; все они принимались под флаг Красного Креста, после подробного осмотра их чинами нашей медицинской части. Провинция тоже всколыхнулась: желающих помочь раненным и больным воинам было сколько угодно; вопрос сводился только к удобству данного помещения или пункта в отношении эвакуационных путей. Так как вся частная и общественная помощь, по закону, должна была находиться в ведении Красного Креста, надо было, во избежание злоупотребления флагом Красного Креста и отвода под лазареты неподходящих помещений без надлежащих врачебных и материальных средств, иметь за этим делом местное наблюдение. Производилось в срочном порядке приглашение многочисленных уездных и губернских уполномоченных. Район юго-западного фронта в начале войны был громаден: от Радомской губернии Польши до Крыма включительно. Легко себе представить какой многочисленный местный административный аппарат требовалось создать; сколько разнообразных лиц проходило перед моими глазами.
Приемная моя всегда была полна; не только местные уполномоченные, но и устроители отдельных лазаретов, питательных пунктов и т. п. имели надобность во мне для переговоров о различных текущих мелочах дела. Со всеми этими безвозмездными работниками Красного Креста и жертвователями надо было беседовать подробно и внимательно, чтобы усиливать приток добровольной помощи нашим воинам, памятуя в особенности о том, что для каждого гражданина его маленькое участие в этой помощи, как оно ни мало на фоне общей картины войны, представляется особо важным и ценным. Порою, в особенности, когда происходили серьезные бои, Иваницкий сердился на мои долгие собеседования с «жидами», как он в шуту называл всякого постороннего нашему Управлению человека. Но я упорно расширял круг наших знакомых и клиентов и могу сказать, отбрасывая ложную скромность, что сделал Управление Красного Креста юго-западного фронта чрезвычайно популярным среди населения Малороссии части Польши. Лазареты росли как грибы и вскоре настало время, когда не раненные искали места, а лазареты жаловались на отсутствие раненных. На этой почве происходили курьезные жалобы и домогательства. Например, в один пустовавший лазарет удалось, наконец, направить парию раненных в несколько десятков человек; я телеграфировал об этом уполномоченному, чтобы обрадовать устроителей лазарета; однако, по дороге раненые хохлы, попав в родные места, постепенно разбрелись по своим деревням или ближайшим к ним частным лазаретам, так что к концу пути поезд доставил всего двух-трех человек. Конечно, устроители лазарета была обижены, приходилось их успокаивать. Недовольство в таких случаях заведующих лазаретами было вполне естественно, так как многие расходы по лазаретам, например, содержание медицинского персонала, отопление здания и т. п., должны были производиться и при пустовании лазаретов, чем значительно повышалась средняя стоимость содержания большого, так называемого, больничного дня, и, следовательно, портилась в глазах жертвователей жертвенно-хозяйственная отчетность в полученных от них средствах. Но убеждать волнующихся благотворителей, а в особенности, крайне экспансивных дам, что порядок заполнения лечебных заведения зависит от хода боев на фронте и удобства для каждого данного момента тех или иных путей эвакуации было крайне затруднительно: требовался для этого большой запас терпения, чтобы сухими формальными объяснениями не сократить область частной инициативы в деле помощи нашим раненным воинам. Как я уже говорил, с большинством просителей и просительниц беседовал я, но некоторые особо назойливые из них, преимущественно дамы, надоедали иногда и главноуполномоченному, отрывая его от забот о фронте, и бывали случаи, когда какая-нибудь благотворительница, недовольная его приемом, вылетала из кабинета, на ходу гневно бросая «это безобразие; я иду в Петербург жаловаться самому Государю; вот тогда он (т. е. Иваницкий) узнает». Из жалоб, конечно, ничего не выходило; «он» ничего не узнавал, т. к. Главное Управление относилось в Иваницкому с полным доверием, и дело велось им и сотрудниками совершенно беспристрастно, без всяких протекционных влияний.
Значение частно-общественной помощи в краснокрестной работе с особою яркостью сказалось в первые месяцы войны в деле организации питания раненых при эвакуации их из армейских районов в тыловые лечебные заведения. Военное ведомство не успело вовремя организовать питательных пунктов на путях эвакуации; оно в первую очередь естественно стремилось обеспечить продовольственными пунктами войска, шедшие на фронт, в боевую обстановку. Первые эшелонные раненные появились в тылу как-то неожиданно быстро, так как бои разворачивались на нашем фронте чрезвычайно стремительно, а самое появление наше в Львова настолько изумило общество, что многие отказывались этому верить; сами австрийцы, вероятно не ожидали такого успешного продвижения наших армий; об этом можно судить по той мирной обстановке, которую нашли наши в офицерских квартирах Львова; раскрытые карточные столы, неубранные с незаконченным обедом столовые; книги-романы, брошенные со свежеразрезанной страницей и т. п. Для Львова, очевидно, появление в нем наших войск была также неожиданно, как для Киева прибытие первых партий наших раненных.
И вот, при встрече этих партий сразу же бросался в глаза их необычайно истомленный вид; обнаружилось, что по несколько дней эвакуированные ничего почти не ели, иногда, кажется, до пяти дней. Встречались телеграфные запросы; выяснялись что пути эвакуации без питательных пунктов. Иваницкий был сильно взволнован, прямо потрясен этим известием, и немедленно телеграфировал во все уезды, примыкавшие к линиям железных дорого, просьбу к председателям земских управ и предводителям дворянства распорядиться, за счет Красного Креста, подвозом продовольствия к станциям следования санитарных поездов, «не стесняясь расходами». Такое героическое средство — «не стесняясь расходами» было, конечно, не по плечу военно-санитарного ведомства, связанного известными формами и строгой отчетностью, но в известной чрезвычайной обстановке при большой живости и способности к ответственной инициативе, могло бы быть принято и этим ведомством. Призыв Иваницкого нашел такой широкий отклик в местном обществе, что в первые месяцы Красному Кресту приходилось затрачивать гроши (сотни две, три тысячи рублей) на довольствие эвакуируемых раненных; население, особенно крестьяне, узнав об организации краснокрестной питательной помощи начали в изобилии подвозить к станциям железных дорог хлеб, молоко, яйца и т. п., в подавляющем большинстве случаев, не требуя за них никакой платы. Буквально через несколько дней после телеграммы Иваницкого прекратились донесения о прибытии голодных раненных в Киев и другие тыловые приемники их. Успех этой операции и послужил главным толчком к тому, чтобы в каждом уезде иметь уполномоченного из местных деятелей.
Первоначальным мобилизационным планом Красного Креста не предусматривались специально питательные учреждения, но опыт первых же недель войны побудил нас развить и прочно поставить это дело, путем сформирования постоянных питательных пунктов и подвижных отрядов; последние в числе, кажется, десяти, по инициативе Иваницкого, были сформированы заведующим хозяйственной частью из предоставленных нам классных и товарных вагонов. Расходы по сформированию и содержанию первого такого отряда-поезда приняла на свой счет известная благотворительница покойная Е. М. Терещенко, принимавшая вообще самое горячее участие в работах Красного Креста и внесшая на содержание его учреждений несколько миллионов рублей. Эти поезда сослужили громадную пользу тем, что их можно было перебрасывать из одного района в другой, в зависимости от хода боев и скопления раненных. Для обслуживания питательных пунктов и поездов был приглашен кадр весьма опытных в кормлении масс переселенческих и крестьянских чиновников и, так называемых, «хозяек» проходных переселенческих пунктов, которые блестяще справлялись с возложенным на них делом, даже при таких скоплениях масс, как было, например, в Шубковском лагере под Ровно, когда во время холерной эпидемии, пришлось кормить до 70 000 беженцев, распределив их по группам: здоровых, подозрительных, выздоравливающих и больных.
Кроме питательных учреждений, нашей хозяйственной частью были выполнены тоже уже на фронте, т. е. вне первоначального плана, сложные и многочисленные формирования конных транспортов для перевозки раненных, когда, по мере развития военных действий, обнаруживался недостаток перевозочных средств, особенно в гористых прикарпатских местностях. Снабжение приходилось приобретать через различных агентов этой части в различных местностях Империи, включительно до Финляндии. Формировочные пункты находились сначала близ Волочиска [так в источнике] (в имении княгини Волконской), а затем в Лубнах: Иваницкий вникал в каждую мелочь формирования, часто посещал место работ, приводил своими наездами в страх и трепет местных служащих, но в основе всего дела допускал большую, с моей точки зрения, ошибку: он все время находился под гипнозом невозможности длительной затяжки войны; так уже не верилось всем, что современное человечество способно бесконечно долго истреблять себя и свою культуру; ошибка И. была естественна, но отрицательно влияла на дело: не было сразу того его размаха, который дал бы возможность по более выгодным ценам заготовить все необходимое, так сказать, впрок, на всякий случай; работы шли приспособляясь к военным обстоятельствам, но не опережая их. Порывистый, впрочем, далеко не всегда остававшийся на реальной почве, С. В. Резниченко тяготился благоразумной расчетливостью Иваницкого; на этой почве у них происходили частые стычки. Последние, однако, были менее сильны, чем с медицинской частью, состав которой не имел почти совершенно делового «чиновничьего» опыта, и нервировал И. уже как раз по обратной причине — недостаточной, в представлении И. инициативной самостоятельности этой части. Те же основания приводили часто к бурным оценкам между нашим начальником и управляющим складами В. Д. Евреиновым, который, имея большой служебный опыт и ведя у нас очень сложное дело распределения снабжения и пополнения его, отличался, однако, излишней осторожностью и порою формализмом, которые не всегда отвечали требованиям военного момента и тоже приводили Иваницкого в нервное состояние. В общем же, в сущности, как впоследствии признавал и сам И., все его ближайшие сотрудники, имея те или иные свои особенности и, конечно, недостатки, работали хорошо и были проникнуты тем взаимным деловым доверием, без которого немыслима никакая работа. Собрания всех сотрудников в кабинете И. происходили почти ежедневно; мы их, в шутку, называли «конклавами». Каждое собрание сопровождалось криками; сдержан был только В. Д. Евреинов, вспыливший, за всю нашу совместную работу, насколько я помню, один раз. Я давно утратил свое былое хладнокровие. Однажды, в пылу спора, у меня вырвалось по адресу нашего начальника совершенно нецензурное выражение, после чего я получил от него письмо, в котором он мне говорил, приблизительно, следующее: «вы вчера допустили такое нарушение примитивных требований служебной дисциплины, что, думая вечером о вашем поступке, я пришел к убеждению в моей виновности перед вами; очевидно, я вас, действительно, сильно раздражил или обидел, раз вы решились на такой выпад против меня». Так у нас в старорежимной среде чиновничества, разрешались порою острые столкновения. Было нечто выше мелочных обид, что нас спаивало и связывало. Часто на «конклавах» наших происходили сцены и юмористического свойства. Помню, например, какое трагикомическое выражение лица было у председателя «конклава», когда он нам прочел, среди другой переписки, телеграмму о гибели его жеребца. Я сначала ничего не понял. Затем узнал такие подробности этой истории в бытность Иваницкого в Лубнах, на нашем формировочном пункте, он осматривал ветеринарные учреждения, производившие, между прочим, охолощивание [так в тексте] жеребцов. Вскользь он заметил, что было бы хорошо оперировать здесь и его собственного, крайне беспокойного, жеребца. Усадьба И. находилась в нескольких верстах от Лубен, и ветеринар, желая оказать любезность И., по отъезде последнего, послал вахмистра за лошадью И. После операции жеребец почему-то немедленно издох. Заведывающий пунктом был чрезвычайно сконфужен и взволнован, так как ветеринары уверяли И. в блестящей постановке этого дела. Вахмистр предлагал найти похожую на погибшего жеребца лошадь, и уверял, что И. не заметит замены, но приведенная им лошадь оказалось кобылой, а потому мысль о замене, хотя и не без колебаний, бросили, и в Киев была послана печальная телеграмма. И., конечно, был настолько тактичен, что не упекал заведывающего хозяйственной частью за личный ущерб, но использовал этот случай, чтобы подвергнуть злостной критике вообще постановку дела, которое ведется, мол, верхоглядно, без серьезной задумчивости и т. п. Произошло, в результате, громкое объяснение.
Все, что делалось на «конклаве», вследствие повышенных голосов его участников, было слышно всем нашим сотрудникам, не исключая и самых второстепенных агентов, писцов, санитаров и проч. Поэтому о наших заседаниях рассказывались часто различные веселые, обычно безобидные, анекдоты.
Я остановился несколько на приведенных мною мелочах нашей служебной обстановки, чтобы в дальнейшем понятнее были некоторые обстоятельства, имевшие место в первое время после государственного переворота.
Повторяю что несмотря на видимую внешнюю рознь и раздражение наших собраний, мы, как высшие руководители краснокрестным делом на фронте, внутренне были тесно взаимно связаны теми узами, которые даются сознанием совместного честного исполнения своего долга.
Я имею право говорить о честно исполнении долга потому, что Управление, не в моей только оценке, но и в глазах всего общества юго-западного края, прочно завоевывало себе такую репутацию. У нас были единичные случаи злоупотреблений в среде чрезвычайно многочисленного местного состава, но это были, в буквальном смысле слова, редкие исключения, несмотря на то, что многомиллионные заготовки, широкие права по льготным перевозкам и т. п. в ненадежных руках могли бы давать благоприятнейшие способы для личного обогащения.
Развитие новых формирований, создание массы новых учреждений, а также и естественные перемены личного административного состава в основных наших учреждениях, особенно на передовых отрядах — все это требовало очень большого запаса подходящих кандидатов на должности, которые, хотя и не были сопряжены с какими-либо сложными обязанностями, но требовали честного, и в особенности, строго-исполнительного отношения к делу, абсолютно необходимого для работы в боевых условиях. Иваницкий, в отношении подбора административного состава предоставлял мне полную свободу. Установившиеся у меня широкие общественные связи и знакомства весьма облегчили мне выполнение этой скромной, но весьма ответственной для доброго имени Красного Креста, задачи. Я собирал о каждом кандидате самые тщательные сведения. Между прочим, особенно много пригласи я присяжных поверенных и их помощников — поляков на должности начальников передовых отрядов и конных транспортов. Этому способствовало знакомство мое с 6[ывшим] Председателем Киевского Совета присяжных поверенных И. Н. Пересветом-Солтаном, человеком высокой нравственной порядочности. Как поляк, он, естественно, ближе знал польское общество и за рекомендуемых им лиц ручался. Когда он не был уверен в нравственных качествах того или иного лица, просившего меня о назначении, он сообщал мне, в силу щепетильной этики адвокатов, что такой-то присяжный поверенный ему совершенно неизвестен; при таком его отзыве, я знал уже, что данное лицо не заслуживает доверия. Подписывая приказы о многочисленных адвокатско-польских назначениях, Иваницкий, иногда, шутя, а иногда, когда находился в плохом настроении, и полусерьезно упрекал меня в чрезмерном полонофильстве и пристрастии к адвокатам. Однако, ни разу, конечно, не отказал он в утверждении избранного мною лица. И, надо сказать, наши краснокрестные поляки с честью оправдывали рекомендации славного их патрона, с которым впоследствии мне пришлось встретиться при иных печально-трагических обстоятельствах. Европейская война, особенно на галицком фронте, была для поляков, в буквальном смысле слова, братоубийственной; случалось, что брат сражался против брата. Поэтому, естественно, стремясь на гуманную краснокресгную службе, они всемирно старались всем своим поведением показать, что не трусость побудила их идти в ряды Красного Креста; они очень охотно работали под неприятельским огнем. Большинство из них получило награды за храбрость. Впрочем, я должен отметить, что для массы наших служащих их работа протекала в весьма опасных для жизни условиях, при постоянной бомбардировке наших учреждений аэропланами, а часто и орудийным огнем; со времени же государственного переворота такая обстановка перебросилась и на тыловые учреждения.
С Иваницким за всю кампанию, в отношении выбора личного состава, у меня вышло только одно небольшое недоразумение. Однажды, в своем служебном кабинете, он познакомил меня с богатым помещиком П., которого он, по-видимому, обнадежил в назначении на должность помощника уполномоченного в его уезде. Из разговора И. с П. можно было сделать вывод, что вопрос о назначении последнего считается решенным; так, по крайней мере, понял это сам П. Когда он через несколько дней явился ко мне, то был очень недоволен и даже раздражен, что его назначение еще не оформлено. Я ему разъяснил, что у меня есть свой способ наведения справок о кандидатах на должности и просил подождать. Через некоторое время я получил о П. сведения, лишавшие меня возможности поддерживать его назначение, и я представил Иваницкому другого кандидата, на назначение которого он и согласился. Из ложного, вероятно, самолюбия, И. старался уверить меня, что он определенно не обещал места П., что будто бы я неправильно понял слова И. при рекомендации мне П. И сам дал повод последнему считать свое назначение решенным. Я обозлился в нашем споре с И. в такой степени, что П., после свидания со мною, немедленно отправился в Петербург жаловаться на мой произвол и грубость. Жалоба его была оставлена без всякого внимания.
Вообще, никаких протекционных назначений при замещении многочисленных должностей по нашему Управлению, как в центральном, так и в местных его учреждениях, не было совершенно; нужные работники приглашались нами, исключительно, по соображениям делового их ценза и нравственны качеств. Исключение представляли из себя несколько лиц придворного круга, которых Главное Управление должно было устроить в качестве помощников главноуполномоченного с первых же дней войны, но эти лица скорее являлись почетными нашими сотрудниками, серьезной активной роли не играли, были полезны нам своими связями с крупными благотворителями и вообще влиятельными кругами общества и ничего не стоили Красному Кресту, так как вообще никакого содержания не получали.
Должен, вообще, отметить, что большинство наших высших и средних служащих не пользовалось полностью содержанием, присвоенным их должностям; некоторые работали даже всю войну безвозмездно, другие — за половинное содержание, до тех пор, пока, в связи с наступившей смутой, не началось постоянное вздорожание жизни и вообще материальные интересы не начали для части русских людей преобладать в их работе над нравственными побуждениями.
Итак, наш центральный-фронтовый орган Красного Креста, представлял из себя чиновничий аппарат с большим техническим опытом и умением вести дело с надлежащей бережливостью в расходовании казенных и общественных средств, находился в тесной взаимной связи с органами местного самоуправления и частными благотворителями, а равно, строго следил за поведением тех же приемов работы и в районах армий, которые имели, как я говорил выше, особых представителей Креста, особоуполномоченных, подчиненных непосредственно главноуполномоченному. Состав этих агентов, по их служебным качествам, не всегда отвечал требованиям строгого порядка и дисциплины, сообразно требованиям военной обстановки. Все наши армейские представители и их помощники отличались одним бесспорным качеством — честностью, хорошим образованием и воспитанием, но среди них встречались люди, не привыкшие к строго-дисциплинированной работе, а один из них был воспитан на самом легком занятии — поверхностной критике на словах правительственной деятельности, говорении, а не делании. С лицами, не любившими порядка, вел иногда ожесточенную войну Иваницкий при частных своих поездках на армейские районы.
Первая поездка его театра военных действий волновала и занимала все наше Управление; узнать, что делается там, где уже началась война, к чему направлялись постоянно мысленные наши взоры, чем мы, в сущности, всецело жили даже тогда когда отдыхали от работы, спали, обедали — было, конечно, чрезвычайно заманчиво. Молодежь наша стремилась, естественно, попасть в поездку с И.; он взял с собой В. Глинку, сына Г.В. Когда они вернулись из объезда Ковальско-Шоблинского района, где тогда завязались сильные бои, и сейчас же приступил к расспросам у Воли Глинки, заметно побледневшего и похудевшего: «ну, что видели?» На этот мой вопрос Г. мрачно отвечал «ничего не видел, а только слышал». Я предположил, что он говорит о звуках канонад и т. п., но сейчас же был разочарован: Г. слышал не пушки, а бурные служебные разносы Иваницкого. Неудачи начались с первых шагов, кажется, со станции Сарны или Ковал. По расчетам И. здесь должен был уже находиться один из наших поездных отрядов. На вопрос его, не прибыл ли отряд, помощник особоуполномоченного, явившийся встретить И. в его вагоне, выразил на лице своем изумление, подошел к окну вагона и, вдруг, начал присматриваться к запасному пути. «Позвольте, а там, будто бы, стоит какой-то поезд со знаками Красного Креста», заявил И. и постепенно разобрал на нем надпись с названием ожидаемого отряда. Заместитель особоуполномоченного спокойно объяснил, что, очевидно, отряд прибыл только что, непосредственно перед приездом И. на станцию, но последнего нельзя было легко успокоить; он отправился к отряду и узнал, что он находится на станции уже несколько дней. Произошла, вслед за этим, тут же на станции, столь бурная сцена, что имевший в Петербурге большие связи помощник особоуполномоченного немедленно уехал «жаловаться Государю» на грубое обращение с ним и больше на нашем фронте не появлялся.
Дальнейшая поездка сопровождалась многими волнениями И. в том же роде; порою, вследствие своей горячности, он сам бывал неправ, но на местах подтягивались, понимали, что будет постоянный и строгий надзор.
Наиболее острыми моментами в жизни армейских краснокрестных учреждений были быстрые подвижные или неожиданные отступления армий, что, обычно, вызывало изменение дислокации корпусов и обслуживающих их санитарных учреждений; часто целые армии переходили из нашего фронта на другой и наоборот. Особоуполномоченные, естественно, ближе всего воспринимали узкие эгоистические интересы данной армии, стоя далеко от общего плана наиболее целесообразного обслуживания всего фронта, в его целом виде, старались, опираясь на содействие в этом отношении командиров отдельны частей, оттянуть в этом отношении для своей армии. Ясно, что механически делить учреждения в таких случаях было невозможно; нельзя было оголять пути эвакуации, независимо от того, какой корпус или армию они обсуживали первоначально; требовалось считаться и с ходом боев. Кроме того, при наступлениях и отступлениях особоуполномоченные держали, так сказать, экзамен по их административной распорядительности.
Как известно, ни один фронт не изобиловал столь частыми крупными устремлениями наших вперед, громадными прорывами и неожиданными отходами. От особоуполномоченных требовалось поэтому весьма умелая и напряженная работа, с которой они, большей частью, при бдительном надзоре Иваницкого, успешно справлялись, но на почве или борьбы его с их эгоистическими домогательствами, направленными к нарушению общего плана действий, часто происходили бурные объяснения. Из наиболее деятельных особоуполномоченных нашего фронта назову членов Государственной Думы И. И. Антонова и Г. Г. Лерхе, гр. А. А. Бобринского (периодически замещавшего отсутствующих особоуполномоченных), ген[ерал]-лейтенанта Губера, полковника С. И. Ильина, прошедшего за время войны все должности по Красному Кресту, начиная от должности начальника передового отряда и кончая должностью главноуполномоченного уже на внутреннем нашем фронте в период гражданской войны, наконец, гр. А. И. Игнатьева, занявшего должность особоуполномоченного в самый трудный революционный период войны; кроме того, некоторое время, работал, в качестве представителя 7-ой армии, и А. В. Кривошеин, до назначения его главноуполномоченным западного фронта; его помощником, а потом и заместителем был известным общественный деятель А. И. Крупенский.
С одним из особоуполномоченных, будущим агентом Временного Правительства, М. А. Стаховичем так и не удалось Иваницкому установить взаимного понимания и разумного направления работы. Этот оппозиционный оратор усматривал в распоряжениях центрального органа только признаки «бюрократического засилия», а не того порядка, который позволил сохранить нам работоспособность учреждений даже в то время, когда все рушилось на фронте, под влиянием большевистской агитации и даже после падения власти Временного Правительства. Этому нашему сотруднику пришлось с нами расстаться еще в первый период войны.
Помню, с каким ужасом рассказывал мне представитель Государственного Контроля при нашем Управлении П.Ф.Д. о результатах первой ревизии его в Управление Стаховича. В той хаотической картине ведения денежной отчетности, которую обнаружил представитель Контроля в названом Управлении, прежде всего был, впрочем, виноват я. На основании непроверенных мною данных, я командировал в распоряжение Стаховича одного мелкого чиновника на должность его счетовода, который, как оказалось, в этой области был очень мало сведущ, но, по-видимому, вполне подходил к требованиям С., не любившего стеснять дело какими-либо формальностями. С., как человек честный и со средствами, думал, очевидно, в случае каких-либо просчетов, покрывать убытки из личных средств, но забывал при этом, что Красный Крест подведомствен в своих операциях ревизии Государственного Контроля. Другого объяснения происшедшему инциденту я подыскать не могу, так как иначе С., при его самостоятельности, должен был бы с первых же дней откомандировать ко мне обратно неудачного счетовода. П. Д-н, человек удивительной душевной доброты, но чрезвычайный оригинал-неврастеник, увидев денежные записи счетовода, едва не лишился чувств, побледнел и начал даже говорить ревизуемому им чиновнику «ты», добавляя к этому фамильярному обращению разные нецензурные эпитеты, тот же так опешил, что даже не пытался возражать или протестовать; он сознавал, видимо, полную деловую правоту контролера. Вместо обычных денежных приходо-расходных книг последнему была предъявлена маленькая записная книжечка, в которую счетовод записывал все поступления и расходы, хронологически, в порядке их получения или производства. С величайшим трудом был сведен балансовый итог, причем кассовая наличность оказалась правильной, но лишь после выемки денег из брючных карманов особоуполномоченного. Такой упрощенный способ счетоводства не мог, конечно, не привести правоверного контролера в состояние потери душевного равновесия.
Кстати, о последнем. С контролем, в виду его формализма, обычно происходят утомительные и досадные трения, даже и при соблюдении известных справедливых форм отчетности. Бывали такие трения и с Д.; однажды, после какого-то столкновения, он даже сделал особое письменное заявление, чтобы мне было запрещено не только переписываться с ним непосредственно, но даже разговаривать по контрольным делам, так как я, мол, ничего в них не понимаю, а он по своему служебному положению может сноситься только с главноуполномоченным. Однако, несмотря на подобные неврастенические выходки, мы все скоро привязались к Д. За его рыцарскую смелость во многих отношениях, оригинальность и очень хорошее в конце концов, отношение к нам. Злились мы иногда очень серьезно на него за его мрачные взгляды на войну, за то, что он с раздражением, после нашего стремительного отхода от Карпат и из Галиции, повторял: «подождите, еще настанет время, когда фронт наш будет на Урале». Случайно он оказался пророком.
В связи с продвижением армий, наше Управление в начале 1915 года было перемещено в Люблин. На почве выбора места нашего пребывания у Иваницкого происходили жестокие столкновения с его непосредственным военным начальством. Главный начальник снабжений генерал Забелин, замененный вскоре генералом Мавриным, настойчиво требовал, чтобы фронтовое управление Красного Креста находилось в одном городе с Управлением начальника снабжений. Курьезно, что такое требование не предъявлялось к фронтовым комитетам Земского и Городского союзов, очевидно, только по чисто формальным основаниям, только потому, что в Положении о полевом управлении войск о союзах не упоминалось, а Красный Крест признавался частью Управления Главного Начальника Снабжений между тем, ближайшее наблюдение со стороны последнего за длительностью этих именно комитетов представлялось бы несравненно более необходимым чем за нами по причинам, о которых я скажу в своем месте.
С большими трениями Иваницкому удалось отстоять право наше выполнить хотя бы организационную работу в Киеве, как наиболее удобном для заготовительных и мобилизационных операций центре, когда управление ген. Забелина переехало в захолустный Брест. Достигнуть этого удалось путем назначения туда постоянного нашего представителя, гофмейстера В., милейшего светского, но не делового человека; впрочем, и делать ему там, в сущности, было нечего; требовалось только удовлетворить чисто формальное приказание военной власти. Когда Управление снабжений было переедено из Бреста в Люблин, решено было нам разделиться: мобилизационные распоряжения были сосредоточены в Львове, где поселился с небольшой канцелярией Иваницкий, а все остальные части нашего Управления переехали в Люблин, так что, фактически, им была предоставлена со стороны И. полня почти самостоятельность работы. Новый начальник снабжений Маврин в начале подозрительно отнесся к Иваницкому, предполагая, что он не склонен подчиняться военным властям. При первом представлении ему Иваницкого он, хмуро смотря на него, раскрыл Положение о полевом управлении войск и начал читать статьи, определяющие состав Управления Начальника Снабжений; «вот кто подчинен Начальнику Снабжений», говорил он, показывая пальцем на статьи Положения, «начальник военных сообщений, главный интендант, начальник санитарной части, полевой казначей, контролер и т. д.». «И на последнем месте», закончил он чтение, особенно ударяя на этих словах и внимательно смотря на Иваницкого, «поставлен Главноуполномоченный Красного Креста». На это И. спокойно ответил, что он уже давно хорошо ознакомился с Положением, и на этом первое свидание их закончилось. Вскоре ген. Маврин понял, что действия Иваницкого, казавшиеся только с первого взгляда произвольными, были направлены исключительно на достижение возможно больших полезных результатов от краснокрестной работы, и отношение этого выдающегося честного генерала, как к Иваницкому, так и ко всему нашему Управлению, хотя внешне порою и суховатое, было исполнено доброго внимания и уважения, чем он пользовался и с нашей стороны до конца нашей совместной работы уже во время государственного переворота. Я шокировал сначала Маврина своим слишком штатским видом и привычками: рукою в кармане, папиросой в зубах и т. п., но он скоро понял, что дело не в этих, чисто внешних, признаках дисциплины, столь необходимых в военной среде и так трудно воспринимаемых гражданскими чинами, случайно и на время попавшими на совместную с военными работу. Он внимательно выслушивал мои доклады и бывал ласков, насколько может быть ласков суровый, много работающий солдат.
Иваницкий из Львова, в первый же день взятия нами Перемышля, ездил туда для организации питательной помощи раненным и населению; затем он оставался в Львове до последних дней удержания его в наших руках, так как наши перевязочно-питательные учреждения работали на вокзале, под огнем неприятеля, до конца эвакуации, за что большинство местного краснокрестного персонала, во главе с Иваницким, было награждено Георгиевскими медалями.
Моя тыловая работа в Люблине протекала в спокойной, уже налаженной обстановке, требовала большой усидчивости и внимания к различным деловым мелочам, но, в общем, была мало интересна. Стильный старинный город Польши, с которым связано и много русских исторических событий, стал за несколько месяцев нашего пребывания в нем каким-то дорогим для нас; покидать его было грустно. Здесь мы пережили радость взятия Перемышля и победоносного продвижения наших армий к Венгрии, с ожиданием взятия Будапешта; здесь же была пережита нами недоуменная печаль по поводу стремительного нашего отступления. Сначала известию об утрате нами Перемышля никто не верил; потом, когда официальные сообщения не оставляли уже места сомнениям, вдруг дошел до нас слух, что Перемышль снова взят нашими войсками. Несколько часов этому верили, потому что очень не хотелось верить в возможность серьезных неудач. Кто-то, кажется директор местной гимназии, получил неразборчивую сильно запоздалую телеграмму об оставлении Перемышля; телеграмма была понята, как известие о вторичном его взятии нами. Служи о том, что у нас не хватает снарядов, что наши солдаты отбивались порою от врага прикладами и даже палками, усиливались, но первое время им старались не верить. Смотревших пессимистически на исход войны резко порицали, называли паникерами. Я в глубине души, но, увы, не долго, возмущался Н. А. Хомяковым, который даже в период наших успехов ворчал; в бытность мою в Львове он говорил: «какая это будет для нас печальная война; такой еще не было». Я видел встречу Государя в этом вновь присоединенном городе и вскоре понял, что большую ошибку сделали те, кто посоветовал Царю поспешно посетить львов и говорить о соединении всей старой Руси.
В апреле 1915 г. я был срочно вызван в совещание к генералу Маврину; обсуждались меры эвакуации, в связи с поспешным отступлением. Для штатского человека, для чиновника, привыкшего к созидательной, а не разрушительной работе, предложенные военным ведомством меры были дики: предписывалось уничтожать все продовольствие в оставляемых районах, даже хлеб на корню, даже большинство усадеб, сад и т. п. Война давала опытные уроки будущей смуте; учила народ грабежу и разорению чужого имущества. Кроме того, такие меры возбуждали сомнение в возможности нашего возвращения, по крайней мере, в скором времени, на места наших побед; они указывали, что война затягивается уже не на месяцы, а на годы. Все это убивало веру, не поднимало, а умерщвляло бодрость духа. К разорению имуществ присоединялось разорение людей, так как все население способное сражаться, подлежало принудительной эвакуации, создавалась недовольная масса оторванных от своих семей и родных углов людей; эту массу отправляли в тыл, где она с миллионами запасных, часто совершенно бездействующих, часто призванных почему-то как раз в разгар полевых работ, представляла из себя громадны горючий материал для будущего революционно-анархического костра.
В это именно самое время поползли, очевидно, под влиянием строго продуманной и хорошо руководимой пропаганды, зловещие гнусные слухи об измене, о возможности сепаратного мира с немцами, о роли в судьбах войны и направлении нашей внутренней политики придворного «старца» Распутина. Те, кто стоял далеко от наших военных масс, кто видел их только в боях да путешествуя в своих собственных вагонах, то сталкивался лишь с официальной и парадной стороной военной жизни, не знал и не понимал, конечно, значения и размера возникавших слухов. Обывателям же, в том числе и мне, приходилось быть свидетелем таких разговоров среди нашего офицерства, даже лучших гвардейских полков, не говоря уже о многочисленной «штатской» нашей армии, о «земгусарах» и т. п., которые указывали, что назревает какая-то грозная опасность не только для династии, но и для родины. Пресса широко поддерживала, не обращая внимания на военную цензуру, злые слухи. Думские кафедры помогали прессе и тем таинственным людям, которые где-то за кулисами дирижировали революционной увертюрой. Из первоисточников становилось иногда известно о протестах по поводу нашего политического курса со стороны лиц самых близких к Царю. В результате, мы узнавали только об опале постигшей то или иное лицо, несмотря на его высокое положение или родственной отношение ко Двору. Среда Красного Креста, в частности, была смущена внезапным, но таким основаниям оставлением своей должности при Ставке представителем нашего общества П. М. Кауфманом-Туркестанским.
Особенно стали шириться тревожные слухи после устранения популярного в армиях Великого Князя Николая Николаевича от верховного командования и после того, как даже консервативный Государственный Совет принял большинством голосов резолюцию об опасности «безответственных влияний». И самого главного при этом, того, вся сила чего была сознана лишь слишком поздно, после переворота, т. е. контрпропаганды, не было совершенно. Те на кого, как поняли мы только впоследствии, клеветали, считали ниже своего достоинства выступать с какими-либо опровержениями. Между тем, было время, когда даже нескольких Высоких слов, сказанных представителям народа с думской кафедры, было бы достаточно, чтобы ослабить, расстроить ряды внутренних врагов. Милюков в Думе, не имея, как оказалось потом, никаких данных, на весь мир кричал об измене нашего премьера Штюрмера, и мы, простые граждане-обыватели, так и оставались под впечатлением этого тяжкого обвинения. Нам никто, в опровержение Милюковского утверждения, ничего не говорил. Хотели, чтобы им верили вслепую тогда, когда великие потрясения родины заставили жить сознательно громадные массы русских людей. В душе гражданина-обывателя накоплялось злобное или печальное, в зависимости от темперамента, раздражение, которое неминуемо должно было толкнуть его на ложные выводы, пути и действия, тем неизбежнее, что эти печаль и злоба диктовались самыми сильными и высокими побуждениями — любовью к родине, печалью за ее неожиданные неудачи, злобой на тех кто молвой, никем не опровергаемой, считался виновником этих неудач.
Начиналось, одним словом, то самое трагическое за все время существования России недоразумение, которое привело ее к временной гибели. «Недоразумение», конечно, для масс русского народа, для большинства русской интеллигенции, пожелавшей чисто политического персонального переворота, но не для той кучки утопистов, которой, по забытым в то время словам покойного Столыпина, так нужны были «великие потрясения», этот раз при мощной помощи внешних врагов России.
Моя душа, по причинам, возникшим еще ранее, до войны — в силу, казавшихся мне крупными, служебных неудач, была подготовлена к восприятию царившего в России зла и печали. Слыша доносившуюся издали канонаду немецкой артиллерии, наблюдая за спешной упаковкой вещей и дел нашего Управления, я винил во всем происходившем Того, Кто в это время скорбел о наших неудачах, без сомнений, гораздо острее и сильнее чем я, ибо Он был не только гражданином, но и Представителем всей нашей родины.
После утомительной поездки на автомобиле через Холм и Ровно в Дубно, я окрестностях коего предполагалось, по настоянию военных властей, разместить наше Управление, хотя было уже ясно, что Дубенский район скоро явится передовым на фронте боевых действий, я вернулся в Люблин, чтобы покинуть этот город навсегда, для переезда на четыре года в Киев. Когда здесь один из моих сослуживцев, вошедший впоследствии в состав Временного Правительства, видя мои заботы о текущих злободневных делах, заявил мне: «чего вы волнуетесь, стоит ли думать о мелочах в такое время, когда надо засучивать рукава и идти на борьбу…» (и без слов понятно с кем и с чем), я уже не оскорбился и не изумился. Масса русской интеллигенции была тогда готова к этой борьбе и участвовала в ней, если не активно, то пассивно, легко приняв свершившийся переворот, признав его. Я от активного участия в политической работе, к счастью, отказался и добросовестно, как чиновник, продолжал на фронте свою скромную работу, но она меня уже весьма раздражала, к чему, впрочем, были и действительные объективные основания.
Как я уже упоминал, в работе моей преобладала, после первого организационного периода, чисто канцелярская мелочь; по сравнению с деятельностью моей мирного времени, работа была очень однообразна и скучна, но дело, конечно, могла идти правильно только при условии самого внимательного отношения к всем его мелочам, так как, повторяю, мелочей на службе нет — в ней важен, как и в машине, всякий мелкий незаметный винтик.
Мелочи моей работы отнимали у меня весь почти день: с раннего утра до позднего вечера, с небольшим только перерывом для обеда. В эти мелочи вносилось много затруднений излишним, с моей точки зрения, формализмом и нежизненными требованиями военного ведомства.
Помимо того, что нашему Главному Управлению надо было доставлять ежемесячные или сводные за два-три месяца обзоры нашей работы, для чего требовалось извлекать различные цифровые данные из разрозненных, обычно скудных, донесения наших армейских и тыловых представителей, систематизировать сведения о ходе военных действий, дабы связывать с ними те или иные краснокрестные операции и т. п., военные власти фронта прямо заваливали наше Управление требованием всевозможных, часто, но в общем незначительно, менявшихся в короткие сроки, цифр: о числе больных, раненных, санитаров, лошадей, повозок, вагонов и т. д. Наиболее больным был вопрос о санитарах, и хотя, с первого взгляда, этот вопрос представляется второстепенным, но мой опыт в этом деле может, мне кажется, пригодиться на будущее время, почему я скажу о нем несколько слов.
Несмотря на массовые призывы, военное ведомство хронически беспокоилось, чтобы в санитарных учреждениях не работали «бойцы»; при всяком удобно случае следовали решительные резолюции: «каждый лишний боец нужен фронту». В представлении нашего военного ведомства санитарная служба являлась чем-то второстепенным. Поэтому оно систематически повышало возрастной ценз для должности санитара, требуя откомандирования более молодых возрастов, как будто бы физическая выносливость и служебный опыт не имели никакого значения для санитарной службы и как будто бы правильная постановка последней не обеспечивала сохранения именно возможно большего числа бойцов и скорейшего возвращения раненных на фронт. Когда в Киев вошли германцы я обратил внимание на здоровый, бодрый вид их госпитальных санитаров; почти все были молодых возрастов. Известно, что в германской армии потери раненными и больными были относительно меньше, а сроки возвращения в действующие части были значительно короче чем у нас, кажется, чуть ли не в два раза. Требования наших фронтовых властей, хотя у нас, конечно, не могло быть такого кризиса в живой боевой силе, как в Германии, предъявлялись часто так неожиданно, с такой не деловой поспешностью, что только сбивали с толку, нарушали налаженное дело, портили личный состав даже передовых отрядов, обозов санитарных транспортов. На переписку по этим делам тратилось невероятно много бумаги, времени и нервов. Опыт последней великой войны должен быть использован по сравнительным данным нашей и чужой санитарной статистики, чтобы раз навсегда для следующих войн покончить с вредным невежеством военных властей в такой ответственной области, как помощь больным и раненным воинам.
Другая, более мелкая, подробность моего дела, которая чрезвычайно меня нервировала и утомляла — это была переписка о награждении служащих. Красный Крест, равно, как и другие общественные организации, совершенно разумно в самом начале войны постановили никаких наград своим служащим не испрашивать, отложив вопросы о том или ином награждении их ко времени окончания войны. Такая мера освобождала бы Управление Красного Креста и другие от излишнего во время войны канцелярского труда, выслушивания просьба со стороны лиц, считающих себя обойденными, вообще от всяких не относящихся к сущности дела мелких формальностей, сопряженных неизбежно с наградными операциями. Последние вовсе не так просты, как кажется: наградная часть управлений должна иметь в своем распоряжении формуляры служащих, вести алфавитные книги награжденных с указанием рода и срока награды, в нескольких экземплярах составлять мотивированные, основанные на законе и дополнительных к нему распоряжениях специально военного времени, представления и т. п. Военные фронтовые власти, оставляя в покое Союзы, предъявили к Красному Кресту обязательное требование руководствоваться в наградном деле общими для воинских учреждений правилами о наградах; формальным основанием такого требования служило, очевидно, опять-таки то обстоятельство, что Красный Крест рассматривался Положением о Полевом Управлении войск в качестве составной части военного управления тылом фронта. Если можно было еще оправдать раздачу боевых наград краснокрестным работникам передовых лечебно санитарных учреждений, так как подобные награды особенно ценятся и оказывают поощрительное влияние в случае пожалования их так сказать по горячим следам мужественного поступка, то тыловая работа, несомненно, с полным успехом поддавалась наградной оценке по окончании войны, хотя бы в виде особо льготных награждений чинами и орденами; минуя два, даже три очередных чина или ордена, пусть, даже считая каждый месяц войны, в случае ее победоносности, за год. Между тем у нас началась прямо какая-то наградная вакханалия в разгар войны, в разгар тягчайшего положения на фронте. Приказы требовали представления служащих к наградам чуть ли не каждые полгода. Мне пришлось заводить многие сотни формуляров различных наших губернских, уездных, армейских работников. Сначала наградным делом ведал милейший и добрейший В., но он готов был представить каждого к любой награде; по отсутствию надлежащих записей при нем появились представления некоторых лиц ко вторичному награждению одним и тем же орденом или медалью и т. п. Военное начальство придиралось к подобным непорядкам. Устранение их потребовало от меня затраты на ненужное дело очень много полезного времени. Но самое главное — начались, в связи с наградной вакханалией, различные жалобы, домогательства, в особенности со стороны дам-благотворительниц: награждение одной ранее другой или случайно более высокой наградой вызывало обиды, объяснения, иногда в повышенном нервном тоне. Светские дамы юго-западного края, имея старые личные связи с Главнокомандующим генералом Н. И. Ивановым, так как перед войной он долго командовал киевским военным округом, надоедали даже лично ему своими хлопотами о наградах, даже иногда ездили к нему в ставку, занимая его наградной болтовней в то время, как ум и сердце всех, а в особенности, конечно, главнокомандующего, должны бы были быть заняты тем, что происходило на театре военных действий. Добряк Н. И. Иванов не имел вилы воли прогнать от себя всех подобного рода просительниц, он их внимательно выслушивал, напоминал нам о забытых при распределении очередных наград. Мне все это было противно до глубины души; и однажды у меня на этой почве произошло даже столкновение с адъютантом Главнокомандующего. Я, утомленный дневной работой, готовился уже ко сну, кажется, в первом часу ночи, когда в квартире нашей раздался сильный звонок и прислуга сообщила мне, что меня желает видеть какой-то офицер по срочному поручению Главнокомандующего. Я в первое время подумал, что произошло что-либо весьма важное на фронте и с любопытством поспешил гостиную. Офицер начал говорить мне, что некая г-жа Г., работающая добровольно в большом частном лазарете, до сих пор не представлена к очередной медали, в то время, как ее, кажется, родственница, за аналогичную работу уже награждена соответственно медалью. Главнокомандующий интересовался узнать причину такого невнимания к заслугам Г. и предлагал в срочном порядке войти с представлением о ее награждении. Я вспылил, заявил, что Г. совершенно не знаю (оказалось впоследствии, что она служила в госпитале Земского Союза) и что ночью на дому у себя никаких сведения по этому делу дать не могу. Когда мой собеседник, задетый, вероятно, моим тоном напомнил мне, что он передал мне приказание Главнокомандующего и попросил точно формулировать мой ответ последнему я заявил: «передайте Главнокомандующему что я совершенно добровольно оставил свои служебные дела в Петербурге для того, чтобы принести посильную помощь больным и раненным, а не заниматься угождением дамам». Этот разговор никаких неприятных последствий для меня не имел: или офицер не передал генералу Иванову мои слова, либо последний с чуткостью отнесся к моему настроению. После крушения старого строя такой чуткости при моих служебных столкновениях уже не наблюдалось: нас признавали в подобных случаях либо контрреволюционером, либо большевиствующим, в зависимости от обстановки: люди, утратив взаимное доверие после того как души их были растленны революционными приемами работы и борьбы. В моих «эмигрантских воспоминаниях», которые явятся продолжением моих этих записок, мне придется остановиться подробно на больной психологии наших временных властей, отразившейся на моем личном служебном положении. Здесь этому печальному воспоминанию не место.
Вообще, я часто изумлялся, как наши, подчас суровые в своих требованиях по службе и в отношении даже чисто внешней дисциплины, военные генералы пасовали обычно перед дамской надоедливостью. Характерный, чрезвычайно возмутивший меня случай, имел место в первые дни войны с одной родственницей моей семьи — богатой помещицей одной из пограничных губерний. Эта дама, взволнованная, как она говорила, «бездействием наших властей», прикатила в Киев, чтобы просить помощи у генерал-губернатора против нахальства австрийцев, забравшихся в ее сад и истребивших богатый урожай слив. Генерал Трепов, несмотря на все его спокойствие и добрый характер, и тот, по-видимому, рассердился на эту оригинальную просительницу, когда она не хотела понять, что у нас с Австрией война, что грабящие ее сад австрийцы не частные люди, а солдаты передовых отрядов, что с ними будет сражаться наша армия, а полиции в это дело вмешиваться нельзя. По крайней мере, эта родственница очень жаловалась нам на невнимание к ней Трепова, на то, что он категорически и очень сухо отказал ей в помощи, тогда как, по ее мнению, для того, чтобы выгнать из сада тощих австрийцев требовалось не более 20–30 хороших стражников. Из ее рассказа видно было, что генерал-губернатор, будучи завален работой, все-таки долго с нею беседовал и, пока не был выведен из себя назойливостью просительницы, как бы даже извинялся за то, что борьба с австрийцами не дело гражданской власти, а сделался сух и даже грубоват только в самом конце разговора. Между тем, выпороть такую вздорную бабу, пользуясь положением войны, было бы, по-моему мнению, самое лучшее из того, что мог сделать генерал-губернатор, так как этим он надолго бы отвадил от себя надоедливо-взбалмошных просительниц, которые даже во время великих событий для их родины носятся прежде всего со своим маленьким «я».
Надоедливая мелочность и тоскливое однообразие моей канцелярской работы нарушались выездами моими для сопровождения Вдовствующей Императрицы, как Попечительницы Общества Красного Креста, по многочисленным киевским госпиталям, да сравнительно редкими выездами в различные местные совещания (Полтаву, Чернигов, Могилев, Кишинев и проч.) и для осмотра армейских учреждений.
В половине, кажется, 1916 г. Государыня Мария Федоровна переехала в Киев на постоянное жительство. Так как Иваницкий находился в частых разъездах по фронту, то мне, как его заместителю, приходилось очень часто сопровождать Государыню при осмотре лечебных учреждений. Государыня отличалась, несмотря на свой пожилой возраст, поразительной неутомимостью, проводя иногда на ногах, при обходе раненных, два-три часа без перерыва. Любимым ее учреждение был, естественно, собственный Ее Величества госпиталь, сформированный на ее личные средства Кауфманской Общиной, а также госпиталь Евгениинской общины (в здании Александровской гимназии), в котором старшей сестрой была самоотверженно работающая Великая Княгиня Ольга Александровна. Выезды Государыни были неожиданны, и мне по телефону из Дворца сообщали куда она едет; я быстро одевал ордена, шашку и быстро выезжал на автомобиле по указанному мне адресу. Не привыкнув к парадной стороне службы, я иногда забывал свои ордена дома и тогда брал у сослуживцев первые попавшие ордена. Государыня не замечала, конечно, перемены в моих отличиях, но придворная свита, по-видимому, изумлялась порою неустойчивости моего «кавалерского» положения. Наши госпиталя отличались обычно такой чистотой и исправностью, что никаких волнений посещение их Августейшей Попечительницей Общества не вызывало. Обиды на неравномерное и без соблюдения очереди посещение учреждений никем никогда не заявлялось, кроме одного госпиталя, Елизаветинского, начальник коего проф. Томского Университета Березниговский очень волновался по поводу долгого ожидания им Государыни; он несколько раз приходил ко мне справляться когда состоится приезд Государыни, претендовал, что часть других госпиталей уже осчастливлена Высочайшим вниманием по несколько раз и просил меня напомнить о существовании Елизаветинского госпиталя. Я обнадеживал его, что последний забыт не будет, но, конечно, не соглашался доложить непосредственно Государыне о желательности ускорить ее приезд в этот госпиталь, так как знал, что своевременно дойдет очередь и до него, направление же Государыни в то или иное учреждение не по ее собственной инициативе было бы неуместно. Что-то задерживало посещение Государыни этого госпиталя, и Березниговский не переставал мне напоминать о себе. Когда Государыня, наконец, прибыла в Госпиталь, этот профессор поднес ей букет цветов, выражал свои лицом полное счастье и подвел даже под ее «благословение» каких-то детей, которых выдавал за своих, кажется, племянников. Эту мелочь отмечаю здесь потому, что через несколько месяцев после этого тот же самый профессор пытался разыграть роль краснокрестного Робеспьера.
Пребывание в Киеве вдовствующей Императрицы совпало с пятидесятилетием прибытия ее в Россию. Я удостоился приглашения Ее Величества на парадный завтрак и затем был на парадном спектакле в городском оперном театре. Завтра носил довольно интимный характер и прошел оживленно, но в театре сказались на общем настроении та тревога и недоумение, которые владели тогда умами и душами русских людей. Даже красивая в музыкальном отношении и художественно исполненная патриотическая кантата (не помню ее автора, кажется, Глиер) прошла как-то незамеченной; отрывки из различных опер слушались совсем без внимания. В театре было печально, тоскливо. Говорили, под шумок, что сама Царица-Мать не одобряет политики своего сына.
Из моих поездок за пределы нашего центра наиболее богатыми по испытанным мною ощущениям были две командировки на фронт, когда и мне пришлось непосредственно ознакомиться с боевой обстановкой и еще более укрепиться в отвращении моем к варварствам войны. Большое влияние на такое мое настроение оказывало еще то обстоятельство, что при этих моих поездках я обнаружил в себе отсутствие храбрости, так как оставаться внешне спокойным в момент опасности — это еще, мне кажется, не значит быть храбрым: надо уметь еще не думать о самой опасности и надо уметь вернуться из опасной обстановки, сохранив непотрепанными свои нервы. Впрочем, по словам военных, к опасностям привыкают, как и ко всяким жизненным неудобствам.
Один раз я попал под орудийный огонь, возвращаясь в Киев из Минска кружным путем по Полесской железной дороге через ст. Замирье близ Барановичей и Сарны. Я ехал вдвоем с помощником Заведывающего Медицинской Частью нашего Управления доктором А. В. Чириковым, моим старым сослуживцем-приятелем еще по ведомству водных путей. С утра мы ничего не ели, провизии с собою не взяли, так как нас сказали, что нас великолепно среди дня накормят на станции Замирье, где находился краснокрестный питательный пункт дочери Н. А. Хомякова — Е. Н. Скалон. Эта станция и была всю дорогу пределом наших мечтаний; к трем часам дня мы с Чириковым говорили уже только о малорусском борще. Как часто бывает, когда ожидаешь с особым нетерпением какой-нибудь станции, ближайшие к ней перегоны кажутся особенно продолжительными, а тут еще наш поезд застрял как раз на последней перед Замирьем станции. Мы стояли уже около получаса, когда сопровождавший нас санитар, побывав на станции, объявил нас, что Замирье ничего не отвечает по телефону, по-видимому обстреливается из соседних Баранович, занятых германцами, но что начальник станции решил рискнуть пропустить наш поезд, в надежде, что он быстро, без остановки проскочит через линию огня. Мы тронулись и уже теперь все явственнее и явственнее несколько различали гул орудий. Перед ст. Замирье поезд наш постоял несколько минут как бы в раздумье и затем быстро помчался; мы слышали уже не только быстрые разрывы, но и свист снарядов. Издали из окон вагона стали различать маленькую, долго искусственно скрывавшуюся от германцев станцию; она представляла из себя развалины; очевидно, неприятельская артиллерия покончила со станцией, так как снаряды рвались в лесу за станцией. Вдруг поезд наш, после нескольких толчков, стал как раз у станции; случилась какая-то неисправность. Пять или десять минут нашей стоянки под свистящими снарядами показались мне целой вечностью (этот гнусный звук я слышал тогда впервые в жизни и не думал, что через два года я буду им наслаждаться, как предвестником освобождения моего от ига большевиков). Станция была пуста; ее мертвый вид так не отвечал обычному представлению о железнодорожных стоянках, что она казалась картиной какого-то страшного сна. Вдруг, из-под деревянного блиндажа близ станции показалась чья-то голова, улыбнулась нам, приветливо помахала нам рукой и быстро скрылась при звуке разрыва за станцией. Чириков почему-то лег на полу в коридоре, уверяя меня, что такое положение безопаснее; его большое тело и красиво лицо на полу тоже казались мне каким-то сновидением. Не думал я тогда, что через год наступит страшнее всякого сна действительность, когда так боявшийся погибнуть от немецкой шрапнели Чириков будет лежать в такой же позе в мертвецкой Киевского госпиталя, среди многих других трупов — жертв собственных озверелых соотечественников.
Когда мы расстались с «Замирьем», мы испытали чувство чисто животной радости. В Лунинце, уже поздним вечером, в невероятной толкотне и грязи, мы жадно поужинали и теперь мечтали только о сне, но и это наше ожидание не оправдалось так же, как и ожидание обеда перед «Замирьем». Только что мы начали раздеваться в одной из комнат местного госпиталя, как кто-то быстро бежавший постучал в наше окно и на ходу крикнул: «гасить огни, цеппелин». В глубокой темноте, в незнакомой комнате мы совершенно не могли ориентироваться. Весь госпиталь, да и все окрестности его, включая только что горевшую огнями станцию, погрузились вдруг в глубокий мрак. К нам в комнату пришел доктор и почему-то шепотом, как будто враг мог нас услышать, рассказывал нам, как на днях прилетал «Цеппелин»; на пассажирской станции успели погасить огни, а на товарной замешкались и она была обращена в груду мусора. Доктор долго занимал нас повествованиями на злободневную тему: какого невероятного веса взрывчатые массы, выбрасываемые «цеппелинами», что прилетают он только темными ночами, аэропланы же бомбардируют станцию почти каждый день по утрам, а чаще — к 5 ч. вечера, что вреда причиняют они сравнительно мало; доктор советовал нам ложиться на землю, когда заметим над собой аэроплан, так как брошенная с него бомба разрывается веерообразно вверх; впрочем, в последнее время появились новые бомбы, осколки от которых стелятся по земле, почему от них уберечься уже трудно; в госпитале у доктора лежал раненный, у которого осколком аэропланной бомбы вырвало почку во время его сна на вагонной скамейке; осколок пробил полвагона, скамью и вырезал почку у человека так аккуратно, как ложка берет кружочек мороженного из мороженицы. Слушая в этом рое рассказы о том, как люди совершенствуются в искусстве истреблять друг друга и охранять себя от взаимных нападений, мы не заметили, как начала брезжить заря, и заснули в приятном сознании, что «цеппелинская» опасность миновала.
Вся Полесская железнодорожная линия долго в моем воспоминании представлялась мне районом какой-то аэропланной эпидемии: с 5 вечера начиналось противное жужжание летательных аппаратов, которых человечество так жадно, со времен Икара, добивалось с совершенно иными идеалами по сравнению с теми, которым они служили теперь. На ст. Сарны мы застали следу разрушения и смерти: бомба снизившимся аппаратом была брошена в середину только что прибывшего поезда с новобранцами, она искалечила и убила несколько десятков молодых солдат. Мне казалось, что если бы воинские поезда останавливались на продолжительное, сравнительно время, не у самих станций, к которым пристрелялись неприятельские летчики, а на расстоянии хотя бы ста сажен от них, то жертв было бы гораздо меньше. Я, ссылаясь на тяжелое происшествие в Сарнах, на то деморализующее влияние, которое оказывает на молодых солдат гибель многих людей задолго еще до боев, написал об этом начальнику военных сообщений юго-западного фронта генерал-лейтенанту И. В. Павскому, который, с обычной его любезностью, немедленно ответил мне на мое письмо. Он сожалел о мертвых, но признавал неизбежность их, указывая на невозможность менять график движения и вообще изменить условия остановки поездов. Я не специалист, но продолжаю все-таки думать, что при краткости времени удобного для налетов аэропланов на станцию, вполне возможно было бы добиться воспрещения воинским поездам останавливаться у больших, особо излюбленных неприятельскими летчиками, станций от пяти, например, до семи часов вечера.
Когда мы выехали из района аэропланов, по мере нашего продвижения на восток от Сарны, нами снова завладела чисто животная радость жизни.
Я думал о тех, которые оставались там, в Сарнах и на западе от них, сожалел о них и на пассажиров всякого встречного поезда смотрел как на несчастнейших людей, обреченных, если не на смерть, то на мучительные переживания постоянного ее ожидания.
В Киеве, во сне, меня много дней преследовал свист летящего снаряда и шум пропеллера, подобно тому, как в 1905 г. в моей голове долго звучали крики революционной уличной толпы. Нервы мои, очевидно, не были приспособлены к переживанию даже мимолетных боевых впечатлений.
В следующую мою поездку я побывал на передовых позициях фронта; узнал военную жизнь армии в самом ее настоящем виде. Это были дни накануне знаменитого «Брусиловского» прорыва, когда возобновились успехи наших армий, брались сотни тысяч пленных, снарядов было изобилие и мы надеялись на скорое возвращение нам Львова. Я осматривал наши учреждения в Луцком районе близ станции Олыка, откуда началось наше стремительное наступление по всему фронту.
Целью моей поездки было — осмотреть работу на месте одного из наших передовых отрядов и ближайших к передовым позициям эвакуационных лазаретов. По мысли Иваницкого, на нашем фронте, кроме обычного типа перевязочно-питательных отрядов, имевших целью оказывать первую помощь раненным на боевом театре и эвакуировать их в лазареты, были сформированы, так называемые, «летучие» передовые хирургические отряды; «летучими», в сущности, были все передовые отряды, но обыкновенные прикреплялись к определенным корпусам, за которыми всюду уже и следовали обычно, а хирургические направлялись в том или иной район в зависимости от хода боев, так сказать, усиливая нормальный состав санитарных учреждений. Хирургические передовые отряды имели конный транспорт, но один из них, как раз расположенный в районе Олыки, передвигался в вагонах. В этом районе я имел возможность ознакомиться с всей системой наших армейских упреждений, начиная с обычного перевязочного типа и специального хирургического передового отряда и кончая подвижными лазаретами, а также полевыми госпиталями в Ровно. Получить личные впечатления на месте работ всех этих учреждений для меня, как составителя или редактора наших отчетов за войну, было, конечно, весьма важно в деловом отношении, с обывательской же точки зрения представлялось любопытно побывать хотя бы один раз, за долгое время моего проживания на фронте, там, где была подлинная война.
Отправился я в Ровно и далее совместно с другим нашим помощником заведующего Медицинской Частью доктором В. Ю. Андресом. Это был, за его необыкновенную доброту и свойственный немцам доброго старого времени чистый идеализм, общий любимец всех краснокрестных работников, как в центре, так и в армиях. От Ровно к позициям мы ехали на передке чрезвычайно разбитого грузовика-автомобиля; трясло нас неистово. Вскоре появились «колбасы» — наши воздушные наблюдатели за неприятелем; различные обозы как-то боязливо прятались от аэропланов в искусственно устроенных насаждениях там, где не было леса; по дороге встречались иногда носилки с раненными при разрыве аэропланных бомб; при всякой остановке говорили только о том, где и что наделал неприятельский аэроплан; над одной ротой, стоявшей в строю у опушки леса, появился летчик; когда он стал снижаться, большинство успело разбежаться, но несколько человек замешкалось и осталось на месте изуродованные, мертвые или убитые. Гул канонады с каждым часом нашего пути усиливался. Чувствовалось, что мы в местах смерти и мною овладевало обычное дли меня отвращение перед убийством. В тылу, пожалуй, даже хуже было, чем впереди, потому, что здесь люди погибали без борьбы, от руки слышных, но не видимых врагов. В хирургическом отряде мне показали солдата, получившего осколками шрапнели до тридцати ран; он пролежал несколько месяцев и уже поправлялся. Доктор весело мне сказал про него: «через два месяца будет пахать»; солдат жизнерадостно улыбнулся. В одном из лазаретов я увидел бледного, с потусторонним взглядом красивого парня, вероятно, еще недавно сильного и веселого; над ним сидела сестра милосердия и веткой сгоняла с его лица мух. Я уже знал, что означает эта печальная картина с веткой — я раньше уже много видел в госпиталях тех, кому последние часы жизни облегчались этим «опахалом». Поэтому, еще не доходя до кровати умирающего, я знал, что он умирает. Шепотом спросил сестру какая рана; оказалось — очень легкая, пустая, сквозная в ногу, но пришлось далеко идти до первой перевязки, потерял слишком много крови. Здесь воочию становилось ясно значение возможно большого числа передовых отрядов: один, после тридцати ранений, будет скоро пахать; другой гибнет, в течение суток, после легкой раны.
Когда мы подъезжали уже на лошадях к деревне, в которой квартировал наш передовой отряд, возница, обернувшись к нам, и показывая кнутом на мост, в виде гати через речку и болото, сказал: «там помчимся, это место обстреливается пушками; австриец все хочет разрушить мост, да только пока не попадает; бомбы падают в болото, не разрываясь». Действительно, мы заметили затонувшие в иле снаряды, но ехать было все-таки жутко от сознания, что проезжаем по мосту, привлекающему внимание врага. Далее пришлось так же быстро промчаться через перелесок, находившийся под пулеметным и оружейным огнем неприятеля. Отряд наш помещался в части деревни в какой-то котловине, куда неприятельский огонь не достигал; вторая же половина деревни была разрушена, и странно как-то было видеть обычную жизнь: собак, кур, кошек и спокойных людей, в первой части поселения и мертвую тишину во второй. Впоследствии, во время бомбард роки Киева всевозможными войсками: петлюровцами, большевиками, добровольцами, я всегда вспоминал о деревне близ Олыки; на фронте настоящей войны было нечто радушное, что давало возможность дать себе передышку, в гражданской же войне была какая-то озверелая беспорядочная стрельба во всех направлениях. Тогда только я понял, что в мире есть нечто еще отвратительнее, чем обычная война.
Боев не было, происходили только ежедневные перестрелки, почему передовой отряд бездействовал; он высылал только на всякий случай дежурную двуколку к окопам, которая вывозила оттуда случайных раненных, больных или убитых, большей частью, по собственной неосторожности, так как достаточно было высунуть голову из окопа, чтобы стоявшие против нас тирольские стрелки убивали любопытного или просто неосторожного солдата. Говорили, что на днях, на фронте ожидается что-то крупное, но подробностей никто ничего не знал.
На другой день рано утром мы отправились на ближайшую замаскированную батарею, а оттуда в окопы. Снова особенно быстро проезжали отдельные участки дороги, открытые неприятелю. Офицеры радовались посторонним людям из другого мира, в котором жилось так спокойно и удобно; всегда любезно знакомили нас с различными подробностями военного дела, были словоохотливы, как люди давно не бывшие в обществе. Когда мы спускались к окопам, какой-то встречный полковник приветливо помахал нам рукой и на ходу прокричал: «ну и отчаянный этот народ — доктора!», как будто бы нам угрожала большая опасность чем ему, ежедневно совершающему свой путь по окопам. Идти, полусогнувшись, пришлось более часа; ноги расползались на липком глинистом грунте; чтобы не упасть приходилось все время хвататься за грязные стенки окопа, пот с головы моей струился, как будто бы на меня вылили ведро воды. Я с ужасом думал, что здесь ходят по несколько раз в день и живут месяцами такие же русские люди, как я, что это привычная для них обстановка, но лица встречавшихся с ними солдат и офицеров были хотя и не веселы, но так сравнительно бодры и походка их была так уверена, что, очевидно, сила привычки побеждала все. К концу стены окопов повышались, можно было вытянуться во весь рост, начали попадаться комнаты-землянки, со скромной походной обстановкой. Дежурный офицер провел нас по всем «казармам», в них было мрачно до уныния, но чисто; в конце концов он вывел нас на «передовой секрет»; отсюда в нескольких десятках шагов от нас были австрийские стрелки. Я подошел к маленькой дырочке в деревянной стене «секрета» и увидел стан врага совсем близко, почти рядом с собою. Вдруг почувствовал сильный толчок в спину и отлетел от перегородки; это меня отбросил дежурный офицер от любопытного места. «Что вы делаете?», испуганно прошептал он, «простоять здесь больше секунды — это равносильно смерти; вчера так погиб на моих глазах наш солдат, тирольцы имеют удивительный глаз». Затем нам были показаны ручные гранаты. Узнав, что я никогда не видел их действия, офицер начал бросать их в неприятельские окопы; они разрывались за проволокой, то на нейтральной полосе, то уже у неприятеля. Я думал, что таким путем мы вызовем ответ у неприятеля, но офицер, как бы угадывая мои трусливые мысли, поспешил успокоить нас, что австрийцы сейчас обедают и во время обеда ни за что не станут отвечать нам. Трудность метания бомб заключается в умении бросить бомбу немедленно после того, как зажжен фитиль; малейшая заминка, и бомба калечит или убивает бросающего и его соседей; наши солдаты, при грубости их рук, довольно часто и долго делали неудачные броски. Вдруг, перед нами, вместо небольшого разрыва ручной бомбы, послышался сильный взрыв, за ним другой, третий и началась какая-то канонада. Оказалось, что это наша артиллерия делает прицел к неприятельским позициям. В одну минуту, после криков по телефону, снаряды стали ложиться не близ нас, а на линии неприятельских окопов; прицел был исправлен. Стало ясным для всех, что мы готовимся к наступлению. Сопровождавший нас артиллерист сказал мне на ухо: «если наступление в ближайшие дни, то все с кем вы разговаривали здесь, больше никогда не встретятся на Вашем жизненно пути; они первыми должны будут выйти из окопов». Дежурный офицер и его товарищи стали сразу какими-то иными в моих глазах; мне было стыдно, что я уеду отсюда, а они останутся, и ложно стыдно того, что, может быть, они угадывают мои мысли. Между тем, все они держались совершенно просто, показывали какие-то запонки и другие вещицы, сделанные солдатами из осколков снарядов, что-то подарили нам на память. Надо было прощаться. Поцеловаться, как следовало бы по-христиански перед смертью ближних, значило бы, показать явно, что знаешь о их неизбежной гибели; поэтому прощанье наше было какое-то натянутое, поспешное; мы не сделали чего-то, что следовало бы сделать, но что это — я и сам не знаю.
И пока в мире будут войны, такие переживания и настроения, вероятно, будут неизбежны.
Когда, после долгого утомительного пути под лучами солнца, мы приближались к концу окопов, над нашими головами раздался шипящий свист. Перед этим мы встретили снова полковника, называвшего нас «отчаянными», он снова дал нам этот эпитет и на минут пять остановился поболтать с нами. Эти пять минут спасли нас от случайной гибели: артиллерийский офицер вел нас на наблюдательный пункт, у которого именно и разорвался первый австрийский снаряд, в шагах двадцати от места, где нас задержал добродушный полковник. Неприятельская артиллерия, как бы обозлившись, начала отвечать на пристрел наших. Над головами нашими раздавался уже почти непрерывный свист, но разрывы были, кроме первого, далеко перед нами. Офицер посоветовал нам сесть на землю, прижавшись плотно к стволам сосен, лицом к неприятельским батареям. Через минуты три у сосны доктора А. стояло какое-то облако дыма: это он так усиленно курил одну папиросу за другой, по своей привычке, больше пыхтя, чем куря. Я не выдержал приближавшихся к нам, со зловещим завыванием снарядов, и крикнул офицеру, что хочу перебежать обратно в окопы. Открытая площадка перед окопами называлась почему-то особенно страшной, и я, получив одобрение офицера, действительно, бегом направился к окопам; стоявший ранее бодро у выхода из окопов солдат с ружьем, тоже припустил вслед за мной; на этом маленьком эпизоде я мог лично убедиться, как легко создается паника. Офицер и доктор присоединились ко мне, и мы минут пять сидели в начале окопов, где нисколько не было безопаснее, чем на опушке леса, под соснами. Вдруг совершенно неожиданно для нас — штатских людей — офицер уверенным тоном сказал: «ну, кончено; теперь можем идти». Снаряды свистели над нашими головами по-прежнему, и мы с недоумением смотрели на офицера, но он бодро зашагал вперед, объяснив, что по разрыву снарядов видно, что огонь переведен на другой участок. Мы пошли вдоль очень глубокой канавы; противное змеиное шипение над нами затихало. Офицер дал нам совет: если послышится снова вблизи полет снарядов — прыгать в канаву; тотчас же раздался сильный свист, и я, по совету офицера, немедленно свалился на дно канавы. Сверху я услышал веселый смех и вопрос: «чего вы, ведь это уже наша батарея отвечает». Различать по полету свои и чужие снаряды я научился лишь гораздо позже, во время гражданской войны.
С чувством большой, как всегда, чисто животной радости, я уезжал из района пушек и пулеметов, затем аэропланов, приближаясь к местам, где тогда не было еще орудий смерти.
Через несколько дней я читал официальные сводки о нашем знаменитом прорыве и мысленно перебирал в памяти черты лиц наших случайных окопных знакомых, жил с ними, строил догадки живы они или нет.
Прорыв поднял общее настроение, стали верить в возможность почетного исхода для России великой войны, «несмотря на внутреннюю политику и неудачное правительство», состав которого, действительно стал меняться, как в калейдоскопе. Но были и на фоне нового подъема настроения темные пятна, которые возбуждали сомнения. Я старался не говорить о них много, но в душе переживал их довольно мучительно.
В одну из моих поездок в Полтаву — удивительно уютный, стильный его тихими усадьбами, городок Малороссии, я столкнулся не на бумаге, а реально с положением беженцев. Скученные в зданиях летнего городского театра и сада мужчины, женщины и масса детей, несмотря на всю возможную помощь им, производили самое жалкое впечатление — это был какой-то бродячий цыганский табор, а не люди, еще недавно жившие нормальной трудовой жизнью. Хотя большинство их вполне сознательно, гораздо, например, сознательнее, чем многие из той среды, которая теперь заграницей находится в однородном положении, относилось к причинам их несчастия, однако чувствовались уже и здесь какое-то озлобление и усталость от затяжной войны. Но самое страшное, значение чего было во всей его громадности понято только позже, это были отпускные из армии солдаты. Ни для одной из воюющих стран, кроме разве временно лишившихся своих территорий Бельгии и Сербии, не была так безмерно тяжела война, как для России. Громадные наши пространства лишали возможности давать солдатам те отпуска, которыми пользовались наши западные союзники. Там, проехав 50, 100 верст от передовых линий, многие находились уже у себя в родной обстановке, у нас надо было для этого сделать сотни, тысячи верст. Пассажирские поезда были обычно перегружены сверх нормы, долго простаивали на станциях, уступая путь воинским, при пересадках нельзя было наверняка рассчитывать на первый отходящий поезд, иногда приходилось просиживать на вокзале, в ожидании свободного места в вагонах, по несколько дней. Во время моих поездок я встречался с солдатами, жившими свыше двух лет мечтой о свидании со своими семьями и возвращавшимися в армии среди пути, за истечением срока отпуска. Кто попадался с просроченным отпускным билетом, рассматривался, по крайней мере до разбора дела, как дезертир; под арестом в Киеве, например, содержались, на этом основании, солдаты, имевшие не один знак отличия за храбрость.
При этом лучшее что было на фронте гибло, а в тылу скоплялись массы запасных и необученных новобранцев. Мой дядя, отставной полковник-кавалерист, И. М. Романов, добровольно пошел на войну в пехоту и получил в свое командование один из славных сибирских стрелковых полков. Когда эшелон полка проходил через станцию Люблин, мы с ним попрощались, а через два дня его уже не было в живых: в первом же бою он получил тяжелое ранение в живот. К этому времени состав офицеров в полку переменился с начала войны в пятый раз. Приблизительно то же самое наблюдалось и в других частях, и шедшие на смену были хуже тех, кого они заменяли.
Было ясно, что только особенно большие успехи на фронте, которые дали бы веру в то, что конец войны и наша победа не за горами, отодвинули бы на задний план, смягчили бы частичные недостатки в постановке дела, укрепили бы нервы людей, страдавших от этих недостатков и уничтожили бы деморализующее влияние тыловых вооруженных и полувооруженных масс.
Но, к несчастью, «Брусиловская» удача на юго-западном фронте была нашей лебединой песней. Вскоре настали времена, когда то, что вело к несомненной победе благодаря бездарности и нерешительности новых правителей России, заняло второстепенное место, и часть уцелевшего еще настоящего нашего офицерства была признана враждебной народу «нетрудовой буржуазией», а все то, что могла вредить этой победе, выдвинуто на первый план посредством объявления наших армий «самыми свободными в мире».
Поэтому Брусиловским прорывом и последовавшим за ним периодом подготовки к окончательной несомненной победе, к сожалению, несколько затяжным, но блестящим по достигнутым в развитии нашей боевой мощи результатам, закончилась и нормальная военная работа Красного Креста; ему предстояла еще весьма долгая и тяжелая работа на фронте, но это была уже работа в совершенно иных условиях, не победоносной войны, а милосердия к несчастным безумцам, рушившим свой собственный фронт и потом истреблявшим друг друга разными партийно-национальными и интернациональными знаменами.
Отчет о работе краснокрестных учреждений на юго-западном за время войны был подробно и обстоятельно составлен чиновником Министерства Земледелия В. Н. Хрусталевым, но отпечатана только первая его часть, а вторая осталась в рукописи, и судьба ее пока неизвестна.
Несомненно, помощь общества Красного Креста, в виду богатых его материальных запасов, живой инициативы и умения привлечь и сплотить в деле работ о раненных и больных воинах частные силы и средства, имела существеннейшее значение для правильно и полной постановки санитарного дела во время великой войны. Несомненно также, что в эту войну означенное дело, равно, как и вообще снабжение наших армий, если не считать отдельных заминок, вызванных небывалым масштабом войны, и некоторых частичных недостатков, стояло на большой высоте. Однако, несмотря на прекрасную в общем постановку соответственных частей военного управления и безусловную в общем честность их руководителей, им не под силу было бы справиться с разнообразием и широтой выпавших на них тягчайших задач без общественной помощи, в частности без Красного Креста в области санитарии. Быстрое подавление начинавшихся эпидемий, срочная, во время, питательная помощь эвакуируемым и организация вполне достаточно для размеров боев числа коек в общественных и частных лазаретах — всему этому в большой степени наши армии обязаны общественной инициативе и работе.
Между тем, в течение войны, а в особенности при разрушении нашего фронта, не умолкали голоса о вреде «штатской» работы на фронте; голоса эти, как я буду говорить ниже, особенно усилились, как это ни странно, тогда, когда власть опала в руки Временного Правительства, со стороны именно агентов этого правительства.
Забывалось при этом самое существенное, что вся та масса энергичных и опытных деятелей, которая добровольно работала на войну, получила возможность этой работы именно при посредстве общественных организаций. Говоря, например, лично о себе, могу заметить, что было бы странно, если бы я бросил свою основную службу по отделу земельных учреждений и выхлопотал себе назначение на должность начальника канцелярии или какого-нибудь делопроизводителя в Санитарном Управлении фронта. Меня, попросту, как никогда не служившего по этому ведомству, могли не принять на службу. И таким, как я, при нашем посредстве, было отдано нуждам войны сотни, в лице опытных чиновников, живых, энергичных и честных адвокатов и т. д. Наконец, наш высший руководитель на фронте, такой опытный администратор, как Иваницкий — как он мог приложить свой опыт и знания к военной работе на фронте вне краснокрестной работы?
Лично мне известный пример инженеров-гидротехников того ведомства, в котором я служил до войны, особенно показателе в рассматриваемом мною отношении. Наши специалисты, будучи разбросанно призваны на войну и, вероятно, работая не по специальности, не дали бы того максимума специальной пользы, которого от них могла ожидать война, если бы они не объединились во время и, путем частичной милитаризации Отдела Земельных Улучшений, не составили сильной и сплоченной организации по гидротехническому обслуживанию нужд войны, причем организация эта пополнялась не только военнообязанными, но и массой добровольцев-специалистов.
В отношении специально санитарного дела много нехорошего говорилось, с одной стороны, о бестолковости его Верховного руководителя — Принца Александра Петровича Ольденбургского, а с другой стороны — о вредной в политическом отношении и бесхозяйственной деятельности Союзов, земств и городов.
Я непосредственно знаком с работой принца Ольденбургского не был представителем которого на нашем фронте был Иваницкий. Знал, как все о взбалмошном характере принца, о чем рассказывалось всего много анекдотов. Но, в общем, решительно все, кто сталкивались с ним непосредственно, самым характерным считали в этом старике его горячую преданность делу, в которое он вкладывал всю свою душу, свой живой темперамент и большие денежные средства. Некоторые из его распоряжений казались мелочными, вызывали вначале улыбку, а в общем впоследствии давали очень хорошие результаты. Помню, например, как мы посмеивались, получив срочный строжайший приказ предложить всем нашим лечебным заведениям обзавестись, при первой возможности, огородами и свиньями. Тогда еще не было никаких затруднений с продовольствием и приказ казался чуть ли не чудачеством, а потом краснокрестные огороды и свиноводство играли серьезную роль в нашем хозяйстве, и рыночная стоимость свиней в некоторых госпиталях превышала стоимость всего их первоначального оборудования. Громадную инициативу и энергию проявил, между прочим, принц в деле снабжения войск противогазовыми масками.
Что касается Союзов, то, действительно, трудно было понять, чем было вызвано появление их санитарно-лечебных учреждений на фронте. Им, по соглашению Российского Общества Красного Креста с Главными Комитетами Союзов, отводился в отношении помощи раненным и больным тыловой район. Военное ведомство допустило их в районы армий и этим деятельность частных и общественных учреждений, приданных армиям, распылялась в смысле руководства и принципов работы. Во главе Земского комитета юго-западного фронта стоял мой старый сослуживец С. П. Шликевич; это устраняло возможность столкновений, но в подробностях все-таки, в особенности в отношении оплаты труда однородных служащих, согласованности действий не было. Как в Земском, так и в Городском Союзах, наблюдался большой недостаток хорошего, технического, опытного, административно-канцелярского аппарата. Поэтому работа Союзов носила какой-то в общем беспорядочный характер, что и давало часто поводу говорить, мне кажется, несколько преувеличенно, о бесхозяйственности Союзов. Отрицательной стороной их являлась еще склонность к рекламе. Вывесок Земского Союза в пределах фронта было прямо несчетное число, включая самые мелкие учреждения в роде парикмахерских и т. п., а главное, на таких упреждениях, которые давно бездействовали. Эти вывески над бывшими учреждениями, конечно, многих смущали и раздражали. Думаю, что умысла, может быть, в таких случаях и не было, но отсутствие порядка этим подтверждалось ярко. Наконец, Союзы дали такой отрицательный тип суетящихся агентов, как «земгусар»; изобилие среди «земгусарской» молодежи евреев не могло тоже не возбуждать подозрений, так как в политическую благодарность этой молодежи не верилось. У меня лично никогда сомнения не было, я говорю, конечно, о юго-западном фронте, что руководители в Союзах, которых я лично знал, были исполнены самых лучших патриотических побуждений — сделать все возможное для войны, но повторяю, приемы их работы были таковы, что не могли в известных кругах не возбудить подозрений. В Красном Кресте опытный «старорежимный» чиновник удачно и непосредственно сочетался с местным обществом и частной благотворительностью, в Союзах же, почти сразу начавших работать за счет казенных средств, преобладал на верхах элемент говорливой нашей оппозиции и слабо был, сравнительно, представлен элемент настойчивого и дисциплинированного труда.
Не говоря о роли союзов на войне, нельзя забывать, что, помимо сравнительно скромной и, по моему мнению, излишней санитарной работы их (я говорю о театре военных действий, а не о тыле), ими выполнялись большие, чрезвычайно нужные военному ведомству, вспомогательные хозяйственные операции, как то: по кормлению окопных рабочих, медико-санитарному снабжению, сбору и обработки кож и т. п. В этих областях опыт некоторых земских деятелей и отсутствие формализма были чрезвычайно ценны и плодотворны.
Кроме того, к союзам во все силе надо отнести то, что я говорил выше о Красном Кресте: они были тем органом, который обеспечивал массе русских людей, не зачисляясь на государственную службу, применить свой опыт и знания работе на нужды войны.
Деятельность Союзов разрушилась сильнее и ранее, чем краснокрестная, и взята была под большее подозрение чем наша со стороны «трудового» класса населения, когда началось общее разрушение фронтов.
К описанию этого последнего периода моей жизни и работы на родине я и перехожу.
Глава 7 Смутное время (1917–1920 гг.)
Мое пребывание в первые дни беспорядков в Петербурге, Ставке и Киеве. Первые признаки большевизма; поход против интеллигенции. Украинская автономия. Временный успех на фронте. Собрания, митинги, съезды в Красном Кресте; демагоги и провокаторы; борьба за сохранение наших учреждений и запасов; реорганизация Управления; хулиганство шоферов и сестер милосердия нового типа. Мои столичные впечатления в дни первого выступления большевиков. Посещение Верховной Следственной комиссии; опровержение клевет на Царя. Поход Временного правительства против общественных санитарных организаций. Положение Красного Креста при украинцах, большевиках и гетмане. Прочность и значение краснокрестных организаций. Моя служба при гетмане; характеристика гетмана и его правительства. Падение гетмана; мое подпольное существование до прихода добровольцев; впечатления от петлюровцев и большевиков. Добровольцы: Кисловодск, Ростов, Новороссийск; эвакуация.
Во второй половине февраля 1917 года В. Е. Иваницкий был вызван в совещание, созванное в Могилеве — при ставке Верховного Главнокомандующего, в целях объединения некоторых санитарных мер на всех фронтах. Я должен был встретиться с ним в Могилеве к концу работ совещания, чтобы совместно ехать в Петербург для доклада Главному Управлению Красного Креста о различных наших текущих нуждах. Около трех лет я ни разу не был в столице. Мысль о встрече с друзьями и сослуживцами, о том, чтобы хоть один раз побывать в моем любимом Мариинском театре, вообще отдохнуть несколько дней от однообразия моей работы, чрезвычайно бодрила меня, и это была последняя в моей жизни поездка, когда все в пути казалось занимательным и веселым. Я наслаждался даже самым процессор езды — на автомобиле по паркетному Черниговскому шоссе; тихи Чернигов, где я ночевал в нашем госпитале, наполнял душу уверенными мечтами, что скоро, самое большее через год, конец войне, без сомнения победной, так как наша армия снабжена во всех отношениях образцово, а немцы выдыхаются, и начнется мирная тихая жизнь с неизбежным спокойным прогрессом во всех направлениях. В вагоне, по пути от Могилева, я покупал столичные газеты, старался найти в них репертуар театров: решил пойти одни раз в оперу и один раз в балет; после трехлетнего художественного голода это казалось мне чем-то чрезвычайно заманчивым. В Киеве были, конечно, театры, но я не был в состоянии их посещать; уставал от работы и не было настроения; раза два-три пошел, но мысли были мои так далеки от происходящего на сцене, что я даже забыл, что именно видел и слышал.
По мере приближения нашего к Петербургу все упорнее становились слухи, что там начались какие-то беспорядки; за несколько станций до Царского Села уже говорили о революции, но мы, привыкшие на фронте к различным паникерским слухам, не верили, думали, что дело сводится к каким-нибудь мелким беспорядкам в «хвосте за хлебом». Верить в голодный бунт нельзя было потому, что для этого не было никаких объективных условий, политический же переворот, на который делались давно намеки, ожидался в иной, не уличной, форме. По прибытии нашем в Царское Село пришлось, однако, поверить: не было газет; лица, приехавшие из Петербурга рассказывали о стрельбе, побоищах. Вечером 27 февраля, когда я вышел из вагона, то, что я увидел разрушило сращу и мое настроение. И мои спокойно-эстетические планы. Извозчиков и носильщиков не было; на вокзале казалось как-то мрачно, темно, как будто бы он не весь был освещен; явственно доносился треск стрельбы. Пришлось сдать вещи на хранение и пешком идти в город, который тоже казался или действительно был необычно темным. Звуки выстрелов по длинным широким улицам раздавались так сильно, что все время казалось, что стрельбы происходит где-то за ближайшим углом. Приходилось часто на всякий случай останавливаться и пережидать, а тут еще я был не один — со мной приехал один из помощников Главноуполномоченного Северного фронта Л.; он был ранен в ногу, не мог идти и часто присаживался на тротуарную тумбу, чтобы отдохнуть. Мне не хотелось оставлять его одного. Сопровождавший его санитар, бывший придворный лакей, был очень взволнован и всю дорогу, при каждом сильном залпе, наклонялся к моему уху (он был очень высокого внушительного роста) и зловеще шептал: «поверьте мне, Ваше Превосходительство, что все не иначе, как жиды». Мы пробирались через мрачные Семеновские казармы и потом по Николаевской улице; в это время толпа зверски расправлялась с Полицейским Управлением на Загородном Проспекте; оно было обстреляно; пристав или околодочный был потом вытащен на улицу после ранения и брошен, еще живой, в костер. Стрельбы на Загородном казалась очень близкой к направлению нашего пути. Я решил остановиться у моего холостого друга, камергера М.С., жившего как раз на Николаевской улице, близ Разъезжей; предложил туда же зайти и моим спутникам. Мы были все в военной форме, в папахах; я забыл о придворном звании С. и громко, протяжно позвонил у его дверей; последние слегка приоткрылись на цепочке и раздался знакомый, но совершенно перепуганный голос Маши — прислуги С.: «кто это, кто там?» Когда она увидела наши папахи, вскрикнула только «ах» и поспешно захлопнула дверь. К счастью, я вскоре услышал в прихожей знакомые шаги С. и крикнула ему через дверь: «отворяй, свои!» Мы радостно встретились после долгой разлуки и много смеялись над трусостью Маши, которая, впрочем, лучше нас давала себе отчет в происходящем и предчувствовала, что скоро начнут убивать не только за придворное звание, а просто за нехамский вид. У меня резко остались в памяти ее слова, сказанные с большой искренней грустью на другой день: «неужели же, если теперь Царь приедет в Петербург народ не примет его и не простит ошибок, какие были?» «Ошибками» Маша, как и все тогда, считала Распутина, но она даже и мысли не допускала о желательности и возможности отречения Царя; ее инстинкт подсказывал ей, какие ужасные потрясения вызовет «уход» Царя, подсказывал то, Чего не мог постигнуть ум нашей интеллигенции, в том числе и мой.
Я провел в Петербурге только один день — день разгара уличных выступлений толпы и, главным образом, запасных солдат. По углам, в виде полицейских, стояли как и в 1905 году, какие-то волосатые южные, с тупыми физиономиями, люди. Все время встречались автомобили-грузовики с толпою солдат в них, державших на перевес ружья, и особенно внимательно осматривавших пешеходов в военной форме. Эти пристальные злые взгляда, когда они фиксировались на моей папахе, сильно нервировали. Когда я сидел в кабинете С., у окна раздался револьверный выстрел и одновременно страшный крик Маши: «убит, убит». Какой-то молодой человек, проезжал мимо на извозчике, выстрелил в себя и упал к окнам квартиры С. Началось великое пролитие крови, повсюду в честь «бескровной» революции.
Из экстренных листков мы узнали, кажется, уже по пути в Могилев, о полной прострации Правительства: (фактически его не было) и с тем, что Государственная Дума постановила расходиться и образовала особый Комитет который и берет власть в свои руки.
Под выстрелами я и Иваницкий добрались пешком, разными закоулками до Царскосельского вокзала. Когда мы сидела в красивом пассажирском зале, вдруг затрещал пулемет и посыпались стекла больших вокзальных окон. Пулемет победоносных революционеров обстреливал мирный вокзал с колокольни соседней церкви, потому что им показалось что-то на крыше вокзала подозрительным. Зал мгновенно опустел; я забыл там свой чемодан, за которым пришлось вернуться одному в пустой зал; какое-то особенно жуткое чувство — в момент опасности быть наедине. Когда поезд наш тронулся, у меня было такое же ощущение, как при выезде из районов боевых действий на фронте: считал несчастными оставшихся и животно радовался за себя.
В пути у меня начался длительный и острый спор с Иваницким. Он доказывал, что немедленно надо в Петербург направить несколько батарей и все беспорядки буду кончены, а тогда уже можно говорить о переменах в Правительстве и т. п., я же, озлобленный слухами о придворной борьбе за сепаратный мир и т. п., считал, что теперь военной силой беспорядков не унять, что происходящее в столице не бунт, а всероссийская революция. По дороге мы встретили генерала Н. И. Иванова с частью его отряда. По его распоряжению почему-то все пассажиры, ехавшие из Петербурга, обыскивались, к них отбирались экстренные выпуски различных столичных объявлений о событиях. Это делалось в то время, когда телеграф разносил известия и призывы новой власти во все концы России. Было что-то несерьезное в этом походе на столицу, и сам Иванов, ходивший с воинственным видом по глубокому снегу близ нашего поезда и о чем-то горячо говоривший с Иваницким, казался мне каким-то ненужным, смешным. Не в Петербурге, а в Ставке, должны были решиться судьбы России, там, откуда можно было бы еще новому Правительству или даже самому Царю давать распоряжения вооруженным силам фронта, перед которым Петербург, при подъеме патриотизма и доверия на фронте, неминуемо склонился бы. Но всех, и укротителей, и примирителей, во главе с последним Царем Империи Михаилом Александровичем, фатально почему-то тянуло к Петербургу, где уже нарождалась зараза в виде не русского, не национального совета рабочих и солдатских депутатов.
В Ставке мы были первыми прибывшими из восставшего Петербурга. Нас нарасхват, как очевидце, зазывали, расспрашивали различные чины Ставки. Среди собравшегося генералитета Иваницкий и я продолжали свой дорожный спор. Генералы молчали, очевидно, никто не отдавал себе ясного отчета в происходящих событиях; только один очень пожилой генерал (не помню его фамилии) кратко возразил Иваницкому: «сейчас в русской армии нет части, которая пошла бы стрелять в народ». Его возражение не прервало молчание прочих генералов. Я почувствовал, что все они со мною, с русской интеллигенцией. Все они не верили старому и хотели нового, и все в тот момент не предвидели того, что предчувствовало меньшинство интеллигенции, например, Иваницкий — гибели нашего фронта; думалось, что переворот возбудит только патриотические чувства, укрепит стремление и веру в скорую победу над врагом.
И вот теперь, вне взбудораженной обстановки первых дней нашей смуты, через много лет, после гибели нашей родины, я стараюсь дать себе отчет в том, кто же прав в неоконченном до сих пор споре, те ли, кто считал февральские события в Петербурге простым военным бунтом местного значения или те, кто мечтал о завоеваниях революции, убежденно говорю: не правы ни те, ни другие; правы только те, кто желал военный бунт ли, дворцовый ли переворот, безразлично, использовать для попытки создать мировые потрясения и начать проводить в жизнь свой утопически-фанатические верования, правы, так как для них нет родины и нет понятия о свободном гражданине-человеке, живущем не единым хлебом.
Говорить о военном местном бунте, по моему мнению, нельзя после того, как приказы, воззвания и проч. бунтовщиков с первых же дней бунта начали исполняться все чиновной, военной и общественной Россией; если бы этому бунту не сочувствовала масса интеллигенции, она не придала бы ему сама, свои активным или пассивным содействием, значения всероссийского переворота. Была создана какая-то стена между царем и этой интеллигенцией, стена страшных недоразумений и взаимного непонимания.
С другой стороны, если бы мы, русская интеллигенция, ясно сознавали, могли бы предвидеть кто восторжествует, какие идеалы будут поставлены через несколько дней после переворота, то большинство из нас предпочло бы потерпеть, чем торопиться с этим переворотом, большинство согласилось бы смотреть на столичные беспорядки, как на простой бунт, а не как на способ добиться изменения государственного порядка. Это, наверное, так, ибо все-таки большинство в России, даже если говорить не только об интеллигенции, а обо все народе, пока искусственно не пробудили в нем чисто зверских эгоистических инстинктов, желало не разрушения, а порядка на своей родине, хотя бы в своей деревне.
У нас любят винить в происшедшем определенно тех или иных лиц: председателя Думы Родзянку, генералов Алексеева, Русского, Брусилова, даже бездарно-жалкого Керенского и т. п., как будто бы они создавали события, а не являлись простыми ярлыками на том или ином их направлении; Наполеона среди них не было, а каждый из них стремился по мере его сил и способностей ко благу родины, как она и понимала, будучи только случайно вынесенной наверх песчинкой в историческом, волею Провидения, вихре тех несчастных недоразумений, которые были ниспосланы нашей родине и могут быть названы правильнее всего не бунтом, не революционным завоеванием, а просто смутным временем: смутой в душах, сердцах и умах той части русского народа, во главе с его Царем, которая давала направление его политической жизни; к этой смуте виноваты все, а не то или иной определенной лицо.
Генерал Алексеев принял нас с обычной его ласковостью, но без любопытства, так как ясно было, что он уже знает уже больше, чем мы могли бы ему рассказать. Он сносился с выехавшим из Ставки Царем и Государственной Думой. У Алексеева была температура свыше 30 градусов, воспаленно лицо, но в общем бодрый вид. Он попросил нас подождать, сославшись на «чрезвычайной важности телеграмму», которую должен продиктовать для передачи по прямому проводу. Я сидел у двери соседней комнаты, где диктовалась телеграмма. Я слышал, ставшие потом историческими, слова: «долг перед родиной… отречение от Престола»… и т. д. Чувствовалось, что проволока телеграфа из соседней комнаты передает нечто, решающее ближайшие судьбы России.
По дороге в Киеве нам стал известен состав Временного Правительства. Назначение Керенского Министром Юстиции было первым моим крупным разочарованием в происходящем перевороте. Вопреки нашим ожиданиям, в Киеве все было спокойно, переворот был принят населением и продолжалась обычная работа. Отречение нового Царя Михаила и выступления Керенского, хотя уже и казались для многих опасными признаками, но порядок, который был на фронте, обнадеживал, что все наладится, приведет нам к победному концу и разумным внутренним реформам.
Рабочие устраивали какие-то праздники-манифестации. Лица у них не были тогда озверелые, их не отравили еще злобой ко всему, на них по внешности не похожему. Длинные ряды процессий останавливались среди улицы перед извозчиками или автомобилями, чтобы дать им возможность проехать; никаких оскорблений по адресу «буржуев»; т. е. всей интеллигенции не было; наоборот была бодрая и веселая предупредительность. Но все это продолжалось не долго: злобная отрава уже ползала по все стране. Керенский уже кричал на съезде в Москве, что наше судебное ведомство, которым мы так гордились, бесчестно в его массе; он требовал, чтобы прокурорский надзор приветствовал преступников, выпускаемых из тюрем. Красный Крест был поражен известием, что ведомство Керенского, ища популярности не только среди политических, но и уголовных арестантов, явилось инициатором правительственного распоряжения о праве всех преступниц, кроме убийц, которые пожелали бы загладить свои вины, отправляться на войну в качестве сестер милосердия. Этот акт нового правительства прошел как-то незамеченным для широких кругов общества, но в нем сказалась вся тупая невежественность новоявленного руководителя русской юстиции. Главному Управлению Красного Креста пришлось доказывать правительству такие истины, что уголовных преступниц нельзя механически сделать сестрами милосердия, что для этого необходимы известные знания, что звание сестры милосердия дается общинами, на основании их уставов, которых правительство изменять не имеет права и т. д. На уличных рабочих манифестациях стали уже появляться знамена с кровожадными надписями: «мир хижинам — смерть дворцам» и т. п. На фронте стал известен знаменитый приказ № 1, сделавший наши армии «самыми свободными в мире». В театрах начинались манифестации против «буржуев» или вообще «интеллигенции». Два талантливых чутких куплетиста, порожденных или вернее развернувшихся во время революции, Сокольский, убитый в конце концов большевиками, и Павел Троицкий, прерывались уже, во время их куплетов, грубыми злобными окриками какой-то серой солдатской массы, заполнившей раек и задние скамейки театров. Сокольский пел, что главный герой теперь офицер, до конца честно исполняющий свой долг, что и «Декабристы» были офицеры, титулованные князья, графы и т. д., а теперь всякий офицер стал только «буржуй» и серая толпа, пока еще трусливо, но уже настойчиво неодобрительно рычала, вводила, вместо свободы свою цензуру, достигшую своего идеала через полгода при большевиках, когда была уничтожена вся частная пресса. Павел Троицкий говорил под гитару свои знаменитые куплеты с пророческим припевом: «останутся одни товарищи и больше ни черта»; они свои остроумным содержанием были не в бровь, а в глаз сравнением того, что было и что есть. «Прежде», говорил Троицкий, «мчится поезд и в нем сидят буржуи, а теперь, шалишь, поезд стоит и мимо него идут все рабочие, да рабочие, буржуев и не видно; прежде на улице стоял городовой, сам не знал, для чего он стоит, а теперь милицейский — только заметит бешенную собаку — стреляет, и, глядишь, лежит на мостовой кто-либо из гуляющих; немцы прежде хвастали, что возьмут Ригу, а теперь, дудки, мы сами там скоро будем» и т. д. Свои куплеты Троицкий кончил мечтательным заявлением: «пойду-ка я все-таки завтра на базар, посмотрю в последний раз на белый хлеб». Злобные выкрики товарищей не могли обыкновенно заглушить громких аплодисментов почти всего театра.
В Киеве в здании педагогического музея имени Цесаревича Алексея, который, по мысли жертвователя, должен был служить «благому просвещению русского народа», начала захватным порядком, тем же способом, как овладел в Петербурге Ленин особняком Кшесинской, непрерывно заседать «Центральная Рада», выкинувшая свой желто-голубой флаг над этим красивым зданием и начавшая ряд злобных выходок против того самого народа, которому было завещано самовольно захваченное здание. Председательствовал в Раде «батько Грушевский», один из ярых ненавистников России, автор знаменитой по ее лживости фантастической истории Украины. Не прошло и нескольких месяцев, как титул «батько», те же рабочие и крестьяне, что собрались под «желто-блакитным» флагом, заменили название «сукин сын», ибо Грушевский не обладал все-таки даром призывать к грабежам, как Ленин и Троцкий, и узко национальные малорусские задачи народу были чужды. В Киеве приезжали Министры Временного Правительства Терещенко и Некрасов; они самостоятельно дали Грушевскому и Ко какую-то автономию, и тогда началась, под премьерством больного душой малорусского писателя Ваниченко, какая-то такая малорусская рапсодия, смысла которой порой, по-видимому, не понимали и сами исполнители ее… На наши расспросы, с какой целью в разгар войны дается автономия той части России, которая является важнейшим из военных фронтов, Терещенко отвечал только: «ну почему же им не дать автономии?» Это «объяснение» мало, конечно, кого удовлетворяло.
Тем не менее, очень хотелось верить, что не все еще потеряно.
Поэтому мы, желавшие верить, хватались за речи Керенского о войне, думая, что он отражает в них настроения столичного совета рабочих и солдатских депутатов. Речи были красивы, с подъемом; говорили, что перед своими выступлениями Керенский кокаинизируется, но на это не обращали внимания; важны были результаты, а не средства. Теперь принято яростно поносить Керенского, как будто бы это была, действительно крупная сила, от которой зависел ход событий. Думаю, что этим оказывается излишне-большая честь этому случайному «государственному» деятелю. Я совершенно не в состоянии подозревать его в желании причинить умышленный ущерб нашей родине или в преследовании каких-либо чисто личных целей, а просто считаю, что Керенский, по своему небольшому уму и слабому политическому образованию, был типичным представителем той части русской интеллигенции, которая вместо реальной работы проводила свою жизнь в социалистических мечтах. Керенский был полезен России только тем, что продемонстрировал своей личностью, какова та среда, которая задвинула его в первые ряды. Он был несомненно нравственно опрятнее, честнее, и даже деловитее, чем другие его товарищи, например, Чернов, — он, может быть, наилучший из его среды, и тем поучительнее это для тех, кто мог когда-либо верить, что она способна на какое-либо творчество.
Наши мимолетные, после переворота, успехи на юго-западном фронте создали некоторый временный ореол вокруг имени «Главного уговаривателя» Керенского; ему устраивали овации, его портреты покупались и вешались на стенах квартир даже некоторых бывших «бюрократов», превратившихся внезапно с 1 марта 1917 года в социалистов. Я раздражался, когда добрейший и деликатнейший доктор А. мягко выговаривал мне по поводу возобновившегося наступления нашего в Галиции: «но сколько же погибло офицеров; не одни ли они, без солдат ведут наступление?» Я злобно и грубо упрекал его паникерстве, которое, действительно, может погубить дело войны. Он не спорил долго, только с кроткой добротой смотрел на меня и вздыхал, пуская на меня клубы табачного дыма; как бы угадывая то, что происходит в глубине моей души. Потом мне стыдно было вспомнить о моей грубости и печально-ласковых глазах А. во время наших споров.
Злили меня тогда и та нервность, с которой относились некоторые мои товарищи по службе к распоряжению военных властей явится на присягу новому правительству. К присяге нас приводили в Военном Николаевском Соборе, на Печерске. Священник почему-то опоздал; толпа наших служащих, во главе со старшими членами, многочисленные санитары, шоферы и т. п., ходили по двору Собора; хотелось, чтобы скорее кончилась неприятная процедура, а священник все не шел, так что пришлось послать за ним. Я боялся, что мрачное выражение лиц, некоторых моих сослуживцев может возбудить нежелательные толки среди низшего персонала, породить рознь, которая погубит дело. В церкви у некоторых из них во время присяги стояли на глазах слезы; об этом «низы» уже начали перешептываться. Вскоре я понял смысл этих слез и стыдился моего недовольства ими.
Вообще всякая громкая критика происходящего мне казалась вредной, губящей единение необходимое, как я думал, для скорейшего введения государства в нормальное русло и для победы над врагом.
В целях этого единения, я в первые же дни по возвращении моем из Петербурга созвал под своим председательством общее собрание всех подчиненных мне служащих. Тогда уже началась эпидемия различных собраний, митингов, съездов. Некоторые из членов нашей канцелярии говорили мне, что молодежь наша волнуется, желает собраться, чтобы обсудить текущие события и какие-то свои нужды, что особенно агитирует студент М., который с первого дня переворота украсил свою грудь громадным красным бантом, совершенно не пропорциональным его крайне маленькому росту. Кстати, о красных бантах, которыми так легко и быстро позорили себя многие военные — я говорю, конечно, не о тех, которые жертвовали своими убеждениями в целях поддержания порядка на фронте, а о тех, так сказать, «добровольцах», которые легко могли обойтись без этого признака, так называемых, «мартовских социалистов». К счастью и гордости моего Управления, среди ответственных его чинов нашелся только один, который для чего-то в день какой-то рабочей манифестации, фигурировал на улице с большим бантом красного цвета. Невероятно, ему самому впоследствии было странно вспоминать о своей выходке.
Чтобы предупредить нелегальные сборища наших служащих, не дать им вредной для дела возможности жить в стенах нашего учреждения какой-то особой, отдельной от старшего состава жизнью я и решил по собственной инициативе созвать собрание. Выступать в непривычной роли митингового оратора было чрезвычайно неприятно; приходилось делать большое усилие над своей волей и нервами, но раскаиваться в этом мне не пришлось: наше Управление сохранило свою работоспособность и сплоченность до последней минуты, т. е. до окончательного (вторичного) занятия Киева большевиками в 1919 году проработав здесь, без перемен в его руководящем составе, на пользу больных и раненных русских людей, два года после переворота. Под игом Временных Правителей России, а затем петлюровцев и большевиков. Собрание я ознакомил с происшедшими в Петербурге событиями и призывал, в связи с предстоящими выборами в Учредительное собрание, подготовиться к ним, выбрав, по возможности, сознательно политическую программу той или иной партии. Я не хотел оказывать прямого давления на убеждения и совесть моих сослуживцев, находя, что в стенах Управления не место предвыборной агитации; я только отметил, что сам по своим взглядам примыкаю к программе партии народной свободы (тогда еще эта партия не объявляла себя республиканской) и что самое главное ко времени Учредительного Собрания — это разобраться в основном вопросе: за монархию или за республику, в зависимости от чего и строиться уже по программе той или иной партии. У меня было испрошено разрешение на вторичный созыв собрания всех служащих всего нашего Центрального Управления (Иваницкий находился в Ставке Главнокомандующего и по телеграфу одобрил мои шаги) и устроены по моему адресу бурные овации, которые меня укрепили в надежде, что Красный Крест исполнит свой долг до конца. На втором собрании служащие решили собрать по подписке сумму денег для учреждения в Киевском Университете субсидий в память происшедших событий. Это был единственный случай, когда в собрании выступил упоминавшийся мною ранее студент М.; в нем подозревали скрытого Робеспьера, и когда он просил слова, с волнением ожидали какого-нибудь крупного инцидента. М. не оправдал ожиданий: слегка конфузясь, он пробормотал, что желательно, жертвуя деньги, оговорить, чтобы представителя студентов допускались при обсуждении вопроса о распределении стипендий. Больше ни на одном собрании этого «опасного» оратора никто не слышал; его громадный красный бант, очевидно, заставил многих переоценивать его революционную роль. Самое постыдное и обидное лично для меня воспоминание об этой стипендии заключается в том, что когда поднялся спор о наименовании стипендии, я предложил такую редакцию: «От Красного Креста юго-западного фронта в память завоеванной в 1917 году свободы», которая редакция и была принята. В том же роде приветствовал я совместно с одним моим сослуживцем по дальневосточной работе наших местных соработников через Хабаровскую газету «Приамурье». Несомненно, первые два или полтора месяца я ожидал от переворота благих последствий, как и вообще масса русской интеллигенции; за это заблуждение мы заплатили очень дорого, но справедливо: утратой близких людей и потерей родины.
И может быть хорошо, что кара постигла всех нас немедленно за совершением преступления, еще на земле. Искупительные жертвы могут вернуть, если не нам, то нашим детям родину.
Петербургский «Совдеп» служил образцом организации или вернее дезорганизации власти и на местах в самых разнообразных учреждениях. Служащие всей их массой, включая самый низший персонал, избирали какие-то комитеты, которые наблюдали за работающими, управляющими учреждениями и критиковали без всякой ответственности их деятельность и подрывали их авторитет и всякую дисциплину. Эпоха Временного Правительства ярче всего характеризуется громадным размножением подобных комитетов и создаваемым ими фактическим двоевластием.
Для меня было определенно ясно, что какой-то коллегиальный орган возникает в составе Краснокрестного Управления; по духу времени это было неизбежно, как неизбежно распространение заразы во время эпидемии. Смотрю на такой орган, как на неизбежное по обстоятельствам времени зло, я находил, однако, что это зло может быть в итоге использовано в интересах нашего дела, если только избежать двоевластия. Поддержанный моим сослуживцем R, я стал настаивать на нашем «конклаве» на желательности нам самим, по собственной инициативе, преобразоваться в комитет, в котором половина членов была бы прежняя, по назначению Главного Управления, а половина, избранная самими служащими по группам их: от чиновников, сестер милосердия, санитаров, шоферов и рабочих. Некоторые из моих сослуживцев, отчасти и сам Главноуполномоченный относились скептически к моему предложению и, кажется, склонны были заподозревать меня в игре на популярности. Они видели в учреждении смешанного комитета какую-то нежелательную уступку беспокойному элементу служащих и в начале как будто бы склонялись к предпочтению дать событиям разыграться самим свои путем. Но после нескольких заседаний на квартире (в гостинице) у Иваницкого, последний понял положение вещей и всецело стал на мою точку зрения. Комитет был сформирован нами в виде временного, не выжидая созыва фронтового съезда и санкции Главного Управления. На других фронтах постепенно возникали самостоятельные краснокрестные совдепы, ничего не делавшие, кроме резких выступлений против Главноуполномоченных и чинов их Управлений; последние дезорганизовывались и ко времени развития большевизма были совершенно разрушены, с нашим же комитетом всем учреждениям, в том числе и фронтовому съезду, пришлось считаться, как с единой центральной краснокрестной властью на фронте. Съезду ничего не оставалось, как утвердить «положение о комитете», т. к. он уже включал в себя различных выборных лиц и проявил свою работоспособность.
Лица, вошедшие по выборам в состав коллегиального управляющего органа, не исключая представителей шоферов и рабочих, сразу же столкнулись не с легкой критической только болтовней и демагогией, а с повседневной текущей работой Красного Креста, за успех которой как ее непосредственные участники, они несли равную с нами ответственность. Те акты, например, по отказу платить шоферам бешенные деньги и т. п., которые на других фронтах вызывали резкую демагогическую критику со стороны наблюдающих комитетов, у нас проходили, сравнительно, гладко, ибо, будучи в курсе общего положение дел Красного Креста и его финансов в частности, представители рабочих и шоферов вынуждены были сами своими подписями на журналах комитета санкционировать подобные акты. Но самое главное полезное значение комитета заключалось в том, что представители низших служащих и рабочих воочию убеждались в нелегкости руководящей работы, а также в опытности и честности старых руководителей ее. Они распространяли в массах сведения о наших служебных качествах, т. е. укрепляли наше положение и влияние, в то время когда толпа увлекалась именно переоценкой всяких ценностей.
С учреждением нашего комитета я больше всего опасался, как бы Иваницкий, по привычке его к самовластным распоряжением в некоторых областях и к откровенной резкости в обращении с ближайшими его сотрудниками, не повредил спокойному течению дел в заседаниях комитета и не обострил отношений, что могло бы повлечь за собою образование другого наблюдающего учреждения, с выходом из нашего комитета выборного элемента. В этом моем опасении, к счастью, я оказался совершенно не прав. Однако, когда Главное Управление Красного Креста командировало к нам некого Ф., имевшего целью выступать на различных съездах краснокрестных работников для примирения «рабочих с буржуями или интеллигенцией», я на его вопрос о нашем Главноуполномоченном с полной откровенностью, отметив все положительные качества Иваницкого, высказал указанное мое опасение. Ф., по-видимому, говорил об этом моем мнении в различных кругах моих сослуживцев, а, может быть, и самому Иваницкому. Отсюда возникло предложение о моей враждебности к И., как к главе нашего Управления, и стремлении чуть ли не самому занять место Главноуполномоченного. Все это было весьма далеко от моих истинных намерений, но в то гнусное время, которое тогда приходилось переживать, быстро падала нравственность и честность людей, развивались взаимные подозрения, а потому все казалось возможным. Я считал, конечно, ниже своего достоинства опровергать мелкие слухи; впрочем непосредственно ко мне никто ни с какими вопросами по поводу этих слухов и не обращался; все ограничивалось какими-то неопределенными намеками, очень больно бившими по душе. Такие переживания старому режиму не были известны.
Личный состав Главного Управления Российского Общества Красного Креста, до пересмотра его Устава и производства новых выборов, был изменен Временным Правительством в сторону усиления более левого элемента; председателем Главного Управления был назначен, однако, министр старого режима граф П. Н. Игнатьев, пользовавшийся, впрочем, репутацией либерала. Его доброе отношение ко мне началось еще в бытность его товарищем Главноуправляющего Землеустройством. С Иваницким он, как и некоторые члены думы, вновь вошедшие в состав Главного Управления, был также связан ранее возникшими служебными отношениями. При таких условиях, состав высших должностных лиц нашего фронтового Управления, как и следовало ожидать, был переизбран нашим новым центральным органом.
Иваницкий, в связи с создавшимся новым положением, взял себя в руки, и наши домашние, так сказать, столкновения, которые теперь уже имели бы посторонних свидетелей, прекратились. Отношение же его к низшему персоналу оставалось прежнее, так как в сущности изменять его и не приходилось; даже приказ, воспрещавший говорить солдатам «ты» не коснулся Иваницкого, так как он всегда ко всем, не исключая вестового, обращался на «вы». Старший состав медицинской части и управляющий складами Евреинов ни в малейшей мелочи своего служебного поведения не подчеркивали какой-либо разницы в их «революционном» отношении к подчиненным по сравнению с прежним «старорежимным». Представитель Государственного Контроля Д. скоро оставил службу на фронте, но ни разу ни в чем за время его нахождения здесь не изменил своим привычкам и манере держать себя, весьма далекой от какого бы то ни было демагогизма; получив приказ о замене «ты» обращением на «вы», он познавал к себе горячо любимого вестового санитара и нервным раздраженным дрожащим голосом, держа в руке печатный листик приказа, объявил солдату, что вот, мол, начальство требует, чтобы «я тебя называл вы; понял. Я не имею права говорить тебе ты, так ты уж на меня за это не обижайся». Солдат, искренно привязанный к Д., прослезился.
В заседаниях Комитета все старались вести дело так, чтобы не давать повода «выборным товарищам» пойти по пути разрушения краснокрестного дела на фронте; на мелочи, чрезвычайно иногда противные, закрывали глаза, жертвуя ими главным задачам нашим и целям — сохранить запас и работоспособность учреждений. Вопреки моим опасениям, именно Иваницкий умел как-то искусно обходить подводные камни, и именно я, опасавшийся с его стороны отсутствия для этого выдержки, постепенно становился раздражающим выборных представителей элементов. С ними, действительно, требовалось иметь в запасе много хладнокровия и самообладания. Происходившие на фронте события, наглядно уже подтверждавшие его постепенное разрушение, нелепые требования об увеличении окладов, особенно со стороны таких циников революции, как шоферы, об оплате расходов по различным «товарищеским» командировкам и сборищам и т. д., и т. д. — все это не могло не действовать на нервы.
Первое мое столкновение в комитете произошло на почве моего пожелания, в связи с недостатком средств, сокращать лазареты для солдат и усиливать специально офицерские госпитали; пожелание свое я высказал с демонстративными целями, так как накануне было получено донесение о гибели и ранении массы офицеров на галицийском фронте, при позорном бегстве солдат. Член комитета от шоферов Исаев совершенно изменился в лице, побледнел и, злобно смотря на меня, заявил: «требую, чтобы слова г. Романова, как оскорбляющие русский народ, были занесены в протокол полностью со включением настоящего моего заявления». Необыкновенно характерен этот эпизод для нашей бывшей подпольной революционной среды в связи с последовавшими событиями в жизни названного мною защитника народной чести. Исаев, занимая у нас должность шофера, обнаруживал в комитете сравнительно порядочные деловые знания и некоторое образование. В общем он держал себя тактично, не потакал разнузданным требованиям его товарищей по шоферской работе, всегда поддерживал меры, направленные к разумному расходованию и накоплению денежных и материальных средств Красного Креста; говорил обычно спокойно, вежливо, с акцентом семинариста на «о» и выступал с горячими заявлениями только тогда, когда, по его мнению, что-либо с нашей стороны угрожало «великим завоеваниям революции». Для дела он был полезен, так как пользовался авторитетом в среде своих избирателей. Когда начались признаки усиления на фронте большевизма, он очень скорбел по поводу поругания «чистых идеалов социализма». Однажды, накануне заседания комитета, он, беседуя с доктором Чириковым об усилившемся дезертирстве солдат, сказал в раздумье «чувствую, что и мне пора дезертировать». На вопросы почему, куда, отвечал: «о, совсем далеко!» На другой раз, когда мы собрались в кабинете Иваницкого, вбежал в комнату вестовой и что-то испуганно прошептал на ухо одному из наших докторов; последний быстро вышел из комнаты. Я расслышал только слова: «выстрели в рот». Исаев «дезертировал» — застрелился в нашем Управлении.
Его торжественно хоронили; считалось, что он погиб, как убежденный социал-демократ меньшевик, видя приближение победы большевиков. Всякий, идейно жертвующий своей жизнью человек, возбуждает сочувствие, если даже не разделаешь его взглядов. Поэтому все мы были на него отпевании; на гроб его был положен венок от нашего Управления. Не пришла на его похороны только рабочие, впавшие уже в большевизм. Прошло несколько недель; В. Е. Иваницкий попросил меня как-то к себе, протянул книжку Бурцевского журнала «Былое», показал на портрет, под которым стояла надпись, кажется, «Бурдзинский» и спросил: «узнает?» Это был наш Исаев — один из главных провокаторов, как гласила дальше надпись под портретом, работавший под фамилией «Исаев», сын священника, десятки лиц своей работой отправивший на каторжные работы.
Нам, чиновникам «старого режима» впервые приходилось сталкиваться, совместно работать с этой грязной средой революционного подполья, где никто никому не мог верить, где какая-то «Шерлок-Холмсиада» считалась идеалом человеческих интересов. Я до сих пор не могу понять, каким искусством и напряжением воли достигал этот бывший революционер, а потом провокатор, умения вовремя побледнеть, как в том случае, когда он меня обвинял в оскорблении народа.
В Комитете нашем особенно тяжелы были дни Корниловского выступления. Не верилось в продуманность плана Корнилова, а, вместе с тем, сознавалось, что это несомненно последняя попытка дать нам победу над внешним врагом. Глубокий патриот Корнилов тогда был единственной надеждой всех тех, кто думал о родине, а не о своих мелких классовых интересах и животных потребностях данного дня. Выборные потребовали в комитете, чтобы нами был опубликован по всем нашим учреждениями какой-то протест по поводу контрреволюционной «авантюры». Удалось в конце концов добиться компромисса, рассылкой довольно бледного циркуляра по нашим учреждениям в том смысле, что мы не сомневаемся в верности всего нашего состава в переживаемое нами смутное время, Временному Правительству. Редакцию циркуляра, по поручению комитета, вырабатывал я с Исаевым, который не в общем заседании, а наедине со мною был очень податлив.
Избрание в Петербурге «бабушки русской революции» Брешко-Брешковской попечительницей Общества Красного Креста тоже могло послужить поводом для разрыва отношений в нашем Комитете. Мы неизменно старались внушать выборному составу аполитичные человеколюбивые начала Женевской конференции; с точки зрения этих начал «товарищи» не могли протестовать против назначения, например, б. Киевского губернатора гр. А. Н. Игнатьева представителем Красного Креста при собой армии. Мы отстаивали ту точку зрения, что о революционности или контрреволюционности в Красном Кресте не может быть речи, поскольку каждый данный деятель осуществляет только то, что предуказано Уставом Общества, построенным на началах Женевской конвенции. С этой точки зрения мы лишены были права отклонить предложение наших выборных приветствовать Брешковскую по поводу ее избрания; это было бы равносильно подрубанию корней у того дерева, которое мы так бережно поддерживали. Однако, сознание, что эта старуха фактически никакой пользы делу Красного Креста, как и вообще никакому делу, которое требует не слов, а работы, принести не может, что ее избрание является только данью демагогизму переживаемого времени, не могла не угнетать нас. Пришлось опять-таки идти на компромисс и стараться получить возможно более сухой текст приветствия, чего и удалось добиться.
У меня лично наиболее острые отношения возникли с шоферами. Большинство их и в мирное время представляет из себя типичных хулиганов. Пройдя автомобильные курсы, эти полуграмотные люди начинают считать себя интеллигентами. Отсюда обычная их резкость и грубость, а часто и просто хулиганизм. Во время революции хулиганство шоферов, прикрываясь громкими фразами о равенстве, братстве и свободе, немедленно распустилось махровым цветком. Все «революционные завоевания», как, впрочем, впоследствии и в других массах, развращенных лозунгами большевизма, в представлении шоферов претворялись в право получать возможно больше денег и возможно меньше работать. Не говоря уже о тех, которые попадали по выборам в совдепы, и остальные при первой возможности уклонялись от работы, иногда даже по весьма находчивым, но в той же мере и циничным, основаниям. Например, когда Киев обстреливался большевиками, шоферы отказывались выезжать за раненными, ссылаясь, что Красный Крест аполитичен и не может принимать участия в гражданской войне; это не мешало тем же шоферам удирать от большевиков, дабы они не заставили их работать. Содержание шоферов всегда было относительно высоко, особенно, если принять во внимание, что отбывая воинскую повинность, они в сущности могли бы довольствоваться обычным солдатским жалованьем. Работы у них всегда относительно было мало, так как продолжительные поездки по фронту не были часты, городская же езда не была утомительна, давала достаточно времени для отдыха и даже развлечений. Тем не менее шоферы первые потребовали реализации революции — прибавки им жалованья и установления каких-то особых льготных расписаний их выездов. К сожалению, лицо, стоявшее во главе дела, не имело мужества бороться с требовательностью шоферов; наоборот, поощряло их хулиганствующее «самоуправление». Это была одна из прекраснейших подробностей в работе нашего Управления в смутное время. Я систематически возражал в Комитете при всяком испрошении прибавок к жалованью шоферов; они знали об этом и не любили меня. Во время начавшегося развала, ко мне даже раз ворвалась в кабинет группа шоферов, предводимая их представителем Соловьевым, с револьвером в руках; я накричал на них и прогнал, и они, как все только внешне храбрые люди, быстро исчезли. Соловьев до войны был шофером у Великого Князя Кирилла Владимировича и Военного Министра Сухомлинова; при наших поездках он любил вкрадчивым, противно подобострастным голосом, рассказывать различные подробности о поездках с этими высокими особами. Иногда, встречая на улице мою жену, он подкатывал к панели и льстивым голосом спрашивал «не подвезти ли вас? Я сейчас свободен». Вероятно, удивлялся систематическим ее отказам, так как мы смотрели на казенные автомобили не так, как «земгусары», деятели революции и т. п. и не обращали их на личные надобности, за что в армиях автомобиль получил меткое название «сестрокат». Этот лакей Соловьев, как и многие другие ему подобные товарищи, воспринял одним из первых большевизм, как способ личного обогащения. Кончил он тем, что был, конечно, каким-то комиссаром, пока не растерзала его на куски толпа крестьян, кажется, в Василькове.
С одним из шоферов — Стенчиковым, который обслуживал мой личный служебный автомобиль, у меня вышло столкновение такого рода. Я по личному делу должен был побывать у одного сослуживца на даче в Святошине, верстах в десяти от Киева; провел я у него часа два и когда выходил из усадьбы, ко мне подошла горничная и сказала, что шофер мой, ожидавший меня на шоссе, предупреждает меня, чтобы я был на месте не позже, как через десять минут, иначе он уезжает в Киев. На обратном пути я спросил Стенчикова, говорил ли он действительно то, что передала мне горничная. Он отвечал утвердительно, на что я ему, объяснив, что он военнообязанный и должен соблюдать дисциплину, в конце концов заявил: «неужели вы не понимаете, что сделанное вам — признак хамства». Надо сказать, что я пользовался автомобилем в исключительных случаях, стремясь всемерно беречь бензин, тогда уже довольно дорогой. Когда никуда не надо было спешить — ходил пешком. Это было известно Стенчикову, и тем, конечно, несправедливее и наглее был его поступок. Вместо того, чтобы подвергнуть его какому-либо дисциплинарному взысканию, шоферской начальство, из-за стремления к популярности, ничего не нашло лучше, как передать дело «товарищескому» суду шоферов, так как в деле усматривали «обоюдные обиды» — нарушение Стенчиковым уважения к старшему по службе и оскорбление его мною словом «хамство». Суд шоферов над помощником Главноуполномоченного это было, конечно, нечто новое, порожденное смутой. Так как даже в хулиганской среде было несколько почтенных людей, которые настояли прежде всего на том, чтобы ознакомиться по маршрутным дневникам автомобилей, сколько, куда и когда я сделал поездок, и так как полученные данные весьма сконфузили моих судей, то им пришлось признать, что Стенчиков не имел основания заявлять недовольство по поводу задержки мною автомобиля, а я не имел все-таки права называть его хамом. В конце концов С. был смещен с пассажирского автомобиля на грузовой, чтобы не подвергать его риску встречи со мною, я же, фактически, автомобилем больше не пользовался, чтобы не портить себе зря нервов.
По стопам шоферов пошли и многие сестры милосердия; солдаты-санитары вели себя гораздо честнее их во время развала фронта. С каждым годом войны состав сестре ухудшался; на фронте появились полуинтеллигентные, но с самомнением особы, под стать шоферам, прослушавшие сокращенные курсы при Общине; они мало походили на основных кадровых Общинных сестре военного времени первых выпусков. Этот элемент по натуре своей был весьма пригодным материалом для стяжательных, эгоистических лозунгов революции; их занимала уже не мысль о милосердном служении ближнему, а о личных впечатлениях и жизненных удобствах. Эта часть сестер деморализующе действовала и на некоторых менее устойчивых представительниц прежнего режима. По мере развала фронта и свертывания лечебных учреждений, свободные от службы сестры сосредотачивались в резервах, главным образом, в Киеве. Здесь они, в ожидании упорядочения железнодорожного движения и полного удовлетворения их заштатным содержанием, которое, за неимением кредитов, задерживалось, проживали по шесть более месяцев в полном бездействии, пользуясь бесплатными, за счет Красного Креста, квартирами, столом и стиркой белья. Их занятие состояло исключительно в протестах на ухудшение условий содержания, хотя они помещались в хороших зданиях и получали вполне удовлетворительное довольствие. Наш комитет выбивался из сил, чтобы изыскивать средства на содержание многочисленных еще, переполненных раненными и заразными больными, лазаретов, осторожно с этой целью ликвидировал различные, не имевшие уже значения для лечебного дела, запасы, например, остатки санитарных обозов, железный лом и т. п., оставляя в неприкосновенности все ценное для обеспечения в случае надобности, каковая и наступала во время гражданской войны, продолжения краснокрестной помощи, а резервные сестры, подобно шоферам, считая себя «завоевательницами революции», помышляли только о том, чтобы от разоряемого Государства или из краснокрестных средств вырвать лишний кусок исключительно для себя. Они бессознательно стояли на платформе узкой классовой борьбы: «плевать на общее благо, лишь бы нам было хорошо». И такая «платформа» исповедовалась без стыда, с сознанием исполняемого «гражданского долга» и не только полуобразованными сестрами, но и так называемыми «интеллигентами». Я не могу забыть выражения лица, жестов и патетических слов одной казанской курсистки — резервной сестры милосердия, которая от имени «угнетенных сестер милосердия» держала речь в нашем Комитете, требуя «каких-то материальных улучшений от имени свои товарищей. Это была одни из пошлейших сцен в первый год нашей смуты. Высокая, с неглупым лицом девушка, от которой хотелось бы слышать горячие речи на тему о самопожертвовании, о долге, о работе для смягчения тяжелых условий жизни, наступающих для русского народа, говорила с пафосом о мелких, ничтожных нуждах тех, кто абсолютно ничего полезного обществу не делал, и требовала усиленного вознаграждения за пошлую работу во время войны, забыв, как еще год тому назад ее «товарищи» домогались звания сестры, лишь бы попасть на войну и помочь «идейно» страждущему русскому воину.
Когда в Петербурге стал побеждать большевизм, к нашим сестрам прибыла оттуда некая княгиня Оболенская, дочь известной в Киеве директрисы гимназии Жекулиной, и принялась усиленно смущать наши резервы рассказами о столичных окладах и о необходимости бороться за улучшение своего материального положения.
Для нашего мужика, рабочего, шофера, в виду их безграмотности, простительно было думать, что при минимальной работе и максимальном заработке удастся долго благоденствовать, но интеллигентная курсистка и ей подобные не могли же не понимать того, что ожидает страну, в которой труд отсутствует, а плата за бездействие растет. Провидение быстро покарало за такое безумие русских людей, переживших теперь небывалые ужасы голода и даже людоедства, при полном отсутствии той свободы, именем которой покрывались чисто животные эгоистические требования. Но тогда, в начале смуты, мы не знали размеров ожидавшей их кары, не могли жалеть безумцев, и они возбуждали только чувство злобы и по поводу их тупого эгоизма, и по поводу нашего бессилия направить их на путь истины. В заседаниях Комитета при разговорах с различными «представителями» и «представительницами» у меня делалось такое злое выражение лица, что иногда Иваницкий подталкивал меня в бок, и, в конце концов, я предпочел замолчать, чтобы не дезорганизовать дело, которое все-таки было важно, как для помощи долечивающимся массам офицеров и солдатам, так и для будущего времени, когда каждая медико-санитарная крупица оказалась драгоценной, ибо наступавшие события на внутреннем фронте отличались небывалой кровожадностью людей и беспощадным развитием эпидемий.
Удержав в своих руках руководство делом, мы достигли того, что почти невозможным оказалось на других фронтах — сохранили наши богатые запасы-склады; разграблено было только, как и следовало ожидать, автомобильное имущество, за исключением, сравнительно, незначительной части машин, да часть провинциальных складов, например, в Кременчуге и Лубнах.
Но я забежал несколько вперед; возвращаюсь ко времени учреждения нашего комитета.
В период его формирования и в первые месяцы его работы, до того, как был созван в Киеве фронтовой съезд представителей всех подведомственных нам упреждений, начались митинги краснокрестных работников с Киева, где помимо нашего Центрального управления находилась масса различных общественных и частных лазаретов. На митинги собирались врачи, сестры и шоферы и, главным образом, многочисленные солдаты санитары. Первое такое митинговое «общее собрание» краснокрестных работников Киева состоялось в помещении кинематографа на Крещатике, а затем несколько собраний было в одной из больших аудиторий Университета. Я понимал, что в случае отсутствия в таком собрании высших руководителей — «начальства», там начнется зародыш двоевластия: будет безответственная критика без объяснений и ответов с нашей стороны и в результате образуется какой-либо наблюдательный Комитет, который в конце концов съест наше Управление. Так вскоре и произошло, например, на западном фронте, где в роли Главноуполномоченного, вместо А. В. Кривошеина появилась женщина-врач, отправленная нашей медицинской частью в Минск, еще до государственного переворота, для лечения, в качестве душевнобольной. Я объявил Иваницкому, что буду посещать с указанной целью все митинги и он одобрил это мое намерение, давшее нашему делу, несомненно, полезные результаты.
На первом собрании президиума избирался так сказать, по куриям от чиновников, врачей санитаров, и т. д. От первых в президиум был избран я. Теперь все пережитое на наших митингах кажется чем-то более смешным, чем трудным, но когда ясно восстанавливаешь в своей памяти все подробности, то сознаешь сколько было затрачено на это нервной энергии. Мне, привыкшему, главным образом, к кабинетной работе, к сотрудничеству с людьми, которых я мог уважать, уже самое пребывание мое на каком-то возвышении у экрана кинематографа, в пальто, зимней шапке, среди кричащей внизу толпы, не могло не быть тягостно во всех отношениях.
Среди «революционных» ораторов сразу же выделилось два: упоминавшийся мною ранее проф. Березниговский и какой-то санитар не русского типа, со странным южным выговором, по-видимому, кавказским. Профессор свою роль понял просто: как недавно еще милости зависели от Августейшей Покровительницы нашего Общества, а следовательно надо было настойчиво добиваться посещения госпиталя Государыней, так теперь успех службы зависел, в представлении этого лакея течений, от толпы: надо было угодить ей. Поэтому, зная инстинкты толпы, любящей все красочное и громкое, В., забыв о недавнем прошлом, с первого же своего выступления, начала не говорить, а кричать, каждую точку в конце фразы, отмечая неистовым ударом кулака по скамье или столу — признак, по многим моим наблюдениям, ораторов скверного тона, но искренних демагогов или глупых. Сущность разнообразных заявлений В. сводилась к одному излюбленному им припеву: «тиран Николай II кровавыми руками цеплялся за свой трон; однако, он уже лишился трона, но этого мало — надо во всех учреждениях убрать представителей старого строя, не желающих добровольно отдать свою власть; надо проделать это и в Красном Кресте и заменить старых руководителей новыми». Что касается «кавказца»-санитара, то смысл его речей, при всем желании, понять было невозможно, настолько она была бессвязна. Я уловил только одну фразу с подлежащим и сказуемым о том, что прежде при встречах с генералами на улицах надо было как-то обходить их и что теперь этого не должно быть, ибо все равны.
И профессор и санитар говорили так громко, с таким внешним волнением, что речи их толпа «товарищей» покрывала криками «правильно» и аплодисментами.
После такой подготовки собрания, началось обсуждение вопроса, которого я и ожидал, а именно, не следует ли просить прежде всего о замене Иваницкого другим лицом на должности Главноуполномоченного. Выступал, большей частью, ряд неизвестных мне лиц, которые были посвящены в тайны нашего «конклава», т. е. в ту сторону наших заседаний с Иваницким, когда внешние наши раздоры, вследствие повышенного тона наших споров, становились достоянием низших служащих. Один из ораторов прямо заявил, под неодобрительные по адресу Иваницкого возгласы, что ему известно, как доктора А., после собеседований с И., отливают водой и отпаивают «валерьянкой».
Доктор А., бывший на митинге, немедленно парировал этот удар, направленный против нашего начальника, заявив авторитетным тоном, что подобного случая с ним никогда не было.
Я понял, что настал момент, когда надо спасать положение и испросил слова. Речь ближайшего помощника Иваницкого не могла не интересовать собрание, и меня всегда слушали в полной тишине: враги — в надежде моего провала, друзья — из желания мне успеха, а потому, при всем моем личном отвращении к красноречию, мне было говорить, если и мало приятно, то легко.
Прежде всего, справедливо догадываясь, что свежеперекрасившиеся участники митинга, так называемые «мартовские социалисты», должны именно являться наиболее крайними в своих выступлениях, хотя бы для того, чтобы «реабилитировать» себя в глазах толпы, не говоря уже вообще о черном качестве их душ, я предложил собранию, во избежание проникновения в нашу вреду людей, желающих только ловить для себя рыбу в мутной воде, опрашивать выступающих ораторов о прошлой дореволюционной их деятельности. С этим согласились криками «правильно» — тогда все громко и авторитетно сказанное было «правильно» — и первым заставили ответить меня, кто, мол, я такой. Я сказал: «старый переселенческий чиновник»; заявление это было встречено молчанием — ни одобрения, ни негодования, что уже было козырем в моих руках. Кавказец-санитар оказался бывшим околодочным надзирателем; это смутило его недавних поощерителей. Чтобы исправить положение, внушить к себе доверие, как к стороннику революции, он патетически добавил: «да, но имейте в виду, товарищи, что за гуманное отношение к евреям я имею награду от самого его Пр… т. е. губернатора», закончил он, как-то скомкано. Сильный смех всего зала вывел этого красного оратора навсегда из строя митинговых деятелей.
Когда Березниговский с достоинством ответил на предложенный ему вопрос о его дореволюционных занятиях: «профессор медицины Томского Университета», один видный киевский коммерсант — еврей, с которым мы заранее условились об этом, очень почтительным тоном спросил: «можем ли мы полюбопытствовать, вы профессор по назначению или по выборам факультета?» В. обиженно заявил, что его политическая физиономия достаточно определилась в собрании, почему всякие дополнительные вопросы он считает излишними отвечать на них не будет. Протяжное, разочарованное «у-у» встретило это заявление профессора. Он выступал еще на некоторых наших собраниях, но при выборах на фронтовой съезд был забаллотирован.
Укрепив таким образом наши позиции, я поставил вопрос о том, что именно побуждает собрание стремиться к замене Главноуполномоченного. Все выступления против Иваницкого сводились к порицанию его характера. Я подтвердил перед собранием, как ближайший сотрудник И., что характер его, действительно, весьма тяжел, но при этом выразил изумление, какое дело оратора, выступавшим против И., до его характера, когда они с ним никаких непосредственных отношений не имеют, мы же, ближайшие его сотрудники, никакого недовольства нашим положением не заявляем и не заявляли. Затем, указав на значение опыта для успеха каждой работы, я высказался в том смысле, что менять руководителей делом можно только при наличности серьезных к тому оснований, бездеятельности или нечестности. На определенно поставленные мною вопросы, может ли кто-либо из присутствующих заявить, что Иваницкий в течение всей войны занимался чем-либо иным, кроме дел Красного Креста, не находился целый день на службе, не разъезжал постоянно по фронту, не брег краснокрестного добра, не вел дела с безупречной честностью — ответом было гробовое молчание. Наш начальник был навсегда освобожден от выпадов по его адресу со стороны митинговых собраний; его служебное положение, а следовательно и порученное ему дело, были укреплены на все время разрушения фронта; в общем хаосе Красный Крест на юго-западном фронте оставался каким-то оазисом работоспособности и порядка. Созванный нашим комитетом фронтовой съезд подвел под наше дело еще более прочный фундамент, так как все руководители делом принимали в нем ближайшее участие, а, главное, сами были инициаторами его созыва. Комитеты Земского и Городского Союзов предоставили митинги и съезды их сотрудников своему течению, дали им возможность выбить инициативу из своих рук и получили в результате почти полный распад руководящих органов и дезорганизацию дела.
Первый день нашего съезда был очень тяжел; физиономии его участников, в преобладающем большинстве солдат-санитаров, была неясна. Иваницкий приветствовал съезд кратким пожеланием успеха работ, и, по моему совет, ушел после этого их заседания, во избежание обвинения, что он оказывает давление своим присутствием на свободу суждений съезда о высшей администрации Красного Креста. Затем произошел, умышленный или без умысла со стороны его виновника, инцидент, поставивший в очень неприятное положение меня. Я и чиновник Г. были избраны на съезд представителями канцелярии Управления Главноуполномоченного. Программу, которую мы должны были отстаивать на съезде на основании пожеланий наших выборщиков, облек в письменную, подробно мотивированную форму я; в ней было две части: одна, подлежавшая оглашению на съезде, касалась существа различных организационных мер управления краснокрестными учреждениями, начиная от высшего их органа на фронте — Комитета под председательством Главноуполномоченного, другая — вроде наказа нам о том, как себя держать, если бы съезд пошел по пути других фронтовых съездов-митингов и остановился на обсуждении вопроса о доверии или недоверии Главноуполномоченному; так как большинство съездов объявляло главноуполномоченных просто не заслуживающими доверия без мотивировки своего постановления, чем в конце концов огульно подрывался авторитет почтенных деятелей старого режима, про которых можно было, на основании глухой формулы о недоверии, распространять какие угодно гнусные слухи, порочившие их доброе служебное имя, я придавал особое значение тому, чтобы наш съезд, в случае, если бы он оказался враждебным Иваницкому, определенно мотивировал свое недоверие желанием иметь во главе дела лицо не из прежней бюрократии, а с каким-либо подходящим общественным стажем; такой мотивировкой не задевалась бы служебная честь Иваницкого, не подрывался бы авторитет крупных деятелей времен Империи. Это единственное — что нам, чиновникам «старого» режима, оставалось тогда в области личного душевного удовлетворения. В соответствии с поставленной задачей, я в программной нашей записке дал очерк служебных заслуг Иваницкого на разнообразных поприщах его работы, как материал для защиты нашей позиции о недопустимости голого, необоснованного, недоверия нашему Начальнику. Совершенно ясно было, что вторая часть записки со слов: если бы съезд начал обсуждать вопрос о доверии Главноуполномоченному…» не должна была докладываться съезду вообще полностью, но должна была только служить нам, выборным канцелярии, руководством на случай перехода съезда на почву личного вопроса о Главноуполномоченном.
Наш доклад, т. е. первую его часть, должен был огласить чиновник Г., так как мне, занимавшему высокое место в Управлении, не советовали выступать перед сборищем неопределенно настроенных солдат и рабочих. Я отметил на моем докладе место, где Г. должен остановиться и раза три-четыре перед его выступлением напоминал ему о том, чтобы он хорошенько заметил это место и остановился вовремя. Тем не менее Г. не выполнил этого, и громко, с выкриками начал читать описание заслуг И., «на случай, если бы съезд возбудил вопрос о доверии»; получилось впечатление провокации съезда на обсуждение вопроса о Главноуполномоченном. Было известно, что автор записки я, и некоторые, потерявшие веру в людей, видели в происшедшем злой умысел и с моей стороны по мотивам чисто личного свойства. Было очень тяжело и обидно.
К счастью, съезд оказался в весьма деловом настроении и криками протеста заглушил первые же фразы нашего доклада. Г. уверял меня, что это с его стороны была рассеянность. Я должен был поверить и извинить, в душе не имея веры.
Я так обозлился на самую возможность подозрений, что когда представитель Главного Управления Ф. спросил меня по поводу происшедшего: «скажите откровенно, вы провоцировали съезд?», я ответил «да», чтобы только прекратить несносный разговор.
Избранный съездом председатель, доктор П., оказался совершенно неопытным в руководстве большим, разношерстным собранием; поэтому первый день съезда прошел сумбурно, но сразу, однако, судя по отношению к персональному вопросу о Главноуполномоченном, определилось его чисто деловое настроение. Представитель Главного Управления Ф., о котором я упоминал выше, говорил на злободневную тему о том, что русская интеллигенция и буржуазия не одно и то же, что нельзя убивать людей только за то, что они в крахмальном белье с галстуком, что так пришлось бы убить и декабристов, которые принадлежали к дворянскому сословию и т. п. Ф. имел невероятной звучности голос, говорил необыкновенно быстро, причем, когда у него не хватало каких-либо слов или тему, его гортань продолжала издавать какие-то звуки чисто механически, так, что издали казалось, что заминки нет. Поэтому, несмотря на чрезвычайную сумбурность его речей, частое повторение в начале каждой отдельной фразы совершенно бессмысленных слов: «о том» и т. п., он имел большой успех у солдат-санитаров, и, сходя с кафедры, попадал в объятия их представителей, с которыми троекратно взасос лобзался. Все это было в общем чрезвычайно глупо, но из двух зол глупость было все-таки лучше разрушения. После говорили прибывшие из Петербурга какие-то «товарищи» Главного Управления. Они, несмотря на демагогизм их обращений к съезду те могли сбить съезд с делового пути. Неудачный председатель был заменен чрезвычайно энергичным, находчивым и объективным, впоследствии расстрелянным большевиками, доктором Шевандиным — начальником большого хирургического госпиталя, и под его руководительство был обсужден и принят ряд полезных для дела решений, совершенно аполитичных, преимущественно определявших подробности заведывания краснокрестным делом на фронте и в армиях, в связи с изменившимся политическим и стратегическим положением. Против Иваницкого и ближайших его сотрудников не было сказано ни одного резкого слова. Толпа, каковой в сущности являлся спешно выбранный в армиях и в тылу краснокрестный съезд, состоявшая в массе ее из солдат и рабочих, впитавших в себя уже широко идей народовластия или вернее совдепов, комитетов, митингов и т. п., не могла ни в чем упрекнуть нас — чиновников «старого режима», во главе с заслуженным членом государственного Совета и сенатором Империи, который, благодаря своим постоянным разъездам по армейским районам, был широко известен массе краснокрестных служащих, в том числе и солдатам-санитарам. Нам в деловом отношении доверяли «не постольку поскольку», а вообще, но какая-то болезненная мания, овладевшая населением под влиянием преступно-демагогической агитации Центрального Совета солдатских и рабочих депутатов, существовавшего попустительством и бездарностью Временного Правительства, побудила и наш съезд, при выработке политической резолюции, принять большинством голосов трафаретную формулу о доверии этому несчастному правительству, на верность которому все на днях еще присягали, «поскольку деятельность его согласуется с пожеланиями Всероссийского Совдепа». За эту формулу голосовали не только санитары, шоферы и т. п., но и значительная часть врачей, чиновников, настоящих сестер милосердия, того самого элемента, который сознательно ненавидел большевизм и должен был бы понимать, что последний представляет из себя нечто иное, как логическое развитие идеологии тогдашнего Центрального Совдепа. Я случайно не был в заседании съезда при голосовании политической резолюции; когда я вошел в зал, я был окружен толпой взволнованных кадровых сестер милосердия, просивших меня открыть сбор подписей под протестом против резолюции съезда; они указывали, что для многих голосовавших за нее вопрос был неясен. Наш протест был, кажется, приложен к журналам съезда, но точно судьбы его я сейчас не помню. Мне приходилось по этому поводу беседовать также с санитарами нашего Управления, и они утверждали, что дали свои голоса за общую резолюцию только потому, что так уж все теперь на различных съездах и собраниях поступают.
Эти самые санитары сохраняли в нашем Управлении полную дисциплинированность и добрые отношения с нами до конца совместной службы, даже после большевистского переворота. Помню, какое впечатление на генерала Маврина, уже уволенного в отставку, произвел мой бравый вестовой Закота; заслуженный генерал ожидал, очевидно, в нашем Управлении увидеть картину обычного для того времени развала; когда Закота доложил мне, что меня желает видеть Маврин, я быстро сказал: «просите», и пошел на встречу ему к дверям кабинета; я услышал в коридоре громкий голос Закоты: «пожалуйте, Ваше Высокопревосходительство»; затем дверь моего кабинета широко распахнулась, Закота вытянулся во весь свой большой рост, пропуская генерала, нашего еще недавнего высшего начальника; последний уже слегка забитый, преследуемый, как и большинство честных исполнителей своего военного долга, был, видимо, сильно взволнован неожиданным зрелищем прежнего порядка. Закота был свободолюбивый хохол, любил на свободе сильно выпить, на службе никогда не заискивал, а дело свое делал просто из чувства долга; он много помогал всем моим сослуживцам при посадке их вагоны, когда поезда находились уже под постоянным анархическим натиском «товарищей». Фигурой и авторитетным тоном он им сильно импонировал. Никаких замечаний не по службе, в особенности от равных себе, он органически не выносил. Как-то при большевиках уже, он переносил под вечер тюк с каким-то имуществом Красного Креста; на улице он был остановлен строгим окриком какой-то власти: «товарищ, что несешь?» Закота обозлился и крикнул, продолжая свой путь: «тебе какое дело? Вкрал и несу, вкради ты и ты понеси». Власть растерялась и даже не пыталась остановить столь независимого «вора», а, впрочем, может быть тогда еще кража признавалась большевиками доказательством политической благонадежности. Прочие наши санитары, подобно Закоте, при всех переживаниях нашего Управления, бросавших его, после временных правителей, то под власть большевиков, то украинских банд, всегда были на стороне наших интересов.
Если в жизни нашего учреждения отражалась частица общих российских событий и явлений, то нельзя лишний раз не убедиться, как неумело вело себя наше Временное Правительство, свободно допуская разложение крестьянской среды грабительскими лозунгами и опираясь в своей деятельности не на эту среду, а на разные городские уголовно хулиганские отбросы, преимущественно не русские; не то же ли самое в миниатюре произошло бы и в Красном Кресте юго-западного фронта, если б мы шли по пятам различных шоферов и рабочих?
В середине лета 1917 года я совершил свою вторичную и последнюю поездку в Петербург; по странной случайности судьбы, как и при первом моем посещении столицы, за время войны, я и на этот раз был свидетелем уличных беспорядков со стрельбой — это были дни первого вооруженного выступления большевиков. Вся полнота власти принадлежала Керенскому: он был и Председателем Правительства и Верховным Главнокомандующим; поэтому нельзя было удивляться, что большевики чувствовали себя уже почти господами положения. 3 июля я был в помещении Главного Управления Красного Креста на Инженерной улице, когда меня позвали к окну показать большевиков: непрерывными рядами шли вооруженные матросы, прибывшие из Кронштадта. Это были уже не те рабочие, которые манифестировали в первые дни после переворота; этим людям уже было внушено чувство злобы; по искаженным, обезображенным одним этим чувством лицам видно было, что они принадлежали людям, от которых ушло все божеское: на долгие годы они делались способными только убивать ближних своих и самим умирать за это право убийства. Через час-полтора после мирного шествия «красы и гордости русской революции» улицы огласились трескотней пулеметов. В это время в усадьбе гр. Шереметьева на Фонтанке, происходили заседания съездов краснокрестных представителей всех фронтов. Хотя председательствовал наш доктор Шевандин, но он уже был здесь как-то безличен, съезд был наводнен ораторами подполья, вылезшими на Божий Свет после революции, частью прибывшими из-за границы. У меня в памяти осталось несколько отвратительных физиономий типичных фанатиков-утописгов, невежественных и неестественно-вдохновенных в своих речах. Большинство съезда требовало каких-то перемен в составе Главного Управления, назначенном Временным Правительством, но в общем в остальных своих пожеланиях было довольно скромно, и, что курьезно в высшей степени, горячо отстаивало автономию Красного Креста от поползновений на нее со стороны, конечно, не Царского, а Временного Правительства. Поход последнего против общественных санитарных организаций, в том числе и против Союзов Земства и Городов это нечто юмористически-превосходное. Для защиты наших прав мы, т. е. представители Красного Креста и Союзов отправились в Ставу Верховного Главнокомандующего, где было созвано особое совещание по нашим делам, но пока я должен закончить мои последние столичные воспоминания.
В сельскохозяйственном клубе я в последний раз в жизни обедал с некоторыми из моих друзей; когда через день я направился туда, я был остановлен стрельбой: оказалось, что толпа большевиков-грабителей ворвалась именно в этот клуб и убила его буфетчика. Все разговоры в клубе были сосредоточены вокруг большевизма; в столице никто не верил, что его удастся изжить при таких правителях, как Керенский; однако, никому, видимо, не приходило в голову, что час победы большевизма так близок. О большевиках рассказывали разные анекдоты, относились к ним, скорее, как к забавным клоунами или типам Максима Горького. Довольны были, что какой-то казак устроил скандал на погребении убитого тогда на улице студента-большевика; кричал на могиле: «не позволю хоронить это падло», после чего один сражался с тридцатью большевиками, избив их нещадно и попав под арест с несколькими сломанными ребрами. Рассказывали, как какой-то пожилой чиновник отправился к дому балерины Кшесинской, с балкона которого Ленин говорил тогда свои речи против войны и капитализма; проталкиваясь через толпу он приговаривал: «не, покажите мне хотя бы одного большевичка; ни разу не видел их». На вооруженную манифестацию большевиков смотрели только, как на эпизод; когда трещали пулеметы, свистали пули над «Летним Садом», там на скамейках сидели невозмутимые петербуржцы за обычным своим отдыхом, с газетами в руках; никто даже не оборачивался в сторону выстрелов; удивляться чему-нибудь считалось у нас, столичных жителей, признаком дурного тона; недаром, во время различных уличных манифестаций, излюбленным местом одного из наших министров бывала тротуарная тумба на Невском Проспекте, с которой он наблюдал за ходом событий. Недаром В. Н. Коковцов даже не вздрогнул, когда рядом с ним револьверным выстрелом был убит на ст. Харбин японский премьер. На большевизм в моей среде смотрели легко сравнительно, потому что в представлении людей порядка усмирить большевиков энергичными и разумными мерами в самом начале его проявления было так же легко, как разогнать в 1905 году совет рабочих депутатов; в продолжительность власти Керенского не верилось и думалось, что его скоро заменит более государственная и опытная власть, тогда еще никто не предполагал, что Керенский близко связан с большевиками и предпочитает передать власть им, чем кому бы то ни было другому.
В моем ведомстве в качестве уже его главы, фиглярничал такой грязный человек, как Чернов; в министерство я официально не являлся поэтому, а беседовал лишь частным образом с некоторыми моими сослуживцами. От них я узнал, что этот «министр» на службе почти не бывает, а когда изредка приезжает в министерство, то сидит обычно на столе, почти не выслушивая никаких докладов; время проводил он в пустословии, на митингах, очевидно, пережевывая на все лады куцую темку своих статей о роли крестьянства в революционных движениях. Поразительно, как социалистическая партийность принижает людей не только нравственно, но и умственно: поговорите с нашими «эс-эрами» и они вам будут убежденно говорить, что Чернов значительно умнее и авторитетнее, но менее только сердечен, чем Керенский; прочтите затем черновские «писания», вдумайтесь в их ничтожество и мелочность; после этого вам станет совершенно ясным, какими умственными запасами обладал кратковременный правитель России Керенский — раз он еще глупее Чернова, по признанию самих «эс-эров». В душе я считал себя совершенно свободным от службы по ведомству земледелия со времени появления на правительственной арене таких типов, как Чернов; представляться ему или его ближайшим сотрудникам, при посещении мною столицы, мне даже и в голову не приходило, не подавал же я в отставку потому, что надеялся, что вся эта нечисть — временная, скоро проходящая. После провала Временного Правительства я был уволен большевиками от государственной службы совершенно механически, во время всеобщей забастовки чиновников.
В этот мой приезд я повидался, между прочим, и с моим братом, с которым не встречался с начала войны. Перед войной он занимал должность юрисконсульта Министерства юстиции; министр И. Г. Щегловитов почему-то недолюбливал его, но это не мешало ему, в силу личных служебных качеств и значений, делать быструю карьеру; во время войны, далеко не достигнув еще сорокалетнего возраста, он был уже назначен прокурором Виленской судебной палаты; по неизвестной причине, при Временном Правительстве, он, единственный из всех прокуроров палаты, не был уволен и вскоре полупил назначение в состав Верховной Следственной Комиссии, на правах ее члена, по расследованию преступных действий членов и высших сотрудников прежнего Императорского Правительства. Кроме него, из представителей старого служебного состава, членом Комиссии был Смиттен, бывший прокурор Харьковской Судебной Палаты. Это была, как бы дань со стороны Временного Правительства требованиям беспристрастия и судейского опыта; весь остальной состав Комиссии был образован из врагов старого режима: социалистов, кадет и озлобленных евреев. Председателем Комиссии состоял большевик Муравье, Московский присяжный поверенный, безнравственный, аморальный демагог, скрывавший до поры до времени свой большевизм.
Работам Комиссии и выводам из них посвящены обстоятельные очерки, опубликованные уже в печати, моего брата и следователя Руднева. Тем не менее, я не могу не сказать нескольких слов и о моих личных впечатлениях от этого учреждения, чрезвычайно характерного для нашего революционного правительства и в особенности для его вдохновителя Керенского.
Было странно неприятно видеть суетливые фигуры людей — злобных, предвзятых врагов всего, что работало при старом режиме на пользу государства, в дворцовых комнатах Императорского Эрмитажа, сохранявших стильную обстановку, придворную прислугу и вообще известное величие, присущее помещениям, в которых или близ которых имели долгое пребывание монархи. Брат познакомил меня с председателем Муравьевым, и последний представил для меня самое гадкое явление из всего доселе мною виденного в революционном мире, нечто, что сразу же возбудило неприятные чувства по первым чисто внешним. Изящно одетый, аккуратно причесанный, с явно выраженной на всех его чертах лица и манерах привычкой удобно и весело жить, этот «защитник народных интересов» яко, одним словом, внешним видом подчеркивал, что цель «великих потрясений» для большинства вождей — грабеж, что никакие нравственные идеалы не доступны чисто животному миросозерцанию их. Я видел, как этот истинный по его душе хам развалился сладострастно в удобной дворцовой коляске и поехал куда-то в рабочее собрание клеветать на работников старого режима, — и я не помню, чтобы какая-нибудь другая фигура революционного времени оставило во мне более гнусное впечатление.
Рассказанное мне братом о постановке и ходе дел в Комиссии привело меня в полное изумление, смешанное с отвращением. Временное Правительство было частью так наивно, частью так подло (персонально в этом сейчас разобраться трудно), что одни из его членов верили, а другие делали вид, что верят в возможность успешной постановки уголовного преследования министров и других должностных лиц империи. Если бы Временное Правительство не считало или не хотело бы считать их уголовными преступниками, то никогда оно не рискнуло бы, дорожа своей репутацией, пригласить громадный штат настоящих судебных следователей для производства настоящих предварительных следствий на основании действующих уголовных законов. Было бы последовательно и не бесчестно, если бы новые правители России, в силу их республиканских убеждений, приняли те или иные меры предосторожности против влияния их видных врагов — приверженцев монархического строя. Было бы понятно, если бы Горемыкины, Щегловитовы, Штюрмеры и проч. были бы высланы, например, заграницу; это было бы актом острой политической борьбы, но не актом тупой глупости или подлости.
Само собой разумеется, что никакой уголовщины в деяниях Царских чиновников не было найдено, и сверхподлость Муравьева заключалась в том, что это не мешало ему кричать в солдатско-рабочих собраниях относительно обнаруживаемых Комиссией преступления и о беспощадной каре, которую понесут преступники.
Стороны, по их деловым и нравственным качествам, были не равны: судьи имели растерянно злобный вид, обнаруживали беспокойство, свойственное людям невежественным и с нечистой совестью, а подсудимые были вооружены большими знаниями и чистой совестью, почему были совершенно спокойны, часто остроумны и подавляюще действовали на их судей.
Только один Белецкий, б. директор департамента полиции так извратил свою душу постоянным соприкосновением с нашими подпольными утопистами, что изыскания в стиле Шерлока Холмса затмевали перед его умственным взором действительные интересы, для всех же остальных подсудимых, при тех или иных естественных человеческих недостатках или слабостях, родина и честное служение ей были в жизни самое главное. И не думаю я, чтобы П. Н. Милюков чувствовал себя хорошо, когда ему пришлось дать Комиссии отрицательный ответ на вопрос, имеются ли в его распоряжении определенные материалы, подтверждающие государственную измену Штюрмера. Все-таки, как-никак прокричать на весь мир во время опаснейшей для свое родины войны об измене первого министра и потом узнать, что именно он противился несвоевременному и невыгодному для нас выступлению неготовой еще к войне Румынии — это для мало-мальски совестливого человека-гражданина довольно зазорно. Я прекрасно помню, из моих собеседований в Следственной Комиссии, что этот интереснейший эпизод был предметом ее суждений, и не понимаю, почему он опущен в печатных воспоминаниях моего брата.
На мой естественный недоуменный вопрос, после первых впечатлений от Комиссии, посему брат не бросает службы, он объяснил мне, что его и сенатора Смиттена участие, с правом решающего голоса, в составе Комиссии ограждает все-таки интересы подследственных лиц, а кроме того полезно для собирания и объективного освещения материалов, имеющих несомненное историческое значение. Теперь, когда судьба этих материалов неизвестна, для меня ясно, что чиновники старого режима, жертвуя своими нервами и знаниями для работы Комиссии, были правы. Кроме того, кто мог бы правдиво рассказать обо всем происходившем в этом учреждении, не будь случайно в нем старорежимных представителей? Ведь для членов Временного Правительства работа Комиссии, по ее способам и результатам, это такой позорный аттестат, что никто из них, никогда, без сомнения, и словом не обмолвился бы даже о самом существовании подобной комиссии. Она, действуя законно, должна была бы прекратить судебное преследование не только против столь видного представителя старого режима, как И. Л. Горемыкин, который, как известно, был оставлен на свободе, но и решительно против всех тех, кого держали в Петропавловской крепости, пока их не поубивали большевики.
Брат поступил, следовательно, правильно, оставшись в составе комиссии до последней возможности. Эта возможность настала для него лишь после того, как он выступил с заявлением, что, по его мнению, Комиссия занимается толчением воды в ступе, отыскивая безуспешно уголовных преступников, в то время, как они давно налицо, и первый из них Керенский против которого может быть возбуждено преследование за государственную измену, так как он, имея документальные доказательства об оплате немцами разрушительной работы на фронте Ленина и Троцкого, отказывается их арестовать и судить, т. е. заведомо поощряет государственную измену.
Самое ценное в материалах Следственной Комиссии, помимо того, что она, без умысла с ее стороны, реабилитировала деятелей старого режима, представляла документы, относящиеся к личности Царя. Уже один тот факт, что Государь, без принуждений, передал в Комиссию всю свою громадную переписку и дневники, лично, вместо того, чтобы все сжечь, приведя их в порядок, проставив на пакетах время корреспонденции и фамилии корреспондентов, уже этот факт не могу не смутить Комиссию: он означал, что совесть Царя чиста, что ему от общества, от своего народа скрывать нечего. Документы Царя тщательно оберегались в помещении Комиссии; я видел сундук с ними, и тогда же у меня было какое-то опасение за их судьбу; по взятии дворца большевиками, мне кажется, они должны были уничтожить эти документы они слишком невыгодны для революционеров.
Изучал эти документы мой брат, человек приступивший к этому с предвзятым, как масса тогдашней нашей интеллигенции, мнением о Царе. С некоторыми данными и выводами он тогда же познакомил меня. Когда я в Киеве передал их покойному Кривошеину, последний был очень взволнован и живо заинтересован. «Мои десятилетние личные наблюдения», сказал он мне, «совершенно совпадают с тем, что говорит Ваш брат», и К., при первом же случае, посетил брата для более близкого ознакомления с его данными.
Теперь имеется уже несколько печатных работ — воспоминаний о Царе и его Семье тех лиц, которые непосредственно знали их. Очерк, например, Жильяра, учителя покойного Наследника Алексея, особенно ценен был в этом отношении, так как принадлежит перу иностранца и проникнут большим неподдельным чувством и живой наблюдательностью. Чрезвычайно важно совпадение того, что рассказывал о Царской жизни очевидец — Жильяр и предубежденный судья-исследователь документов об этом — мой брат. Данные и очевидцев, и первых исследователей личности Императора Николая II на основании исторического материала будут иметь первостепенное значение для будущих историков и художников слова именно потому, что они совпадают; это облегчит путь к истине исторической и художественной.
Я, с первых дней знакомства моего с не понятой русским обществом трагедией, путем размышлений, собеседований и чтения, старался дать себе отчет в происшедшем, тем более необходимым для моей совести, что и я, как почти все русские интеллигенты, несколько лет подряд находился под гипнозом кошмарных слов и понятий: «Распутин», «безответственные влияния», «сепаратный мир» и т. п.
Каждый, по мере сил, подходя к этому тяжелому для нашей родины времени, не должен, мне кажется, молчать, обязан высказать, как в его уме и сердце выявились причины Царской трагедии. Из суммы взглядов история возьмет что окажется научно ценным и постоянным.
Вот почему, да будет дозволено и мне сказать несколько слов, какие мысли владели мною уже ко времени падения Временного Правительства и укреплялись во мне твердо после мученической кончины Царя и его Семьи по поводу психологических причин этого тягчайшего несчастья для всех честных людей всего человечества.
Между Царем и русской интеллигенцией, как я упоминал выше, воздвигалась стена, прекращалось взаимное понимание по мере того, как Царь замыкался в себе и своей семье, не доверяя искренности и честности интеллигенции и все более и более проникаясь мыслью, что настоящим носителем заповедей Бога и душевной чистоты, является просто русский мужик. Возле своего престола Царь, за исключением нескольких честных работников, видел или борьбу эгоистических материальных интересов привилегированного сословия или борьбу за власть так называемых общественных деятелей, оппозиция которых даже разумным вообще государственным мерам казалась подозрительной, эгоистической; ни наши либеральные думские органы, ни наша либеральная пресса ни разу не похвалили на одного шага Правительства Царя, все огулом подвергалось критике; Царь не мог верить в ее искренность. Перейдя поэтому психологически на сторону простонародья, Он должен был в отношении интеллигенции оказаться на таком же расстоянии, как последняя от народа. Интеллигенция наша, под влиянием общения с народом Европы и в силу присущей ей талантливости, ушла далеко вперед от, всего полвека тому назад, освобожденного от рабства крестьянина; между нами и мужиком была пропасть; кто уходил психологически всецело к мужику — делался нам чужд, — так, как, например, погиб для нас художник-писатель в лице Льва Толстого, как только он перестал писать в понятных нам утонченно-художественных образах и перешел к упрощенному творчеству для простонародья.
Перестав понимать Царя, как первого гражданина Империи, мы начали оскорблять его как человека-семьянина. Это еще более должно было сделать его замкнутым, далеким от нас. Мы не знали определенно о семейной трагедии в семье Царя (опасной болезни его сына), но мы знали, что какой-то проходимец имеет при дворе будто бы какое-то значение и влияние. Если совершенно объективно поставить себя в положение Николая II, просто, как человека, разве каждый из нас не замкнулся бы в себе, хотя бы из простого чувства тягчайшей обиды, которая наносилась ему, как мужу и отцу? Я видел Царя в последний раз в жизни в Киевском Софийском Соборе за несколько месяцев до катастрофы; стеной стояли расшитые золотом мундиры, белые туалеты дам, мимо которых быстро с ледяным, без всякой обычной приветливости, взглядом, прошел Царь с Наследником, на ходу слегка кивая головой. Мы и он были тогда чужими, не понимающими друг друга, как будто бы сотня «баринов» встречала не доверявшего им «селяка».
Теперь все знают, какой глубокой любовью и уважением были проникнуты семейные отношения Царя, Он же знал, ценил эти отношения всегда, никогда в них не сомневался и вдруг — грязные намеки на чуть ли не связь с проходимцем Той, возвышенная чистота которой была для него самого, для мужа, вне подозрений. Трагедии Шекспира: «Король Лир», «Макбет», «Ромео», даже «Гамлет» с его мировой печалью — ведь они чрезвычайно мелки, по сравнению с тем, что переживал Царь-мученик, как Царь и как человек. Будущий Шекспир эпилогом трагедии «Царь Николай II-ой» несомненно с полным правом возьмет слова: «Нет повести трагичнее, чем история жизни и царствования русского Императора Николая II».
«Мужицкий» Царь, уравнявший крестьян в правах с прочими сословиями, давший неслыханные до него средства на образование крестьян, такие средства, которые обеспечивали еще при Его жизни всеобщность и обязательность народного образования, отдавший, почти бесплатно, русскому землепашцу богатейшие по качеству и громадные по пространству имения свои на Алтае, никогда не был бы свергнут с престола простым народом. Его отречение, это всецело дело рук и попустительства интеллигенции, для которой «четыреххвостки», полные свободы печати и собраний, ответственные министерства и т. п., представлялись самыми насущными вопросами, как будто бы без них русских мужик не мог просуществовать ни одного дня. Губя Царя из-за интеллигентских фетишей, не думали, что на стороне безвластия стоят утописты-фанатики, которые немедленно и вырвали власть от не народной интеллигенции, пообещав народу то, что интеллигенции, в силу своих знаний и известной порядочности, обещать не могла. Это отбросило нашу культуру и хозяйство на столетие назад. И глубоко запали мне в душу слова, сказанные мне как-то в разгар смуты Г. В. Глинкой: «если уж были недовольны Государем, если уж действительно к этому были основания, то почему же было, по примеру, наших предков-бояр времен Иоанна грозного не перетерпеть, веря, что наступит другое время?» Да, если бы потерпели, то не на двести лет во всяком случае ушли бы назад. Вернее предположить, что удача в войне и любовь Царя крестьянству ознаменовали бы последнюю часть Его царствования крупным поступательным движением по пути упрочения духовного и материального благосостояния крестьянства, без оттеснения свободы интеллигентского класса, которой он уже около пяти лет совершенно лишен.
Конец жизни Царя Николая II — это пример того, как надо служить своей родине, пример достойный высших образчиков человеческого героизма он мог спасти себе и семье своей жизнь, подписав позорный Брестский договор и бежав из России.
Своею смертью он искупил все свои вольные и невольные ошибки и поднял себя на ту высоту нравственной чистоты, которая для человечества дороже всяких материальных выгод, ибо она духовно очищает людей, облагораживает их и тем облегчает им жизнь на грешной и часто несчастной земле.
Эти беглые мысли о русской трагедии — результат частых раздумий, почему и для чего мог погибнуть такой чистый душой человек, как Николай II.
Продолжение начатых в Петербурге нападок на медико-санитарные общественные организации, в связи со стремлением их «милитаризировать», т. е. передать их учреждения в непосредственное распоряжение военно-санитарных частей, имело место, как я уже говорил выше, в Могилеве, в Ставке Верховного Главнокомандующего, куда я и был командирован в качестве представителя юго-западного Управления Красного Креста. Совещание состоялось, кажется, за месяц приблизительно до падения Временного Правительства. Открыл наше заседание начальник штаба Верховного Главнокомандующего вскоре трагически погибший, молодой генерал Духонин. Было как-то странно видеть на месте убеленного сединами Алексеева юную, стройную фигуру нового начальника. Он сказал нам несколько приветливых слов, и, видимо, смущаясь, старался внушить нам, что военным ведомством еще ничего определенного не решено, что нам не следует видеть в возникших предположениях признаков какого-либо недоверия, тем более похода против общественных организаций. Затем председательствование перешло к новому, революционному, помощнику начальника штаба по гражданской части В. В. Вырубову, до этого занимавшему должность председателя Комитета Всероссийского Земского Союза на западном фронте. Это был необыкновенно яркий, характерный эпизод из истории кратковременной деятельности кабинета «Львов-Керенский».
Бывший ярый защитник роли общественности на войне, первый среди деятелей Земского Союза по рекламированию, порой выходившему за границы всякой деловой надобности, военной работы земств, старался нас прежде всего успокоить, просил не волноваться, доказывал, что, мол, правительство совершенно не против общественных организаций. Я не верил своим ушам: неужели это говорил В. В. Вырубов, а я, старый чиновник, член Государственного Совета по назначению А. Д. Зиновьев и… бывший уже министр Юстиции, старый социалист П. П. Переверзев, имевший порядочность отказаться от участия в поощрении большевизма Керенским, мы в таком странном противоестественном сообществе, вынуждены доказывать пользу и значение медико-санитарных общественных организаций, говорить, что при всяких государственных строях имеется разница между методами казенной и общественной работы, что, в частности, деятельность российского Общества Красного Креста определяется его уставом, что сомнительно, чтобы военно-санитарное ведомство могло вдруг само справиться с надлежащей полнотой со всеми сложными задачами лечения, питания, эвакуации раненных и больных и проч., и проч.
В качестве некоего обвинительного пункта мне были предъявлены какие-то цифровые ведомости, которые должны были уличить наше юго-западное Управление Красного Креста в невероятной расточительности. Из этих ведомостей я узнал о наличности у нас такого громадного личного состава, что если бы это было верное, мы давно бы были должны помещаться на скамье подсудимых или в доме умалишенных. По высоте невежества, которое проявлялось представителями обвинения можно было судить в каких деловых руках находится теперь военно-санитарное дело и как было бы своевременно предоставить именно теперь военно-санитарной части всю полноту власти и распоряжения всеми материальными средствами общественных организаций. Когда я разобрался в «уличающих» ведомостях, я с изумлением понял, что численность нашего личного состава исчислена на основании данных о выписанных нами единицах довольствия. При этом, обвинители, судя, вероятно по тем принципам, которые насаждались в новой России, считали, что мы кормим только самих себя, т. е. наш личный состав, а не больных и раненных воинов. Естественно, что если всех больных и раненных воинов, которым помогает Красный Крест, относить к его личному составу, то должно получиться впечатление какой-то, в буквальном смысле слова безумной панамы. Я довольно раздраженным тоном объявил совещанию сущность ошибки. В. В. Вырубов, видимо, смутился и вновь призывал нас к спокойствию. Меня очень интересует в какой мере спокойно встретили бы наши земские оппозиционные деятели подобный запрос к ним при Царском Правительстве; разве не раструбила бы на весь свет пресса о таком случае. Как доказательство полной несостоятельности старорежимного чиновничества? Мы поступили, конечно, иначе; мы не находили возможным в тяжелое для родины время, подрывать доверие к ее властям при посредстве печати: мы избрали из своей среды депутацию во главе с представителем Красного Креста А. Д. Зиновьевым, которой поручили подробно в Петербурге доложить наши соображения, в целях добиться прекращения похода против медико-санитарных общественных организаций военного времени. Депутация эта и успела исполнить данного ей поручения, так как для Временного Правительства настало время исключительной заботы о спасении своей власти от большевиков, закончившееся, как известно, октябрьским бегством Керенского.
Справедливость требует отметить, что я не знаю в какой мере земец Вырубов разделял предположения о фактической ликвидации на фронтах Красного Креста и Союзов, но, во всяком случае, он явился передатчиком этих предположений. Подумал ли при этом он о том впечатлении, которое на врагов союзов произвела бы их ликвидация как раз после того, как был достигнут государственный переворот? Подумал ли он, что такие актом навсегда закрепилось бы мнение о политической пропаганде, как о главнейшем побуждении Союзов работать на театре военных действий?
По возвращении в Киев я застал наше Управление в чрезвычайно тяжелом положении. По мере ослабления власти Временного Правительства, усиливалась власть или произвол, что для того времени было синонимом, украинских учреждений: Центральной Рады, во главе с проф. Грушевским и правительства, во главе с большим писателем Винниченко.
Рада проделывала социалистические опыты в духе близком к большевизму; опыты эти были одобрены кроме того узким шовинизмом, уничтожавшим всю ту общерусскую культуру, которая так дорога каждому малороссу. По улицам непрерывно таскали портрет Шевченко, так что это начало уже казаться смешным даже его поклонникам; появились в каких-то фантастических костюмах распропагандированные австрийцами наши солдаты, бывшие военнопленные; они были злобно-грубы; порою приходилось слышать озлобленный шепот: «и когда уже этим москалям вырежут языки, чтобы они у нас не балакали по-своему?» Язык Пушкина вызывал отвращение в развращенных австрийской пропагандой, душевно изувеченных, людях. Равноправие устанавливалось для трех языков: украинского, польского и… еврейского, ибо, как гласил текст закона, это были языки основного населения Украины. Гоголь, его язык, признавался иностранным, конечно, этот тупой шовинизм был чужд народным массам; крестьяне считали все эти правительственные опыты панской выдумкой, и к ним подползала большевистская зараза; язык большевиков по тому времени был более понятен и заманчив для народа, чем стихи Шевченко.
Рада, однако, добилась несомненной «популярности» в народе и даже облагородила некоторые грубые его привычки, очевидно, перенятые от москалей. Так, на базарах Киева и в деревнях при ссорах торговок и вообще баб между собой, которые, как известно, любят в патетический момент задрать высоко юбку и, повернувшись к врагу, крикнуть: «а поцелуй меня, такая-сякая (или такой-сякой) в…», последнее нецензурное слово было заменено словами: «в центральную Раду». Это крылатое слово «поцелуй меня в центральную Раду», так укрепилось в народе, что, я думаю, оно останется в Малороссии навсегда и явится для Грушевского нерукотворным памятником.
Министерства Винниченки были чрезвычайно демократичны: в них ходили в шапках, харкали и плевали всюду на пол, всюду курили. Некоторые «народники» умиленно сравнивали их с волостными правлениями, забывая, что в большинстве последних имелись опытнейшие чиновники — волостные писаря и умные общественные представители — старшины. Отличительной чертой новоявленных министров являлось повальное взяточничество, переносившее нас во времена, по крайней мере, 17–18 века. Суд разрушался — на местах выбирались судьи из состава шоферов, поваров, каторжников даже, вообще лиц, которые ничего общего с судебной деятельностью не имели. Моему брату впоследствии пришлось, например, столкнуться с делом семейного развода одного из таких судей, по его собственному приговору. Вообще удачно подготовлялась почва для большевизма.
Кстати, я вспоминаю характерный для отношения к делу со стороны служащих старого режима случай во время украинизации суда в Киеве, когда почтенные заслуженные судебные работники выбрасывались беспощадно на улицу и обрекались с их семьями на голодную нищету. Одно из уездных земств Полтавской губернии предложило мне быть третейским судьей в споре его с поверенным земства. По этому делу я должен был беседовать с одним левым присяжным поверенным-поляком. Он опоздал на свидание, извинился тем, что затянулось заседание Судебной Палаты, где слушалось дело одного из его клиентов. Приехал он какой-то взволнованный. «Я всецело под впечатлением судебного заседания», рассказал он мне, «Боже мой — что это за люди наши старые судьи; дело очень сложное, и, представьте, член палаты такой-то (была названа забытая мною теперь фамилия) вникал подробнейшим образом во все мелочи дела, лишь бы добиться правды, а ведь он с большой семьей с завтрашнего дня остается без куска хлеба, я ведь знаю его материальное положение, и в таком состоянии, будучи уже уволенным со службы, думать о чужом деле; какая высокая нравственная чистота!»
Рассказ присяжного поверенного так констатировал с тем, что делалось новыми слугами родины. Там все почти сводилось к личным честолюбиям или материальным выгодам.
Особенно процветало взяточничество в учреждениях, ведавших отводом помещений. Главой этого дела был какой-то студент-хохол, кажется, галичанин, убитый большевиками по взятии ими Киева, так как на него со всех сторон посыпались жалобы потерпевших лиц. Нас, конечно, не замедлили выселить из домов Терещенко; под управление удалось найти помещение вдали от центра города — в здании бездействовавшей частной торговой школы (на углу Бульварно-Кудрявской ул. и Обсерваторного переулка), а с размещением различных наших складов, резервов санитаров и сестер, гаражей и т. п. возникали часто тяжелые затруднения, требовавшие «смазки».
Несмотря на близившееся окончание войны, леченые заведения и в районе армий, и в тылу были переполнены раненными и в особенности больными; развал фронта повлек за собою заметное усиление эпидемий. Между тем кредиты на содержание учреждений отпускались с большими заминками и в недостаточном размере. Бывали моменты, когда тот или иной лазарет начинал буквально голодать, и врачебный персонал содержал больных за свои личные сбережения, в складчину. Хотя Красный Крест оказывал большую и существенную помощь и украинизированным воинским частям, местное правительство не отпускало нам, конечно, никаких средств, да и не в наших интересах было настаивать на этом, чтобы не ставить себя в зависимое положение от украинских властей.
Мы неизменно отстаивали ту точку зрения, что находящаяся на фронте учреждения Красного Креста и все краснокрестное имущество военного времени, сосредоточенные по обстоятельствам войны в юго-западном крае, представляет собственность единого Российского Общества Красного Креста.
Когда, после некоторой борьбы, сопровождавшейся вооруженными столкновениями в городе, казаки и другие верные России части, во главе с начальником военного округа, вышли, по соглашению с украинскими властями, из Киева, положение наше стало очень непрочно и деятельность наша еще более усложнилась.
В таких условиях застал нас в Киеве государственный переворот, произведенный осенью 1917 года большевиками. Придерживались согласно духу Женевской конвенции и Устава Общества, аполитичных начал в нашей работе, мы не считали себя в праве преследовать примеру русских чиновников, объявивших забастовку, тем более, что выпусти мы из своих рук руководство краснокрестными учреждениями, имущество было бы разграблено, а раненные и больные остались бы в беспомощном состоянии. Однако, мы были и далеки от мысли о возможности служить под властью большевиков. Поэтому Б. Е. Иваницкий, обсудив с начальниками частей Управления создавшееся положение, послал в Петербург телеграмму, подписанную всеми нами, в том смысле, что мы считаем наши полномочия, данные прежними правительствами, потерявшими силу, просим срочно указать наших заместителей, до чего будем, в интересах раненных и больных, продолжать нашу работу. В это время Главное Управление Красного Креста было уже расформировано, при его протесте в Женеву, а во главе дел Красного Креста был поставлен какой-то «товарищеский комитет». Должен упомянуть, что у нас как в Центральном Управлении, в Киеве так равно даже и в армейских районах, где уже производились на местах выборы всех высших должностных лиц, несмотря на все события, оставался прежний состав руководителей, ранее назначенных и вновь переизбранных на съездах. Только в одной 7-ой армии на выборах победили большевики, во главе с неким полуграмотным санитаром Зенюком; они, конечно, начали свою работу с попыток красть, но подчинились нашему комитету и в общем удавалось даже их вводить в рамки исполнения их служебного долга.
Ответа на нашу телеграмму из Петербурга нами не было получено, обстоятельства же складывались так, что не было в нашем расчете торопить «товарищей» с присылкой наших заместителей: на юге скоплялись силы добровольческой армии, она остро нуждалась в санитарной помощи; еще до октябрьского переворота часть краснокрестных запасов было решено постепенно отправлять в глубь страны, чтобы спасти их от грабежа покидавших фронт солдат; по этому поводу Иваницкий имел какие-то секретные указания Главного Управления, основываясь на которых продолжал и впоследствии осторожную при удобных оказиях переотправку медицинского имущества на Дон, в распоряжение генерала Алексеева, а потом Деникина.
Однажды, нас посетил какой-то «товарищ», ревизовавший учреждения Красного Креста; он совершенно ничего не знал, какова судьба нашей телеграммы и кто должен заменить нас. Это было юноша, с обычным для товарищей начесом жирных волос на лбу, довольно тупой наружности, называвший себя студентом, но не производивший впечатления образованного человека. Иваницкий пригласил его в очередное заседание нашего комитета, который обсуждал ряд злободневных вопросом, между прочим, о взаимоотношениях с украинской властью. «Ревизор» просидел все заседание молча, видимо, он был несколько подавлен спокойной обстановкой заседания, в котором совместно работали старорежимные чиновники и представители солдат, шоферов и проч., причем эти представители с уважительным вниманием относились к соображениям председателя Комитета.
По окончании заседания, Иваницкий совершенно спокойным и серьезным тоном, с едва заметной иронией, обратился к юноше: «вот вы ознакомились с нашей организацией и очередными вопросами; может быть, вы со своей стороны хотели бы дать нам какие-либо указания?» Юноша смущенным голосом, потупя глаза в пол, пробормотал: «нет, что же, продолжайте действовать, как и теперь». Иваницкий иронически улыбнулся; перед солдатами и шоферами бессилие большевистского представителя было удачно и совершенно лояльно продемонстрировано; это пригодилось нам в скором времени в один из самых опасных моментов нашей деятельности на юго-западном фронте.
Как и следовало ожидать, Центральная Рада не могла долго удержать власть в своих руках; среди зимы 1917 года уже начали подступать к Киеву войска большевиков, без сопротивления им крестьян. Последние тогда еще не испытали на себе прелестей большевистского режима, а деятельность Рады им была уже достаточно известна; население поэтому защищать Раду не могла. В Киеве были какие-то украинские части, которые в течение одиннадцати, если не больше, дней, расставив батареи в различных частях города, палили беспорядочно по Черниговскому шоссе, вызывая ответный огонь, часто довольно меткий, со стороны большевиков. Последние, главным образом, бомбардировали район железнодорожных станций и места открытых ими украинских батарей, в частности, специальному обстрелу подвергался многоэтажный дом «батьки» Грушевского, близ Ботанического сада; после гибели его дома, этот «деятель», к счастью, исчез навсегда из Киева, и о нем ничего больше не было слышно. Так как рядом с домом, в котором я жил, была почему-то размешена одна из батарей, то большевики, нащупав ее, выпустили свыше 35 снарядов в район нашей усадьбы. Дней пять-шесть я продолжал ходить на службу, но потом нервы не выдержали, и я засел дома. Невольно приходилось все время прислушиваться к звукам разрывов, успокаиваясь, когда они удалялись и тревожась по мере их приближения. С каждым днем условия жизни ухудшались: прекратилось освещение (электричество), затем не стало воды, с ведрами и кувшинами ходили к ближайшему пруду, а впоследствии три дня даже не мылись совсем, участились грабежи, начались скучнейшие ночные дежурства всех жильцов дома на лестнице; специалисты составляли даже письменные приказы и планы на случай нападения на дом; у нас старичок-инженер выработал подробную инструкцию дежурным, когда с какой ступеньки лестницы стрелять по мере наступления грабителей; он забыл только, так же, как и все мы, о довольно существенной подробности: о том, что, кроме парадной в нашем доме была еще и черная лестница, никем не охраняемая и с плохо запираемой дверью. Один день обстрел нашей усадьбы был так силен, вид разорванного на клочки солдата, скрывавшегося в соседнем дворе был так тяжел (этот солдат участвовал в крупнейших боях в Галиции и вернулся без одного ранения), что я не выдержал, и, по примеру большинства моих соседей, засел в подвале среди капусты и картофеля. Мой родственник долго не хотел выходить из квартиры, но в конце концов тоже не выдержал и появился в подвале; спускаясь с лестнички, он насмешливо объявил: «теперь и я понимаю в чем заключается углубление революции». Из подвала при сильных близких разрывах, как это обычно бывает, тянуло на свет посмотреть, в чем дело, что происходит. Остаться на ночь в темном подвале я решительно не мог. Телефон действовал довольно долго; у меня был знакомый дом в центральной части города, откуда я получал различные новости, большею частью не верно подававшие надежду на скорое окончание боев. Когда мне перестали отвечать оттуда, я понял, что снаряд разорвался в доме. Несколько дней мы совершенно были отрезаны от внешнего мира. Иногда стрельба прекращалась на несколько часов, и тогда казалось, что все уже кончено; забирал тяжелый глубокий сон; пробуждение наступало от звуков разрывающихся снарядов, и сквозь сон не хотелось сначала верить, что снова начинается прежнее. В конце концов, нервы были так утомлены, что ни о чем другом не говорилось и не мечталось, как о тишине, чистоте и сне; самые обыкновенные явления нормальной жизни представлялись чем-то несбыточным, чем-то таким, чего уже никогда не будет. Совершенно безразлично было, кто победит: большевики или украинцы, лишь бы перестали стрелять. Впрочем, и по существу дела это было в общем безразлично: для людей государственного порядка, никакой, в сущности, разницы между Лениным и Винниченко не было.
Наконец, как-то внезапно настал тихий день, кажется, с часов трех после обеда: ни одного выстрела, ничего не знаем, что происходит в городе; потом, на другой день, поползли слухи о диких зверствах большевиков. В комнатах вдруг засветилось электричество, и эта мелочь приводила всех в приподнятое, жизнерадостное настроение. Тогда не знали еще сколько близких людей, знакомых и сослуживцев погибнет в эти самые часы тишины. Когда я уже раздевался перед настоящим сном в постели, подошел к окну; вдруг раздался знакомый треск разрыва и вся темная улица осветилась; это разорвалась последняя шрапнель, посланная отходившими украинцами, в мирный город с Житомирского шоссе, очевидно, как свидетельство их тупой злобы. Делать города театром длительных военных действий, чего никогда не было во время Европейской войны, это тоже одно из завоеваний революции. После разрыва шрапнели весь наш дом не спал несколько часов, снова все высыпали на улицу и ждали с унынием возобновления борьбы.
На другой день стало определенно известно, что город занят большевистскими ордами, под командованием каких-то Муравьева и Ремнева.
В Управлении Красного Креста я узнал, что Иваницкий не прекращал посещать службу, кроме, кажется, кануна и первого дня вступления в город большевиков. Во время боев работали наши перевязочно-питательные пункты. За отказом шоферов вывозили раненных доктора и наш химик. По какой-то странной случайности во все почти наши полевые госпиталя, размещенные в Киеве, попали снаряды; в Симферопольском Госпитале было убито во время отдыха несколько сестре и санитаров разрывом; на вокзале погибли тоже санитар и сестра. В Елизаветинском госпитале снаряд разрушил вестибюль, как раз во время производства операции одному раненному; сотрясение было столь сильное, что оператору показалось, что вся операционная комната рушится. Громадная пробоина зияла в стене 1-ой гимназии, где помещался Евгенинский госпиталь. Затем к нам начали поступать сообщения о том, что в городе видели то того, то другого из наших сослуживцев, окруженных большевиками. В Мариинском парке близ дворца происходило массовое истребление русских офицеров и всех, казавшихся подозрительными для товарищей лиц. Это не был еще систематический организованный террор, который годами истреблял и истребляет русскую интеллигенцию в России; это было просто беспорядочное, уличное истребление кровожадной шайки, состоявшей преимущественно из матросов, прилично одетых людей, в особенности офицеров, которых через год большевистское правительство уже не истребляло массами, а всячески старалось заманить к себе на службу. Поводом к расправе служила, главным образом, или военная форма (погоны), или наличность красного билета. Эта тупая мера украинских властей — обязать всех граждан иметь красный билет «на украинской мови», под страхом выселения их Киева, стоила жизни многим. Билет всякого служащего снабжался наименованием его почему-то «казаком»; даже переписчицы казенных учреждений имели иногда билеты с надписью «казак такая-то». Не менее тупые и разъяренные матросы расстреливали таких «казаков».
Масса арестованных содержалась в Царском Дворце и в Городском Оперном театре. Красный Крест выполнил блестяще свой долг человеколюбия и в эти дни особенно ярко сказалось значение принятых во время мер к сохранению нашей деловой организации. Немедленно для арестованных были открыты медико-питательные пункты нашими агентами: самоотверженными докторами А. и И., помощником заведующего хозяйственной частью. А. Л. Соболевым и др. Сестры-питательницы для массы родственников являлись единственной связью их с арестованными; они выполняли тяжелую обязанность сообщать родным о трагической судьбе их родителей, детей и т. п.; иначе долго близкие люди томились бы неизвестностью судьбы того или иного арестованного. Это назначение отрядов Красного Креста продолжалось в течение всей нашей гражданской войны.
Командир Муравьев, вероятно, был полубольшевик; он впоследствии, действительно, изменил большевикам и был расстрелян, кажется, на Уральском фронте.
В Киеве он, несмотря на все его беспутство, старался, также, как и его сотрудник Ремнев, сократить число жертв. Когда мы в срочном порядке послали ему протест против расстрела наших агентов, я видел через день автомобиль, разбрасывавший на ходу по улицам печатные разноцветные объявления, которые призывали товарищей не чинить самовольной расправы. Затем, очевидец рассказывал мне о таком эпизоде: он был схвачен матросами и его вели на расстрел в довольно большой группе других арестованных к Мариинскому дворцу; по дороге их встретил Муравьев, остановил, опросил, что за люди и затем заявил, что сам тут же разберет дело; спрашивал фамилию и чисто механически по очереди направлял одних направо, т. е. на смерть, других налево, для освобождения; мой знакомый случайно попал налево; матросы подчинились решению; только одного врача, уже пошедшего налево, вернули в первую группу, так как нащупали у него под штатским пальто погоны. Муравьев за счет одной части арестованных, спасал, очевидно, от матросов, другую часть.
Когда возобновились в полном составе занятия в нашем Управлении, мы прежде всего узнали, что арестован В. Д. Евреинов и не вернулись домой А. В. Чириков и В. Г. Глинка. К общей нашей радости, после долгой тревоги, Иваницкому удалось добиться освобождения Евреинова, остальных же двух наших сослуживцев долго и тщетно искали среди арестованных, с затаенной надеждой, что они может быть где-нибудь скрываются. После нескольких дней ожиданий, их трупы были, наконец, опознаны в мертвецкой военного госпиталя. У большевиков в начале не было жестокой привычки не выдавать тела замученных ими людей родным. Недели две были у нас непрерывные похороны или панихиды. Гроба тянулись за гробами. Узнавали постепенно о новых несчастиях: о расстреле «по ошибке» нашего сотрудника, с первого дня войны уполномоченного в одной из армий, П. В. Кочубея; о гибели из-за красного билета одного начальника передового отряда (фамилию его позабыл) и др.
Нам надо было заканчивать нашу ликвидационно-отчетную работу; отдать запасы Красного Креста на разграбление мы не считали себя в праве: в них нуждались русские люди вообще и южная армия, в частности, единственная тогда надежда на спасение родины от смуты. Кроме того наличность Красного Креста смягчала несколько жестокости гражданской войны, уменьшала размеры гибели русских людей, вольно или невольно вовлеченных в эту войну. Уже при первом занятии большевиками Киева, наш персонал мужественно не допустил расправы с лежавшими в наших госпиталях украинцами, так же, как через несколько месяцев после этого оберегал больных большевиков от мести им со стороны вернувшихся в город украинцев. Для нас, в массе их, это были переживающие временное безумие, русские люди, которые не могли отвечать за изуверство и безумие различных Лениных, Троцких, Грушевских, Винниченко и проч.
При таких условиях, как это ни было тяжело и противно, нашему Управлению, в целях сохранения своего влияния и делового положения, не оставалось другого выхода, как войти в связь с новой властью — образовавшимся в Киеве «Совдепом». Мы, стремясь оградить деловые интересы, были так жестоки, что сначала настаивали, чтобы Иваницкий побывал у Муравьева лично и ознакомил его с положение и задачами наших учреждений. Иваницкий нервничал, сердился; уж слишком для него было тяжело знакомиться с атаманом разбойничьих банд.
Судя по рассказу одного моего знакомого, который по личному делу Муравьева, последний, действительно, держал себя, как атаман шайки; например, вызывал вестового-матроса не при помощи звонка, а выстрелом из револьвера в потолок. К счастью, удалось избежать такого самопожертвования со стороны нашего начальника, как личный визит его Муравьеву; Иваницкий все отсрочивал свое свидание с Муравьевым до тех пор, пока не начали говорить, что Петлюра — атаман украинцев заручился согласием немцев помочь ему в борьбе с большевиками; переговоры с Муравьевым становились излишними. Кроме того, другим путем установились отношения нашего Управления с большевиками. Было созвано общее собрание всех краснокрестных служащих, находившихся в Киеве; от имени собрания социалист-еврей К., служивший в управлении складами Красного Креста и старавшийся охранить краснокрестные учреждения от большевистского разгрома, обратился в местный совдеп с предложением назначить комиссара, при условии сохранения нашего Комитета под председательством Иваницкого, в полной его неприкосновенности. Совдеп согласился на избрание комиссара из нашей среды, но обязательно из числа лиц принадлежащих к партии большевиков. Наше собрание официально уведомило, что в среде краснокрестных служащих большевиков не имеется, и тогда последовало согласие на избрание эсера. К. и был избран на должность комиссара. Должен отметить его вполне корректное отношение к нам лично и к делу, по крайней мере, в течение всего того времени, пока во главе оставался старорежимный состав; впоследствии мне приходилось слышать о заносчивости и грубости К., но хорошо уже было и то, что, в отличие от большинства революционеров, он не грабил, а берег общественное имущество.
Власть большевиков при Муравьеву ни в чем себя не проявляла в смысле социальных «реформ»; отличительным признаком ее был постоянный грабеж и хулиганство. По магазинам и нередко по частным домам ходили разные матросы с девками, предъявляли какие-то мандаты и отбирали нужные им вещи. Дежурства наши на лестнице не прекращались; особенно утомительно было дежурства с 3 ч. ночи и до утра; в сущности без сна проходила вся ночь, так как ожидание звонка, вызывавшего на дежурство нервировало и лишало сна. Дежурили парами; картежники и шахматисты проводили время за игрой; я или читал, или раскладывал четыре любимых пасьянсов, приблизительно по двадцать пять раз каждый.
Жизнь под вечным страхом быть ограбленным, полное отсутствие порядка в городе, грубость и цинизм «товарищей» — все это заставило даже патриотически настроенных людей ожидать с нетерпением немцев, как единственного якоря спасения. Тогда распространилось у нас по этому повод крылатое слово, впервые пущенное в оборот, кажется, в судейской среде: «сердце болит, а шкура радуется». И, действительно, все так желали хотя бы чисто физического отдыха, что готовы были купить его какой угодно ценой; так сильна была тогда нравственная подавленность под влиянием физической слабости. Слухи о немцах ловились с жадностью; то они усиливались, то опровергались. Ссылались на очевидцев, приехавших из Ровно, Луцка и других западных городов, но очевидцы эти, когда вы с ними встречались, ссылались тоже на какие-то слухи. В такое переходе от надежды к безопасности, прошло несколько недель, как вдруг в нашем Управлении появился один наш сослуживец, заявивший, что он собственными глазами видел немецкий автомобиль у гостиницы Франсуа в Житомире. Как контрастировало наше нынешнее настроение с тем, что мы переживали в Люблине, с печалью и тревогой прислушиваясь к издали доносившейся немецкой канонаде: оказалось, бывает враг хуже и неприятнее внешнего неприятеля — это собственные соотечественники при массовом помешательстве.
Совершенно неожиданно, в один прекрасный вечер, со стороны Житомирского шоссе начали входит в город германские войска, и мы узнали, что большевики уже уходит в другом направлении, на север, за Днепр по Черниговскому шоссе.
Мы не знали с Иваницким, что замедли немцы на один день свое вступление в Киев, и это стоило бы нам жизни. На другой день, после германской оккупации города была получена в нашем Управлении копия телеграммы из Петербурга на имя местного совдепа о том, что его суду предается Иваницкий; моя деятельность, согласно этой телеграмме, подлежала расследованию почему-то в столице.
Немцы водворили в крае, в особенности в Киеве, внешний порядок. Они свои поведением ничем не подчеркивали своей роли «победителей»; даже простые солдаты держали себя вполне корректно. Обыватели вздохнули свободнее.
Но наше положение, как представителей Российского Общества Красного Креста, продолжало оставаться чрезвычайно тяжелым.
Никаких кредитов нам на содержание учреждений, работавших хотя и в сокращенном виде, но усиленно вследствие развития эпидемий, и поступления новых раненных от боев на внутреннем фронте, не отпускалось. Мало того, наша денежная наличность, имевшаяся на внутреннем фронте, не отпускалось. Мало того, наша денежная наличность, имевшаяся в Киевском отделении Государственного Банка и в некоторых полевых казначействах фронта, образовавшаяся, главным образом, от продажи излишнего имущества, оказалась, в силу распоряжения нового украинского правительства под запретом. Такое положение, несмотря на усиленны хлопоты, продолжалось несколько месяцев. Я заседал в каких-то бесконечных совещаниях у нового начальника снабжений украинских войск генерала Стойкина; правой рукой его был, по крайней мере по нашим делам, некий полуинтеллигентный офицер или ветеринар Кудря, в период развала фронта, занимавший несколько недель по выборам даже должность главнокомандующего армиями юго-западного фронта и затем почему-то объявленный большевиками контрреволюционером, хотя и внешне и внутренне этот «Товарищ» от большевиков ничего не отличался, кроме того разве, что говорил не по-русски, а на «мове». Можно было понять, что украинской власти не по душе наше требование считать наше фронтовое имущество Красного Креста и выруленные за него деньги собственностью Российского Общества, хотя юридически другого положения и не могла быть, но уж совершенным невежеством и жестокой тупостью должно быть объяснено упорное неумение или нежелание принимать таких простейших наших доводов, что отсутствие средств в госпиталях обрекает на голод больных, большинство которых при этом принадлежало именно к составу украинизированных частей. Иваницкий, видя упорство военных частей и получая ежедневно от нашего врачебного персонала душераздирающие телеграммы из различных пунктов края, обратился с пространным, полным фактических указаний на происходящие бедствия среди многочисленных больных и раненных, письмом на имя тогдашнего главы Украинского Правительства Голубовича. Иваницкий просил о самом срочном ответе, но такового мы, конечно, никогда не получили.
Голубович был почти мальчик, недоучившийся студент; ни в каких делах он, по рассказам лиц, обратившихся к нему, ничего не понимал. Выслушав ту или иную просьбу, он как-то растеряно задумывался, кривил рот на сторону и бормотал: «ну и щож мени вам на це сказати?» Затем печально качал головой и оставлял просителя в полном недоумении. Для упражнения в малорусском юморе такие сцены были хороши, но время, которое тогда переживалось, к сожалению, далеко не было юмористическим: люди погибали от ран, болезней и т. п., а также и от грабителей хулиганов, дерзость которых с приходом немцев смягчилась, но не исчезла совершенно, особенно вне городских поселений.
Сотрудники мальчика-премьера мало по их знаниям и опыту отличались от своего главы, за исключением единиц, например, министра юстиции Шелухина, прошедшего хороший судебный стаж во время Империи, имевшего здравые, но исполненные безумного украинского шовинизма взгляды на государственную работу. Взяточничество и хищение по-прежнему проникали украинскую «владу» сверху донизу. От компании Грушевского и Винниченко новая «влада» отличалась только еще большим наклоном к большевизму в отношении социальных реформ. Германцы во внутреннюю политику не вмешивались, и край шел верными шагами к анархии и разорению, а это, конечно, было не в интересах германии, видевшей в Украине продовольственную и вообще хозяйственную базу.
Вот почему, происшедший на Пасхе 1918 года переворот, передавший власть Рады Гетману, хотя и не опирался на активные немецкие силы, но все-таки прошел успешно, только благодаря моральной поддержке его немцами. Если бы последние вздумали защитить тех, кто их призвал в пределы нашей родины, то власть никогда, конечно, не могла бы перейти к гетману. Его власть опиралась на немецкое сочувствие и это предопределило многие последующие события, за которые гетман не может нести ответственности: не он призвал в край «варягов» и не был виновен, что после сокрушения Германии нашими бывшими союзниками последние не пожелали поддержать порядок на Украине, впредь до устройства ее собственной армии.
Офицер, стоявший во лаве военных сил, содействовавших перевороту, рассказывал мне некоторые любопытные подробности этого дела, когда мы случайно скрывались совместно недели три после падения власти Гетмана. Из рассказа этого офицера становилось ясно, насколько было бессильно и дезорганизовано Правительство Рады. Военные силы будущего гетмана были совершенно ничтожны; приходилось действовать, что называется, «на ура». Гурманские генералы заявили, при предварительных переговорах, что они признают переворот только при том условии, если главнейшие учреждения Киева будут захвачены силами самих заговорщиков. Первые шаги в этом направлении были настолько неудачны, вследствие малой численности боевого состава заговорщиков, что значительная часть их была быстро арестована и препровождена в Михайловский монастырь. Однако, смелая, даже дерзкая инициатива кучки офицеров, остававшихся еще на свободе, спасла положение: ими был внезапно захвачен Государственный банк, почта и телеграф, электрическая станция; каждое учреждение группой в несколько офицеров. Правительство Голубовича растерялось, засело в помещении Центральной Рады, где и было, совместно с членами Рады, частью арестовано, частью разогнано; отдельные министры, захватив казенные суммы, бежали из Киева.
В это время в Киеве собрался, под председательством М. М. Вороновича, б[ывшего] Бессарабского губернатора, заранее подготовленный съезд хлеборобов, на который съехались из провинции свыше тысячи представителей мелких земельных собственников, главным образом крестьян. Съезду был предложен вопрос о конструкции новой власти на началах единовластия; вопрос был единогласно решен в положительном смысле, и боевой генерал Павел Скоропадский, один из храбрейших начальников дивизий юго-западного фронта, был избран гетманом.
В городе было такое же ликование, как и в день освобождения его от большевиков. Верили или, по крайней мере, хотели верить, что наступает время борьбы с анархией, переход к строению части России, как первого этапа по пути возвращения всей нашей родины к законному порядку, взамен утопического развала. Депутации от хлеборобов Скоропадский, на вопрос о его политической программе, отвечал: «она кратка — верность Его императорскому Величеству». Эти слова убеждали, что «Гетманщина» означает и конец нелепому шовинизму украинцев и галичан, заполнявших тогда правительственные учреждения Киева.
Вскоре после переворота ко мне в Управление Красного Креста явился один знакомый по краснокрестной работе молодой человек и передал на словах, что Державный Секретарь Г. желал бы знать, не соглашусь ли я принять назначение на должность товарища министра, при чем мне не было даже сказано, какого именно ведомства. Я, конечно, отказался дать ответ, вперед до подробных личных переговоров. Когда я на другой день пришел в дом генерал-губернатора, переименованный теперь во дворец Гетмана, я прежде всего был поражен той чистотой и тем порядком, от которого давно отвык, бывая в большевистско-украинских учреждениях. В приемных и на лестнице толпилась масса людей, но не было грубой толкотни, площадных ругательств, плевков в пол, фуражек на головах и т. п. — получалось впечатление, что возвращается старое приличное деловое время. Уже в этом одном, чисто внешнем впечатлении, заключался какой-то отдых для души, измученной хамством. От многих, встреченных еще на лестнице, знакомых я выслушивал поздравления с назначением меня товарищем Министра Земледелия. Я недоумевал, как это могло случиться без переговоров со мною: не знал ни программы, ни личности главы ведомства и не мог, конечно, дать свое согласие на подобное назначение. На место министра земледелия приглашался, по газетным сведениям, мой старый друг с гимназической скамьи, полтавский земский деятель В. С. Кияницын, но по слухам, которые и подтвердились, он отказался от предложенного ему поста. Впоследствии я встретился с ним в Ростове на Земском Съезде; он не хотел расстаться с работой, которую знал и считал по своим силам (для различных Голубовичей психология, конечно, непонятная); в Ростове же он в несколько дней погиб от тифа.
Державный секретарь Г. принял меня весьма любезно и, объяснив, что он сам нуждается в помощнике, советовал мне взять это место, на что я, после некоторых переговоров и согласился.
Державный секретарь, пользуясь всеми правами министра, имел в Совете Министров только совещательный голос, а, следовательно, не отвечал за политику правительства. Это меня весьма устраивало, так как о деловой программе Гетманского Правительства я ничего не слышал, а кроме того мне необходимо было иметь несколько свободных часов в день для работы в Красном Кресте, оставить службу в котором я не считал себя в праве.
С этого времени, в течение более семи месяцев, я имел, таким образом, двойные обязанности, причем служба в составе Гетманского Правительства была особенно утомительной тем, что заседания Совета Министров продолжались почти всегда до 3–4 часов ночи. Бессонными ночами, но более еще душевными волнениями, я чрезвычайно подорвал свои физические силы и нервную систему, которым угрожало впереди испытать еще весьма сильные переживания снова под игом Петлюровцев и большевиков.
Прежде всего я поделюсь своими впечатлениями от кратковременной моей государственной службы на Украине, без претензии, конечно, дать сколько-нибудь обстоятельный очерк истории восьмимесячного гетманского управления Украиной; для этого я не располагаю сейчас никакими материалами, кроме моей памяти. Затем скажу несколько слов о нашей краснокрестной работе за время гетманщины.
В державной канцелярии я фактически оказался, до назначения на место державного секретаря И. А. Кистяковского, полновластным распорядителем, так как Г. текущими делами почти не занимался, канцелярию посещал редко и посвящал себя высшей политике «при дворе» гетмана — борьбе за влияние; он был одним из главных заговорщиков против Гады. Всегда нервный, с блестящими глазами, патетический, говорящий таким тоном, как будто бы продолжается его участие в каком-то заговоре, Г. не был способен к мирной государственной работе. В Совете Министров он, считая себя независимым от последнего, держал себя более, чем спокойно: разносил резко предположения разных министров, предъявлял Совету иногда ультиматумы, настаивал перед гетманом на том или ином назначении или отказе назначить избранного Советом кандидата, вообще смотрел на себя, как на государственного канцлера, и в конце концов вооружил против себя министров в такой мере, что Совет настоял на увольнении его в отпуск, а затем на замене его Кистяковским. Около месяца, однако, Г. удерживался на своей должности, и я за это время успел очистить канцелярию от случайно попавших в нее, в качестве наследия от заговора, дел, например, по какой-то не предусмотренной никакими правилами, цензуре газет, политическому сыску и т. п., поставив дело на те основания, на которых на которых оно велось в канцеляриях Государственного Совета Министров времен Империи; гетманское правительство получило, благодаря этому, вполне удовлетворительный аппарат для грамотного ведения журналов Совета Министров, подготовки в техническом отношении законопроектов, надлежащего оформления высших назначение и т. п. Однажды, у меня в кабинете появился Г. более оживленный, чем обычно; глаза его метали молнии; черные усы, которыми он умел во время разговора двигать как-то так, что они в наиболее патетические моменты направлялись острыми концами на собеседника, на подобие какого-то устрашающего орудия, на этот раз находились в особо угрожающем положении. Он объявил мне, что уезжает в продолжительный отпуск, что я должен оставаться на посту при всяких обстоятельствах, что гетман согласился на то, чтобы я заменил Г., и что настанет некогда время, когда на Украине останемся только мы вдвоем, т. е. он и я; «остальные исчезнут, только я и вы», закончил свое прощание со мною Г., крепко сжимая мою руку. Я не расспрашивал о судьбе прочих министров, которую им готовил Г.; я только понял, что он чем-то чрезвычайно недоволен, и грезит, очевидно, о каком-то новом заговоре. Он сам говорил мне, что он не создан для мирной государственной работы; подъем творчества на пользу государственных нужд, он, по его словам, чувствовал только в периоды опасности, когда требовалось бороться тайно и с риском для жизни, в обычное же время он предпочитал хозяйничать. При таком настроении Г. хорошо, конечно, сделал, что уехал из Киева. На другой день, после моего прощального разговора с ним, у нас появился И. А. Кистяковский, который объявил о своем назначении на должность Державного Секретаря. Когда мы с ним вдвоем сидели в кабинете последнего, вдруг растворилась дверь и в комнату поспешно вошел Г; его глаза и усы устремились по направлению к креслу, в котором сидел Кистяковский. Последний, в свою очередь, изумленно всматривался в Г. (они ранее никогда не встречались). Я сказал на ухо Кистяковскому, кто такой Г.; произошел короткий, холодный разговор. Судя по изумленному лицу Г., я должен был поверить, что гетман, действительно, пообещал ему назначить меня его заместителем. При Кистяковском я работал так же самостоятельно, но уже не в области всех дел Державной Канцелярии, а преимущественно по делам Малого Совета Министров, т. е. более мелким, текущим, по весьма многочисленным вопросам. Кистяковский же, главным образом, «делал политику», с моей точки зрения, довольно неудачно, о чем я расскажу ниже. Он через месяца два перешел на должность Министра Внутренних Дел и предлагал мне место товарища министра, от чего, я, конечно, отказался.
Мое постоянное участие в заседаниях Совета Министров (сначала Большого, а потом Малого — в составе Товарищей Министров) и предварительное ознакомление, по обязанностям моей должности со всеми законодательными предположениями, часто мною лично редактированными, ставили мня в центре всей политики Гетманского Правительства. Думаю, что при таких условиях мои выводы о деловом качестве этого Правительства могут иметь известное значение для истории одной из ярких попыток борьбы со смутой.
Члены правительства гетмана во главе с П. А. Лизогубом, энергичным председателем Полтавской губернской Земской Управы, обнаруживали совершенно незаурядную работоспособность, большой житейский и деловой опыт, умение, за небольшими исключениями, окружить себя честными людьми, преимущественно из состава опытных старорежимных чиновников. Некоторые отрасли дела были поставлены, можно смело сказать, на высоту дореволюционного времени; например, судебное ведомство и в центре, и на местах не уступало старорежимному; целый кадр частных преданных делу работников, воспитанных на уважении к закону, был привлечен на Украину со всех концов России, положение о Сенате было разработано продуманнее даже, чем российское, и этот законодательный акт не следовало бы, по моему мнению, игнорировать по восстановлении России. На должной высоте стояла податная инспектура, государственное казначейство, почтово-телеграфное ведомство, личное дело и т. п. Суд и хозяйство, усилиями гетманского правительства восстанавливались, но это был только хлеб насущный для государственного порядка, духовная же стороны в правительственной работе отсутствовала. Какова была общая программа правительства, на какие круги и основные положения предполагало оно опираться, какими средствами будет вестись борьба с большевиками в случае ухода немецких войск — все это до самого конца гетманщины оставалось, для меня по крайней мере, неизвестным и непонятным, да, думаю, и для самого гетмана.
Главнейший вопрос внутренней политики — аграрный не получал разрешения, которое могло бы привлечь крестьянские массы на сторону новой власти, несмотря на горячее стремление и гетмана, и либерального министра земледелия, известного земского деятеля, В. Г. Колокольцова, поставить этот вопрос в государственном масштабе; на местах эгоистические классовые интересы, пользуясь временной поддержкой немецкий солдат, затемняли государственные задачи. Часть помещиков, не веря в прочность положения, цинично взыскивала с крестьян понесенные убытки, чинила на это почве различные безобразия, тем более постыдные, что все это совершалось с помощью иностранцев; последние действовали совершенно бесконтрольно, не подчиняясь гетманской власти.
Психология таких помещиков ярче всего выявилась в словах одного моего знакомого хохла: «наплевать нам, какая власть у нас будет, украинская ли, российская ли, лишь бы нас вернуться в наши Голопуповки». Такая циничная психология заставила, вероятно, и бессарабцев приветствовать румынский захват; истинные патриоты Крупенские или Пуришкевичи, не соглашавшиеся честь родины и русского имени приносить в жертву материальным выгодам и бросившие свои богатства поместья, являлись ведь не правилом, а только исключением.
Для крестьян все власти делались одиозными; они ненавидели большевиков, смеялись над петлюровцами и поносили немецко-панскую гетманщину; они ввергались в анархию, образовывали повстанческие грабительские отряды, которые занимались больше всего еврейскими погромами, при всяком ослаблении порядка, особенно, после ухода немцев и водворении в крае сначала петлюровцев, а потом снова большевиков. Типичными представителями такого анархизма явились шайки Махно, грабившая край при всех властях. Большевики их сами научили грабить; гетман мог, не сумел отучить их от этого, так как не повесил для примера ни одного помещика, пошедшего в смутное время родины по следам ослепленных крестьян.
Отшатнув от себя крестьян, гетманское правительство не сплотило вокруг себя и класс интеллигенции. Оно желало сразу угодить и тем, кто видел в успокоенной Украине путь к восстановлению всей России, и той кучки фанатиков-честолюбцев, которые, не имея никаких корней в народе, мечтали об отделении Украины от России, во вред им обоим. Гетмана заставляли произносить речи, прославлявшие Мазепу, оскорблявшие русское национальное чувство, удовлетворявшая мелкому завистливо-злобному «щирых украинцев» к величию общерусской культуры. Кистяковский при всяком удобном случае говорил о том, что он «штудирует усиленно мову», выступал с шовинистически патриотическими речами в Украинском клубе, которые обалдевших местных «знаменитостей» приводили сначала в восторг, массу же русских людей отталкивали от гетманской власти. Такая двойственность проявлялась в массе мелочей, которые сильно, однако, будоражили общественное мнение. Например, в Совете Министров едва не получил положительного разрешения вопрос о непризнании, по предложению украинских кругов, Киевского Митрополита Антония, назначенного на место, зверски убитого большевиками Высокопреосвященнейшего Владимира. Еврей Гутник, Министр Торговли, более чутко отнесся к этому вопросу, чем украинские шовинисты; он, извинившись, что выступает по делу, в котором может быть признан не компетентным, произнес горячую речь в защиту Митрополита Антония, указывая, какое тяжелое впечатление на массы православных людей на Украине произвел бы конфликт между популярным Иерархом и гетманом. Речь Гутника много способствовала тому, что Гетман был избавлен от позорного для православного человека шаге; на приеме у нового митрополита членов гетманского правительства. Гутник подошел даже, в целях, очевидно, демонстрации, под благословение Владыки, в то время, как православный министр иностранных дел Дорошенко приветствовал его только наклонением головы.
Кистяковский считал нужным для чего-то разыгрывать из себя «щирого украинца» даже наедине с людьми, с которыми он был хорошо знаком с юных лет. Однажды, в приемной гетмана у нас завязался горячий спор, когда К. начал вдруг поносить Москву, русскую литературу и т. д.
Мне говорили, что он затеял со мною спор в целях демонстрации своей приверженности идеям «самостийной Украины» перед немецкими агентами, которые имели уши даже в пустых залах гетманского дворца.
Стараясь внешне подражать Столыпину, Кистяковский, как правоверный некогда кадет, видимо, искренне верил, что государственный деятель — консерватор и националист, каковым он явился на Украине, должен быть резок, груб и страшно хитер. Если бы К. встречался ранее со Столыпиным, то он узнал бы в нем как раз обратные качества: вежливость, ласковость и искренность. Вообще копии старорежимных деятелей весьма были далеки от их оригиналов.
Ссылки на то, что «лгать» про «самостоятельную Украину» необходимо для немцев были весьма распространены в кругах близких к гетману. Этим старались смягчить невыгодное впечатление на русское общество от некоторых его речей. Моя память сохраняет, однако, факт, который не вяжется с подобными объяснениями. Секретарь украинского посольства в Берлине В. А. Ланин лично рассказывал мне, как был принят украинский посол барон Штейнгель, Министром Иностранных Дел Германии; последний прямо, открыто заявил барону Ш., что он смотрит на него, как на представителя будущей восстановленной России. Несомненно, и среди германцев наблюдалась в этом вопросе двойственность; военная партия, кажется, действительно мечтала о расчленении России, этого, естественно, должны были желать и австрийцы, как авторы нашего украинского движения, но было, следовательно, и другое мощное направление — в пользу единства России. Гетман, по моему мнению, переоценивал зависимость свою от немцев, он, несомненно, мог бы держать себя несравненно независимым. Заяви он немцам в ультимативной форме о своей ориентации на Россию, последним пришлось бы или принять ультиматум, или свергнуть Гетмана, т. е. оккупировать Малороссию. Другого выхода них не было, так как пустить снова к власти большевиков или полубольшевиков не могло входить в их задачи. В обоих случаях победили бы государственные интересы, так как Гетман подобным шагом внушил бы доверие к своим замыслам со стороны генерала Деникина и союзников, а себя и свое имя освободил бы от подозрений, что он держится за свою власть во что бы то ни стало, от чего, по всем поим наблюдениям, Скоропадский был действительно далек.
Двойственность гетмана и его правительства, в связи с желанием угодить немцам, была порою весьма тяжела и неприятна для людей, пошедших работать с ним в общерусских интересах. Она по достоинству была оценена пословицей, ставшей народной: «хай живе Украина — от Киева до Берлина». Мой первый доклад у гетмана состоялся в таком срочном порядке, что я не успел ему представиться заранее и он не знал еще меня в лицо и по фамилии. Я представлял, между прочим, к подписи проекта указа о назначении секретарем Державной Канцелярии А. А. Татищева. Гетман задумался и затем задал мне вопрос, почему нельзя было бы на высшие должности подбирать преимущественно местных людей, а то Татищев такая русская фамилия, что пойдут разговоры о затирании малороссов и т. п. Я, догадавшись, что Скоропадский не знает, кто я такой, возразил, что фамилия ничего не доказывает, что Т. — полтавский помещик, что и моя фамилия Романов, а между тем я весьма многими узами связан с Малороссией. Гетман чрезвычайно смутился, быстро подписал указ, просил меня не придавать значения его словам и т. д.; когда я уже подходил к лестнице, из соседней с кабинетом гетмана залы я услышал быстрые его шаги; он догнал меня и с обаятельной любезностью, обычной у этого красивого, изящного генерала, несколько раз переспросил меня: «ведь вы не рассердились, не правда ли?» В такие моменты верилось, что Скоропадский — прежде всего русский человек, а на другой день прочтешь его «Мазепинскую» речь и снова сомнения.
У меня лично наиболее резкие столкновения с двойной игрой гетмана и членов лизогубовского кабинета произошли на почве прав русского языка. Вместо того, чтобы просто и ясно разрешить этот вопрос в смысле равноправия двух языков, правительство воздерживалось от издания определенного закона о языках. Прения в Совете Министров велись, журналы его заседаний и законопроекты писались и слушались в совете всегда на русском языке, но затем текст законов, равно, как и различных актов от имени гетмана объявлялся на украинском языке. Это не был наш народный малорусский язык, это было какое-то галицкое наречие, с производством не достающих слов не в родном русском духе, а на основании чуждых образцов польского и немецкого словопроизводства. Крестьяне этого отвратительного, порожденного австрийскими происками, волапюка не понимали, просили часто писать на русском, все понятном языке, а не на выдуманной «панами» специально для мужиков «мове». Архивы гетманских министерств должны быть полны характеристик по этому поводу крестьянских прошений. Канцелярии тратили массу времени на переводы законодательных актов и т. п. Малороссы и галичане — специалисты переводчики, часто ожесточенно и долго спорили между собою по поводу того или иного термина. Поэтому, например, Положение о Сенате было введено в действие с опозданием на месяца два: его никак не могли перевести. Суды должны были применять вообще русские законы, делать на них иногда текстуальные ссылки, а украинцы все-таки упрямо добивались, чтобы приговоры составлялись и объяснялись на галицийской мове; угрожали в противном случае избивать людей, но жизнь была сильнее и то присяжные заседатели, то адвокаты, то судьи заявляли энергичные протесты по поводу отдельных выступлений того или иного судьи на украинском языке. Вся эта каша и споры имели место исключительно из-за нерешительности правительства ясно разрешить вопрос.
Инцидент со мною из-за русского языка произошел на такой почве. Правительство гетмана вело, как известно, какие-то бутафорские переговоры о мире с Москвой. Представителями на мирной конференции от Украины был бывший министр юстиции кабинета времен Рады Шелухин и от Совдепии — будущий глава Украинского Правительства Раковский. Для большевиков конференция нужна была, как орган пропаганды, так как Раковский привез на Украину массу агентов, под видом специалистов, широко снабженных, конечно, награбленными деньгами. Ему не трудно было, что называется садить постоянно в лужу противную сторону, так как Шелухин и Ко в своем шовинистическом русофобстве часто переходили границы здравого ума, требуя тех или иных уступок в пользу Украины. Достаточно сказать, что даже сокровища картинных галерей и музеев предполагалось разделить чисто механически по национальному признаку, не считаясь с необходимостью при таких условиях разрознять ту или иную коллекцию, разбить тот или иной музей, как единое целое. На конференции разрабатывался вопрос о судьбе, в том же духе черного передела, и краснокрестного имущества. По этому поводу возникала порою переписка между нашим юго-западным Управлением и канцелярией украинского представителя на конференции. Однажды, за подписью Шелухина, мы получили наш запрос обратно с припиской на нем, что на надлежит обращаться в канцелярию на «державной мове» или на международном языке — французском, в противном же случае всякая наша переписка будет возвращаться нам без ответов. Зная, что никакого закона о государственном языке еще нет и считая выходку Шелухина оскорбительной для нашего учреждения, представлявшего Российское Общество Красного Креста, я, по поручению Иваницкого, отправился объясняться с Шелухиным от имени нашего комитета. Он принял меня вежливо, но со злобным огоньком в глазах, упорно настаивал, что украинский язык — державный, с гордостью рассказывал, что от счета гостиниц, написанные на русском языке, возвращает без оплаты советовал мне изучить украинский язык по произведениям моей матери, которая, кстати сказать, никогда на галицийском волапюке не писала, и вообще совершенно не был убежден моими доводами о праве нашем обращаться в конференцию на русском языке, который прекрасно был известен всем украинским членам конференции, начиная с самого Шелухина. Этот случай дал мне повод войти с представлением в Совет Министров о необходимости законодательного урегулирования вопроса в смысле равноправия обоих языков, комитет же наш постановил продолжать переписку с украинскими учреждениями на русском языке. На другой день в «Киевской мысли» появилось сообщение, под заглавием, напечатанным крупным жирным шрифтом: «Инцидент Шелухин-Романов». Шелухин дал в печать объяснения, полные клеветы на Русский Красный Крест; я ответил письмом в «Киевскую Мысль» и большой статьей в «Киевлянине». Завязался, одним словом, горячий спор в печати; б. товарищ Министра Земледелия А. А. Зноско-Боровский, скончавшийся перед эвакуацией Новороссийска от сыпного тифа, выступил с тонко остроумной заметкой, в которой, ссылаясь на авторитет Шелухина, утверждавшего с упрямым упорством, что каждое государство должно иметь свой государственный язык, говорил, что очевидно, в Швейцарии таковым языком является швейцарский, в Финляндии — финляндский, в С.-Американских Штатах — американский и т. п.; Сенатор Литовченко по вопросу о допустимости малорусского языка в судебных учреждениях выступил с обстоятельным докладом в местном юридическом обществе; украинская печать тоже не молчала и распиналась за прелести и удобства галицийской мовы.
В разгар споров о языке, я, уже разочаровавшись в своей работе в составе гетманского правительства, выставил свою кандидатуру в Сенаторы, которые первоначально баллотировались в Совете Министров, а затем уже пополняли свой состав путем выборов в отдельных присутствиях Сената.
В Совете сначала происходило предварительное оглашение кандидатуры, а через день-два, если не было возражений в предшествующем заседании, производилась окончательная баллотировка. Моя кандидатура не вызвала возражений, но в день баллотировки ко мне зашел бывший тогда Министром Юстиции Чубинский, вскоре замененный моим братом, и, разговорившись со мною по поводу газетного ответа моего Шелухину, неожиданно, после комплиментов по моему адресу, заявил: «но, знаете, В.Ф., я несколько смущен тоном ваших статей; в принципе я вполне разделяю наши мысли, но мне кажется, что вы как-то вообще враждебно настроены против украинского языка; между тем, я должен вас предупредить, что идя в Сенат, вы этим самым уже обязываетесь серьезно овладеть местным языком; по крайней мере, представляя того или иного кандидата на должность сенатора, я предварительно заручаюсь его согласием через несколько месяцев хорошо изучить язык». Я на это возразил, что вражды у меня к малорусскому языку быть не может; наоборот, я все время высказываюсь за предоставление ему свободно развиваться, но только без полицейских мер содействия этому и не путем искусственного вытеснения русского языка, который нужен и незаменим во всех частях бывшей Империи; условие получения сенаторского звания для меня не было известно, я о нем слышу впервые, а потому и заявляю об отказе моем баллотироваться, считая неприемлемым по поводу ответственной работы в высшем судебном месте брать на себя какие-либо обязательства филологического свойства. Чубинский был, по-видимому, несколько смущен создавшимся положением; в Совете Министров, он, дойдя до моей фамилии, как мне потом говорили очевидцы, быстро проговорил, что я отказался от назначения, и перешел к следующему кандидату. Однако, некоторые члены Совета заинтересовались, почему я накануне был согласен, а на другой день уже переменил решение. Чубинскому пришлось дать объяснения, возник принципиальный вопрос, и Совет высказался, что мой отказ от изучения «мовы» не может препятствовать избранию меня в Сенат.
Основной вопрос — о государственном языке все-таки был при этом трусливо обойден. В то время, как русские люди то отталкивались, то привлекались к гетманской «владе», в зависимости от направления хотя бы такого, больно задевшего русское самолюбие, вопроса о правах великой русской речи, назревала большая опасность в виде агитации и подготовки восстания Петлюрой и Винниченко, которые почему-то арестовывались, а затем выпускались на свободу, вместо того, чтобы быть обезвреженными надолго, если не навсегда. Победить этих демагогов думали уступкой украинским влияниям, забывая, что последние — только интеллигентские выдумки, что за повстанцами Петлюры скрываются большевики, как это и обнаружилось весьма скоро. Неожиданно кабинет Лизогуба был переформирован приглашением в его состав представителей «щираго», т. е. злобствующего, ненавидящего Россию, украинства. На место, например, моего брата, поднявшего суд на большую высоту, Министром Юстиции был назначен бездарный судья Вязлов, говоривший на «мове» шаблонные либеральные фразы, но не способный ни к какой творческой работе и занимавшийся только, в течение нескольких недель его министерской работы, попытками усиленно украинизировать суды, т. е. просто дезорганизацией их. Министр Путей Сообщения В. А. Бутенко, почему-то из преданного России русского инженера обратившийся внезапно в «щираго украинца», своими гонениями на русских железнодорожных агентов, в том числе и рабочих, и смехотворными изменениями привычных для народа названий станций, подготовлял прекрасную почву для большевизма по всей сети юго-западных железных дорог, ибо только через большевизм массы служащих рассчитывали вернуть себе свои места. В таком же духе действовали и некоторые другие министры, даже военные управления, помогавшие Петлюре стянуть боевые запасы к центру его повстанческой работы — Белой Церкви. Когда опасность созрела, когда стало ясно, что «щирые» готовят гибель гетману, а немцы выдыхались на театре военных действий, Скоропадский ухватился за единственно правильную русскую ориентацию. Сбившийся с пути Лизогуб был заменен почтенным государственным деятелем С. Н. Гербелем, сформировавшим кабинет из лиц, любивших Малороссию, как часть Великой России, но было уже поздно, чтобы воодушевить русских патриотов на войну в внушить к себе доверие со стороны Антанты и Деникина, не имевших способности читать в душе гетмана, а судивших обо все по чисто внешним фактам.
Когда все рушилось, виноват сказался один Скоропадский; его горячие сторонники принялись резко его критиковать, отказывали ему даже в каких бы то ни было признаках ума; более подлые из них обвиняли его даже в трусости, несмотря на всем известную храбрость его во время великой войны.
Я не могу согласиться с тем, что Скоропадский был не умен, ибо отсутствие государственного опыта не есть еще признак глупости. У меня был случай лично убедиться в незаурядных способностях этого русского генерала.
Я, с назначением в Сенат, оставался вне политических и общественных кругов Киева; между тем, назревали весьма интересные события. Для того, чтобы быть в ближайшем соприкосновении с ними, я решил принять участие в заседаниях местного Союза земледельцев. Я откровенно сказал председателю Союза В. П. Кочубею о моих принципиальных расхождениях с идеологией Союза и о цели преследуемой мною при посещении его заседаний; я предложил только мои технические знания и служебный опыт. В. П. Кочубей с полной терпимостью отнесся к моему заявлению, и, по его предложению, я был кооптирован в состав Правления Союза, что, в свою очередь, открыло мне двери, как представителю Союза, во многие заседания другой крупной общественной организации — торгово-промышленной, носившей название «Протофиса». Когда гетман начал склоняться под влияние злобствующего украинства, Правление Союза Земледельцев решило отправить к нему депутацию. В заседании были намечены разнообразные вопросы внутренней политики и те ораторы, которые должны были выступить от имени Союза перед Гетманом, в порядке поставленных вопросов. Таких ораторов было избрано свыше десяти; мне было поручено говорить по моей специальности, тогда наиболее злободневной, относительно ориентации на Россию, о правах русского языка и, в частности, о необходимости принять меры против Виниченко, перешедшего в печати все законные пределы в травле всего русского, в особенности тех несчастных русских, которым удавалось для спасения своей жизни бежать от большевиков на Украину; этот полупсихопат, полубольшевик требовал закрытия границ для остатков русской интеллигенции, называл ее хищным волком, пожирающим запасы Украинского народа, советовал гнать волка, бросая ему в морду «горячей соломой» и т. п. Для того чтобы Скоропадский не мог заранее узнать о темах нашего собеседования и не имел возможности ограничить депутацию одним обращением к нему заместителя Кочубея графа Гейдена, было условлено, что последний тотчас же после вступительного своего слова заявит, что слова просит такой-то, а по окончании его речи назовет следующего оратора и т. д. до исчерпания списка всех заготовленных речей. Таким образом, гетману пришлось отвечать сразу на все наши речи, затрагивавшие, повторяю, разнообразнейшие вопросы внутренней политики: земельный, об организации армии и полиции, о формировании частей для борьбы с повстанцами, о составе правительства и т. п. Сначала, видя непрерывный поток речей, Скоропадский как будто бы несколько растерялся, но вскоре быстро овладел собою и сосредоточенно слушал. Он дал ясные исчерпывающие ответа на все выслушанные им советы и заявления, иногда несколько уклончивые, но во всяком случае указывавшие на близкое его знакомство со столь еще недавно чуждыми его кавалерийской специальности делами; с ним можно было спорить, не соглашаться, так же, как весьма спорными были и многие положения Земледельческого Союза, но отказать ему в понимании спорных предметов нельзя было. Обошел он молчанием только мои определенные заявления, как мы смотрим на Украину в будущих ее отношениях с Россией; с вопросом о признании государственным русского языка он просил несколько выждать, а по поводу преступной деятельности в печати Винниченко сослался на свою неосведомленность и обещал приказать расследовать это дело; Винниченко, конечно, не дождался расследования и бежал из Киева к повстанцам. Итак, для человека, говорящего без предварительной подготовки по ряду неожиданно ему заданных серьезных вопросов, Скоропадский проявил много находчивости, знания и ума. В заседаниях Совета Министров, которые иногда посещал гетман, с первых же дней его ознакомления с государственной машиной, я ни разу также не наблюдал того, чтобы он садился, что называется, в лужу.
Не отсутствие ума или тем более личной отваги погубили гетмана. Причины его падения гораздо глубже; дело историков в них разобраться, мне же лично, по моим данным и наблюдениям, они в главных их чертах представляются в таком виде: робость в сношениях с германцами, ложный страх их ухода в случае заведения своей достаточно большой вооруженной полиции, двойственное отношение в вопросе об основаниях и целях временного отделения Украины от России, преувеличение общественного значения украинских кругов, стоящих за полную самостоятельность Украины, раздражение весьма влиятельного круга русских людей различными мелочами, задевавшими их патриотическое чувство, неумение властно остановить и покарать корыстолюбие части местных помещиков и неумение правительства Деникина и союзников выделить из разного рода украинской бутафории Главную цель генерала Скоропадского — вернуть к порядку из омута анархии хотя бы часть России, а потому и отказ ему в своевременной помощи, облегчивший конечную победу большевистских орд.
Что касается работы нашей по Красному Кресту, то о ней много говорить не приходилось. Главная задача заключалась в том, чтобы имущество Российского Общества Красного Креста не было распылено: это требовало кропотливой мелочной работы по учету имущества, стягиванию его в центральные склады, ликвидации всего излишнего и скоро портящегося. Задача была выполнена блестяще, так как в юго-западном крае были сохранены в неприкосновенности ценные хозяйственно-медицинские запасы, которыми для помощи больным и раненным русским людям широко пользовались и большевики; при разрушенной в крае земской и городской медицине эти запасы были существеннейшей помощью и для местного населения, особенно, если принять во внимание, что нам удалось сохранить не только имущество, но и ряд прекрасно обставленных, в полной работоспособности, полевых госпиталей, сформированных различными Российскими Общинами Красного Креста. Даже в Ровно, по занятии его поляками, они овладели двумя такими госпиталями, продолжавшими свою работу уже после эвакуации Новороссийска. Будь все краснокрестное дело на б. юго-западном фронте брошено без хозяина, все было бы просто разграблено, теперь же Российское Общество по его восстановлении, возобновит свою работу в крае не с пустыми руками, и даже получит, вероятно, возможность производить расчеты с Польшей.
Кроме того, нашему комитету приходилось вести борьбу с поползновениями то украинцев, то большевиков сделаться распорядителями наших запасов. Украинцы образовали национальное общество Красного Креста, не получившее, конечно, легализации, так как для этого требовалось признание Украины самостоятельным государством со стороны всех держав, подписавших Женевскую конвенцию. Большевики прислали в Киев особую многолюдную миссию, во главе с неким страховым агентом Зубковым под видом помощи военнопленным, занимавшуюся пропагандой. И те, и другие нас атаковали. Меня специально посетил, работавший ранее в одном из армейских наших госпиталей, еврей — доктор Бык, с требованием объяснений «от имени Совета Народных Комиссаров». Совет, как он важно заявил, интересуется, в каком подданстве я себя считаю: если в русском, то почему я состою на службе в гетманском правительстве, если в украинском, то по какому праву я сохраняю свою должность в Российском Обществе Красного Креста. Я отказался говорить с этим «Консулом Москвы на Украине» и предложил ему обратиться ко мне, если он хочет, с письменным вопросом: последнего я так и не получил, но о злобных глазах этого еврея вспоминал часто, когда мне пришлось скрываться от большевиков и я знал, что он, занявший на Украине пост комиссара здравоохранения, неоднократно справлялся о моей судьбе и очень, видимо, желал бы встречи со мною для отправки меня в чрезвычайку.
Наше положение, как местного органа Российского Общества Красного Креста, не признающего ни Украинского Общества, ни большевиков, в качестве наших руководителей, становилось, действительно, весьма ложным и затруднительным. Тогда В. Е. Иваницкому пришла в голову счастливая мысль собрать в Киеве заслуженных деятелей Красного Креста для выборов временного главного управления; председателем его был избран Иваницкий, членами признаны все наличные члены разогнанного большевиками прежнего Главного Управления в Петербурге, а кроме того было вновь избрано несколько членов из состава известных общественных деятелей: Н. А. Хомяков, гр. А. А. Бобринский, И. Н. Дьяков. Я также удостоился чести быть избранным в это учреждение, которое играло затем большую роль, в качестве правопреемника старого Главного Управления, во все время гражданской войны на юге России и было упразднено уже лишь в Париже в 1920 году, где возобновило свою деятельность прежнее Главное Управление под председательством графа И. Н. Игнатьева, причем, за членами, как нашего Временного Управления, так и Сибирского, возникшего при Колчаке, справедливо было сохранено право голоса в заседаниях Главного Управления, а Иваницкий возглавил Исполнительную Комиссию — постоянный орган Управления. Таким образом, в лице Иваницкого, бессменно пронесшего флаг Красного Креста от времени крушения юго-западного фронта через украинцев и большевиков до Деникина и Врангеля, сохранилась идея единого законного Российского Общества Красного Креста, без всяких перерывов в его деятельности. Фронтовой наш комитет, остававшийся в прежнем составе и с прежним представителем Иваницким, со времени учреждения Временного Управления, получал уже все распоряжения от последнего и с Петербургом совершенно, конечно, не сносился впредь до захвата Киева большевиками.
Выполненная этим комитетом работа запечатлена почти полностью в разновременно составленных мною кратких печатных отчетах; если они уцелели, они представят любопытный материл для освещения условий и содержания краснокрестной работы на юго-западном фронте в период смуты.
За время гетманщины Иваницкому пришлось еще организовать перевязочно-питательные отряды для помощи населению «Зверинца» (часть Печерска — над Днепром), пострадавшему от страшного взрыва снарядов в военных складах, и, наконец, гетманским войскам, во время жестоких боев их с Петлюровцами, а также после заключения русских офицеров в здании музея Цесаревича Алексея.
Группа старорежимных чиновников, с начала войны возглавлявшая Красный Крест на юго-западном фронте, до последней возможности выполняла свой долг по отношению к вверенным ей обществом упреждениям и имуществу; она распалась только тогда, когда не было сомнений, что оставаться на своем посту было бы равносильно самоубийству.
Петлюровские войска появились в Киеве как-то неожиданно; этому предшествовали разные слухи о приближении французов, о том, что на ст. Казатин ставится даже на паспортах французская виза и т. п. Тогда еще никто не знал о подкупах в Одессе, о предстоящей сдаче даже этого города большевиками, которые шли, как я говорил, по пятам Петлюры. Манифест Гетмана, короткий, но красноречивый «об отречении» и появление на улицах Киева петлюровцев совпали. Гетман, как передавали, вышел пешком из дворца в район «Липок», где квартировали германские части; была брошена бомба, раздался взрыв, кого-то, якобы раненного, принесли на носилках в дом одного из немецких генералов или в ближайший госпиталь, откуда этот «раненный» был отправлен на вокзал с забинтованным лицом и эвакуирован в Германию с очередным немецким эшелоном. Граф Келлер сражался на Крещатике, в своей форме и с Георгиевским крестом на шее, до тех пор пока не был схвачен петлюровцами и затем, через несколько дней, зарублен этими разбойниками при «попытке бежать». Из квартиры дома Софиевского [так в тексте] Собора, выходящих окнами на Софиевскую площадь, многие видели предательское убийство этого доблестного генерала; долго не исчезавшая у памятника Богдана Хмельницкого лужа крови подтверждала «героические» приемы борьбы украинцев. Все министры, бывшие в Киеве во время вступления в город Петлюровцев, были захвачены врасплох и большинство из них арестовано; это спасло им жизнь, так как их решили судить, а позже, по мере озверения, петлюровцы расстреливали во время доставки арестованных в тюрьму по примеру бегства гр. Келлера. Министрам удалось бежать только благодаря бегству перед большевиками самих петлюровцев. Погиб лишь один министр исповедания М. М. Воронович, ранее по делам службы выехавший из Киева и попавший в руки петлюровцев где-то близ г. Бендер.
Мой брат занимался в своем служебном кабинете (на Думской площади) до вечера, когда ему сказали, что враг уже в городе. Он переоделся в какой-то хулиганский костюм, взял в карман бутылку водки, в другой новый паспорт, сказавшийся работой агентов Петлюры, ибо год отбывания воинской повинности был показан так, что подделка паспорта не оставляла сомнений (такие паспорта очень любезно раздавались какими-то канцеляристами), и пошел бродить по митингам. Поздним вечером он зашел ко мне и сообщил свои впечатления; ясно было, что Петлюра — только орудие большевиков; никакого значения его имя для масс не имело, никакой украинизации никто не желал — одни хотели просто свободы грабежа, другие ненавидели украинцев за поношение ими всего русского. Например, для опыта брат попробовал среди одного большого уличного скопища начать кричать: «хай живе…», он не сказал еще «вильна Украина», как на него устремились отовсюду злые глаза, и он иронически закончил: «вильна Андалузия»; эти слова были покрыты смехом и аплодисментами толпы. Это было утешительно, потому что временный большевизм представлялся нас более выгодным, чем петлюровщина — полубольшевизм на шовинистической подкладке. Большевиков не могли признать французы, помощь которых все еще ожидалась. Петлюра же мог ввести их в заблуждение и удержать при их содействии власть, как якобы представитель «национального порядка». Отношение к Петлюре определилось в Киеве, еще до его приезда сюда, в разных мелочах. Помню, например, рассказ моего сослуживца о разговоре его с рабочими хохлами, строившими арку для торжественной встречи Петлюры на площади Богдана Хмельницкого; на вопрос: что они строят, рабочие со смехом ответили: «это для Петлюры виселица».
Я только что оправился от тяжелой болезни (испанки); в курсе наших дел не был, и утром следующего за вторжением украинцев дня пошел в наше Краснокрестное Управление; зная, что мне не избежать ареста, в случае неприятия мер предосторожности, я просил, чтобы меня уведомляли обо все подозрительном у дома, в котором я жил. Вскоре действительно мне было сообщено, что у дверей моей квартиры — вооруженные украинские солдаты. Попросив секретаря, на случай, если бы за мной пришли в Управление, сказать, что я на службу не приходил, я заперся в своем кабинете и подписывал последние срочные бумаги — документы об отправке одного деникинского генерала заграницу по делам наших военнопленных. Это был последний час моего легального существования; затем, с декабря 1918 года по август 1919 года мне пришлось впервые в жизни проживать подпольно. Из управления я направился к одному знакомому консулу, у которого и нашел себе временное убежище, а далее начались мои трагикомические странствия, о которых стоит рассказать как о весьма характерных для нашего смутного времени и для его «героев».
Я не в состоянии был сидеть долго взаперти под добровольным арестом и по вечерам выходил прогуливаться по ближайшим улицам, а однажды направился даже в ближайшую баню. Последняя была полна петлюровских солдат, утомленных, грязных, с кровавыми ссадинами на ногах, но добродушных и радостных под влиянием теплой, уютной обстановки бани; они парились, били друг друга вениками, поливали водой, шутили, извинялись передо мною, когда случайно толкали меня; ничего зверского в них не было; это были славные, остроумные хлопцы, казалось, никому зла не желавшие. Без вождей в них спал зверь и появлялся человек. Я вспоминал, как много было случаев, когда мирные человечные крестьяне, от которых нельзя было ожидать никакого зла, внезапно зверели, жгли, резали, грабили, убивали помещиков, не плохих, а самых преданных народу, как только среди них появлялись «идейные руководители» из утопистов или каторжан. Купавшимся со мною было бы дико обидеть меня в бане, хотя я и беседовал с ними на русском языке, а приди сюда какой-нибудь Винниченко, и закричи исступленным голосом: «геть москаля, бей его», толпа добрых парней легко могла бы обратиться в стадо зверей, способных на бессмысленное убийство; так добродушные псы натравливаются людьми на кошек, сами себе не давая отчета, для чего требуется непременно задушить безвредную кошку. Не в этом ли объяснение всех зверств нашей «бескровной» революции? Не Керенские ли и К-о начали натравливать солдат, рабочих и крестьян на офицеров, судей, чиновников, священников и проч. Они, вдохновители кровопролития, которому большевики придали лишь организованную и более откровенную форму, а не простой русский народ, ответит перед судом истории за всю пролитую в России кровь.
Мои прогулки не прошли даром; с утра в садике против нашего дома мы стали замечать фигуру украинского солдата, внимательно вглядывавшегося в окна квартиры и проводившего на садовой скамейке почти весь день. Стало ясно, что установлено наблюдение. Прогулки мои сделались реже. Приурочивались к поздним вечерам. Было бы очень тоскливо, если бы не философские разговоры с молодым офицером С.У., о котором я упоминал выше, как о руководителе военной организации, свергавшей Правительства Рады. Он весь был поглощен вопросами о Боге, много читал и думал на богословские темы, его пытливые искания, горячая вера в Божеские законы и значение их для правильного построения социальных отношений были увлекательны и помогали отвлекаться от мыслей о гадостях, которые творили петлюровцы, в Киеве, начиная с убийства гр. Келлера и кончая внезапными ночными вторжениями в частные квартиры, в которых хватались «москали», «бежавшие» затем во врем доставки их из тюрьмы; трупы таких бежавших валялись на тротуарах улиц, по базарам и т. п. Однажды так были убиты два брата — студенты, не принимавшие никакого участия в политике; родители нашли их тела на Сенной площади, и убийцы имели циничную смелость извиниться перед несчастными отцом и матерью в происшедшей «ошибке». Хотя мы считали себя в относительной безопасности, но уверенности в том, что не подвергнемся ночному нашествию не имели; спали тревожно, поздний звонок у парадных дверей заставлял нас скрываться из общих комнат. Раз вечером, после такого звонка, нам пришли сказать, что нас желает видеть по совершенно секретному делу какой-то господин, лица которого рассмотреть нельзя, фамилии свое назвать не желающий. Таинственного гостя привели в нашу изолированную комнату; появилась фигура в черном плаще, по горящим глазам я узнал моего сослуживца по кабинету Гетмана Г.; он был в своей роли заговорщика — в черном плаще, исполненный тайн и душевного подъема. Петлюровцы, найдя его, расстреляли бы на месте, как одного из главнейших вдохновителей заговора против Рады. Он жил в каком-то подвале, выходил только в сумерки, закутанный во все черное. Пришел он к нам совещаться, что следовало бы предпринять для свержения Петлюры. Эти совещания происходили несколько раз; велись безрезультатные переговоры с немцами, я составил меморандум о положении дел на Украине, отправленный в Одессу от имени Киевского Корпуса консулов, приходили хохлы — недавние ярые сторонники Скоропадского, жаждавшие вернуться в «Голопуповки» и удивлявшиеся, кто мог выдумать такого гетмана, как Скоропадский. Наконец, все наши заседания закончились тем, что Г., сверкая глазами и двигая во все стороны усами, заявил, что перед нами сейчас одна ближайшая задача — уничтожить Петлюру, для чего надо воспользоваться большевиками, а затем уже борьба с ними составит следующую задачу, в которой помогут, верно, и Деникин, и Антанта. Он отправился в Алексеевский парк на митинг, где под гром аплодисментов громил Петлюру и звал на помощь против него «Совдепы». В объяснении временного успеха большевизма, нельзя, мне кажется, забывать и этого рода настроения и взглядов, в силу которых крайний абсурд Ленина представлялся многим более кратковременным, чем полуабсурд Керенщины и Петлюровщины.
Больше мы с Г. не виделись, так как я, по собственной неосторожности, не только не осуществил своего плана — пробраться в Одессу, но и должен был срочно переменить место жительства. К этому времени большинство моих ответственных сослуживцев, во главе с В. Е. Иваницким, под разными предлогами, оформленными документами, выехало уже или выезжало из Киева в Одессу, а оттуда в Новороссийск — Ростов; в частности, с разными препятствиями добрался туда и мой брат. Первую ночь, после участия в различных уличных митингах, он провел у одного зубного врача-еврея, который, естественно, весьма волновался, имея своим гостем в такое время гетманского министра; по несчастной случайности в 5 ч. утра раздался сильный звонок в квартиру; произошел, конечно, сильный переполох; брат издали слышал громкий разговор горничной с неизвестным мужчиной, затем дверь захлопнулась и послышался уже голос хозяина. «Нет, вы подумайте, такое нахальство», объяснял он брату, «в такое время будить на рассвете, чтобы передать мне через горничную два слова и какие слова — сукин сын». Брат сначала ничего не понял, но врач, не ожидая его расспросов, сам задумчиво добавил: «ну, положим я ему вчера запломбировал зуб». Я заметил, что судьба во всех наших тяжких переживаниях и волнениях посылает нам, как на сцене, нечто комическое, будто бы хочет дать нам возможность успокоить, хотя бы на время, нервы, передохнуть от трагедии.
Моя неосмотрительность выразилась в том, что я, перед отъездом в Одессу, решил побывать у себя на квартире. Домашние мои не советовали мне ночевать дома, я спорил, доказывая, что петлюровцы не могут именно сегодняшнюю ночь избрать для нападения на меня, так как им неизвестно о моем возвращении; наконец, чтобы не беспокоить зря близких людей, я решил переночевать в свободной комнате одного моего сослуживца по Сенату, которую он нанимал в том же доме в квартире председателя домового комитета поляка-доктора П.
Я вышел из своей квартиры за пять минут до того, как раздался сильный стук со звоном у парадного подъезда, затем шум солдатских сапог по лестнице. Доктор П., проходя мимо моей комнаты, шепнул мне «пошли к вам», и направился, как председатель комитета, присутствовать при обыске, который продолжался почти всю ночь до пяти утра. Я слышал над собою грубый топот ног, бросание различных предметов на пол, передвижение столов. По временам в квартиру заходил бедный доктор П., утомленный, потный, бледный; его жена сильно волновалась; порою заходила ко мне и говорила только: «Боже мой, что они сделают с моим мужем, если найдут вас в нашей квартире». В волнении она несколько раз открывала дверь на лестницу; это было замечено, и галицкий студент, участвовавший в обыске (новая для студентов профессия — одно из революционных завоеваний) громко сказал: «в нижней квартире что-то подозрительное; надо посмотреть». Доктор рассказывал потом, что в это мгновение он считал уже себя погибшим. К счастью, он очень хорошо говорил по-малорусски, а потому галичанин и петлюровцы успокоились, когда он объяснил, что внизу его квартира. На расспросы, где я, он отозвался полным незнанием меня, потому, якобы, что я никогда не участвую в заседаниях домового комитета; этим он усугублял, конечно, свою ответственность на случай, если бы я был обнаружен в его квартире. В мысли, что я, быть может, подвел под арест или даже расстрел мало знакомого благородного человека, и заключалась главнейшая нравственная мучительность для меня проведенной в его квартире ночи. Я не помню, чтобы когда-либо в жизни у меня так сильно билось сердце, как тогда, когда я услышал шум спускающихся по лестнице шагов; каждая секунда приближения их к квартире доктора казалась бесконечно длительной, часом, а не секундой. Я задержал дыхание, прислушиваясь к голосам, когда они были уже у парадных дверей квартиры, в которой отведенная мне комната выходила прямо в прихожу. Вдруг, стало ясно, что проходят мимо, не останавливаясь; хлопнули двери домового подъезда, и настала тишина и в доме, и на душе; я, во всяком случае, не подвел благородного П. Вскоре вернулся и он, и я заснул глубоким, больным сном, не думая об опасностях наступающего дня.
Проснувшись, я узнал, что дом оцеплен петлюровцами и со стороны улицы, и со двора, что вдоль нашего тротуара взад и вперед ходит студент-галичанин, что у меня в письменном столе, между прочим, нашли черновик моей речи гетману о необходимости предания суду Винниченко, что по этому поводу сыщики разразились неистовой бранью по моему адресу: «а такой сякой, хотел гибели нашего батьки», и т. п. (тогда уже «батькой» был не Грушевский), объявили о своем намерении расстрелять меня на месте поимки, кричали: «тюрьмы ему не видать», что в еще большее раздражение привела всех записочка моей матери, забытая мною в тот же вечер на столе, в которой мать проклинала петлюровцев за их зверства и тупость, говоря, что после всего происшедшего она не в силах будет написать ни одного слова по-малорусски; вся обстановка и полученные мною сведения указывали, что для спасения своей жизни я должен бежать, тем более, что всегда можно было ожидать повального обыска в доме: петлюровцы не поверили, что я выехал в дачное место Святошино, как было отмечено в дворовой книге, ибо они имели точные сведения от своего наблюдателя, когда и куда я вышел из квартиры консула; моя непривычка и неумение скрываться губили меня. Я прежде всего, конечно, освободил квартиру П. от своего неприятного присутствия; на них ночное событие произвело такое впечатление, что они вскоре уехали в Варшаву. Меня приютила в кухне одна знакомая семья, проживавшая рядом с нами; день прошел в обсуждении вопроса, как удрать. Скачала я решил переодеться кухаркой и выйти из дому с корзиной в руках, якобы за покупками; долго меня наряжали, гримировали — не получалось бабы: слишком уже у меня неизменно «буржуйный» вид. Решили попробовать сделать из меня не бабу, а изящную даму, и эта попытка увенчалась полным успехом: на меня надели букли, шляпу с вуалью, юбки, ботинки, манто. В таком виде я решил выйти не в разгаре дня, но и не поздним вечером, чтобы не возбудить подозрений; как только начало заходить солнце, я, простившись во всеми, вышел из квартиры на лестницу; меня сопровождала одна знакомая дама, чтобы, в случае неудачи сообщить родным о моей судьбе. В прихожей я несколько раз просил мою компаньонку, дабы мы не казались подозрительными, не молчать при выходе из дома, а разговаривать со мною, но только ничего не спрашивать у меня; мой низкий голос легко было переделать на дамский. Как только открыл я дверь и мы вышли на первую площадку лестницы, перед нами предстала сидевшая на диванчике фигура в солдатской форме. И я, и сопровождавшая меня дама решили, конечно, что это один из петлюровцев; я заметил, как она побледнела, начала учащенно дышать. Спускаясь с лестницы, я шепнул: «говорите же что-нибудь, не молчите». Прерывающимся голосом бедняжка довольно громко произнесла: «а вы собираетесь на концерт Смирнова?» Как раз то, чего я больше всего боялся, вопрос, на который надо было отвечать. Я, для придания своему голосу нежности, откашлялся, и резонанс лестницы далеко передал басистые звуки моего кашля. Это был момент, когда мы считали себя погибшими, но, к удивлению, тот которого мы считали за петлюровца, не двигался и не преследовал нас. Впоследствии я узнал, что это был мой старый приятель П., причем, когда его спросили не проходил ли кто-нибудь мимо него по лестнице, он вполне добросовестно отвечал, что заметил только двух хорошеньких дам; надо сказать, что он всегда был чрезвычайно близорук, а потому и говорил «о двух». Когда мы пошли по нашей стороне улицы, мимо нас быстро, деловым шагом, прошел муж моей дамы и на ходу шепнул: «на право», мы перешли на другую сторону и оттуда увидели уже настоящего петлюровца. На углу следующей улицы виднелся свободный извозчик; каждый шаг, каждая секунда пути тянулись для меня часами. Я попытался ускорить, но услышал рядом с собою умоляющий голос: «Что вы делаете? Семените ногами, так дамы не ходят, вас узнают». Я вынужден был «семенить», и расстояние казалось еще более длинным; ощущение было такое, как в страшных снах, когда убегаешь от кого-то, а ноги двигаются медленно, с усилием.
Наконец, мы на извозчике; вдали маячили фигуры петлюровцев; я послал им мысленно насмешливый привет. Дня три они еще подстерегали меня, следили за нашими знакомыми; когда проходила мимо них одна из наших соседок, наивно хотели провоцировать ее на разговор, громко сказав: «а ведь Романов-то вчера расстрелян», произвели даже обыск в квартире, которую случайно посетила одна из квартиранток нашего дома; наконец, уверовали, что я в Святошине, нагрянули туда, допрашивали местного лавочник и обыскали местную санаторию. Студентам Львовского университета очень, видимо, хотелось еще одного лишнего убийства человека только за то, что он защищал права своего родного языка и обвинял Винниченко в дикой травле русских людей.
В это время я проживал в изолированной, т. е. со входом прямо с лестницы, комнате одного моего сослуживца. Однако, более недели, не возбуждая подозрений, оставаться там нельзя было. Надо было найти более надежный приют, который и был предложен мне в большой, тихой квартире присяжного поверенного С., того самого, по рекомендациям которого принимались мною адвокаты на краснокрестную работу. Друзья мои настаивали, чтобы я не появлялся некоторое время на улице в своем обычном виде; при обыске были взяты мои фотографические карточки и розданы сыщикам; студента-галичанина видели с моей карточкой на вокзале, где он дежурил при отходе поезда на Одессу. Ко мне, по просьбе друзей, явился один знакомый артист; он надел на меня парик и наклеил усы. В таком виде, под вечер, я отправился к С. Для улицы мой грим был хорош, но в комнате при освещении я видел трещину на лбу и мертвенность пушистых усов из какой-то пакли. У С. был прием клиентов; он передал мне, чтобы я подождал окончания приема, дабы не возбудить подозрения горничной; я отказался войти в ярко освещенную приемную и ожидал в прихожей, в темном углу. С. встретил меня чрезвычайно ласково и тепло; мне была отведена уютная комната, окнами в сад. Я рад был отдохнуть, после всего пережитого, в комфортабельной чистой обстановке, но меня мучили наклеенные усы и парик. Как только я остался один, я немедленно, забыв запреть в комнату дверь, схватил себя за ус и с треском его оторвал; в это же мгновение на пороге я увидел горничную, которая от изумления присела к полу и прошептала: «Иесусе Мария». Она оказалась хорошей девушкой и моя неосторожность пошла благополучно.
Семья С. представляла из себя в высшей степени культурную и гостеприимную среду; горячие патриоты своей родины — Польши, все С., хотя и утрировали несколько значение некоторых представителей польского искусства, старались присвоить Польше происхождение некоторых великих русских людей только по признаку окончания их фамилии на «ский», например, Чайковского, однако знали, любили и ценили русское искусство. Огорчала и обижала их в русской литературе лишь та подробность, на которую я ранее как-то не обращал внимания, что ни один наш крупный писатель не обнаруживал ни малейшей симпатии к полякам: «когда в ваших романах выводится поляк», с печалью говорила мне жена С., «он непременно или шулер, или альфонс; у Достоевского, например, он обязательно называется полячком, полячишкой». Когда я изумлялся богатому выбору в библиотеке С. русских книг, он мне сказал: «да, мы их любим, несмотря на то, что сколько во всем этом встречается нехорошего о поляках». Да, в этом была известная правда, но С. забывали только об одном, что наши классики вообще мало любили положительные типы, и тот класс, к которому принадлежал я — русское чиновничество, изображался ими не в лучших красках, чем русские поляки. Наши споры никогда не были остры, сколько-нибудь злобны; разговоры о литературе, иногда музицирование — все это сближало меня с членами большой семьи С. и я вскоре почувствовал себя в ней, как среди близких, родных, тем более, что взаимные отношения их отличались удивительной теплотой и воспитанностью. Внимание ко мне жены С. было так трогательно и шло так далеко, что она в первую неделю поста очень волновалась по поводу затруднительности устроить мне отдельный постный стол. При этом, несмотря на мои настояния, она категорически отказывалась перевести меня на положение платного столовника, несмотря на возрастающую тогда с каждым днем дороговизну и почти совершенное прекращение судебной практики мужа.
Тяготило меня одно обстоятельство — это воспрещение выходить из квартиры и невозможность выехать из Киева. Возникали разные предположения о моей отправке: то в санитарном поезде, то в чехословацком эшелоне. Однажды был даже уже назначен день моего отъезда, была сообщена мне заранее моя фамилия: «Ченек-Ветешник». Тогда я никак не мог ее зазубрить, а потом запомнил на всю жизнь. По разным причинам, главным образом, вследствие болтливости людей, даже расположенных ко мне, предположения о выезде не осуществлялись. Я понял после этого, что подпольное существование требует абсолютной тайны, иначе всегда легко можно попасться. Я решил сначала отрастить себе бороду, радикально изменить внешность и тогда уже тронуться в путь, тем более, что доброжелатели предупреждали, что моя карточка продолжала фигурировать на вокзале. Однако, пока я занимался ращением бороды, произошли обстоятельства, которые лишили нас всякой надежды на помощь одесского французского десанта, а вскоре и самая Одесса была захвачена петлюровцами и вслед за ними большевиками. Надо было уже как-нибудь пережить большевизм, скрываться от нового врага, которому я был, быть может, менее интересен, чем петлюровцам, но от которого нельзя было ожидать, конечно, ничего хорошего.
Через месяц, от сидения в комнатах, я почувствовал себя плохо, у меня начались головокружения, и С. разрешил мне гулять по двору с 9–10 часов вечера; это было величайшее наслаждение — право дышать чистым морозным воздухом, обонять запах снега. Когда жизнь стеснена — начинаешь ценить все ее мелочи, мало заметные на свободе.
Недели через три после победы Петлюры над гетманом уже не было сомнения что украинцы будут вытеснены большевиками. Обычным путем, по Черниговскому шоссе, наступали орды большевиков. Население молилось об одном, чтобы на этот раз не повторилась прежняя бомбардировка Киева. Правительство Петлюры, кроме трусливой кровожадности, отличалось особой на этот раз смехотворностью. Социалистические опыты были на время оставлены; главное внимание было сосредоточено на усиленной украинизации столицы Украины — Киева и на рекламном возбуждении в населении доверия к боевой мощи и непобедимости.
Украинизация проявлялась преимущественно в замене русских названий улиц и вывесок, не исключая докторских и адвокатских, а также в требовании украшать все дома желто-голубыми флагами; так как в большинстве случаев приходилось менять одну-две буквы или выкинуть твердый знак, то дома города, в особенности Крещатик, запестрели белыми латками, заклейками и поправками букв на вывесках. Эта комичная пестрота уличных вывесок и дверных карточек явилась единственным, пережившим петлюровское правительство, результатом его деятельности. На почве срочного, под страхом суровых наказаний, обезображения вывесок происходили юмористические случаи, вызываемые незнанием «мовы» или желанием торговцев перехитрить власть. Один мой знакомый был свидетелем сцены, когда какой-то лавочник — еврей патетически кричал рабочим, исправлявшим его вывески: «ой, куда же вы его забросили, ищите его, ведь он еще потом пригодится», «он» это был твердый знак с выпуклой вывески магазина. Вместо флагов на домах вывешивались, за недостатком материи, безобразные тряпки, по оттенками приближавшиеся к желтому и голубому цвету. Вообще, если бы не проливаемая кровь, то Петлюра доставил бы киевлянам столько же развлечения, как бытовой, полный народного юмора, малорусский водевиль.
Способы вселения в граждан веры в военные силы этого атамана были особенно забавны. Газеты сообщали о бесстрашных выездах атамана на Черниговское шоссе, о том, что он воодушевил войска и они отбросили неприятеля, в то время, как мы все в городе явственно слышали приближение канонады; наконец, как верх юмористики, сообщалось, что французы предоставили Петлюре ослепляющие врага фиолетовые лучи, население предупреждалось об их страшном действии, ему предлагалось прятаться. Затем, действительно, на прожекторы были надеты фиолетовые стекла, и, как говорили, большевики в течение нескольких часов принимали их за нечто опасное. Эта водевильная хохлацкая хитрость дала возможность только проявится ответному русскому юмору: рассказывали, как солдат большевистской армии демонстрировал перед одним любопытным хохлом, у которого он производил реквизицию фуража действие фиолетовых лучей; кацап подвел хохла к его корове: «видишь, что это такое?», «А як же, це моя корова», отвечал хохол. Затем ему было предложено отвернуться, на него надели темные стекла, а в это время «Товарищи» увели корову. «Ну смотри, теперь что видишь?», спросил большевик. Хохол должен был признать отвратительное действие фиолетового цвета.
Единственный относительно благородный поступок Петлюры в это его нашествие на Киев заключался в том, что он под натиском большевиков вывел свои войска из города без боя, чем избавил население от ужасов повторной бомбардировки города.
Первое время по овладении Киевом, большевики были заняты исключительно военными операциями; организованный террор, грабеж, закрытие торговли и обычные бюрократические опыты большевистской власти начались недели через две-три. Из окрестностей города доносилась канонада, то затихавшая, то усиливавшаяся и по мере ее приближения росла надежда на избавление нас добровольцами и французами. Каждый день «из достоверных источников» сообщались различные утешительные сведения; я, как и большинство киевлян, проводил послеобеденное время, прислушиваясь к звукам пушек; помню, как радостно билось сердце, когда выстрелы различались ясно и какое безнадежное уныние овладевало нами, когда на несколько дней стрельба замолкала. В сущности, все восемь месяцев моего подпольного существования при большевиках, я прислушивался, не доносится ли со стороны Житомирского шоссе утешительный, обнадеживающий звук. Ожидание его сделалось какой-то болезненной манией, и некоторые мои знакомые были этим ожиданием так нервно измучены, что были на границе действительного помешательства. И после падения Одессы нас не оставляла надежда, так как в направлении Киева двигались то поляки, то петлюровцы, то крестьяне-повстанцы; они порою подходили так близко, канонада так усиливалась, что час перемены власти, хотя бы на коротки срок, чтобы вырваться из Киева, казался близок. Затем все затихало, и наступала полоса безнадежности.
В Киев прибывали большевистские части; их размещали по квартирам «буржуев» не вымытыми, без предварительной дезинфекции, со вшами. Дошла очередь и до нашей улицы В одно утро весь наш двор наполнился солдатами. У С. было две изолированных комнаты с отдельной уборной; он сам вышел во двор, спросил, нет ли земляков и вернулся с несколькими белоруссами, показал им комнаты, попросил не пачкать в уборной. Это были обыкновенные крестьянские парни, призванные в армию; держали себя скромно, без всякой злобы. Когда раз утром запоздал самовар для них, было слышно, как старший давал совет «накричать на буржуя», но остальные на него зашикали; они были хорошими людьми до тех пор опять-таки пока не были под непосредственным воздействием их безумных вождей. Когда их внезапно вызвали в дальнейший поход, они трогательно, целуясь по три раза, как это было и во многих других квартирах, простились с С.; если бы им сказали, что С. должен быть расстрелян, они никогда не поняли бы за что можно лишить жизни такого честного человека, горячо любимого семьей его товарищами и обществом; он с солдатами был также ласков и добр, как со всеми людьми, которые к нему обращались, ибо он жил по заветам Христа, а не злобствующего материализма. Че-ка была иного мнения о таких людях как С. и постаралась истребить его при первой возможности, совместно с мужем его дочери, разграбив беззащитную культурную квартиру его, на которой оставались одни, убитые ужасным горем, женщины да маленький сын С. Но я опередил несколько события.
Квартира С. заполнилась постепенно бежавшими из провинции поляками. Жил больной раком гортани провинциальный адвокат Т., приехал брат С., мой товарищ по гимназии, человек необыкновенной доброты и деликатности, часто ночевал один помещик, который имел глупость приехать в Киев из своего имения перед занятием города большевиками и поселиться в квартире своего дяди-богача; имя и фамилия обоих были одинаковы; дядя вовремя уехал в Варшаву, а племянник ни с того, ни с сего, заняв его квартиру, начал получать по наследству все распоряжения и гонения большевиков, начиная от контрибуции в несколько сот тысяч рублей и кончая угрозой водворения в Че-ка. Он вынужден был сбежать из дядюшкиной квартиры; при каждой встрече со мною он, с испуганными глазами, однотонно повторял: «нет, вы войдите только в мое положение, как я могу доказать, что я — не дядя».
С. ожидал к себе из провинции еще нескольких лиц — родственников и друзей; мне надо было подыскивать себе другую квартиру, тем более, что во дворе мои прогулки начали уже обращать на себя внимание разных подозрительных подвальных жильцов. К этому времени я обзавелся хорошим паспортом одного покойника и, прописавшись на несколько дней до переезда в участке, видел однажды вечером с небольшим моим багажом из государственной квартиры С. для переселения в комнату, нанятую мне в квартире одного гимназического товарища моего брата 3. С большой грустью расставался я с С. и его семьей, не думая тогда, какое горе ожидает скоро этих хороших людей. Меня провожал брат С.; когда мы перешли на более глухую и плохо освещенную сторону улицы, мы тотчас же были окружены группой вооруженных лиц в военной форме, наведших на нас револьверы. Это были, несомненно, судя по их тону и манере себя держать, не солдаты, а офицеры; что-то особенно грустное заключалось не в самом факте нашего ограбления, а именно в сознании, во что обратила смута наше офицерство, до какого низкого падения довела ту среду, в которой понятие чести ценилось дороже всего на свете. Студенты производят обыски и при этом способами, на которые не был способен ни один самый худший жандармский офицер старого режима; я забыл упомянуть, что галицийский студент намекал несколько раз на то, что он хотел бы получить ту или иную вещь из моей квартиры, и только присутствие председателя домового комитета стесняло его. На улице офицеры «армии» выступали в роли простых грабителей; в них теплилась еще искра прежнего былого благородства, потому что по приказанию старшего из них мне вернули некоторые вещи, имевшие для меня памятное значение. Добрейший С. решил сначала, что это не грабители, а какая-то большевистская засада, специально меня подстерегавшая, поэтому ни за что не соглашался открыть мой портфель по требованию разбойников; его начали бить по шее рукояткой револьвера; я, узнав в чем дело, открыл портфель; последний почему-то мне оставили, а взяли из него только белье. Мое появление на новой квартире поздно вечером без вещей было весьма неудачно, так как могла сразу же возбудить подозрение дворника, открывавшего мне двери в усадьбу, и прислуги, но, по-видимому, случай ограбления меня никого из них не изумил, не показался сочиненным, и все обошлось благополучно. Я не виделся с З. со студенческой скамьи, а с женой его и детьми совершенно не был знаком, почему и сцена представления им меня под чужой фамилией произошла непринужденно. З. знал, что я скрываюсь, что ему грозит опасность в случае, если я буду узнан, но благородно, ни одной минуты не колеблясь, сдал мне комнату; жена его отличалась большой сердечной добротой, но все-таки я долго скучал по семье С., с которой у меня было в общем больше духовной близости. З. был почти всегда мрачен, как бы в предчувствии своей скорой гибели. Его предупреждали, что фамилия его числится в списках лиц, подлежащих аресту; я горячо убеждал его, хотя бы не ночевать дома, он же, говоря. Что от судьбы не уйдешь, добросовестно исполнял всякие циркуляры и распоряжения большевиков (регистрировался, как запасной офицер и т. п.), получил уже даже какое-то назначение, но все-таки был взят в Че-ка и расстрелян. Он, как и многие другие, никак не хотел понять, то все стороны, во время гражданской войны жестоки, что на той или на другой стороне, и красной и белой, возможны многие случайные жертвы, но что система террора в отношении целых классов русской интеллигенции, классов, а не политических партий, применяется только большевиками, о чем забывают теперь, или, вернее, делают вид, что забывают «сменовеховцы», Бобрищев-Пушкин, Ключников и др. В Киеве вскоре был объявлен красный террор: людей убивали каждую ночь.
У 3. бывал один товарищ — прокурор Киевского Окружного Суда; он служил в городском обозе, где занимал какую-то небольшую должность, дававшую ему квартирку при обозном дворе. На рассвете ежедневно требовалась городская подвода; возница рассказывал различные подробности перевозки трупов, раздела золотых крестиков, колец и других находок из расстрелянных. Православный праздник Св. Пасхи не освободил обоз от поставки дежурной подводы в Че-ка; расстрелов не было только в дни еврейской Пасхи. Этот факт запротоколирован товарищем прокурора с подкреплением подписями свидетелей и, я думаю, сохранится для истории смутного времени.
Гибли один за другим видные общественные деятели Киева, вся вина которых заключалась в том, что они много дали и для народного образования, как, например, украинофил, в хорошем смысле этого слова, известный педагог Науменко, или для чистой науки, ничего общего не имевшей с внутренней политикой, как, например, знаменитый славист профессор Фолинский или для своей корпорации, как мой первый гостеприимный хозяин присяжный поверенный С., которого большевики для приличия ложно признали имевшим тайные связи с польской армией, или просто для государственной службы при неугодном новой власти режиме, как хозяин новой моей квартиры — 3. Убивали людей, которые не только принадлежали когда-то к партии националистов, но просто внесли один раз членские взносы, как это нередко бывает по просьбе учредителей партии. Убивали представителей определенной служебной профессии, например, чинов судебного ведомства, наиболее по свойствам их работы, аполитичных; гибли не только чины прокуратуры, к которым большевики, в значительной их части, бывшие простыми уголовными преступниками, относились с особой злобой, но и скромные члены гражданских отделений суда и палаты. Обыски и допросы сопровождались грабежами, вымогательствами, взяточничеством. Арестовывались и потом выпускались все, к кому можно было, хоть как-нибудь придраться; например, наш сосед угодил в Че-ка только потому, что его фамилия была найдена в числе лиц, отряженных от домовладельцев для поддержания уличного порядка во время проезда Государя в бытность его в Киеве лет пятнадцать тому назад. Донос недовольного швейцара-хулигана или вора был достаточен для расстрела. Так, например, погиб один видный киевский присяжный поверенный. Мелкая неосторожность, случайность приводили иногда человека к смерти или ставили его на край могилы. Знакомый 3. Рассказывал нам, как едва не погиб один мелкий банковский чиновник при таких юмористически-трагических обстоятельствах: он закутил в какой-то гостинице с дамой полусвета и остался там ночевать; ночь гостиница подверглась обыску. Ворвавшемуся в номер красноармейцу понравилась дама чиновника, и он его выгнал из номера. Чиновник упросил другого красноармейца проводить его омой, так как он не имел ночного пропуска. Тот согласился, но так как был пьяноват, то при встрече патруля забыл «пароль» пропуска, и оба они были доставлены в Че-ка. В течение двух недель чиновнику не удавалось добиться освобождения; как только он обращался к кому-нибудь с объяснением его случая, ему отвечали неизменно грозным окриком «молчать». Только когда случайно в Че-ка оказался какой-то агент, лично знавший чиновника, последнему удалось получить ордер об его освобождении, но бедствия его на этом не закончились. При выходе его из Че-ка раздались выстрелы; это была погоня за бежавшими арестантами. Квартал возле здания Че-ка был оцеплен солдатами, и чиновник оказался в оцепленном районе. Несмотря на его протесты и предъявленный ордер об освобождении, он был вновь арестован и заключен с пытавшимися бежать; последовал приказ расстрелять всех беглецов в ближайшую ночь. Чиновнику перед самой уже казнью едва удалось добиться того, чтобы обратили внимание на его документы. С этих пор он засел у себя дома, откуда выходил только на службу и в банк.
Старая знакомая одного из видных большевистских вождей Украины, возмущенная таким произволом в духе описанного случая, написала ему письмо, в ответ на которое от ответил, что «революция» — не салонный минует, в котором может быть все красиво и изящно». Сначала многие возмущались произвольными зверствами большевиков, так как людям свойственно во всех человеческих деяниях искать относительно здравых логических обоснований. Но когда тало совершенно очевидно, что мы имеем дело с небольшой сравнительно группой психически больных людей и массой окружавших их уголовных преступников, возмущение заменилось простым чувством осторожности, мерами, которые принимаются против укусов бешеной собаки, ядовитой змеи и т. п.
Я лично знал только одного из видных деятелей большевизма: Луначарского, в гимназические годы. Это был невероятно, ненормально бледный мальчик со страшной синевой под глазами, со всеми признаками извращенного юноши; знавшие его позже говорили и о денежной его нечестности.
Возмущаться поэтому уже можно было только сознанием собственного бессилия, тем, что власть сумасшедших и преступников может так долго держаться над громадным русским народом, и невольно в голову приходило, что эта власть послана нам свыше, как кара за грехи, в особенности же за тягчайший грех — оклеветания и измены своему Царю.
При описанных мною условиях, потеряв связи с какими бы то ни было полезными общественными организациями, я предпочел не выходить совсем на улицы, где мог легко встретиться с кем-нибудь из многочисленного хулиганского состава знавших меня хорошо в лицо шоферов, сестер милосердия новых выпусков и проч.
Заточение мое было не тяжело, так как квартира 3. Находилась в очень большой усадьбе, дававшей много простора для прогулок; встреч с другими квартирантами в этой усадьбе я избегал, прислуга же верила в мое болезненное состояние — я усвоил старческую походку. День посвящался изучению немецкого языка, прогулке, внимательному подслушиванию, не доносится ли орудийный гул и нетерпеливому ожиданию весны; с весной связывались почему-то различные надежды, а кроме того, в моей комнате обычно бывало очень холодно; хотелось тепла. Как всегда бывает, когда поджидает чего-либо с особым нетерпением, весна 1919 года сильно запоздала; то ясно почувствуешь ее, заблестит и согреет солнце, стает снег, начнут уже просыхать дорожки сада, то вдруг снова посыпет густыми хлопьями снег и переживаешь все сначала: и ожидание солнца, и таяние снега, и высыхание садовых дорожек. Когда не возможна полная свобода жизни и нет уверенности в безопасности ее, дорожишь, как я уже говорил, всякой ее мелочью: первые почки на кустах сирени ни разу в жизни не давали мне того наслаждения, которое я испытал в эту весну. У меня резко запечатлелся в памяти образ девочки из соседнего дома, которая жизнерадостно выбежала под лучами солнца в сад, пригнулась к дереву с молодыми почками, поцеловала их и сказала: «о, милые!» Детская психология становилась близкой и понятной, когда приходилось дорожить каждым днем жизни. Даже 3., под влиянием признаков весны, немного повеселел и стал рассказывать эпизоды из своей охотничьей жизни.
В общем, первый месяц в нашей усадьбе жилось спокойно. Это спокойствие нарушалось порою только появлением различных большевистских агентов. Несколько раз приходилось подвергаться статистическим опросам, в связи с предпринятой большевиками и, конечно, незаконченной, как и все их культурные начинания, всеобщей переписью городского населения. Для этого мне пришлось вызубрить свою биографию, определить места жительства жены и многочисленных детей, прописанный в моем паспорте, и т. п. Опасный момент в нем заключался в том, что покойный владелец его жил на окраине города лет двадцать на одной и той же квартире, я же за два месяца переменил уже квартиру два раза и при том в сравнительно дорогих районах города. Многие из тех, кто проживали не по своим документам, не озаботившись, как я, установить раз и навсегда точно различные этапы своей вымышленной жизни, попадались, так как при повторных вопросах давали другие о себе сведения, чем первоначально, и, в конце концов, как это ни было противно, я начал сживаться со своим новым именем, социальным положением (лесного подрядчика и счетовода) и с семьей.
Однажды, переполох в нашей усадьбе произвел какой-то комиссар, который потребовал к себе в сад всех квартирантов. Сначала я думал не идти, но затем опасение, что этим я могу возбудить подозрение прислуги 3., которая, впрочем, занималась на кухне больше «пластикой», или, как говорили горничные, «движениями», а политикой совершенно не интересовалась, побудило меня явиться на зов комиссара. Последний объявил нам радостную весть, что отныне хозяин усадьбы лишается права на свой сад и таковой переходит к нам в общее наше пользование, с обязательством общими силами его обрабатывать. Такая забота большевиков, между прочим и обо мне, весьма была трогательна. Конечно, хозяин эксплуатировал после этого свой сад, что требовало больших расходов, по-прежнему, в отчете же власти на бумаге было показано лишнее коммунистическое хозяйство, что только и требовалось.
Вообще, кто непосредственно не соприкасался с мелочами большевистского режима, тот совершенно не может себе представить значения в нем бумаги. С уверенностью можно сказать, что мир еще никогда и нигде не знал такого бумажного царства, как «Советская» Россия. В одной из своих речей глава украинского правительства Раковский, с гордостью говоря о громадности выполняемых советской властью задач, иллюстрировал это заявление указанием, что на одной только Украине пришлось создать кадр чиновников в двести тысяч человек, превышающий состав исполнительных органов всей Царской России. Действительно во всей Империи мы имели не более 40 000 чиновников, и то наша либеральная пресса вопила для чего-то об их перепроизводстве. При этом бюрократизм большевизма отличался, конечно, от императорского тем, что он ничего не творил, а только затруднял или разрушал, а если и творил, то исключительно на бумаге. Я вспоминаю, как один знакомый профессор получил разрешение в различных инстанциях на право купить специальную брошюрку по одному химическому вопросы; хлопоты его длились два месяца. Моему сослуживцу, жившему подпольно, как и я, пришлось однажды познакомиться с сельским агитатором; последний был очень доволен окладом содержания, который был присвоен его должности. На вопрос, как он рискует появляться в деревнях, которые всюду в Малороссии заведомо враждебно настроены против коммунистов, агитатор рассмеялся, показал на запасы спирта в его комнате и объяснил, что, приезжая в деревню, он прежде всего кричит о привезенном им спирте, затем просит крестьян за его подарок не выдать его, помочь ему и подписать приговор о переходе на коммуну. «Им наплевать на это; я уйду и они заживут по-прежнему, а я даю в Киев телеграмму о новой сельской коммуне», так закончил он свои объяснения о выгодности своего занятия. Я сам постоянно читал в «Советских известиях» о появлении новых коммун, и всегда вспоминал при этом рассказ агитатора. Еще припоминаю юмористический случай, как одна моя знакомая, решив, что надо хотя чем-нибудь попользоваться от большевиков, отправилась в открытый ими бесплатный зубоврачебный кабинет. Дежурная молоденькая еврейка осмотрела зубы и нашла один, который следовало, по ее мнению, запломбировать; поковыряла в нем немного и пригласила пациентку явиться завтра; на другой день дежурила другая еврейка; так как записи в книге не было, она не нашла зуба, лечение которого уже было начата, признала больным другой зуб и тоже поковыряла в нем. В третий день дежурил пожилой еврей, который неистово разругал «невежд», берущихся задело со школьной скамьи», положил что-то в испорченный зуб. Больше этого врача моя знакомая уже не видела, а имела дело опять с новыми евреечками, и через неделю я ее видел с сильно распухшей подвязанной щекой. На бумаге же широковещательно объявлялось, что в Киеве население пользуется бесплатной зубоврачебной помощью. Не стоит останавливаться на массе других примеров большевистского творчества. Можно сказать только одно: если бы разные Раковские, Подвойские, Быки и им подобные были людьми, лишенными всякого образования, то их бумажное самоутешение еще можно было бы объяснить полным невежеством, а раз это объяснение не отвечает действительности, то нет другого выхода, как признать их: одних шарлатанами, других безумцами. И странно, что я не встречал за восемь месяцев моей жизни в «советском раю» ни одного честного убежденного защитника большевизма, который не произвел бы на меня впечатление человека более или менее душевно больного. У них обычно не было никаких доводов, кроме какого-то, с видом маньяков повторения фразы: «а все-таки народу будет лучше». Мой первый хозяин С. Рассказывал мне о встрече его с киевским присяжным поверенным О-ко, которого я знал со студенческой скамьи; крестьянского происхождения, плохо воспитанный, мало образованный и очень тупой, он отличался всегда какой-то мелкой завистью к людям, стоящим выше него в том или ином отношении. Юридической науки он не был в состоянии постигнуть, говорил моему брату, что совершенно не понимает для чего нас заставляют зубрить всякую отвлеченную ерунду вместо того, чтобы все четыре года посвятить изучению свода законов. Легко себе представить, какой из него получился адвокат. Как мне передавали, он, впрочем, мало занимался судебной практикой, арендовал где-то на окраине города усадьбу и разводил овощи, т. е. вернулся к почтенной работе своих родителей, на которой он, по своим наклонностям, являлся бы, действительно, полезным членом общества и от которой его отбила какая-то несчастная случайность и глупые предрассудки. Но его, без сомнения, грыз червь честолюбия. Когда произошел гетманский переворот, он был у меня и у Кистяковского, просил о назначении, и неполучение такового объяснял, вероятно, не отсутствием у него способностей и опыта, а недостаточностью его протекционных связей. При большевиках уже, когда он встретился с С., он гордо сообщил последнему, что его зовут на службу, но он не знает соглашаться ли. Он просил совета у С., и последний уклончиво ответил, что честно работать можно при всяком режима, надо только не делать того, что не согласуется с собственной совестью. На это О. живо ответил «да, да, это верно; вот и я поставил условие — побольше крови, теперь главное — истреблять представителей Царского режима». О., по душе его, никогда не был в сущности плохим человеком, был даже добрый товарищ; для того, чтобы пожелать крови, он несомненно, одурманенный первым в жизни случаем, когда не он просил о месте, а его просили служить, потерял голову, вышел из душевного равновесия — это был уже полубезумец. Не знаю, проливал ли он и много ли крови, но что он в его состоянии хронического завистливого озлобления мог оказаться способным на это, я лично не сомневаюсь. Какое обоснование причин большевизма могли бы давать хорошо обучаемые и подобранные типы подобные О.И.
Абсолютно нечестные или слишком корыстолюбивые люди, в рода «сменовеховцев» — те, конечно, подыскивали разные доводы и примеры в защиту большевизма. Им естественно не приходится говорить об основных проблемах коммунизма; это было бы смешно только; они подбирают тщательно осколочки этих проблем. Например, излюбленным их мотивом в беседах со мною, было указание на достигнутое революцией изменение в отношениях интеллигенции к простонародью, в частности к прислуге. Это было, действительно, наше слабое место: «тыканье», вообще часто какое-то презрительное обращение с ресторанной и домашней прислугой, лишение последней отпусков и т. п. были при старом строе довольно распространенным явлением, особенно в высшем обществе и полуинтеллигентных мещанских семьях. На это неприятное явление в нашей офицерской среде обращал внимание еще биограф-переводчик Лермонтова — Боденштедт, изумляясь, что даже наш великий поэт придерживался в этом отношении общих грубых приемов при разговоре с ресторанными лакеями. Но кто наблюдал жизнь прислуги в наших столицах за последние десятилетия, тот не мог не замечать эволюции в деле улучшения условий их жизни; там образовывались союзы, общества, клубы; наши горничные имели возможность раз в неделю посещать танцевальные вечера; наша гвардейская молодежь обращалась к лакеям уже не в духе старого барства; в деревнях редко приходилось наблюдать со стороны действительно интеллигентных помещиков следы крепостнических замашек в манере говорить и вообще держать себя с крестьянином. Сама жизнь постепенно без потрясений уничтожала ненужную грубость во взаимных отношениях людей. Во всяком случае, образованием профессиональных союзов, различных обществ защиты прав трудящихся в той или иной области, наконец, церковными проповедями, просто распространением среди нашей буржуазии чтения Евангелия, вообще рядом культурных бескровных мер всегда можно было бы с успехом достигнуть того уважения к личности человека, на которое претендуют революционные деятели. То же, чего достигли в этой области собственно большевики потрясением всех основ гражданской жизни опять-таки свелось лишь к форме, к бумаге. Прислуга, шоферы, извозчики, кондуктора стали грубы со всеми, но не добились вежливого обращения с собою; всюду слышится слово «товарищ» и ему сопутствует ряд обычных площадных ругательств. Чиновничество большевиков прославилось своим хамством в такой мере, что даже «Киевские советские известия» писали, конечно, безуспешно о необходимости унять «совбуров» и «совбар», т. е. советских буржуев и барышень. На собраниях домашней прислуги ее всячески развращали; ей рекомендовалось подслушивать о чем разговаривают «господа», ни за что не быть им благодарными, а ненавидеть их и т. д. Наименее устойчивые и честные из прислуги делали доносчиками, наживались на предательстве или лжи. Масса же прислуги, к изумлению большевиков, подобно крестьянам, оказалась в стане их врагов. Большевизм лишил, в конце-концов, эту массу приличного заработка, закрыв рестораны, запугав и разогнав буржуазию. Знаменитая психопатка Коллонтай выступала при мне в Киеве на митинге прислуги и говорила о том, как последняя должна относиться к ее врагам-нанимателям и какие права (музыка, танцы, театр и т. д.) отвоевала революция для кухарок, горничных и т. п., а последние или смеялись громко по поводу сумасшедших речей этой защитницы их прав, или хором кричали: «верни нам наши места».
Итак, мне лично, кроме того, что «революция — не менует», кроме голословных заявлений, что все-таки народу будет лучше, что кончилось высокомерное обращение с простыми людьми, ни разу не пришлось выслушать ни одного веского слова в защиту системы большевиков; ни разу и нигде я не видел сколько-нибудь положительных плодов их творчества. Склонен объяснить это я, помимо неприемлемости жизнью самой теории коммунизма, еще и наличностью в исполнительных органах большевизма массы евреев, т. е. элемента, по моему глубокому убеждению, основанному на продолжительных наблюдениях, абсолютно неспособного к какой-либо созидательной работе, вообще ни к чему, требующему здорового таланта, ума или воли, эта нация как бы создана только для посредничества (торговли) и репродукции чужих произведений (музыканты-исполнители); творческо-организационная работа ей совершенно не по силам; у еврейства никогда не будет своего государства. В нашей усадьбе жилось мирно до расквартирования в ней какой-то воинской части во главе с приличным старорежимным полковником; последнего окружали однако различные «товарищи», между прочим, какой-то полуинтеллигентный тип, гордо носивший университетский значок, несмотря на отмену советскими властями всех прежних знаков отличия.
При «офицерах» состояли, как всегда «советские барышни», под видом переписчиц и канцеляристок. По словам дворника, который не выходил из офицерской канцелярии иначе, как плюнув с выразительной брезгливостью на пороге дома, эти «барышни» обычно проводили время, сидя на коленях у офицеров. На столах их комнат виднелись всегда громадные букеты цветов, коробки конфект [так в тексте], различные закуски. Несмотря на сильную уже дороговизну продуктов «барышни» бросали иногда собакам 3. по фунту чайной колбасы; она стоила тогда несколько сот рублей за фунт; это не могло не возмущать прислугу, и даже младший дворник — молодой парень, быстро по своей хулиганской манере подружившийся с офицерами, и тот радостно прислушивался к возобновлявшейся канонаде и шептал мне: «никак опять гром, верно к перемене погоды». Радовался он также весьма искренно, впрочем, как и все мы, начиная от квартирантов и кончая прислугой, когда офицеры «на всякий случай», как говорили они, изучали заборы, колодцы и всякие строения в усадьбе «на предмет обеспечения себе способа срочно скрыться». Это нас обнадеживало в непрочности положения большевиков.
При «офицерах» мне стало труднее, не навлекая на себя подозрений, разгуливать без дела по усадьбе. Надежда на скорое исчезновение большевиков меня оставила. Слишком сильно было разочарование, когда подошедшие под самый Киев петлюровцы были отброшены и на «фронте» установилась тишина; разочарование было тем сильнее, что в эти дни приходили ко мне друзья, строили планы, как, в каком направлении уезжать во время переполоха в городе, просили меня подождать два, три дня, так как комиссары, мол, сидят уже в вагонах. Долго после этого по вечерам выходил я во двор прислушиваться к пушкам, и все не верилось, что они замолкли совершенно. После этого произошло одно обстоятельство, которое окончательно укрепило меня и в ранее возникавшем иногда намерении выбраться из Киева.
Хозяин усадьбы пригласил семью 3., а с нею и меня, на блины; я давно не был в такой сытной, уютной обстановке, которую предъявляла из себя столовая гостеприимного хозяина; блины, икра, вино заставили меня на время забыть о моем подпольном житии. Во время оживленного разговора, хозяйка дома сказала, обращаясь ко мне: «а я ведь до сих пор не знаю вашего имени отчества». Машинально я назвал свое настоящее имя; среди 3. произошло замешательство, и жена 3. настолько растерялась, что взволнованно проговорила: «нет, нет, вы ошиблись; вас зовут не так», и назвала мое подложное имя и отчество. Я объяснил, что под влиянием давно не виданного обеда, я перепутал даже свое имя отчество. Объяснение было достаточно наивно, и хозяин дома, сидевшая со мною рядом, хитрыми, еврейскими глазами вскользь посмотрел на меня. На другой день, по какой-то странной случайности, именно когда я стоял в саду усадьбы с ее хозяином, к нам издали стал присматриваться какой-то господин и вдруг громко крикнул: «Владимир Федорович, вы ли это; какими судьбами вы здесь?» Я еле удержался от смеха, когда увидел выражение лица хозяина, на нем отражалось и неподдельное изумление, и желание показать, что он ничего не заметил; я совершенно спокойно ответил подошедшему к нам господину, оказавшимся знакомым присяжным поверенным, что он ошибается, что мы не знакомы; тот с нескрываемым изумлением, отошел от нас, но беседа моя с хозяином, конечно, не возобновилась. В тот же день мне удалось переговорить с присяжным поверенным: я посвятил его в свое положение и узнал от него, что кое-кто из нашей усадьбы знает уже о моей службе при гетмане. Ясно было, что дальше оставаться здесь было для меня не безопасно. Я решил уехать заграницу — в Берлин, где находились некоторые мои знакомые. В то время поляки подступали к Минску; попасть во время в этот город и быть, таким образом, отрезанным от большевиков, являлось для меня первой задачей. Затруднение заключалось в моем безденежье: у меня оставалось всего несколько тысяч рублей. Мне приходилось жить, продавая через знакомых кое-что из одежды, которая хранилась у них. Ценилась простая одежда чрезвычайно высоко; например, за парусиновую гимнастерку, купленную мною в 1915 году в Люблине за 35 рублей, я выручил — 800, больше чем за штатский и мундирный фраки, за которые никто не давал больше, чем по 300 рублей. Форменный фрак мой купила на базаре какой-то хохол; весь базар гомерически хохотал, когда хохол в широкой соломенной шляпе и бесконечных шароварах оказался наряженным во фрак с золотыми, украшенными двуглавым орлом, пуговицами, но он совершенно хладнокровно объявил: «ни, це добро» и пошел с базара показаться в новом наряде своим односельчанам.
После разных хождений по советским учреждениям моих друзей с моим паспортом, я получил документ на право поездки по семейным делам в северо-западные губернии и в апреле 1919 года отбыл в «Берлин». Мой финансовый расчет был построен на том, что до занятия поляками Минска пройдет не более двух недель, а затем на переезде в Берлин я получу субсидию от какого-либо из своих заграничных знакомых. Хотя эта попытка эмигрировать оказалась безуспешною и ничего мне не дала кроме некоторых неприятных переживаний, но возможно, что она спасла меня от смерти в чрезвычайке, так как после моего отъезда, подобно тому, как было и с первой моей квартирой у С., усадьба, в которой проживал 3., подверглась неоднократному нашествию агентов чрезвычайки, приведшему к гибели бедного 3. Перед казнью он успел прислать своей жене обручальное кольцо, как знак предстоящей его смерти.
На вокзале, на котором я не был более года, происходило какое-то вавилонское столпотворение, от которого я, привыкнув к затворнической жизни, почти потерял голову; шел машинально со своими двумя узлами туда, куда тащила меня за собой грязная, ругающаяся площадной бранью, толпа. В ожидании поезда в течении более часа я сидел на платформе с каким-то старым евреем; моя всклокоченная, ни разу не стриженная борода, с пейсами под ушами сблизила меня с этим евреем; он хватал меня за колено и непрерывно патетически что-то рассказывал мне на жаргоне с интонацией, которая указывала, что он ждет одобрения сказанному; он, видимо, поносил современные железнодорожные порядки. Я по временам, кивая головой, вставлял в его речи «о», и он после этого впадал в полный восторг и еще более усиливал свои ламентации. Для меня это собеседование было, конечно, весьма кстати, так как освобождало меня от какой бы то ни было опасности быть узнанным кем-нибудь из «краснокрестных товарищей». Когда подошел поезд, большинство вагонов, как мне потом приходилось наблюдать постоянно на «советских» железных дорогах, оказалось запертыми: они предназначались исключительно для власть имущих. Для публики имелось всего два вагона, и толпа с диким гамом и толкотней бросалась к их дверям, окнам и на крышу; тотчас же начиналась стрельба красноармейцев, чтобы заставить пассажиров очистить крыши. Если бы в старое, даже военное, время не целый поезд, а хотя бы половина его отводилась различным сановникам, воображаю силу общественного гнева и крика печати по этому поводу. Почему-то, наблюдая картину новых железнодорожных порядков, я вспомнил сценку на станции Киверцы, откуда идут по узкой колее поезда на Луцк. Здесь приходилось ожидать поезд ночью несколько часов; публика обычно нервничала и осуждала железнодорожные порядки; говорилось, конечно, обычное: «это только в России возможно». Поляк-помещик и французик комиссионер изумлялись долгому ожиданию, и первый, выражая на своем лице полное презрение ко всему окружающему, ко всему русскому, прогнусавил: «chez eux се n'est pas la tabatiere, qui sert le nez…»[5]. Француз чрезвычайно обрадовался, хохотал, кивал головой, признавая, видимо, что при «царизме» не может быть хороших железных дорог, не зная, или забывая, что его соотечественники за 250 рублей в одиннадцать дней совершали поездки от Парижа до Тихого океана с удобствами, о которых не могли раньше и мечтать, что всю Европейскую Россию — от Одессы до Петербурга можно было проехать, имея спальное место, за каких-нибудь 15–20 рублей. Сожалея, что сейчас со мной нет этих двух европейских критиков, чтобы они могли на себе испытать удобство «табакерки» после падения Царского режима, я, без всякого участия своей воли, считая, что мне в поезд не попасть, как-то бессознательно, толкаемый в спину провожавшим меня приятелем, упустив в толпе свой узел, очутился в вагоне и первое время даже не верил тому, что я не на платформе. Потеря части багажа была для меня весьма чувствительна; другой узел мне подали в окно. Под шум, выстрелы, вопли оставшихся на платформе, поезд тронулся. Я думал, что расстаюсь с Киевом, если не навсегда, то на много лет; жадно всматривался в его церкви, в родные места за Днепром, где среди холмов была колокольня Китаевского монастыря и близ нее скрывалась в зелени наша дача; там жила моя старая мать, с которой мне нельзя было проститься, чтобы не навлечь на нее мести безумцев; уже в изгнании я узнал об одинокой ее смерти в 1922 году от сыпного тифа.
В целях предоставления пассажирам возможно больших неудобств в пути и чтобы таким путем, очевидно, отучить их от езды по железным дорогам, большевики выдавали билеты только на небольшие расстояния; поэтому от Киева до Минска мне не выдали билета, а разъяснили, что в Нежине я должен взять билет Бахмача, там выдали билеты до Гомеля, отсюда до Минска. Таким образом, на коротком сравнительно расстоянии требовалось выходить из поезда три раза, становиться в длиннейшую очередь и наново брать приступом вагон, так как на каждой станции толпились пассажиры в ожидании редкого поезда. В Нежине я решил подчиниться существующим правилам, отправился к кассе, но увидел у нее такое скопище людей, что понял полную невозможность получить билет ранее отхода моего поезда и совершал дальнейший свой путь, как и большая часть пассажиров, «зайцем», т. е. бесплатно. Когда я входил в вагон, в дверях отделения, где было мое место и вещи, стоял грузный, широкоплечий, рыжий кондуктор с тупой физиономией. Он загораживал весь проход; я попросил разрешение пройти, он не двигался с места и ничего не отвечал; после повторных моих просьб он обернулся ко мне, невероятно злобно осмотрел меня всего (я продолжал носить воротничек и галстук, так как во всяком товарищеском костюме я имел вид переодетого «буржуя») после злобного осмотра кондуктор закричал: «вон отсюда». Никакие мои попытки показать документ, ни объяснения не приводили ни к чему. Кондуктор настаивал, без всяких объяснений, на моем удалении из вагона. Очевидно, он органически не выносил интеллигентных лиц. В отделении, в котором я ехал, сидел член Киевского Совдепа типа старого подпольного социалистического деятеля; ему, видимо, была не по душе происходящая сцена, но даже он, высший «чин» советской власти, не решался прекратить произвол кондуктора. Не решались попросить за меня и офицеры красной армии, занимавшие служебное отделение, с которыми я познакомился случайно, в поисках на всякий случай моего потерянного узла с вещами; к моему изумлению и радости, он действительно оказался у них под скамейкой: они подобрали мой узел при входе в вагон. Я по поводу находки угостил их закусками и вином. Это были чрезвычайно циничные, но в общем добродушные молодые люди. Такова сила хама в большевистском раю, что никто пикнуть не смеет, когда разойдется хам. Я запротестовал, что у меня в вагоне багаж. Хам разрешил его забрать, с тем только, чтобы я немедленно убирался вон. Я пошел за багажом и сел с ним на полу, скрывшись таким образом от преследований озверевшего кондуктора. Он бегло оглядел всех пассажиров, и решив, что я исчез, с грубым довольным смехом обратился к офицерам: «ловко выставил буржуя»; те одобрительно и подобострастно смеялись. Хам разместился в их отделении, пришел туда же другой кондуктор, они чего-то выпивали и в открытую дверь мне были слышны все их разговоры. Я не представлял себе, что тупость и цинизм людей могут достигать таких пределов, как после сумбурной обработки малоразвитой человеческой души учением большевиков. Этот самый хам, радовавшийся возможности унизить «буржуя», т. е. в его представлении дармоеда, до глубокой ночи рассказывал своему товарищу по службе и офицерам, под их одобрительные возгласы, как, когда и где ему удавалось обокрасть казну; неожиданно совершенно он закончил свои повествования похвалой старому режиму, когда красть можно было меньше, а жилось лучше: «да, от одних свечных огарков был хороший доходец, а теперь вот ездим в темноте», доносилось до меня сквозь одолевший уже меня сон. Ни одной хорошей мысли, ни одного слова о родине, о народе — все только о личной наживе. И такие разговоры преследовали меня весь путь, когда в вагоне попадались горожане — кондуктора, шоферы, разные мещане. Ясно чувствовалось, что имеешь дело с людьми, души которых, еще раньше испорченные легким налетом городской культуры, сгнили окончательно под влиянием большевизма. Это самый опасный, самый зловредный тип адептов большевизма. Будущим устроителям России, если они пожелают оздоровить атмосферу русской городской жизни, потребуется, отбросив всякий сентиментализм, поступить с этими отбросами человечества, как с сорной травой; чтобы пресечь распространение заразы, надо иметь силу воли пожертвовать сразу же, по крайней мере, несколькими десятками тысяч жителей. Остатки уцелевших хамов тогда стушуются, не будут страшны в смысле распространения заразы. Совсем иные впечатления я получал, попадая в вагоны с сельскими обывателями; так, например, я ехал от Бахмача до Гомеля среди мешочников и мешочниц. Здесь тоже преобладали эгоистические интересы, но обыкновенные, здоровые, не извращенные, а просто хозяйственные. Разговор пересыпался не бессмысленной площадной руганью, а меткими, часто полными юмора остротами. Мой галстук и воротничек не привлекали к себе никакого внимания; большинство величало меня, за мою почтенную бороду, «отец». Более пожилые крестьяне заговаривали со мною, таинственно, шепотом расспрашивали о Колчаке, вздыхали и проклинали большевиков. «Эх, нельзя по душам поговорить», сказал мне один псковский мужик, ездивший на юг за солью, и показал глазами на еврея с звездой на груди. Таких генералов от коммунизма за свое недельное странствие в вагонах третьего класса и теплушках я встречал довольно много. Они старались обычно подражать манерам настоящих генералов. Это им удавалось в такой же степени, как среднему артисту-еврею удается в комедии или водевиле дать тип русского генерала; похоже, но утрировано; шарж, а не правда; под генеральским мундиром легко разгадывается еврей со всеми его смешными для русских особенностями. Комиссар со звездой, на которого мне показал псковитянин, особенно ярко запечатлелся в моей памяти. Он смеялся слегка в нос с деланной небрежностью; говоря что-нибудь сопровождавшим его товарищам и молоденькой еврейке, он не делал оживленных еврейских жестов, а коротким взмахом руки в воздухе, как бы ставил точки в конце своих фраз, подчеркивая, что возражать ему было бы неуместно. Он действительно напоминал наших старорежимных военных начальников, у которых привычка к власти, командованию и требованиям дисциплины вырабатывала особую решительную манеру говорить, смеяться, ходить, естественно, а не искусственно, проникала постепенно во все их существо. С течением многих лет власти, возможно, что и этот еврей, и многие другие еврейские генералы сделались бы естественны, сейчас же они были только смешны, а когда вспоминалось, что ничего от старого режима, кроме «генералина», ни знаний, ни опыта, ни организационных способностей, ни простой честности они не взяли, то становилось, конечно, противно смотреть на этих ломающихся людей. На иных, в выражении их лиц, ясно были видны следы бессмысленно пролитой и проливаемой ими крови; от таких, после нескольких минут наблюдения, приходилось отворачиваться; слишком уж большое отвращение они возбуждали, ехавшие со мною мужики и бабы никакого внимания на генералов не обращали; они заняты были своими разговорами на злобу дня, где выбрасывать мешки, чтобы не попасть под облаву. От них я узнал, что 50 процентов провозимого всегда обрекается на гибель, для дачи взяток и в виду грабежей. Только когда «генерал» вынимал или покупал какую-либо особенно редкую, дорогую закуску, на него устремлялось две-три пары злых глаз на минуту-две. Из всей крестьянской массы пассажиров нашей теплушки выделялась девушка-мещанка лет шестнадцати на вид; широкоскулая, с маленькими круглыми беловато-серыми глазками, с носиком в виде небольшой засаленной пуговки, с тощими рыженькими косичками, какая-то вся грязная, с грубо-пискливым голосом, она была отвратительна вообще, в особенности же неуловимыми чертами чисто животной жестокости, какой-то преступности. Такие типы тянутся к большевикам совершенно инстинктивно, вероятно, по сродству душ. Увидя в руках «генерала» торт, девушка села у ног еврейской компании, помещавшейся на досчатой перекладине и начала всячески развлекать «господ». Она им пела отчаянным фальшивым голоском белорусские песни, рассказывала грязные анекдоты, показывала карточку своего жениха и т. п. «Генерал» был очень доволен «такой общительностью народа» и по временам бросал сверху грязной девушке кусочки торта. Она подобострастно смотрела на еврейку — подругу или сестру «генерала», восхищалась открыто ее красотой, и та, под влиянием лести, закатывала свои выпуклые глаза и тоже поощряла пение и рассказы ее поклонницы. Крестьяне посматривали на девку с нескрываемым отвращением, а одна старуха прошептала мне со страшной злобой: «я знаю эту дрянь; служила в Лунинце у хороших господ одной прислугой; молодые были муж офицер; сама подлая, когда они скрывались от большевиков, разыскала их и за деньги привела большевиков; при ней их и расстреляли». В маленькой сценке в нашей теплушке, в этом дружеском слиянии еврейского генеральства с русской преступностью, выявилась для меня вся подлинная сущность большевизма.
Приходится ли удивляться, что большевизм сравнительно так продолжителен в России. Разве не мощная сила получается от соединения безмерной жестокости с такой же преступностью, стоящей на уровне физического и нравственного вырождения или просто безумия. Меня перестало изумлять, что при «генералах», да и просто на всякий случай, все откровенные разговоры по поводу существующих порядков велись шепотом; ведь за всякое неосторожное слово можно было легко угодить в чрезвычайку, хотя бы для того, чтобы ее агенты, как это было весьма распространено, могли бы получить откуп. Ведь в Киеве даже за похвалы таланту Фигнера, после его скоропостижной смерти, советская пресса угрожала карами; она боялась, как бы «Царскому певцу» друзья и поклонники не поставили памятника на могиле. Громко, нагло говорилось только о том, что было в духе правящих властей. Я помню, как толстая, откормленная мещанка с высоты своих подушек и многочисленного багажа провозглашала на весь вагон, пристально смотря на мой галстук и явно провоцируя меня на возражения: «только бы этого проклятого пса Колчака поскорее бы наши разделали». Ни одного сочувствующего голоса не раздалось в вагоне, никто ее не поддержал, а «интеллигент» семинарского вида и акцента, вероятно бывший сельский учитель, чтобы вовлечь меня в разговор на другую тему, обратился ко мне с жалобами на дурной воздух в теплушке: «казалось бы, говорил он, необходимым в подобных путешествиях иметь с собою, как на фронте, противогазовые маски, ибо здешние газовые атаки не уступают по силе германским».
Страх быть в чем-то заподозренным и обвиненным заставлял людей бояться даже тогда, когда ясно было, что к ним нельзя придраться. Например, на одной из станций в нашу теплушку пробрался какой-то еврейчик — довольно комичный балагур; не нем была странная смесь военной одежды со штатской; по его словам, он возвращался из австрийского плена через Киев. Увидев еврейский генералитет с различными закусками, он тотчас же начал занимать его различными прибаутками, за что ему перепадали какие-то кусочки. Комиссар начал его расспрашивать, как и откуда он едет; вдруг неожиданно задал вопрос: «ну, а по какому же документу ты живешь?» Тот вынул какую-то бумажку, комиссар бегло ее пробежал, встал, пристально посмотрел на еврейчика и строго протянул: «вот как, гетманская печать; не дурно; попался!» Еврейчик стал бледен, как стена, начал что-то скороговоркой болтать в свое оправдание, но комиссар величественно-добродушно рассмеялся, похлопал его покровительственно-добродушно по плечу и дал совет поскорее заменить документ; однако, вероятно из предосторожности, еврейчик исчез все-таки при ближайшей остановке поезда. Кто знает, чем бы кончилась эта история с гетманским документом, если бы он бел предъявлен не единоплеменником комиссара.
Как запуганы люди в большевистском раю, я мог убедиться очень ярко при случайной встрече в пути с одним симпатичным господином, с которым я, несомненно, встречался ранее, вероятно в Управлении Красного Креста Западного фронта. Мы с ним разговорились, внушили взаимное доверие, узнали, что оба едем в Минск и решили от Гомеля ехать вместе, чтобы помочь друг другу занять места и втащить багаж. Но меня так мучила мысль, что мы где-то встречались ранее, что я не выдержал и начал осторожно наводить разговор наш на время войны: в конце концов, я задал вопрос, не работал ли когда-нибудь мой попутчик в Земском союзе. Я рассчитывал, что он ответит: «нет, я служил в Красном Кресте», и тогда я буду уверенно знать, с кем я имею дело. Услышав мой вопрос, знакомый незнакомец слегка смутился, отрывисто сказал: «нет, нет», и с этих пор начал явно меня избегать. На вокзале в Гомеле, когда я его разыскал и спросил, каким поездом мы едем в Минск, он пробормотал: «простите, я очень занят», и через несколько минут я видел, что как он вскочил в теплушку поезда, шедшего в обратном от Минска направлении. Мне было очень досадно, что я так легкомысленно напугал человека, явно преследовавшего те же цели, что и я спастись от большевиков, а вместе с тем и противно, до какой степени трусливой забитости и взаимного недоверия могли дойти русские люди.
В Гомеле я пытался выпить чаю, но длинная очередь у единственной оловянной ложечки, привязанной на бечевке у самовара, которой все размешивали сахар, отбила у меня охоту пить чай; с трудом я достал себе за 20 рублей (тогда это были большие деньги) тарелку зеленых пустых щей и с жадностью, без хлеба, стоя у бывшего закусочного стола проглотил их в несколько секунд. На вокзале я узнал неприятные новости, что пассажирских поездов на Минск нет, что туда отправляют только войска, что там идут многочисленные аресты польских помещиков, съехавшихся из всего северо-западного края в ожидании занятия города польской армией. Я решил выждать событий в Гомеле, расспросить местных евреев о положении дел. Найдя себе комнату за баснословно дорогую цену (кажется сто рублей в день, включая кувшин молока и освещение) в одной тихой и симпатичной еврейской семье, я, с сознанием большей, чем в Киеве свободы, отправился бродить по городу; вид его был весьма уныл вследствие разоренных, забитых магазинов, гостиниц и проч. Для публики имелась только одна, очень дорогая, столовая; громадный же штат служащих имел отдельную, более дешевую, столовую; попасть в нее обыкновенному смертному нельзя было. Такое положение обеспечивало агентам чрезвычайки следить за всеми вновь прибывшими, которые волей-неволей должны были появляться в единственной столовой города. Я об этом не подумал и сразу же нарвался на преследование, заставившее меня бежать из Гомеля. Старые евреи мне уже успели много рассказать об ужасах местной чрезвычайки, между прочим и тот еврей, который горячо мне что-то рассказывал на Киевском вокзале. Невероятно был потрясен он, когда при радостном приветствии его меня на улице, я вынужден был объявить ему, что ни одного слова из еврейского жаргона, кроме «ё» и «вусь» я не знаю и не понимаю. Старое еврейство, поскольку мне приходилось наблюдать его в течении двух дней, ненавидело большевиков и понимало, к каким последствиям приведет в конце-концов работа еврейской молодежи в качестве различных комиссаров и т. п. Запуганы евреи были до последней степени. Я как-то зашел в один дом, где собрались виленские евреи, неожиданно застрявшие в Гомеле, вследствие занятия Вильна поляками; мне интересно было расспросить о условиях пути из Минска в Вильно. В разгар нашей беседы мы увидели в окно комнаты какую-то военную фигуру; разговор замолк, когда в столовой раздался стук сапог. В комнату вошел юноша во френче; он интересовался, нельзя ли в квартире реквизировать одну комнату под амбулаторию. Все мои собеседники, при входе юноши в военной форме, немедленно вскочили и стояли на вытяжку все время, пока он оставался в нашей комнате. Старший еврей несколько раз умоляюще посмотрел на меня, всей своей фигурой и взглядом выражая мольбу ко мне не предавать их и себя и встать. Когда юноше исчез, бедные евреи увидели во мне, очевидно какого-то героя, который очень рисковал только что, и старший из них горячо и даже как-то заискивающе пожал мне руку, а затем при уличных встречах особенно низко раскланивался со мной. Когда вспоминаются мною эти бедные запуганные люди, я не могу отделаться от печальной мысли об их судьбе: неужели русские люди не сумеют ввести свой справедливый гнев против еврейских комиссаров в справедливые границы?
Мой «провал» в Гомеле произошел при таких обстоятельствах. На следующий день моего приезда сюда было воскресенье; пол года я не был в церкви и обрадовался возможности пойти, без страха встретить знакомых, в соборе. По дороге, проходя мимо какого-то большого дома, я заметил группу лиц и спросил у них, как пройти к собору; один из них, как мне показалось на чисто русском языке ответил: «мы Богу не молимся», на что я мимоходом возразил: «А я человек старых правил» и услышал уже в спину сказанные мне слова: «и прежде не все посещали церкви». Этой встрече и этому разговору я, понятно, не придал никакого значения, так как постоянно забывал, что живу среди сумасшедших, а не здоровых людей.
Простояв архиерейское служение, какое-то тоже запуганное, мало торжественное и безлюдное (тогда еще многие боялись, вероятно, ходить в церковь), я отправился обедать. Только что я сел за столик в убогой обстановке общественной столовой, как в нее вошел мой утренний собеседник. С противной плотоядной улыбочкой, по которой я теперь уже сразу узнал в этом маленьком человеке, в общем хорошо владевшем русским языком, еврея, он вежливо попросил разрешения подсесть за мой стол. И тут начался форменный допрос меня: откуда приехал, про каким делам, где остановился и т. п. Я сначала отвечал, полагая, что это любопытный еврейчик, но потом его назойливость меня взорвала, и я резко заметил ему, что он задает мне вопросы так, как будто производит официальный допрос, что мне скрывать о себе нечего, но что я могу потребовать от него документов, дающих ему право допрашивать. Еврейчик с полной, но гаденькой любезностью начал вынимать какие-то бумаги и объявил, что он председатель местной следственной комиссии. В это время, сидевший за другим столиком офицер красной армии, неожиданно вспылив, начал упрекать комиссара в том, что он никому не дает спокойно пообедать, вчера приставал к приезжей даме, сегодня ко мне. Тут воочию пришлось мне впервые столкнуться с одним из представителей безумного большевистского садизма: маленькие глазки комиссара приняли какое-то непередаваемо хищное выражение; таких глаз, соединявших в себе явные признаки сумасшествия и кровожадности, мне еще не приходилось видеть. Он змеиным шепотом сказал офицеру, делая ударение на первом слове: «Господин офицер, вашей братии прошло через мои руки очень много; берегитесь и не вмешивайтесь не в ваше дело». Офицер поспешил уйти из столовой. Комиссар записал мой адрес; чтобы не повредить себе, я назвал точно улицу и квартиру, где остановился. В тот же день меня ждала другая большая неудача, из достоверных источников я узнал, что поляки ушли из Минска и там свирепствует террор. Ехать туда с моими скудными средствами, не зная не придется ли проживать там несколько месяцев, было рискованно; оставаться без дела в Гомеле, где все были на виду и где я уже обратил на себя внимание следователя, было не менее рискованно. Не оставалось другого выхода, как вернуться в Киев, где у меня были, по крайней мере, друзья и знакомые.
Ночь я провел крайне тревожно. Мне казалось, что еврей непременно пожелает произвести у меня обыск. Всю ночь я просыпался от малейшего шума на улице или во дворе. Мысль быть арестованным в чужом городе, где некому было даже узнать о моей судьбе, чрезвычайно угнетала. Утром я немедленно отправился на городскую станцию за билетом, но к большому моему огорчению, билета на Бахмач мне не выдали, хотя в моем путевом удостоверении и было указано право возвращения в Киев. Как ни неприятно было, но пришлось отправиться за разрешением в местную железнодорожную чрезвычайку. Потом я был доволен, что лично побывал в одном из типичных учреждений большевиков, от которого зависело главнейшее право граждан — передвигаться в пределах своей страны, и, таким образом, получил возможность лично судить, до каких пределов доходит творческое бессилие и тупость новой российской администрации.
Вокруг чрезвычайки стояла, сидела, лежала толпа народа, преимущественно крестьян. Некоторые, по их словам, дежурили уже в очереди второй день, тут же провели и ночь. Среди крестьян были такие, которым нужно было переехать из одного уезда в другой — сделать при старых порядках полчаса пути; они не ехали, а ожидали только права на то, чтобы поехать, по двое суток. При мне пришел какой-то поезд из Минска; на нем ехали какие-то ученицы или курсистки на какой-то съезд или курсы; не помню подробностей, но помню только, что у всех них были официальные «срочные» пропуска, что их поезд отходил через час, а швейцар чрезвычайки категорически отказался пропустить их вне очереди, и, несмотря на упреки их, что они пропускают поезд, что им негде ночевать, упорно твердил: «ну, поедете завтра, послезавтра». Были такие, которые плакали; может быть у них умирали близкие люди, рушилось какое-нибудь дело, — чрезвычайке, этому учреждению враждебному людям, все это было в высшей степени безразлично. Сколько ненависти было в крестьянских вздохах на площади вокзала — передать трудно. Я ни малейшего желания не имел ночевать на улице и направился к швейцару, большому, надменному. По типу это был старый фельдфебель или старший железнодорожный жандарм. Над ним висело объявление; «Все советские служащие должны обращаться с посетителями вежливо». Кажется, лучшей насмешки над советской бумажностью, заменявшей живую действительность, трудно было себе представить, так как то, что произошло на моих глазах, даже меня, допускающего у большевиков всевозможные чудачества, поразило своей неожиданностью. Передо мною подошел к швейцару какой-то еврейчик и начал: «товагыщь», он успел выговорить только одно это слово. Я увидел, как сильная рука швейцара подняла еврейчика в воздух, раскачала его и, дав ему тумак в шею, при одновременном пинке в место несколько ниже поясницы, сообщила ему летательное движение такой силы, что несчастный проситель пролетел над лестницей и над частью площадки, не прикасаясь ногами к земле; в воздухе раздавались его слова: «товагыщь, товагыщь, ну что же ви такое изделали». С равнодушным презрением и выражением даже какой-то гадливости на лице продолжал величественно стоять швейцар у дверей чрезвычайки. Я подошел к нему и властно спокойным тоном сказал ему, что мне надо получить срочный пропуск в виду спешных дел; он внимательно посмотрел на меня, на лицо, воротничек, галстух и, открывая дверь, сказал: «пожалуйте». В глазах его мелькнуло что-то такое, что и в молчании объединяет людей и заставляет их понимать друг друга: мы оба ненавидели «товарищей» одинаково. Ненависть и в крестьянстве, ожидающем на площади пропусков, ненависть и у первого в дверях чрезвычайки служащего; только вынужденный авиатор-еврейчик не догадался какая накопляется и здесь и у каждого большевистского учреждения гроза и наивным искренним криком вопрошал: «товагыщь, что вы делаете?»
Какая-то девица легко поставила на моем документе разрешительный штамп и я снова отправился на городскую станцию. Кассир любезно, увидя штамп чрезвычайки, сказал: «вот теперь вам, вероятно, можно выдать билет», и начал внимательно рассматривать какой-то список с фамилиями, водя по каждой строчке пальцем. Я вспомнил про рассказы гомельских евреев, что бывают случаи, когда железнодорожная чрезвычайка дает разрешение, а следователи губернской чека сообщают от себя на станции кого не следует пропускать из города, как лиц подозрительных. У меня тотчас же мелькнула тягостная мысль: что если злой еврей распорядился не выпускать меня из города? Чтобы показать, что меня не волнует список, я спросил кассира, нельзя ли мне получить билет прямо до Киева. «Не знаю», как-то машинально протянул кассир, не отрываясь от чтения списка; затем, положив его, добавил: «подождите-ка минуточку», и пошел вглубь комнаты, к висевшему на стене телефону; по дороге он, улыбаясь шепнул что-то своему помощнику и еле заметным движением головы показал ему на меня. Тот подошел к дверце кассы и, тоже улыбаясь, внимательно посмотрел на меня; мне стало страшно; когда зазвонил телефон, я уже подумывал незаметно удрать со станции; у меня была почти уверенность, что кассир говорит обо мне со следователем. Однако, я пересилил себя и остался, выжидая событий. К радости моей, кассир, не дождавшись ответа по телефону, подал мне билет до Бахмача, сказав, что до Киева выдать мне билет не имеет права. Соображая потом, что же такое произошло, я сообразил, что кассир по телефону хотел справиться именно о том, можно ли продать билет прямого сообщения прямо на Киев, а помощнику своему показал на меня, как на лицо, странствующее с явно подложным документом, в виду полного несоответствия моей внешности с показанной в документе профессией какого-то счетовода. Итак, я едва не стал жертвой излишней моей подозрительности, развившейся во мне под влиянием последних нервных переживаний.
На вокзале мне пришлось до посадки в поезд преодолеть еще одно препятствие. Не рассчитывая на долгое пребывание в Гомеле, я главную часть своего багажа сдал на хранение. Для этого меня направили к какому-то специальному комиссару, оказавшемуся крайне бестолковым еврейчиком. На глупейшие формальные переговоры с ним я потратил около часа; его же согласие требовалось и на обратное получение багажа. Нигде его в станционных залах ни я, ни другие уезжающие пассажиры не могли найти. Руганью и ропотом на власть даже по такому простейшему прежде, мелочному делу, как получение ручного багажа, сопровождались наши поиски комиссара. Попасть в поезд мне опять удалось совершенно случайно, благодаря любезности каких-то солдат, которые впустили меня в их теплушку, прося сесть подальше от входа, чтобы не было видно моего штатского костюма среди воинской части; в обыкновенные поезда и вагоны доступа не было, за исключением нескольких счастливцев, которые вскакивали в вагоны, действуя сильными кулаками.
Обратный путь мой в Киев был значительно медленнее и тяжелее. В Бахмаче, куда мы приехали часов в 12 ночи, нам пришлось простоять под моросившим холодным дождиком на перроне, в грязи выше щиколотки ноги свыше двух часов. Невозможность держать мешки в руках, заставила меня их положить в липкую грязь. Когда нам, наконец, открыли двери, началась совершенно невообразимая давка; всем хотелось обсохнуть и хотя бы ненадолго поспать на полу закрытого помещения. Я не в силах был тащить оба свои мешка в поисках места для ночлега и один из них передал на хранение какому-то на вид солидному и приветливому железнодорожному агенту. Когда утром я пришел за мешком, я по его гаденькой улыбке и бегающим глазам понял, что он меня обокрал; и, действительно, впоследствии я обнаружил пропажу из мешка многих вещей, в том числе сапога на одну ногу. Просторный пассажирский зал станции Бахмач, славившийся некогда своим прекрасным буфетом, представлял из себя громадный дортуар: буквально не было не занятого места; спали не только на скамейках и на полу, но и на буфетной стойке, на карнизах буфетных шкапов и т. д. В буфете, как ночью, так и на другой день, имелся только громадный самовар с жидким кофе без сахара, да неизменная оловянная ложечка на веревочке, привязанная к ушку самовара. Буфетчик был из состава старой вокзальной прислуги; со злобной ненавистью и презрением смотрел он на толпу и был резко груб со всеми, покупавшими кофе. Когда я, в состоянии сильного голода, спросил его на авось, нет ли в буфете какого-нибудь бутерброда, он даже ничего не ответил, только презрительно хмыкнул носом. От соседей по станционному полу я узнал, что некоторые в ожидании мест на поездах на Киев проживают уже здесь около недели, что среди них один пассажир даже умер от какой-то болезни, что питаться можно в харчевне пристанционного поселка, но и там большая очередь. Перспектива долгого сидения или вернее лежания на станции меня весьма смутила. Ночью, как на зло, очевидно под влиянием голода, мне приснился прежний Бахмач: столы с белыми скатертями, чистые лакеи, телячья отбивная котлетка с гарниром на блестящей сковородке.
Проснулся я к пяти часам утра в тяжелом довольно состоянии голода и усталости, под окрики двух матросов: «вставай, товарищ; будем мыть помещение; вставай, вам же потом самим лучше будет». И громадная толпа полусонных зевающих людей, преимущественно, солдат, которые еще недавно, будучи «самыми свободными в мире», избили бы всякого, кто потревожил бы их сон или отдых для какой-то очистки здания, т. е. для «буржуйных затей», покорно поднимались со своих мест и постепенно расходились, таща свой багаж. Я попытался получить разрешение остаться в зале, так как мне тяжело было перетаскивать свои мешки с места на место; сослался я на болезнь ног. «А, ну-ка, встань, отец», добродушно сказал один из матросов, «э, ноги у тебя прямые и ходить ты еще можешь». Когда я все-таки замешкался, рассчитывая остаться в зале незамеченным, матрос уже весьма строгим тоном добавил: «ой, смотри отец, будет плохо». Я понял, что шутить нельзя, и потащил свои мешки на перрон.
Эти матросы, во главе со старшим их товарищем — матросом в очень чистой рубахе, с красивым типично великорусским лицом северянина, были единственным светлым пятном на фоне моих наблюдений за большевистскими порядками. В них сказывалась способность нашего народа к установлению общественного порядка; их было всего человек пять на громадную толпу пассажиров, развращенную при этом безвластием Временного Правительства, и они спокойно, без суеты и бездарной бестолковости еврейских комиссаров, распоряжались этой толпой. При этом в них не было ничего нагло надменного; все пассажиры для них были равны, и мой буржуазный костюм не вызывал в них ни подозрений, ни злобы, обычных для городских мещан хулиганов. Здесь чувствовался уже маленький намек на то, какими путями в дальнейшем пойдет подлинный русский народ, когда сбросит с себя иго безумных утопистов.
Старший матрос, как мне пришлось вскоре убедиться, был беспощадно жесток, но жестокость эта не была чем-то психопатологическим, как например, у гомельского еврея следователя, а вытекала из объективных условий данного времени. На вокзале, во время отхода одного из поездов, поймали двух воров и доставили на расправу к этому матросу, как к комиссару станции. Один вор украл кусок хлеба, другой — золотые часы. Первого матрос отпустил, заявив толпе, что, очевидно, он сделал это от голода. Второго, который во время задержания успел выбросить часы на рельсы и отпирался, хотя был уже известен многим, как профессиональный вор, подвергли порке, под общее одобрение толпы, теснившейся у арестантской комнаты. Как мне передавали, вор умер под ударами розог. Было противно видеть злобные лица некоторых пассажиров, которые по временам приходили сообщать своим знакомым: «уже еле дышит», «уже помирает» и т. д. Но какой все-таки в этой сценке заключался урок для тех, кто отметил, идя на встречу «народной совести», смертную казнь даже на фронте во время кровопролитнейшей войны, кто затем поносил всячески «буржуйные инстинкты» собственности.
Целый день я провел на перроне, пытаясь попасть в какой-нибудь поезд на Киев; но почти у каждого вагона стоял страж, загораживавший вход и грубо заявлявший: «это служебный, частным пассажирам нельзя». Ночью тоже раза два приходилось тащиться с мешками на перрон при звуке звонков и шуме подходящего поезда. Я был уже в отчаянии, когда вдруг на следующий день часа в два раздался крик матроса: «Кто в Киев, поезд на третьем пути». Прямо не верилось ни глазам своим, ни ушам, когда я очутился в грязной теплушке и действительно поезд медленно потянулся на юг. Несмотря на апрель месяц, стало очень холодно, особенно по ночам. Ехавшие с нами солдаты то раскладывали костер прямо на полу теплушки, такой, что боялись порою, как бы не прогорел пол, то, задыхаясь в дыму, предпочитали мерзнуть и ругали тех, кто подал мысль о костре, чтобы часа через два-три снова, под влиянием нестерпимого холода, зажечь его. Тесно было так, что для того, чтобы иногда размять затекавшие ноги, приходилось вставать на несколько минут, опираясь руками на плечи соседей. Конечно, весь я был покрыт вшами и мучительно расчесывал себе тело. В таких условиях я провел много дней, в каком-то полубессознательном, полусонном состоянии. Единственное, что было приятно, это сознание большей личной безопасности, чем в Киеве или Гомеле; нервы мои отдыхали от постоянного ожидания обысков. В Нежине мы застряли на несколько дней; многие из моих попутчиков пересаживались в другие, обгоняющие нас служебные поезда, некоторые предпочли идти пешком. Стало просторнее; я впал в какую-то апатию, почти не покидал нашей теплушки и высыпался. Я так устал, что один факт остался для меня неясным, случился ли он наяву или приснился мне. Отчетливо помню, что к станции подошел санитарный поезд со знакомыми знаками Красного Креста; из него вышел худой врач, с небрежно наброшенной на плечи шинелью военного образца; когда он проходил через толпу солдат, смотря как-то поверх их голов, среди них начался радостный говор: «Ишь, смотри, настоящий Брусилов». Видно было, что время войны вспоминалось ими, как нечто славное и, по сравнению с современностью, хорошее. У меня мелькнула мысль, что в краснокрестном поезде могут находиться опасные для меня «товарищи». Я скрылся в теплушке. Все это было, несомненно, на Яву. Затем я вздремнул и явственно услышал, как кто-то вошел в теплушку, несколько человек, и один из них сказал: «О, да это Романов». Я полуоткрыл глаза и узнал одного из краснокрестных большевиков: решил положиться на судьбу, снова закрыл глаза и заснул. Больше на станции я не встречал этого моего бывшего сослуживца, и так и не узнал, видел ли он меня или все это было плодом нервного утомления.
По дороге от Нежина до Киева меня очень заняли два юноши еврея из типа идеалистов, которые встречаются не так редко в еврейской среде, как это не принято у нас думать; этот тип нашел себе красивое отражение в произведениях Оржешко; он как бы пережиток библейских времен, сохранившейся, чтобы показать до каких пределов низости могут доходить представители одного и того же племени, когда они, отвращаясь от Бога, подпадают под исключительную власть материальных расчетов и классовой борьбы. Мои попутчики служили в отделе пропаганды и были еще так мало опытны, что не видели разницы между коммунизмом и христианством. В сущности они бессознательно проповедовали Евангелие. В свои духовные сети они улавливали очень молодого парня-хохла, который, как выяснилось из разговора, поступил добровольцем в красную армию. Проповедники внушали парню красоту альтруизма, отречения от личного имущества. Парень упорно защищал институт собственности и отрицал прелесть раздачи заработанного своим трудом имущества. «Ну, хорошо», говорил еврейчик, «если у тебя две пары сапог, а у другого ни одной, он бос, неужели ты не отдашь ему лишнюю пару?» Хохол при слове «сапоги» даже слегка обозлился, он, верно, вспомнил, как они теперь дороги и резко ответил: «Ни, не дам». После этого неудачного примера евреи уже никак не могли сбить упрямого хохла с повторяемой им все решительнее фразы: «Ни, сказал не дам и не дам, николи не дам». В виде последнего довода старший проповедник, теряя уже терпение, оттолкнул вдруг своего товарища и радостно воскликнул: «Постой, постой, он меня сейчас поймет». «Ну, вот слушай», обратился он к хохлу, «ты по доброй воле пошел в армию?» «Да». «Значит за коммунизм ты готов даже жизнью своей пожертвовать». «Д-да», как-то уже нерешительно протянул хохол, так как он прекрасно, конечно, знал, что в армию он пошел вовсе не для того, чтобы его убили, а чтобы пограбить и привезти домой, может быть, еще две пары сапог. «Ну, так неужели же тебе сапоги дороже жизни?», торжественно закончил проповедник. Хохол даже вспылил, покраснел весь и уже не сказал, а прикрикнул: «Не дам своих сапог». Еврейчики были очень опечалены своей неудачей.
В Киеве мои путевые мытарства не кончились. С версту пришлось тащить свои мешки до трамвая, так как поезд остановился не у городской станции; в трамвае была ужасающая давка. Когда я подъезжал к месту назначения, я заранее один мешок выбросил в окно трамвая на мостовую; выходя с другим мешком, я тотчас же увидел как из различных дворов в перегонку бросились уже подозрительные типы, чтобы схватить мои вещи. Грабеж стал в городах какой-то привычкой, и я вспомнил о бахмачском матросе, подумав, что только такими приемами удастся, вероятно, первое время искоренять массовую наклонность к чужому, теми приемами, которые хорошо и давно практиковались нашими крестьянами в отношении конокрадов.
Я поселился на тихой окраине города, в районе одного из холмистых кладбищ его. Это был мещанский район. Здесь часто раздавалось пение, пьяная ругань, музыка танцевальных вечеров, шла развратная жизнь, в то время, как по ночам разъезжали автомобили, арестовывали кого попало, расстреливали еженощно десятки и сотни людей. Но, как ни странно, и эта худшая часть населения, умевшая веселиться при всяких условиях, когда я присмотрелся к местным жителям и ознакомился с их настроением, в большинстве ненавидела большевиков и желала перемены власти. Ни бесплатными концертами и балами, ни какими-то пустующими приютами для кормилиц с огромными плакатами-наставлениями о том, как надо кормить грудных детей и т. п., нельзя было купить даже эту беспринципную толпу. Произвол и бездарный формализм власти делали ее ненавистной и мещанам. Они старались сорвать что можно от власти, но потом сами же над ней смеялись и бранили ее. В нашем дворе, например, проживала какая-то веселая, накрашенная и раздушенная мещанка. Она узнала, что комиссариат социального обеспечения раздает пособия и даже пенсии безработным; подала прошение. К хозяйке дома после этого явился какой-то еврейчик, агент названного комиссариата, расспросил о роде занятий просительницы, смущался несколько тем, что «безработная» красится и душится, но дал по делу положительное заключение, в виду подтверждения хозяйкой дома, которая боялась обычной мести, в виде какого-нибудь доноса в чека, что девица бедствует. Последняя получила от казны ежемесячную пенсию впредь до приискания работы и веселилась, что так ловко надула комиссариат.
Двор наш, как и соседние, был полон дезертиров. Один из них не спал по ночам и дежурил. Летние месяцы были разгаром безумства чрезвычайки и повальных обысков целых кварталов. Автомобиль чрезвычайки навестил раза три и наш дом, а на улице нашей его шум был слышан каждую ночь. Как только у ворот происходило что-либо подозрительное, в особенности же, если среди ночи раздавался громкий звонок, все наши дезертиры, кто в двери, а кто и в окна выскакивали во двор и в глубине его рассаживались на деревьях. Одного из таких дезертиров, когда он уже решительно не мог почему-то дольше скрываться, мать с плачем проводила на службу, конечно, в другой части, а не в той из которой он дезертировал; служился молебен; товарищи его долго выпивали с ним по поводу разлуки. Пароход, на котором отправлялся воинский эшелон, должен был уйти в 5 часов утра; вдруг часа в три ночи у наших ворот раздалось пыхтение автомобиля. Хозяйка моей квартиры, женщина слишком добрая и непосредственная, чтобы щадить чужие нервы, по обыкновению своему разбудила меня нервным шепотом: «Молитесь Богу, приехали». Я обычно спал тревожно и сам слышал все происходящее на улице; но это было лучше, чем пробуждение под шепот испуганной женщины. После долгих переговоров у ворот и рассадки наших дезертиров на тополях, выяснилось, что на автомобиле прибыл наш покаявшийся дезертир; он снова бежал и был при этом так нахален, что захватил с собою товарища-шофера вместе с машиной; через день они оба удрали из Киева.
Усиление повальных обысков и отсутствие спокойного сна чрезвычайно утомляли нервы. К этому, вследствие безденежья, начало присоединяться и недоедание; чувство голода особенно сильно было, когда не хватало табаку; в такие дни я против воли засыпал по несколько раз в день там, где сидел. Утром я выпивал стакан чаю-суррогата (морковного или розового) с небольшим куском черного хлеба, фунт которого тогда стоил 150 рублей. Следующий прием пищи — обед был в 5 часов вечера; это был самый голодный промежуток дня; обед обычно состоял из большой тарелки вареного картофеля с поджаренным салом — шкварками. Он был, а может быть казался, чрезвычайно вкусным. Вечером опять чай с хлебом. Раз в неделю я пировал: ел мясо или кисели из ягод. Ложился спать очень рано — часов в девять, так как освещения не было никакого; в столовой иногда зажигалась лампадка у иконы, да раздевался я при свече. Днем читал и занимался с усилиями, но без большого успеха, много часов подряд немецким языком. Большое отвлечение от мрачных мыслей и физическое наслаждение давали прогулки по кладбищу; там было безлюдно, тихо, безопасно. Издали виднелся Китаевский монастырь, и было как-то дико-странно сознавать, что живешь в такое время, когда не имеешь права побывать в родном углу, повидаться с матерью. Блуждая среди могил, я находил по надписям на памятниках старых знакомых и тех, что погибли в смутное время, а еще недавно были со мною на работе. Одним словом, жизнь была в роде тягучего и порою страшного сна; какая-то нереальная. Нужны были большие усилия воли, чтобы не потерять душевного равновесия, особенно тогда, когда после обнадеживающих слухов с фронта, большевики вещали о своих успехах, ходили по городу с музыкой и устраивали празднества. Однако, жизнь в это время, ее прелести, как-то особенно привлекали и ценились, чисто по животному ощущению. Запах цветов, хороших папирос, вид на Днепровские дали и т. д. — все это казалось необыкновенно красивым и нужным. Было ощущение настоящей радости, когда просыпаясь утром, сознавал, что ночь прошла благополучно и до следующей ночи предстоит длинный день, за который можно увидеть много красивого.
С половины июля настроение резко изменилось к лучшему, так как большевики уже не могли скрывать успехов Деникина и Петлюры. Последний месяц моего пребывания в Киеве мне представляется, как непрерывное прислушивание к звукам артиллерии. С утра я выходил на прогулку с слушал; день, в который далекий гром затихал, проходил в унынии; наоборот, когда нельзя было сомневаться, что эти звуки несутся из-за Днепра, всем моим существом овладевало жизнерадостное настроение, такое, какое бывало только в детстве. Когда пушки начали грохотать совершенно явственно, на лицах всех встречавшихся со мною было выражение нескрываемой радости; и уличные мальчишки, и старик пастух, и разные бабы-торговки, буквально все, не «буржуи», а именно народ, каждый раз, как громыхало особенно сильно, радостно подмигивали мне и глазами показывали по направлению к Днепру. На балкон соседнего дома до поздней ночи выскакивала белокурая немочка и, не боясь уже никаких «шпионов», прикладывала руки к ушам, прислушивалась и радостно подпрыгивала, когда раздавался сильный разрыв. Однажды я отправился к полотну железной дороги; там метались беспорядочно перегруженные всяким военным скарбом и солдатами поезде. Я не выдержал и спросил солдат одной теплушки, куда они едут. Они как-то сконфуженно отвечали: «Да вот возили нас до станции Дарница (это первая станция по ту сторону Днепра), а теперь обратно тащат; нет уже проезда». Я понял, что час нашего освобождения пришел.
Через несколько дней мы проснулись ночью от свиста снарядов над нашим домом. Артиллерийский бой шел уже в городе. Передать словами чувство радости при шипении и разрыве снарядов — нельзя. Впервые за десять месяцев я под утро на несколько часов заснул вполне здоровым крепким сном. Рано вышли мы на балкон; кто же владеет городом? На улице было еще пустовато; вдали мы заметили вдруг какую-то конную фигуру; на русскую форму не похоже. Мой сожитель отправился на разведки. Оказалось, что в городе петлюровцы. Это было для нас большим разочарованием; ожидали добровольцев. Но все-таки теперь перемена власти давала надежду на возможность бегства из Киева на юг России. Из предосторожности я первый день не выходил на улицу. Ночью опять началась непонятная канонада. Утром выяснилось, что вошедшие со стороны Черниговского шоссе добровольцы прогнали петлюровцев. То ликование на улицах города, которому я был свидетелем в эти дни, напоминало большие праздники; казалось по оживленному веселью народа, что у нас второй раз в этом году празднуется Пасха. Когда я впоследствии вспоминал, как поджидалась и встречалась у нас добровольческая армия, я с горечью думал, сколько нужно было нашему южному правительству обнаружить деловой несостоятельности, чтобы не удержаться среди так враждебно настроенного к большевикам народа.
Праздничное настроение нарушалось подсчетом жертв большевиков за последние дни. В Липках, в сарае дома Бродского, большевики перед уходом истребили сотни людей, в том числе десятки известных судебных деятелей. Я отправился туда и видел, как в саду усадьбы из свежее засыпанных ям вытаскивали коричневые, скрюченные тела; их поливали из уличной водопроводной кишки, с них стекала земля, далеко вокруг распространялось трупное зловоние. По мере очистки трупов, родные и близкие узнавали своих. Привозились одежды, покойников одевали, укладывали в гробы и постепенно вывозили. Мне передавали, что какая-то француженка, со свойственной иностранцам «чуткостью» воскликнула при этом: «О, какой подлый русский народ, я его ненавижу». Никто ей не напомнил, что коричневые и зловонные трупы — это именно лучшие русские люди, я те, кто перед бегством их расстреливал — евреи, латыши, китайцы, пригласившие в свою среду для истребления русского народа только нескольких представителей его преступного мира. Я обошел арестные помещения чрезвычайки; видел надписи на стенах со знакомыми фамилиями: «Здесь сидел Науменко» и др. Думаю, что Шильонский замок показался бы европейским туристам наивным памятником человеческой жестокости, если бы они ознакомились с теми абсолютно темными, душными клетушками, в которых мучили большевики свои жертвы перед их смертью.
Первым служебным поездом из Ростова приехал мой брат, занявший в местном управлении юстиции должность начальника отдела (директора департамента). Он, со времени бегства от петлюровцев так изменил свою наружность (прическу, бороду, усы), что я при встрече представился ему. Только, когда он сказал мне в ответ на названную мною фамилию: «по странной случайности тоже Романов», я, услышав знакомый голос, узнал его. Он приехал в Киев для восстановления разгромленного большевиками учреждений округа киевской судебной палаты. Я с живым интересом расспрашивал его о программе и составе Деникинского правительства. Его ответы были как-то чересчур кратки, неопределенны; чаще всего он повторял: «Советую тебе много не задумываться, верь, как я, только в Деникина; Деникушка не выдаст, а остальное вздор». Тут впервые у меня начало закрадываться сомнение в способность южных правителей победить большевизм, тем более, что от брата я узнал о разных кубанских радах и тому подобных казачьих учреждениях, нарушавших единство противобольшевистских сил и проделывавших, при бездарных и нечестных руководителях, хорошо знакомые киевлянам опыты сепаратизма и социализма.
Я выехал из Киева в Ростов через несколько дней тем же первым поездом, которым приехал мой брат. Слишком много тяжелых переживаний было связано с Киевом, чтобы оставаться здесь хотя бы один лишний день. Мы впервые шли в Екатеринославском направлении; в безопасности пути не было уверенности, почему перед нами шел вооруженный пулеметами поезд. Уже при этой первой моей поездке по району Деникина, я мог убедиться в отсутствии строгого наблюдения, твердой власти. В наш поезд допускались пассажиры только по служебной надобности, на основании именных разрешений. Между тем, сразу же в нашем вагоне обратил на себя внимание молодой, изящно одетый кавалерист, который в совершенно большевистских тонах возмущался, что едут какие-то штатские генералы, а боевому офицеру негде присесть, потребовал у коменданта поезда список пассажиров, делал различные ироничные замечания и внезапно исчез из поезда, когда мы посоветовали растяпе-коменданту проверить документы этого «офицера». Затем, в другом вагоне мой знакомый признал в одной из пассажирок в костюме сестры милосердия еврейку, жившую с ним в одном доме, которая предала чрезвычайке несколько квартирантов этого дома. «Сестру милосердия» удалось задержать и сдать коменданту станции в тот момент, когда она, догадавшись, что ее узнали, решила выйти из поезда, не доезжая Ростова.
Как калечил режим большевиков нервы людей, имевших несчастье попасть хотя бы временно под их иго, я могу судить по ехавшему вместе со мною моему другу-сослуживцу по Земскому Отделу В. Ф. Добрынину. Им овладела меланхолия и мания преследования, от которой он не освободился даже после разгрома большевиков. Он сомневался, что мы можем благополучно доехать хотя бы до Екатеринослава, не говоря уж о Ростове. Когда мы вышли на станции «Екатеринослав», я, желая подбодрить Добрынина, сказал ему: «ну, вот видишь, Фома неверный», он обнял меня за шею и, печально-измученными глазами смотря в даль, тихо сказал: «Неужели же ты серьезно думаешь, что мы будем в Ростове?» На станции «Ростов» повторилась та же сцена, и Добрынин с печальной усмешкой, говорил: «Ты веришь, что мы здесь долго продержимся». Я понял, что его душа неизлечима. Он скончался, к счастью, на родной земле, в Новороссийске, в теплушке, перед эвакуацией этого города, в состоянии душевной болезни.
В Ростове, после радостной встречи с сослуживцами по Красному Кресту, я пробыл не долго. Нервы мои тоже нуждались в укреплении, и мне была предоставлена возможность полечиться в Кисловодске нарзанными ваннами.
Кисловодск был не тот, каким я его застал раньше, при старом режиме. Уже при самом входе в парк поражало отсутствие тополевой аллеи. Вместо высоких деревьев были разбиты цветники. Это — памятник местной революционной работы. Везде, конечно, грязнее, чем прежде, но парк успели после ухода большевиков привести в порядок. Вода в ванны подавалась с перерывами по два-три дня. Правильного курса водолечения пройти нельзя было; отдых нервам давали только прелестные прогулки по парку, в горы, к «Храму воздуха». В остальном пребывание в Кисловодске было печально, так как здесь именно стали закрадываться в душу сомнения в прочности деникинского дела. Газеты сообщали об остановке добровольческих войск у Орла и затем о начавшемся отступлении их. Я принуждал себя, по совету брата, верить только в Деникина, но не мог не смущаться такими явлениями, которые бросались в глаза даже при мимолетном ознакомлении с местной жизнью, как например, крайне убогое существование инвалидов великой войны в местном городском приюте; у города средств, вероятно, не было; правительство же юга России поднимало курс бумажного рубля и скаредно экономило на всем. Я посетил приют; видел почти пустую аптеку его, пробовал жиденький суп, мне показали старых генералов или полковников без ног, которые сами стирали себе белье, лежа на полу; с ужасом я узнал, что здесь в центре нарзана, инвалиды лишены ванн, так как последние очень «дороги». Большинство не жаловалось, мрачно молчало; некоторые же говорили со злобой: «теперь не до нас: мы бились с немцами, а не с русскими, все заботы теперь о добровольцах, а не о старых солдатах» и т. п. в этом духе. Делопроизводитель приюта (кажется он так назывался) по внешности имел вид «товарища». Я сказал мимоходом: «Хорошая у вас почва для большевистской пропаганды», он живо ответил: «Да, у нас почти все большевики». Всякий озлобленный человек, всякий с искалеченной душой инвалид, не нашедший участия в его судьбе, делается большевиком не в смысле сочувствия идеям коммунизма, а потому, что из чувства мелкой мстительности желает разрушения того строя, при котором он оказался в беспомощном положении. Вожди большевиков, играя на самых низких инстинктах человечества, пользуясь его слабостями, воображают, что они побеждали идеями, а не просто гнусностью, но от этого было не легче их врагам, терявшим или уменьшавшим число своих искренних приверженцев.
По осмотренному мною Кисловодскому приюту, я совершенно ясно мог себе представить, что происходило на местах в земском и городском хозяйствах, о бедствиях которых, вследствие безденежья, и отсутствия сильной помощи от центральной власти, мне приходилось слышать со всех сторон. Восстанавливались поспешно старые органы; вернее, названия их, без старого делового содержания; это только подрывало в глазах населения авторитет восстанавливаемых учреждений: стоит ли за них бороться, когда все равно живется скверно? А силы принуждения, настойчивой жестокости, только и дающей победу в гражданской войне, если нет возможности произвести магические преобразования, у наших южных правительств не было.
Я не берусь, и это не входит в задачи моих записок, давать очерк причин, погубивших добровольческую армию. Мне хочется только поделиться своими обывательскими впечатлениями, которые, как лишний штрих, могут оказаться не бесполезными для будущих историков, при разборке ими разнообразных материалов о движении, возглавленном именами Корнилова, Алексеева, Деникина.
Вернувшись в Ростов, этот всегда мне не симпатичный, безвкусный город торгашей, а теперь особенно грязный и беспорядочный, я очень скоро потерял способность быть оптимистом. Я чувствовал, что в лице Деникина Россия имеет безупречно чистого честного гражданина. Его речи, по образности и силе их, напоминали столыпинские. Но какая же программа, кто исполнители ее? Ни того, ни другого уловить нельзя было. У врагов и совершенно ясная, утопически-безумная, но конкретная программа, и исполнители, действующие террором. Здесь же не монархизм, но масса монархистов, не социализм, но масса утопически-лживых писаний в прессе, с обычными нападками на буржуазию, черносотенство реставраторов и т. п. Здесь были хотя и не большевики, но люди взаимно не объединенные и друг другу не верящие. В первые же дни по прибытии в Ростов я из какого-то местного листка узнал, что во главе Красного Креста стоит «старорежимное лицо, которое давно пора удалить», что это лицо «проделало в Одессе темную спекуляцию с сахаром» и т. д., и т. д. Это писалось о таком деятеле, как Иваницкий; разные самостийники верили газетным сплетням и злорадствовали, что во главе Всероссийского Красного Креста — «нечестный черносотенец». Все они крали, брали взятки, но поднимали чрезвычайно радостно шум, если о старорежимном деятеле распускался прессой какой-то неблагоприятный, хотя бы и ни на чем не основанный слух. Никаких опровержений, никакого преследования клеветников, и клевета ползла и отравляла граждан. Терялась вера в свои учреждения, ими не дорожили, при них сплетничали, как некогда при Царе. Большевики в таких случаях расстреливали, так как чувствовали себя на войне, наши правители улыбались: «стоит ли обращать внимание на каждого газетного писаку?».
В составе правительства были хорошие, умные и честные люди, но большинство совершенно не отвечало тем требованиям, которым должны удовлетворять деятели смутного времени, — в них не было ни смелой инициативы, ни силы воли. Достаточно было посмотреть на расслабленную фигуру министра внутренних дел — Несовича, чтобы потерять вру в деникинское правительство. В прошлом — хороший судебный оратор, образованный юрист, и больше ничего. Такой министр возможен в какой-нибудь маленькой республике, в Швейцарии, в государстве с вполне налаженной жизнью, но во время гражданской войны — это просто недоразумение, не знаю какими причинами объяснимое. Другой ответственный портфель — юстиции принадлежал либеральному мировому судье Челищеву, который за общими либеральными фразами терял понимание действительности; например, в обстановке общего развала верил в справедливость тюремного заключения, когда содержание арестанта обходилось ровно столько же, сколько содержание любого чиновника министерства, когда тюрьмы по недостатку кредитов разрушались, представляли из себя заразные очаги и т. д., и с негодованием отвергал мысль о расстреле воров, грабителей и т. п., стараясь, при случае, тяжких преступников передавать на усмотрение военных властей, лишь бы гражданская юстиция и в обстановке военного времени хранила все заветы правосудия, установленные либеральным кодексом.
О финансовой политике я уже упоминал вскользь. Рубль поднимали сокращением выпуска бумажных денег, не считаясь с жизненными потребностями. Мне говорили, что в Киеве по безденежью погиб один детский приют, который при большевиках имел массу, хотя и дрянных, но все-таки нужных на ежедневное довольствие детей, денег.
Я лично решил не идти на государственную службу, так как она не могла, в описанной мною обстановке представить какой-либо интерес, но небольшого относительно жалования по должности члена Главного Управления Красного Креста не хватало на жизнь, и я взял, по предложению С. П. Шликевича, место заведующего контролем в Комитете Земского Союза.
Это обеспечивало мне довольно плохой стол и холодную комнату, впрочем, при мало обременительной, но зато и достаточно скупной, работе.
Предложение места в составе правительственных учреждений я получил, еще будучи в Кисловодске; мои приятели рекомендовали меня начальнику (министру) продовольственного управления Маслову — некогда известному либеральному оратору от оппозиции в Орловском земстве. По словам лиц, близко соприкасавшихся с ним, он был настолько неподготовлен к большой организационной работе, что ему хотели дать помощника из опытных чиновников старого режима. Я понятия не имел о продовольственном деле, которым никогда не занимался, а потому, естественно, не считал себя пригодным к продолжительной ответственной должности. А. В. Кривошеин, с которым я советовался по этому поводу, самым решительным образом был против того, чтобы я брался за незнакомое дело в переживаемое тяжелое время. Тем не менее, меня заставили посетить Маслова, говоря, что он сумеет меня убедить. Я зашел однажды к этому министру, объяснил ему причину моего прихода и заявил, что я категорически отказываюсь принять назначение. Он на это сказал: «Очень жаль», и этим все его доводы были исчерпаны. Мне всегда казалось, что новой формации министры были несколько преувеличенного мнения о привлекательности для нас, старорежимных чиновников, тех или иных постов с громкими названиями; им была как-то мало понятна наша психология, заставлявшая нас предпочитать более интересное и подходящее дело внешним служебным отличиям.
Так как мне говорили о нежелательности полного моего уклонения от государственной службы, дабы, вследствие перерыва в ней, не лишиться выслуженных прав, я, благодаря любезному согласию министра земледелия А. Д. Билимовича, был назначен представителем этого ведомства в Земельном Банке, но в заседаниях его совета ни разу не успел побывать.
Праздники Рождества Христова и день нового, 1920, года, я провел уже в вагоне, эвакуируясь сначала в Екатеринодар, оставивший по себе впечатление еще более грязного города, чем Ростов, а затем в Новороссийск.
Вся бездарность деникинского правительства ярко выразилась в обстановке и усилиях эвакуации Ростова. Необходимость ее для чего-то скрывали, план перевозок составлялся отдельно и не согласованно по гражданскому и военному ведомству, Красному Кресту почему-то было воспрещено вывозить заблаговременно довольно богатый его склад, и если бы не инициатива Главноуполномоченного, С. Н. Ильина, тайно погрузившего и отправившего склад, его многомиллионное имущество погибло бы для добровольческой армии. Мало того, когда этот склад очутился у станции Армавир, Управление военных сообщений, на запрос коменданта станции, что делать с вагонами склада, не нашло более остроумного выхода, как телеграфировать распоряжение о выгрузке вагонов в месте их стоянки, т. е. в открытом поле, как будто бы запас дорогих медикаментов, инструментария и проч. имелись на юге России в громадном количестве. Основанием для такого распоряжения являлось только то формальное соображение, что краснокрестное имущество не значилось в эвакуационном плане военного ведомства. Комендант станции оказался более вдумчивым человеком и не исполнил распоряжения начальства, дав направление нашему складу в Новороссийск.
К чинам судебного ведомства, которые, в случае оставления их в Ростове, обрекались на смерть, отнеслись при эвакуации в том же духе, как к имуществу Красного Креста. Это ведомство могло гордиться такими героями гражданского долга, как, например, судебный следователь, бежавший из уездного города перед приходом большевиков и вынесший в Ростов на плечах все важные дела и ни одной собственной вещи. И вот чины эти до последнего дня сидели в поезде без локомотива у ст. Ростов. Мой брат разделял общую участь своих сослуживцев и рассказывал мне кошмарные подробности их эвакуации, которая так его разочаровала в местных правителях, что он немедленно, по прибытии в Новороссийск, эмигрировал за границу, несмотря на крайне бедственное материальное положение.
Новороссийск — это была явная агония добровольческого дела. В вагонах, главным образом в теплушках, на железнодорожных путях, проживало здесь население в несколько тысяч человек — целый новый город. Все это население было во власти вшей — разносителей заразы сыпного тифа. Мест в лечебных заведениях не хватало, большинство болело по квартирам, в вагонах, там же и умирало. Иваницкий лично руководил организацией заразных лазаретов Красного Креста, часто обходил больных, хлопотал об отводе помещений. Медико-санитарный материал имелся в нашем распоряжении в достаточном количестве, но военное ведомство всячески стесняло нашу деятельность, ставя затруднения с предоставлением помещений. Вообще чувствовалось ясно, что Красный Крест только терпим, но не оценивается во всем его полезном значении. Между тем, трудно себе представить, что происходило бы в Новороссийске без сохраненных наших запасов и наших врачей и сестер. Особо энергичную деятельность развил доктор Ю. И. Лодыженский, по инициативе и под ближайшим руководством которого были организованы дежурства врачей и сестер. Для посещения больных на дому, с оказанием им необходимой медицинской помощи. Однажды, поздно вечером, ко мне пришла из города (я жил на другой стороне залива в Стандарте) жена моего сослуживца, В. Н. Хрусталева; он заболел сыпняком, она же только что оправилась от этой болезни. Худая, истощенная, бледная, совершенно окоченевшая от холода, так как свирепствовал дикий местный норд-ост, а у нее не было никакой теплой одежды, — она пришла за помощью. В вагоне Иваницкого ей дали на обратный путь одеяло; на другой день Хрусталева посетил дежурный врач. В маленькой комнатке, без прислуги, с воспаленным лицом и в полубредовом состоянии, В.Н. просил меня только об одном — не оставлять его жену в Новороссийске. В госпиталях не было мест, и он всю свою болезнь проделал в своей комнате. Когда у него сделалось какое-то послетифозное осложнение, удалось поместить его в один из прекрасных краснокрестных хирургических госпиталей, в котором он и был благополучно эвакуирован заграницу. Другой мой сослуживец по ведомству землеустройства, А. А. Зноско-Боровский погиб от тифа в несколько дней. А. Д. Билимович, оценив, по должности министра земледелия, деловые и душевные качества этих людей, принимал в их судьбе живое и доброе участие. Однако, не зная той обстановки, в которой по вине, главным образом, деникинского правительства, приходилось работать Красному Кресту, он написал мне, живо задевшее меня письмо, содержавшее в себе упрек в том смысле, что, хотя бы для сослуживца моего по Красному Кресту X., следовало бы найти койку в госпитале.
Эти физические мучения товарищей моих по службе, их нищета и болезни, да продиктованный добрыми чувствами, но несправедливый упрек их нового сослуживца были последним моим впечатлением на родной земле. В этом как бы выявлялась вся обычная судьба старорежимного чиновника: отсутствие корысти и подверженность легкой критике со стороны.
В конце февраля наше Временное Главное Управление, в согласии с Комитетом Земского Союза, во главе которого стоял А. С. Хрипунов, вместо уехавшего С. П. Шликевича, постановило продолжать работу на русской территории до последней возможности, пока будет продолжаться деятельность добровольческой армии. Решено было только разгрузить Управление, и части его персонала, во главе со мною, было разрешено эвакуироваться, несколько же человек, во главе с Иваницким, остались в Новороссийске и затем переехали в Крым, где исполняли свои обязанности вплоть до эвакуации.
Мне было предложено подготовить почву для возможной работы нашего центрального органа в Сербии.
1 марта, под затихающую метель и при сильном еще все-таки норд-осте, я стоял с моими сослуживцами на палубе парохода «Николай Чудотворец» и смотрел на берег России до тех пор, пока можно было его отличить от моря и неба. В душе я увозил тяжесть многих разочарований и сомнений; для сохранности тела я имел всего только тридцать тысяч так называемых «колокольчиков» — бумажных денег добровольческой армии. Будущее было совершенно неизвестно и неуверенно. Но судьба заграницей милостиво отнеслась к моему телу: два года с лишним оно было в общем сыто, одето и не страдало от голода. Что же касается души, то ее переживания на чужбине хранятся мною еще пока в голове и сердце и не переданы бумаге. В этих новых переживаниях вне родины самое ценное — это укрепление веры в талантливость и творческую способность русских людей; видеть этого не хотят только слепцы, не замечающие, как безропотно и красиво на самых разнообразных поприщах зарабатывает русский беженец: словом, пером, пением, музыкой, кистью, всевозможными науками, ремеслами и проч., и проч. Не видят этого также те, кто единичные случаи нравственного падения любят обобщать, а главное — кто не способен ни к каким сопоставлениям и сравнениям.
Остаться глубоким националистом в изгнании — это значит принадлежать к бесспорно великой нации.
Примечания
1
Буквально: «при открытой книге», здесь: «с листа», «без подготовки».
(обратно)2
Буквально: «хорошие слова», «словечки», здесь — «каламбуры», «словесные выкрутасы».
(обратно)3
Суть каламбура заключается в том, что французы бы сказали «c’est moi», и это будет правильная форма, значащая: «это я», то, что в тексте — значит тоже самое, но безграмотно.
(обратно)4
В данном случае Романов недоумевает по поводу отлаженного бюрократического механизма. Министр, чтобы не брать за ту или иную меру ответственность целиком на себя, тщательным разбором всех статей предполагал разделить ее со всеми членами совещания. Кроме того, он мог принять к сведению мнения, высказываемые его коллегами.
(обратно)5
«У них не табакерка служит носу» — вероятно, по смыслу, первая часть пословицы, вторая часть: «а нос табакерке».
(обратно)
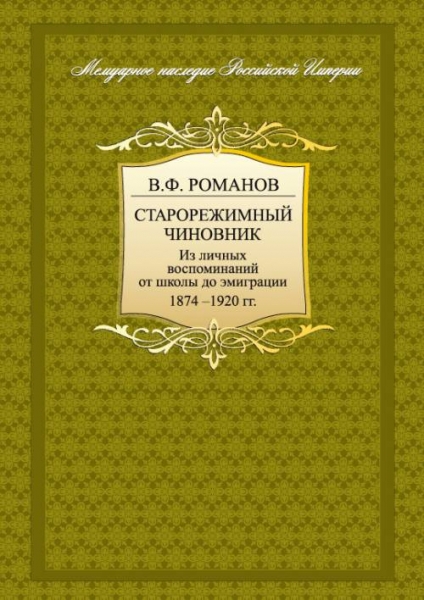

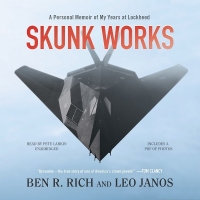



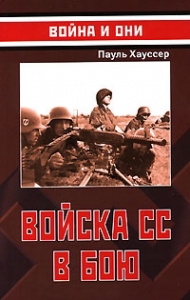
Комментарии к книге «Старорежимный чиновник. Из личных воспоминаний от школы до эмиграции. 1874-1920 гг.», Владимир Федорович Романов
Всего 0 комментариев