Иван Никитчук Закованный Прометей. Мученическая жизнь и смерть Тараса Шевченко
Посвящается моим друзьям-одноклассникам
Мені однаково, чи буду Я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде Мене в снігу на чужині — Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, І, неоплаканий своїми, В неволі, плачучи, умру, І все з собою заберу — Малого сліду не покину На нашій славній Україні, На нашій — не своїй землі. I не пом’яне батько з сином, Не скаже синові: — Молись. Молися, сину: за Вкраїну Його замучили колись. — Мені однаково, чи буде Той син молитися, чи ні… Та не однаково мені, Як Україну злії люди Присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені. Т.Г. ШевченкоПредисловие
У каждого народа есть свои герои и гении, которыми они гордятся, у которых учатся мудрости, мужеству, правде, любви… Русский народ по праву гордится такими именами, как А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов… Народ Украины склоняет свою голову перед гением Тараса Шевченко.
Тарас Шевченко — это гигант духа, источник могучей творческой силы, непримиримый борец против любого угнетения человека человеком. В историю человеческой культуры он вошел не только как талантливый художник, но, прежде всего, как гениальный поэт славянства мирового уровня, как творец современного литературного украинского языка.
Шевченко родился среди днепровских степей и там с молоком матери впитал любовь к родине, к родной земле и своему народу, его легенды и поэтические песни.
Грустная песня звучала в убогой хате; колыхалась убогая колыбель; мать прекращала пение… и горячие слезы капали на его лицо; мать брала на руки, сповитого в лохмотья, и шла с ним на панщину и в жару, и в непогоду…
Подрастая, он слушал уже казацкие песни и рассказы старого деда — участника и сподвижника гайдамаков, и появлялись перед его глазами кровавые сцены, наполненные ужасом и отвагой.
Жизнь его, от рождения, была наполнена то горем, то драмой, то поэзией и искусством. Жизненные невзгоды были для него не рассказом, а действительностью; нищета и лихая судьба преследовали и его, и все, что было для него близким.
Ясная и честная душа поэта вызывала к себе исключительное сочувствие, но он был жестоко лишен любви и дружбы… Оторванный от родины и родных, заброшенный далеко от друзей, он в одиночестве мучился в глуши безотрадной пустыни, боясь оглянуться на свою ужасную судьбу. Двадцать четыре года жизни раба и десять лет солдатской муштры, десять лет унижений и глумлений жизни поэта! Эти десять лет еще при жизни были могилою, со всей ее разлагающей силой. Гробовая сырость, темнота и духота могилы в тех годах его мученичества. Как не умер он в тех страшных пытках? В течение десяти лет его убивали, душили; он захлебывался в болоте человеческой низости и невежества.
Неусыпное горе не изменило его; он остался чистым сердцем, он оставался человеком — в истинном понимании этого слова. Поэт, гражданин, живописец, гравер — он везде оставался самим собой. Эти таланты объединялись в нем как для сопротивления и успокоения в тяжелой жизни, так и для осознания своего безрадостного существования. Сколько горя ему пришлось испытать! Его хватило бы на тысячи судеб. У некоторых можно сосчитать в жизни тяжелые дни, у него — счастливые.
Шевченко был живой песней, живой печалью и плачем. Он босым прошел по колючим тернам, весь гнет эпохи упал на его голову… Вся жизнь его была тяжелой цепью, позорным ярмом; не ударом обуха убивали его, а ежечасно пилили тупой деревянной пилой. Но и тогда он подносился духом, будил, поддерживал и укреплял в каждом — то песней, то словом, то собственной жизнью — правду и безграничную любовь к угнетенному, униженному, нищему…
Так до конца жизни и не улыбнулось простое человеческое счастье поэту. Он был по-своему счастлив лишь в своих стихах и поэмах, прославивших его среди народа, и в своих работах изобразительного искусства, которым он, ученик великого Карла Брюллова, мечтал просвещать народ, обогащать его лучшими образцами гениальных художников.
Даже его заветная мечта построить свою хатку над Днепром осуществилась могилой на Чернечей горе близ Канева.
Прекрасные слова о Шевченко, отражающие всю его суть и содержание, написал другой знаменитый украинский поэт Иван Франко:
«Он был сыном мужика — и стал властелином в царстве духа.
Он был крепостным — и стал великаном в царстве человеческой культуры.
Он был самоучкой — и указал новые, светлые и вольные пути профессорам и книжным ученым.
Десять лет он томился под тяжестью российской солдатской лямки, а для свободы России совершил больше, чем десять сильнейших армий.
Судьба преследовала его в жизни, сколько могла, но она не в силах была превратить золото его души в ржавчину, его любовь к народу — в ненависть и презрение…
Судьба не жалела для него страданий, но она не пожалела и радостей, здоровым источником которых была сама жизнь.
Самый лучший и самый ценный дар судьба принесла ему лишь после смерти — вечную славу и бесконечно расцветающую радость, которую в миллионах сердцах постоянно будят его творения…»
Сегодня в современной «незалежной» Украине кучка фашиствующих националистов пытается записать в свои ряды Тараса Шевченко, прикрыть свою звериную рожу народной любовью к поэту. Но эти потуги напрасны. Шевченко любил свой народ и свою родину, но точно так же он любил и русский народ, среди которого провел большинство дней своей жизни, точно так же он любил «убогих» казахов и киргизов, среди которых провел десять лет царской ссылки. Нет, не о национальной обособленности мечтал поэт вместе со своими друзьями по Кирилло-Мефодиевскому братству, а об объединении в единую семью славянского племени. Не среди кучки отщепенцев видел себя поэт, а
…меня в семье великой, В семье вольной, новой, Не забудьте — помяните Добрым, тихим словом.Шевченко как бы заглянул в наши дни, когда писал:
Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають…И действительно, бандеровская власть развязала братоубийственную войну, льется кровь, гибнут люди… Случилось то, чего так опасался Тарас Шевченко:
Україну злії люди Присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять…Злые люди из-за океана, преследуя свои цели, поддерживают фашистскую клику в ее стремлении отравить сознание украинского народа смрадом оголтелого национализма. Но их потуги напрасны. Не удастся им разорвать кровные узы братских народов. Будет так, как говорил когда-то Тарас:
І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люди на землі…Наследие Тараса Шевченко не стало историей, не отошло в прошлое, оно, как огонь Прометея, продолжает служить людям, продолжает бороться с угнетением, несправедливостью, жестокостью, призывая к добру, свету и правде.
Глава 1. Арест
Был прекрасный день в самом начале апреля 1847 года, ярко сияло солнце, в воздухе, во всей природе чувствовалось пробуждение всего живого от долгого зимнего сна. Листья на деревьях еще не распустились, но вербы уже украсили себя пушистыми почками.
Тарас Шевченко, 33-летний сотрудник киевской Археографической комиссии, выпускник Петербургской академии художеств и уже известный украинский поэт, автор недавно вышедшего «Кобзаря», возвращался с очередной командировки в Черниговскую губернию к себе домой, в Киев. В нанятой коляске его спутником оказался богатый помещик, кавалерист Солонин, с которым он познакомился совсем недавно.
— Захар Константинович, — обратился Шевченко к своему спутнику, — какая красота вокруг!
И действительно, вид перед ними открывался удивительный: широкий, далекий простор, можно сказать, терялся в синей мгле. В этом просторе уже угадывалось присутствие огромной реки, шум которой становился все сильнее. До самого горизонта протянулся сплошной лес…
— Весна! Воздух — настоящий бальзам! — продолжал Шевченко. — Посмотрите, вон уже блестит батько-Днепр, а за ним отсвечивают на солнце золотом купола киевских церквей… Еще чуть-чуть — и мы дома… В Киеве, надеюсь, ожидает меня приятное известие о зачислении в профессора по рисованию Киевского университета. Как это будет славно общаться с талантливой молодежью!.. За последнее время написал массу новых стихотворений. Собрал по своим знакомым и везу их за пазухой целый ворох… Хочу издать новый «Кобзарь» с рисунками, наполненный думами о нашей Украине. Как тот жид, накоплю денег и выкуплю на волю моих бедных сестер и братьев… Немножко отдохну с дороги и окунусь с головой в издание и распространение своего дитяти — «Живописной Украины». Как многого не знает наш униженный народ, как много ему надо рассказать и показать…
Шевченко горячо, как все, что он делал, увлекся идеей систематически издавать серию гравюр с объяснительным текстом под общим названием «Живописная Украина».
Первые же его рисунки в этой серии были посвящены исторической и современной жизни народа.
Шевченко изготовил и отпечатал всего лишь шесть рисунков серии. Это яркие жанровые сцены из крестьянского быта: «Сваты» и «Мирская сходка» («Народный суд»), офорт на историческую тему «Приношение от трех держав даров Богдану Хмельницкому и украинскому народу в 1649 году» («Дары в Чигирине»), композиция на сюжет известной украинской народной сказки «Солдат и смерть» («Сказка»), наконец, два лирических пейзажа: «В Киеве» и «Выдубецкий монастырь».
Самыми ожесточенными врагами шевченковского замысла оказались украинские паны-либералы, увидевшие, что художник намеревается в своей «Живописной Украине» воспевать не «классовый мир» между помещиками и крестьянами и не националистическую романтику прошлого, а трудовой народ, его повседневный быт и борьбу за свои права…
— Вы правы, Тарас Григорьевич, — после некоторой паузы отозвался его попутчик. — Я завидую вашим прекрасным планам на будущее и рад за вас, можете рассчитывать на меня во всех ваших добрых начинаниях… Но боюсь, Тарас Григорьевич, — жмурясь от солнечного света, отозвался Солонин, — что ваш оптимизм насчет «чуть-чуть, и мы дома» вряд ли оправдан. В этом году Днепр разлился особенно широко и паром еще не налажен.
— Да не может того быть, чтобы мы не нашли хоть какую-нибудь посудину, которая перенесет нас на правый берег, — рассмеявшись, сказал Шевченко…
Они отпустили коляску и стали спускаться к Днепру.
— Захар Константинович, а вон и лодка, которая нас перевезет, — заметил Шевченко, указывая на открывшийся берег Днепра.
— Боюсь, что на эту лодку нас не возьмут, — приглядевшись, ответил Солонин. — Она предназначена для переправы почты и курьеров. Вон возле нее даже жандармы стоят.
— Давай хорошенько попросим… Вдруг согласятся. Да и курьеров никаких не видно.
Шевченко и Солонин спустились к Днепру и подошли к стоящим возле лодки квартальному надзирателю и двум жандармам.
— Господа, — обратился Шевченко к жандармам, — не выручите ли нас в беде, перебраться на тот берег?
— Не положено брать на лодку посторонних, — ответил квартальный надзиратель, стараясь не глядеть на Шевченко.
Шевченко заметил, что квартальный косит. Еще с детства, сам не зная почему, Тарас Григорьевич не любил косоглазых и не терпел встреч с ними. Какое-то недоброе предчувствие возникло где-то в душе, но он постарался его заглушить.
— Я вижу, — вмешался Солонин, — что вы намереваетесь переправляться без всякого груза. Я вам хорошо заплачу…
Квартальный переглянулся с жандармами и старший из них кивнул головой.
— Не положено, господа, — сказал квартальный, — но вижу, что вы господа благородные… Влезайте в лодку.
Лодка ждала именно Шевченко, и квартальный с жандармами разыграли эту комедию с единственной целью, чтобы Шевченко не смог освободиться от каких-либо улик.
Шевченко и Солонин разместились в лодке, в нее же погрузились жандармы с квартальным надзирателем, дружно налегли на весла гребцы, и она отчалила от берега.
Преодолевая быстрое течение, лодка медленно продвигалась к правому берегу реки. На середине Днепра к Шевченко обратился квартальный надзиратель:
— Вы Тарас Григорьевич Шевченко?
— Да, — ответил ничего не подозревающий Шевченко.
— У нас есть приказ арестовать вас. Вы арестованы. Прошу соблюдать спокойствие и передать мне все, что у вас имеется с собой.
Жандармы переместились ближе к Шевченко, отделив его от Солонина.
На какое-то мгновение Шевченко растерялся, негромко проговорив:
— Вот тебе, бабушка, и свадьба…
Но быстро пришел в себя. Он протянул руку под пальто, вытащил сверток бумаг и выбросил его в Днепр по течению.
— Поворачивайте лодку! — закричал квартальный гребцам. — Быстрее, олухи!
Лодка быстро догнала сверток, который выловил из воды один из жандармов.
— Нехорошо, господин Шевченко, — пожурил поэта с ехидной улыбкой квартальный надзиратель.
— Господа, — обратился к надзирателю и жандармам Солонин, желая выручить поэта, — может быть, мы договоримся с вами в отношении вот этого свертка бумаг, тем более уже серьезно подмоченного. Доставка его в полицию никаких благодарностей или наград вам не даст… Я готов заплатить вам за него прямо сейчас 500 рублей серебром.
Это были огромные деньги. У квартального и жандармов от такой суммы загорелись глаза. Они готовы были уступить… Но каждый из них боялся другого — жандармы — квартального, а квартальный — жандармов: а вдруг выдадут?.. Да еще и гребцы!..
К сожалению, попытка спасти сверток со стихами от жандармского внимания не удалась.
Тем временем лодка причалила к правому берегу Днепра. Шевченко в окружении квартального надзирателя и жандармов высадили на берег и повели к ожидавшей их карете.
— Спасибо тебе, Захар Константинович, — обратился Шевченко к Солонину. — Прощай и не вспоминай лихом…
— Прощай, Тарас Григорьевич! Надеюсь, что вскоре увижу тебя на свободе и еще наслажусь твоей поэзией!..
— Не знаю… Из-за нее, из-за этой самой чертовой поэзии, думаю, не скоро увидимся…
— Прекратить разговоры! — прикрикнул на них надзиратель, подталкивая Шевченко к карете.
Двери кареты закрылись, и поэта увезли в управление жандармерии…
Здесь, в жандармерии, ему стало известно, что арестован не только он, а и многие его друзья, знакомые. Среди них Костомаров, учитель словесности и историк; Кулиш, профессор истории и писатель; Чижов, профессор математики; Массон, предводитель дворянства; Маркович, отставной офицер; Н.И. Гулак, чиновник канцелярии киевского губернатора; Чиж и другие. Все они были связаны между собой одной идеей — об объединении славянских народов.
Этот круг людей, который они назвали Кирилло-Мефодиевское братство, иногда собирался на квартире у Н.И. Гулака, чтобы поговорить о судьбе славян. Высказывалась та мысль, что немцы, англосаксы, другие народы держатся вместе, а отдельные группы славян, каждая из них, ходят своей дорогой, часто в одной связке с врагом, который велит им везти его воз. Чтобы изменить эту ситуацию, предлагалось собрать всех ученых из славян вместе, чтобы они обменялись своими потребностями, счастьем и несчастьем, от которого всем достается. Братство ученых должно проложить путь к лучшему будущему — к федерации славян…
Уже на другой день после ареста Шевченко в сопровождении квартального надзирателя Гришкова и жандарма отправили в Петербург. Одновременно в Третье отделение тайной полиции гражданский губернатор Киевской губернии И. Фундуклей отправил сообщение: «Между бумагами Шевченко оказалась рукописная книга с малороссийскими, собственного его сочинения, стихами, из каких многие возмутительного и преступного содержания».
По дороге в Петербург, на почтовой станции Бровары, где меняли лошадей, Шевченко неожиданно встретил мать и жену Костомарова, которые тоже направлялись в столицу для встречи с арестованным сыном и мужем.
Возле возка, в который впрягали тройку лошадей, стоял человек с жандармом, которые ждали этот возок.
— Еще один арестованный, — сказала Татьяна Петровна, мать Костомарова, обращаясь к невестке. — Кажется, это Тарас Григорьевич Шевченко.
То ли он услышал эти слова, то ли узнал Татьяну Петровну, но не прошло и минуты, как Шевченко оказался рядом с экипажем Костомаровых и со слезами на глазах, грустным голосом промолвил:
— Это бедная мать Николая Ивановича, а это его молоденькая жена. Ой, горе, горе тяжкое матери и девушке…
После этих слов он расцеловал мать и жену Костомарова.
К ним подошел жандармский офицер и попросил Шевченко попрощаться со знакомыми и сесть в ожидавший его возок. Тарас Григорьевич успел только сказать, что за себя он не переживает, потому что он одинокий, «бурлака», а «Николая мне жаль: у него есть мать и молодая жена. И он ни в чем не виноват, разве только в том, что со мной побратался. Прости же меня, мамо, и не кляни!»
Он снова их поцеловал, сел с сопровождающими в возок, тройка курьерская с места пустилась в галоп…
Через несколько дней, 17 апреля 1847 года, Шевченко был доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Начались следствие, очные ставки.
Тарас держался на допросах спокойно, был бодр и даже весел. Не терял оптимизма. Возвращаясь в камеру вместе с Костомаровым, он подбадривал его:
— Не грусти, Николай, будем мы с тобой еще вместе жить.
В камере Шевченко написал и посвятил Костомарову, к которому он относился очень тепло, одно из своих стихотворений:
Н.И. Костомарову Лучи веселые играли В веселых тучках золотых. Гостей безвыходных своих В тюрьме уж чаем оделяли И часовых переменяли — Синемундирных часовых. Но я к дверям, всегда закрытым, К решетке прочной на окне Привык немного, — и уж мне Не было жаль давно пролитых, Давно сокрытых и забытых, Моих кровавых тяжких слез. А их немало пролилось В пески полей, сохой не взрытых. Хоть рута, хоть бы что взошло! И вспомнил я свое село, — Кого-то в нем я там покинул? В могиле мать, отец загинул… И горе в сердце низошло: Кто вспомнит, в ком найду я брата? Смотрю, — к тебе, чтоб повидать, Земли черней, мой друже, мать Идет, с креста как будто снята. Господь, тебя я восхвалю! За то спою свой гимн суровый, Что я ни с кем не разделю Мою тюрьму, мои оковы.Это стихотворение Шевченко смог вручить матери Костомарова в Саратове только десять лет спустя, возвращаясь из ссылки.
На вопрос шефа жандармов Орлова:
— Какими случаями вы были доведены до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи против государя императора?
Шевченко ответил:
— Возвратясь в Малороссию, я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и шляхтичами. И все это делалось и делается именем государя и правительства…
Следствие закончилось быстро. Результаты его были неожиданные.
Шеф жандармов Орлов доложил Николаю, что дело Кирилло-Мефодиевского братства раздуто из-за желания многих подчиненных выслужиться. Приговоры последовали мягкие для тогдашнего режима. Правительство знало цену разговорам пылких юношей о единстве славян и моральном перевоспитании крепостников. Только Костомаров получил год тюрьмы. Почти все обвиняемые были освобождены.
Что касается Шевченко, то дело приобрело серьезный оборот. В его свертке были найдены стихи, вызвавшие гнев царя, когда он их лично прочел. Разве мог простить царь холопскому поэту его дерзкие стихи, высмеивающие царский двор и их императорскую особу вместе с императрицей?
Гляжу: дома стоят рядами, кресты сверкают над церквами, по площадям, как журавли, солдаты на муштру пошли… Господа пузаты, церкви да палаты и ни одной мужицкой хаты! Смеркалося… Огнем, огнем кругом запылало — тут я струхнул… «Ура! ура!» — толпа закричала. «Цыц вы, дурни! Образумьтесь! Чему сдуру рады, что горите?» — «Экой хохол! Не знает парада! У нас парад! Сам изволит делать смотр солдатам!» «Где ж найти мне эту цацу?» «Иди к тем палатам»… Вошел в палаты. Царь ты мой небесный, вот где рай-то! Блюдолизы золотом обшиты! Сам по залам выступает, высокий, сердитый. Прохаживается важно с тощей, тонконогой, словно высохший опенок, царицей убогой, а к тому ж она, бедняжка, трясет головою. Это ты и есть богиня? Горюшко с тобою! Не видал тебя ни разу и попал впросак я, — тупорылому поверил твоему писаке! Как дурак, бумаге верил и лакейским перьям виршеплетов. Вот теперь их и читай, и верь им! За богами — бары, бары выступают гордо. Все, как свиньи, толстопузы и все толстоморды! Норовят, пыхтя, потея, стать к самим поближе: может быть, получат в морду, может быть, оближут царский кукиш! Хоть — вот столько! Хоть полфиги! Лишь бы только под самое рыло. В ряд построились вельможи, в зале все застыло, смолкло… Только царь бормочет, а чудо-царица голенастой, тощей цаплей прыгает, бодрится. Долго так они ходили, как сычи надуты, что-то тихо говорили, слышалось: как будто об отечестве, о новых кантах и петлицах, о муштре и маршировке. А потом царица отошла и села в кресло. К главному вельможе царь подходит да как треснет кулачищем в рожу. Облизнулся тут бедняга да — младшего в брюхо! Только звон пошел. А этот как заедет в ухо меньшему, а тот утюжит тех, что чином хуже, а те — мелюзгу, а мелочь — в двери! И снаружи как кинется по улицам и — ну колошматить недобитых православных! А те благим матом заорали да как рявкнут: «Гуляй, царь-батюшка, гуляй! Ура!.. Ура!.. Ура-а-а!»Докладывая царю о результатах расследования дела об участниках Кирилло-Мефодиевского братства, шеф жандармов в отношении вины Шевченко сказал:
— Шевченко формально не принадлежал к братству, но он виновен по своим собственным отдельным действиям.
— Я вполне ознакомился с этими его «отдельными действиями». «Мужицкая» поэзия Шевченко во много раз страшнее либеральной болтовни юношей из Кирилло-Мефодиевского братства, — ответил Николай I на слова Орлова. — Его возмутительные стихи могут вызвать волнение среди народа Малороссии и не только. Они уже заполонили все города и села… Плохо работают твои подчиненные, Алексей Федорович… Надо предпринять все меры по изъятию всего, что было издано за эти годы под его именем и не только.
— Будет исполнено, ваше величество! — нагибаясь всем телом, проговорил Орлов.
Царь ходил по кабинету с суровым выражением лица. Остановившись напротив Орлова, он вдруг, сменив гневное выражение на некоторую гримасу улыбки, неожиданно сказал:
— И все же, Алексей Федорович, надо отдать должное наблюдательности этого негодяя. Э, как ловко он изобразил в своих стихах мою вторую половину: «тощей, тонконогой, словно высохший опенок, царицей убогой, а к тому ж она, бедняжка, трясет головою…»
Гримаса сошла с лица царя, и снова его глаза наполнились гневом.
— Какая неблагодарность!.. Александра Федоровна истратила почти 400 рублей, чтобы купить портрет Жуковского, написанный Брюлловым, для выкупа этого, так сказать, крепостного художника… И вот благодарность!.. — раздраженно продолжал царь. — Он в своих стихах ругал москалей… Так вот, повелеваю отправить его в москали, пусть на своей шкуре испытает, каково это быть москалем… На десять лет в солдаты в Тмутаракань, под строжайший надзор, запретив писать и рисовать!
— Будет исполнено, ваше величество, — заверил царя Орлов.
Жестокость приговора изумила даже жандармов. Это была гражданская смерть для Шевченко. Художнику связали руки, поэту заткнули рот.
Шевченко выслушал приговор спокойно, даже с улыбкой.
Сразу же после вынесения приговора, 2 июня 1847 года, Шевченко в сопровождении фельдъегеря и жандарма отправили в Оренбург. Впереди был путь в две тысячи километров. Шевченко был отправлен тайно. Никто не знал, куда сослан поэт. Первое время по Петербургу ходили слухи, что он увезен на Аландские острова и там повешен…
Глава 2. По дороге в ссылку
Вот уже несколько дней трясется он в этой повозке вместе со своей охраной. Кибитку подбрасывало и подбрасывало, и казалось, что подпрыгивает вся земля. Хотелось остановиться и упасть на землю, прекратив ее дрожание.
Кибитка мчалась уже оренбургской степью. Дорога была прямая, словно торопилась добежать до своего конца; торопясь, бежали кони; торопясь, подгоняли лошадей люди; поспешая, тарахтели колеса, и только курева медленно оседала позади. Да еще небо стояло неподвижно над неподвижной степью.
Он представлял, как бы все это нарисовать несколькими штрихами. Но сейчас было не до рисования. Не хотелось брать в руки ни карандаша, ни бумаги. Да и не было их у него. Он посмотрел на свои руки.
Руки лежали неподвижно на коленях, как будто вовсе и не его, Тараса, а те гипсовые слепки, которые он много раз рисовал в классах Академии… Он улыбнулся, вспомнив руки отца — большие, как будто из дерева. И руки матери — тонкие, почерневшие, как будто из них кто-то всю кровь высосал. И графа Орлова с пальцами, напоминавшими маленькие змеи. А какие руки у царя? Глаза — оловянные, это знают все. Лоб, как будто рубанком назад стесали. Усы — кажется, горячим утюгом сплюснутые и прилепленные под носом. А руки?.. Такими руками только шпицрутены носить. И именно эта высочайшая рука вывела свою резолюцию-шпицрутен: «Под строжайший надзор, запретив писать и рисовать!»
Сейчас ему не хотелось ничего делать. Свинцовая, тяжелая, многопудовая усталость свалилась на его голову, плечи, руки. Он не ощущал ни досады, ни страха — только страшная усталость придавила всего его.
Тарасу почему-то вспомнилось, как приводили его на допросы, как удивительно напрягалась вся его воля. Он был способен отвечать на любые вопросы — отвечать спокойно, изобретательно, с такой сдержанной ненавистью, что она вызывала лютую злобу у Орлова и Дубельта. О, как они старались высосать из него хотя бы одно слово, имя или фамилию. Напрасные старания! Но вернувшись в камеру, он падал на нары почти замертво…
Жара донимала неимоверно. Нечем было дышать. В глазах темнело, во рту пересохло.
Главное о чем-нибудь думать, думать о другом, о далеком. Тарас закрыл глаза, вспоминая свое детство…
В бедной, старой беленой хате с потемневшей соломенной крышей и черной кирпичной трубой прошло его детство. Перед хатой росла яблоня с краснощекими яблоками, вокруг яблони раскинулся выращенный ловкими руками трудолюбивой Катерины, старшей сестры, цветник; у ворот стояла старая развесистая верба с засохшей уже верхушкой. А дальше, по косогору, сад, за садом — левада, за левадой — долина, поросшая вербами да калиной, с тихо журчащим ручейком, теряющимся среди густых лопухов.
В этом ручейке он малышом купался, а выкупавшись, забегал в тенистый сад, падал под первой грушей или яблоней и засыпал.
Чудесная природа Украины заронила в его душу способность любить краски и голоса пышной земной благодати, тяготение к прекрасному, отзывчивость на живописный и певучий мир цветов и песен.
Село! О, сколько милых, очаровательных видений пробуждается в сердце при этом милом слове. Село!
Маленький Тарас любил спрятаться в бурьяне, смотреть в небо и мечтать, мечтать… А оно над головою синее-синее, и кажется ему, что это большая высокая крыша, а там, где-то на горизонте она опускается на землю. «Вот бы увидеть, как она там опускается!» — думает Тарас.
В шесть лет он спросил своего столетнего деда Ивана, на чем держится небо.
Дед, вынув трубку изо рта, рассказал ему, мальчику, что вон там, где небо сходится с землей, есть огромные железные столбы, которые его и подпирают.
С тех пор он стал грезить о том, чтобы найти железные столбы, на которых держится небо, — там, за этими столбами, должно было начинаться человеческое счастье…
«Не за этой ли горой, напротив нашего старого сада, стоят железные столбы, что поддерживают небо? — спрашивал он себя. — А что, если бы пойти да посмотреть, как это они его там подпирают? Пойду — ведь это недалеко», — решил Тарас однажды.
И вот отправился он прямо через леваду и долину за околицу села, прошел с полверсты полем. В поле высился огромный черный курган. Этих насыпей над древними могилами немало разбросано по всей Украине. Дед говорил, что там похоронены казаки. Ночью страшно смотреть на него. Наверное, выходят те казаки с могилы, разговаривают между собой. Но сейчас не страшно: на дворе еще день. Взобрался маленький Тарас на вершину кургана, чтобы поглядеть: далеко ли еще до тех железных столбов, что подпирают небо?
Стоит мальчуган на высоком кургане, и далеко видно ему кругом: во все стороны раскинулись среди зеленых садов села, белеют из темной зелени бедные, крытые соломой хатки; между деревьями выглядывает трехглавая, под белым железом церковь, в другом селе — тоже церковь виднеется, и тоже покрыта белым железом.
Задумался мальчик. «Нет, не это те железные столбы, что поддерживают небо! — размышляет он. — Сегодня, верно, уже не успею я дойти до них. Выберусь-ка я завтра вместе с Катериной: она погонит пасти коров, а я пойду прямо к железным столбам. А сегодня одурачу брата Никиту: скажу, что видел я железные столбы, что подпирают небо…»
И, скатившись кубарем с вершины кургана, Тарас пошел по дороге, не оглядываясь.
Уже вечерело, солнце почти спряталась. Он устал. Из-за леса показалась валка чумаков. Скрипят возы, медленно идут круторогие волы. Тарас остановился, прислушиваясь к знакомой песне.
Над речкою бережком Шел чумак з батожком, Гей, гей, з Дону да домой! — Постой, чумак, пострывай, Шляху в людей распытай, Гей, гей, чы не заблудився! — Мені шляху не пытать, Прямо степом мандрувать, Гей, гей, долю доганять!..— А куда ты, парубок, идешь? — спросил его чумак с переднего воза.
Бриль на нем широкий, из-под него, как из-под крыши, видно загорелое лицо.
— До дому, — ответил Тарас.
— А где ж твой дом, казак?
— В Кириловке.
— Так почему же ты идешь в Моринцы?
— Я не в Моринцы, я в Кириловку иду.
— А если в Кириловку, то садись, казак, ко мне на воз, мы довезем тебя домой, — просветлело улыбкой суровое лицо чумака.
Он поднял Тараса на воз, усадив его спереди.
— Ну, погоняй. Смотри, какой чумак!
Дал он кнут в руки, и Тарас, довольный, гордый, сидит, сияет, как новая монета. Еще бы: как настоящий чумак домой возвращается!
Едут, скрипят возы, медленно идут спокойные круторогие волы. Издалека они идут. Переправлялись через реки, пили чистую воду Днепра, брели по целинным бескрайним степям, пробовали южную горькую полынь, отдыхали возле самого Черного моря, возле соленых озер. И вот возвращаются домой, везут соль, рыбу…
— И меня дома такой же малыш дожидается, — говорит кто-то на соседнем возе. — Живые ли они там, или по панской воле уже с голода пухнут.
— Да, это так, — отозвался хозяин воза, на котором ехал Тарас, — как на пана поработаешь, то и этот Черный шлях белым покажется.
— А почему он Черный? — не утерпел спросить Тарас.
Помолчал чумак, выпустил дым из своей трубки, улыбнулся Тарасу.
— Маленький такой, белявый, а всем интересуется, — ласково проговорил чумак. — А потому, что этот шлях был когда-то самым страшным, очень опасным. Когда-то чумакам ехать по нему было опасно. Потому и Черный, что горя на нем немало случилось.
Хотел Тарас еще расспросить и о запорожцах, и о разбойниках: ведь чумаки такие бывалые люди, они все знают! Но видит — уже и в самом деле их село. Он весело закричал:
— Вон, вон наша хата!
— Ну, раз ты уже видишь свою хату, значит ступай с богом домой! — сказал чумак.
Он сняли мальчика с телеги, и Тарас опрометью бросился на пригорок, к хате.
Над левадой, над садом сгустились уже синеватые южные сумерки; из долины тянуло прохладной сыростью…
А в хате Григория Шевченко было неспокойно: маленький Тарас не явился к ужину, где-то запропал; как ни кликала его Катерина, как ни искали его повсюду — исчез хлопец, да и все тут!
На дворе, возле хаты, на зеленой мураве сидела и ужинала вся семья. Лишь Катерина от волнения не могла есть, кусок не лез ей в горло; она стояла у калитки, подперев голову рукой, и все высматривала — не покажется ли загулявшийся сорванец.
И только появилась белокурая головка над перелазом, Катерина радостно закричала:
— Пришел! Пришел! — и, бросившись к брату, схватила его на руки, понесла через двор к хате, усадила в кружок ужинавших. — Садись ужинать, приблуда!
После ужина, укладывая мальчугана спать, Катерина целовала его:
— Ах ты, приблуда!..
А Тарас долго не мог уснуть: он думал о железных столбах и о том, говорить ли о них Катерине и Никите или не говорить. Никита бывал с отцом в Одессе и там, конечно, видел эти столбы. Как же говорить ему о них, когда Тарас их вовсе не видал?..
Вспомнил Тарас и рассказы родного деда, свидетеля «Колиивщины» — крупнейшего крестьянского восстания на Украине в 1768 году, — о гайдамаках, об их кровавой борьбе против шляхты. Через два десятка лет в эпилоге к своей поэме «Гайдамаки» он напишет:
Вспоминаю детство, хату, степь без края, Вспоминаю батьку, деда вспоминаю… Как в праздник, Минеи закрывши, бывало, И выпив с соседом по чарке по малой, Попросит он деда, чтоб тот рассказал Про то, как Украина пожаром пылала, Про Гонту, Максима, про все, что застал. Столетние очи, как звезды, сияли, Слова находились, текли в тишине… И слезы соседи порой утирали, Мальчонкою плакать случалось и мне…Вечерами иногда он садился к деду на завалинку и просил его рассказать о казаках, об их подвигах… Дед закрывал глаза и погружался в воспоминания…
— Вспоминаю батька нашего славного, Максима, вспоминаю гайдамаков. В наших лесах они собирались, здесь панов проклятых били. Давно это было, я еще молодой был. Да, давно… Проклятые паны шляхские задумали нашу землю всю захватить, всех людей на свою веру перевернуть, всех нас ополячить. Издевались — сказать нельзя как!
Был в Вильшане титарь, церковный староста — Данило Кушнир. Говорили люди — такой уже человек, что другого такого и не найдешь. И что ж с ним сделали! Замотали руки соломой и подпалили, а потом зарубили насмерть. Да разве титаря одного! Слово не так — в тюрьму, пытки. Не стерпел народ, пошел в гайдамаки — защищать бедный свой край. Говорили еще люди, будто бы царица золотую грамоту написала, чтобы всех панов польских убили, да и жили себе свободными.
Был у нас атаман — орел — запорожец Максим Железняк. Видел его, видел, как приехал он из Мотронинского монастыря. Как глянул на нас, сердце у меня загорелось…
В Мотронинском монастыре собрались к Максиму запорожцы, посвятили ножи свои и пошли Черным шляхом панов бить. Как раз под Маковея над речкою Тясьмином, что под Чигирином, собрались гайдамаки в дубраве. Разобрали гайдамаки свяченые ножи и стали ждать третьих петухов. Но есаул Максимов не утерпел, не дождался третьих петухов, поджег Медведовку, и запылала вся Украина…
Такое вот было! Кто только мог топор поднять, все до Железняка — даже женщины с рогачами в лес к гайдамакам подались. А Максим своей саблею-домахою рубает, карает, поля трупами покрывает, ксендзов проклятых, иезуитов выметает, чтоб и на семена не было. Умели на чужую землю, на чужую жизнь зариться — ну и отведайте хорошенько кары народной!..
— А Гонту ты видел, дед?
— Нет, Гонты не видел, говорят, верный побратим был Максиму, за Украину жизнь отдал. Ох, и досталось ляхам… — и умолк дед.
— А потом? — спросил Тарас.
— Ну, что потом — предали гайдамаков, и царица и ее войско з шляхтою вместе задушили гайдамаков. Гонту замордовали, язык ему отрезали, четвертовали, Максима в Сибирь заслали, да начали ловить гайдамаков по ярам да лесам, вешать, палить.
— А золотая грамота? Ви ж говорили, что она золотую грамоту написала, чтобы люди вольные были…
— Какая там грамота! Вот такая та золотая грамота, что все мы крепостными под паном ходим. Обманула царица… — вздохнув тяжело, махнул рукою дед…
Читать Тарас научился рано. О школе первым завел разговор дед.
— Что в голове есть — то всю жизнь несть, — сказал он. — Пора уже Тараса до дьяка в науку отдать.
— Да маленький он еще, — тихо отозвалась мать.
Но отец поддержал деда.
— Ничего, пусть сызмальства учится. Что будет уметь, того за поясом не носить.
Тарасу было и интересно, и немного боязно идти в школу. Он не раз бегал под ее окнами и слышал, как учитель, дьяк, громким голосом говорил:
— Аз-буки! Аз-буки!
А за ним ребята все хором:
— Аз-буки! Аз-буки!
Иногда слышно было плач и крики, и тогда селяне, подморгнувши один другому, говорили:
— Ишь, как дьяк березовым пером выписывает!
Скоро и сам Тарас оказался в отаре, состоящей из десяти — двенадцати босоногих ребят, и малый Тарас тоже вместе со всеми начал повторять за дьяком:
— Аз-буки, аз-буки!
Выбегая из школы, он вместе с другими ребятами пел:
— Аз — били меня раз! Буки — не попадайся дьяку в руки!
Но попадать дьяку в руки Тарасу приходилось чаще других. Непоседливый, интересующийся всем вокруг, Тарас чувствовал большую тягу к науке, хоть и тяжелая была та наука.
По субботам всех учеников — и правых, и виноватых — дьяк сек розгами, причитывая четвертую заповедь: «Помни… день… субботний…» и т. д. При этом каждый ученик должен был пойти в соседний сад Грицка Пьяного, нарезать там (конечно же, украдкой, чтобы хозяин не заметил) вишневых розг, принести их в школу и ждать, пока учитель выпорет его этими розгами. Били не только по субботам! Небитым оставался только тот ученик, до коего не доходила очередь, потому что учитель уставал от битья и ложился спать. Иногда учитель приходил в школу в хорошем настроении, тогда выстраивал учеников в ряд и спрашивал: «А что, хлопцы! Боитесь вы меня?» Ученики все в один голос по его приказу должны были кричать: «Нет, не боимся!» — «И я вас не боюсь», — веселился учитель, распускал их по домам, а сам ложился спать.
У этого жестокого дьячка Тарас закончил свое образование, выучил часослов и Псалтырь и научился писать. Голодным он был постоянно, только одни покойники выручали, над которыми дьяк посылал Тараса читать Псалтырь. Ходил Тарас постоянно в серенькой дырявой свитке и в вечно грязной рубашке, а о шапке и сапогах и помину не было ни летом, ни зимой.
Этот дьячок Бугорский был настоящий деспот, на которого наткнулся Тарас, который поселил в душе мальчика на всю жизнь глубокое отвращение и презрение ко всякому насилию одного человека над другим. Детское сердце было оскорблено этим исчадием деспотических семинарий миллион раз. Бесконечные порки и лишения, лишения и порки ожесточили вконец сердце босоногого подростка, и он покончил свои отношения с дьячком так, как вообще оканчивают выведенные из терпения люди — местью и бегством. Найдя его однажды бесчувственно пьяным, Тарас употребил против него собственное его оружие — розги — и, насколько хватило детских сил, отплатил ему за все его жестокости.
Здесь же, в школе дьяка Бугорского, пробудилась у Тараса страсть к рисованию. Маленький Тарас выделялся среди своих сверстников любовью к рисованию. Потом он напишет в своем стихотворении об этом:
Бывало, в школе я когда-то, Лишь зазевается дьячок, Стяну тихонько пятачок — Ходил тогда я весь в заплатах, Таким был бедным, — и куплю Листок бумаги. И скреплю Я ниткой книжечку. Крестами И тонкой рамкою с цветами Кругом страницы обведу, Перепишу Сковороду Или «Три царие со дары» И от дороги в стороне, Чтоб обо мне кто не судачил, Пою себе и плачу…Когда ему становилось невмоготу от порок, он обыкновенно убегал и по нескольку дней скрывался в садах, причем запасался бумагой, а при случае не прочь был стащить у дьячка и пятак; из бумаги он делал маленькую книжечку и тотчас же принимался обводить ее крестами и «визерунками с квитками» или списывать Сковороду.
Так и на этот раз. Отомстив своему мучителю, он похитил у него книжечку и бежал в село Лысянку к маляру-дьякону. Но через четыре дня он снова бежит, уже в Стеблов (Каневского уезда), а оттуда в Тарасовку к дьячку «хиромантику», который, посмотревши на его левую руку, признал его ни к чему не годным, «ни даже к шевству, ни к бондарству». Похождения эти кончились неудачей, и он должен был возвратиться домой.
К тому времени он был уже круглым сиротой. Сначала умерла мать. Тарасу исполнилось 9 лет.
— Со святыми упокой рабу божью Катерину, иде же несть болезни, печали, ни воздыхания, — читает дьяк и поднимает глаза из-подо лба, и косица, похожая больше на селедку, чем на обычную косу дьякона, трусится в такт. Отец весь серый, согнутый и не отрывает глаз от гроба. Тарас держит за руку сестру Иринку, а за юбку Иринки держится слепая Марийка, а брат Никита держит маленького Иосифа. В гробу лежит мать, такая спокойная-спокойная, только лицо совсем желтое. Как будто из воска. Почти все лето болела, но разве лановой на то обратил внимание? И жала, и вязала, как всегда, а уже когда обмолотились — доходились ее ноги, доработались ее руки, — слегла и не встала. Не верится Тарасу — неужели мама не поднимется, не посмотрит и ничего не скажет?
— Иде же несть болезни, печали, — выводит дьяк и трясет косою, как селедкой.
Иринка заливается слезами.
— Мама, мама… — шепчет она, не понимая еще как следует, что случилось.
Когда дьяк прочитал последнюю молитву и гроб начали спускать в могилу, дети заплакали от страха.
— Не бросайте туда маму! Не бросайте! — закричала Иринка.
— Бедная сиротка! — кто-то произнес из толпы.
Тарас грязными руками утирал слезы, оставляя черные полосы по всему лицу.
Скрылся под землей гроб, появилась могила.
Отец посмотрел на детвору — один одного меньше, сгрудились вокруг него…
Тяжело отцу с малыми детьми. Вскоре он женился.
На другом конце села жила вдова, не старая еще, только то беда, что и у нее трое детей.
«Ничего, — подумал отец, — может, вдвоем как-то легче будет всем раду дать».
Мачеха переехала в хату Шевченков.
— Вот вам мать, а это тебе дети, — сказал отец и детям, и новой жене.
Зыркнул Тарас на мачеху — сразу укололи сердитые глаза и лицо без улыбки, неприветливое. Возле нее сгрудились ее дети — мальчик Степанко, чуть младший от Тараса, двое девочек — таких как Иринка и Марийка.
Только вышел отец с хаты, как мачеха сразу начала раздавать поручения:
— Ты, Ирина, присмотри за маленькой, а ты, Тарас, — хватит тебе дурака валять да по чужим садам лазить, — возьми лопату та уберись во дворе, везде у вас грязь.
И началось… С утра до вечера слышат соседи — орет мачеха, ругает всех — и детей, и даже мужа.
А отец только глянет на несчастных детей своих, махнет рукою, да и подастся куда-нибудь подальше от родной хаты, чтоб не слышать и не видеть этого пекла. Но больше всего Тарасу доставалось, потому что он и не смолчит, и за сестер заступится, и Степанку сдачи даст. Мачеха работы для него не жалеет. Иногда в праздник вырвется он из дома и бежит в соседнее село к своей сестре Кате, которая вышла туда замуж. Глянет Катя и руками всплеснет. Худой, грязный, голодный, в голове чего только не завелось. Сестра его пригревала, сколько могла. Горе мое, сирота! Заплачет Катя, обмоет, облатает, накормит, да так, чтоб свекруха не знала. На расспросы Тарас не отвечал — прогнали ли его откуда, били или есть ему не давали, — никогда не жаловался. Однажды зашел в хату, на лавку камнем упал и уснул. Видел Тарас, что и у Кати жизнь не мед. Ходит на панщину, ребенка с собою берет, в тени положит, а сама снопы вяжет. А дома свекруха лютая, муж пьет… Грустным Тарас возвращается от сестры.
Как-то отец куда-то уехал. Шел их селом солдат к себе домой. Двадцать пять лет, бедный, отслужил. Зашел в Шевченкову хату, попросился переночевать.
Вечером Тарас не отходил от солдата, все расспрашивал:
— Дядя, расскажите еще, как же вы воевали?
— Бодай его и не вспоминать — сам узнаешь, когда солдатом станешь.
— Нет, не хочу быть солдатом, — мотнул головой Тарас, — не хочу, а вы расскажите только.
И до поздней ночи рассказывал солдат и о муштре в казармах, и о тяготах солдатской жизни. Улыбался только, когда рассказывал, как французов гнали. Поздно легли спать. А утром встал солдат, заглянул в кошелек — нет денег.
— Деньги, хозяйка, пропали, целых сорок пять копеек! — грустно сказал солдат.
— Не иначе как Тарас украл! — закричала мачеха. — Он и крутился возле вас, заметил, наверное, деньги.
— Не крал я, — вспыхнул Тарас. — Я только слушал, что дядя рассказывал.
— Тарас и спал рядом с ними, — добавил Степанко, облизывая губы.
Страшно любил он, когда на Тараса сердились.
— Сам, наверное, украл! — закричав Тарас. — Я вот тебе сейчас дам, будешь знать, как врать! Это ты солдатскую одежду в кладовку относил.
— А, так ты, щенок, на моего Степанко! — заорала мачеха, и удары посыпались на бедного Тараса. — Чтобы сейчас же были деньги, я с тебя душу выбью, ты у меня живым не будешь, если не вернешь деньги.
Еле сбежал Тарас от мачехи.
«Куда же спрятаться?» — в горячке думал Тарас.
Пробежал сад, мимо пруда и в сад до соседа Желеха — там такая густая калина, что никто не найдет. Залег Тарас в кустах, весь вздрагивает от слез.
«Здесь и буду, не пойду, ни за что не пойду домой! — подумал. — Пусть лучше умру».
И так жаль себя стало, так жаль, что еще сильнее заплакал. Никто его не пожалеет… Нету Кати, нету мамы, может, только Иринка заплачет…
Тарас уснул… Проснулся — уже день к вечеру клонится, уже нет ярких полос от солнца на темной зелени кустов. Очень хотелось есть. Он снова закрыл глаза. Голосов нигде не слышно, только иногда шелестят ветки, когда птичка перелетит, да еще зашуршит трава, когда пробежит зеленая ящерица.
«Здесь хорошо… — подумал Тарас. — Здесь не найдут. Не вернусь я в хату. Вот только, чтобы есть не хотелось. Разве что снова уснуть?»
И вдруг он услышал, что ветки шелестят сильнее, чем от взмахов птиц.
«Неужели нашли? — сжалось сердце, и даже ноги похолодели. — Снова будут бить!»
Захотелось сжаться в маленький клубочек, как тот комочек земли, и спрятаться под корень, под листик, чтобы никому, никому не было видно. А шорох усиливается.
— Тарасику! — неожиданно услышал он шепот. — Тарасику! Ты где? Это я…
— Иринка! — чуть было не крикнул Тарас, и слезы радости блеснули в его глазах. — Иринка! Нашла!
— Тарасику, — зашептала Иринка, прижавшись к нему и неимоверно радуясь, что все-таки нашла его. — Я так тебя искала, везде искала — и в стодоле, и на леваде. Тарасику, я тебе кушать принесла, — и она вынула из-за пазухи две печеные картофелины. — На, ешь. Когда все лягут спать, я тебе еще принесу.
— А как там дома?
— Ой гневаются, ой ругаются! — вздохнула Иринка. — Тарасику, а ты правда не брал грошей? Если брал, верни им лучше.
— Ты мне не веришь? — промолвил Тарас. — Вот крест тебе святой, пусть меня гром на этом месте убьет, если я брал!
Он смотрел так горько и грустно, что Иринка и без присяги поверила б.
— А когда ж ты домой вернешься?
— Я вообще не вернусь… я тут буду жить. Разве тут погано? А ты же еще придешь? И не угождай ей, слышишь? Пусть она сдуреет!
Когда на другой день Иринка прибежала тайком от всех к Тарасику, она не узнала ни его, ни тех кустов. Тарас, веселый, что-то напевая себе под нос, делал из веток небольшой курень.
— Видишь, как здесь хорошо, — засмеялся он, уминая кукурузу, что принесла Иринка.
— А и действительно хорошо! — просияла улыбкой Иринка. — Красивее, чем в нашей хате.
— Вот, давай, еще дорожки сделаем и песком посыплем, ты от става принеси, и будет совсем как в поповом саду.
Быстро забылось горе. Днем Тарас налаживал свой курень, дорожки притоптал вокруг. Прибегала Иринка, Тарас рассказывал ей страшные сказки, — он умел выдумывать такое разное! А вечером он смотрел на темное небо, на звезды и мечтал: как будет большим, то никто, никто уже не посмеет его бить, потому что он станет гайдамаком.
Вот так и прожил он четыре дня. Иринка носила кушать, и было беженцу совсем не погано.
Но на пятый день случилось лихо. Степанко уже давно заметил, что все бегает Иринка куда-то в одну сторону, вот и прицепился к ней:
— Куда ты бежишь? Что ты несешь? Что ты там за пазухою прячешь?
— Никуда я не бегу, и ничего я не несу, — огрызнулась Иринка. — Какое тебе дело?
Хотя заморышем и слабым был Степан, но вредный, выследил все же.
— Мамочка, а я знаю, где Тарас, к нему Иринка бегает и еду ему носит!
— Ой, слышите ли, вы, добрые люди, — заверещала мачеха, — объявился ворюга, объявился! Если бы он не украл, то и не убегал бы и не прятался! Ну, пойдем и приведем этого разбойника!
С ней пошел и дядя Тараса, Павел, великий пьянчуга, человек без жалости. Как раз в тот день не на что было ему похмелиться, поэтому он был злой-презлой, как никогда.
Тарас как раз развешивал на стенах своего куреня клочки бумаги с рисунками, которые он сам нарисовал, когда неожиданно его ухватили за ноги, как будто клещами.
— Ну-ка, иди ко мне, ворюга!
И крепкие руки дядька Павла вытащили Тараса из его убежища на свет божий, злой, немилосердный свет!
Так уже били Тараса, так били, что и не чувствовал он и не понимал ничего.
— Та не бейте его, — промолвил солдат, — пусть уже у меня будет недоля.
— И что вы кажете, — вскипела мачеха, — чтоб на мою хату да такая неслава!
— Признавайся, ты взял деньги? — гремел дядя. — А то всю шкуру сдеру.
И Тарас не выдержал:
— Я… — еле слышно прошептал он.
— А, признался! — закричала мачеха.
— Признался! Признался! — запрыгал Степанко.
— Где ж деньги? Говори, где деньги?
«Где ж деньги? — подумал Тарас. — Что же им сказать?»
— Говори, а то убью!
— Закопал… в саду закопал…
Иринка стояла чуть жива со страха — ведь он клялся ей, что не брал.
— Где закопал? — не переставал цепляться дядя.
— Закопал… я их не брал… закопал в землю… не знаю где… — бормотал Тарас уже почти без памяти.
Иринка стояла, и слезы текли по щечках. Она не вытирала их, боялась пошевелиться. Она поняла — он нарочно признался, чтобы перестали бить.
Полумертвого Тараса кинули в кладовую. Мачеха открыла материн сундук, вынула оттуда новую юбку и продала. Деньги отдала солдату:
— Чтоб я еще свое на них тратила! Пусть их мать расплачивается своим добром.
А вечером Иринка увидела, как Степанко, когда не было никого в хате, вынул из-за образов сорок пять копеек и убежал с ними на улицу.
— У, проклятый! — всхлипнула Иринка и побежала в кладовую.
— Тарасику, — прошептала она, — я видела, то Степанко украл!..
А через два года умер и отец.
Это случилось в марте месяце, когда погода то к зиме склоняется, то к весне; то пригреет солнышко, зашумят ручьи с гор, выбегут дети почти босые, прыгают, поют; а ночью вдруг рассердится мороз, что солнце ему веку убавляет, заскрипит, и снова наутро все льдом взялось.
Поехал отец в марте аж в Киев — добро какое-то пана возил, застудился, заболел. Приехал — не узнать его. Уже на что мачеха — и та перепугалась. Оно, правда, и мачехе жить не сладко, с такой жизни доброй не станешь: детей — как гороха, а нищеты — как у пана добра. Надо б было отцу хотя бы немного полежать, да где там — гонят на работу.
— Иди, иди, лодырь, — орет приказчик, — давно на конюшне не был, розг не пробовал!
А когда с панщины принесли отца, то уже взгляд был мутный. Когда положили отца на лавку, он сказал слабым голосом:
— Приведите всех.
Все дети собрались, все родственники.
— От и смерть пришла, — еле слышно вымолвил. — Хату Никите оставляю, — и начал всех наделять. — Инструмент — Иосифу, сундук со всем добром в нем — Иринке и Марийке… — Остановил взгляд на Тарасе… Уже с трудом сказал: — Сыну Тарасу с моего хозяйства ничего не надо, он не будет обыкновенным человеком. Будет из него либо что-то очень хорошее, либо негодяй — ему мое наследство либо ничего не значило бы, либо ничем не помогло бы…
Глянул на Тараса долгим взглядом, будто бы продолжая, — ты же понимаешь!
Подошли дети попрощаться, поблагословил всех, а к полуночи его не стало.
Детство — трудное и трудовое, но все-таки детство — окончилось безвозвратно.
Мало светлого осталось в памяти Тараса об этих ранних годах его жизни:
За что, не знаю, называют Мужичью хату божьим раем… Там, в хате, мучился и я, Там первая слеза моя Когда-то пролилась! Не знаю, Найдется ли у бога зло, Что в хате той бы не жило?.. Не называю тихим раем Ту хату на краю села. Там мать моя мне жизнь дала, И с песней колыбель качала, И с песней скорбь переливала В свое дитя. Я в хате той Не счастье и не рай святой — Я ад узнал в ней… Там забота, Нужда, неволя и работа… Там ласковую мать мою Свели в могилу молодою Труд с непосильною нуждою. Отец поплакал, вторя нам, Голодным, маленьким ребятам, Но барщины ярем проклятый Носил недолго он и сам. Бедняга умер. По дворам Порасползлись мы, как мышата… Дрожу, когда лишь вспоминаю Ту хату на краю села!Мачеха, чтобы избавиться от пасынка, отдала его в пастухи. Пастухом Тарас был плохим. Пасти овец и свиней ему мешало живое воображение. Он часами лежал на старых могилах, разглядывал небо, рассматривал украденную у дьячка книгу с картинками или играл сам с собою в тихие игры.
Это время он потом отразил в своем стихотворении:
Мені тринадцятий минало Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, Чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, Неначе в бога…….. Уже прокликали до паю, А я собі у бур’яні Молюся богу… І не знаю, Чого маленькому мені Тоді так приязно молилось, Чого так весело було? Господнє небо і село, Ягня, здається, веселилось! І сонце гріло, не пекло! Та недовго сонце гріло, Недовго молилось… Запекло, почервоніло І рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся: Село почорніло, Боже небо голубеє — І те помарніло. Поглянув я на ягнята — Не мої ягнята! Обернувся я на хати — Нема в мене хати! Не дав мені бог нічого!.. І хлинули сльози, Тяжкі сльози!.. А дівчина При самій дорозі Недалеко коло мене Плоскінь вибирала Та й почула, що я плачу, Прийшла, привітала, Утирала мої сльози І поцілувала… Неначе сонце засіяло, Неначе все на світі стало Моє… Лани, гаї, сади! І ми, жартуючи, погнали Чужі ягнята до води.Той девушкой, которая утешала Тараса, была его соседка Оксана Коваленко, тоже сирота и крепостная. Так началась эта трогательная, задушевная их дружба… Это была первая любовь Тараса. Вместе с Оксаной Тарас пас стадо, вместе работал в поле. А в минуты отдыха дети плели венки и пели свои любимые песни: «Тече річка невеличка з вишневого саду, кличе козак дівчиноньку собі на пораду…» Или Оксана вдруг запевала бойко и весело:
Люблю, мамо, Петруся, Поговору боюся!..А потом, тесно прижавшись друг к другу, дети затягивали грустную, мелодичную «У степу могила з вітром говорила…», и Тарас плакал…
— Почему ты плачешь? Ох, дурной Тарас, гляди, как маленький плачет. Давай, я слезы тебе вытру, — и девочка утирала широким рукавом глаза Тарасу.
Тарас стыдливо улыбался. Она сидела возле него, положив руку ему на плечо.
— Не грусти, Тарасику, ведь, говорят, лучше всех ты поешь, лучше всех читаешь, еще говорят, ты лучше всех рисуешь. Вот вырастешь и будешь художником, правда ж?
— Правда, художником, — улыбнулся радостно Тарас.
— И ты разрисуешь, Тарасик, нашу хату, правда ж?
— Правда… А еще многие говорят, что я ленивый, ни на что не способный… — сказал он, но не грустно, будто сам удивившись, что так говорят. — Нет, я не лодырь, я буду-таки художником!
— Конечно, будешь! — убедительно говорила Оксаночка и неожиданно рассмеялась. — А что ты лодырь, то это правда. Смотри, где твои ягнята! Ой бедные ягнята, что чабан у них такой, — они же пить хотят!
Трагически сложилась судьба Оксанки. Когда Шевченко в 1843 году, после долгого перерыва, снова приехал на Украину и побывал в родном селе, он спросил у своего старшего брата:
— А жива ли моя Оксаночка?..
— Какая это? — не сразу вспомнил брат.
— Да та, маленькая, кудрявая, что когда-то играла со мной…
И тут вдруг заметил, как тень прошла по лицу брата.
— Что же ты смутился, братец?
— Да знаешь, отправилась твоя Оксаночка в поход за полком, да и пропала. Возвратилась, правда, спустя год. Ну, да что уж там! Возвратилась с ребенком на руках, остриженная. Бывало, ночью сидит, бедная, под забором, да и кричит кукушкой или напевает себе тихонько и все руками так делает — словно косы свои расплетает, а кос-то и нет! А потом снова куда-то исчезла — никто не знает, куда девалась. Пропала, свихнулась… А что за девушка была! Да вот же — не дал бог счастья…
Молча выслушал Тарас эту грустную повесть, опустил голову, нахмурился и про себя подумал:
«Не дал бог счастья… А может, и дал, да кто-то отнял — самого бога одурачил!..»
Старший брат Тараса, Никита, еще от отца научившийся мастерству колесника, предложил Тарасу преподать ему сложную и весьма необходимую по тем временам науку выгибания косяков и ободьев для тележных колес из свежего дуба или березы. Но Тарас наотрез отказался. Пробовал брат приучить Тараса к земледельческому труду. Но «хлеборобство» не улыбалось ему. Его волновали непонятные для детского ума желания и стремления к простору жизни, к свободе, и он бросал волов в поле и уходил бродить и мечтать о рисовании.
Тарас пошел батраком в зажиточный дом кирилловского попа Григория Кошица.
На его обязанности первоначально лежал уход за буланой кобылой и грязная домашняя работа: он топил печи «в покоях», мыл посуду и полы. Позже его стали посылать на всевозможные хозяйственные и полевые работы, а также и в самостоятельные экспедиции на буланой кобыле на ярмарки и базары.
За свою службу у Григория Кошица Тарас никакой платы не получал, работая «на харчах и хозяйской одеже».
Вскоре он еще раз решил попытать счастья и отправился в село Хлипнивцы, славившееся своими малярами.
В этом селе, что за Вильшаною, дьяком был хороший маляр. К нему и пришел Тарас. Этот маляр не был хиромантом. Ему было безразлично, какие линии на руках Тараса.
Маляр попросил его нарисовать хату. И рисунок Тараса ему понравился.
— Так вот что, парень, — сказал дьяк, — оставить тебя у себя я бы оставил, но ты ведь панский, вот мне и нужно разрешение от пана, чтобы ты у меня жил и учился. Иди в Вильшану и попроси управляющего, чтобы он дал тебе такой документ, разрешение.
— А он даст? — спросил Тарас, и аж дух ему перехватило.
— А почему нет? Поучишься у меня и к пану вернешься.
«То уже посмотрим», — подумал Тарас. И как будто не драная свитка была у него на плечах, а крылья выросли.
— Так я пойду, побегу сейчас же. До свиданья, дядечку, я приду сразу же!
Он действительно как будто на самом деле летел в Вильшану. Он будет учиться рисовать! Осокори, вы слышите? Птичка, ты летишь быстро, но я тебя обгоню!
— Дядя, вы едете в Вильшану, может, подвезете? Нет! Я быстрее вашего коня!..
«Сумасшедший!» — подумал мужик, который ехал шляхом…
Управляющий, толстенький, гладенький человечек, сегодня получил от молодого пана Энгельгардта, которому теперь принадлежало все имущество и села, письмо. Письмо, наверное, было очень важным, потому что сразу он начал орать на всю челядь, двоих даже отправил на конюшню для порки, а сам ходил, как туча, с озабоченным, сердитым лицом.
— Там к вам какой-то хлопец з Кириловки просится, — сказали ему.
— Ну, гони его сюда!..
Перед ним стал паренек с быстрыми серыми глазами.
— Пан управляющий, я к вам. Я очень хочу учиться рисовать, и хлипнивский дьяк берет меня в ученики. Я пришел к вам, чтоб вы разрешили, документ дали.
Парень говорил свободно, раскованно.
«А именно тебя, голубь, мне и надо!» — подумал управляющий, сразу повеселев, даже причмокнул.
— А родители у тебя есть?
— Нет, умерли, сам я.
— Ну, оно и лучше.
— Нет… — помотал головой Тарас, — где там уж лучше — как горох при дороге, кто не идет, тот и скубнет. Вот как я выучусь на художника, пан управляющий… Так дадите документ?..
— Какой еще документ? Глупости! — засмеялся управляющий. — Я письмо от пана получил. Ему именно таких хлопцев, как ты, надо в казачки набрать.
— В казачки?! Какие казачки?.. — еле выговорил Тарас.
— А какие там казачки, пан знает. Так что тебя я до кухаря нашего посылаю. Ты парень, вижу, моторный и сообразительный, может, и научишься чему-нибудь.
— Пан управляющий… — дрожащим голосом промолвил Тарас. — Я хочу на художника учиться. Хлипнивский дьяк согласился меня взять…
— Ну, хватит болтать! — махнул рукой управляющий. — Пан приказал всех детей ему собрать. Отведите его на кухню.
Еще не понимая, что случилось, Тарас пошел за каким-то слугою на кухню…
Он глянул из окна, будто бы прощаясь с лугами, гаями, прудами. Теперь прощай все!.. То хотя бы вольно он бегал себе везде, а теперь — как будто в клетку его посадили.
Шляхом ехали арбы, может и в Кириловку, где Иринка, Оксаночка, дед… Теперь он уже совсем невольник… А как весело час тому назад бежал он этим самым Черным шляхом!..
Так Тарас попал к своему пану Энгельгардту…
В письме, где сообщалось, сколько отправляют пану пудов пшеницы, масла, полотна и сколько детей, напротив фамилии Шевченко управляющий приписал: «Можно выучить на домашнего художника», потому что заметил и коллекцию Тарасовых рисунков.
Но пан на это не обратил никакого внимания. Ему показалось, что именно из Тараса выйдет домашний казачок.
«Казачок! И придумали же такое!» — со злостью думал Тарас.
Само это слово было ненавистным Тарасу, наверное, потому, что походило на любимое ему слово «казак». Были деды вольными казаками, а внуки стали у панов «казачками»!..
Пан сидит в мягком кресле. Иногда так себе просто сидит, отдыхает после прогулки, иногда читает какую-нибудь книжку, не по-нашему писанную, смешную, наверное, потому что всегда смеется, когда читает. И все одну и ту самую, хотя она и тоненькая.
— Трубку! — иногда крикнет. Хотя трубка у него рядом, под боком, на круглом, из красного дерева столе, да не хочет он руку протянуть — казачок подаст.
Закурил трубку. Тишина.
— Воды! — брякнет пан, и казачок снова кидается стрелою до того же красного столика, нальет воды с хрустального дорогого графина, подаст. Снова тишина и грусть.
Казачок сидит в передней и зевает так, что едва челюсть не свернет. И так надо просидеть целехонький день. Пойти никуда нельзя — а что, если пану потребуется вода или муху отогнать?
От нечего делать казачок начинает под нос себе напевать старую родную песню:
— Ой не шуми, луже, зеленый байраче, не плачь, не журися, молодый казаче!..
Пану это мешает.
— Ты что там распелся, быдло!.. Ну-ка, умолкни!
Что ж, почешет затылок Тарас, да и замолчит.
Повара из него никакого не получилось — так и старший повар признал. Не раз ощущал Тарас на своей голове и здоровенного половника, и макогона, но все же таки далее того, чтоб пепел выгрести либо казаны почистить, не продвинулся. Да и это выполнял абы как. Ну, а пан хотел, чтоб его кухня прославилась не меньше чем кухня графа Строганова — у того ж крепостной повар придумал блюдо и прославил своего пана между всеми панами, и называлось то блюдо — «бефстроганов». Пан Энгельгардт любил вкусно поесть, поэтому и кухню хотел завести не какую-нибудь. Слава Строганова не давала ему покоя. Проявил бы Тарас талант, может, и в Варшаву саму послал — выучиться готовить разные деликатесы, — так и управляющий говорил, — но Тарас убегал с кухни и где-то под кустами развешивал свою коллекцию рисунков и любовался ими.
— Ничего из него здесь не выйдет! — махнул рукою управляющий.
Эх! Тоска какая сидеть в передней и ждать, пока гукнет пан воды ему подать, либо трубку принять. Лучше, когда пан едет куда-нибудь, тогда хоть света немножко увидишь. По дороге на заездах не без того, чтоб не пополнить свою коллекцию рисунков, а когда пана нет дома, с этих дешевых ярмарочных картинок Тарас перерисовывает. Есть у него уже и Соловей-разбойник, и старый седой Кутузов, и казак Платов. Но казака Платова он не срисовал еще, ждет подходящего часа.
В Вильно 6 декабря, как и во всех больших городах, «благородное дворянство» давало пышный бал. Ведь это был день именин императора всероссийского Николая I.
Уже с утра в доме начались шум и беготня. Парикмахер, прыгая то влево, то вправо, подбривал пану щеки и подправлял пышные бачки. Казачки бегали с кипятком, полотенцами, разными предметами панского туалета. Портной пришивал к новому гвардейскому мундиру золотые пуговицы с орлами. Лакеи что-то доглаживали, что-то чистили. Тарас с ног сбился, но настроение у него было прекрасное. Еще бы! Пан едет на бал! Он там будет гулять всю ночь. Вот когда Тарас перерисует Платова.
Наконец поданы сани, на пана накинули шубу с бобровым воротником.
— Гони! — И Тарас сам себе пан!..
Он подождал, пока в доме все затихло. Уснули уставшие дневной суматохой лакеи и другая челядь, и даже ключница, которая любила на ночь все осмотреть, перестала уже звенеть своими ключами. Тогда вынул из-за шкафа, что стоял в передней, свое богатство. В кармане штанов еще утром спрятана сальная свечка — ага, не досмотрела ключница — и карандаш, что также незаметно он взял со стола у конторщика, когда бегал к нему с каким-то поручением от пана.
Еще прислушался. Нет, все спят. Он, улыбаясь и радуясь, что может, наконец, отдаться любимому делу, засветил свечку, разложил свои рисунки, разрезал листок бумаги и начал перерисовывать портрет знаменитого генерала Платова. Платов ехал по зимним полям. По обочинам дороги валялись замерзшие французы. Конь Платова гарцевал, как будто позировал мальчику.
Конь выходит хорошо, нет, таки действительно хорошо. Тарас прищуривает глаз и смотрит сбоку — настоящий конь, ишь, как копытами землю роет! Вот теперь за генерала надо браться. Если бы он таким же, как на картинке, вышел — на картинке сразу видно, что это знаменитый генерал. Тарас начинает трудиться над генералом. Надо постараться, чтобы и глаза у генерала так же блестели. Ну, конечно, этого карандашом не сделаешь так, как красками. Ничего, попробуем и карандашом…
В «Дворянском собрании» — огни, музыка, уже давно прозвучал «Гром победы» и миловидные шляхетные паненки в причудливых прическах и легких, как тучка, одеждах оттанцевали мазурку. А Тарас все рисует…
Стекает сальная свечка, на улице начинает сереть, и к дому пара рысаков подвозит сани с паном. Скрипит снег…
А Тарас рисует.
Двери уже скрипят сильнее, чем снег, но и этого Тарас не слышит. Он чувствует только, как чья-то рука хватает его за чуб, и видит, как все его рисунки летят на пол.
— Что это? Проклятье! — лютует пан и угощает Тараса по щекам и по голове крепкими оплеухами. — Придумал такое! На конюшню! Жечь свечу! Пожар захотел устроить! Не слышишь, как пан приехал! Быдло!..
Только панскими оплеухами на этот раз не обошлось. Утром двое здоровых лакеев потащили бедолагу Тараса на конюшню, и надолго полосы от розг кучера Сидорко остались у него на спине.
— Вот упертый, молчит и не крикнет! — сказал кучер Сидорко.
И в самом деле, Тарас не кричал, хотя били его до крови. Только слезы, как горох, катились по лицу, и больше от несправедливости, чем от унижения и пекущей боли.
Вечером собрались у Энгельгардта несколько друзей — за чаркой доброго вина посидеть, в карты перекинуться. Тарас, бледный, хмурый, прислуживал им. Велись разговоры обо всем — и как панна Зося вчера мазурку танцевала, и как Гладкевич зайца загнал, и как у Трощинских гуляли, пока без памяти не понапивались.
— Гуляли, хорошо гуляли, панове, — облизывая губы, говорил тоненький чернявый панок. — Вы ж знаете, Павел Васильевич, — обратился он к хозяину, — у Трощинского теперь театр — да какой театр! Из своих же людей организовал, из крепостных.
— Ну, что там у Трощинского, — перебил его толстый, лысый пан в зеленом жупане. — Набрал таких, что ступить не умеют. От у Скоропадских балет — ой, матка боска, девчата тебе — ягодка к ягодке! Такие там красавицы! И учителя с Варшавы к ним выписал. Сам отбирал наилучших, сам отбирал! — подмигнул он и зашелся смехом. — До него девушка придет перед свадьбой, просится замуж, а он ей — в балет. Поплачет, поплачет, да и затанцует. А жениха, чтоб воды не баламутил, не бунтовал — в солдаты. Ну и балет, я вам скажу!..
Пан Энгельгардт насупился и засопел. Тарас уже знал — недовольный пан. Еще бы — у того пана театр, у того — балет, графа Строганова навеки «бефстроганов» прославил… А чем ему похвастаться?
— Налей вина! — крикнул Тарасу. — Стоишь, быдло, рот раскрыл! — И вдруг глянул на Тараса, как будто впервые увидел. Улыбнулся довольный, обвел глазами гостей:
— Тьфу! Балет! А у меня, хе-хе, уже мой собственный художник растет… — и прищурился, как будто говорил: «Ага? Чья взяла?»
На другой день Тараса отдали маляру в науку…
Неожиданно этот город, стародавняя столица Литвы, — Вильно, стал очень дорогим и любимым сердцу Тараса.
Он и раньше видел, как живописно течет мать литовских рек — Вилия, видел чудесные старинные костелы Станислава, Иоанна Крестителя, Петра и Павла, построенные еще в четырнадцатом веке. Любский замок над Вилиею.
И вот совсем неожиданно после одной вечерней службы в небольшом, но на удивление красивом костеле святой Анны, куда он зашел по дороге от своего учителя маляра полюбоваться на витражи и изображения Мадонны, ему показалось все совсем другим на свете.
Он смотрел на тонкое, сияющее лицо святой девы и как-то нечаянно глянул вбок и уже не мог больше спокойно смотреть на небесную деву. Здесь, на земле, почти рядом с ним, стояла тоненькая невысокая девушка, сложивши по-католически для молитвы обе ладони. Сразу он заметил красивые глаза, как нарисованные брови на тонком личике. Вот оно, спокойное, поднялось немного вверх, как будто сама Мадонна сошла и стала среди людей, а через мгновение — темные глаза из-под долгих, стрельчатых век уже посмотрели вокруг, личико ожило едва сдержанной улыбкой, брови слегка поднялись — и все засияло вокруг, не от святых свечек, а от этой земной теплой улыбки.
Неожиданно темные лучистые глаза встретились с удивленным, восхищенным взглядом серых больших глаз какого-то парня, что стоял в уголочке, теребя в руках старую шляпу. И одежда на нем была старая… Но столько искреннего восхищения было в этих серых очах, во всем лице, что девушка взглянула еще и еще.
Нет, она, конечно, не была из пышных паненок. Это было видно с ее простенького платьишка, с легкого дешевого платочка, что так скромно окружал ее милую головку, — одежда обыкновенной виленской мещаночки. Но ни девушка, ни парень не обратили никакого внимания на одежду. Тарас видел лишь брови, глаза, улыбку — и вдруг сам улыбнулся, искренне и радостно, и, испугавшись такого наглого поступка, быстро выбежал из костела. Вот тогда город и стал совсем другим — и река, и улицы, и пригорки вокруг города, стародавние каплицы, и церкви, и замки.
Через несколько дней, в субботу, он не выдержал и снова зашел в костел святой Анны. Чернобровая девушка стояла на том же месте. Он недолго ждал, пока она обернулась и узнала, узнала его! Это он увидел по уголкам розовых уст, что задрожали, силясь не подвести вверх — не улыбнуться. Он вспыхнул, но не убежал, как в тот раз, а достоял до конца. Хорошо, что была суббота, пан куда-то уехал развлечься, и Тарас был весь вечер свободный. Он дождался, пока все люди, которые молились, подошли к распятью, чтобы окропить себе лицо святой водой. Он видел, как и девушка опустила тоненькие пальчики молитвенно и сосредоточенно, но как только повернулась от распятья, сразу взглянула из-под платочка в тот угол, где стоял Тарас. И совсем случайно, в этом был уверен Тарас, они вышли вместе из церкви. Девушка заговорила с ним — Тарас никогда бы не осмелился заговорить первым.
Ее звали Дзюней, Дзюней Гусиковской. Она была швея и была немного старше по возрасту Тараса. Обо всем этом она рассказала на польском языке, потому что была полячкой, и очень смеялась, когда Тарас перекручивал польские слова — хотя, находясь два года в Вильно, выезжая с паном в другие города, он уже понимал достаточно хорошо польский язык. Но называл он ее не Дзюней, а Дуней.
О чем они говорили? Разве можно об этом рассказать? Собственно, ни о чем. Чаще говорила Дзюня, а Тарас слушал ее милый голосок, словно волшебную сказку или небесную музыку.
Об этом знакомстве он никому не рассказывал, конечно, никому. Они встречались. Правда, не часто и ненадолго, и эти встречи были огромным праздником для Тараса.
Тарас ощущал — там, за стенами панского дома, за стенами его крепостной неволи, бурлит жизнь свободная, притягательная. Как будто дыхание весеннего ветра почувствовал Тарас от молоденькой чернобровой Дуни, простенькой швеи с предместья Вильно. Она была грамотной, читала книжки, бывала среди рабочей молодежи, в нее влюблялись молоденькие студенты. Не зная, что это и откуда идет, Дуня и себе напевала, сидя рядом с Тарасом на берегу Вилии:
— До гурта, лавы молодых… (слова из оды Адама Мицкевича)
Она же дышала тем воздухом, которым дышала молодежь Польши, среди которой раздавались призывные слова поэзии Адама Мицкевича.
Это же в Вильно несколько лет назад Мицкевич учился в университете, где существовал тайно кружок революционной молодежи «Филареты». Молодежь мечтала о возрождении Польши, об освобождении ее из-под гнета самодержавного российского императора.
Как-то вечером Тарас ждал Дуню в темном уголке площади возле капеллы Остробрамской богоматери.
«А может, она и не придет? — промелькнула мысль, и грустно и страшно сделалось на сердце. — Она свободная веселая девушка, а я — бесправный, ободранный крепостной. Что может быть общего между нами? Почему я крепостной? Кто сделал так, что столько людей перед панами гнут шеи, обливаясь кровавым потом?»
Любовь к Дуне разодрала завесу, скрывавшую от Шевченко весь ужас его бесправного положения. Хотя уже в детстве он с жадностью прислушивался к рассказам о гайдамаках, боровшихся за свою свободу, и напевал их скорбные песни, однако, забитый и загнанный, он жил, не обращая внимания на свое положение. Конечно, он был еще слишком молод. Любовь ускорила дело времени, она заставила его серьезнее взглянуть на свою жизнь, и, как натура впечатлительная и правдивая, он не мог не прийти в ужас и даже отчаяние. Любовь открыла Шевченко, что не только он сам как рабочая сила принадлежит своему помещику, но что и его «святая святых», его любовь, находится также в полном распоряжении этого последнего. Он в первый раз пришел к мысли, отчего бы и холопам не быть такими же людьми, как другие свободные сословия.
Что перед ним впереди? Он мечтает рисовать. Ну что ж, будет панским художником, в панской власти будут весь его талант и способности — и он никогда не сможет свободно, не таясь, как теперь, идти рядом с Дуней. Его крепостная неволя — непреодолимое препятствие между ними. Нет, она не придет больше к нему. Она так, пошутила немножко, и только того.
Все ниже опускалась его голова, и он в отчаянии кусал губы. Как ему хотелось ее увидеть! Ведь с того времени, как оторвали его от родных мест, от сестер — ни от кого ни одного ласкового слова, ни привета. «Как перекати-поле, — подумал Тарас, — гонит ветер». Но вдруг на плече он почувствовал легкое прикосновение маленькой ручки.
— До гурта, лавы молодых! — услышал он веселый шепот. Она пришла, пришла! Это ее любимая песня.
— Дождался? Не сердишься? А у меня какие подарки для тебя! Нет, в церковь я сейчас не пойду… Пойдем, пойдем, прошу, подальше, вон тем переулочком, до Вилии, на наше место, я что-то покажу тебе.
Она всегда говорила быстро-быстро, и для Тараса было наслаждением слушать ее голосок.
«Почему она так ласкова ко мне? — не раз думал Тарас. — Возле нее же свободные грамотные парни — а я что?»
«Почему я так ласкова к нему?» — иногда думала и Дзюня.
Ах, ей было все равно, что он крепостной, что он ободранный, что у него ничего нет, кроме серых очей, которые смотрят на нее, как люди смотрят в костеле на Мадонну. Вот это, наверное, ее и пленило — его глаза, его грустные песни, вся его душа, полная безграничной любви к ней. Он готов стать на колени и молиться на нее, а разве так относятся к ней все знакомые, веселые и любящие пошутить парни?
— Прошу, Тарас, сядем тут, я что-то хочу подарить тебе — закрой глаза!
Тарас послушно закрыл глаза и неожиданно почувствовал в руках какой-то материал.
— Это я тебе сорочку сшила. Так, чтоб на праздники надевал. Ну, теперь открой глаза. Теперь, наоборот, широко открой глаза. Я покажу тебе что-то интересное. Только поклянись, что никому не расскажешь.
Тарас широко открыл глаза, нежно прижал к груди дешевую полотняную сорочку.
— Не мни! — по-хозяйски проговорила Дзюня. — Я ее тщательно отутюжила, а тебе же негде будет ее гладить.
Тарас, как что-то драгоценное, положил рубашку за пазуху, не находя слов, но Дзюне слова об этом были совсем не нужны, она сама была, может, даже больше, чем Тарас, искренне счастлива от своего подарка.
— А теперь смотри и читай, — она вынула из кармана смятый кусочек бумаги, мелко исписанный. — Это мне один студент дал прочитать, — зашептала она, — и я так захотела тебе показать. Вот такие бумажки теперь разбрасывают по всему городу, чтоб люди читали, но их надо читать тайно, потому что из-за них могут посадить в тюрьму. — И она начала читать по-польски: — «Вы, которые страдаете в железных кандалах самодержавия, согнутые под тяжелым и позорным ярмом рабства, восстаньте вместе с нами, россияне…»
— Что это? — схватил Тарас Дзюню за руку.
— Это повстанцы к россиянам обращаются, так мне тот студент сказал! — объяснила она уверенно. — Это против Николая вашего.
Сразу промелькнул в голове Тараса рассказ деда Ивана о гайдамацком восстании за волю.
— Читай, читай дальше!
И Дзюня прочитала вдохновенно, как присягу, листовку от первого слова до последнего.
— Как хорошо! — мечтательно сказала она. — Ведь есть же на свете такие смельчаки, которые не боятся ни жандармов, ни тюрем. Я спрошу того студента, что дал мне этот листочек, где же они, эти повстанцы.
Она говорила просто и спокойно, не понимая всей важности этого дела, а у Тараса загорелось внутри.
— Спроси его, Дунечка, обо всем спроси и еще принеси почитать.
— Ну, конечно, а сейчас надо бежать, мне еще предстоит юбку одной пани дошить. Я теперь только в воскресенье буду в костеле. — Она наклонилась к Тарасу и поцеловала его в щеку…
Но больше им не суждено было встретиться…
Тарас взволнованный возвращался домой. Он не знал, что теперь, перед 1830-м годом, не только в Вильно в кружках молодежи ощущалось приближение бури, а по всей Польше.
Но чувствовал это пан Тараса, лейб-гвардии полковник Павел Васильевич Энгельгардт. Он сидел, насупившись, в кабинете и приказал никому не входить. Только что он вернулся от губернатора. Восстание неминуемо, и надо немедленно решить, что делать: или оставаться здесь и рискнуть быть убитым повстанцами, а если спастись, то вызвать подозрение императора, либо заранее бежать в Петербург.
Пан Энгельгардт решился на второе и не откладывать с отъездом. Выехал порожняком, без имущества и без челяди.
Тарас обрадовался, что пан не взял его с собой. Он ходил, как пьяный, очарованный своей настоящей любовью. В течение недели он думал только, как вырвется в воскресенье в костел и увидит Дуню, и она расскажет ему новости из своей немудренной жизни, и из жизни всего предместья, и, может быть, принесет снова на кусочке бумаги эти такие необычные призывы, что переворачивают всю душу.
Но в воскресенье приказали всей челяди не отлучаться никуда из дома.
— Почему? — спросил Тарас у своего земляка Ивана Нечипоренко.
Иван меланхолически почесал затылок.
— А кто его знает! Не нашего ума дело разбираться. Боятся, чтоб с ляхами не снюхались, но я не знаю, и ты, парень, не суй лучше носа, чтоб на конюшне не оказаться.
А Тарасу именно хотелось «сунуть носа» — узнать, что делается там, на улице, на вольном воздухе. Но никого из челяди никуда не выпускали.
Как же пережить такую долгую, нудную неделю без Дуни, без касания ее маленькой, но такой энергичной, работящей ручки, без ее улыбки, без подвижных тонких бровей. Эта неделю тянулась, как год: среда, четверг, пятница… И вдруг получили из Петербурга приказ пана: всей челяди, и Тарасу в тому числе, отправляться в Петербург.
Как будто сердце раскололось пополам!..
Увидеть, быстрее увидеть Дуню, хотя бы слово от нее услышать, попросить написать… Для чего?..
Безнадежно опустил голову Тарас. Он все же выскользнул, побежал к Остробрамской богоматери и в другие церкви, и православные, католические, где виделся с Дуней, но ее нигде не было. Где она жила, он не знал, и ему стало одинаково — увидит он ее или не увидит. Для чего?
Начиналась зима. Дорога была неблизкой, нелегкой… Ударили морозы. Медленно двигался обоз с панским добром.
Согнувшись, потирая руки, иногда подпрыгивая, чтоб согреться, шли за возами крепостные. У Тараса оторвалась подошва у старенького сапога, и, чтоб не отморозить ноги, он переобувал сапог с левой наги на правую, с правой на левую. Шел замерзшим, голодным, насупив брови. Восемьсот верст казачок Тарас проделал пешком в мороз и вьюгу по дорогам, занесенным снегом.
Ползет мрачный обоз, и Тарасу кажется, что это ползет его жизнь, его молодость, нищая, несчастная, всеми униженная. И почудилось ему, что был то всего лишь сон с чернобровой тоненькой девочкой в костеле святой Анны… И исчезла она, как сон, чтобы уже никогда не появиться ему на его тяжком пути…
И вот Шевченко впервые увидел город на берегах Невы…
Снова потянулись для Тараса такие же унылые и тоскливые, как и в Вильно, дни. Одна отрада была у Тараса: рисование. Огрызок карандаша был для крепостного мальчишки роскошью чрезвычайной. Да и бумага тоже. Рисовал угольками на чем попало. Судьба одарила его «талантом художника». Как по волшебству под его рукой возникали картинки с милыми сердцу видами родной Украины, ее деревеньками, левадами, маленькими вьющимися речушками… А то появлялись лица повстречавшихся ему людей.
Набравшись смелости, Тарас попросил своего помещика отпустить его учиться художеству. Не сразу, но на этот раз сдался Энгельгардт, разрешил! Шевченко был отдан в обучение в мастерскую живописца Ширяева…
В свободное время ученики Ширяева располагались у себя на чердаке. Им, честно говоря, было совершенно безразлично, чердак это или какое-либо другое помещение. Главное, чтобы было где протянуть ноги и быстрее уснуть. Это было их единственное свободное время.
Часто они так утомлялись, что, даже не сбросив вымазанные в краске халаты и сапоги, валились на нищенские сенники, которые лежали просто на полу. Ночь проходила, как минута. Собственно, ночь еще была на дворе, еще долго темнота скрывала все живое, когда хозяин присылал человека их будить.
Как поздно светает в Петербурге и как рано темнеет. Каким коротким-коротким был бледный, бессолнечный день!
Вставать очень не хотелось, но вставали сразу и сразу принимались за работу — растирать краски. Так было заведено. Первые годы учебы у хозяина они были растирателями красок, да еще днем выполняли разные поручения не только хозяина, но и хозяйки.
На каждого из них составлялся контракт. В контракте на Тараса было записано: «Направляется Тарас Григорьев Шевченков по воле пана своего Энгельгардта Павла Васильева к Санкт-Петербургскому малярного и живописного цеха мастеру Ширяеву Василю Григорьеву для изучения малярного и живописного мастерства сроком наперед на четыре года, с тем, чтобы ему, Ширяеву, научить Шевченка Тараса указанному мастерству как следует. Шевченко ж Тарасу жить у мастера в полном послушании и покорности, ни в чем не ослушиваться и к мастерству быть старательным на всем его, Ширяева, харчах, бане, стирке, а также обуви…»
Но Тарас чувствовал на себе только один пункт из всего контракта: «жить у мастера в полном послушании и покорности, ни в чем не ослушиваться и к мастерству быть старательным».
Последнее можно было и не записывать. Мог ли он быть не старательным в мастерстве, если с самого детства, перенося издевательства и унижения, нищету, блуждал вслепую от дьяка к дьяку, когда сам просил пана отдать его в науку до Ширяева?
Внешний вид самого Ширяева не очень вызывал симпатию. Высокий, худощавый, с редкой рудоватой бородою, он смотрел на своих подмастеров, на своих учеников сурово, из-под насупленных бровей мгновенно замечал огрехи и ошибки в работе. Вся артель дрожала перед ним. Однако замечания мастера были хотя и суровые, но точные. Архитекторы и художники разговаривали с ним с уважением, как с равным.
— Меня по головке не гладили, и я не поглажу, — говорил скупой на слова цеховой мастер Ширяев. — Никаких послаблений у себя не допускаю. Отдали в науку — учись.
Где же вы, мечты о живописных работах? Тарас с товарищами растирает краску, носит посуду с охрою и мелом, малярные кисти. На него покрикивает хозяйка — Катерина Ивановна, жена Ширяева, намного младше мужа, но вполне под пару ему. Сварливым всегда голосом, когда разговаривает с учениками, посылает Тараса то на базар, то в магазин, то поручает ему разные домашние работы, до которых Тарас еще с малых лет, когда казачковал у пана, чувствует отвращение. Только в наилучших случаях, иногда, поручают ему покрасить какие-нибудь простые заборы или крыши. И снова, как когда-то, говорит сам себе Тарас: «Терпи, казак, атаманом будешь».
Иногда до боли хотелось с кем-нибудь поговорить, отвести душу. Но нет никого. Правда, есть один земляк — Хтодот Ткаченко — худенький, бледный, болезненный, забитый мальчик. Он молчаливый, неразговорчивый. У Тараса такое впечатление, что, натрудившись, он уже не имеет сил разговаривать.
Хозяин жил на Загородном проспекте в достаточно хорошем доме, но ученики на чистую половину почти не заходили, их помещением была мансарда — низенькая комнатка на чердаке, под самой крышей, даже с отдельным черным ходом.
Как-то хозяин и хозяйка пошли в церковь. Тарас заглянул в гостиную хозяев. Ни мебель, что стояла чинно в чехлах, ни порядок и чистота не обратили внимания Тараса. Его поразили гравюры на стенах. Это тебе не лубочные картинки. Многие гравюры были похожи на иконы, но висели не в углу с иконами, а вдоль стен, и на взгляд святыми не казались.
— Нет, не иконы, — решил Тарас и еще сделал шаг вперед.
В шкафу лежали книги.
— Путешествия Анахарсиса, — только успел прочитать Тарас, как за дверьми на крыльце послышались шаги и разговор. Он быстро выскользнул с хозяйской половины и поторопился к себе на чердак.
В одну из суббот к хозяйке пришли гости — свояки, братья хозяйки с товарищами. Один из братьев, Тарас уже об этом слышал, учился в Академии на художника. На этот раз Тарас с удовольствием побежал в магазин за дешевым вином: хозяйка не любила тратиться на гостей. Он быстро сбегал, принес вино, но Екатерина Ивановна, хозяйка, замахала руками, чтобы не шумел. В комнате было тихо. Один из молодых людей, тоненький, кучерявый, подвижный, читал стихи:
Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя. То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя…Сначала, даже не разбирая слов, Тарас почувствовал только их ритм и музыку. Он остановился с широко раскрытыми глазами, боясь пропустить хотя бы одно слово. Потом он сразу увидел все перед собой: и бурю, и одинокую хату, и старую бабусю с вязанием в руках… Что за чудо эти стихи!..
У хозяйки глаза сделались необычно ласковыми, и даже у сурового хозяина разошлись всегда насупленные брови и морщины на лице.
— Вот это Пушкин! Это так! — закричал по окончании брат хозяйки.
— Вот это так! — проговорил и хозяин.
— Прочитай еще! — просила молодежь. — Что ты еще захватил с собой?
— У меня есть еще «Ундина» Жуковского, «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина. «Руслан и Людмила» — первая российская настоящая поэма, — сказал чтец.
— Чего ты там стоишь? — заметила хозяйка Тараса. — Давай сюда, что принес, и иди себе.
Она забрала вино и понесла в комнаты. «Так я и послушался! — подумал Тарас. — Дурных мало — были, но подохли».
Он прожогом бросился на чердак.
— Ребята, там у хозяйки гости, студенты, стихи читают. Давайте, послушаем. В коридоре все слышно.
На его удивление, наиболее горячо отозвался молчаливый бледненький Хтодот. Он молча сбросил сапоги, чтобы не скрипели, и спустился за Тарасом.
Возможно, хозяин и хозяйка видели заинтересованные глаза учеников, что выглядывали из коридора, но они сами были увлечены чтением. Да, собственно, ученики и не мешали никак. Как бы там ни было, их не выгнали с коридора.
Еще долго в гостиной хозяев читали, пели, разговаривали. Разошлись поздно. Удивительно было слушать, как гости говорили о Пушкине, Жуковском, что они здесь живут, в Петербурге. «Разве это возможно? — не понимал Тарас. — Они же стихи, книги пишут. Разве они обычные люди, чтобы жить в обычных домах, ходить по улицам, встречаться с людьми? Удивительно это все!»
Тарас долго не мог уснуть. Достать бы книги. Почитать! Эх, что за жизнь!..
С того времени уже никогда не пропускал таких вечеров Тарас, особенно весь напрягался, когда читали Пушкина. Так он прослушал удивительные по простоте «Повести Белкина», поэмы, сказки. А как-то студенты пришли раньше обычного. Ни хозяйки, ни хозяина не было. Один из студентов начал читать, и Тарас услышал слова:
…Свобода Вас примет радостно у входа, И братья меч вам отдадут.— Это декабристам посвятил Пушкин, — сказал шепотом юноша.
Каким декабристам? Про них еще не знал Тарас.
Чтеца сразу же остановили:
— Тише! Этого не надо!
Но юноша, взмахнувши кудрями, задиристо посмотрел и прочитал все же:
Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена!Так вот он какой Пушкин, Александр Сергеевич!..
На клочках бумаги всегда в короткие украденные минутки Тарас что-то рисовал — выдумывал новые узоры для стен, плафонов, дополнял, изменял то, что видел. Его товарищи с восхищением удивлялись:
— Так и хозяин не выдумает, ей-богу! Ему узоры всегда другие художники придумывают.
Глянув на рисунок, который Тарас не успел спрятать за пазуху, и хозяин убедился в этом.
«Рисовальщиком будет, — подумал он. Презрительно сузил глаза. — Ну, погодите теперь, кто перепрыгнет артель мастера Ширяева!»
Приказал Тарасу сделать узор для плафона квартиры, которую начал украшать, скупыми точными словами объяснив, что необходимо.
— С этого, лобастого, толк будет! — сказал подмастерье.
Но положение Тараса не улучшилось. Тот же чердак, нищенский сенник, бурда на обед с куском черного хлеба, халат маляра, который не стирался годами. Только работы добавилось.
Мастер живописных, малярных дел Ширяев умел взять все, что только было возможно, из своих подчиненных. И как его боялись все подчиненные, как его боялся Тарас! Ему казалось, что все наихудшее, грубое, строгое, что было во всех предыдущих учителях, объединилось в этом хозяине.
Ни праздника, ни радости. Но серые пытливые глаза все с тем же интересом смотрят на мир.
— Ребята, а вы знаете, что завтра праздник в Петергофе? — спросил он вечером. — Ежегодно 1 июля праздник, а мы ни разу не были. Говорят, в Петергофе фонтаны, дворцы, иллюминация будет. Завтра же воскресенье…
— Не мели, Тарас, — останавливают его товарищи. — Так тебя хозяин и отпустит! И чего только тебе в голову не приходит?!
Действительно, чего только не приходит в голову Тараса? Он уже пятый год в Петербурге и ни разу не был в Петергофе. Он молча ложится, но решает все же испробовать счастья. Завтра ж воскресенье! Он скажет хозяину, что ходил на панский двор к управляющему пана Энгельгардта. Он скажет… «Да как-нибудь выкручусь».
Он ложится с твердым намерением подняться до рассвета и отправиться посмотреть Петергоф. В кармане есть полтина — горько заработанная, давно припрятанная.
Тысячи экипажей двинулись с заставы, девять пароходов ходили туда и обратно за пассажирами. Сотни тысяч народу, довольные, веселые, увлеченные радостным днем, бродили по аллеям Петергофского сада.
Казалось, все жители Петербурга решили побывать на празднике в Петергофе. Они заполонили все улицы и переулки маленького города, и по нему даже тяжело было передвигаться. Даже вокруг Петергофа вся местность была заполонена различными экипажами, бричками, каретами, палатками. А о самом парке и говорить нечего, столько там было народу! Но развлекался каждый по-своему.
По широким аллеям гуляла роскошно убранная «чиста публика». Какие пышные туалеты дам! Какие модные сюртуки, галстуки, жилеты, расшитые золотом, у мужчин! Будто бы павлины, выступали они медленно и важно. Казалось, что они боялись проявить настоящий веселый интерес к празднику, а больше пытались себя показать. Хотя тяжело было удержать свое восхищение перед игрой знаменитых петергофских фонтанов, которые каскадами падали с террас, образуя чрезвычайной красоты аллею, от дворца к морю.
Прогулявшись по аллеям, посетители садились отдохнуть на веранде «Монплезир».
Куда веселее было возле палаток с претензионными названиями «Париж», «Лондон», «Лиссабон». Там толпились люди попроще. Смех звенел возле разных грибков, альтанок. Неопытные девчата и ребята из простолюдинов садились под ними на лавочки, и неожиданно их обливал дождь.
Раздавались голоса продавцов разных лакомств, которые с лотками на шее ходили в толпе. Но то там, то тут появлялись в толпе голубые мундиры жандармов, и возле них смех и разговоры сразу утихали.
Тарас, конечно же, не приехал в экипаже, не приплыл пароходом. Он пешком прошагал весь путь от Петербурга до Петергофа и, уставший, раскрасневшийся, зашел в парк. Он только бросил взгляд на верхний сад с широким бассейном, откуда поднимался бог морей Нептун со своими подданными, и поторопился вниз, за дворец, где, как говорили, можно было увидеть невероятные чудеса.
Брызги фонтанов, что переливались на солнце всеми цветами радуги, сразу ослепили глаза. Дворец, статуи, нарядная публика… От усталости, от этого каскада впечатлений у Тараса на мгновение закружилась голова, и он закрыл глаза, а когда открыл, прямо на него шел степенно, медленно, в новом дорогом сюртуке, наглухо застегнутом, сам хозяин Ширяев и вел под руку свою жену Екатерину Ивановну в таком пышном платье в оборочках и кружевах, что заняла половину аллеи.
Тарас смутился. Он опустил голову и спрятался за какими-то молодыми людьми. И уже не существовали для него ни дворцы, ни террасы, ни могучий Самсон, ни фонтаны. Здесь был хозяин, мастер Ширяев, в полной власти которого находился Тарас.
Он тихо вышел из парка и побежал назад. Столько народу гуляло и веселилось ночью, любовалось мудреной иллюминацией! Разве мог быть праздник для него? Он добрался до своего чердака и, протянувшись на матрасе, набитом сеном, уснул тяжелым сном…
Как здорово, что в Петербурге есть белые ночи.
Ребята, утомленные дневной работой, еще спят. Совсем тихо и на половине хозяев. Только Тарас не может никак заснуть в своем углу.
В крохотное окошко на чердаке пробивается свет. Видно, как днем.
Это петербургская белая ночь. Тарасу не спится. Голова его полна мыслей и мечтаний. Это его единственное свободное время, он может думать о том, что ему хочется. Сейчас так видно, что он может даже делать то, что хочет!
Тарас улыбается сам себе, осторожно, чтоб никого не разбудить, встает, набрасывает на плечи халат, засовывает в карман серую бумагу для рисования и карандаши.
«Возьму сразу ведерко и кисти, чтоб потом не возвращаться домой, а прямо на работу», — решает он и берет ведерко из-под охры, длинные малярские кисти. Сапоги в руках, чтоб случайно не заскрипеть около хозяйских дверей. И черным ходом спускается на улицу.
Улицы залиты молочным светом белой ночи. Тишина. Он идет ровными улицами к Неве. Поднимается щетина мачт над грязной, как во всех гаванях, водой; фрегаты, торговые корабли, широкие баржи стоят на рейде. Пахнет смолой. Слышатся людские голоса, потому что и ночью здесь не останавливается работа. Как раз выгружают на берег огромные гранитные цилиндры.
Это привозят материал для Исаакиевского собора, который строят на Сенатской площади. Тарас уже не раз с интересом ходил вокруг огромных лесов, в которые одето строение, удивлялся огромным мраморным глыбам, что прикатили из Финляндии, засматривался на портики с гранитными колоннами с капителями. Более трех тысяч работников занято на строительстве собора, и с этого лета строение растет особенно быстро. Тарас остановился на мгновение возле гавани. Сколько людей, сколько неведомых путей проплыли, прошли все они — и те моряки, что привезли сюда эти прекрасные украшения, и эти ободранные грузчики, которые на мускулистых руках выносят привезенное из дальних стран.
— С дороги! — толкает кто-то сердито в бок, и он, задумчивый, идет дальше.
Шум и гам остаются позади, а с ним снова тишина чарующей белой ночи. Вот его любимая набережная, где стоят те дома, на которые он всегда смотрит с грустью и завистью. Университет… Академия наук… И что более всего пленяет его беспокойную душу — Академия художеств.
Он смотрел на сфинксов, которые поднимаются из воды напротив и как будто охраняют всегда вход к этому светлому храму.
И уже не останавливаясь, он идет дальше. Напротив, над Невой — Зимний дворец, в котором живет царь, сам Николай I. Из его окон хорошо видно Петропавловскую крепость, в которой мучаются в цепях борцы за свободу, на кронверке которой, десять лет назад, повесили пятерых «святых безумцев» — декабристов.
Теперь уже Тарас знает об этом.
И Пушкин Александр Сергеевич живет в Петербурге.
Тарас проходит мостом над Невой и направляется к Летнему саду. Если бы он знал, что Пушкин недавно жил здесь совсем рядом и что и он часто белыми ночами в халате и тапочках выходил в Летний сад и, смеясь, говорил друзьям: «Летний сад — мой город».
Сейчас здесь нет никого. Сторож мирно храпит возле своей будки. Все статуи в неярком свете белой ночи кажутся совсем другими, чем днем, не такими грубыми. Тарас мечтательно смотрит на прекрасную, величественную и в то же время легкую, как будто из кружев, чугунную ограду сада, на маленький домик справа — самый первый дворец Петра Первого. Маленький золотой флюгер на крыше домика стоит неподвижно — ветра нет. Это редкость для Петербурга. Он прошел садом, полюбовался на высокую мраморную вазу напротив Михайловского замка и повернул в аллею статуй. Какая тишина, какое спокойствие сейчас в этом саду! Никто и ничто не мешает, он может отдаться своему любимому делу. Тарас вынимает бумагу и начинает рисовать. Но все чувства, мысли, мечты возбуждены прогулкой. Он не может сейчас воплотить их, перелить в спокойные линии. Эх! Если бы можно было запеть! Запеть родную песню, какую пели сестры, мать, старый дед Иван там, на далекой Украине. Ему очень захотелось запеть так, как когда-то он пел сам, блуждая степями, ярами над синим Днепром. Этого, конечно, нельзя делать. Но в голове звенят эти песни, с какими-то новыми, своими, и вместо того, чтобы рисовать, как собирался, на рисовальной бумаге он записывает свои песни.
Перед глазами уже не роскошные Растреллиевские дворцы, ажурные ограды, величественная Нева. Перед глазами плывут широкие степи, зеленые гаи и дубравы, родной Днепр, то такой ласковый в ясные дни с тихими вербами, что склоняются над ним, то непокорный, ревучий и могучий.
Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, Горами хвилі підійма…Как удивительно, как неожиданно пришло вдохновение! Так это же стихи, такие же стихи, которые он читал в книгах Жуковского и Пушкина!..
Бегут рядки за рядками. Легко, без напряжения, Тарас пишет родным своим языком, на котором разговаривал на селе с отцом, братьями, сестрами, на котором рассказывал дед свои бесконечные рассказы, на котором родная мать пела песни над убогой колыбелью. Он перечитывает, и самому удивительно, что получилось так складно, так просто и так красиво, и он улыбается счастливою улыбкой.
Как же это хорошо, что в Петербурге белые ночи!
Теперь у Тараса началась двойная жизнь. Днем он работал, как всегда, со всей ширяевской артелью, но ночью, когда в доме все засыпали, тихо одевался и шел на свое любимое место в Летнем саду и снова писал там свои стихотворения и рисовал статуи античных богов.
Так и сейчас он зашел в сад, прогулявшись мечтательно аллеей вековых лип, сел на перевернутое пусто ведерко из-под охры и начал рисовать Сатира, который в кругу богинь пожирает свое собственное дитя.
Уже начинало всходить солнце. Тарас углубился в рисование и совсем не замечал, что сегодня он не один. Ведь в такую ночь не ему одному не спалось. Молодой человек в коротком летнем платье и круглой шляпе уже давно с интересом наблюдал за ним. Он незаметно подошел к Тарасу и положил ему руку на плечо.
Первым движением Тараса было схватить рисунок и спрятать за пазухой.
— А что ты здесь, парень, делаешь? — спросил молодой человек.
— Я ничего не делаю, — робко ответил Тарас, не понимая, как отнесутся к нему. — Я иду на работу и по дороге зашел в сад. — Тарас поднял голову и увидел молодое лицо, карие теплые ласковые глаза и откровенно добавил: — Я рисовал.
— Покажи, что ты рисовал, — попросил незнакомец.
Тарас несмело вынул из-за пазухи лист с рисунком. Незнакомец посмотрел на рисунок, потом с улыбкой глянул на Тараса.
— Хорошо. Очень хорошо, — промолвил он. — И часто ты сюда ходишь рисовать?
— Как близко к работе, то часто, а если нет — так под воскресенье.
— Ты учишься рисованию?
— Да, у мастера Ширяева.
— А откуда ж ты сам будешь?
— С Вильшаны. — сказал Тарас и улыбнулся. Наверное, этот парень и не слышал о таком.
Но парень вдруг радостно обнял Тараса за плечи.
— Так ты же мой земляк! Я же с тех краев!
Тарас весь вспыхнул от радости:
— Правда? Вы правда оттуда?
— Ты обязательно приходи ко мне! — сказал юноша. — В это же воскресенье приходи обязательно ко мне! Дай клочок бумаги, я запишу свой адрес — спросишь художника Ивана Сошенко.
— Художника Ивана Сошенко, — как счастливый ребенок, который не может еще опомниться от приятной неожиданности, повторил Тарас. — Обязательно приду…
Время было уже идти на работу.
Тарас схватил свои ведерко и кисти и так посмотрел на своего нового знакомого, такой искренней благодарностью сияли умные его серые глаза, что Сошенко почувствовал сразу какую-то связь с этим ободранным учеником маляра, какую-то ответственность перед его искренним глубоким взглядом.
С небывалым подъемом, который создают лишь настоящие человеческие порывы души и сердца, шел молодой художник. Занималась заря. Просыпался Петербург…
Тарас стал каждое воскресенье посещать своего нового друга на Васильевском острове, где тот проживал на 4-й линии, в доме купца Мосягина, в полуподвальной, убогой квартире немки Марьи Ивановны. В этой квартирке да в густом саду, окружавшем дом со стороны Малого проспекта, Иван и Тарас, как-то сразу почувствовавшие влечение друг к другу, проводили вместе долгие часы.
Сошенко был на шесть лет старше Тараса, но характер имел живой, общительный.
Иван познакомил Шевченко со своими однокашниками по Академии художеств: с талантливым, увлекающимся Аполлоном Мокрицким, которого товарищи называли не иначе, как «Аполлоном Бельведерским»; с любимым учеником Брюллова Григорием Карповичем Михайловым…
Сошенко растолковывал Тарасу основы анатомии, руководил выбором модели и плана, да еще и приносил иногда своему усердному ученику в поощрение его успехов кусок ситника с колбасой, потому что обед Шевченко состоял здесь из черного хлеба и воды…
Сошенко помогал другу доставать книги для чтения, гравюры для срисовывания. Часто они вдвоем рисовали или читали друг другу вслух новые книги, журналы…
Карл Павлович Брюллов вернулся с Италии и жил теперь на территории Академии художеств. Студенты и профессора называли его помещение с мастерской — «портиком». Это напоминало Италию. «Портик» сразу сделался любимым местом всей молодежи. Больше повезло Аполлону Мокрицкому. Он стал учеником Брюллова — а это очень много значило. Кроме вдохновенной, настоящей науки искусства, это еще значило большую дружбу между учителем и учеником, общие интересы, общие, наполненные напряженной работой дни, вечера и ночи в жарких спорах, разговорах, лирических воспоминаниях, иногда шумных. Счастливый, кто имеет это наибольшее богатство — дружбу. А без дружбы человек в жизни, что нищий.
Об этом и думал Сошенко, направляясь к своему другу Аполлону Мокрицкому в «портик».
Даже ему, Сошенко, не богачу, какому-то пану, трудно было представить сразу, что все свои двадцать три года Тарас был в положении раба, человека, которого никто и никогда не уважал. Но у парня были такие живые глаза, такой пытливый ум, такой интерес до всего и безусловный интерес к рисованию. Это притягивало к нему молодого художника, и он уже рассказал о Тарасе своему другу Аполлону.
Аполлон сидел за мольбертом в мастерской, старательно что-то вырисовывая. Вид у него был достаточно грустный, если не сказать — кислый.
— Привет Аполлону Бельведерскому! — поприветствовал его весело товарищ. — Что случилось?
— Ох, Иван, — грустно проговорил Аполлон, — какое это счастье быть с таким гением, как наш Великий Карл, и как это иногда тяжело. Он видит то, о чем мы и не догадываемся, он требует так много, что нам, обыкновенным людям, не под силу, и, безусловно, его раздражает моя мазня. Он так и назвал мои этюды. Если бы только слышал, как он распекал меня, как упрекал за лень, невнимание. Он сказал, что, если я не поработаю как следует, он выкинет мою мазню. И посмотри — он сделал всего лишь несколько линий, и все ожило и заиграло. И я действительно вижу, что я осел, не добрал самого главного, — закончил он грустно.
— Ну, не журись! — успокоил его Сошенко. — Ведь не только распекает тебя, ты же сам говорил, что, когда ему что-то нравится, он не скупой на похвалу. А где он сам?
— Карл Павлович поехал, кажется, к Кукольникам. Он очень сдружился с поэтом Нестором Кукольником и его братом, а там бывает и Михайло Глинка. У них всегда собирается вся «братия», а может, и у графа Виельгорского, на Михайловской, а меня оставил здесь и наказал учить анатомию на полотне.
— Мы еще такие счастливые с тобой! — вдруг горячо заговорил Сошенко. — Мы с тобой свободные. И все зависит от нас самих. А вот наш земляк, Тарас Шевченко… О, я уверен, если бы он был не крепостной, если бы ему дать добрую школу, он обогнал бы многих, а он, с чувствительной душой художника, ходит с ведерком охры, красит заборы и крыши, и счастлив, когда хозяин поручает сделать узоры для плафонов и стен.
— Я сам об этом думал. Но что можно сделать для него? — загорелся Аполлон. — Знаешь, что: надо пойти к нашему Венецианову. Старый — необыкновенный человек. Такой доброты, такого чувствительного сердца надо еще поискать. Пошли к старому! У него для каждого найдется совет! Я всегда с большой охотою хожу к нему…
— У него такие милые дочери… — в тон ему добавил Сошенко.
— Ну, ты… — покраснел Аполлон, ибо это было не беспричинно.
Друзья оделись и пошли к художнику Венецианову.
В уютном простом кабинете Венецианова радостно принимали всех, и не только друзья-художники, но и молодежь чувствовала себя здесь, как у близких, гостеприимных родственников.
Сошенко окинул взглядом манекен в крестьянском русском убранстве, столик с кистями, рабочее орудие хозяина, и сел с Аполлоном на кушетку за круглым столиком. В соседней комнате послышались девичьи голоса, быстрые шаги, топот.
— Только условимся, — предупредил товарища Сошенко. — Сначала дело, поговорим со стариком, посоветуемся, а потом все остальное.
— А что? Я ничего, — согласился Мокрицкий. — Мы не для того шли.
Невысокий, с бритым суховатым лицом старик в темно-зеленом долгом сюртуке, с шелковым платком на шее, вышел к молодым людям. Это и был Венецианов.
— Мы к вам по важному делу, — решил сразу же сообщить Мокрицкий, здороваясь, чтобы старик не заподозрил чего-нибудь. — Мы пришли посоветоваться. Но это все начал Сошенко, он вам и расскажет все подробно.
Молодые люди не ошиблись. Венецианов слушал Сошенко внимательно, и в его добрых, уже выцветших глазах были неподдельное сочувствие и грусть.
— Он крепостной? Что поделаешь! — промолвил он. — Когда мы уже освободимся от этого лиха, что оскорбляет всех нас! Сколько талантов гибнет через эту кричащую несправедливость! Но все, что можно сделать, мы обязаны сделать. Вы говорите, у парня есть способности?
— И немалые, — убежденно сказал Сошенко. — Я уверен, что после подготовки его приняли бы в Академию.
— Об этом теперь не может быть и речи, — махнул безнадежно рукой Венецианов. — Разве вы не знаете, что уже давно есть указание не принимать крепостных в ученики Академии?
— Мы знаем, но к чему такое суровое указание? Ведь немало известных художников российских вышли именно из крепостных, — возразил Мокрицкий, — вспомните архитектора Воронихина, который строил Казанский собор.
— А Тропинин, — подхватил Сошенко, — кто из нас не увлекался творениями Тропинина!
— Но почему же принято такое указание не принимать крепостных в Академию? Ведь закончив Академию, получив золотую или серебряную медаль, они же не могли не вернуться к своему хозяину? — спросил Сошенко.
— В том то и дело, друзья мои, что хозяева иногда даже посылали их в Италию, а потом забирали к себе. И люди, уже интеллигентные, вкусившие, так сказать, плодов высшей культуры, с развитым вкусом и тонкими потребностями, возвращались в положение лакеев, простых маляров, их снова могли наказывать розгами, над ними издевались, и случаи самоубийства участились, а в актах писали: «покончил с собой от имеемой в нем задумчивости». Вот Академия и приняла такое решение.
— Значит, дело с моим протеже безнадежное? — спросил грустно Сошенко.
— Никогда не следует терять надежды, молодой человек, — сказал Венецианов. — Не надо бросать юношу, надо поддержать, подучить, а тем временем что-то найдем. — И добавил: — Таланты на дороге не валяются, их надо лелеять, им надо помогать.
— Что же делать? Если бы знали, как хочется помочь ему! — горячо заговорил Мокрицкий. — Иван просто очарован им.
— Что он теперь делает, этот ваш талант? — спросил Венецианов.
— Сейчас артель Ширяева украшает после ремонта Большой театр. Тарас в этой артели фактически основной человек. Он выполняет рисунки для плафонов и разных украшений. Он у них лучший художник и хозяин им дорожит.
— Ширяев? Я знаю немного о нем. Деловой, но крутой человек. Знаете что, друзья, мы все же начнем наше наступление! Иван Максимович должен познакомиться с хозяином — Ширяевым, склонить его на кое-какие льготы для парня. Ну, пусть отпускает по воскресеньям, пусть отпускает свободными вечерами на лекции, а вы познакомьте его с вашим милым земляком, председателем Общества поощрения художников — Григоровичем. Это хороший человек, он, возможно, даст разрешение на посещение классов Общества, что в доме Костюриной. Познакомьте с еще одним вашим земляком — Евгением Гребенкой. Дайте парню книги. Поведите на выставки. Одним словом, поддержите. А там увидим, что надо делать дальше. Великого Карла заинтересуем. Согласны?
— Нами многое уже сделано из сказанного. Но мы согласны! Еще как согласны! Какой вы замечательный человек! — не смогли сдержаться молодые люди.
— Папа! Мама просит тебя и гостей ужинать, — прозвучал тоненький голос из-за двери.
— Вот козы! — засмеялся старик. — Все слышат! В самом деле, пойдемте и за чаем еще обдумаем нашу договоренность…
Сквозь стук и грохот молотков прорывается какая-то чарующая музыка, но внезапно прерывается, и скрипки начинают снова и снова. Все очарование исчезает.
— Репетируют, — объясняет работник, который взялся проводить Сошенко. — И они торопятся, и мы торопимся. Уже скоро открытие театра, а еще много работы.
Иван Максимович осторожно пробирается по фойе сквозь горы стружек, досок, сквозь леса, которыми прикрыты стены, и протирает глаза от известковой пыли, что носится в воздухе.
«Тяжело будет здесь разыскать Тараса», — думает Сошенко.
Он давно уже не видел своего подопечного. Тарас предупредил, что будет сильно занят. Ширяев взял большой подряд на малярные и стеклянные работы. Тарасу некогда было даже вздохнуть, так завалил его работой хозяин. Но он был доволен тем, что работа у него интересная, не то что красить заборы, и он может выявить свои способности к искусству.
Театр должен открыться в этом году новой оперой еще мало известного публике молодого композитора Михаила Глинки «Жизнь за царя».
Сошенко увидел и самого композитора — небольшого, с немного одутловатым бледным лицом и черным чубчиком надо лбом. Он становился на цыпочки, как будто для того, чтобы казаться выше, и что-то говорил своим музыкантам.
«О, Жуковский Василь Андреевич и граф Виельгорский здесь», — заметил Сошенко. Он их уже видел не раз в гостях у Карла Павловича и был с ними знаком.
Граф Михаил Виельгорский, высокий, румяный старик, с величественной фигурой и седыми волнистыми волосами по плечи, был одним из самых образованных и культурных людей в искусстве того времени.
«Жизнь за царя» для первой пробы уже ставили в его квартире на Михайловской площади.
— Вы — мой Иван Креститель, — улыбаясь растерянной улыбкой, говорил Глинка. Он очень волновался, и ему казалось, что все идет не так, как следовало бы, а главное, неизвестно, как примет публика.
Виельгорский угадывал мысли взволнованного автора.
— Я рад, — сказал он, — быть Иваном Крестителем не только потому, что это твоя опера, моего друга, а и потому, что она должна доказать, что может быть и наша русская национальная музыка, наша опера, а не только подражание французам и итальянцам. И ты не волнуйся, все будет хорошо — репетиции идут прекрасно, декорации великолепны…
«Где же он и где его хозяин?» — волновался Сошенко. Ему было не до разговоров почтенных мэтров. У него была иная цель.
На его счастье он встретил знакомого — механика сцены Карташова.
— Добрый день, — поприветствовал его Сошенко, — не видели вы случайно мастера Ширяева?
— Только что ко мне забегал его парень-рисовальщик, — ответил Карташов.
— Какой парень? — поинтересовался Сошенко.
— Тарас Шевченко. Хороший парняга, талантливый. Он все рисунки Ширяеву делает, а целый день на самом черном хлебе. Я уже ему кружку чаю иногда даю, а то совсем обессилит…
— Я хочу поговорить о нем с Ширяевым.
— Поговорите, только навряд ли что получится. Пока театр не закончат, ему и дыхнуть некогда.
— А все-таки я попробую.
— Ну что ж, удачи вам, я только рад за парня буду, он путевый.
Никто из товарищей до сих пор и не подозревал, что ласковый, скромный, неприметный Иван Сошенко может проявить столько напора, упрямства и даже дипломатии.
Посмотрев на суровое лицо Ширяева, которое никак не обещало приятного разговора, Сошенко неожиданно сотворил самую сладкую улыбку.
— Наконец-то я вас вижу, — промолвил он. — Я уже столько наслышался о вас, а теперь я просто восхищен вашей живописной работой. Разрешите познакомиться — художник Сошенко.
Ширяев искоса, из-под насупленных бровей, посмотрел на художника. Но какое каменное сердце не тронут похвала и лесть. И что можно было иметь против этого любезного художника?
На его просьбу Ширяев охотно повел показать уже расписанные золотом плафоны.
— Чудесно выполнены рисунки! — вполне искренне хвалил Сошенко. Ведь он знал, кто автор этих рисунков. — Я слышал, у вас есть прекрасный рисовальщик.
Ширяев подозрительно покосился на художника.
— Неплохой, — сказал он сквозь зубы. — Но всех их необходимо в руках держать.
— Я бы хотел, чтобы вы позволили ему иногда приходить ко мне, — вел дальше художник.
— Он ученик, крепостной, пусть знает свое место! — отрубил хозяин. — Зачем его баловать?
— Но и вам, и вашей артели было бы выгодно, если бы он подучился, и я также, может, стал бы вам полезным. Я с большой охотой написал бы ваш портрет и портрет вашей жены.
— Что же, — теплее уже промолвил Ширяев. — Если есть охота повозиться с этим парнем, — повозитесь. Только до конца этого подряда и разговора не может быть.
— Ну, конечно, конечно! — удовлетворенный хотя бы частичной победой, закивал художник. — Я сам понимаю, что теперь у вас работы по горло. Но условие — после открытия театра я у вас в гостях.
— Добро пожаловать! — с кривой улыбкой ответил Ширяев. Ему и льстило знакомство с еще одним художником, и не очень нравился его интерес к Тарасу.
Сошенко поднял голову и неожиданно увидел высоко под потолком Тараса. Там Тарас вырисовывал какой-то узор, полностью погрузившись в работу.
— Ничего, вода камень точит! — улыбнулся Сошенко. — А я не отступлюсь. Надо его рисунки показать Великому Карлу и рассказать о нем Жуковскому. Это твоя обязанность, Иван, — сказал он сам себе, поддержав себя в этом решении…
— Браво! Браво!
— Брависсимо!
Весь театр словно сошел с ума. Особенно молодежь. Особенно верхние ярусы и раек. Там уже публика не сдерживала себя так, как пышно одетые пани, которые сидели в партере и ложах бельэтажа.
От действия к действию это всеобщее увлечение новой оперой все возрастало. Последнее время господствовала мода на итальянскую музыку. Петербург заболел настоящей италоманией. А тут со сцены звучали родные российские напевы. Все актеры — и солисты, и хористы — не только пели, а играли, как никогда.
В ложе, что с большими трудностями сумел достать удачливый в таком деле Аполлон Мокрицкий, собрались молодые художники со своим любимым Карлом Великим во главе.
— Я же говорил, что надо обязательно пойти! — голосом победителя говорил Аполлон.
— Вы правы, Аполлон Бельведерский, — засмеялся Карл Павлович. — Я в самом деле был убежден, что Глинка способен только на романсы, и я очень рад за него, за его успех.
— Смотрите, смотрите, Карл Павлович, Пушкин! — чуть ли не схватился со своего места Аполлон.
— Где он? Вот кого люблю и уважаю всем сердцем!
— В партере, в одиннадцатом ряду, возле прохода, в кресле! Видите, как аплодирует!
— Между прочим, Карл Павлович, — вставил Сошенко, — хотя я в таком же восторге от этой чудесной музыки и всего спектакля, хочу обратить ваше внимание на новые плафоны. Почти все рисунки сделал мой протеже Тарас под руководством архитектора театра Кавоса. Именно тот Тарас, рисунки которого я вам показывал.
Лицо Брюллова мгновенно сменилось с беззаботно веселого на серьезное и внимательное.
— Я думал о нем все время, — сказал он. — Его нельзя бросать на произвол. Это талант. Его рисунок «Эдип в Афинах», который вы приносили, меня просто удивил. Не часто случается, чтоб молодой художник мог так сосредоточиться, быть таким простым и лаконичным в решении композиции, ему надо рисовать и рисовать.
— Но я говорил вам, Карл Павлович, — ответил грустно Сошенко, — все разбивается перед ужасной действительностью — он крепостной, хотя с таким не крепостным лицом, как вы сказали, когда увидели его у меня.
— Он должен быть свободным! — вспыхнул Карл Великий. — Я сам возьмусь за это дело. Буду говорить с его паном. Неужели он не поймет, что этот парень — талант, талант, каких мало. Вы, Сошенко, разузнайте о его хозяине, а пока вы и Мокрицкий, и Петровский, и Михайлов — все помогайте этому парню, учите его.
— Конечно! Сошенко уже познакомил его с нами, — радуясь порыву любимого учителя, радостно проговорил Мокрицкий. — Если бы вы знали, какая это интересная, искренняя натура!
Брюллов улыбнулся, и Мокрицкий понял, что Брюллову достаточно было увидеть рисунок парня, чтобы увидеть намного больше, чем все другие.
— Вы после театра домой, друзья? — спросил Карл Павлович. — Я еду на ужин к Виельгорскому. Там я поговорю о вашем Тарасе и с графом Михаилом и с Жуковским…
— Какой я счастливый, что сам Великий Карл заинтересовался Тарасом, — сказал Сошенко другу. — Теперь, хотя и не вижу реальных путей, я гораздо спокойнее за его судьбу.
С этого момента Сошенко чувствовал на себе еще большую ответственность.
Подряд выполнен, открытие театра состоялось. Тарас был свободнее. Сошенко воспользовался полуприглашением Ширяева и уже несколько раз заходил к нему и забирал Тараса.
Какое это было счастье!!
— Пойдем сегодня в Эрмитаж! — сказал Сошенко. — Я покажу тебе Веласкеса. Потом пойдем в Академию, там ты увидишь «Последний день Помпеи».
В следующий раз он сказал:
— Пойдем сегодня к нашему Великому Карлу, там и Аполлон будет, и еще товарищи.
— Разве это можно? Нет. Я ни за что не пойду, — испугавшись, промолвил Тарас.
— Ну, что ты! Он сам сказал, чтобы я привел тебя. Ведь он хвалил твои рисунки. И ты не бойся его: нам, правда, всем попадает за нашу мазню, но он наш наилучший друг и товарищ…
Домой Тарас возвращался будто пьяный. Это не сон, не сказка, не мечта. Он действительно был в кабинете, украшенном красным материалом. Великий Карл по-домашнему, в красном халате, разговаривал, шутил с ним, удивлялся его рисункам, хвалил, делал замечания. Вечером пришел к Брюллову и поэт Жуковский. Тарас хотел убежать, но его не пустили. Жуковский за руку, как со всеми, поздоровался с ним, а потом рассматривал новую картину Карла Павловича «Снятие с креста», и его так взволновала Мария Магдалина, что сентиментальный поэт расплакался.
Сошенко и Мокрицкий проводили Тараса домой. Тарас держал в руках книги — античную историю Греции и Рима. Это советовал читать Карл Павлович, и ребята, конечно, поспешили достать для Тараса. А в карман его подержанного пальто заботливый Сошенко положил две свечки, чтоб Тарас мог читать вечером и ночью на своем чердаке.
— Где ты был? Где ты болтаешься все время? — резко спросил хозяин.
«На Олимпе. Я был на самому Олимпе, среди его богов», — хотелось ответить Тарасу. Разве не боги с Олимпа были его новые знакомые?
— Я был у Карла Павловича Брюллова. Он похвалил мой рисунок, — дрожащим от счастья голосом сказал Тарас.
— У Брюллова? — вытаращил глаза хозяин. — Ты завираешься, парень. Что, ему больше делать нечего, как с тобой возиться? Иди проспись…
И когда уже шаги затихли на лестнице, буркнул:
— С ума сошел… — и махнул рукою.
А Тарас зажег свечу и, разместившись на своем матрасе, жадно глотал страницу за страницей удивительных мифов; и когда уже засыпал, путались в полусне образы мифологических богов и его новых друзей с Олимпа, и счастливая улыбка осветила его лицо.
— А сегодня я познакомлю тебя с твоим земляком, — сообщил как-то Сошенко. — Сегодня суббота. Пойдем на вечерницу.
— Какая вечерница? Здесь, в Петербурге? — удивился Тарас.
— Ну, это я так шутя зову. Пойдем к Гребенке, Евгению Павловичу. Это же наш земляк, он пишет на украинском языке, поговорим с ним. А то и родной язык забудешь, — засмеялся Сошенко.
Нет, он, Тарас, не забывал и тут украинский язык. С той летней белой ночи он не оставлял своих проб писать. Редко только вырывал он на это время.
Каким родным, давно забытым теплом и уютом повеяло на Тараса от простенькой квартирки в помещении кадетского корпуса, где работал воспитателем украинский баснописец Евгений Павлович Гребенка. Он имел достаточно значительный успех среди петербургских литераторов. Его печатали журналы, потому что его повести и рассказы любили читать. А еще к тому же у Гребенки была страсть — всех угощать, особенно в тех случаях, когда с Полтавы от родных приходили посылки.
— Это и есть тот Тарас, о котором я вам говорил, — представил Тараса Сошенко.
Глянув на приветливого хозяина, услышав его полтавский мягкий выговор, Тарас чуть не расплакался. Здесь был еще один земляк, Григорович, и с ним сразу переговорил Сошенко про Тараса, как советовал старый Венецианов. За столом гостеприимный хозяин все подкладывал в тарелки и подливал в чарки. После ужина он со скромной гордостью показал последнюю свою книгу — перевод пушкинской «Полтавы».
— Мне предлагают подготовить второе издание, — сказал он. — Может быть, вы, — обратился он к Тарасу, — попробуете сделать иллюстрации к «Полтаве»?
— О, если б только смел!
— А сейчас почитайте, Евгений Павлович, просим! — попросили гости.
— Как бы я хотел увидеть и самого Пушкина! Ведь он тут, в Петербурге… — тихо вымолвил Тарас…
И он увидел Пушкина.
За несколько дней до этого Мокрицкий увлеченно рассказывал Тарасу:
— Ах, какой вчера был вечер в нашей мастерской. Никогда в жизни не забуду.
Ему не терпелось быстрее рассказать, а Тарасу, конечно, не терпелось быстрее услышать.
— Рассказывай!
Аполлона не надо дважды просить.
— Вчера было столько посетителей в нашей мастерской.
— У вас всегда собирается много народа… — промолвил Тарас.
— Но вчера, вчера с Жуковским приходил Александр Сергеевич Пушкин.
— Пушкин? — подозрительно глянул Тарас. — И ты видел самого Пушкина?
— Я его уже не впервые видел, — с детской гордостью ответил Аполлон. — Я видел его уже дважды у знакомых. Если бы ты знал, что я чувствовал! Он сказал мне: «Только не женитесь, и Италии вам не миновать». А вот вчера, вчера целый вечер они были у нас…
— Ну, расскажи по порядку, — попросил Тарас.
— Вечером после обеда Карл Павлович лег отдохнуть, а я сел читать ему Вальтера Скотта. Он любит, когда ему читают.
Тарас с завистью посмотрел на Аполлона. Он сидит, как дома, у Карла Брюллова, читает ему…
— И вдруг заходит Лукьян, — продолжает Аполлон, — и говорит, что приехали Василий Андреевич Жуковский и Александр Сергеевич Пушкин.
Я пошел в студию, чтоб не мешать им, но вскоре Карл Павлович позвал меня, чтоб я принес портфель с его рисунками.
— И ты его увидел, — дрожащим голосом спросил Тарас, — близко?
— Вот так, как тебя, — радостно ответил Аполлон. — Какой он! Если бы ты знал, какой он! Сама жизнь! И такой простой, веселый. Я счастлив, Тарас. Это же два гения — наш Карл Великий и Пушкин. Стоит ли удивляться, что они сразу поняли друг друга и подружились? Я думаю, что так только у гениев и бывает. Простым смертным еще надо приглядеться один к другому, пуд соли, как говорится, съесть. А таланты с того начинают, чем простые люди заканчивают. С каким восторгом рассматривал Александр Сергеевич рисунки нашего Карла! А как дошел до рисунка «Съезд на бал к австрийскому послу в Смирне» — Карл Павлович недавно его закончил, — как глянул Александр Сергеевич, как зальется смехом, кричать, прыгать начал, ну совсем ребенок! И действительно, разве можно без смеха смотреть на этот очаровательный шутливый рисунок? Представь себе — смирненский полицмейстер, толстый, круглый, спит посредине улицы на ковре и подушках. На эту карикатурную фигуру нельзя без смеха глянуть. Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, смеялся, аж слезы выступили. Хочет слово вымолвить и не может. «Дорогой мой, — говорит он наконец Карлу Павловичу, — подари мне этот рисунок. Прошу тебя!» А рисунок этот уже принадлежит графине Салтыковой, чтоб ее черти забрали. «Не могу, — говорит Карл Павлович, — честное слово, не могу». А Пушкин не может оторваться от рисунка. «Подари, — говорит, — брат, я на колени перед тобой стану». И действительно на колена стал. Я думаю: «Неужели Карл Павлович откажет? Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин на коленях стоит». И я в мыслях Салтыкову ко всем чертям посылаю. А Карл Павлович свое: «Не могу, брат, понимаешь, отдал уже, надо слово держать. Я тебе другой сделаю, копию, и с тебя самого портрет напишу. Вот приедешь после четверга — начнем»
— И он согласился приехать? — прервал Тарас. — Он приедет позировать?
— Приедет, обязательно приедет! — ответил Аполлон. — Пообещал приехать через три дня. Условились так. Снова увижу его и буду видеть еще столько раз! Ну, наш Карл Павлович сделает с него такой портрет, какого еще никто не писал. Я уверен, лучше будет, чем Тропинина и Крамского, хотя и те хороши, но не тот, не тот Пушкин там! Наш Карл кого любит, тот у него чудесно выходит! Все говорят — портретист он непревзойденный! Вот только как мог он ему отказать и не подарить рисунка… — неожиданно грустно покачал головой Аполлон. — Подумаешь, слово Салтыковой — это же Пушкин!
— Ну, так он же сделает копию! — успокаивая, сказал Тарас. — А если сам Брюллов сделает копию, это же одинаково, что и оригинал. Пушкин не рассердился?
— Нет, нет, он ходил по мастерской от картины к картине, и глаза его так вдохновенно блестели. Вот таким бы его нарисовать! И оба — он и Жуковский — на прощанье обняли Карла Павловича и расцеловались. До конца жизни не забуду этот вечер!
— Если бы мне хотя бы в щелочку его увидеть, Пушкина! — мечтательно промолвил Тарас.
— Почему в щелочку? Вот он приедет на сеанс, а ты приходи ко мне, как будто по какому-то делу, и увидишь, — великодушно предложил Аполлон.
Они еще долго ходили, «провожали» один другого, не обращая внимания на шум на улицах, на площади перед Адмиралтейством, где в этом году особенно модным было катание с насыпанных там горок. Дамы катались на тройках, победнее — просто на санках.
— Ну, пора по домам, я уже замерз. Хотя у меня подкладка пальто теплого цвета — красного, но цвет греет мало! — засмеялся Мокрицкий. — А ты, наверное, совсем задубел?
— Я привычный, — улыбнулся Тарас. Он готов был ходить с новым другом до утра.
— Не забудь, послезавтра я пойду с тобой на лекцию по анатомии. Пойдешь?
— Еще бы!
Они крепко пожали друг другу руки и наконец разошлись.
Следующим вечером под впечатлением рассказа Мокрицкого Тарас перечитывал Пушкина, читал «Полтаву» в переводе Гребенки и пробовал делать к ней рисунки.
А на третий вечер, как было условлено, Тарас зашел к Мокрицкому, чтоб вместе идти на лекцию. Сколько еще надо было ему прочитать, послушать, увидеть, как жадно он тянулся к знаниям!
Мокрицкого он встретил в дверях его небольшой комнаты, уже одетого и как будто чем-то удрученного.
— Ты уже оделся? Я опоздал? — перепугался Тарас.
Мокрицкий вдруг махнул, сел на стул в передней и заплакал.
— Что, что с тобой? — рванулся к нему Тарас.
— Пушкина… Пушкина убили на дуэли.
Они пошли вдвоем. Не на лекцию, конечно. Поток людей двигался на Мойку, шли пешком, ехали на извозчиках.
— К Пушкину, — просто говорили люди, нанимая сани.
Мойка была переполнена народом. Толпа стояла на Певческом мосту, толпа стояла перед домом, где была квартира Пушкина. С дома выходили и входили люди. Обратил на себя внимание высокий старик. Он вышел, рыдая.
— Вам Пушкин родственник? — спросила его какая-то женщина в платке.
— Я русский, — ответил старик и заплакал еще сильнее.
Последняя квартира Пушкина была в доме княгини Волконской — матери декабриста Сергея Волконского. Сюда, в этот дом, когда Сергей Волконский сидел арестованным в Петропавловской крепости, приезжала его молодая жена Мария. Самоотверженная русская женщина поехала за мужем в Сибирь, на каторгу.
Тарас не знал — именно ей, своей тайной юношеской любви, посвятил Пушкин свою «Полтаву». А теперь ее друг детства, ее пылкий поэт лежал мертвым…
Тарас с Мокрицким зашли в парадный подъезд под аркой, поднялись по широкой лестнице вверх, в квартиру поэта.
Пушкин лежал на столе в черном сюртуке, спокойный, с выражением застывшей мысли на лице.
В головах его стоял Жуковский, и крупные слезы катились по его щекам. Кусая губы, стоял лицейский товарищ Пушкина и секундант последней фатальной дуэли — Данзас.
— Вы здесь, Константин Павлович? — спросили его.
— Нет, — ответил он с горькой улыбкой, — я не здесь, я на гауптвахте. Император разрешил только похоронить Александра, и я должен вернуться под арест.
Мокрицкий увидел много литераторов, художников, музыкантов. Все они собрались сюда, но и много незнакомых людей приходило попрощаться со своим самым любимым поэтом. Тарас не мог выйти сейчас из этой комнаты. Он стал в уголке и стал смотреть, смотреть. И слова, незабываемые пушкинские слова о вольности, свободе вставали в его голове. Он хотел навсегда запомнить это лицо, которое довелось ему увидеть только мертвым. Он посмотрел на Мокрицкого, и они поняли один другого. Мокрицкий вынул с кармана лист бумаги, поделил его пополам и дал половину.
Из своего уголка они быстро начали рисовать.
А двери не закрывались. Бесконечным потоком шли люди — студенческая молодежь, взрослые и совсем старые. Все кланялись до земли, плакали и, выходя, шепотом говорили друг другу:
— Что ж, «он» теперь радуется, что убили. Пушкин ему поперек горла стоял.
— «Он» мог бы его уберечь для России, но «он» сам толкал его на смерть.
Тарас ловил эти слова, прислушивался к разговорам. Он хотел понять и не мог, как же случилась эта страшная трагедия, как же это «он» — царь Николай — не уберег солнце своей земли.
Возле него остановился совсем молодой, хорошо одетый студент, и тот же вопрос был в его светлых глазах.
— Тургенев, пойдем, — услышал Тарас, как, взяв студента за рукав, шепотом промолвил другой студент. — Там, на улице, у людей стихи на смерть поэта.
Тарас с Мокрицким тоже вышли. Уже было совсем темно, но народу не убавлялось. Они увидели, как на парапет моста поднялся какой-то студент, вынул лист бумаги и прерывистым голосом начал читать при свете фонаря:
Погиб поэт! — невольник чести — Пал, оклеветанный молвой, С свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув гордой головой!..— Тише, тише. Жандармы!
Студент мгновенно исчез, но через минуту его голос звучал с другой стороны моста:
Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы под сению закона, Пред вами суд и правда — все молчи!..— Пойдем, пойдем. Быстрее отсюда! Тут добром не закончится, — тянул Мокрицкий за руку Тараса.
— Нет, нет, подожди… Смотри, он бросил этот листок в толпу.
— Кто написал эти стихи? — спросил рядом какой-то офицер другого.
— Говорят, гусарский поручик, Мишель Лермонтов…
— Ну, ему этого не простят, и бабушка не поможет.
— Говорят, возле нидерландского посольства, где живет Дантес, отряд жандармов стоит. Царь боится, что Геккеренов разнесут.
— Их он больше бережет, чем Пушкина.
Мокрицкий и Тарас насилу вырвались из этого потока.
— Завтра пойдем на похороны.
— Конечно, только надо прийти пораньше. Видишь, сколько вокруг жандармов!
Но на похоронах им быть не удалось. Дом еще с самого утра окружили жандармы. Народ собирался к той церкви, где, как было объявлено, состоится панихида. Но недаром все время в Зимний дворец, как сведения с поля бою, неслись сообщения, что делается в городе, как волнуется народ, какие толпы людей собираются возле дома и возле церкви.
Царь Николай не на шутку боялся демонстраций.
В последнюю минуту он приказал нести гроб в другую церковь, на Конюшенной улице, и после последнего обряда, через несколько дней, глухой ночью гроб с телом Пушкина поставили на сани и увезли в Святогорский монастырь. Гроб сопровождал жандарм, и только одному с друзей Пушкина — Александру Тургеневу — разрешили проводить поэта в последний путь. Да еще старый дядька-камердинер Никита Козлов, который от самой колыбели присматривал за поэтом, объездил с ним всю Россию, бывал и в молдавских степях, и в горах Крыма и Кавказа, провожал своего Александра Сергеевича туда, откуда никому никогда не бывает возврата…
У Брюллова в мастерской сидели грустные его друзья, сидели ученики — Мокрицкий, Сошенко, в уголке, в тени, пристроился молчаливый Тарас. Он еще стыдился бывать в таком обществе, но ценил каждую минуту, проведенную с этими людьми.
Грустные, задумчивые были все. Старшие обсуждали издание полного собрания сочинений Пушкина. Брюллов сразу набросал эскиз фронтисписа: Пушкин стоит на скале Кавказа с лирой в руках.
— Почитайте, Аполлон, его стихи — попросил Карл Павлович. Он лег на софу, подперев голову рукою, и все смотрел и смотрел в одну точку — на пламя, что разгоралось в камине. На камине стоял золоченый бюст Пушкина.
— Прочитайте его «Молитву»! Сколько мысли! Каждый рядок говорит так много и ума, и чувств.
Отцы пустынники и жены непорочны, Чтоб сердцем возлетать во области заочны, Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, Сложили множество божественных молитв; Но ни одна из них меня не умиляет, Как та, которую священник повторяет Во дни печальные Великого поста; Всех чаще мне она приходит на уста И падшего крепит неведомою силой: Владыко дней моих! Дух праздности унылой, Любоначалия, змеи сокрытой сей, И празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения, И дух смирения, терпения, любви И целомудрия мне в сердце оживи.Мокрицкий читал еще и еще, сцены из «Русалки», «Дон Жуана».
— А теперь вот это — «Пора, мой друг, пора…», — попросил Карл Павлович и смотрел, не отрываясь, на пламя.
Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальнюю трудов и чистых нег, —читал Мокрицкий.
— «Обитель дальнюю трудов и чистых нег», — повторил Брюллов. — Нет! Я тут ничего не напишу. Я охладел, я застыл в этом климате. У нас все делается по-чиновничьи. Пушкину — Пушкину! — царь предложил переработать «Бориса Годунова» на роман, наподобие романов Вальтера Скотта. Нет, я тут не выживу. А мне он предложил нарисовать взятие Казани — и как? Ивана Грозного с женой в русской хате на коленях перед образами, а в окне — взятие Казани. Он везде накладывает свою руку. Я имел смелость возразить. Разве можно занимать первый план картины, а самый сюжет показать черт знает где… Или нарисовать для него парад… Тысячу одинаковых сапог… А синод ищет католическую ересь в моих сюжетах. Нет, я здесь ничего не сделаю, — говорил он в отчаянии. — Пушкина, Пушкина убили! Он здесь был у меня, смеялся за три дня до смерти. Почему я не дал ему этого проклятого рисунка? Как он хотел, чтоб я нарисовал его жену. «Нарисуй мою Мадонну, — говорил он мне. — Увидевши ее — на коленях сам будешь просить, она красавица». А я отказался. Мне не нравились ее глаза. Ее нарисовал мой брат Александр.
— И из-за нее великий Пушкин погиб, — промолвил Сошенко.
Брюллов услышал это и криво улыбнулся.
— Да, и из-за нее. Но еще большая вина на царе и его жандармах. Пушкин не мог свободно дышать тут, — тихо прошептал Тарас, поняв эту горькую улыбку Брюллова.
Эти слова услышал только Сошенко и со страхом глянул на Тараса…
Не то что за неделю, за один день в Петербурге погода сменится столько раз, что и не разберешь — осень ли, зима ли, или весна.
Так в последнее время и настроение у Тараса. В окружении Сошенко и его друзей, в мастерской Брюллова он наконец-то почувствовал себя молодым, полным сил и надежд, с жаждой к знаниям, к творчеству. Он прислушивался к каждому замечанию Карла Павловича и пытался в меру своих условий выполнять все, что тот советовал. Он слышал, как Карл Павлович всегда советовал своим ученикам как можно больше рисовать с натуры. Изучать тело человека.
— Рисуйте антику в античной галерее, — говорил он, — это необходимо в искусстве, как соль в пище. В натурном классе старайтесь отобразить живое тело. Оно прекрасное, только сумейте его показать. Изучайте натуру, какая у вас перед глазами, и старайтесь понять, выучить ее во всех оттенках и особенностях.
Но где взять Тарасу «живую натуру?»
К Брюллову часто приходит натурщик Тарас.
— Настоящий Антей! — любуясь его могучей пропорциональной фигурой, говорит Брюллов. — Ну, Тарас, начнем, благословясь! Эх, господа, как весело начинать картину! Вы еще не ощутили этого, не знаете, как при этом прямо грудь расширяется от задержанного дыхания. Начнем, Тарас!
Тезка Тараса Шевченко, тоже из господских крепостных, Тарас Малышев — особа, хорошо известная среди старших и молодых художников. Кроме того, что он прекрасный, спокойный натурщик, он «заведует» гипсовым классом. Когда нет занятий, он пускает туда и Тараса Шевченко.
Тарас Малышев из Московской губернии, из-под Ростова. Иногда они разговорятся вдвоем, начнут вспоминать. И выходит — одинаковые воспоминания и у крепостного россиянина, и у крепостного украинца.
— Все паны одним миром мазаны, — говорит натурщик Тарас Малышев. — Вот только и увидел жизни, что с художниками. Вот это люди! Приходи, Тарас, рисуй. Из тебя люди будут! Я б и тебе попозировал, но видишь, как раз некогда. Служба! — и поделится с Тарасом краюхой ржаного хлеба, «чтоб не обессилел» за работой.
Тарас тщательно перерисовывает гипсовые головы и фигуры и просто с любовью относится к скелету, что постоянно стоит в углу. Тарас часто ставит его в различные позы. Несмотря на все трудности судьбы, у Тараса где-то в глубине души все-таки сохранились и нотки юмора. Недавно товарищи очень смеялись, как он посадил на стул скелет в позе гуляки и так срисовал его.
Его товарищи, молодые художники, много рисуют «живой» натуры. Какой прекрасный портрет нарисовал недавно Мокрицкий с Наташи Клодт, дочери академика, влюбленного в зверей! Даже Брюллов сказал:
— Начинаете чувствовать красоту линий, юноша.
Ему, Аполлону, заказывают уже много портретов. Возможно, и Тарас смог бы сделать не такой уж плохой портрет…
В воскресенье он отпросился у Ширяева на Моховую, к своему хозяину Энгельгардту. Среди панской челяди его старый друг-земляк Иван Нечипоренко, добродушный, спокойно-меланхоличный мужик.
— Будь другом, — говорит ему Тарас, — посиди спокойно и покури свою трубку. Я так тебя нарисую, выйдешь, как игрушечка на портрете, и ей-богу, табаку куплю.
— Ври, ври больше, — засмеялся Иван, — как не выйду — по затылку получишь.
Он сел, надулся, погладил усы, поправил чуприну, набрал сурового вида — так, ему казалось, лучше будет. Аж крякнул Тарас от удовольствия.
— Выйдет, Иван! Иван с Украины!
Схватил кисть — и вскоре с полотна смотрели лукавые, хитровато прищуренные глаза Ивана, и был весь он, как живой — хоть возьми, да и потрогай его крепкую загорелую руку.
Тарас не услышал, как к ним подошел сам пан, Павел Васильевич Энгельгардт.
— О, мой Перун! — выпустив дым из трубки, проговорил он. — Рисует! И как похоже. Пусть меня возьмут черти! Смотрите какой! Это же я его выучил, мой художник! Слушай ты, сбегай сейчас на Фонтанку, адрес запиши, возьми краски, кисти. Все, что там надо, и начнешь рисовать портрет пани Адели. Портрет для меня. Понимаешь?
Портрет Ивана он не закончил. Зато сколько знакомых дам пана пришлось с той поры рисовать Тарасу. Еще бы — «его собственный художник»!
Иногда он давал за портрет рубль, а иногда только ругал и делал дурацкие замечания, потому что совсем не разбирался в живописи.
Как-то Тарас нес портрет одной из этих дам и его остановил на улице молодой кирасирский юнкер.
— Ну-ка, голубь, покажи! И это ты сам нарисовал? Сколько ты возьмешь за портрет моей невесты?
Тарас уже знал, сколько может стоить такая робота, но разве мог он назвать более-менее пристойную цену? Он рад был каждой копейке.
— Пять рублей! — сказал он.
Юнкер был удивлен такою низкой ценой, но не мог не поторговаться. — Три!
— Пусть будет так!
— Я живу в Гатчине. Приедешь в воскресенье. Фамилия моя — Демидов.
Это было нелегко, но заработать всегда нелегко. Тарас несколько раз ездил рисовать портрет невесты Демидова. Как всегда, он сам увлекся работой, хотя «натура» ничего собой интересного не представляла. Еще и мать мешала:
— Зачем он ее делает такой бледной, разве нельзя на портрете наложить больше розовой краски? А этой родинки на носике вообще не надо делать. Ой, на портрете она какая-то долгоносая!
Панночка действительно была долгоносая, и с родинкой, и бледненькая, как петербургское утро. Но в конце концов это надоело Тарасу, — он и нос в сердцах укоротил, и щеки сделал порозовее. Панночка была в восторге, Демидов тоже.
Тарас выжидательно смотрел на жениха и невесту.
— Ах да, деньги! Приедешь на следующее воскресенье!
В то воскресенье Демидов пьянствовал с приятелями и о деньгах и вспоминать не хотел. На следующей — Тарас не застал его или, может быть, слуга просто обманул. Неожиданно они встретились на Невском, Тарас подбежал, остановил его. Демидов смерил Тараса высокомерным взглядом.
— Ты, холоп, как ты смеешь разговаривать так с помещиком Демидовым? Я сообщу твоему хозяину!
Сколько даром потрачено времени и труда!
Но Тарас вынужден был сносить все молча. В такие минуты он хотел быстрее вернуться на свой чердак. Где уж там мечтать о друзьях с Олимпа!
Он кусал губы, сидя в своем углу, и проклинал всю свою жизнь.
И снова, как в приподнятом, так и в угнетенном настроении, не мог он рисовать, а писал на клочках бумаги грустные-грустные строки.
За этим и застали его как-то Сошенко и Мокрицкий.
— Ты что-то пишешь? — спросил Мокрицкий.
— Так, выгадываю себе неизвестно что.
Мокрицкий попросил разрешения взять написанное и в тот же вечер снова повел разговор с Брюлловым про Тараса. При их разговоре был и Григорович.
— Нет, человек с таким чувством и мыслями не может оставаться крепостным! — одобрительно говорил Брюллов, прочитав стихи Тараса. — Я сам поеду к его помещику…
С нетерпением ждали Брюллова Сошенко и Мокрицкий. Но каким сердитым вернулся их маэстро!
— Это самая большая свинья в бархатных тапочках. Идите вы сами, Иван Максимович, — обратился он к Сошенко, — к этой амфибии, и пусть он назначит цену за несчастного парня.
Юноши были возмущены не меньше, чем их учитель. Как? Так принять Карла Великого? Карла Брюллова, имя которого прозвучало на всю Европу! Но как же тогда он примет незаметного, скромного Сошенко?
Выйдя из комнаты, Сошенко задумался.
— Может, лучше уговорить пойти к Энгельгардту старого Венецианова?
На другой день, вечером, Венецианову рассказали об итогах свидания Брюллова с Энгельгардтом.
Пан Энгельгардт и старого добряка Венецианова принял не лучше. Он с час продержал его в передней, но старый Венецианов видел всего на своем долгом веку.
— Стоит ли обижаться на этого вандала-помещика? Это было бы ниже моего достоинства.
Сначала старик завел разговор об образовании, добродетели, но «свинья в бархатных тапочках» рассмеялась и откровенно спросила, чего хочет от него он и этот «американский дикарь» — Брюллов.
— Видно, вы, Карл Павлович, не могли с ним спокойно говорить, — улыбнулся Венецианов, когда дошел до этого места своего рассказа.
— Не мог, — признался Брюллов, — спокойно говорить о купле-продаже живого человека.
Венецианов тоже откровенно ответил пану, что они хотят выкупить Тараса Шевченко, и спросил, какая будет цена.
— Вот так бы сразу и сказали! — рассмеялся самодовольно пан. — А то — филантропия. Деньги и больше ничего! Моя последняя цена два тысячи пятьсот рублей.
— Вот так и сказал этот пан, а я согласился, — закончил старый.
— Две тысячи пятьсот рублей! — вздохнул в отчаянии Сошенко.
— Не расстраивайтесь! — промолвил Брюллов. — Это уже второстепенное дело.
Он загорелся сам, как юноша.
Какие-то мысли, планы уже зарождались в его горячей деятельной голове.
Он, наверное, и ночью думал об этом, потому что в шестом часу утра послал своего Лукьяна к Мокрицкому.
Мокрицкий привык, что его маэстро может прислать за ним и в два часа ночи, потому что у него бессонница и хочется почитать и поговорить и в шесть часов утра, чтоб поделиться какой-то мыслью или показать цвет неба и воздуха над Невой.
Но сейчас было что-то важнее. Молодые люди не знали, что решил Карл Павлович, что-то готовилось. Он послал записки к Жуковскому, ездил к Виельгорскому и чуть не побил верного своего Аполлона, когда тот, не чуя под собой ног и от радости, что готовится уже что-то реальное, и от весеннего ветра и первых луж, все перепутал, а главное — Жуковского пригласил не тогда, когда надо было. Но Аполлон стоял перед маэстро с таким комично-растерянным видом, так терпеливо выслушал все «музыкальное», вылитое сгоряча запальчивым Брюлловым, что гроза прошла быстро, как и началась, и они оба начали дружно и энергично готовить мольберт и полотно для новой картины. Какой именно — Аполлон не знал и не осмеливался спросить.
На другой день Мокрицкий по секрету сообщил Сошенко:
— Сегодня в нашей мастерской появится еще одно прекрасное творение — портрет Василия Андреевича Жуковского, и если бы ты знал, какое разительное сходство с оригиналом! Какая чрезвычайная сила рельефа! Ты подумай, сеанс продолжался не больше двух часов, а голова кажется почти законченной.
Он не утерпел и повел друга в мастерскую. Брюллова не было дома. Перед портретом в кресле Карла Павловича сидел мальчик Липин.
Это был один из тех самоучек-художников, о которых Карл Павлович побеспокоился еще в Москве и добился обещания дать им отпускную на волю. Приехав в Петербург, Брюллов не забыл о них, особенно ему нравился младший Липин. «Пришлите мне моего сыночка», — написал Карл Павлович московским друзьям. Теперь Липин и жил у Брюллова.
Мальчик зачаровано смотрел на портрет и шептал:
— Как живой… совсем как живой.
— Кыш-ш, — шутя сурово сказал Мокрицкий, и Липин испуганно скатился с кресла и исчез.
— Посмотри, Иван, на эти прекрасные руки, — восхищенно вымолвил Аполлон, — какие нежные, задумчивые руки! Так и чувствуешь, что их оружием будет легкое перо. А глаза, уста! Только Брюллов может написать такие живые глаза человека.
По своей привычке, известной всем его товарищам и учителям, Аполлон вдохновенно продекламировал:
Воспоминание и я одно и то же, Я образ, я мечта, Чем старе становлюсь, Тем я кажусь моложе.Но ни Аполлон Мокрицкий, ни Иван Сошенко не знали точно; они только догадывались, зачем взялся Брюллов за этот портрет. Об этом договорились их старшие друзья — Брюллов, Жуковский, Виельгорский, Венецианов и Григорович.
Цена портрета должна была быть ценой выкупа Тараса.
Чего только не выгадывал Сошенко, чтоб хотя бы немного облегчить долю Тараса.
Уж никак нельзя было сказать, чтобы его как художника так уж интересовало сердитое рябое лицо Ширяева, тем не менее он взялся нарисовать его портрет с условием: пока не начался новый сезон, Тарас месяц будет жить у Сошенко.
Уже два года он, как заботливый воспитатель, смотрел за ним, ввел в «Общество поощрения художников», познакомил с кем только мог, наблюдал за его чтением и удивлялся, как быстро вбирает в себя этот юноша все знания, что урывками перепадают ему, с какой жадностью глотает книги и может уже разговаривать в кругу друзей Сошенко, как развитой, образованный человек. Но крепостное ярмо еще висело над ним, он был игрушкою в руках своего хозяина.
Хозяин, пан Энгельгардт, издеваясь, орал:
— Зачем мне эти художники? Захочу и продам его соседу помещику.
И все никак не давал официального согласия на выкуп.
Последние события заставили Сошенко снова просить своих старших друзей ускорить это дело. Опять-таки для облегчения положения Тараса Сошенко согласился нарисовать портрет жены управляющего Энгельгардта — Прехтеля.
Белокурая женщина в кудрях, фижмах и оборочках, манерно закатив глаза, сидела в кресле с застывшим, как у куклы, выражением лица, когда во дворе послышался какой-то крик.
Иван Сошенко выглянул в окно. Два лакея тащили Тараса, а краснорожий лысый Прехтель что-то кричал, размахивая руками.
— Амалия Густавовна, позовите, пожалуйста, своего мужа, — тихо, но твердо промолвил Сошенко и положил кисть на палитру.
Амалия Густавовна испуганно глянула на «пана художника», всегда такого тихого, скромного, и не узнала его.
— Сейчас, сейчас! — заспешила она и, подойдя к окну, закричала: — Мой милый! На минутку! Что случилось? — спросила она, когда разозленный муж зашел в комнату.
— Это черт знает, что такое! — кипел Прехтель, и аж слюна брызгала у него изо рта. — Этот холоп чувствует себя полным хозяином. Он приходит сюда и будоражит всех людей. Он начинает говорить им про их права, настраивает их против пана, против меня, и я заметил уже, как они начинают своевольничать. Я этого не потерплю. Мне все равно, что там болтают, что он художник. Он холоп, крепостной, и должен знать свое место. Я приказал схватить и отхлестать его на конюшне розгами. Я проучу его!
— Нет, вы этого не сделаете! — решительно сказал Сошенко, сам не ожидая от себя такого тона. — Стыдитесь, лучшие люди — поэты, художники — заботятся о его судьбе, а вы осмеливаетесь посылать его на конюшню? Что вы делаете? Опомнитесь!
— Ну и что с того? — не успокаивался Прехтель. — Пока что он — никто!
— Пани, — обратился Сошенко к своей кокетливой модели. — Я обращаюсь к вашему женскому чувствительному сердцу. Вы должны заступиться — иначе я не смогу бывать в вашем доме и не дотронусь больше к этому портрету.
Пани Амалии не было никакого дела до какого-то там Шевченко, и она не понимала, почему «пан художник» берет это так близко к сердцу, ее женское «чувствительное» сердце никак не реагировало, когда на конюшне наказывали кого-нибудь из челяди. Но ей совсем не хотелось портить отношения с милым, вежливым молодым человеком.
— Ну, мой дорогой, успокойся — игривой кошечкой прижалась она к мужу. — Для меня, понимаешь, для меня ты должен на этот раз простить этого холопа. Я и пан художник просим тебя. И зачем нам портить настроение перед обедом, когда к обеду я приготовила для тебя сюрприз, который ты очень любишь.
Прехтель еще поупирался немного, но не мог устоять перед чарами своей половины и ее обеденным сюрпризом. Он пошел распорядиться отпустить Тараса Шевченко.
Сошенко едва закончил сеанс. Руки его дрожали. Обедать он не остался, сославшись на то, что торопится на урок. Он бежал домой, к Тарасу.
Сошенко никогда не видел его таким.
— Я подожгу пана, — сказал он. — Я отомщу за себя и за всех. Я его зарежу.
— Что ты, Тарас, опомнись и успокойся! — уговаривал его друг, сам чрезвычайно взволнованный. — Ты только исковеркаешь свою жизнь…
— Она никому не нужна, никому! Зачем я встретился с вами? Зачем я учусь, если я не человек?
Он соскочил с кровати, схватил шляпу и бросился к дверям.
— Прощай, Иван Максимович, не вспоминай лихом!
— Тарас! Подожди, Тарас! — кричал ему Сошенко.
«Он близок на крайний поступок, он может наложить на себя руки», — подумал Сошенко и сам выбежал из дома.
Вечером он нашел Тараса у Невы. Тарас сидел на перевернутой лодке и смотрел на лед.
— Тарас, послушай меня! Вот тебе записка от Жуковского. Да, я видел сегодня Григоровича, я был у него после того, как ты убежал от меня, как сумасшедший. Он передал мне это для тебя… Ну, вот видишь, потерпи еще немного… Что пишет тебе Жуковский?
— Спасибо, тебе, Иван Максимович, — попробовал улыбнуться Тарас. Его как будто трусила лихорадка, и зуб на зуб не мог попасть. — Благодарю святого человека Жуковского. Он пишет, что еще совсем немного и все будет хорошо.
— Ну, вот видишь. Пойдем домой! — уговаривал Сошенко Тараса, как ребенка.
— Ширяев прислал Хтодота за мной, чтобы я возвращался к нему… И снова в его артели…
— Нет, ты еще пойдешь ко мне. Пойдем быстро!
Но Тарас едва добрел до комнаты Сошенко.
— Что с тобой? Да ты совсем больной! Надо немедленно врача! — заметался Иван Максимович.
— Какая красная комната… — уже в бреду вдруг улыбнулся Тарас.
«Он бредит брюлловской красной комнатой», — догадался Сошенко…
Утром, когда Тараса осмотрел доктор, пришлось отправить его в больницу на Литейном проспекте…
Сидя на широком канапе в своей любимой позе, подобрав ноги, Василий Андреевич Жуковский был похож на турецкого пашу. Еще к тому же попыхивал табаком из длинного чубука.
Сегодня заходил к нему Григорович и сказал, что Тарас близок к самоубийству. Молодой художник Сошенко, который берет горячее участие в его судьбе, просто боится за него.
И тогда Жуковский написал юноше коротенькую успокаивающую записку, а сам сейчас обдумывал, как на самом деле ускорить освобождение Тараса.
Великий Карл уже закончил портрет. Граф Виельгорский посоветовал устроить лотерею-аукцион, привлекши к этому особ Двора, к которым Жуковский, как учитель царских детей, был близок.
Жуковский не впервые использовал свое положение и свое влияние прославленного, любимого даже Двором поэта для того, чтобы улучшить чью-то судьбу, освободить из беды. Всем известно, как он всегда пытался заступиться перед царем за Пушкина. Но не только для Пушкина, своего близкого и любимого друга, мог выдумывать Жуковский разные способы заступничества, помощи, на каждое несчастье он откликался всей чувствительной душой, особенно когда речь шла о помощи таланту.
Этот «алмаз в кожухе», крепостной парень Тарас Шевченко взволновал его… Он непроизвольно перенесся в далекое прошлое, в свое детство…
Конечно, оно никак не было похожим на детство Тараса — но, но…
Во время войны с турками пан Бунин шутя сказал одному из своих крепостных, который шел на войну: «Привези мне турчанку!» И крепостной выполнил приказ барина. Он привез двух молоденьких, очень красивых турчанок — Сальху и Фатиму.
Фатима умерла, а Сальху сделали няней панночек.
Старый пан влюбился в нее, поселил отдельно от прислуги, хотел даже жениться на ней, но не смог разойтись с женой.
Через несколько лет у Сальхи родился мальчик. И неожиданно старая пани, всем на удивление, всей душой привязалась к этому мальчику. Его взяли в панские покои… Вот так он и рос в каком-то странном непонятном положении: и сын, и не сын. Фамилию ему дали Жуковский. Учился он не очень хорошо, но очень любил читать.
Кажется, все у него было, но на душе всегда была грусть и сочувствие к родной матери. Такое неопределенное положение и странные отношения в семье сделали его чувствительным, деликатным, немного сентиментальным.
Это отразилось и на его творчестве. В ней было столько лирики, столько души и сердца!
Потому-то он чутко относился и к другим… Сызмальства он старался говорить обо всем легко, шутя, спокойно. Но все близкие знали, что за шутливой формой его писем, его разговоров скрывается добрая душа, всегда готовая на благородный поступок.
Жуковский подошел к своему «старому другу» — так он называл свой любимый письменный стол.
Немного поразмыслив, взял перо и бумагу. Он должен написать письмо фрейлине Двора — Юлии Федоровне Барановой. Жуковский надеялся на ее помощь. Шуточный его тон часто обезоруживал многих людей, давал ему возможность говорить о важных вещах просто и непосредственно, а придворные женщины были всегда в восторге от его остроумия.
Он улыбнулся добродушно-хитроватой улыбкой — написал сначала название своего послания.
«Исторический обзор благотворительных поступков Юлии Федоровны и разных других обстоятельств, курьезных событий и особенных разных штучек.
Сочинения Матвея».
Матвеем он в шутку часто величал себя.
Только штрихами, как малый ребенок, он нарисовал человека, что метет комнату, а вверху, в тучах, женское лицо — и подписал: «Это Шевченко. Он говорит себе: „Хотелось бы мне написать картину, а пан приказывает мести комнату“. У него в одной руке кисть, а в другой метла, и он в очень сложном положении. Над ним в тучах Юлия Федоровна».
Далее шел в таком же стиле выполненный рисунок, надпись под которым объясняла его содержание: «Это Брюллов пишет портрет Жуковского. На обоих лавровые венки. Она думает про себя: „Какой этот Матвей красавец!“ А Василий Андреевич, чувствуя это, благодарит в душе Юлию Федоровну и говорит про себя: „Я, возможно, готов быть и Максимом, и Демьяном, и Трифоном, только бы нам выкупить Шевченко“. — „Не волнуйся, Матюша, — говорит с тучи Юлия Федоровна, — мы выкупим Шевченко“. А Шевченко знай себе метет комнату. Но это в последний раз».
В таких рисунках и подписях он пишет обо всем, что необходимо сделать. Юлия Федоровна должна ускорить сбор денег на лотерею.
«Юлия Федоровна потому так спешит собрать деньги, — пишет он в примечании, — что Матвей скоро поедет за границу и должен до отъезда закончить это дело.
Удивительная женщина эта Юлия Федоровна. Как ее не любить? Пусть будет счастлива она, ее дети, внуки и правнуки. Матвей обещает с одной из ее правнучек станцевать за ее здоровье качучу…»
В конце письма совсем чудной рисунок:
«Это Шевченко и Жуковский оба валяются от счастья. А Юлия Федоровна благословляет их с тучи».
Да, надо, чтобы Юлия Федоровна поторопилась. Жуковский знает, она прочитает записку и скажет: «Charmant! Этот несравненный Жуковский! Как мило, остроумно! Надо ему помочь в этом деле какого-то Шевченко».
Опустив руки на своего любимого «друга», Жуковский долго сидел молча и грустно смотрел в окно.
Нужны деньги, и как можно быстрее. Две тысячи пятьсот рублей. Цена портрета.
Цена человека, художника, таланта.
Жуковский, запечатав своей печатью конверт, позвонил. Вошел камердинер.
— Надо немедленно отнести это письмо госпоже Барановой во дворе. А мне — одеться. Я еду к Виельгорскому.
Дом графа Михаила Юрьевича на Михайловской площади недаром называли «маленьким храмом изящных искусств в России». Он действительно был своеобразной живой и многогранной Академией искусств, а хозяин ее — сам композитор и большой знаток музыки — другом самых образованных и самых интересных людей того времени.
О доме Виельгорского писали:
Всемирной ярмонкой и выставкой всесветной Был кабинет его, открытый настежь всем. Кто приносил туда залог мечты заветной, Кто мысль, кто плод труда, кто приходил ни с чем…Со всеми одинаково утонченно-вежливый в поведении, он старался помочь каждому. Сейчас он принимал горячее участие в судьбе украинского парня — крепостного Тараса Шевченко, потому что для него, как и для его друзей, судьба таланта не была безразличной.
Он встретил Жуковского по-домашнему в халате — высокий, красивый старик с седыми волосами до плеч.
— Карл Павлович уже ждет вас, Василий Андреевич, — сообщил он, радостно приветствуя гостя. — Пойдем, за ужином все обсудим.
С ним жила его любимая младшая дочь Анна, или Анолит, исключительно образованная на то время и талантливая девушка. Говорили, в нее, единственную женщину в своей жизни, был влюблен Николай Васильевич Гоголь, но у нее не было желания выходить замуж и жила она у отца.
Анолит приветливо пригласила гостей в столовую. На ужин подали картофель с жареным луком и ростбиф. Брюллов и Жуковский за этим скромным ужином чувствовали себя, как всегда, в приятной, дружественной, «своей» атмосфере.
— У вас счастливая рука, Михаил Юрьевич, — улыбаясь, промолвил Жуковский, — поэтому я предлагаю лотерею-аукцион провести у вас. Ведь к вам и высокие особы с охотой придут, у вас большой прекрасный зал. Можно будет устроить сначала концерт.
— Я и мой дом всегда к вашим услугам, вы это знаете, — склонил приветливо голову с волнистыми волосами граф Виельгорский. — Я рад буду прислужить этому делу.
— И надо как можно быстрее, как можно быстрее! — нервно заговорил Брюллов. — Портрет уже давно готовый, и наконец эта свинья, его хозяин, согласился, — он все время тянул, а теперь, когда узнал, что Василий Андреевич и вы причастны к этому, изменил политику. Надо быстрее вытащить человека с этого ярма.
— Желательно было бы, чтобы важные особы приняли участие в лотерее, — промолвил Виельгорский.
— Ну, на этот раз мне все равно в чьи руки попадет труд моих рук, — лишь бы быстрее деньги, — запальчиво сказал Брюллов.
Виельгорский и Жуковский переглянулись. Они знали, что Брюллов, несмотря на желание императора, все ж таки не начинает портрета ни с него, ни с его семьи и вообще держится независимо.
В середине апреля 1838 года в камер-фурьерском журнале дворца его величества, где велась запись всех событий и всего, что случалось за день, было записано:
«Время проводили концертом и аукционом».
И концерт, и аукцион состоялись в зале дома графа Виельгорского, на Михайловской площади.
На этом аукционе, в котором приняла участие семья царя, императрице достался портрет Василия Андреевича Жуковского работы прославленного художника Карла Брюллова.
— А вы знаете, черти б его взяли, — выругался Брюллов, — ведь императрица дала только 400 рублей, мне сказал ее секретарь. И выиграла! И теперь имеет такой портрет почти задаром.
— Вам жаль? — засмеялся Виельгорский.
— Что сделаешь! — махнул рукою Брюллов. — Я не из-за нее старался. Только пусть не записывает этих денег к своим христианским свершениям. А в конце концов важно, что деньги собраны и наконец мы освободим Шевченко.
— Это главное, — подтвердил Жуковский, — на то лотерея и аукцион. Кому как повезет.
— Все в нашей жизни, как в лотерее, — промолвил Брюллов, — да еще и аукцион. Но я рад, рад за нашего Тараса!..
Это великий день был — 22 апреля 1838 года. Накануне Сошенко получил от Жуковского записку: «Зайдите завтра в одиннадцать часов к Карлу Павловичу и ждите меня там обязательно, как бы поздно я не пришел.
В. Жуковский. Р.S. Приведите и его с собой».
Худого, побледневшего после тяжелой болезни Тараса Сошенко и Мокрицкий привели до Брюллова. Взволнованный, необычный был сегодня Великий Карл.
— Подождем Жуковского, обедать будем у меня! — сказал он.
Вскоре пришли Виельгорский, Григорович, Венецианов и Жуковский. Торжественный, необычный, как и его спутники, Жуковский поздоровался со всеми, вынул из кармана бумагу, сложенную вчетверо, и подал Тарасу.
Трясущимися руками развернул Тарас бумагу. На большом листе с печатью — двуглавым орлом — сбоку, ровным красивым канцелярским почерком было написано:
«Тысяча восемьсот тридцать восьмого года апреля двадцать второго дня, я, нижеподписавшийся, уволенный от службы гвардии полковник Павел Васильев сын Энгельгардт отпустил вечно на волю крепостного моего человека Тараса Григорьева сына Шевченко, доставшегося мне по наследству после покойного родителя моего действительного тайного советника Василия Васильевича Энгельгардта, записанного по ревизии Киевской губернии, Звенигородского уезда, в селе Кирилловке, до которого человека мне, Энгельгардту, и наследникам моим впредь дела нет и ни во что не вступаться, а волен он, Шевченко, избрать себе род жизни, какой пожелает».
После подписи Энгельгардта шли подтверждения и подписи свидетелей.
«Свидетельствую подпись руки и отпускную, данную полковником Энгельгардтом его крепостному человеку Тарасу Григорьеву сыну Шевченко, действительный статский советник и кавалер Василий Андреев сын Жуковский».
«В том же свидетельствую и подписываюсь профессор восьмого класса К. Брюллов».
«В том же свидетельствую и подписываюсь гофмейстер тайный советник Михаил Виельгорский».
Да, это была «Отпускная на волю»… «воля», подписанная такими дорогими свидетелями.
— Воля! Воля!.. — еле выговорил Тарас, набожно поцеловал бумагу и заплакал.
И кто из присутствующих мог сейчас сдержать слезы?..
Перед ним раскрылись двери его не раз видимой во сне и в мечтах Академии художеств. С чувством неимоверного счастья зашел он впервые как ученик Академии в круглый вестибюль. Словно в рай вели широкие ступени справа и слева, украшенные статуями античных богов. Он остановился на мгновение, ему не верилось. «Это же я, Тарас, — думал он и никак не мог понять, — бывший замарашка с грязного чердака как будто на крыльях перелетел в чарующие залы Академии».
Со всей энергией и молодым запалом взялся Тарас за работу. Он чувствовал столько силы в себе, столько желания учиться, догнать упущенное в панских передних, на ширяевском чердаке, на всех изгибах своей тяжелой жизни.
А от каждого взгляда, от каждой похвалы любимого учителя эти силы удваивались и утраивались.
Тарас учился не только в Академии. В свободное время он ходил на разные лекции в Военно-медицинскую академию, университет, изучал французский язык, увлекался театром, но главной наукой были книги и дружба с Карлом Брюлловым.
Чем только не интересовался их маэстро! В его библиотеке на столе лежало много книг, что указывало на многосторонние интересы хозяина библиотеки. Здесь были история древних и новых времен, о путешествиях, романы, книги из естествознания и книги о последних открытиях физики.
А в мастерской даже электрическая машина! Часто в перерывах Карл Павлович заставлял ребят крутить ее, чтоб с индуктора сыпались искры.
Он иногда, как студент, сидел и слушал лекцию в Университете. Увлекался астрономией и радовался, как ребенок, когда в обсерватории в Академии наук в телескоп увидел Сатурна с его кольцом.
Жаждой познания он увлекал и своих учеников.
Тарас любил своих друзей, и друзья любили его. В этом аккуратно одетом, веселом, жизнерадостном парне трудно было узнать бедолагу Тараса. Свобода опьянила парня. Через Брюллова он познакомился с лучшими петербургскими домами. Часто ездил на вечера. Одним словом, на некоторое время в него вселился великосветский бес.
Сошенко даже удивлялся такой разительной перемене и иногда укоряюще смотрел на Тараса, когда тот в новом плаще на дрожках ехал с Мокрицким в театр, или когда тот волновался, чтоб достать билеты на итальянскую царицу балета Тальони, или отправлялся со своим маэстро «на биржу» — так звали вечера у братьев Кукольников, где собирались литераторы, художники, где до утра слушали чудесную музыку Михаила Глинки.
Но не только «богемная» жизнь привлекала Тараса. Он очень ценил и спокойные вечера в «семейных» домах. Мог часами сидеть со старенькой матерью своего товарища по Академии — Петровского, слушать ее нехитрые рассказы, развлекать ее своими.
Он продолжал и настойчиво работать. В рисовании не только Брюллов, но и другие профессора Академии отмечали его индивидуальность в творчестве, несмотря на большое влияние романтичной школы Брюллова. Искренне влюбленный в Карла Великого, в свои рисунки он вносил и что-то свое, особенное, свойственное только ему, черты реализма, жизненной правды. Он начинал более критично относиться к взглядам старших товарищей. Например, Василий Андреевич Жуковский привез из Германии большой портфель эстампов Корнелиуса, Генриха Гесса, других живописцев мюнхенской школы. Жуковский начал увлекаться творениями этой школы и даже сказал:
— У тебя, Карл Павлович, слишком все земное, слишком материальное, а тут, посмотри, сколько божественного, идеального.
— Василий Андреевич! — не удержался Тарас. — Так это ж они как будто заморыши — и мадонны и херувимы, а какие длинные, как неживые.
Карл Павлович, довольный, подмигнул ученикам — ему нравилось, что Тарас смело критикует зарубежных мастеров.
— Так это же просто коллекция идеального убожества, — продолжал Тарас. — Вы извините, Василий Андреевич, разве можно сегодня, в наше время, так рисовать, какие-то мученики и мученицы! Это же шаг назад, к средневековым Гольбейну, Дюреру! А посмотрите сюда, — он показал рукой на полотна и этюды Брюллова. — Это искусство, что живет и улыбается до всего живого!
Жуковский не ожидал такого нападения.
— О, вы все просто испорченные ученики Карла Павловича, — замахал он руками.
— Которые, надеюсь, превзойдут своего учителя, — засмеялся Карл Павлович. — На Тараса я возлагаю большие надежды, у него есть что-то свое. Вот у меня в младшем классе начинает учиться один парень, Федотов, тоже интересный! Нет, Василий Андреевич, пусть они будут ближе к жизни, к земному.
Тарас был ближе к жизни, чем его учителя.
Разглядывая картину Тараса «Мальчик, который делится милостыней с собакой», зрители говорили: «Откуда в этом молодом художнике столько мудрости, столько глубокого понимания жизни?»
Но ведь не все знали, какой трудный и тяжелый путь прошел этот парень с серыми живыми, жадными к знаниям глазами. Недаром Брюллов выделял его из всех своих учеников, и теперь чуть ли не больше Аполлона Мокрицкого Тарас был своим человеком в «портике» Великого Карла.
Какие чудесные вечера проводили они там!
— Ну-с, молодые люди, — обращался к ним Карл Павлович. — Извольте доложить, как провели сегодня день?
— Необыкновенно, — отвечал увлеченно Мокрицкий. — Вдвоем с Тарасом мы ходили сегодня в Эрмитаж. Я никогда не имел такого удовольствия, как сегодня.
— Это хорошо, — похвалил маэстро. — Художникам надо ходить в Эрмитаж чаще, чем на почту. Необходимо всматриваться, надо привыкать к вещам первоклассных мастеров.
Молодые люди, подталкивая друг друга, садились довольные на краешек красного дивана, на который ложился в своей излюбленной позе маэстро. Они знали, что сейчас начнется интересная своеобразная лекция.
— Я выше всех ставлю Веласкеса, Корреджио, Рубенса, Ван Дейка. Обратили ли вы внимание у Веласкеса на невероятную лепку, правду колорита, мягкость тела и характера выражения? Его мастерство владения кистью несравненно. Его свежесть и сочность живописи исчезает при медленной, несмелой, кропотливой работе. Люблю я Веласкеса.
А Корреджио? Он чувствовал божественную гармонию в колорите и такую грацию движения и экспрессию, такую тонкость рисунка, что кажется, они написаны рукою ангела…
Как любили ученики эти неожиданные характеристики! Карл Павлович увлекался и говорил далее:
— Рубенс молодец, он не стремится нравиться и не старается обмануть зрителя правдоподобием, а просто доволен тем, что богатый, одевается пышно и красиво, потому что это ему к лицу. Не всегда он строгий к истине. В его картинах роскошный пир для глаз! Но у богача на пирах ешь-пей, только разум не пропей! Смотрите, у Рубенса пируйте, но с ним не тягайтесь и ему не следуйте… Вот Ван Дейк — попировал у Рубенса — и достаточно. Ограничив свои траты, жил разумно, честно, для потех и интереса других. Такую жизнь и вам, друзья, советую брать за образец. Спасибо ему, хорошему человеку!
Тарасу больше по душе был Рембрандт. И о нем немало говорил Брюллов.
Уже начиналась ночь, а молодые люди никак не могли покинуть своего маэстро, который был как раз в настроении.
— Вы не поверите, — делился он своими сокровенными мыслями, — как тяжело создать настоящую, хорошую вещь. Тяжело кораблю бороться в открытом море с волнами, но ему доверены жизни сотен живых людей. А после счастливого плавания встретят его выстрелами пушек, радостными криками и торжественно ведут в порт, где он будет отдыхать до следующего плавания. Так и художник с новой картиной.
Даже когда маэстро уже собрался лечь спать, он не отпустил учеников. Еще Тарас должен был почитать вслух перевод нового французского романа Гюго — потом Карл Павлович рассказывал о своем путешествии по Италии, Греции и, развеселившись воспоминаниями, начал перед Аполлоном и Тарасом показывать не только людей, но даже и животных. С необычайной живостью вскакивал он с дивана, скручивался на ковре и изображал щенка, который спит на соломе. Ученики смеялись так громко, что камердинер Лукьян вбежал в комнату, чтобы узнать, не случилось ли чего.
Вот из-за этой живости, непосредственности и был им мил их маэстро, а Тарасу особенно из-за его независимости и свободолюбия.
Тарас знал, что император Николай давно хочет иметь свой портрет кисти Брюллова. Брюллов долго это оттягивал. Наконец назначил сеанс, подождал несколько минут и уехал из дома, приказав домашним:
— Если придет царь, передайте ему, что я ждал его, но, зная его аккуратность, был уверен, что он не приедет.
Царь приехал через двадцать минут. Ему точно передали, как приказал Брюллов.
— Какой нетерпеливый человек! — процедил царь сквозь зубы и больше не приезжал и не напоминал о портрете.
Но даже Тарас и Мокрицкий, привычные к дурачествам своего маэстро, были озадачены, когда в Академию приехал цесаревич и зашел в «портик». Брюллов даже не вышел, а послал к нему своих учеников — Тараса Шевченка и Мокрицкого.
Молодые художники водили цесаревича по мастерской, показывая картины, немного волновались, что Брюллов может быть чем-то недовольным. Но все получилось хорошо. Брюллов был рад, что ребята выполнили все за него, а они давились от смеха, вспоминая этот пышный визит.
Тараса увлекала такая свободолюбивая независимость его Великого Карла. Брюллов демонстративно не носил жалованные ему награды, он не захотел возглавить официальное, руководимое Николаем Первым, направление в искусстве. Это место занял художник Бруни.
— Как он изменился, — говорил Карл Павлович, — ведь он был когда-то передовым художником, казалось — он будет ломать академические традиции, а теперь он очень далек от жизни, от натуры. Он хочет поддержать своими картинами самодержавие и церковь. Вы уже видели «Медного змея»?
— Конечно! — откликнулся Тарас. — Это просто толпа грубо подрисованных актеров и актрис. Хотя картина колоссальная, но впечатления никакого.
— Сухая, холодная картина, — подтвердил и Мокрицкий. — В ней чувствуется какая-то слепая вера в страшную божественную силу, без капли человеческого разума. Мистика и больше ничего!
— Разве можно ее сравнить с «Последним днем Помпеи»!.. — сказал Тарас уже наедине с товарищем. — А еще хотел нашего Карла затмить!
— Царю-то он, правда, больше угодил! — заметил Сошенко.
— Но не нам, не нам! — засмеялся Тарас, обнимая друзей.
— Вот еще приедет мой друг Вася Штернберг, — сказал Мокрицкий Тарасу, — тогда совсем нам с тобой будет хорошо.
— Быстрее бы приехал Вася Штернберг, — озабоченно сказал Сошенко. — Я тогда бы спокойно уехал из Петербурга.
Он собирался вернуться на Украину, стать учителем рисования. Но ему хотелось до отъезда устроить так, чтобы Тарас жил с его другом Васей Штернбергом.
О Штернберге Тарас слышал от Брюллова и от других художников. Он знал, что Штернберг поехал на Украину писать этюды, и ждал его с нетерпением. Сошенко писал и Штернбергу о Тарасе.
Неожиданно ночью кто-то постучал и зашел в комнату. Он еще не успел назвать себя, как Тарас спросил:
— Штернберг? Вася Штернберг?
— Он самый! — засмеялся парень с круглым, по-детски приветным лицом. И Тарас бросился ему на шею.
— Ты ж с Украины! Друг мой! Ну, говори, где ты там был, что привез с собой? Я ж не был там много-много лет…
Он помог парню сбросить тяжелую теплую шубу, размотать шарф.
— Я влюблен в Украину! — сказал Вася Штернберг. — Я не мог оторваться от ее мягких, нежных пейзажей.
Тарас сразу хотел напоить приезжего чаем, и посмотреть рисунки, и выслушать все о далекой Украине, но, как это обычно бывает при встрече друзей, начав разговор, они забыли и о чае, и об ужине.
Дружба, взаимная любовь родились с первых же минут.
— Ты не представляешь, какое чудесное было у меня путешествие, — рассказывал Вася Штернберг. — Почти все лето я провел с Михаилом Ивановичем Глинкой в Качанивке, у пана Тарновского. Ты же знаешь Михаила Ивановича?
— Да, я видел его несколько раз у Карла Павловича, у Кукольников. Карл Павлович его очень любит и уважает.
— Его нельзя не любить! А его музыка! Он гениальный! Это же первый российский композитор, который создал такую величественную вещь.
— Я очень люблю и эту оперу, и все его музыкальные вещи. Мы с Карлом Павловичем много раз слушали оперу в театре.
— А сейчас он работает над не менее прекрасной и выдающейся вещью — «Руслан и Людмила» Пушкина. Он говорил, что это была еще мечта Александра Сергеевича — написать либретто для оперы Глинки. Какая жалость, что он не успел! В Качанивке Николаю Маркевичу приходилось дописывать слова либретто. Сколько прекрасных арий, хоров родилось там на моих глазах. Это было божественно!
— А как оказался на Украине Глинка?
— Он поехал набирать певцов для придворной капеллы. О, какой там певучий народ! Соловьи! А сколько настоящих соловьев я слушал весной в прекрасном качановском парке. — И вдруг Вася смутился и умолк. Какая-то тень набежала на его ясное лицо, как будто с качановскими соловьями было связано еще что-то — и грустное, и прекрасное.
Тарас, чувствительный и деликатный, заметил это, но Вася тряхнул чубом, как будто отогнал от себя воспоминания.
— Вот с кем тебе надо обязательно познакомиться — с Семеном Гулак-Артемовским! Ну и бас, я тебе скажу, ну и голосина! Какой красоты! Я убежден, что весь Санкт-Петербург будет побежденный им. А что за человек! Веселый, добродушный, дружеский. Он не хотел ехать в Петербург. Говорил: «Я там загрущу, привык я к раздолью!» Друзья с Киевского хора, где он пел, все плакали, как малые дети, когда он с Глинкой отъезжали. Обязательно, обязательно пойдем послушаем его! Он уже здесь, в Петербурге. Как он поет украинские песни! Вся природа Украины встает перед тобой, запорожские казаки оживают… Но я хотел тебе рассказать о «Руслане и Людмиле». Мы часто за полночь засиживались в оранжерее, где жил Михаил Иванович. А моя резиденция был «фонарик» — вот посмотри на рисунок.
Вася достал из чемодана портфель и быстро нашел нужный картон.
— Это этюд, а картину я подарил Михаилу Ивановичу. Это я сижу за мольбертом, это Михаил Иванович, а это Маркевич пишет слова к либретто. Он историк Украины, Маркевич, этнограф, вместе с Глинкой закончил пансион. И с ним я тебя обязательно познакомлю.
— Ты там очень хорошо провел время, в этой Качанивке, как я вижу, и очень плодотворно. Вон сколько сделал! — заметил Тарас.
— О, да! Глинка говорил, что он нигде еще не работал с такой охотой, как на Украине. Он прислушивался к песням девушек, старых кобзарей. У пана Тарновского неплохой свой оркестр, и там исполняли все, что Глинка написал для «Руслана и Людмилы».
— А кто этот пан Тарновский?
— Как тебе сказать? Очень богатый пан — 9000 крепостных, огромное хозяйство, дворец. Я бы не сказал, что сам разбирается в искусстве, но любит «покровительствовать». Ему было приятно, что Глинка гостит у него, что придворная капелла будет петь сначала в его церкви, в его зале. Он бывает сам часто в Петербурге, и я познакомлю с ним. Он любит искусство.
— Он старый?
— Не очень, лет под пятьдесят.
— Дети есть?
— Нет, но у него живут его племянницы… девочки… — Вася снова вдруг смутился и умолк.
— И племянницы тоже бывают в Петербурге? — вроде ничего не заметив, спросил Тарас.
— Не знаю, приедет ли этой зимой, — сказал Вася.
Он так и сказал «приедет» а «не приедут», потому что перед глазами была только одна из племянниц…
Позже Вася рассказал историю любви своей. История самая обыкновенная. Он влюбился в старшую племянницу Тарновского, а та хоть и отвечала ему тем же, но в деле брака предпочла ему какого-то лысого доктора Бурцева.
Они говорили, говорили без конца, наконец на полуслове голова Штернберга склонилась на подушку Тарасовой кровати, где он сидел, и юноша уснул крепким сном с улыбкой на лице.
«Есть на свете такие счастливые люди, — думал Тарас, глядя на открытое, искреннее лицо Васи. — Им не нужна никакая рекомендация. Не успеешь и опомниться, а становишься с ними уже родным, без наименьшего усилия с твоей стороны. А есть и такие несчастнейшие люди, с которыми с семи печек хлеба съешь, а все-таки не дознаешься, что оно такое — человек или амфибия? Подальше от таких!» Он сразу почувствовал, что Вася Штернберг именно принадлежит к первой категории.
Тарас вдруг улыбнулся, схватил карандаш и набросал портрет неожиданного друга.
Потом Тарас стал рассматривать все, что было в портфеле Штернберга. Он был в восторге от увиденного. И какое множество рисунков, и как все прекрасно. На маленьком лоскутке серенькой оберточной бумаги проведена горизонтально линия, на первом плане ветряная мельница, пара волов около телеги, нагруженной мешками. Все это не нарисовано, а только намек, но какая прелесть! Очей не отведешь. Или под тенью развесистой вербы у самого берега беленькая, соломой крытая хатка вся отразилась в воде, как в зеркале. Под хаткою старушка, а на воде утки плавают. Вот и вся картина, и какая полная, живая картина!..
Они стали жить вместе. Может быть, со Штернбергом подружился Тарас сильнее, чем с другими, потому что встретился с ним уже свободным и чувствовал с ним себя равным.
— А когда закончим Академию, — увлеченно говорил Тарас, — поедем на Украину.
— А за границу? — спрашивал Штернберг.
— И за границу надо, и желание есть! Но сначала на Украину. Отобразим всю ее жизнь, наши речки, гаи, наших людей, картины из истории. И знаешь, надо распространять гравюры, тогда все люди, в каждой хате, смогут знакомиться с высоким искусством живописи.
А пока что учились. Бегали на лекции, иногда подрабатывали, рисуя портреты, иллюстрации для журналов, иногда сидели без денег, иногда отмечали праздники без всякого повода, например, покупку… лампы! Веселый был праздник в честь лампы.
Об этой дешевой, обыкновенной лампе долго мечтали Тарас и Штернберг. Наконец, получив деньги за работу, купили-таки лампу, торжественно принесли домой, и так не терпелось им опробовать ее, что зажгли ее среди белого дня. Важно уселись и серьезно делали вид, что без этого освещения читать невозможно.
— Вы что, с ума сошли? — рассмеялся их товарищ по Академии Петровский, зайдя в комнату.
— Видишь, лампу купили! — сказал с детской гордостью Штернберг.
— Ну, так надо окропить, если такой праздник! — проговорил Петровский. — Друзья, не откручивайтесь.
— Оно и правда, надо! — согласился Тарас.
— А деньги еще остались? — спросил хозяйственно Штернберг.
И деньги, и еда были у них общими. Тарас вывернул карманы.
— Черта с два! — вздохнул он. — На чай и сухари хватит.
— Ну, прощаю на этот раз — будем пить чай с сухарями и твоими, Тарас, песнями.
Все знали, что Тарас любит музыку, пение.
Вот так весело отпраздновали покупку лампы.
На шутку, на всякие выходки ребята были мастерами. Петровский, который жил во дворе Академии, как раз работал над картиной «Агарь в пустыне». Он уговорил позировать ему тихую скромную девушку — дочь сторожа, но нужны были крылья для ангела, который является к Агарь.
— Надо купить гусака, — решил он. — Гусиное крыло будет моделью.
Поскольку денег не было, то Петровский надел шинель и пошел на другой конец города к матери за рублем.
Но друзья — в том числе и Тарас — решили, что это будет несправедливо: покупать гусака, когда все сидят без копейки. Рубль был незамедлительно конфискован, и на столе появился ужин.
— Разбойники! — патетически поднял руки вверх Петровский. — Где я теперь возьму крылья ангела? Я в срок не сдам программу.
— Подожди, — вдруг сообразил Тарас. — Сейчас будут тебе крылья ангела.
Через несколько минут он возвратился, пряча под полой здоровенного гусака. Гусак бился огромными крыльями и вытягивал шею. Но шею бедолаге немедленно скрутили, а крылья отрезали.
— Чем тебе не ангел! — смеялся Тарас, нацепив себе крылья на плечи.
— Где ты его взял? — допытывались друзья.
— А там, за садом Академии, пасутся.
— Так то же коменданта!
— Ну, бог с ним, поквитаемся.
На другой день, получив деньги в журнале за иллюстрации, Тарас торжественно понес рубль за гусака коменданту и отдал с таким вежливым поклоном, что тот не успел и рассердиться. Да и зачем было сердиться, когда рубль — вполне хорошая цена — был в его руке.
Академия, лекции, работа, товарищеские вечеринки, встречи со старшими друзьями — Брюлловым, Жуковским, Виельгорским, Григоровичем, Гребенкой, новые знакомые — это были счастливые, светлые годы жизни Тараса.
Теперь он сам был на Олимпе, рядом с ними, своими друзьями. Нет! Для него это не был Олимп. На эту гору он поднялся с самого низа, путь был тяжелым, нетореный, и, взойдя на гору, он не забыл его. Наоборот, с горы он увидел намного больше, чем все его друзья, учителя, ибо кроме того чистого знания науки, искусства, литературы, что имели они и передавали ему, — вооруженный этим, он еще сильнее понял, еще ярче видел страшные контрасты жизни и не мог безразлично относиться к этому, ему мало было отображать это в линиях и красках. Его энергия, сила протеста искала другой выход. И не в живописи, а в поэтическом слове он чувствовал наибольшую свою силу.
Где-то там, на Украине, его родные братья и сестры… Как давно он их не видел!..
«Никита, родной брат!» — пишет вечером, оставшись один, Тарас письмо в далекую Кириловку.
Как живут они — спрашивает, просит писать.
«…А теперь о себе скажу вот что: слава богу милосердному, живой, здоровый, учусь рисовать. Когда случится — зарабатываю деньги. На той неделе заработал немного, то и тебе посылаю 25 рублей. А если будет больше, то еще пришлю. Как видишь, живу, учусь, никому не кланяюсь…
Большое счастье быть свободным человеком. Делаешь, что хочешь, никто тебя не остановит. Кланяйся всем родственникам от меня, особенно деду, если еще живой, здоровый. Скажи, пусть не умирает, скоро увидимся. Поцелуй брата Иосифа, как я его поцеловал бы, и сестер Катерину, Ирину и Марусю, и скажи, пожалуйста, как и где она живет, одета ли, обута ли. Купи ей что-нибудь к святкам с этих грошей, что я тебе посылаю, — пока что, а то я буду присылать ей отдельно, когда будут у меня деньги».
…Маленькая слепая девочка — сестричка Маруся, как будто протягивает к нему грязные худенькие ручки. Он всегда жалел ее. Когда случалось заработать какой-нибудь пятак, покупал конфету или бублик… Разумная Иринка, верный друг детства, кучерявая, ясная, как солнышко, Оксаночка. Какие они сейчас? Что с ними?.. Что может быть с ними, крепостными девчатами? Разве сменилось что-то в Кириловке?.. Бурьяны, как чаща, возле его первой школы… Сколько раз прятался он там от пьяного дьяка. В последнее время каждую ночь видит он их во сне — братьев, сестер, родную Кириловку.
Тарас тяжело вздыхает.
«…Пожалуйста, пиши мне по-нашему… Пусть хоть через бумагу услышу родное слово, пусть хоть раз поплачу веселыми слезами…»
…Нет, ни на одну минуту не забывает он, уже свободный, что они еще несчастные крепостные. Ни на одну минуту не забывает он далекую Украину. Безграничные широкие степи. Прекрасна Украина во всей своей задумчивой красе. Белые хатки над прудами, над речками. Но сколько горя, сколько слез в этих хатах!
Красавицы-девчата расцветают, как полевые цветы, а что ждет их, кроме несчастья, надругательства, беспросветного труда, унижения. Так было с мамой, с милой сестрой Катей, ее подругами.
Перед глазами высокие могилы, свидетели далекой старины, восстаний гайдамаков, крестьян за свободу. Только слепые кобзари поют о них угнетенным людям. Тараса охватывает какое-то незнакомое волнение.
Задумчивый, отчужденный от всего, сидит он в своей комнате «под небесами» с полукруглым окном, с мольбертом и стареньким стулом-калекой. На столе разбросан его инструмент художника — кисти, краски, эскизы, этюды и много бумаг, исписанных мелким, неразборчивым почерком.
Он знает, что надо рисовать, надо настойчиво работать над своей академической программой, но он не может себя удержать, он бросает начатый рисунок и хватает кусок бумаги, а когда под рукою нет чистого, он пишет на клочках, где случится, даже на обоях, то, что родилось неожиданно в его голове.
Високії ті могили Чорніють, як гори, Та про волю нишком в полі З вітрами говорять.Ему хочется написать обо всем, что он вспоминает, о чем думает, переживает. За этим застает его Сошенко. В это время подошел к окну слепой загорелый нищий с поводырем. Сошенко взял со стола медную монету, чтобы подать.
— Стой, что это ты ему даешь?
— Вот, медяк…
— Вот еще! Черт знает что!
И в тот же миг взял со стола полимпериала и подал нищему. Слепой пощупал монету и, спросив что-то у своего поводыря, протянул руку в окно с полимпериалом.
— Благодарю вас, господин, — сказал он, — но я этого не возьму, пусть ему всякая всячина. У старцев таких денег не бывает. Возьмите монету себе. А мне дайте кусок хлеба…
— Вот видишь, что значит нищета! — сказал Тарас. — И денег боится больших, потому что их только панам можно иметь.
Тарас дал нищему полрубля. Тот с благодарностью поклонился и ушел.
— Вот послушай, Соха, — неожиданно восторженно воскликнул Тарас, — вот послушай, что я написал:
Нащо мені чорні брови, Нащо карі очі, Нащо літа молодії Веселі, дівочі?— Да отвяжись ты со своими никчемными стихами, — пренебрежительно говорит Сошенко. — Почему ты настоящим делом не занимаешься? Как у тебя программа продвигается?
Тарас чешет застенчиво затылок.
— Соха, я задумал написать большую поэму — про девушку, которую обманул москаль, как ее из дому выгнали, как она с ребенком мыкалась…
— А кто рисовать будет за тебя? — перебивает его Сошенко. — Брось, Тарас, эти глупости!
Позже приятели упрекали Сошенко:
— Не грешно ли было вам, Иван Максимович, преследовать Шевченко за поэзию? Вам следовало бы поощрять его занятия, а не браниться!
— А кто ж его знал, — оправдывался обыкновенно Сошенко, — что из него получится такой великий поэт? И все-таки я стою на своем: если бы он кинул тогда свои вирши, так был бы еще более великим живописцем…
Тарас окончательно разошелся с Сошенко благодаря одной молодой натурщице, Амалии Клоберг, которую любил Сошенко и которую отбил у него поэт. Тарас влюбился в девушку и их отношения имели продолжение. Сохранился и портрет этой девушки, выполненный Тарасом.
Шевченко и не думал бросать живописи. В том же году он снова был награжден советом академии серебряной медалью «за первый опыт его в живописи масляными красками — картину „Нищий мальчик, дающий хлеб собаке“; сверх того, положено объявить ему похвалу».
Очередную награду получил Тарас и за картину «Цыганка-гадалка». Тогда же он начал работать над картинами маслом «Катерина» и «Крестьянская семья» и над книжной иллюстрацией.
Рисунки Шевченко встречаются в сборнике «Сто русских литераторов» (к рассказу Н. Надеждина «Сила воли»), в непериодическом прогрессивном издании Александра Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими», в книгах Николая Полевого «Русские полководцы» и «История Суворова».
Но Тарас не мог бросить и писать стихи. Все чаще и чаще брался он за перо. Это было его наисильнейшее призвание, сильнее всего.
Свобода, которую наконец он имел, подарила ему и огромное вдохновение, и силу слова.
То, что только пробуждалось в нем, когда он в Летнем саду белыми петербургскими ночами пробовал писать свои первые стихотворения, теперь прорвалось, как весенний стремительный поток.
Он ими, своими строками, бросал вызов.
Затоплю недолю Дрібними сльозами, Затопчу неволю Босими ногами! Тоді я веселий, Тоді я багатий, Як буде серденько По волі гуляти!Он таки написал задуманную поэму. Обычная история, такая, какие часто случались у него на глазах, выросла в глубокую трагедию девушки из народа, трагедию матери, трагедию ребенка, брошенного отцом.
Он всем сердцем встал на ее защиту, протестуя против лживой морали и крепостных обычаев. Он оскорбился недостойным поведением людей.
Кого бог кара на світі, То й вони карають… Люди гнуться, як ті лози, Куди вітер віє. Сиротині сонце світить, (Світить, та не гріє), — Люди б сонце заступили, Якби мали силу, Щоб сироті не світило, Сльози не сушило.Он писал и не знал, что тысячи женщин будут поливать слезами его искренние, его гневные строки, его «Катерину».
Это было одним из первых его великих произведений — поэм.
«Я посвящу свою „Катерину“ Жуковскому, — подумал Тарас, — на память о незабываемом дне моего освобождения, в благодарность за его участие и сочувствие. А еще потому, что и Василий Андреевич незаконно рожденный ребенок, мать которого узнала не меньше горя, чем героиня поэмы…»
Он писал еще и еще, как будто он только вчера вернулся с Украины и не расставался никогда с ее обездоленным народом, жил его болью и его надеждами. К ним, темным, забитым крепостным беднякам, обращал он свои слова. Родной Украине писал он:
Думи мої, думи мої, Квіти мої, діти! Виростав вас, доглядав вас Де ж мені вас діти?.. В Україну ідіть, діти! В нашу Україну, Попідтинню сиротами, А я — тут загину. …….. Привітай же, моя ненько! Моя Україно! Моїх діток нерозумних, Як свою дитину.Тарас всегда интересовался историческим прошлым Украины. В печатных источниках об этом мало говорилось, и не всегда они верно освещали события и анализировали их.
Но многое услышал Тарас в детстве от старого деда Ивана, слышал пение — думы слепых кобзарей, и в сознании его рисовались романтично закрашенные картины героического прошлого, борьбы украинского народа за свободу. Так родились у него небольшие поэмы «Иван Подкова», «Тарасова ночь». Но он не только любовался прошлым, не только старое его привлекало; в каждом сочинении он болел и страдал за то, что делается сегодня, — это отличало его сочинения от спокойных невразумительных стихов других поэтов…
О стихах Тараса знали всего несколько самых близких друзей и, может быть, еще долго не узнали бы о них широко, если бы не случай.
Произошел он в конце 1839 года. Шевченко писал портрет полтавского помещика Мартоса. Мартос приходил позировать Шевченко. Однажды Мартос заметил на полу комнаты исписанный клочок бумаги. Он поднял его — и прочел украинские стихи, поразившие Мартоса ясностью языка, певучестью, скорбью о судьбе Украины. Это был отрывок «Тарасовой ночи».
— Что это? — спросил Мартос. — Чьи это стихи?
— Мои, — неохотно ответил Шевченко. — Так… Баловство. Когда плохо делается на сердце, я и начинаю портить бумагу. У меня их много, этих стихов.
— А можно полюбопытствовать? — спросил Мартос.
Шевченко вытащил из-под кровати корзину, доверху набитую изорванными скомканными листами, исписанными неправильным почерком.
— Вот все мое добро, — сказал Тарас. — Тут сам черт вывихнет лапу.
Мартос начал разбирать рукописи. Шевченко смотрел на него с недоумением. Рукописи были в таком беспорядке, что Мартос не мог в них разобраться. Он взял их с собой, чтобы дома привести в порядок, и ушел.
Но пошел он не домой, а к писателю Гребенке. Они вдвоем разобрали рукописи, прочли их и долго молчали. Они были потрясены. Впервые они узнали о существовании большого народного поэта, чьи стихи были так неотделимы от страданий и мыслей народных, что даже не верилось, что они написаны одним человеком, а не созданы всем народом в течение многих лет на шляхах, на полях Украины.
Молчат горы, стонет море, Могилы в тумане. Стонут дети казацкие Во вражеском стане.На следующий день Мартос снова пришел к Тарасу позировать для портрета. Тарас молчал. Молчал и Мартос. Он ждал, когда Тарас спросит о стихах. Но Тарас был угрюм, работал с ожесточением и не говорил ни слова. Наконец Мартос не выдержал.
— Прочел я ваши стихи, Тарас Григорьевич, — сказал он.
Шевченко молчал.
— Великолепные стихи! Их надо тотчас напечатать.
Шевченко испугался.
— Что вы! — заговорил он быстро и недовольно. — Какие это стихи! Засмеют меня за эти стихи, а то, пожалуй, и побьют поэты.
С большим трудом Мартосу удалось добиться от Шевченко разрешения напечатать стихи отдельной книгой…
О случившемся Тарас поделился с Васей Штернбергом.
— Как ты назвал книгу? — спросил Штернберг.
— «Кобзарь»… Пусть будет «Кобзарь».
Почему так назвал свой первый сборник Шевченко? Кобзарями на Украине называли народных странствующих певцов-музыкантов, которые ходили из села в село и под звуки старинного инструмента пели свои песни. Чаще всего пели кобзари о горькой доле народной, напоминали о различных исторических событиях из жизни народа… Шевченко назвал свой сборник «Кобзарь», так как и его стихи перекликались с теми горькими песнями. Впоследствии народ прозвал и самого Шевченко великим Кобзарем.
— А ты мне нарисуешь кобзаря? — спросил Тарас друга.
Штернберг любил Украину, чувствовал, как настоящий художник, ее природу. Он мог нарисовать одно наклоненное дерево, одну мельницу, или пару волов круторогих, но так нарисовать, чтоб ощутить за ними безбрежные степи и всю поэзию родной страны. Недаром, разглядывая эскизы, которые он привез с Украины, Великий Карл расцеловал его и сам мечтал поехать на Украину, пожить где-нибудь на берегу Днепра.
И Штернберг нарисовал для первой книги своего друга Тараса рисунок. Сидит старый слепой кобзарь на завалинке, кобза возле него, смотрит на кобзаря внимательными глазами маленький мальчик в соломенной шляпе.
— Спасибо тебе, брат, — сказал Тарас и крепко обнял друга.
Долго молча смотрел на рисунок. Напоминал он ему детство и столетнего деда Ивана, и его самого, непоседу, всем интересующегося мальчика.
Первая книга! Первый «Кобзарь»! С каким нетерпением ждет его выхода Тарас. Эх, жаль, нет Штернберга! По весне обнялся с ним Тарас в последний раз на набережной Невы, стоял долго, пока тот поднялся на корабль, с ним еще знакомый художник-маринист Айвазовский, — поехали счастливые в Италию.
— Не забудь меня, Вася!
В «Кобзаре» было стихотворение в четыре строки, посвященное В.И. Штернбергу:
Поїдеш далеко, Побачиш багато; Задивишся, зажуришся, — Згадай мене, брате!Вася махал с палубы шляпой, кричал:
— Заканчивай Академию! Буду ждать тебя в Риме! Вышли «Кобзаря» сразу же, как выйдет! До свидания, Тарасику!
До свидания! Конечно, до свидания! Тогда думалось — увидится и в Риме, и на Украине, и в родной Академии… Но жизнь внесет свои коррективы: больше им не суждено было встретиться. Василий Штернберг вскоре заболел и умер в Италии…
В это время круг знакомств Тараса очень расширился. Он начал больше встречаться с литераторами. В Петербурге были разные кружки, литературно-музыкальные салоны. Собирались у старого графа Виельгорского, у графа Федора Толстого, у Кукольников, у редактора «Художественной газеты» Струговщикова. Младшее поколение любило собираться у Панаева и Гребенки.
У Гребенки Тарас впервые услышал о Белинском, талантливом молодом критике, о котором Панаев говорил с большим запалом. Действительно, статьи его обращали внимание всех, кто более-менее интересовался литературой.
Тарас увидел Белинского на вечере у Струговщикова. Вообще это был замечательный вечер в апреле 1840 года. Собралось много знакомых и, конечно, Великий Карл.
Зашел человек лет 32-х, худощавый. Со строгим лицом.
— Это Белинский, — сказал Маркевич Тарасу.
Белинский долго сидел молча, в стороне; но его вовлекли в разговор Сологуб и Панаев. Тарасу очень хотелось послушать, о чем они говорят.
До Тараса дошла фраза Белинского:
— Если у искусства отнять право служить общественным интересам — это значит не возвеличивать его, а уничтожать. Это же лишит его живой силы, мысли, это значит сделать его игрушкою пустозвонов.
Тарас придвинулся ближе. Эта мысль захватила его.
«Я теперь не пропущу в журналах ни одной статьи Белинского», — подумал Тарас.
Заговорили о Лермонтове — дело его с дуэлью только-только нашумело в Петербурге.
— Снова его, бедного, в ссылку на Кавказ, — заметил Панаев. — Вы виделись с ним недавно, Виссарион Григорьевич?
— Да, я был у него в ордонансгаузе, когда он сидел там за эту дурную дуэль. Теперь он на меня произвел совсем другое впечатление, чем раньше.
В суровых серых глазах Белинского что-то потеплело.
— Это будет второй Пушкин! — заметил кто-то.
— Скорее Байрон!
— Нет, — возразил Белинский. — Это не Пушкин и не Байрон! Это — Лермонтов. Даже сегодня, когда он еще совсем молодой и только начал свой литературный путь, он сделал так много, и скоро его имя станет народным…
В 1840 году в типографии Фишера в Санкт-Петербурге вышел первый «Кобзарь» Тараса Шевченко.
— Поздравляю, Тарас, от всего сердца! — обнял его Евгений Павлович Гребенка.
Что же скажут о нем, как примут?
Вскоре Гребенка его извещает: «Прочитай „Отечественные записки“ № 5».
Тарас волнуется сильнее, чем перед сдачею программ в Академии.
В этом номере напечатаны стихи Лермонтова, Кольцова, повесть Панаева. Тарас ищет раздел «библиографическая хроника».
«Имя г. Шевченко, если не ошибаемся, в первый раз еще появляется в русской литературе, и нам тем приятнее было встретить его на книжке, в полной мере заслуживающей одобрения критики».
Ну, значит можно спокойно читать дальше достаточно большую рецензию. Вот цитаты из его стихотворений и похвала Штернбергу за рисунок, а главное, одобряют то, что стихи его «так безыскусственны, что вы их легко примете за народные песни и легенды малороссиян, это одно уже говорит в их пользу».
Кто написал эту статью? Подписи нет. Но Панаев говорил, что отделом библиографии там ведает теперь Белинский, так что он по крайней мере знает о статье и с ней согласен.
В кафе на Невском Тарас быстро просматривает свежие номера газет. Вот еще рецензия в «Литературной газете»:
«В стихах Т.Г. Шевченко много огня, много чувств глубоких, везде в них горячая любовь к родине. Его картины верны с натурой и блещут яркими живыми красками.
Вообще в авторе этих малороссийских стихотворений виден талант неподдельный».
Довольный Гребенка каждый раз при встрече как будто дразнит:
— Прочитай «Современник». Видишь, литературный Петербург принял «Кобзаря».
Да, «Кобзаря» приняли в Петербурге. На очередной вечеринке у Гребенки шумно поздравляет Панаев, басом поет «многая лета» Гулак-Артемовский, что уже очаровал «на Большом театре» весь Санкт-Петербург, а Гребенка улыбается:
— Что ж, «Тарас был парубок моторный». Что не говорите, а такого еще не было в нашей поэзии. И в моем альманахе «Ластивка» будут новые произведения нашего милого Кобзаря.
Вот и с Украины прилетела первая весточка. Пишет «коханому паночку Тарасу Григоровичу Шевченку» старый Квитка-Основьяненко:
«Господи милостивый, читаю… Ну, ну. Бодай ви мене не злюбили, коли брешу: волосся в мене на голові, що вже його небагацько та й те навстопудилось, а біля серця так щось і щемить, ув очах зеленіє… Дивлюся… Жіночка моя хусточкою очиці витирає… так читали й плакали…»
На Украине появление «Кобзаря» произвело впечатление потрясающее. Читали, плакали и даже стихи неизвестному кобзарю посвящали на далекой Украине.
Его выучивали наизусть, над ним плакали, его хранили в сундуках. Чудесным казалось, что из северного Петербурга раздался свободный голос бывшего раба-украинца, и голос этот прозвучал по всей стране как плач о бедняках, как призыв к освобождению от рабства.
А народ, простой народ… О! Читали все, кто только был грамотный.
И Тарас почувствовал еще большую, кровную связь с теми, для кого писал. И большую ответственность перед ними. И почувствовал, что он не сирота, не одинокий — он кобзарь своего народа.
Тогда Тарас еще не знал, что «своими стихами он сам себе кует кандалы». Узнал он об этом через несколько лет, в Петропавловской крепости. Со времени выхода «Кобзаря» Третье отделение уже тайно следило за поэтом…
Брюллов часто говорил Тарасу:
— Всю жизнь мечтаю написать картину из русской истории. Сколько героизма проявил народ в борьбе с врагами, что пытались захватить нашу землю. В Москве я думал, что напишу картину, посвященную Москве. Но сейчас другой сюжет волнует меня.
Вечерами он все время что-то рисовал, набрасывал на картон. Тарас понимал, что учитель задумал большую картину.
Как-то утром в коридоре Академии Брюллова встретил Струговщиков. Карл Павлович был в возбужденном состоянии. Мальчик Липин, его «сынок», тащил целую кучу инструментов художника.
— Идем на осаду Пскова, — заявил Брюллов. — Помнишь, я показывал тебе эскиз. Буду работать в большой мастерской, никого не буду пускать. Ты уж будь другом, посылай с моим Лукьяном по две чашки кофе, два яйца и тарелку супа. И никому ни-ни! Ну, начнем благословясь!
Тарас был занят своими академическими занятиями, и ждал, когда Брюллов сам покажет ему свою работу. И вот, недели через две Брюллов зашел к нему в серой рабочей блузе, с кистью в вымазанных краской руках. Тарас глянул на него и рассмеялся — маэстро похудел, зарос бородой, но глаза блестели.
— Ну, что вы наделали за это время? Показывайте все и пойдем ко мне. Я вам свою программу покажу!
Тарас с боязнью вошел в мастерскую и остановился, пораженный, перед огромным полотном. Живая осада Пскова была перед ним!
Так вот на каком героическом эпизоде защиты своей родины остановился Брюллов! Для этого он читал и перечитывал историю Карамзина, летописи, ездил в прошлом году в Псков, набрасывал многочисленные эскизы.
Он стоял перед картиной, и воображение дорисовывало и рассказывало о том, чего не успел сделать Брюллов. Ведь написать что-то большое из героического прошлого своего народа было также и его мечтою!
А чем не величественны те страницы истории: народные восстания против иностранных захватчиков, гайдамаки, о которых рассказывал дед Иван, о которых поют слепые кобзари?
Все сильнее и глубже задумывался Тарас над судьбой своего украинского народа, над кровной связью его с русским, над связью с другими славянскими народами.
Он теперь внимательно просматривал журналы и в «Отечественных записках» натолкнулся на статью Иоанна Колара — «О литературной взаимосвязи между племенами и наречиями славянскими».
Это были лирические рассуждения одного из знаменитых ученых-славянистов. Гребенка и другие литераторы восхищались этой статьей. Много чего в ней нравилось и Тарасу, особенно мысли о едином корне славянских народов. «Славянский народ стремится к своему начальному единству, как растение, что достигло цвета и плода, — до своего семени и зерна».
«Много он хорошего написал, — думал Тарас, — этот ученый муж, но слишком уж у него все мирно, спокойно. Любовь к своему народу, покорность царям… Какая может быть любовь между народами при покорности царям?.. И будет ли когда-нибудь неразделенная, счастливая, засеянная рожью, пшеницей большая славянская земля?»
Ему тесно становится в кругу либеральных литераторов, которые собираются «на вечерницы» в гостиной Евгения Павловича, разговаривают спокойно про народ, про литературу, об искусстве и боятся каждого смелого слова.
Но он чувствует — он не одинок в литературе. Ведь мысли Радищева, Пушкина, Рылеева, Грибоедова, Гоголя вдохновляют молодежь. А Белинский! «Неистовый Виссарион», как зовут его. Он требует совсем другого от литературы, чем это было до настоящего времени, он, как никто, раскрывает перед всеми эти мысли передовых писателей. Нет, он не одинокий — еще есть и народ!..
Тарас знает этот народ, ибо он сам из него, и он ненавидит крепостничество, как никто из его собратьев по литературе.
И новая его поэма «Гайдамаки» о восстании украинского крестьянства и казачества звучит, как призыв к борьбе против панов, против неправды и насилия.
Гонта, Железняк, Ярема Галайда — образы мужественных, смелых людей, которые выше всего ставили свободу и независимость родины, поступаясь для этого своим собственным.
Тарас совсем воплотился в своих героев. Изображая, как Гонта убивает своих сыновей, он заплакал, но предать художественную правду он не мог. Он был сам, как будто живой свидетель всего, что происходило, и как будто сам он был слугой, тем самым несчастным Яремой.
Он будто перед собой видел, как:
У темному гаю, в зеленій діброві, На припоні коні отаву скубуть, Осідлані коні, вороні готові. Куди то поїдуть? кого повезуть? Он кого, дивіться! Лягли по долині, Неначе побиті, ні слова не чуть. Ото гайдамаки. На ґвалт України Орли налетіли.И у его Яремы, забитого слуги, также вырастают крылья.
А каким нежным пением звучит рассказ о верной любви Оксаны и Яремы. О такой любви мечтает и сам Тарас.
Неудержимым порывом к жизни, верой в нее, желанием жить и радоваться бьется его сердце.
О боже мій милий, Тяжко жить на світі, а хочеться жить: Хочеться дивитись, як сонечко сяє, Хочеться послухать, як море заграє, Як пташка щебече, байрак гомонить, Або чорнобрива в гаю заспіває… О боже мій милий, як весело жить!Как и в его Яремы, у самого Тараса как будто выросли крылья, когда он писал эту поэму. Он не только правдиво и искренне описал то, что знал и слышал — нет, свои мысли, надежды, веру в свой народ вложил он в эту поэму, и она обращалась к душе каждого простого человека, к душе каждого крепостного.
Эта поэма, посвященная старому Григоровичу на память о дне освобождения из рабства, долго не выходила в свет. Николаевская цензура не пропускала многих «возмутительных» мест и выпустила с вычеркнутыми и искаженными строками. Но и в таком виде эта книга напугала многих панов, даже знакомых Тараса, но многих людей порадовала.
Как много людей и на Украине, и в России читали и зачитывались ею…
Метет, гуляет вьюга, заметает Черный шлях, — ни проехать, ни пройти.
Возле каганца семья сидит: отец, мать, дети. Нищенский ужин на столе и — книга. Читает по слогам мальчик, да так красиво, так складно выводит:
Україно, Україно, Серце моє, ненько. Як згадаю твою долю, Заплаче серденько. Червоною гадюкою Несе Альта вісті, Щоб летіли круки з поля Ляшків-панків їсти.До поздней ночи читал мальчик «Тарасову ночь», «Катерину», прочитал так, что аж слезы покатились, а старшая дочь за печкой в платок лицо спрятала, чтоб не видели, как плачет.
Єсть на світі доля, А хто її знає? Єсть на світі воля, А хто її має?— Что это за книга такая? — спросил старый. — Сколько живу, а такого не слышал.
— «Кобзарь» называется, написал Тарас Шевченко.
И пошел слух по всем шляхам о дивном кобзаре. И ждали люди его песен и говорили про волю…
В апреле 1843 года Шевченко вместе с Гребенкой выехал на перекладных так называемым Белорусским трактом: через Лугу, Псков, Полоцк, Витебск, Могилев, Гомель — в Чернигов, на Украину.
С какими чувствами ехал теперь Шевченко в родные места, оставленные без малого пятнадцать лет назад? Тогда расстался он с Украиной почти ребенком, бесправным рабом. Теперь он возвращался в знакомые села известным поэтом, признанным талантом, о котором говорит пресса, говорили люди.
Перед выездом из Петербурга Шевченко писал одному из новых своих знакомых — популярному в то время «просвещенному меценату», черниговскому помещику Григорию Степановичу Тарновскому, с которым познакомил его в Петербурге Штернберг:
«Тотчас после пасхи, только вырвусь как-нибудь, прямехонько к вам, а потом уж дальше…»
Шевченко и приехал прямо к Тарновскому, в его прославленную Качанивку, расположенную между Бахмачем и Прилуками, где гостили подолгу и Глинка, и Гоголь, и Гулак-Артемовский, и Маркевич, и Штернберг. Еще по рисункам Штернберга Шевченко знал роскошный качановский парк с его озерами и прудами, вековыми дубами и кленовыми рощами, рядами стройных тополей и пахучих лип, с веселыми березками на зеленых солнечных лужайках. Этот парк возник на ровном месте, в степи. Его горы и холмы, ущелья, глубокие пруды и озера, гроты и пещеры сделаны искусственно. Десятки тысяч дармовых крепостных рук таскали эту природу в тачках, рыли ее лопатами, сажали, обливали своим потом в буквальном смысле слова. Идя по парку, Тарас с трудом мог вообразить себе, что все вокруг создано на пустом месте, где от природы не было ни холмов, ни ущелий, ни прудов, ни озер, ни рощи.
Встретили поэта радушно, отвели ему лучшие комнаты. В мастерской с великолепным видом на озеро, в многочисленных беседках среди старых ветвистых деревьев — всюду можно было забыться, углубившись в творчество. Так по крайней мере могло показаться на первых порах.
Но в самом хозяине — сухопаром пожилом человеке с огромным крючковатым носом и маленькими тусклыми глазками — было что-то тягостное, угнетающее. Тарновский носил купеческую толстую золотую цепь на жилетке, безвкусные, хотя и дорогие перстни, и огромные бриллиантовые запонки.
Сосед Тарновского по имению и родственник его, помещик Селецкий, обрисовал приятеля довольно беспристрастно: «Высокопарная речь, по большей части бессмысленная, сознание своего достоинства, заключавшегося только в богатстве и звании камер-юнкера, приобретенном сытными обедами в Петербурге, посягательство на остроумие, претензии на меценатство, ограничившиеся приглашением двух-трех артистов на лето к себе в деревню, где им бывало не всегда удобно и приятно, скупость, доходившая до скряжничества, — вот характеристические черты Григория Степановича».
Шевченко тяжело поражали фальшь и некультурность хозяев Качанивки. В то время как не слишком опрятные лакеи подавали ужин на несвежей скатерти, в кустах, под окнами дома, крепостной оркестр играл «Жизнь за царя» и «Руслана» Глинки.
— Гм… да, да, гм… Мы приятно проводили время, когда Глинка писал у меня своего «Руслана»… — любил повторять Тарновский с важностью каждому новому гостю. — Знаете, гм… каждый день Глинка писал и был доволен моим оркестром.
Потом хозяин приказывал оркестру играть Третью, «Героическую», симфонию Бетховена, с траурным маршем. Во время исполнения симфонии Тарновский вдруг поднимал палец и обращался к гостям:
— А вот это место… гм… вставил я…
И, видя изумление на лицах слушателей, самодовольно добавлял:
— Гм… да… мы и Бетховена поправляем!
Было что-то фатальное в том, что на Украине Тарас сразу попал именно в Качанивку, к Тарновскому. Конечно, помещик этот ни в каком отношении не составлял исключения, но здесь как-то уж очень бросались в глаза социальные контрасты. В доме, сооруженном по проекту великого Растрелли, лились елейные речи хозяина, повествовавшего гостям о том, как Глинка вот в этих же комнатах сочинял «Руслана и Людмилу», а в темном уголке парка, под широко раскинувшейся густой кроной векового дуба, звучали рассказы крепостных, окружавших по вечерам Шевченко.
Здесь, под дубом, он слышал страшные, но не выдуманные истории о загубленных народных талантах, о поруганной девичьей чести, о попрании всех человеческих чувств и прав.
Дворовые шепотом рассказывали Шевченко, как погибла в Качанивке крепостная горничная сестры Тарновского. Она в воскресенье гладила утюгом барыне платье, да немного опоздала, уже во все колокола прозвонили, а платье не было готово; барыня рассердилась, выхватила из рук у горничной утюг, да и хвать ее по голове, — бедная тут же и ноги протянула.
И Шевченко своими глазами видел на убогом сельском кладбище дубовый, выкрашенный зеленой краской крест на могиле убитой.
Эти скорбные истории должны были, по словам поэта, «заставить и немого говорить, и глухого слушать».
Шевченко через много лет изобразил хозяина Качанивки в повести «Музыкант» под именем Арновского — жестокого крепостника-самодура, «гнусного сластолюбца»; он ввел у себя такие «улучшения по имению, от которых мужички запищали». Рассказчик в повести Шевченко «Музыкант» восклицает:
— О, если бы я имел великое искусство писать! Я написал бы огромную книгу о гнусностях, совершающихся в селе Качанивке.
На Украине Шевченко был желанным гостем — и в хатах крепостных, и в усадьбах помещиков-украинцев. Но как только Тарас переступил порог первого же помещичьего дома, он понял, что он крепостной, хотя и носит в кармане «вольную». Его принимали охотно, но временами давали почувствовать, что он — бывший холоп и ему не по плечу равняться со шляхтой и дворянством. Шевченко не мог смотреть в глаза казачкам, подававшим трубки, дворне, снимавшей шапки перед ним, знатным столичным человеком.
Он был костью от кости этих холопов, он был поэтом бедняцкой Украины. Ненависть к помещикам, к панам, независимо от того, кто они были — украинцы, поляки или русские, — вошла с тех пор в его сердце и крепла с каждым годом.
Никто лучше Тараса не знал, что такое гнет крепостничества. Теперь он мог убедиться: нет, ничто не переменилось к лучшему, и все прекраснодушные фразы о «любви к меньшему брату», с таким пафосом произносившиеся за бокалом шампанского, — только фразы!
Великих слов запас немалый — И все тут. Вы кричите всем, Что бог вас создал не затем, Чтоб вы неправде поклонялись!.. Дерете с братьев-гречкосеев Три шкуры…Побывал он и в селе Григоровке помещика Петра Скоропадского, потомка известного украинского гетмана. И здесь он увидел все тот же помещичий беспредел, унижение мужика-гречкосея. Увиденное ложится тяжелыми строками на бумагу:
Я вовсе не сержусь на злого: Молва при нем, как страж, стоит. Сержусь на доброго такого, Что ту молву перехитрит. И вспомнить тошно мне бывает — Готический с часами дом, Дом над ободранным селом, И шапочку мужик снимает, Лишь флаг завидит. Значит, пан По саду с челядью гуляет. Гуляй, откормленный кабан!.. Он чистокровный патриот… Он в свитке ходит меж панами, В шинке сидит он с мужиками И корчит вольнодумца здесь… Зачем его не заплюют? И не затопчут? Люди, люди!..И вот в этой-то среде очутился Шевченко сразу из мастерской Брюллова, из Академии художеств! Конечно, что же тут было неожиданного? Разве он не был знаком хотя бы со «свиньей в бархатных туфлях» — Энгельгардтом?
И все-таки душа Шевченко, чуткая к чужому горю больше, чем к своему, испытывала такую боль, словно с нее вновь и вновь сдирали кожу.
Один помещик пригласил Шевченко на обед. В передней слуга дремал на скамейке. К несчастью, хозяин выглянул в дверь и, увидев дремавшего слугу, разбудил его собственноручно по-своему, не стесняясь присутствия поэта. Тарас покраснел, надел шапку и ушел домой. Никакие просьбы не могли заставить его возвратиться. В голове Шевченко промелькнуло, вероятно, Вильно: такая же передняя и казачок, увлекшийся рисованием далеко за полночь, и подобная же собственноручная расправа хозяина… Как он был далек теперь от всего этого! И вдруг на его глазах повторяется та же история. На счастье помещика, он овладел еще своим гневом; он только поворотился и ушел домой.
Шевченко гостил и у полтавского помещика, «стихоплета» Родзянко, дружившего одно время даже с Пушкиным. Несмотря на кажущуюся дружбу с Пушкиным, Родзянко написал на него донос в стихах в то время, когда Пушкин был уже в ссылке. Пушкин, предупрежденный друзьями, не мог поверить этому. «Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости», — писал Пушкин. Он думал, что на это не способен даже Родзянко.
В доме Родзянко Шевченко увидел, как дворецкий ударил по лицу дворового мальчика. Шевченко ночью ушел из дома Родзянко, уехал в Миргород и больше с Родзянко не встречался.
Владелец села Березань на Переяславщине Платон Лукашевич был известен как составитель одного из первых сборников украинского фольклора — «Малороссийские и червонорусские народные думы и песни», вышедшие в 1836 году. Он был товарищем Гоголя по Неженскому лицею, был знаком с чешскими писателями Вацлавом Ганкой и Яном Колларом, с западноукраинскими писателями Головацким и Вагилевичем. На старости лет он сочинял и печатал книжки с удивительными названиями: «Чаромутие, или священный язык магов, волхвов и жрецов», «Ключ к познанию на всех языках мира прямых значений в названиях числительных имен первого десятка».
Познакомившись с Шевченко, Лукашевич распинался в своей любви к «неньке Украине». Но как-то Лукашевич прислал из своей Березани к Шевченко слугу с письмом, требуя, чтобы дворовый в тот же день доставил назад ответ. Дело было в суровые зимние морозы, от Березани до Яготина, где жил поэт — добрых тридцать верст, а посыльный — почти необутый и, разумеется, пешком.
Шевченко пытался уговорить слугу переночевать, чтобы наутро отправиться в обратный путь. Но крепостной человек не соглашался. Вся картина чудовищного бесправия, привычного, вошедшего в быт издевательства над забитыми, затравленными людьми-рабами встала перед Шевченко…
Он тут же написал и передал пану Лукашевичу гневное письмо. Вы говорите, писал Шевченко, о своей любви к Украине, а сами измываетесь над ее народом, ездите у народа на спине, да еще подстегиваете кнутом. Шевченко писал, что презирает Лукашевича и всех ему подобных и что отныне ноги его не будет в этом доме.
Письмо было, конечно, неграмотным слугой исправно доставлено помещику. Тот рассвирепел и прислал Шевченко ответ, нарочито написанный на клочке измятой оберточной бумаги. Лукашевич писал Шевченко: «У меня таких, как ты, триста холопов…»
Много Шевченко видел на своем веку и жестокости и подлости, но не выдержал и заплакал…
Побывал Тарас в Кириловке, повидал своих крепостных братьев и сестру Ирину. Он никогда не забывал о них, особенно сестер.
А сестры! Сестры! Горе вам, Мои голубки молодые! Куда, бездомным, вам лететь! Росли в батрачках, всем чужие, В батрачках до седин дожили, В батрачках вам и умереть!..Тарас подъехал в село под вечер. Возле хаты сестры Ирины во дворе играли двое детей — девочка и мальчик. Увидев незнакомого человека, они уставились на него удивленными глазами.
— Подойди, ко мне, невеста, — улыбаясь, подозвал ее к себе Тарас. — А скажи, серденько, кто есть дома?
Девочка посмотрела из-подо лба и хотела бежать. Тарас успел взять ее за руку.
— Ты меня испугалась?
— Нет, я хотела маме сказать…
— Ну, беги, скажи, что Тарас приехал.
Девочка убежала в хату и почти сразу на пороге появилась сестра Ирина. Она молча всматривалась в лицо незнакомого человека, не узнавая брата.
— Иринка, сердце мое, сестричка, не узнаешь меня?
Ирина, всплеснув руками, бросилась на шею Тараса.
— Тарасику, братику! — и разрыдалась горючими слезами. — Я выглядывала тебя каждый день, уже и не надеялась… Какой ты стал!!!
Тарас тоже плакал, вытирая слезы рукавом плаща.
— Пойдем в дом, надо позвать братьев — Никиту и Иосифа. Оксанка, — обратилась она к девочке, — сбегай на село, пригласи их, скажи, что брат Тарас у нас.
Тарас и Ирина вошли в хату, в которой царствовала нищета: стол, грубая лавка, да еще икона в углу — вот и все убранство.
Ирина занялась приготовлением ужина, поставив в печь картошку и порезав припрятанный кусочек сала.
Вскоре пришли братья — постаревшие, сутуловатые… Они тоже с трудом узнавали в этом, по-пански одетом, молодом человеке своего маленького брата Тараску.
Сели за стол, налили по чарке самогона, который принес Никита, положили каждому по кусочку черного хлеба, по картошке и кусочку сала. Выпили, и начались воспоминания и вопросы. Тарас им рассказал о своих мытарствах по чужим домам и в Польше, и в Литве, и в Петербурге. Был и в казачках, и учеником рисования, и сейчас он учится на художника в Академии. Рассказал и о добрых людях, которые выкупили его на волю.
— Мои дорогие, если бы вы только знали, как это прекрасно быть свободным человеком!.. Ведь именно таким он и рождается… И как мне тяжело видеть вас в рабстве, — со слезами на глазах проговорил Тарас. — Я обязательно вас выкуплю, надо только немного подождать. Нужны деньги. Есть у меня думка, как это сделать. Вот вернусь в Петербург и займусь вашей судьбой…
В тот вечер Тарас узнал и о судьбе своей кудрявой Оксанки. Слушал он брата Никиту и не мог сдержать слез…
Только далеко за полночь расстались они.
На другой день было воскресенье. Тарас проснулся поздно.
— Иринка, какой же у тебя здесь воздух! Я спал, как у бога за пазухой! Вот что значит дома… Вот женюсь и буду жить на Украине, рядом с вами.
— А невеста-то у тебя есть? Наверное, панночка какая-нибудь?.. Тебе-то сколько годков?
— Старый я уже, Ирина, скоро тридцать. А вот панночки нам и не надо. Я еще хорошо помню, кто мой отец и мать. Нам что-нибудь попроще, «гарну та чепурну» дивчину простого нашего рода. Нет ли здесь такой девушки у тебя на примете?
— Кажется, есть, — как бы вспомнив что-то, проговорила, улыбаясь, Ирина. — Да ты ее знаешь, это дочь нашего попа Кошица, у которого ты был в наймах. Очень красивая девушка, и как раз на выданье. Вот, давай, и женим тебя на ней.
— Не помню… Это такая маленькая сопливая Федорка?..
— Сопливая!.. Видел бы ты ее сегодня! Красавица! Стройная, как смерека, чернобровая… А певунья, что и не рассказать!
— Ты так складно поведала, что я готов хоть сегодня идти с поповной под венец. А как бы ее мне увидеть?
— Садись, позавтракай, я тебе молочка принесла. А брат Никита придет, так и сходите проведать попа, там и увидишь Феодосию.
К полудню два брата пошли к попу Кошицу. Поп после службы обедал у себя в комнате. Служка, встретившая гостей, спросила их, по какой надобности они пришли.
— Скажи батюшке, что гость из Петербурга приехал, — улыбаясь, сказал Тарас.
Служка скрылась за порогом и быстро вернулась.
— Батюшка просит в хату, — передала она приглашение.
Братья вошли в просторную комнату, в которой за столом сидел поп, трапезничая. На столе стояла бутылка наливки, нарезанное сало, колбаса, жареная курица…
Гости поздоровались, поп пригласить разделить с ним трапезу.
— Слышал, слышал, — проговорил поп, — по всему селу уже пошел слух о вашем приезде, Тарас Григорьевич. Вот уж не думал и не гадал, что увижу вас, как знаменитого поэта и художника. В церкви сегодня только об этом и говорили прихожане. Надолго к нам?.. Вы не стесняйтесь, закусывайте, чем бог послал… Манька, — крикнул поп служке, — скажи Феодосии — пусть гостям принесет бутылку ореховки.
— Не беспокойтесь, батюшка, мы уже позавтракали. А вот на сколько я здесь задержусь…
Тарас дальше не смог продолжить: появилась поповна… Красота девушки ослепила Тараса. Они встретились глазами и оба покраснели.
Поп это заметил и велел Феодосии покинуть комнату.
— И все же, на какое время вы у нас задержитесь? — переспросил поп.
— Не могу точно сказать. Может, задержусь надолго, а может, сегодня и уеду.
Обменявшись новостями, гости покинули хату попа. Возле ворот они встретили Феодосию, которая как будто именно их и ждала.
— Фрося, вот ты какая! Красавица! А помнишь, как я тебя маленькую на руках носил и конфетой иногда угощал?
— Помню, я все помню. Я о вас всегда помнила, — загоревшись, как маков цвет, отвечала девушка.
— У меня мало времени… Скажи, а ты пошла бы за меня замуж, если я сватов пришлю?
— Вы не шутите над бедной девушкой? Грех вам!..
— Нет, я не шучу! Ну, то как?
— Как отец скажет… Вы же все сами знаете… — проговорила девушка и убежала в хату.
— Никита, какая прелестная девушка! Я очарован и околдован ее красотой. Лучше и не найти… А что если, действительно, посвататься… Ведь тридцатый год пошел… — вслух размышлял Тарас. — Вот что, Никита, вечером пойдешь к попу с предложением отдать нам Феодосю?
— Пойти-то можно… Только согласится ли поп отдать дочь за крепостного, пусть и бывшего…
— Никита, ты всегда мне был за родного отца. Я тебя очень прошу сходить к попу, уговори его отдать мне в жены эту прелесть. У меня сейчас сердце выскочит из груди…
— Хорошо, схожу, — согласился Никита. — Только ты уж на меня не будь в обиде, если из этого ничего не получится.
Дома их встретила Ирина вопросом:
— Как сходили, видели Феодосию?
— Ох, Ирочка, как ты была права! Что за девушка, что за чудо! Я сегодня же женюсь на ней!
— Тарасик, что же так сразу? За девушкой надо бы хоть немножко поухаживать…
— Знаю, сестра, знаю! Но нет у меня времени на ухаживания. Сегодня к вечеру Никита сходит к попу свататься.
— Вы уже все решили? Ну, дай-то бог удачи.
Вечером, надев чистую рубашку, Никита отправился к попу. Тарас места себе не находил, ожидая его.
Вскоре тот вернулся и вернулся с грустным лицом.
— Видно, не судьба, Тарас. Поп уперся, тараторил, как псалтырь читал: «За бывшего холопа дочь не отдам!» Сама Феодосия просила, даже грозилась утопиться, если не выдадут ее за тебя. Но все напрасно…
— Нет, не жениться мне никогда… — вздохнул тяжело Тарас, и крупная слеза скатилась с его глаз. — Не готовь ничего, сестричка, я сейчас уеду…
Он сел за стол и тихо прочитал:
Не женися на багатій, Бо вижене з хати, Не женися на убогій, Бо не будеш спати. Оженись на вольній волі, На козацькій долі, Яка буде, така й буде, Чи гола, то й гола. Та ніхто не докучає І не розважає — Чого болить і де болить, Ніхто не питає. Удвох, кажуть, і плакати Мов легше неначе; Не потурай: легше плакать, Як ніхто не бачить.Жажда создать семью, найти «дружину», и притом на родной земле, в родном кругу, захватила поэта. Но для священника такой зять был нежелателен и не прочен.
Родные проводили Тараса до ближайшей корчмы за селом и здесь выпили на прощание. Собралась довольно порядочная кучка народа; из-за какого-то пустяка началась, как это часто бывает, перебранка с шинкарем-евреем, и тот нанес одному из крестьян грубое оскорбление. Шевченко не вытерпел и закричал: «А ну-те, хлопцы, дайте поганому жиду хлосту!» Еврея моментально схватили и высекли. Полиция взялась за расследование и довела бы до сведения высшего начальства о «бунте», если бы Тарасовы братья, приняв на себя всю вину, не откупились.
Тарас уехал, а Феодосия тяжело заболела. Поместили ее в Киев в психлечебницу, где она вскоре и умерла.
Он уехал к Евгению Гребенке, жившему у себя в селе Марьяновке, недалеко от Пирятина.
Гребенка на Украине, как и в Петербурге, имел обширнейшие знакомства. Он был своим человеком и у Лизогуба в Седневе, и у Закревского в Березовой Рудке, и у де Бальмана в Линовице, и у Маркевича в Туровке.
Познакомиться с Шевченко чаяли тогда многие; многие просили Гребенку привезти в гости известного поэта. И вот в день Петра и Павла, 29 июня 1843 года, Гребенка уговорил Шевченко поехать с ним на традиционный ежегодный бал у владелицы села Мосевка, престарелой генеральской вдовы Татьяны Густавовны Волховской; она справляла в этот день одновременно именины сына, внука и покойного мужа.
На эти именины съезжалось до двухсот человек гостей, которые размещались в многочисленных комнатах, и бал длился два-три дня кряду — и в гостиных, и в огромном двухсветном зале, и в обширном старинном парке.
Вся атмосфера Мосевки очень отличалась от того, что видел Шевченко в Качанивке: здесь не было твердого и расчетливого хозяина, не слышно было ханжеских и лицемерных разговоров об «искусстве» и о «славе Украины».
Здесь его встретили с распростертыми объятиями, как давно желанного гостя: Весть о приезде Шевченко мигом разлилась по всему дому… Все гости толпились у входа, и даже чопорные барыни, которые иначе не говорили, как по-французски, и те с любопытством ожидали появления поэта. Целый день он был предметом всеобщего внимания, за исключением двух-трех личностей, которые не признавали не только украинской, но и русской поэзии.
Вчерашний крепостной, которому прежде любой и любая (за ничтожнейшими исключениями) из толпившихся вокруг него гостей с легким сердцем дали бы «зуботычину», явился теперь перед ними в образе поэта, так неожиданно и так сильно заговорившего на похороненном уже было языке; эта толпа бонвиванов, как бы назло собственной жизни, чувствовала что-то родное в поэзии бывшего крепостного. Шевченко представлял любопытную диковинку, на которую каждому хотелось взглянуть. Здесь повторилось то же, что было и в Петербурге, только, естественно, удивление и восторг принимали более откровенные и более резкие формы. Шевченко был тронут блистательным приемом. Ему по сердцу пришлись родной говор, родные песни, которые он услышал здесь. Но он слишком много пережил и слишком хорошо знал помещичий быт, чтобы принять тотчас же «блистательный прием» за чистую монету и чувствовать себя в кругу помещичьего общества «как дома».
Здесь же произошло его знакомство с кружком «мочеморд». Упомянутый кружок был в своем роде знамением времени, знамением разложения помещичьего крепостного быта, а для Шевченко лично — продолжением петербургских студенческих попоек. Можно подумать, что сам Шевченко тяготел к такого рода удовольствиям. Это неправда, или, вернее, та полуправда, что хуже неправды. По крайней мере, в описываемую пору Шевченко предавался излишествам только в обществе людей, с которыми ему, собственно, нечего было делать, которые смотрели на него как на диковинку и забавлялись им ради мимолетного развлечения.
«Мочить морду» означало пьянствовать, а «мочемордой» признавался всякий удалой питух; неупотребление спиртных напитков называлось «сухомордием» или «сухорылием». Члены, смотря по заслугам, носили титулы «мочемордия», «высокомочемордия», «пьянейшества» и «высокопьянейшества». За усердие раздавались награды: сиволдай в петлицу, бокал на шею и большой штоф через плечо. В известные дни или просто при съездах они совершали празднества в честь Бахуса; собрание созывалось следующими возгласами: бас гудел: «Ром! Пунш!», тенора подхватывали: «Полпиво! Полпиво! Глинтвейн! Глинтвейн!», а дисканты выкрикивали: «Бела, красна, сладка водка!» Затем великий магистр произносил приличную речь, и «мочеморды» предавались своим возлияниям.
Приобщение Шевченко к кружку «мочеморд» имеет другую, скрытую причину. На этом балу он встретил и страстно влюбился в красавицу Анну Ивановну Закревскую. Весь вечер он не отходил от нее и все просил у нее на память хоть один голубой цветок, которыми было отделано ее платье. Молодая женщина шутила и шутя отказывала, но Тарас все же изловчился и оторвал цветок. Анне Ивановне льстило внимание молодого поэта и художника, он, откровенно признаться, ей тоже очень понравился своим разговором, шутками, каламбурами. Эта голубоглазая прелестница была женой уже немолодого отставного полковника Павла Алексеевича Закревского, «высокопьянейшества» кружка. Шевченко искренне полюбил Анну Ивановну, которой было в то время всего двадцать лет. Тарас нарисовал ее портрет с черными бровями, огромными, «дочерна голубыми» глазами, с красивым, правильным овалом лица. Ни на одном портрете Шевченко нет таких глаз, нет такой полной, трагической, душевной жизни глаз, такого слезно-нежного, говорящего взгляда.
Уже на берегу далекого Аральского моря, спустя пять лет, он написал стихотворение, которое поэт так и назвал «Г. З.», то есть «Ганне Закревской»:
…А ты, радость! Ты, моя надежда? Ты, мой праздник чернобровый, И теперь меж ними Ходишь плавно и своими Очами, такими, Ну, дочерна голубыми, И теперь чаруешь души все! Небось, доселе любуются всуе Станом гибким? Ты, мой праздник! Праздник мой пригожий!Участие в оргиях «мочеморд» было единственной возможностью для Тараса свободно посещать имение Закревских, село Березовую Рудку, где он мог общаться с красавицей Анной. Однако любовь Шевченко к «красавице Ганне» действительно не была и не могла быть счастливой, его визиты становились для него все более мучительными, пока не прервались совсем, наткнувшись на ревность мужа.
Алексей Капнист, сын известного поэта, с которым он тоже познакомился в той же Мосевке, предупреждает поэта о возможных неприятных последствиях его ухаживания за Анной Закревской. Он пишет Тарасу в записке:
«… мне поручено просить вас не заезжать, как вы предполагали, к Закревскому, а главное не писать к нему ни под каким предлогом. Я знаю вас и совершенно уверен, что вы свято и ненарушимо это исполните. Не огорчайтесь, добрый Тарас Григорьевич, моею откровенностью… Временное увлечение исчезает, как дым. Но нередко пятна остаются невидимые и помрачают душу, отзывающуюся в совести…»
В это время увлекался Тарас и другими женщинами. На короткое время он увлекся одной известной красавицей, которая кружила головы всем, кто попадал в заколдованный круг ее. Увлечение было сильное. Шевченко не на шутку задумывался, рисовал ее головку и несколько раз сочинял стихи. В такие моменты его натура делалась еще художественнее, и он работал с большим рвением. Скоро, однако же, он разочаровался относительно красавицы. Пригласила она его как-то утром прочесть ей одну поэму, и сказала, что у нее никого не будет, что она желала бы одна насладиться чтением. Тарас Григорьевич исполнил ее желание. Но какая же встретила его картина? В уютной гостиной красавица сидела на диване, окруженная студентом, гусаром и толстейшим генералом — тремя отъявленными своими обожателями, и искусно маневрировала по-своему, обманывая всех троих, то лаская поочередно надеждой, то приводя в отчаяние. Поэт смутился, и как прелестная хозяйка ни атаковала его любезностью, он ушел с твердым намерением никогда не посещать красавицы — и сдержал свое слово.
Вот стихотворение, написанное по этому случаю:
Не журюсь я, а не спиться Часом до півночі, Усе світять ті блискучі Твої чорні очі. Мов говорять тихесенько: «Хоч, небоже, раю? Він у мене тут, у серці». А серця немає, Й не було його ніколи, Тільки шматок м’яса… Нащо ж хороше і пишно Так ти розцвілася? Не журюсь я, а не спиться Часом і до світа, Усе думка побиває, Як би ж так прожити, Щоб ніколи такі очі Серця не вразили.Была у него еще одна попытка жениться. Он тогда на короткое время переехал в Киев и поселился в доме на Крещатике. Рисуя Лавру, он познакомился с приезжим семейством богомольцев, в котором была молоденькая, очень красивая девушка. Вечерами он начал встречаться с этим семейством. Девушка привязалась к Тарасу. Раскрасневшееся ее лицо, обрамленное светлыми волосами, было завораживающе красивое. Смеясь чистым, почти детским смехом, она слушала Тараса, когда тот, идя рядом, взяв ее под руку, рассказывал что-нибудь смешное и забавное. Но и тут ему не повезло. Через короткое время семейство уехало, а девушка оказалась помолвленной и на осень у нее намечена свадьба…
Расстроенный Шевченко отправляется в путешествие по Украине. Побывал на острове Хортица, где когда-то была Запорожская Сечь, побывал в селе Искивци у писателя А. Чужбинского на Полтавщине, у других своих знакомых.
Дольше всего Тарас задержался в Яготине, в имении князя Репнина. Алексей Капнист был в близкой дружбе и родстве с семьей опального вельможи Николая Григорьевича Репнина (Волконского), проживавшего «на покое» в своем имении. Князь Николай Григорьевич через Капниста пригласил молодого художника, чтобы снять копию со своего портрета, писанного швейцарским художником Горнунгом и выполнить живописные работы в одном из флигелей усадьбы.
Эта усадьба тоже была создана крепостными из ничего. Барский дом имел величественный вид — нечто от вельможи екатерининских времен. Все здесь очень велико, рассчитано на большие горизонты — искусственно расширенное русло реки, наносной остров, англизированные лужайки.
Окруженный таким великолепием, здесь жил опальный вельможа, старый граф Репнин со своим многочисленным семейством. В свое время он потратил огромные деньги на поддержание престижа царя Александра I за рубежом. Но царь не возместил этих затрат. Обиженный и ограбленный царем князь удалился в свое имение, и семья его с тех пор слыла вольнодумной, либеральной и демократичной.
В обширный яготинский парк Шевченко и Капнист прибыли на склоне жаркого летнего дня. Они торопились добраться до жилья, потому что на небо быстро надвигались тяжелые грозовые облака. Пересекая лужок, приятели увидели двух дам, направлявшихся на прогулку, несмотря на угрожавшие тучи.
Капнист, приблизившись к дамам, успел только воскликнуть:
— Куда вы? Ведь собирается сильная гроза, взгляните на небо!
В эту минуту хлынул крупный ливень. Капнист схватил под руку старшую из дам и побежал с нею по направлению к дому. За ними последовала и молодая, поразившая Шевченко взглядом своих огромных печальных глаз.
Шевченко не хотелось спешить за всеми, и он остался под дождем один. Вскоре туча прошла, дождь прекратился. Шевченко вместе с возвратившимся за ним в сад Капнистом, оба мокрые до нитки, подошли к старинному дому Репниных. Шевченко уже знал, что встретившиеся им дамы — княгиня Варвара Алексеевна и княжна Варвара Николаевна — жена и дочь Репнина.
Когда спустя несколько часов Капнист водил приятеля по залу, показывая ему ценное собрание картин и портретов, к ним вышла Варвара Николаевна, и Шевченко снова увидел эти большие, выразительные глаза, делавшие таким заметным это совсем некрасивое, худощавое лицо далеко не молодой девушки.
В это время Шевченко было двадцать девять лет, Варваре Репниной — тридцать пять. Пережившая в двадцать лет трагедию горячей, но неудачной любви ко Льву Баратынскому (брату известного поэта), — родители Варвары Николаевны воспротивились неравному браку и разлучили молодых, — княжна была одинока и грустна.
Очень скоро в семье Репниных Тараса стали считать своим человеком. Отец и мать Варвары Николаевны, брат ее Василий и сестра Елизавета, приемная дочь двадцатилетняя красавица Глафира Псел (художница) с сестрами Александрой (поэтессой) и Татьяной, Алексей Капнист, иногда еще и другие гости (Селецкий, княгиня Кейкуатова) собирались по вечерам в гостиной Репниных. Стала приезжать к Репниным и Анна Закревская. В такие вечера велись разговоры, конечно, о литературе, о поэзии. Всегда просили Тараса почитать что-нибудь из своих произведений. В один из вечеров Шевченко прочитал вслух свою поэму «Слепая», написанную на русском языке.
На Варвару Николаевну чтение произвело ошеломляющее впечатление. Она не могла выразить словами то, что пережила во время чтения.
«Какие чувства, какие мысли, какая красота, какое очарование и какая боль!» — билась в ее голове мысль.
Ее лицо было все мокро от слез, и это было счастьем, потому что она должна была бы кричать, если бы волнение не нашло себе этого выхода; она чувствовала мучительную боль в груди.
После чтения, когда волнение улеглось, Варвара Николаевна сказала Шевченко:
— Когда Глафира продаст свою первую картину и отдаст мне эти деньги, как она обещала, я закажу на них золотое перо и подарю его вам!
— Вы очень добры и щедры ко мне, Варвара Николаевна. Вряд ли я этого заслуживаю.
Варвара, экзальтированная, порывистая девушка, полюбила Шевченко. Ее преклонение перед Шевченко — бывшим крепостным, теперешним талантливым поэтом — было безгранично.
— Он поэт. Поэт во всей обширности этого слова: он стихами своими побеждает всех… он настраивает души на высокий диапазон своей восторженной лиры, он увлекает за собою старых и молодых, холодных и пылких… Он одарен больше чем талантом, ему дан был гений… — говорила с восторгом о Шевченко Варвара Николаевна.
О своей любви она не сказала Шевченко ни слова. Это была безмолвная, но самоотверженная любовь. Варваре Николаевне было хорошо известно, что сердце Шевченко не просто отворачивается от нее, что оно занято, занято другой женщиной, вдобавок замужней… Женщина эта жила верстах в тридцати от Яготина, в Березовой Рудке. Свои чувства она доверяла бумаге: «Шевченко занял место в моем сердце… я очень люблю его и всецело ему доверяю… Если б я видела с его стороны любовь, я, возможно, ответила бы ему пристрастием…»
Шевченко догадывался о ее чувствах, и всегда относился к княжне с большим и глубоким уважением, называл ее своим «добрым ангелом» и «сестрой»: «О добрый ангел! Молюсь и плачу перед тобою, ты утвердила во мне веру в существование святых на земле», — пишет он ей в одной из своих записок.
Она довела это преклонение до смешного. Каждая выпитая Шевченко рюмка водки, каждая вольная шутка казались ей недостойными гения и заставляли искренне и долго страдать. Она всеми силами пыталась отвадить его от «мочеморд», но безрезультатно. И чем настойчивее она об этом говорила, тем упрямее был Тарас, тем чаще он говорил про себя: «Отцепись!» Он не терпел над собой никакого насилия, хлебнув его в достатке в недалеком прошлом.
В благодарность за ее чувства к нему Шевченко написал на русском языке поэму «Тризна» и посвятил ее Варваре Репниной. Это дань уважения и благодарности за — увы! — неразделенную любовь. Шевченко был человеком слишком искренним и прямым, чтобы позволить себе кривить душой в ответ на неподдельное чувство княжны Варвары. Он слишком много страдал, чтобы не понять ее. В предисловии к поэме есть слова, которые свидетельствуют о больших дружественных отношениях Т.Г. Шевченко и Варвары Репниной, что в значительной степени повлияло на появление в свет этого произведения: «Душе с прекрасным назначеньем должно любить, терпеть, страдать…» О своих чувствах поэт писал: «…Для вас я радостно сложил свои житейские оковы, священнодействовал я снова и слезы в звуки перелил…» Поэт подарил свою рукопись Варваре Николаевне, а на следующий день и свой автопортрет:
Душе с прекрасным назначеньем Должно любить, терпеть, страдать: И дар господний, вдохновенье, Должно слезами поливать… Ваш добрый ангел осенил Меня бессмертными крылами И тихоструйными речами Мечты о рае пробудил…Когда чувство Варвары Николаевны к поэту начало заходить чрезвычайно далеко, A.B. Капнист, возможно, по просьбе матери княжны, стал вести продолжительные беседы и с Репниной, и с Шевченко. «Словом, — писала Варвара, — выход из всего сказанного им был тот, что Шевченко надо уехать и что он берется увезти его к себе… и дать ему понять, что ему более нельзя жить в Яготине».
Впрочем, Шевченко и сам понимал, что никакой перспективы его отношений с княгиней Варварой Репниной быть не может. И прежде всего потому, что она была княжна, а он бывший крепостной. Он не мог себе представить, как бы он мог смотреть в глаза крестьянам-рабам Репниных, если бы он вздумал жениться на Варваре. Это было просто за пределом всякой возможности…
Последние дни пребывания в имении Репниных Тарас Григорьевич напряженно работал, завершая копии портрета князя Н.Г. Репнина. «Два дня, — писала Варвара Николаевна, — он был молчалив и холоден, хотя я проводила с ним почти весь день, потому что он работал… над портретами детей моего брата, а я занимала их, чтобы они сидели смирно; но последние три дня его пребывания он был сердечен и добр. Наконец наступил день и час его отъезда. Я со слезами бросилась к нему на шею, перекрестила ему лоб, и он выбежал из комнаты…»
Так разошлись судьбы княжны и поэта, недавнего крепостного… Его общение с Варварой Николаевной в дальнейшем ограничивается только перепиской.
В начале февраля Шевченко уехал из Украины в Петербург через Москву.
Тарас уезжал с Украины с новыми стихами и поэмами, этюдами и новыми впечатлениями. Душа его была наполнена с одной стороны любовью к родной земле, а с другой — болью за народ, который задыхался в ярме крепостничества. Во время скитаний по Украине Шевченко много времени проводил среди крепостных крестьян. По ночам в темных хатах собирались родные его «гречкосеи» и безнадежно жаловались на угнетения, на обиды, на жестокости панов и шляхтичей. Для помещиков и шляхтичей, наводнявших Украину «гречкосеи» были только «быдлом» — рабочим скотом. Гнев охватывал Шевченко — великий, беспощадный гнев поэта-трибуна. Этот гнев сообщил его стихам характер неистовых проклятий.
Да, он клял этот барский «смердящий» мир, клял царя, всех предателей и насильников.
А слез! А крови! Напоить Всех императоров бы стало. Князей великих утопить В слезах вдовиц! А слез девичьих, Ночных и тайных слез привычных, А материнских горьких слез! А слез отцовских, слез кровавых! Не реки — море разлилось! Пылающее море… Слава Борзым, и гончим, и псарям, И нашим батюшкам-царям…Шевченко был «вольный». И его вольное слово начинало звучать по всей Украине, его стихи читали шепотом, но этот шепот гремел в сердцах как набатный колокол, от него закипали слезы в глазах и холодели руки.
— Что делать, Тарас? — спрашивали измученные крепостные крестьяне. — Вот ты вышел в люди — дай совет, открой очи, научи, как добиться правды.
Шевченко в то время уже знал, что делать. Сбросить царя и помещиков. Взять землю. Он открыто звал к этому крестьян. Он писал об этом. Его «археологические прогулки» по Украине превращались в страстные агитационные поездки. Всюду, где был Тарас, усиливался крестьянский гнев, разгоралось возмущение. Он подымал в сознании крестьян задавленные рабством пласты человеческого достоинства и негодования.
Аж страх погано У тім хорошому селі. Чорніше чорної землі Блукають люди, повсихали Сади зелені, погнили Біленькі хати, повалялись, Стави бур’яном поросли. Село неначе погоріло, Неначе люде подуріли, Німі на панщину ідуть І діточок своїх ведуть!.. І не в однім отім селі, А скрізь на славній Україні Людей у ярма запрягли Пани лукаві… Гинуть! Гинуть! У ярмах лицарські сини, А препоганії пани Жидам, братам своїм хорошим, Остатні продають штани…Впервые Шевченко посетил древнюю белокаменную столицу. В это первое недолгое пребывание в столице Шевченко сблизился с гениальным русским актером, тоже бывшим крепостным, Михаилом Семеновичем Щепкиным. Щепкин был на двадцать шесть лет старше Шевченко, и в период знакомства с поэтом ему было уже далеко за пятьдесят. Позади были и тернистый путь к славе, и тяжкий груз житейского опыта, — сам артист любил говорить, что знает он русскую жизнь «от лакейской до дворца».
Он посвятил Щепкину стихотворение «Чигирин». «Пускай же сердце плачет, просит священной правды на земле!» — восклицает поэт и, как бы подводя итог своим впечатлениям от года пребывания на Украине, замышляет найти новые слова для новых дум о судьбе народа:
Думы душу мне сжигают, Сердце разрывают Ой, не жгите, подождите, Может быть, я снова Найду правду горестную, Ласковое слово Может, выкую из слова Для старого плуга Лемех новый, лемех крепкий, Взрежу пласт упругий Целину вспашу, быть может, Загрущу над нею И посею мои слезы, Слезы я посею. Пусть ножей взойдет побольше Обоюдоострых, Чтобы вскрыть гнилое сердце В язвах и коросте.В другом стихотворении, тоже посвященном Щепкину, он с болью говорит об обманутых надеждах:
Зачаруй меня, волшебник, Друг мой седоусый! Ты закрыл для мира сердце, Я ж еще боюся, – Страшно мне дотла разрушить Дом свой обгорелый, Без мечты остаться страшно С сердцем опустелым. Может быть, еще проснутся Мои думы-дети, Может, с ними, как бывало, Помолюсь, рыдая, И увижу солнце правды Хоть во сне, хоть краем!.. Обмани, но посоветуй, Научи, как друга, Что мне — плакать иль молиться, Иль виском об угол?Вернувшись в Петербург, он продолжает учебу в Академии и сдает очередной экзамен по рисованию. Создает одну из самых известных своих поэм «Сон» («У всякого своя доля…»), работает над очередным циклом «Живописной Украины», беспокоится о выкупе своих братьев и сестер на волю. Помещик запросил огромную сумму в 2000 рублей. Получает аттестат свободного художника…
…Повозку тряхнуло на ухабе, и Шевченко больно ударился головой, что вернуло его к действительности и происходящему вокруг. Повозка качалась и тарахтела. В голове снова родились воспоминания. Появилась физиономия студента Петрова. Захотелось плюнуть — не от ненависти или досады, а просто от презрения к негодяю и доносчику. Нечего и вспоминать. Нововзращенный герострат, чье имя запомнят разве что только потому, что будут помнить Кирилло-Мефодиевское братство и его героев. А значит, помнить будут и Петрова. А впрочем… Разве для того они мечтали о будущем, чтобы их помнили? Боже мой, да если бы кто сказал: «Тарас, ты хочешь, чтоб твой народ был свободным? Так для этого необходимо, чтобы ты умер и чтоб имя твое навеки все забыли. Согласен?» Он бы сказал: «Да!» О, господи… Да разве дело в его имени!..
Костомаров — где он теперь? Его добродушная, заплаканная мать Татьяна Ивановна как будто снова и снова заламывает руки: «Как жить? Что делать?»
Он думает о Яготине и о Варваре Репниной. Представил ее лицо, видел руки, протянутые к нему. Вспомнил, как один раз наедине в Яготине, он, почему-то в тот момент веселый, запел: «Была у меня девушка Варвара, она мне все кудри порвала». А Варвара услышала. Ему стало тогда неловко, и он сказал: «Это же так в песне поется», — а она рассмеялась и добавила: «Какая замечательная песня — боже мой!», и ее лицо осветило такое счастье, что Тарасу стало еще более неловко. Она часто рассказывала о женах декабристов, которые поехали в Сибирь за мужьями. Варвара тоже, наверное, поехала бы за ним…
Тарас опустил голову и заплакал. За все те долгие дни в каземате и на допросах он не мог себе этого позволить, держал себя в кулаке, но сейчас все было позади, и он плакал, как маленький ребенок, уткнувшись лицом в ладони.
Послышался голос фельдъегеря, погоняющего лошадей:
— Ну-у, проклятые!
А по сторонам пробегали все те же дикие, редкие кустики, а за повозкой тянулся шлейф пыли.
Как из тумана появилось лицо матери. Счастье ее, что умерла. Сейчас бы умерла с горя… О, как давно он не был на ее могиле, да и доведется ли еще когда-нибудь побывать?..
Тарас постучал по ручке повозки. Фельдъегерь Видлер сердито обернулся и спросил:
— Чего надо?
— И во всех грехах обвинил меня царь… Кони…
Видлер смотрел сердито и непонимающе.
— Но при чем здесь кони?!
Видлер смотрел и ждал, что арестант скажет дальше.
— Останови на минутку — ты же с них скоро дух выбьешь. За что?
Видлер махнул рукой и продолжил подгонять лошадей. Сквозь стук колес Тарас слышал, как они тяжело храпят…
Неожиданно повозка остановилась. Тараса толкнуло вперед, и он больно ударился лбом. Хорошо, что успел подложить руку и удар оказался не очень сильным.
Тарас посмотрел на лошадей и понял, что случилось.
Один из трех коней, что тащили повозку, упал на землю. Он лежал в пыли, красная пена пузырилась возле его ноздрей, голова вытянулась вперед, глаз остекленел. Видлер бегал возле коня, бил его нагайкой и сапогами, кричал. Загнанные лошади испуганно прядали ушами и шарахались вбок от нагайки.
— Вставай! — орал фельдъегерь.
Он вроде не видел, что конь сдыхает.
Охранник тоже, как немой, спрыгнул на землю, не выпуская из рук ружья, и наклонился над конем.
— Сдох, — прозвучал его бас. — Осталось двое. Если и дальше будем так гнать, сдохнут и они. Тогда и мы погибнем среди этих песков.
Видлер что-то прокричал в ответ неразборчивое. Но Тарас понял, что фельдъегерь рассердился на охранника за то, что тот нарушил приказ царя — во-первых, оставил государственного преступника без охраны, а во-вторых — разговоры, которые подрывают могущество империи. Конь, запряженный в государственную арестантскую повозку, сдохнуть не может — этот конь уподобляется царскому могуществу. А если и сдох, то нечего на это смотреть всяким бунтовщикам, которые от этого только злорадствуют. Государь всемогущ — поэтому ни одна повозка погибнуть не может.
Видлер еще с большей силой ударил мертвого коня, а потом осторожно схватил его за ногу — как будто боялся, что конь, даже мертвый, может ударить копытом. Видлер тащит его за ногу, но, наверное, его силы ушли на ругань — конь даже и не ворохнулся.
Стражник тем временем деловито отстегнул постромки и взялся помогать фельдъегерю.
Загнанные лошади стояли, опустив головы. А люди сопели, ругались, надрывались, но усилия их были безрезультатными.
Фельдъегерь посмотрел на Тараса. Он хотел сказать, чтоб арестант помог, но вовремя вспомнил суровое запрещение разговаривать с ним. Тогда он просто махнул рукой и отвернулся.
— Бедная лошадка, — громко сказал Тарас, вылезая с повозки. — Я же говорил…
Фельдъегерь, крайне утомленный тяжелой бессонной дорогой, руганью, криками, только сплюнул, чтоб не ответить арестанту хотя бы матюгом. Стражник все-таки ругнулся, но в сторону, и показал Тарасу, чтоб тащил за ногу.
Когда стражник, отложив ружье, наклонился над трупом коня, у Тараса мелькнула сумасшедшая мысль: а что если сейчас прыгнуть вбок, схватить ружье, и… И шарахнуть в одного, а потом в другого! А тогда — на коней и в степь, куда очи глядят! Ищи ветра в поле!..
Пересилив себя, наклонился над конем, взял за ногу — и потянул вместе со всеми. Краем глаза видел, как тащилась по песку голова коня с оскалом зубов и остекленевшим, налитым кровью глазом.
Когда они оттащили загнанного коня на обочину, стражник взял ружье и махнул рукой Тарасу, чтобы тот возвращался к повозке…
И снова дорога… И снова тяжелые мысли… Тридцать три года прожил на свете. А — ни дома, ни жены, ни детей. Все, что имеет в душе, — все отдано творчеству…
Он вспомнил Киев. Это было летом. Рано утром он проснулся где-то часа в четыре или в половине пятого. Быстро собрался и пошел рисовать Золотые ворота в сиянии утреннего солнца. Утро было чудесным и торжественным. За Днепром поднималось светило. Воздух был прозрачен, но вдали оно начинало краснеть. Вовсю голосили воробьи. Где-то подавали голос петухи. Мир был торжественный, как огромный храм. Рвались вверх, как приветствие утру, бани Софии. А Золотые ворота и действительно казались выкованными из красного золота. Солнце всходило — и казалось, что оно лучами, словно миллионами рук, раздвигает мир, он становится просторнее, прозрачнее и выше.
Тарас не шел, а бежал к этому чуду, всматриваясь в него жадными, ненасытными глазами.
Наконец нашел подходящее место, откуда особенно красиво сияли фантастические солнечные отблески на руинах Золотых ворот, на ветках деревьев и кустов. И все — на фоне неба, глубокого, прозрачного, насквозь пропитанного теплом и лаской. Он быстро устроился здесь со всеми своими инструментами и красками и взялся за работу.
И вдруг послышался детский плач. Сперва он не обращал на него внимания, пытаясь как можно быстрее положить на бумагу мазки, которые передавали бы фантастическую игру цветов на старинном камне. Но безутешный детский плач не прекращался, и Тарас не выдержал, бросив краски, поднялся. Ребенок плакал где-то за валом. Он пошел на плач, все еще удивляясь: откуда в таком безлюдном месте, в такое раннее время мог оказаться ребенок. Плач раздавался теперь почти что рядом, но ребенка не было видно. Тарас поднялся на вершину вала и, раздвигая кусты, пошел на голос. «Но где же этот ребенок?» — думал он, оглядываясь вокруг. И увидел! Внизу сидела девочка трех-четырех лет — грязная, заплаканная и, озираясь вокруг, звала: «Мама! Няня!» Тарас оглянулся. Нигде никого. Прошелся по валу — никого. А девочка плакала и в ее маленькой фигурке, в ее личике были обреченность и безнадежность. Тарас побежал вниз. Побежал к маленькой. Она перепугалась и заплакала еще громче.
Он стоял возле девочки и не знал, что делать. «Наверное, думает, что я какой-нибудь разбойник: наслушалась сказок», — решил сам себе Тарас. Но надо было что-то делать, как-то успокоить ребенка. Тарас приложил руки к голове, раздвинув пальцы и, сделав смешное лицо, сказал: «Бу-бу-бу!» Он думал, что девочка засмеется, но та заорала еще сильнее. Тогда он начал быстро искать в своих карманах, пытаясь найти конфету или пряник, но ничего такого не нашел. Но нащупал тюбик с краской — как он там оказался, он и сам не знал, — наверное, механически положил в карман, когда услышал детский плач. Он вытащил тюбик и показал. Девочка еще плакала, но ее большие зеленоватые глазики, из которых сбегали ручьи слез, остановились на тюбике. Тарас улыбнулся и сказал: «А сейчас я тебе покажу фокус!» Он порылся в карманах, нашел мятый клок бумаги и, выдавливая краску из тюбика, стал рисовать большое красное солнце и красную девочку. Девочка перестала плакать и подошла к Тарасу, который нарисовал такое чудо.
Когда он поднял голову, оторвавшись от бумаги, девочка уже стояла возле него и, засунувши грязный пальчик в ротик, смотрела на его работу. «А пальчик во рту держать не надо, — сказал Тарас, — а то заболеешь, животик будет болеть!» Девочка улыбнулась. Вынула пальчик изо рта. «Вот так! Да ты у меня умница, как я вижу. А что это я нарисовал?» Девочка посмотрела своими зеленоватыми глазенками и сказала: «Солнце и лялю!»
— Чудесно! — удивился Тарас. — Так ты, наверное, и рисовать умеешь?
Девочка ничего не ответила, а протянула пальчик к тюбику:
— Дай!
— Нет, этого я тебе не дам, — засмеялся он. — Пойдем лучше ко мне, там у меня есть карандаши и бумага, я тебе дам рисовать.
Он взял девочку на руки, она прижалась к нему всем своим тельцем, и он только сейчас почувствовал, какое это тельце маленькое и беззащитное.
«Чья же она? — тревожно подумал Тарас. — Не потерялась ли случайно? А может, сирота? Да, нет, не похоже»
На девочке было красивое голубое платьишко с оборочками, красные сапожки. Но откуда она взялась здесь в пять часов утра?
— Ты не замерзла? — спросил он и сразу почувствовал, что ребенку холодно, что оно сжалось и прижимается к его груди, ища тепла.
— Моя ты манюня, — сказал и почувствовал, что на глаза сами собой набегают слезы. — Как же тебя зовут?
Девочка не отвечала.
— Ну скажи дяде, как тебя зовут? — просил Тарас, поднимаясь на вал.
Уже на валу он снова посмотрел вокруг. Никого, только несколько телят паслись рядом и те без пастухов.
Солнце уже поднялось над Днепром, оно сияло над заднепровскими лесами, но то фантастическое соединение красок на стенах Золотых ворот и на небе не исчезло. Краски, правда, стали слегка мягче, но торжественная краса утра пронзала каждую частичку воздуха, каждое дуновение ветра.
Тарас вернулся на свое место, вынул из чемоданчика клетчатый платок и расстелил его на земле.
— Садись вот здесь, — сказал он, посадил ее. А потом снял с себя пиджак и набросил на нее. — Ну, хорошо тебе?
Она посмотрела на странного дядю и пролепетала:
— Ая.
— Что? — не понял Тарас. — Катя, Галя, Маня?
Девочка смотрела и не отвечала.
Он достал кусок бумаги, вынул несколько карандашей и сказал:
— Рисуй!
Девочка схватила карандаши и сразу принялась чертить бумагу вдоль и поперек.
А Тарас тем временем снова взялся за работу. Он спешил, быстро брал краски с палитры на кончик кисти и переносил ее на бумагу. Ему хотелось закрепить на бумаге всю эту красоту, все это утро, даже удивительное настроение от этого удивительного приключения, что с ним только что случилось.
Рисовал, а в голове стучала мысль: «Чей же он, этот ребенок?.. Так, сюда надо добавить красного, еще немножко… Чья же она? Наверное, мать ее живет где-то в тех домах, что возле Софии. Вот нарисую и пойду с ней туда… Ах ты ж, боже мой, какая чудесная линия! Она что-то мне не дается. Тоньше надо, тоньше, даже не линия это, а просто граница между цветами… А если она живет не здесь? Если она просто потерялась — и мать ее не найдет?.. Как не найдет? В этом государстве столько полицаев и жандармов, да секретных сыщиков — все найдут! Ну, то они ищут крамолу — на то и выучены. А что им этот ребенок? Отдадут в приют — вот и все. Как это в приют? А я не отдам. Не отдам — и все. Заберу себе. Будет у меня дочка. Шевченкова… Как же ее зовут?»
Он оглянулся и увидел, что девочка углубилась в свое рисование. Собственно, рисования никакого не было — она черкала и черкала бумагу, и это занятие, очевидно, ей нравилось.
— Галя! — тихонько позвал он ее.
Девочка даже не подняла головки. «Нет, наверное, не Галя, — подумал Тарас. — Гали бывают черными, а эта — белявая. Может, Катя?
— Катя! — позвал он.
И на этот раз девочка не среагировала. Она сидела и рисовала…
«Ладно, пусть будет Катя… Екатерина Тарасовна Шевченко, — размышлял Тарас. — Такая будет у меня дочь! Я ей не расскажу, что я ее нашел, пусть думает, что я ее настоящий отец… Куплю где-нибудь хатку над Днепром, и будем жить. Я ей каждый день буду сказки рассказывать, а как все расскажу, то придумаю новые…»
Он снова оглянулся на ребенка. Она уже не рисовала, а смотрела на него. И тут он подумал, как долго она здесь? Может быть, она здесь всю ночь плачет? Боже ты мой. Так она могла и испугаться навеки, и простудиться. Он поднялся, подошел к ней и положил ей руку на лобик, нет ли температуры. Лобик был холодный, а щечки горячие.
— Тебе уже не холодно? — спросил он.
Девочка замотала головой. Он снова взял ее на руки и прикоснулся щекой до ее лица.
— Колюций! — она засмеялась и погладила его по щеке.
Тарас неожиданно вспомнил, что где-то в чемоданчике должны быть баранка и яблоко. Он любил, рисуя, есть яблоки. Полез в чемоданчик и нашел там несколько яблок и баранку, вынул их, яблоко вытер платком и дал девочке.
Она схватила яблоко двумя ручками и потянула ко рту.
«Она же голодная! — сообразил Тарас. — А я сижу и рисую, любуюсь, как солнце всходит — и ни о чем не думаю!»
Девочка пыталась откусить яблоко, но оно было большое — и она никак не могла этого сделать. Она отложила яблоко и взялась за баранку. Надкусив ее, она неожиданно заплакала и сказала:
— Мама, мама!..
— Ну, не плачь, маленькая, — успокаивал ее Тарас.
Но она, вспомнив маму, плакала все сильнее и сильнее. Он взял ее на руки — и только тогда она немного успокоилась…
Тарас бросил свое рисование и начал мастерить ей какую-то игрушку из бумаги. Сначала хотел сделать ей казацкую лодку, но подумал, что она не мальчик — и ей будет неинтересно. После чего вспомнил, как видел в Петербурге у Ширяева одного мальчика, который умел делать чертиков из бумаги…
И именно в этот момент услышал чей-то голос:
— Тарас!
Оглянулся — то шел к нему, широко улыбаясь, Александр Чужбинский.
— Ого, Тарас, да ты, я вижу, уже за няньку! Что это за невеста?
— Не мешай, ты посмотри, у нас важное дело — мы черта делаем!
Чужбинский постоял немного возле них, а когда черта было так-сяк сделано и весело переименовано в куклу, Тарас, усадив девочку на платок, стал рассказывать, как он нашел девочку.
— Послушай-ка, брат, — попросил Тарас. — Ты посиди немножко, поиграйся с ней, а я еще порисую, потому что, когда солнце поднимется выше, освещение будет совсем другим. А мне именно это необходимо. Представляешь? Утро и Золотые ворота. Золотые ворота — в сиянии утреннего солнца. На горе. Вокруг — небо. Небо красивее, чем в Италии. А Золотые ворота — как будто руины Парфенона!
— Так Парфенон в Греции, — засмеялся Чужбинский.
— О-о! А ты и это знаешь! — в тон ему ответил Тарас. Он помолчал, а потом добавил: — Ну, я рисую! — и уже рисуя, продолжил говорить: — Эти руины — красивее всего рано утром. У них тогда вид не смурной, а радостный. Вернее — какое-то предчувствие радости и будущей победы. Как воплощение судьбы народа. Чтобы там ни было, как бы нас ни растоптала страшная и несправедливая история, но у нас впереди — слава и воля!
— Смотри, как замахнулся! — отозвался Чужбинский задумчиво. А потом, как будто пробудившись со сна, деловито сказал: — Все это так, но надо найти маму этой Золотоворотянки.
— Иди ищи, а я ее тем временем нарисую. Вот здесь, — он показал на бумагу. — Стоит и протягивает к солнцу ручки. Может быть, она и доживет до того времени!
— Ну, то я пошел, — сказал Александр. — Я быстро.
Девочка игралась с чертиком в куклы, а Тарас рисовал, забыв обо всем. Золотые ворота действительно вырисовывались на бумаге, как руины Парфенона. Стоят, застыв, но в этой неподвижности — порыв вверх, радость жизни, желание счастья…
Чужбинский ходил недолго. Пришел растерянный, растревоженный. Тарас рисовал и ждал, что он скажет.
— Ты знаешь, — промолвил Александр, — я обошел все вон те дома, везде спрашивал о девочке, но никто ничего не знает.
Тарас молчал и рисовал. Он знал: так думать нехорошо, но ему очень хотелось, чтобы девочка осталась с ним.
— Слушай, Тарас, — снова заговорил Александр, — надо идти в полицию.
— Подожди, я рисую!
— Это эгоизм. Ребенок голодный и холодный, а ты рисуешь, — рассердился Чужбинский.
Тарас посмотрел на небо, потом перевел взгляд на бумагу, вздохнул и начал собираться.
— Но мы сначала пойдем с девочкой домой, — сказал он, — а потом уже сообщим в полицию. Покормим ее, уложим спать, она же, наверное, всю ночь не спала.
— Пусть будет так.
Тарас взял девочку на руки, а Чужбинский — все его вещи, и они пошли.
— Куда? — пролепетала маленькая.
Тарас улыбнулся и сказал:
— Далеко-далеко.
— Я не хоцу даеко, я хоцу мама.
— А мы пойдем маму искать. Не плачь. Так ты мне скажешь, как тебя зовут?
— Ая.
— Галя?
— Угу!
— А почему ты не отзывалась, когда я тебя звал?
Галя, не понимая, посмотрела на него своими зеленоватыми глазками, и он понял, что она за рисованием тогда забыла обо всем и не слышала, как он ее звал.
— Я тебе спою песенку. Слушай!
И он начал потихоньку: «За городом утки плывут…»
Когда Тарас закончил пение, Галя попросила:
— Еще!
— Ах, так тебе еще! — И он запел про казаков. Которые ехали с Дона домой и обманули Галю, забрали с собой.
Он пел и представлял всю эту картину, и ему почему-то сделалось так жаль той неизвестной Гали из песни, что в горле перехватило дыхание, выступили на глазах слезы. Галя, которая сидела у него на руках, тоже заплакала.
— Ты чего плачешь? — спросил ее Тарас.
Но Галя не знала, что ответить, ей было почему-то тревожно и жалобно на душе. Он прижал ребенка к груди и стал ее успокаивать:
— Сейчас мы найдем маму!..
Они уже шли возле Лавры, когда из переулка выбежала заплаканная женщина. Тарас увидел ее первым — сразу как будто что-то сжалось у него в груди: это — мама. Он показал на женщину рукой и сказал:
— Галя! Мама!..
Девочка тоже закричала:
— Мама!
Тарас молча побежал навстречу женщине и передал ей ребенка.
Женщина плакала. Но уже счастливыми слезами.
— Господи! — непрерывно повторяла она. — Боже мой! Моя Галочка! Нашлась! А мы ее целую ночь искали… Наша Параска — нянечка ее — пошла с ней вечером гулять и не пришла домой. Мы сначала думали, что она где-то там у своих родственников задержалась, но прибежала соседская девочка и сказала, что видела Параску пьяной в канаве, спит себе, а ребенка возле нее нет… Мы бегали всю ночь, боже ж мой, моя Галочка!..
Тарас загрустил. Ему было жаль расставаться с девочкой. А еще грустно было на душе от того, что какая-то неведомая Параска пьяной завалилась в канаву спать.
— А почему она пьет, ваша Параска? — спросил он у женщины.
— Да… Вдова… Сына забрали в армию… Где-то на Кавказе и погиб… Вот и запила. А вообще — женщина хорошая, добрая… Ласковая… Только вот, как наступает день его рождения или тот день, когда ей похоронка пришла, так она будто сама не своя. И напивается тогда — не приведи господь…
— Вы не очень на нее сердитесь, — сказал Тарас. — Разве она виновата, что такое горе у нее?
— Конечно, — вытерев слезы, промолвила мать. — То все те нехристи-чеченцы.
— Если бы только они… — вздохнул Тарас.
Женщина улыбнулась сквозь слезы. Она была удивительно похожа на свою дочь — такая же круглолицая, серые глаза с зеленоватым отблеском, но волосы и брови — темнее.
— Пойдемте в нашу хату, чайку попьем, — пригласила она.
Тарас хотел уже было согласиться, вмешался Чужбинский:
— Тарас, нас же пригласили на чай и ждут. Неудобно.
— Кто?
— Петровские.
— А, тогда неудобно людей подводить.
Женщина понимающе улыбнулась.
— Ну что ж, — сказала она, — если сейчас не можете, то приходите в другое время. Наша хата третья с этого края — вон мальв возле нее полно. Джурило — фамилия моего мужа. А меня зовут Наталия Григорьевна.
Так и познакомились. Когда прощались, Галочка протянула руки к «дяде Тарасу» и что-то пролепетала. Он догадался и вынул несколько карандашей.
— Возьми себе от меня.
Хотел через несколько дней зайти к маленькой Галочке, накупил подарков, но круговерть дней закрутила — так и не зашел к маленькой…
«Где она сейчас? Что делает? Остался хотя бы один карандаш от „дяди Тараса“? Что она им рисует?» — с грустью подумал Тарас…
…Стало вокруг тихо. Тарас открыл глаза. Рядом с повозкой стояли Видлер и стражник.
— Что, уже приехали?
Он опустился на землю — и чуть не упал. Ноги как будто стали деревянными, все тело было в поту, рубашка прилипла к спине…
Глава 3. В Оренбурге
Долго стучали фельдъегерь и стражник кулаками в дубовые окна и двери. Наконец заспанный сторож, от которого тянуло сивухой и потом, открыл двери и приезжие вошли в канцелярию.
— Где дежурный офицер? — строго спросил фельдъегерь.
— Так что их благородие ушли и приказали их не беспокоить, — просипел сторож и начал зажигать свечу от лампады в переднем углу.
— Я арестанта привез. Государственного преступника… Пойду к коменданту, а он пусть здесь остается, — продолжил фельдъегерь, указывая на Тараса. — Ты за него отвечаешь. А вы, пан арестованный, не вздумайте тут взбрыкивать. Только себе навредите, — добавил он уже с порога.
Стукнули тяжелые наружные двери. Шаги фельдъегеря и жандарма, удаляясь, затихли за окнами.
Шевченко молчал. Дорога измучила его до предела. Все виденное в дороге — все смешалось в какой-то пестрый хаос.
— Кушать хочешь? — спросил, зевая, сторож. — Краюху хлеба найду и водицы попить. А горячего… если бы немного раньше приехали…
— Дай воды, а есть не буду, — ответил Шевченко и сел на лаву.
Сторож принес большой штоф с водой и, пока Шевченко долго и жадно пил и никак не мог напиться, говорил, почесывая волосатую грудь:
— А спать тебе в сенях придется. Ложись, брат, не сомневайся. Пол чистый: Аниська его сегодня ножом выскребала, а блох или клопов у нас нет.
Сторож закрыл внешние двери на тяжелый железный засов с висячим замком величиной с московский калач, забрал ключ, пропустил в сени Шевченко, закрыл его с канцелярии и поучительно добавил через дверь:
— Ты только там курить не вздумай… У нас за это и «зеленой улицей» прогнать под барабан могут.
Долго стоял он там неподвижно. Привыкал к темноте. Пытался понять, где же он сейчас.
Тарас сел на пол. Тишина аж давила, она казалась чем-то замогильным, потусторонним. Уснуть бы? Но не спалось. Забыться? Но от мыслей никуда не деться. А тут еще и зуб разболелся. У него сейчас единственное оружие — его нервы. Не поддаться слабости. Не запить, не застрелиться. Выдержать, выдержать!..
Он так и не уснул. Где-то рядом запел петух, — как когда-то в родной Кириловке. В другой обстановке Тарас, наверное, не обратил бы на это внимание. Теперь же, в гнетущем одиночестве, он обрадовался петушиному пению, он даже расслышал взмах крыльев пернатого крикуна.
— Оксано!..
Или то вырвалось из груди, или подумал о ней?
Оксано, чужа чорноброва, І ти не згадаєш того сироту. Що в сірій свитині, бувало, щасливий. Як побачить диво — твою красоту; Кого ти без мови, без слова навчила Очима, душею, серцем розмовлять, З ким ти усміхалась, плакала, журилась. Кому ти любила Петруся співать. І ти не згадаєш… Оксано! Оксано! А я й досі плачу і досі журюсь…Не спалось, а ночь — как море, такие же долгие, бесконечные шаги часовых, которые переговариваются шепотом, прислушиваясь, спит ли арестант Тарас Шевченко.
А арестант всматривался в ночь и читал сам себе. Рождались новые строки еще не написанных поэм. Что-то сдавливало горло, но он читал, читал…
…Було, вночі Сидить під тином, мов зозуля, Та кукає, або кричить, Або тихесенько співає Та ніби коси розплітає.«Не надо поддаваться отчаянию, — успокаивал сам себя. — Кто-то где-то сказал: „Если рот полон крови, то перед врагом плевать нельзя…“»
Так прошла первая Тарасова ночь в Оренбурге…
В канцелярии губернской пограничной комиссии ужасная жара. Яркое июньское солнце светит в окна и так раскалило комнату, что волосы Михаила Лазаревского прилипли ко лбу, а пот ручьями стекает с лица и капает на «Дело», развернутое у него на столе. Невыносимо тяжело сидеть в вицмундире с тесным крахмальным воротником, но день рабочий, время служебное, а при исполнении служебных обязанностей надо быть одетым по установленной униформе. Лазаревский искренне завидует младшему писарчуку Степе, который сидит на сквозняке возле дверей в синей ситцевой рубашке и тяжело вздыхает. Другие столы, справа и слева от Лазаревского, — не заняты. Его приятель, земляк и коллега Сергей Левицкий, пошел на почту получить посылки от матери и старой тети, и Лазаревский заранее смакует, с каким наслаждением будут они пересматривать новые журналы и книги, лакомясь вкусными колбасами, наливками и другими продуктами, которыми одновременно с пищей для ума снабжали их любящие родители и родственники с Черниговщины. Другой сосед его, секретарь, а вернее, старший писарчук Галевинский, пошел за давно уже заказанными бланками.
«Воспользовался моментом, что начальник отъехал, — подумал о нем Лазаревский, — забрался к знакомым панночкам в сад и угощается черешнями с дерева, а ты тут поджаривайся, как карась на сковородке».
Усилием воли он заставил себя углубиться в работу. Надо изложить последствия обследования по случаю одной запутанной жалобы, где сам черт ногу сломит даже в прохладную погоду, а не в сорокоградусную жару. Трижды начинает он писать наново и трижды бросает написанное…
— Степка, голубь мой! — просящим голосом обратился он. — Принеси бутылку квасу холодного.
Но не успел Степка промелькнуть в дверях своей синей рубашкой, как в канцелярию влетел писарь Галевинский и, кинув на письменный стол пачки свежеотпечатанных бланков, взволнованно крикнул:
— Сегодня ночью привезли Кобзаря!
— Чего ты орешь? У меня есть «Кобзарь», — сдержанно остановил его Лазаревский. — Лучше посмотри: все бандероли разорваны и бланки рассыпались.
— Да не о книге речь. Автора привезли, Шевченко! Того, что написал «Кобзаря», — сказал Галевинский, подбирая рассыпанные бланки. — Я встретил дежурного офицера, которому петербургский фельдъегерь сдал его утром. Сейчас он в крепости, в пересыльной казарме.
«Не может быть! В казарме! Значит, забрали в солдаты? Или в ссылку?!» — промелькнули мысли в голове Лазаревского.
Галевинский еще что-то рассказывал о бланках, о типографии, но Лазаревский не слушал.
«Надо немедленно найти Шевченко, выразить ему все, что собралось в сердце в одинокие зимние вечера и ночи, что передумалось, читая „Кобзаря“! Надо ему помочь. Немедленно, сейчас!» — думал он.
Одним движением смахнул он в ящик письменного стола и почту, и начатый доклад, сорвал с гвоздя фуражку, с расхристанным вицмундиром и жилетом вылетел на улицу и почти побежал в сторону крепости…
На рассвете Шевченко отправили к коменданту крепости генералу Лифлянду.
Генерал по-быстрому ознакомился с «делом» прибывшего и заинтересованно поднял на него глаза.
Поэт спокойно смотрел на старого генерала. На вопросы отвечал коротко, и корректно, и с таким достоинством, что генералу стало неудобно говорить ему «ты», как положено по уставу.
Но в приговоре ясно сказано, что этот художник и поэт — человек очень опасный для государства. Это никак не вмещалось в сознание генерала, и он признал за лучшее не вникать в эти дела и тоже лаконично и корректно объяснил поэту, что он будет зачислен в пятый линейный батальон и через несколько дней отправлен к месту службы. Потом генерал распорядился, чтоб Шевченко повели в баню, выдали чистое белье и зачислили на полное обеспечение.
В бане Шевченко с наслаждением отмыл дорожную пыль и грязь, потом пошел к парикмахеру. Тот усадил Тараса на табуретку, и над его ушами долго позвякивали острые ножницы, снимая буйно отросший волос и двухмесячную бороду.
Потом, положив ножницы, парикмахер взялся за бритву.
— Дайте! Я сам побреюсь, — сказав Тарас, протянувши руку к бритве.
— Не разрешается! — сурово отказал парикмахер. — Тут случались такие жиганы: дай ему бритву, а он — другого или сам себя по горлу — чирк. Одно слово, штрафной батальон!
— Да ты не бойся: я тебя не порежу, — продолжил парикмахер. — Не только солдат, господ офицеров и самого генерала ежедневно брею.
— Оставьте мне хотя бы мои бачки, — попросил Шевченко.
— Не разрешается, — категорически отрубил парикмахер. — Но зато солдатам усы разрешены. А в коннице так даже обязательно. Лихой вид от них у солдата, — говорил парикмахер, намыливая Тарасу щеку. — Хочешь, усы тебе для лихости оставлю? Ваш брат хохол всегда при усах.
— Ну что ж, оставь, — неожиданно улыбнулся Шевченко. — Буду с усами, как запорожский казак.
Наконец, любуясь своей работой, довольно клацнул языком:
— Все в аккурате! Не кавалер — картинка!
Он вытащил из-за обшлага мундира маленькое копеечное зеркальце и подал его Тарасу.
Тарас последний раз смотрел на себя пятого апреля, одетый во фрак. На постоялом дворе под Киевом в Броварах, когда цеплял к лацкану маленький букетик флердоранжа, как свадебный боярин профессора Костомарова. С тех пор прошло два месяца, но с этого поганенького зеркала посмотрел на него незнакомый взрослый мужчина с глазами, в которых застыла такая безграничная грусть, что Шевченко невольно ужаснулся.
На десять лет постарел он за эти два месяца: от носа до уголков губ залегли глубокие скорбные морщины. Еще не совсем отросшие усы торчали над опущенными уголками рта моржовой щетиной…
В казарме Тарас лег на нары ничком, удрученный разительной сменой своей внешности.
Он лежал молча. Да и говорить не с кем было в этой полупустой казарме, где несколько таких же «забритых», как и он, коротали последние дни перед этапом.
Шевченко закусил губы и отвернулся к стене, но через несколько минут поднялся и ударил по нарам кулаком:
— Хватит! Надо научиться держать свои нервы в руках. Надо научиться управлять собственной мимикой, создать себе маску, чтобы ни глаза, ни линии губ, ни движение бровей не выражали затаенной боли. И я этого добьюсь!..
В этот момент какой-то необычной вихлястой походкой к нему приблизился человек лет тридцати с блестящими смолисто-черными глазами и такой же шапкой волос.
— Разрешите отрекомендоваться. Козловский, Андрей Козловский! Дворянин!
— Шевченко, — сухо сказал поэт, но руки не подал.
Козловский и бровью не моргнул на такое приветствие и без приглашения сел рядом.
— Оказались мы, мон шер, можно сказать, на краю света. Вас за что сюда запроторили, если это не секрет?
Манеры и развязный тон Козловского раздражали и коробили Тараса, и он ответил уклончиво и неясно.
— Да так, знаете… Кое-что написал, кое-кому не понравилось…
— Векселечки? — по-своему понял Козловский и даже обрадовался. — Вот и я тоже подмахнул несколько. У нас с папахеном почерк схож, можно даже сказать — одинаковый. Оба — Козловские, оба Андреи. Ну, настал срок. А он, старый черт, — взбесился. Я, говорит, горбом наживал, а ты проигрывать будешь?! Ну, один, другой раз мамахен спасла, а потом он меня и запроторил… Кощей проклятый!.. Подохнет же, в гроб с собой не заберет. Ну да я ему еще все припомню! — свирепо блеснул он глазами. — Мы с ним еще когда-нибудь посчитаемся!
— Извините великодушно, — прервал его Шевченко. — Все это очень грустно, даже трагично, но я восемь суток не спал. От тряски все тело ноет. Поговорим в следующий раз.
— Понимаю-с! Компрене и пардон, — схватился Козловский. — Пойду! Но… не найдется ли у вас в долг… Ну хотя бы на четверть штофа или на «мерзавчик»?
И вдруг лицо его из чванливого стало униженным и жалким, как у голодной собаки, что увидела хлеб.
Шевченко поискал в кармане и дал ему несколько медяков.
— Сердечно благодарю! Желаю хорошего отдыха.
И той же вихлястой походкой пошел к выходу, а Шевченко снова лег на нары, но сна не было. Мысли кружились в голове потревоженным роем.
Будущее стояло перед ним непрозрачным темным занавесом, а все, что окружало его, казалось какой-то клоакой, в которой должно догореть его жизнь. Он поднялся, подошел к бачку, попил воды. Вернулся на нары и начал читать Библию. Это единственная книга, которую ему разрешили взять с собой. Он вбирал в себя эти старинные слова, наполненные для него тайного смысла и сладкой горькости воспоминаний о далеком детстве, что было таким нищим и жалким, но теперь ему казалось прекрасным. И душа его понемногу оттаивала теплой нежностью мыслей о нем и понемногу освещалась неясной надеждой на такую нереальную, придуманную свободу…
Лазаревский нерешительно подошел к нарам и спросил, запинаясь:
— Извините, вы Шевченко? Вы наш Кобзарь?
Шевченко не спеша отложил Библию и взглянул на Лазаревского недоверчивым и неприветливым взглядом, потом медленно поднялся.
Что ему надо, этому молоденькому чиновнику в расхристанном вицмундире, с форменной фуражкой в руке? После всего пережитого со дня ареста в каждом чиновнике видел он или подозревал филера или провокатора, как Петров и другие, которых подсаживали к заключенным в казематах Третьего отделения. В лучшем случае это просто провинциальный обыватель, такой себе Бобчинский или Добчинский, для которого появление засланного «сочинителя» если не сенсация, то, по крайней мере, интересная новость, тема для разговоров с оренбургскими панночками и дамами, которым так легко морочить головы, рассказывая «под секретом» как будто бы большие тайны.
— Чем могу служить? — спросил Тарас так сухо, что у любого другого посетителя сразу же отпало бы желание продолжить разговор.
Но Лазаревский ничего не замечал. Он только знал, что это Шевченко — тот удивительный чародей слова, который впервые заставил родной язык звучать с такою силой и красотой, с которой зазвучал русский язык под волшебным пером великого Пушкина и Лермонтова.
— Боже мой! Где слова найти, как выразить, сколько радости, сколько чудных минут пережил я над вашим «Кобзарем»! — проговорил он, сложивши руки на груди. — Да мы с Сергеем Левицким всю зиму читали вас и перечитывали! Наизусть мало не всю книгу выучили. А «Гайдамаки»! Выписали их и считали дни, когда их наконец получим. И во сне не видели, что доживем до встречи с вами! Это же такая… такое…
Он вдруг замолк, поняв, что нельзя назвать радостью или счастьем эту скорбную встречу, и в порыве обожествления и сочувствия стиснул Тараса в объятиях.
Неуловимым движением плеча Шевченко освободился от его объятий и, не смотря на него, все еще сухо ответил:
— За хороший отзыв о моих произведениях — спасибо. Рад, что мог сделать вам приятное.
— Приятность — мало сказать. Это такая радость… Мы так грустим здесь, на чужбине. Ведь мы ваши земляки — черниговцы. Назначали нас сюда после окончания университета. Третий год служим, а служба такая нудная, — вздохнул юноша, что Шевченко впервые внимательно глянул на него изучающим, хотя еще и недоверчивым взглядом.
Лазаревский сидел на самом краешке нар и смотрел на своего любимого поэта так, как смотрят школьники после спектакля на знаменитых актеров, потрясенные их игрой, и вместе с тем с такою жгучей жалостью, что Тарасу стало неудобно за свою недоверчивость и сухость. То горький опыт последних месяцев раскрыл перед ним такую сторону жизни, которая подсказывала эту едва ли лишнюю осторожность.
Лазаревский хотел сразу выразить все, что имел в сердце, и сразу узнать все о любимом поэте. Он замялся, растерялся. Не хватило духа спросить о самом страшном: за что и кто посмел сделать такое с поэтом. Его же даже не на вольное поселение привезли, как некоторых других политических, а отдали в солдаты, да еще и в один из батальонов Оренбургского пограничного линейного округа, что рядом с дикой степью, где так часто нападают на жалкие крепости и пограничные посты полуразбойничьи племена Коканда и Хивы.
— И где же вы будете служить? Куда вас отправляют?
— Не знаю. Записали в пятый линейный батальон и ближайшими днями отправят к месту службы, — ровным голосом повторил Шевченко то, что сказал ему утром комендант.
— Хотя бы здесь вас оставили! — вздохнул Лазаревский. — В городе все же таки легче. Я позабочусь. Я добьюсь… Здесь есть хорошие, честные люди, — вспыхнул он сразу весь желанием немедленно действовать. — Вы только скажите, чего бы вы хотели и чем я могу быть вам полезным, а я…
Шевченко покачал головой:
— Благодарю, в помощи не нуждаюсь. Сам себе буду помогать. Не пропаду…
Лазаревский смутился и растерянно расстроился.
— А все ж таки… Ведь я перед вами в таком неоплатном долгу! За все прекрасное, что я передумал над вашим «Кобзарем»! На простых людей и даже на киргизов смотрю я теперь совсем иначе. Да вы сами не знаете, как много света и правды высвечивает каждое ваше слово!
Ему перехватило дыхание, губы задрожали.
— Ну хорошо, — мягко заговорил Шевченко. — Когда мне что-то понадобится, я вам скажу и вы мне поможете.
— Да! Да! Конечно.
Лазаревский схватил руку Тараса и стиснул ее обеими руками.
— Вы только не падайте духом. Это все временно. Все пройдет! Держитесь!
Тарас поднялся, давая понять, что время заканчивать разговор. Лазаревский покраснел и тоже поднялся на ноги:
— Да, да. Вы правы, Тарас…
— …Григорьевич, — подсказал поэт, провожая своего нового друга, и на этот раз тепло и крепко пожал ему руку.
Как на крыльях, летел из крепости Лазаревский, полный решимости немедленно хлопотать, чтобы как-то облегчить судьбу Шевченко, хочет тот этого или нет. Не постучав, влетел он в кабинет начальника краевой пограничной комиссии генерала Ладиженского, к которому в обычное время заходил только в служебных делах и даже со страхом.
— Ваше превосходительство! — обратился он с порога. — Шевченко привезли! Нашего славного Кобзаря! Я видел его, говорил с ним. Такое несчастье! Надо ему как-то помочь!
Генерал удивленно поднял глаза, внимательно посмотрел на юношу, и вокруг его обычно таких суровых стальных глаз собрались веером мелкие морщины и теплая улыбка скользнула и спряталась под усами. Он понял этот горячий и искренний порыв души, но надо было как-то его охладить, чтоб и на эту белявую голову рикошетом не упал жестокий удар. И, придав голосу суровой официальности, генерал сказал:
— Во-первых, надо, молодой человек, здороваться, а во-вторых, наверное, Шевченко заслужил свою горькую долю. Кроме того, к таким делам надо подходить сугубо осторожно и подумать, прежде чем высказывать свое сочувствие к осужденному, а тем более возмущаться приговором суда. А вообще, — повысил он голос, — меня чрезвычайно удивляет, как вы осмелились обратиться ко мне с такой просьбой. Учреждение, которое я возглавляю, не имеет никакого отношения ни к Третьему отделению, которое рассматривает подобные дела, ни, тем более, к военному ведомству, к которому теперь относится Шевченко. Так что со всех сторон я не имею никакой возможности и права вмешиваться в судьбу вашего протеже.
Лазаревский растерялся, что-то сказал невразумительное и, уронив фуражку, вылетел из кабинета. Генерал вздохнул и покачал головой:
— Вот так и губят себя эти экспансивные юноши… И сейчас он может попасть в плохую историю. Но сколько еще в нем свежести, неиспорченности! Третий год на службе, а до сих пор горячий, как студент.
Генерал встал, поднял с пола фуражку, еще раз покачал головой и позвонил:
— Догони пана Лазаревского, — приказал он курьеру, — и отдай ему фуражку.
Грустным и угнетенным вернулся Лазаревский в свою канцелярию, и вместе с Левицким и Галевинским начали думать, как и чем помочь Шевченко. После долгих споров они единогласно решили обратиться к полковнику Матвееву, чиновнику для особых поручений при Оренбургском военном губернаторе, которого считали в Оренбурге всесильным.
Матвеев был из уральских казаков и осуждал в душе николаевский режим, который сильно ограничивал старые традиционные привилегии яицких казаков. Он был человеком искренним и прямым. Выслушав Лазаревского, он был явно взволнован. Лазаревский умолял его оставить Шевченко в Оренбурге, где были гуманные и образованные люди, хорошие врачи, была библиотека и худо-бедно культурная жизнь. Полковник ничего не обещал, но юноши вышли от него окрыленные надеждой, были уверены, что, во всяком случае, их обращение не будет забыто.
Но, когда на следующий день Матвеев пересмотрел дело Шевченко, выяснилось, что он уже «зачислен в Оренбургский линейный № 5 батальон, с учреждением за ним строжайшего надзора» и что приказ о зачислении поэта в пятый линейный батальон, расквартированный частично в Орске, частично в соседних крепостях, уже подписан, а копию его повез нарочный в Петербург, в военное министерство.
Такая поспешность очень удивила Матвеева. Он даже послал верхового вслед за нарочным, но фельдъегерь Видлер в то же утро выехал из Оренбурга назад в столицу и взял нарочного в свой тарантас. Посланец Матвеева, едва не загнавши коня, вернулся назад с первой почтовой станции, так и не выполнив приказ полковника…
Вечер. В вечернем воздухе острее ощущаются запахи степной полыни. Спадает жара. Легко стало дышать, и горожане шире раскрывают окна, наслаждаясь вечерней прохладой.
Левицкий с Лазаревским сидят возле окна, пьют чай, переглядывают свежие номера «Современника», «Отечественных записок» и «Северной пчелы» и перебрасываются короткими фразами. Вдруг Лазаревский отложил книги, отодвинул стол и выглянул на улицу. Он сразу заметил вдали среднего роста мужчину в круглой фетровой шляпе и сером плаще. Прохожий шел медленно, иногда даже останавливался, внимательно рассматривая дома.
— Это он! Шевченко! — вдруг выкрикнул Лазаревский и стремительно выбежал из комнаты.
И не успел Левицкий застегнуть воротник своей украинской вышиванки, как Лазаревский уже ввел в комнату Кобзаря.
— Знакомьтесь, дорогой Тарас Григорьевич, это мой земляк и наилучший приятель, Сергей Левицкий. Мы с ним вместе учились в Черниговской гимназии и одновременно окончили университет, только я киевский, а он — харьковский. А теперь служим здесь в пограничной комиссии… Есть у меня здесь и старший брат Федор, — продолжал горячо Лазаревский. Он тоже работает в пограничной комиссии, но не в Оренбурге, а в одной из местных крепостей.
— Не в Орской случайно? — спросил Шевченко, присаживаясь.
— Нет, в Троицкой. А почему вы спросили об Орске?
— Потому, что мне придется служить в Орской крепости. Так, по крайней мере, мне сказал сегодня какой-то полковник.
Приятели тревожно переглянулись. Неужели Матвеев их обманул? А Шевченко говорил дальше, положив шляпу на подоконник и вытирая вспотевшее лицо:
— Вызвал меня сегодня утром и принял как доброго знакомого: подал руку, пригласил присесть и сказал, что думал оставить меня в Оренбурге, но приказ о моем назначении, оказывается, уже подписан и отменить его он не имеет права. Расспрашивал о Петербурге, о Брюллове и Жуковском. Вспомнил Пушкина, который лет пятнадцать тому приезжал сюда собирать материал о Пугачеве. Долго мы с ним разговаривали, и он дал мне на два дня «увольнительную».
Молодые черниговцы снова переглянулись:
— Ну, теперь можно вам признаться, дорогой Тарас Григорьевич, что мы вчера с ним о вас говорили. Это Матвеев. Он очень порядочный и гуманный человек, и, если бы мог… Сейчас пока очень трудно вам как-то помочь, но со временем, я уверен, все как-то устроится… Но что же мы так сидим?! — оживился Лазаревский. — Аксинья! Поставь нам быстренько самовар, — крикнул он служанке. — Да с ледника тяни все, что нам прислали родители. А яичницу жарь на троих.
Друзья радостно расставляли на столе украинские колбасы, сухие охотничьи сосиски, бутылки запеканки и старого меду, сухое киевское варенье…
— Это нам родители прислали, как будто бы знали, какого дорогого гостя придется угощать, — говорил Левицкий, открывая бутылки.
Шевченко разволновала такая теплая встреча и то, что впервые после нестерпимо тяжелого путешествия и отвратительного каземата он наконец снова оказался в уютной комнате, среди земляков, где каждая мелочь напоминает ему о далеком и бесконечно родном. И ему стало неловко за свое недоверие и сухость при первом знакомстве с Лазаревским в казарме.
На столе уже пыхтел самовар, шипела поджаренная колбаса. На огромной сковороде, как цветы одуванчиков, горбатились желтки яичницы. Левицкий разлил по чаркам настоянную на тмине и анисе водку. А рядом домашние настойки и наливки блестели рубином и как будто пахли родным украинским солнцем.
Беседа стала легкой и непринужденной. Нашлись общие знакомые в Киеве и на Черниговщине, которую Шевченко объездил вдоль и поперек. Вскоре Тарасу уже было ясно, что перед ним за люди, и он рассказал им про Кирилло-Мефодиевское братство и о том, в чем его обвинили.
О допросах он рассказывал… В каждом разговоре бывают неожиданные паузы. И вот когда такая минута молчания прервала его течение, Тарас поднялся. Подошел к окну и, глядя на первые звезды, неожиданно заговорил о том, что так ему наболело:
— Хуже всего — это бессонные ночи в тюрьме, когда нет возможности забыться или отдохнуть. Чувствуешь себя как будто в каменной могиле, с завистью смотришь на воробьев, которые шумят за окном… Знаете, — заговорил он почти шепотом, — мне хотелось тогда превратиться из человека в тысячу таких воробушек и улететь через решетку из того проклятого каземата… Лежишь вот так и спишь ли, бредишь ли, и тебе уже кажется, что и эти мысли твои подслушали палачи, и бросятся тебя искать, и начнут отрывать птичкам крылья, головы, давить их тельца, в которых прячется твоя душа. И когда ты станешь снова человеком — выявится, что они раздавили твои глаза или разорвали твою печень, как у Прометея…
Губы Шевченко дрогнули. Он налил себе стакан вина и одним духом выпил его. В глазах Лазаревского стояли слезы, Левицкий смотрел в землю.
— А вы что-нибудь там написали? — спросил он, с усилием овладев собой.
— Написал. Я так и назову эти стихи: «В каземате».
— Почитайте нам, если вам не будет неприятно, — попросил Лазаревский.
Шевченко задумался.
— Некоторые из них я посвятил Костомарову, — заговорил он не сразу. — Хороший он, честный человек, но живет как будто на небе. Думает, что самими школами и образованием можно сделать людей гуманными и благородными. Мечтатель, прекраснодушный мечтатель… Нет! Вокруг нас — слезы, нищета и рабство, жестокое рабство, в котором родился и я. И словами крокодилов не ублажишь! Тут сила нужна. Войско, пушки и гильотина. А Костомаров — не боец… Но я люблю его. Люблю и ценю. Его посадили в тюрьму, после этого будет ссылка.
Шевченко на мгновение замолчал, может, вспоминая начало стиха, потом стал читать. Сначала голос его звучал ровно и мягко, но понемногу стал крепчать, зазвучав трагической силой:
…Молітесь богу І згадуйте один другого, Свою Україну любіть. Любіть її. Во врем’я люте, В останню тяжкую минуту За неї господа моліть!— Прекрасно! — одним вздохом ответили Тарасу юноши. — Пожалуйста, еще!
И Шевченко снова читал.
Левицкому и Лазаревскому казалось, как будто бы видят и камеру с очком в дверях, и весеннее солнце за окном, и пушистые тучки, и грустные глаза поэта, углубленного в свои воспоминания, когда он смотрит сквозь решетку, как еле бредет тюремным двором старенькая мать Костомарова на последнее свидание с сыном, и то, как Кобзарь благодарил судьбу, что отец и мать его уже в могиле и некому разрывать сердце за него, за его грустную судьбу.
Лазаревский не выдержал, отвернулся и, стыдясь своих слез, кулаком вытирал глаза.
— Еще! — глухо просил Левицкий.
Глаза Шевченко тоже блестели непрошенной влагой, но он сдержался и сказал:
— Ну, хватить разрывать ваши нервы! Прочитаю вам одно стихотворение веселое, хотя и написанное тоже в каземате.
И неожиданно усилившимся голосом начал:
Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, А матері вечерять ждуть. Сем’я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, Дочка вечерять подає, А мати хоче научати, Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати Маленьких діточок своїх; Сама заснула коло їх. Затихло все, тілько дівчата Та соловейко не затих.Левицкий и Лазаревский подняли головы. Перед ними явился мирный весенний вечер, слышалось гудение майских жуков, трели соловейка. Слова были такие простые, что, казалось, это даже не стихи, а настоящая картина ожила со всеми ее звуками, ароматами, легким теплым ветерком, что так нежно ласкает лицо своим бархатным касанием. Исчезли стены их небогатого холостяцкого жилья. Это была родина, ожившая на чужбине силой таланта.
Тарас умолк. Сидел, крепко стиснув руками виски.
— Я уверен, что ваши друзья в Петербурге добьются вашего освобождения. Это же такие влиятельные люди, — сказал Левицкий.
— Умирающему всегда говорят, что он выздоровеет, а приговоренному к смертной казни — что его помилуют, — горько улыбнулся Шевченко. — А вообще немного видел я свободы: родился рабом, вырос в рабстве, потом оказался на свободе, но ненадолго. И вообще, есть ли она у нас, в России, та самая свобода? Все мы как собаки на цепи, только у одних она немного длиннее, а в других короче. Ну, да хватит об этом говорить, — стукнул он кулаком по столу. — Это все — нервы, а силы у меня хватит. Еще увидим!
Вошла Аксинья с самоваром. Заварили свежий крепкий и ароматный чай. Шевченко пил его с ромом и с наслаждением чувствовал, как приятное, животворящее тепло разливается по телу.
— Хорошо, — сказал он, ставя пустой стакан. — А в прошедшие ночи меня даже трясла лихорадка. Застудился я в дороге: от Петербурга и аж до самой Волги ночами был собачий холод, а шинель дали мне худенькую, вытертую.
— Ложитесь завтра в военный госпиталь, — обрадовался Лазаревский. — Возможно, из-за болезни вас здесь оставят.
— Нет, — отрубил Шевченко, — как-нибудь выкручиваться — это не для меня. Потрусит немного и пройдет, присохнет как на собаке. Расскажите мне лучше об Орской крепости. Наверное, это какая-нибудь дыра, если запроторил меня туда наш «благочестивейший, самодержавнейший»?
— Да как вам сказать… Мы там не были, но все наши крепости — такие же, как Белогорская из «Капитанской дочки» Пушкина. Это на юго-восток от Оренбурга.
— А как вам нравится наш город? — спросил Левицкий, чтоб отвлечь Шевченко от мыслей о горьком будущем.
— Паршивый город, — искренне вырвалось у поэта. — Идешь улицей, а по обе стороны заборы выше головы и ни дерева, ни кустика, и все выставились так бесстыже, ничем не прикрытые; хотя би плющом или хмелем, или виноградом прикрылись, и ни одной грядочки цветов не увидишь под окнами. Да и имя у него ослиное: Оренбург. Это же значит долгоухий город?
Друзья непроизвольно рассмеялись.
— Ошибаетесь, дорогой Тарас Григорьевич! «Бург» это действительно немецкое слово, но «орен» происходит не от слова «уши», а от названия речки Ори, на которой стоит как раз Орская крепость, а когда-то был Оренбург. Позднее подсчитали, что верхний Урал беднее на воду для большого города, и перенесли город сюда, где Урал многоводнее.
— Вот оно что, — с интересом сказал Шевченко. И вдруг затянул сильным приятным баритоном:
Ой у лузі та і при бере-езі…Левицкий, что имел на удивление красивый тенор, сразу же подхватил песню, и их голоса полились, мелодично переплетаясь. Лазаревский тоже понемногу подтягивал, хотя голос имел слабенький.
После этой песни запели другую, потом третью. Не забыли и «Зіроньку», любимую песню поэта. Пение сменялось разговором. Вспоминали Киев, студенческие шутки и выходки… И снова пели песни, которые звучат везде, куда бы ни забросила судьба сынов ласковой и солнечной Украины.
Левицкий вытащил еще одну бутылку крепкой наливки-терновки и налил всем по полному стакану. Хмель мягко вдарил им в голову, и они снова запели, когда вдруг из резного домика стенных часов выпрыгнула кукушка и громко закуковала. Шевченко схватился за голову:
— Беда! Половина второго! А в крепость после двенадцати не пускают!
— Не беда, ночуйте у нас, — не растерялись юноши. — Завтра, то есть сегодня — воскресенье, и мы успеем вас спасти от неприятности через того же Матвеева.
— У меня увольнительная на два дня, — успокоил их Шевченко, — но я приношу вам заботу.
— Что вы! — выкрикнул Лазаревский. — Мы очень рады! Только у нас две кровати, а хозяйка уже спит. Мы ляжем вдвоем на Сергеевой, а вы на моей.
— Нет! Так не годится, — запротестовал Тарас. — Предлагаю другой вариант. Кладем матрацы на пол и ложимся все трое поперек. Согласны?
Поднялся веселый шум. Отодвинули стол, стащили матрацы на пол, покрыли их чистыми простынями, и все трое легли рядом, подложив под головы подушки. Но спать никто не хотел. И только теперь, погасив свет, отважились молодые люди попросить Тараса прочитать им те стихотворения, за которые так жестоко наказал его Николай.
Шевченко прочитал им и свое послание «І мертвим, і живим…», и «Кавказ», и «Сон».
Левицкий и Лазаревский слушали, как зачарованные. Перед ними раскрывались новые, невиданные и неведомые им горизонты! Им казалось, что они слышат стон замученных и видят слезы рабов, что сливаются в один страдальческий крик, в один могучий поток возмущения и гнева — могучий, как сам Днепр. Перед ними был совсем другой Шевченко, не грустный певец оскорбленной покинутой крестьянской девушки, не летописец старины или влюбленный в красоту украинской природы пейзажист. Перед ними был грозный обвинитель, который поражает словом жалких в своем обезьянничаньи всего иностранного провинциальных панков и либеральных на словах самодуров, способных на любое преступление, на тупой и дикий деспотизм.
Это был боец за свержение устаревшей машины царизма. Он клеймил чванливое и подхалимистое чиновничество, взяточников, лизоблюдов, призывал народ сбросить оковы и кандалы, строить новую свободную жизнь, где каждый человек найдет себе место и труд — не рабский, а свободный труд. И поняли они, что приговор поэту продиктовало царю не столько личное оскорбление, сколько страх перед ним как перед народным трибуном.
— А он читал эти стихи? — спросил Левицкий, когда поэт умолк.
Шевченко двинул плечами:
— Может, читал, а может, просто пересказал кто-нибудь, — и снова запел:
Та забіліли сніги, Забіліли білі, Ще й дібровонька, Та заболіло тіло Бурлацькеє біле Ще й головонька. Ніхто не заплаче По білому тілу По бурлацькому…Спать никому не хотелось. Пели и разговаривали, разговаривали и пели. В песнях все трое не только давали выход своим чувствам и любви к родному краю, но и очищали души священным пламенем искусства.
А на востоке уже рассветало: рождался новый день.
За чаем друзья спросили поэта, где его вещи.
— Рукописи и рисунки забрали жандармы, а остальное осталось в каземате, — ответил он спокойно. — У меня есть немного денег. Надо что-то будет купить на лето.
Этого было достаточно, чтобы Лазаревский сразу оживился. Позвали Аксинью, попросили ее постирать рубашку Тараса. Левицкий предложил деньги и летний костюм. Тарас от денег отказался, а костюм померял. Аксинья взялась немного укоротить брюки и рукава. Потом она вспомнила, что у домовладелицы Кутиной недавно умер муж и после него осталось много вещей. Молодые черниговцы сразу повели туда своего гостя, а Кутина, узнав, что Тарас художник и, кроме того, ссыльный, сразу вытащила из шкафа летнее пальто и ни за что не хотела брать за него деньги, а к пальто добавила еще и несколько пар белья, соломенную шляпу и теплые штаны на зиму.
— Это не подарок, — утешала она смущенного гостя, — а задаток. Когда вас освободят, вы нарисуете мне портрет умершего мужа вот по этому маленькому дагерротипу. Считайте меня вашей заказчицей.
Попрощавшись со своими новыми друзьями, Шевченко пошел бродить по городу.
Жара. Пыль. Сонная одурь висела над городом. В центре сосредоточились казенные строения: губернаторский дворец, рядом большой дом командующего военным округом, немного далее — гимназия, казенная палата, суд, кадетский корпус и институт благородных девиц — все однообразной архитектуры и покрашены светло-желтой охрой… На площади — неприглядный кафедральный собор с кучей нищих на паперти, гостиный двор с невысокими белыми гладкими колоннами и немного в стороне — тюремный замок, или проще — тюрьма, с часовыми на вышках за высоким кирпичным забором. А вокруг — множество одноэтажных деревянных домов, с почернелыми неокрашенными оконницами, с наглухо закрытыми воротами и высокими ограждениями без щелочки, без просвета.
Гражданских мужчин почти не было — все военные или какая-нибудь баба с тяжелыми поклажами или с полными ведрами.
«Каски и эполеты. Эполеты и каски. Солдаты и казаки, — думал Шевченко, шагая горячей бархатной пылью, — не город, а военный табор…»
Донимали мухи и жара. Тарас остановился и вытер вспотевшее лицо. Солнце пекло немилосердно, но не было никакой тени. Не было ее и на реденьком бульварчике, заплеванном окурками и подсолнуховой шелухой. Тарас присел на скамейку, порезанную ножиком, где среди кривых монограмм и женских имен кололи глаза срамные слова. Отдохнув минут пять, он медленно отправился дальше.
Сам того не заметив, Шевченко оказался в степи, и вдруг увидел на горизонте валы караван-сарая, а рядом полусферическую башню мечети и высокую каменную иголку минарета.
— Минарет! Брюлловской минарет! — повторял Шевченко, направляясь к нему напрямик ровной степью. Реденький невысокий ковыль едва достигал ему до колен и мягко касался ног. Серенькие стрекозы прыгали перед ним. Иногда бронзовая или зеленая ящерица мелькала в траве и сразу исчезала в растресканной земле, а высоко над головою синело чистое небо с пылающим солнцем в зените… Жарко, Тарас решил вернуться, оставив знакомство с минаретом на другое время…
Вернувшись в город, Тарас зашел на базар и вдруг услышал за спиной знакомый голос:
— Тарас Григорьевич, неужели вы?
Шевченко обернулся: перед ним стоял Левицкий с высоким стройным офицером в погонах штабс-капитана.
— Знакомьтесь, — сказал Левицкий. — Карл Иванович Герн, наш добрый знакомый, большой знаток литературы и искусства.
— Уже и знаток! — укоризненно покачал головой Герн, пожимая руку Шевченко. — Просто люблю честное, смелое и красивое слово, но не хотелось бы мне знакомиться с нашими наилучшими поэтами при таких грустных обстоятельствах, как те, которые привели вас в Оренбург.
С первого взгляда Герн понравился Тарасу.
— Как вы сюда попали и что здесь делаете? — спросил Левицкий.
— Любуюсь и страдаю. Какая мука видеть столько нового, оригинального и колоритного и не иметь права рисовать!
— Знаю! Понимаю и сочувствую, — помолчав, сказал Герн. — Смотрите, любуйтесь и запоминайте. Когда-нибудь это все вам пригодится, а главное, вы должны себя беречь… для людей, — додал он тихо.
Шевченко посмотрел на него и не ответил.
— Но какие же здесь чудесные лица, — погодя заговорил он. — Какие лица!
— А мы сюда зашли, — сказал Левицкий, — потому что в городе тоска. Появление каравана у нас большое и не ежедневное событие. Кроме того, тут можно иногда купить чудесные вещи.
— Я, например, ищу хорошее английское охотничье ружье, — добавил и Герн, — но, к сожалению, сегодня их тут что-то не заметно.
— Английское?! — удивился Шевченко.
— Конечно! Как известно, англичане с нами не воюют, но тайно поставляют и оружие, и средства тем, кто с нами воюет. Они вооружают черкесов, чеченцев, а у хивинцев, бухарцев и кокандцев замечательные английские штуцеры, дробовики и так называемые винтовки, о которых не смеет еще мечтать наше христолюбивое воинство со своими жалкими ружьями. Вообще мы…
Герн вдруг умолк, заметив синий жандармский мундир.
— А я ищу что-нибудь для родителей. Они так одаривают нас с Михаилом своими посылками. Но купил только вот шаль для мамы, — сказав Левицкий. — Думал взять бухарский халат для отца, но уж больно дорого просят.
— Послезавтра караван отправляется дальше. Перед отходом они не будут так дорого просить, — успокаивал его Герн. — А пока давайте пойдем в турецкую кофейню, там нас угостят прекрасным турецким кофе, — подхватил он под руку Тараса.
После кофе друзья еще долго ходили в караван-сарае — то показывали Шевченко китайского акробата, который жонглировал четырьмя тарелками, перекатываясь по земле на огромном деревянном шаре, то останавливались послушать акына. Герн понимал казахский язык и объяснял поэту, что акын пел о Кобланди-батыре, герое казахского эпоса, а потом запел об Исатае Тайманове, вожаке казахских восстаний, что прошли здесь лет двадцать — тридцать тому назад.
— У них много чудесных старинных легенд, — сказал Герн. — Акыны, подобно поэтам древней Эллады, объединяют их в бесконечные поэмы.
Шевченко заинтересовал Герна. Он долго расспрашивал Тараса об Украине, Академии художеств, о Брюллове, Венецианове, Тропинине, вспоминал, как год тому назад познакомился с Александром Брюлловым, который именно тогда строил этот минарет. Нашлись и другие общие знакомые по столице, где Герн несколько лет назад закончил Академию генерального штаба. В разговорах время проходило незаметно.
— Как вы много знаете про эти места, — вздохнул Шевченко. — Хотелось бы и мне ближе познакомиться. Но меня этими днями должны отправить в Орск. В казарме говорили, что готовят этап.
Герн задумался.
— Вот что, Тарас Григорьевич, — сказал он. — Приходите ко мне завтра к вечеру, а я с утра постараюсь узнать, как с вами будет. Только обязательно приходите. Жена будет вам рада. Она полячка, у нас много знакомых польских ссыльных. Люди они интеллигентные — студенты, музыканты и даже художники. Их тоже, как и вас, отдали в солдаты, но живут они в большинстве на квартирах…
Утром батальонный каптенармус принес Шевченко полное солдатское обмундирование.
Впервые надевая солдатский мундир, Шевченко как будто проснулся от недолгого отдыха среди добрых людей. Будущее посмотрело ему в глаза своими ужасными буднями, и мысль, что десять лет — этот бесконечный срок военной службы — он будет носить этот мундир, покрыла его лицо холодным потом.
Из трех мундиров ни один не подошел ему. Делая пометки мелом на наибольшем из них, каптенармус возмущенно бурчал:
— Во какое пузо нагулял, прости господи! Какой по росту подходит, так на животе никак не сходится. Придется самый большой укорачивать. Ну, ничего: наша муштра быстро сгонит с тебя лишнее сало.
Шевченко почему-то думал, что за обмундирование надо платить, и с грустью подсчитывая мысленно свои сбережения, спросил:
— Сколько с меня за все?
— Сорок рублей, — не моргнул глазом унтер.
И Шевченко отсчитал ему всю сумму. Двое «забритых», которым тоже принесли мундиры, давясь со смеха, выскочили из казармы во двор и тут дали волю своему смеху.
— Ну и дурак! — аж приседали они, хватаясь за животы. — Видели вы такого недоумка?! А еще из господ! Художник, говорят! В каких-то там академиях учился.
— Что здесь происходит?! Что за смех? — неожиданно прозвучал над ними грозный начальственный голос.
Увидев офицера, «забритые» вытянулись:
— Так это, ваш бродь, дурак у нас в пересыльной появился. Каптер ему мундир принес, а он за него деньги дал.
— Какой такой дурак?
— Не можем знать. Шевченком зовут.
Офицер вошел в казарму. Дневальный подскочил, отдав рапорт.
— Вольно! — махнул ему офицер рукой, потом спросил: — Кто тут Шевченко?
— Я, — выступил Тарас, который уже успел одеться в свой парусиновый костюм.
— Не по форме отвечаешь! — заметил офицер, еще не зная, как реагировать на такую вольность, за которую старого солдата отправили бы сразу на гауптвахту. — Как следует отвечать по уставу?
— Извините, я… еще не научился… — ответил Шевченко, но вытянулся.
— Ну, хорошо: еще успеете научиться, — улыбнулся офицер. — Говорите только правду: и сколько вы дали сейчас каптенармусу и за что?
— Солдату, что принес мне мундир, я заплатил сорок рублей. Он сказал, что мундир столько стоит.
— Он требовал деньги?
— Нет. Я спросил цену, а он ответил.
— А деньги взял?
— Да, взял.
— Мерзавец! — искренне рассмеялся офицер. — Ну, ничего: деньги он вам сейчас отдаст. Не волнуйтесь. А вам совет — как можно быстрее научиться отвечать по уставу, чтоб избежать многих неприятностей.
Неизвестно, что сказал офицер каптенармусу, но через четверть часа тот, весь красный и рассерженный, влетел в казарму и бросил на койку Тарасу помятые ассигнации.
— На! Подавись, собака, своими деньгами! Ябеда проклятущий! Очень мне нужны твои деньги! Разве я их просил? Или требовал? Взял, если ты такой дурак, который жизни не знает! — гневно плюнул он и стремительно вылетел из казармы.
Перешитый мундир принес к вечеру не сам каптенармус, а батальонный швец.
Потом Тараса вызвали в канцелярию и выдали ему «увольнительную» на целых восемь дней, объяснив, что все это время он может вовсе не появляться в казарму или, по собственному желанию, приходить на завтрак, обед и ужин, поскольку в эти дни он не будет лишен продовольственного довольствия.
Тарас шел по улице города, на которой стоял домик с облупленными стенами и вывеской на них. Ему еле удалось разобрать слова: «Оренбургская библиотека».
Прочитав вывеску, Тарас обрадовался. Он давно не посещал библиотек, сейчас даже и не вспомнит, когда был там в последний раз… Кажется, в Киеве или в Чернигове… Царь, слава богу, читать не запретил, вот и надо воспользоваться его «гуманностью».
Двери были открыты — как будто приглашая: зайди сюда, прохожий. Но, наверное, заходили сюда немногие.
Он вошел в светлый читальный зал. Читателей практически не было. Книги стояли аккуратными рядами на полках. Шевченко сел за стол.
— Что бы вы хотели почитать? — подошел к нему молодой человек. Как только он заговорил, Тарас по акценту понял, что он поляк.
— Несколько номеров «Русской старины». У вас есть?
— Есть. Больше ничего?
— Если бы еще что-нибудь о здешних местах, о местном населении…
— Это уже сложнее. Таких книг у нас немного. Но кое-что есть, поищу…
— Моя фамилия Шевченко. Тарас Шевченко.
Через несколько минут тот принес журналы, положил и заглянул в лицо Тараса. Он хотел что-то спросить, но не осмелился.
Бежали час за часом. Тарас просмотрел журналы, потом взялся за книги об Оренбургском крае. Ничего интересного в них он не нашел. Он поднялся и направился к выходу. Его провожал библиотекарь. Уже на пороге он спросил:
— Извините, вы не с Украины?
— Оттуда, — ответил Тарас и вдруг неожиданно для себя перешел на польский язык: — А вы не с Польши?
— Да, я поляк, — радостно улыбнувшись, ответил библиотекарь. — Сигизмунд Раковский.
— Ну, мою фамилию вы уже записали. Тарас Шевченко, с Украины…
— Я тоже бывал на Украине. Чудесный край, прекрасный народ.
— Вот только несчастный, — грустно добавил Тарас.
— Я слышал об одном вашем однофамильце — художнике и поэте. Я украинский язык понимаю — и кое-что из его произведений читал…
— Ну и как? — метнул на него взгляд Тарас.
— Гениальный поэт. Как наш Мицкевич…
— Ого! Так мне теперь стыдно и признаться, что вы так обо мне… «Как Мицкевич…» Я и есть тот самый поэт и художник. Теперь — солдат, как видите…
— Я так и думал, что это вы, — смущаясь, сказал Раковский. — А спросил, чтобы убедиться… Я глубоко уважаю вас.
— Спасибо!.. Вы и «Гайдамаков» читали?
— Читал, — ответил Раковский и вдруг понял, почему Тарас его об этом спрашивает. — Читал. Ну и что? Что вы пишете, как Гонта резал поляков? Так, прошем пана, разные есть поляки. Есть такие, которым следует ставить золотые памятники, а есть и такие, которых надо резать…
— Спасибо вам, друг, спасибо!
Тарас крепко пожал руку Раковскому…
Вечерело. Солнце золотило желтую землю, и она сияла, как тогда в Киеве Золотые ворота…
Он вспомнил о Герне. Не забыл и Герн о поэте. Он внимательно перечитал все дело Шевченко и удивился: был там и обвинительный акт, и протоколы допросов, и приговор. Не было только тех стихов, за которые постигла его такая жестокая судьба. Поэтому Карл Иванович не совсем разобрался в безнадежности состояния поэта.
Шевченко пришел к нему в назначенный час. Герн сразу пригласил его в столовую, где сидела за самоваром его жена, познакомил ее с поэтом.
Герну было за тридцать. Высокий, стройный, он казался двадцатипятилетним. Лицо с высоким лбом, волнистые каштановые волосы, умные глаза, правильный нос и ухоженные шелковистые усики — все было в нем гармонично и утонченно.
Жена его, Софья Ивановна, была типичная полячка: блондинка, с ослепительно-белым, как будто фарфоровым, лицом и нежным румянцем, с ямочками и пухленькими розовыми устами. Большие синие глаза в темных ресницах смотрелись кокетливо и ласково. Она пригласила Шевченко сесть, налила ему чая, подсунула ром и вкусные домашние пирожки с вишнями.
Началась непринужденная оживленная беседа. Через несколько минут Шевченко почувствовал себя у них, как у старых добрых знакомых. Софья Ивановна рассказывала ему, что в Оренбурге есть много польских ссыльных, ее земляков, и что живет здесь молодой художник Чернышев, с которым Шевченко, наверное, встречался в Петербурге, потом пригласила как можно чаще к ним приходить и искренне расстроилась, когда Тарас сказал, что он вынужден скоро выехать в Орскую крепость.
— Ох эти крепости! — вздохнула она, — Строят их, строят, а спокойствия нет. То хивинцы нападут, то кокандцы ограбят караваны и продадут всех пленных в рабство, а то и киргизы снова восстанут.
— Ничего не сделаешь, дорогая, привыкай быть женой военного… Однако пойдем, Тарас Григорьевич, ко мне в кабинет. Покурим и поговорим о ваших делах.
Оставшись с Шевченком с глазу на глаз, Герн попросил поэта прочитать ему те стихи, за которые его осудили. Тарас не отказался.
Прослушав их, Карл Иванович долго молчал, задумчиво пуская дым сигареты и раз за разом стряхивая пепел в пепельницу.
— Так, — наконец сказал он. — Теперь мне все ясно: эти стихотворения уже призывают не просто к крестьянскому восстанию, а… к штурму Бастилии. У жандармов нюх хороший. Они сразу почувствовали, откуда ветер веет, и, чтоб наверняка вас наказать, подсунули царю именно те строки, где вы говорите о нем и о царице. А он злопамятен и мстительный. Хочу сказать вам откровенно, как друг, и заранее прошу простить мою откровенность. В вашем «Сне» есть одно предложение, что звучит, как по мне… нехорошо: вы насмехаетесь над императрицей, потому что она больная. А эта стареющая женщина, кстати, и не вмешивается в государственные дела.
Шевченко со скрытой иронией посмотрел на Герна.
— Я — мужик и крепостной, — сказал он. — Меня никто не учил, как относиться к больным императрицам. Но, зато я слишком хорошо знаю, как относятся у нас с благословения царей, цариц и царят к стареющим больным крепостным, которые тоже не занимаются политикой. Написал так, как думает народ. Хотя… с более узкого взгляда, так, по-человечески, вы, может быть, и правы.
— Я сказал вам это потому, что полюбил вас, — извинительным тоном ответил Герн и крепко пожал руку поэту. — Дай бог, чтоб там, в Петербурге, быстрее забыли эти строки.
Проводив Тараса до калитки, Герн вернулся в дом и задумчиво направился в спальню. Софья Ивановна была уже в кровати и читала «Кобзарь».
— Ушел? — спросила она, оторвавшись от книги. — Знаешь, я не все как следует понимаю по-малороссийскому, но мне нравится. Написано свежо, просто и трогательно. Ты узнал, в чем его обвиняют?
— Узнал. Плохи его дела. Боюсь, что ни государь, ни государыня, ни даже наследник не простят ему нескольких строк из его поэмы. Его не просто отдали в солдаты, но и запретили писать и рисовать. Кроме того, в деле Шевченко есть приказ отослать бедолагу в одну из наиболее отдаленных крепостей. Записано — в Орскую, где батальоном командует майор Мешков, человек чрезвычайно ограниченный и дубоватый, солдафон из унтер-офицеров. Боюсь, что замучит он бедолагу прусской муштрой. Мы уже разговаривали с генералом Федяевым и вдвоем написали письмо Мешкову. Просим обратить на него особое внимание и помочь ему, в чем возможно.
Ночевал Шевченко то у Лазаревского с Левицким, то в слободе у Герна. У Гернов проводил он и вечера. Софья Ивановна познакомила его со своими земляками-поляками, которые окружили Шевченко теплым вниманием.
У Лазаревского Шевченко написал несколько писем на родину, а также петербургским друзьям. Украинцев просил не забывать его и порадовать хотя бы одним теплым словом на чужбине, а петербургских друзей — ходатайствовать хотя бы о смягчении его участи, если об освобождении пока не могло быть и речи. Писать просил в Оренбург Лазаревскому, который обещал немедленно пересылать ему письма в Орск той особе, какую ему укажет Шевченко.
Днем Тарас читал либо спускался к Уралу и долго лежал в прибрежных кустах, бездумно глядя на реку, и так до вечерней прохлады. Он загорел и отдохнул от пережитого. В глазах его уже не было того грустного выражения, которое так поразило его, когда он увидел себя в зеркальце цирюльника.
День накануне отъезда Тарас провел у Лазаревского с Левицким. Лазаревский был грустным и в последнюю минуту разрыдался, а Левицкий закурил и от волнения глубоко затянулся сигаретой.
Втроем вышли они на улицу. Молодые земляки провели поэта в слободку, где жил Герн, но до Гернов не дошли и, попрощавшись, грустно поплелись домой.
Карл Иванович ждал поэта и подарил ему два тома Шиллера и новый кожаный чемодан, а Софья Ивановна — пачки почтовой бумаги, конвертов, несколько карандашей, пару белых замшевых перчаток, теплый шарф на шею и шерстяные носки.
Долго разговаривали. Наконец Шевченко напомнил хозяину, что в казарму ему нельзя опоздать, и тепло попрощался с Герном. Герн просил писать и послал своего денщика Гурия помочь донести ему вещи до казармы.
В пересыльной казарме было пусто. Старенький инвалид на деревянной ноге покуривал папиросу на пороге.
— Где же люди? — удивленно спросил Шевченко.
— Какие такие люди? — в свою очередь удивился старый.
— Ну, те, что тут были. Забритые или ссыльные.
— Шесть дней тому назад в Орскую с оказией отбыли. А откуда ты такой взялся? Наверное, на гауптвахте сидел за пьянство?
— Я в городе жил, у знакомых.
— А-а!.. Которые из панов, так они завсегда послабление имеют. А которые из нас, мужиков, те с оказией давно топают, — пробурчал старый и поднялся на своей деревяшке. — Тут недавно прапорщик Долгов кого-то искал. Не тебя ли случайно?
— Возможно, и меня, — обозвался Шевченко, отходя в свой угол.
В шкафу, где солдаты хранили свою амуницию и собственные вещи, обмундирование все было на месте, а вот фетровая шляпа и рубашка исчезли.
— Дед! Эй, дед, кто тут копался в моих вещах? — спросил Тарас.
— Кому копаться, когда все ушли? Ворюг тут было достаточно. Вот такой кудрявый, черный, как цыган, действительно говорил, что дал тебе на хранение что-то свое. Он что-то искал, но что именно — я не спросил.
— Это он, Козловский. Вот мразь! — выругался про себя Шевченко.
Но Козловского здесь не было, и жаловаться на него было бессмысленно.
Шевченко махнул рукой, подумал, что фетровая шляпа с рубашкой вряд ли пригодятся ему теперь, а по сравнению с тем, что он уже потерял, это такая мелочь…
Глава 4. Орская крепость
Звук трубы разбудил его на рассвете. Шевченко быстро поднялся, оделся, позавтракал, получил сухой паек, упаковал и хорошо связал свои вещи. Ровно в семь его вызвали в канцелярию. Там уже сидел незнакомый молоденький офицер.
— Шевченко? — вопросительно поднял он глаза от каких-то бумаг.
— Так точно! — вытянулся поэт.
— Здравствуйте, — сказал офицер и подал ему руку. — Я — прапорщик Долгов. Иду в Орскую и беру вас с собой. Вы готовы?
— Так точно! — повторил Шевченко.
Тем временем писарь достал со шкафа пакет с пятью сургучными печатями. Офицер расписался в книге и встал.
— Кони здесь, за рогом, — сказал он, пряча пакет во внутренний карман шинели. — Тяните сюда ваши вещи. Едем! Хорошо ехать утром, по холодку…
За Оренбургскими воротами дорога протянулась вдоль причудливых изгибов Урала. Прибережные луга были серыми от росы, и дорога еще не пылила. Долгов искоса посматривал на своего спутника, вероятно, изучая и наблюдая его. Молчал и поэт, ибо не знал, как держаться со своим, возможно, будущим командиром.
— Скажите, что вам дороже — живопись или поэзия? — неожиданно спросил Долгов.
Шевченко ответил не сразу.
— Не знаю. В детстве меня манило только рисование. Потом увлекся поэзией, а теперь… Сейчас я как мать, у которой двое детей и оба замурованные в каменном каземате. Они погибнут, если никто не придет их спасти, ибо нет у нее силы своими слабыми руками развалить холодный камень тех стен, — договорил он и смолк, ругая себя за эту несдержанность.
— М-да… Та-ак… — пробурчал Долгов…
Разговор оборвался. Долгов никогда не видел настоящего поэта или художника, и с детства ему казалось, что это существа особые, что-то вроде пророков или ясновидящих, и обычные слова не шли ему на ум.
Через каждые двадцать — двадцать пять верст они меняли на станциях лошадей. Чудными казались Тарасу эти станции и встречные казацкие станицы. Хаты тесно стояли друг к другу, и нигде не было ни сада, ни палисадника, ни дерева, ни кустика или простенькой грядки с цветами под окном.
— Хата и ворота, ворота и хата, ворота и сарай. Да как тут люди живут без зеленого кустика?! Без сирени или шиповника? Ни радости, ни красоты… Даже тенечка нет, чтоб спрятаться в такую жару.
Тарантас остановился возле станционного дома. Долгов пошел отметить подорожную и спросить лошадей, а Шевченко достал выданный ему сухой паек, отрезал хлеба и начал закусывать. Солнце палило ему в спину, хотя на первой станции он сбросил пиджак и надел белую рубашку.
Наверное, свободных лошадей не было, Долгов не возвращался. Поев, Шевченко пошел поискать колодец напиться. Колодец нашел недалеко, но не было там ни ведра, ни черпака. На его счастье, на улице появилась грудастая молодка с ведрами на коромысле. Молодица неспешно подошла к колодцу, набрала воды.
— Можно ли, красавица, напиться? — спросил Тарас.
— А почему нельзя? Пей! — певуче ответила она и поставила ведро на край колодца.
Шевченко с удовольствием наклонился к ведру и долго пил, наслаждаясь чистой, свежей и вкусной водой, потом сбросил рубашку и облил себе голову и спину, шею и руки ледяной водой. Одевшись, он сполоснул ведро, набрал воды и спросил:
— Нельзя ли немного отдохнуть у тебя, хозяйка, в хате, пока дадут лошади?
— Почему же нельзя? Можно! — снова сказала молодка.
Хата ее была напротив станции. Она открыла ворота, и Шевченко вошел во двор, вместе с ней поднялся на крыльцо, заглянул в хату, но оттуда отдало таким жаром, что Тарас не отважился войти и сел на завалинке, в холодке. Вскоре вышла и хозяйка, лузгая арбузные семечки. Она была миловидной: высокая, стройная, с большими серыми глазами под густыми черными бровями вразлет, с белым, чистым и румяным лицом.
— А если бы ты мне, хозяйка, чего-нибудь сварила? Ну, хотя бы юшки с рыбы. У вас Урал рядом: рыба, наверное, всегда есть, — сказал Тарас.
— Нетути. Мы ефтим не занимаемся.
— Чем же вы занимаетесь?
— Бакци сеем!
— Ну, так сорви мне огурчиков.
— Нетути. Мы только арбузы сеем.
— Ну, а лук, например?
— Нетути. Мы лук из города покупаем.
«Вот те на! — подумал Тарас. — Деревня из города зеленью довольствуется».
— Что же вы еще делаете? — продолжал он любопытствовать.
— Калаци стряпаем и квас творим.
— А едите что?
— Калаци с квасом, покамест бакца поспееть.
— А потом бахчу?
— Бакцу.
— Умеренно, нечего сказать. — И он замолчал, размышляя: «Какая благодатная земля! Какие роскошные луга и затоны уральские! И что же? Поселяне из города лук получают…»
— Бедно живете, что и говорить! — вздохнул Шевченко.
На улице послышалось фырканье и топот лошадей: запрягали тарантас. Тарас поторопился туда. Через минуту только пыль взвилась и, расстилаясь по улице, застлала и ворота, и стоящую у ворот молодку…
Дорога и дальше шла вдоль Урала. Луга вокруг были соковитые и пышные. Встречались тенистые гаи и неглубокие овраги, на дне которых звенели холодные ручьи, и подорожные несколько раз останавливались возле них напиться. Пыль скрипела у них на зубах, и вскоре белоснежный китель Долгова и белая рубашка Шевченко стали серыми. Но жар понемногу спадал.
— Скоро ли станция? — нетерпеливо спросил Долгов.
— А вот, барин, горбок, за горбком будет станица Островная, а оттуда до станции еще десять верст, — откликнулся ямщик, вытягивая кнут. — Н-но, проклятые! Разленились!
И тарантас вихрем взлетел на горбок.
Шевченко чуть ли не вскрикнул от радостного удивления: внизу раскинулась большая станица, утопающая в густой зелени садов и левад. Белоснежные хаты блестели на солнце ослепительной чистотой. Плакучие вербы распустили над прудом свои зеленые косы, а девочка в веночке из живых цветов и в чепурной плахте гнала навстречу тарантасу большую круторогую корову.
Тарасу на мгновение показалось, что он на Украине, что это околица Седнева и едет он в гости к своему другу Андрею Лизогубу, — и сердце его затрепетало. Он заплакал при взгляде на картину, так живо напомнившую ему его прекрасную родину.
Солнце заметно склонялось к заходу. Долгов посмотрел на свои часы.
— Где же нам ночевать? — спросил он ямщика.
— А это уже как кому нравится: одни ночуют здесь, в станице. Другие едут до станции Озерной. Господа офицеры чаще до станичного атамана заезжают или до есаула Стасенка.
— Давайте переночуем здесь, — вдруг попросил Шевченко.
— Родной край свой вспомнили? — усмехнулся Долгов. — Согласен. Идем к станичному атаману.
— А мне разрешите устроиться как-нибудь попроще, — попросил Шевченко.
— Пожалуйста. Только не проспите. Выедем рано, по холодку.
Долгов приказал остановить лошадей. Шевченко сошел.
Когда тарантас исчез за углом, Шевченко огляделся. За невысоким плотом вокруг виделись сады и огороды с серо-зеленою капустой, высокой пшеницей, милыми сердцу, но еще не расцветшими подсолнечниками, с вишнями и черешнями, густо усыпанными уже красными ягодами. Медленно пошел он дорогой, вдыхая горячий воздух, который вдруг стал для него родным и дорогим. Вдали увидел он хату под пышной соломенной крышей. На завалинке сидел долгоусый казак, задумчиво потягивая люльку, и только его шаровары с голубыми вылинявшими лампасами напоминали, что это уральский, а не запорожский казак.
— Здоровы будьте, казак, — поклонился Шевченко, приближаясь.
— Здоровья и вам, добрый человек, — приветливо ответил казак. — Откуда бог несет?
— Сейчас с Оренбурга, а еще раньше — с Киева. Нельзя ли у вас переночевать?
— Почему! Можно! Мы добрым людям всегда рады. Один ты или с кем-то?
— С прапорщиком, но он к станичному атаману поехал, — ответил Шевченко, садясь на завалинку рядом с казаком.
Завязался разговор. Как настоящий украинец, хозяин коротко и не торопясь отвечал на вопросы гостя, а хозяйка, выглянув из хаты, сразу бросилась готовить ужин. Чтобы оживить разговор и деликатно заплатить хозяевам, Шевченко как будто между прочим спросил:
— У вас в станице есть шинок?
— Шинка нет, но люди сами гонят горилку и пиво. И когда кому надо — продают.
Тарас Григорович достал деньги и, заметив девочку лет десяти, что стыдливо пряталась за дверью, протянул ей:
— Сбегай, девочка, возьми нам водочки к ужину…
Хозяйка, услышав такое, бросилась за хату резать курчат, а потом до кумы Домахи за яйцами, потому что свои все вышли.
За ужином Тарас поднес хозяевам по чарке и по второй, а для девочки и пятилетнего мальчика нашел в кармане по кусочку сахара. На столе зеленели огурцы, стояла жареная картошка, запах колбасы с чесноком приятно щекотал ноздри проголодавшегося путешественника.
От горилки хозяин стал разговорчивым и рассказал, что дед его с сотней казаков и всем родом перекочевали сюда с Украины при царице Екатерине. Уральские казаки охотно приняли их.
— Понятно, что тут не Запорожская Сечь, а станицы, наши сыновья быстро поженились — кто на наших девушках, а кто здешнюю взял. Сразу нам землю дали — так и пошла от казацкого рода наша станица, — дорассказал хозяин, принимая от гостя третью чарку.
Как заведено с давних времен, утолив первый голод, запели родные украинские песни: хозяин басовито подтягивал гостю, а у хозяйки оказался сильный высокий голос.
В хатах станицы гасли огни, а Тарас все сидел за столом с земляками и то разговаривал с ними о старине, то снова пел песни.
Судьба Тараса поразила хозяев до глубины души. Хозяйка возилась с гостем, не зная, чем угостить и как услужить, а муж ее долго молчал, потом глубоко вздохнул:
— От царей все наше горе, но как без них жить — люди еще не придумали…
Спать положили поэта на сеннике, на свежем пахучем сене, и, зарывшись в него, Тарас сразу крепко уснул, а хозяйка еще долго что-то делала в хате, жарила курчат, варила яйца, пекла коржи на дорогу приятному гостю.
Хозяин разбудил Шевченко в шестом часу. На столе уже ждал сытный и вкусный завтрак. Выпили и остаток вчерашней горилки, и Тарас стал собираться дальше в дорогу. Хозяйка упаковала ему с собой целый узел разной вкусной еды.
Шевченко не отказывался, только благодарил. После чего спросил, сколько он им должен за ночлег и вот эти харчи.
Казак смутился, а хозяйка, стоя за спиной Тараса, отчаянно махала ему руками, чтобы он не вздумал что-то взять с гостя.
— Да вы говорите откровенно: не могу я задаром принять от вас столько харчей, — настаивал Шевченко.
— Я бы ничего с вас не взял, но вот надо нашему мальчику сапожки пошить на зиму. Раньше мы яблоками и огородиной рассчитывались, а теперь Вакула, наш сапожник, требует деньги.
Шевченко дал хозяину серебряный полтинник.
— Бог с вами! — замахал руками казак. — Да наш Вакула и за два злотых пошьет!
Но Шевченко денег назад не взял, а хозяева провели его до перекрестка и показали, где живет станичный атаман.
Долгов еще спал. Он тоже засиделся до полуночи за ужином, Шевченко воспользовался этим и пошел к пруду, искупался под вербами, а потом долго сидел в тени и разговаривал с ямщиком и со станичными ребятишками.
Выехали они только в девять часов, когда на солнце уже стало жарко, за полтора часа добрались до станции Озерная, где снова пришлось долго ждать свежих лошадей. Оставив вещи на станционного сторожа, Долгов с Шевченко пошли купаться, потом закусили харчами Тараса, к которым Долгов добавил бутылку рома из своего погребца и карасей, зажаренных на станционной кухне.
В три часа появились наконец лошади. Пришлось дать им отдохнуть и выехали только около пяти часов. К вечеру путешественники достигли станции Губерли, где и заночевали.
Еще в Оренбурге Шевченко слышал, что от этой станции утром открывается чудесный вид на Губерлинские горы, отроги Южного Урала. Утром долго любовались величием панорамы горного кряжа на горизонте, а, позавтракав остатками харчей с Островной, в полдень поехали дальше.
Дорога сначала кривляла горбистой долиной, потом начала углубляться в горы затейливыми неожиданными поворотами, иногда как бы поворачивая назад, но все время поднималась выше и выше — к далекому перевалу. В горах дышалось легче, чем в долине, хотя солнце и здесь пекло невыносимо, и только иногда на горизонте грудились снежно-белые тучи.
Тарантас спустился в долину и приближался к одинокой хатке, над которой торчала высокая жердь со жгутом соломы. Это был дорожный пограничный казачий пикет. Пикетчик отдал офицеру честь, даже не спросив подорожной. Проехав еще с две версты, тарантас стал постепенно подниматься на невысокое плоскогорье. И бескрайняя, дикая степь приняла в свои первозданные просторы и тарантас с лошадьми, и путешественников — молоденького прапорщика и украинского поэта Тараса Шевченко.
Степь поражала своей необъятностью, печальной пустынностью и бедной растительностью. Реденький, уже поседевший ковыль, шипастые бурьяны и курай. Ледяной тоской повеяло от всего этого на ссыльного, и предчувствие тяжелой жизни без надежды и просвета сжало его сердце.
— А вот и Орская белеет, — как бы про себя промолвил ямщик.
«Так вот она, Орская крепость!» — почти проговорил Тарас, и ему сделалось грустно, невыносимо грустно, как будто его бог знает какое несчастие ожидало в этой крепости. А страшная пустыня, ее окружающая, казалась разверстою могилой, готовой похоронить его заживо…
Шевченко вздрогнул и начал внимательно всматриваться в степную даль, по которой, как огромные летучие мыши, бежали серые тени от туч. Не сразу нашел он заметный бугорок, а на нем белое пятно, как бы почеркнутое и обведенное рудой полосой. Ни одного дерева не зеленело возле нее в этой жалкой пустыне.
Лошади бежали мелким, но дружным шагом. Белое пятно скоро превратилось на пригорке в небольшую каменную церковь, вокруг которой теснились казенные сооружения. Кровли их издали казались рудыми полосами. На дороге под палящим солнцем и внимательным оком конвоя с кетменями ремонтировали дорогу люди.
Когда тарантас поравнялся с ними, Шевченко ужаснулся: каждое монгольское лицо было изуродовано выжженным на лбу тавром, а у многих были вырваны ноздри и отрезаны уши.
— Что это за люди? — спросил он ямщика.
— А это бунтовщики, каторжане то есть, — отозвался тот.
С загадочным безразличием провели каторжане глазами тарантас, но Шевченко почувствовал, что под этим равнодушием скрывается неумолимая ненависть.
«Вот она, моя могила, — подумал Шевченко. И вдруг спросил себя: — Неужели тут могут звучать песни? — И сам себе ответил: — Нет, тут не могут звенеть песни, тут не может цвести радость…»
Прогрохотав по шаткому деревянному мосту через Урал, тарантас выполз на пригорок и въехал в Орскую крепость. Возле моста еще одна партия колодников с изуродованными лицами ремонтировала дорогу, — наверное, к приезду начальства, а на просторной площади маршировали солдаты.
Казармы, штаб с канцелярией, тюрьма, где держали этих колодников в тяжелых гремучих кандалах, стосы дров, конюшни, цейхгаузы, замкнутые тяжелыми, величиной с тарелку, замками, окружали площадь, и только каменная церковь со слепуче-белыми заборами в противоположном углу площади немного оживляла хмурый вид площади и всего Орска, полностью лишенного растительности.
Все казенные сооружения были покрыты железом рудоватого цвета, а за ними рассыпались с полсотни рубленых домов уральских казаков. И все это вместе казалось крохотным грустным островом в безбрежном море сожженной солнцем степи.
Скорбно-молчаливый был Шевченко… Здесь, может быть, и судилось догореть его страдальческой жизни.
«Могила. Это моя могила», — угнетала его неотступная мысль, и он неподвижно стоял возле тарантаса, положив вещи себе под ноги.
Долгов дал ямщику рубль на водку, приказав солдату, что выбежал навстречу, взять его вещи, и пошел в штаб. Тарантас медленно отъехал от крыльца, а Шевченко все стоял на том же месте, скованный неутешной грустью.
Вдруг на крыльцо снова выбежал тот самый солдат и позвал Тараса:
— Эй ты, Шевченко! Иди к командиру! Зовут!
Шевченко молча взял вещи и не спеша поднялся ступеньками на крыльцо.
— Стой! Куда! Положи барахлишко! Разве к начальству так можно?! — то ли возмущенно, то ли с издевкой выкрикнул солдат. — И откуда ты такой взялся?!
Шевченко положил вещи в угол и прошел в кабинет. Ротный командир капитан Глоба сидел возле стола, пересматривая бумаги с пакета, привезенного Долговым, и Шевченко узнал голубоватую бумагу с большим штампом Третьего отделения.
— Шевченко? — поднял на него глаза капитан.
— Так точно! — вытянулся поэт.
— Обмундирование получил?
— Так точно!
— Почему же в гражданском? Немедленно переодеться и все вещи неформенного образца сдать в цейхгауз на сохранение. И помни: никаких цивильных костюмчиков здесь не может быть. Понимаешь?
— Так точно!
— Сидорчук! Отведи его к писарю Лаврентьеву. Пусть напишет приказ зачислить его на продуктовое и другое обеспечение и пусть составит на него надлежащий формуляр.
Он отдал Сидорчуку все бумаги из пакета и снова обратился к Долгову, сразу забыв о ссыльном:
— Итак, вы к нам? В батальон? Чудесно! Скука здесь адская. Каждому новому человеку рад, как наивысшей милости. Верьте мне: не с кем слова сказать по душам. Завтра утром вас примет генерал и назначит в одну из рот, а пока что — милости прошу ко мне поужинать и переночевать. Трактиров и отелей здесь нет. Примем по маленькой.
— Спасибо, — поклонился Долгов. — Впечатление от крепости действительно мрачноватое, но с хорошими людьми везде может быть хорошо.
— Оно вроде бы и так, но и хороших людей в аптеке по рецептам не изготавливают.
— Я не такой пессимист, как вы, — улыбнулся Долгов, пытаясь быть любезным. — Я думаю, что и среди солдат найдутся интересные люди.
— Да бог с вами! Какие могут быть разговоры с этими свиньями? Их надо держать вот как! — стиснул Глоба волосатый кулак. — Ведь к нам обычный рекрут не попадает. С полков шлют штрафных, для наказания, а с набора — в основном забритых за бунт и хулиганство. Пьяницы, ворюги и хамы высочайшего сорта.
— Жаль! А вот этот Шевченко — чрезвычайно интересная фигура. Художник. Окончил в Петербурге императорскую Академию художеств. К тому же известный малороссийский сочинитель. Был принят в высшем свете, воспитанный и тактичный человек, — нарочно подчеркнул Долгов.
— А очутился, однако, в штрафном линейном батальоне, куда попадают одни лишь мерзавцы, — громко рассмеялся Глоба. — Поверьте мне, дорогой прапорщик, все они одним миром мазаны: и вор, и бунтовщик, и разные там вольтерьянцы и авторы пашквильных стихов. Но мы из них быстро дурость выбиваем. Дело их, батенька, простое: ать-два — и все! Солдату думать не положено.
— Сидорчук! Отнеси вещи господина прапорщика ко мне па квартиру! — снова позвал Глоба. — Да смотри, сучий сын, чтоб все было целым!
И, подхватив Долгова под руку, направился к выходу.
Тем временем писарь Лаврентьев с помощью батальонного фельдшера начал оформлять вновь прибывшего. Тарасу приказали раздеться догола. Его взвесили, смерили рост, объем груди, послушали грудь, пересчитали зубы. Лаврентьев начал оформлять формуляр, раз за разом заглядывая в присланные бумаги.
Это дело было для него и привычное, и одновременно сложное. Он был не очень грамотный. Но начал достаточно бодро и первые пункты заполнил с присланных бумаг.
— Вероисповедание: православный… Положение: из крестьян. Был крепостным, но получил вольную. Учился в Ак… в Академии художеств… Служил — в Арх… Арх… Ну и название, прости господи! Даже вспотел, пока разобрал… Приговор от двадцать восьмого мая этого года. Осужденный…
Он еще долго бормотал себе под нос что-то неразборчивое, но самое тяжелое было впереди.
— Рост, — писал он, выводя над каждой буквой какие-то необычные выкрутасы, — средний: два аршина пять вершков с половиной. Строение тела…
На этот пункт не было в бумагах никакой цифры или привычного слова. Он поднял глаза от бумаги и вперил взгляд в Шевченко, как неопытный художник, которому впервые заказали написать портрет.
— Строение тела… — повторил он про себя. — Ну как у каждого человека, только живот немного больше обычного, как у беременной молодки или у продавца… Как же его, черт, написать? «Худой» — так оно ж не соответственно будет, и майор, безусловно, в зубы даст, а написать: «толстый», так оно тоже не совсем то… И снова-таки майор выругает… Какое у тебя, голубь, строение тела? — просто обратился он к Шевченко.
— То есть как? Нормальное, — двинул плечами поэт.
— Не положено такие слова в формуляре писать, — неожиданно обиделся писарь. — Надо написать соответственно все, как оно есть, согласно инструкции, хотя бы на тот случай, если бы ты убежал, чтоб разыскать тебя по твоим приметам.
— А-а-а!.. — улыбнулся Шевченко. — Да разве отсюда убежишь? Завезли на край света, откуда и дороги назад нет.
— Ну ты, того… Лучше помолчи! — снова рассердился Лаврентьев. — Я к тебе по-хорошему, потому что вижу, ты человек грамотный. Вдвоем бы сразу и разобрались, что оно и для чего.
— Хорошо. Разберемся, если так, — согласился Шевченко и, наклонившись к бланку формуляра, пробежал глазами несколько строк. — Строение тела пиши: «Полный, волосы на голове темно-русые, усы — русые. Глаза…»
— Подожди! Подожди! Я за тобой не угонюсь писать, — замахал руками Лаврентьев. — Волосы, говоришь, темно-русые?.. А верно, что темно-русые. Так и запишем: темно-русые. Усы, так, русые. А глаза?
— Серые, — машинально ответил Шевченко, думая о чем-то своем.
Лаврентьев обрадовался хорошему началу и стал решительнее писать дальше, внимательно присматриваясь к задумавшемуся поэту.
— Рост? Ну, это уже написано. Зубы: целые, белые. Нос — соответственный…
И снова остановился. Далее шел пункт «Особенные приметы». Долго разглядывал он Тараса, но ничего особенного в нем не нашел и просто спросил его:
— А какие у тебя «особенные приметы»?
Поэт почувствовал, как у него закипает злость.
— Ну… у кого, например, рожа оспой поклеванная, или уха нет, или шрам какой-нибудь, или лишний палец вырос, — объяснял тем временем писарь.
— Пока что все на месте. Ничего лишнего нет. Пиши: особенных примет нет.
Лаврентьев облегченно вздохнул, а Шевченко вытащил пачку сигарет и протянул писарю:
— Закурим, наверное?
Лаврентьев осторожно взял сигарету и, оглянувшись на дверь, прикурил от лампадки в переднем углу, дал прикурить поэту и примирительно заметил:
— Вот видишь, голубь, как хорошо, когда оба грамотные: раз — и разобрались, а то иногда придет человек, смотришь на него, а что писать — неизвестно. Ни под какую правильность он не соответствует. А ты не из семинаристов будешь?
— Нет! Крестьянин я. Но на попа и дьяка действительно учился.
— А вот у меня дети растут… Школы здесь нет. Батюшка этим не занимается, а я целый день в канцелярии. Некому азбуку им показать. Так и растут, как бурьян в степи. А в жизни нет неграмотному человеку дороги. Если бы я был ученый, дослужился бы до офицера, человеком бы стал и их, детей, в люди вывел бы, а так…
И Лаврентьев тяжело вздохнул.
— Не журись, брат, — неожиданно сердечно отозвался Шевченко. — Может быть, и я смогу тебе помочь в этом горе… Только не знаю, как тут будет со службой… Никогда в солдатах я еще не был…
— От тюрьмы и от сумы не зарекайся, — готовым словом откликнулся Лаврентьев. — Ты тут минутку посиди, а я приказ напишу, тебя же надо на довольствия внести.
Когда приказ был готов, Лаврентьев сам отвел Шевченко к кашевару и приказал хорошо его накормить, а прощаясь, по-дружески похлопал его по плечу.
— Везде, голубь, жить можно. Проживешь и ты у нас в Орске. А если ты действительно научишь моих мальчиков читать и писать и всем другим наукам, — буду я тебе друг и заступник перед нашими господами офицерами…
Казарма была на пятьдесят человек, неуютная, грязная и полутемная. Возле печки и везде под потолком сушились на веревках сопрелые портянки и подранное солдатское белье. На нарах, просто на матрацах, лежали и сидели солдаты — кто в одной рубашке, кто в расхристанном мундире, а кто и полуголый. В углу дышала невыносимой вонью никогда не мытая бессменная спутница всех казарм и тюрем — известная царская «параша». В другом углу стояла бочка для воды с прикованной на цепи жестяной кружкой. Долгая стойка для ружей блестела стальными стволами и курками. Заплеванный пол с клочками бумаги, окурками и разным мусором был такой грязный, что нельзя разглядеть отдельных досок.
Шевченко нерешительно остановился, не переступая порога, и отвернулся от вони, какой повеяло ему в лицо и в которой тяжело было разобраться, чего больше: запаха кислого борща, гнилой капусты, пота, прелых портянок, махорочного дыма или вони от «параши». Шевченко заставил себя переступить порог и вошел, ища глазами дневального. Тот указал поэту на свободное место в углу, приказал ему сложить вещи в отдельный шкафчик, на котором не было ни замка, ни щелки, и, считая свою роль выполненной, куда-то исчез.
Шевченко огляделся. Сорок пять пар глаз с интересом следили за каждым его движением: кто насмешливо, а кто и злорадно, особенно когда он вытащил платок и приложил его к носу, чтоб хотя бы на мгновение перебить удушливую вонь.
Вдруг из глубины казармы к нему начал двигаться вихлявой походкой высокий черноусый солдат в расхристанном мундире с короткой трубкой в руках:
— Кого я вижу! Бонжурь! Поздравляю с приездом! А мы уже думали, что вас отправили в другом направлении!
И Козловский бесцеремонно сгреб Шевченко в объятия.
— Почему кривитесь? Не нравится наше амбре? Та-ак, уважаемый, это вам не духи столичных дамочек и мамзелей высшего света. Это — имейте в виду — «русский дух, тут Русью пахнет», — как сказал какой-то сочинитель, кажется, пан Барков или что-то подобное.
— Закурим? — предложил Шевченко, чтобы дымом развеять вонь и остановить словоизвержение дворянина Козловского.
— Мерси-с! С охотой, — наклонился все телом Козловский. И вытащил из пачки сразу три сигареты, из которых одну вставил себе в рот, а две — в карман.
— Трубку пока что отложим, — сказал он. — Хотя, кажется, в ней еще остался огонек.
Сейчас это был единственный человек, который мог рассказать о местных порядках, и, переборов в себе отвращение, поэт спросил:
— Ну, как вы тут живете?
— Интересного совершенно мало. Маршировка, фрунт, — с апломбом начал объяснять Козловский. — Иногда стрельба, а вообще — карты, зеленое вино, если в кармане звенит, а относительно деликатных дел — есть две-три солдатских вдовушки, но чрезвычайно капризных.
— А письма? Разрешают ли писать письма, и часто ли бывает здесь почта? — взволнованно спросил Шевченко.
— Почта? — вроде удивился Козловский. — Бывает, бывает. Некоторые пишут и получают письма и даже деньги. Но я мало этим интересуюсь. Мамахен дуба дала. Некому писать.
И снова потянулся к сигаретам. Шевченко сам дал ему еще две сигареты и спросил, через силу скрывая отвращение:
— На каком основании вы рылись в моих вещах там, в пересыльной казарме?
Козловский только на мгновение заткнулся, потом ударил поэта по плечу и оскалился:
— Поблагодарите меня за услугу! Вам надо прежде всего избавиться от разных сувениров и всего, что наводит на грустные мысли. Я облегчил вам это дело, а здесь все равно ничего гражданского не разрешают держать.
Откровенная наглость Козловского больше не удивляла Шевченка. Снова сдержавшись, он сухо ответил:
— Хорошо. Не будем больше об этом вспоминать, но запомните: я категорически запрещаю вам и всякому другому притрагиваться к моим вещам и в шкафчике, и на постели. Если это случится, я сразу приму меры!
Как всякий нахал, Козловский при первом же отпоре сразу присмирел и поднялся с места.
— Компрене и о ревуарь! Устраивайтесь, а я пойду в одно место, которое и вы вскоре будете посещать, — провозгласил он, стукнув каблуками, и направился к выходу своею вихлястой походкой.
Через минуту на плацу заиграла труба. Солдаты вскочили. Начали одеваться, застегивали все пуговицы и подтягивали пояса.
— Что это? — спросил Шевченко пожилого солдата, своего соседа по нарам.
— Проверка, брат. Молитва — и дню конец, — охотно объяснил тот. — Разве в других гарнизонах не так?
— Не знаю. Сегодня первый день моей солдатской службы, — тихо ответил Шевченко и вздохнул.
— Ничего, брат. Привыкнешь. Я уже двадцатый год служу, — тоже тихо ответил солдат, затягивая пояс. — Ты только с командирами не загрызайся, а жить везде можно.
Весь вечер Шевченко не мог найти себе места. Он то выбегал из казармы дыхнуть свежим воздухом, то возвращался назад, ложился, но не мог уснуть под оглушительный шум, смех и ругань, под верещание гармошки, а когда люди понемногу стали успокаиваться, на него накинулась бесчисленная армия клопов, от которых все тело с непривычки начало печь, как от крапивы.
— Господи! Да как вы тут можете спать?! — с ужасом прошептал Шевченко соседу. — Живьем съедают клопы.
— Эх, брат, натопаешься за целый день вместе с нами — уснешь и ты, да так, что и архангельская труба не разбудит, не то что наш батальонный горнист, — вздохнул старый. — Когда праздник, тогда действительно достают проклятые, а в обычные дни не до клопов.
И безнадежность, покорная грусть, примирение со всем на свете чувствовались в его ровном голосе.
— Слушай, дядя, — снова зашептал Шевченко, подсовываясь ближе. — Мне в Оренбурге говорили, что здесь есть польские ссыльные. Их как будто тоже отдали в солдаты, как и меня. Где же они?
— А разве ты из поляков?
— Нет. Я с Киевщины. Хохол я, по-вашему.
— Ясно. Поляки здесь действительно есть, но они не с нашей роты и большинство из них живет на вольных квартирах. Раньше было их много, а теперь и пяти не наберется…
«На вольной квартире! Про это и Герн говорил, — вспомнил Шевченко. — Они с оружием восстали против Николая, но им дали послабления. А меня… Плохие твои дела, Тарас!»
В казарме мелькал слабый свет лампадки. Солдаты укладывались спать, кашляли, чесались, крестились и тяжело вздыхали. Кое-кто уже спал. Иногда кто-то начинал громко разговаривать во сне, и почти всегда это были ругательства. От распаренных, потных тел в казарме стояла страшная духота, и вонь все усиливалась.
Тарас никак не мог уснуть. Отчаянная грусть стесняла душу. Он сбросил одеяло, потом рубашку, но дышать было нечем. Разноголосый храп, почесывание, ругательства и сонное бормотание наполняло темноту.
Шевченко поднялся и вышел из казармы. Черное небо висело над степью, играя бесчисленной россыпью звездных искр. Раскаленная за день земля еще не остыла, и сухой горячий ветер обнял его грудь. Он поднял голову к небу, и крик отчаяния сорвался с его губ.
Молчало небо, как молчит оно на все слезы и крики земли. Молчала и степь. Горячий ветер, полный ароматов полыни, зубровки и других ароматных трав, мягко охватывал его тело.
И вдруг вспомнил поэт, глядя на звезды — те же самые звезды, какими он любовался в детстве, лежа на чумацком возу отца, который взял его с собой в дальнюю дорогу, под равномерный шаг круторогих волов, — что сегодня же ночь на Ивана Купала, чарующая ночь, когда девушки плетут венки и пускают их с тоненькой восковой свечечкой по тихим степным речкам — гадают о своем девичьем счастье. А черноусые парни ищут до утра в лесных чащобах огненный цвет папоротника, который раскроет человеку заколдованные клады, спрятанные под землей… Где же он, тот колдовской огненный цвет, перед которым рассыплются каменные стены, железные решетки и кандалы?!
Нет, ничего не сделал бы тут и волшебный цветок папоротника. Нет в этой бескрайней тюрьме стен, решеток и звонких кандалов. Не о чем ворожить солдату линейного батальона. Не для него красным жаром расцветет где-то в чаще леса цветок папоротника.
Долго стоял Тарас, смотрел на звезды, долго дышал бальзамным ароматом полыни и наконец снова нырнул в темноту казармы, утомленный тяжелыми мыслями…
С утра начиналась ежедневная солдатская муштра.
После молитвы и завтрака роту вывели на плац для главной солдатской науки — марширования.
Маршировали по двое, по четверо, по восемь человек в шеренге. Подобно балеринам, которые каждое утро часами упражняются возле станка, солдаты должны были высоко выбрасывать ногу вперед, не сгибая колена, чтобы вся нога становилась одной ровной линией, и сразу ударять ею о землю. Ротный и молодой офицер с одного бока и фельдфебель с унтер-офицером с другого внимательно следили, чтобы вся шеренга, строго подобранная по росту, одновременно поднимала ноги на одинаковую высоту, чтоб все носки как будто касались одной туго натянутой струны и все ноги одновременно с одинаковой скоростью и силой били подошвой землю. Звук от этого шага должен был быть не рассыпным, а единым, сильным и четким.
С первой же минуты Шевченко почувствовал себя в строю беспомощным. Новые юфтевые сапоги еще не обтягивали его ногу как следует. Они были тесными в подъеме, а нога сама собой сгибалась в колене, носок торчал вверх и нарушал стройность шеренги.
— Эй ты, пузан! Выйди со строя! — сердито отдал команду ротный. — Как маршируешь, мерзавец?! Злинцев! Приставь к этому неряхе дядьку из старых солдат! Пусть научит его маршировать по-человечески. А ты, — обратился он к Шевченко, — заруби себе на носу: запорю, если будешь клеить дурака. Понял?!
— Так точно! — ответил Тарас и опустил глаза, чтобы взгляд не выдал его чувств.
Подбежал румяный кудрявый унтер, вызвал из строя старого солдата, соседа Шевченко по нарам, и сказал Тарасу:
— Вот он тебя будет учить. Слушай его и учись. Добром не научишься — силой заставим. У нас тут без меда и кренделей.
Кузьмич, так звали солдата, отвел Шевченко вбок, стал рядом с ним и, опираясь на левую пятку, с удивительной для его возраста легкостью выкинул правую ногу вверх, выгнув ступню пальцами вперед, как балерина, и четко стукнул о землю всей подошвой, потом так ловко махнул левой ногой и сделал другой шаг.
— Когда человек ходит как обычно, — объяснил он, — так нога всегда сначала опирается на пятку, а у нас надо сразу бить землю всей ступней, как будто тавро или печать ставишь на дорогу.
Шевченко пробовал повторить его движение, но у него все выходило нескладно и вяловато.
— Еще один раз! Еще! Еще! — приговаривал Кузьмич, шагая рядом с ним таким же журавлиным шагом. — Да не так, не так!..
Шевченко быстро устал. Все его существо протестовало против этого насилия, бессмысленного физического издевательства, и это внутреннее сопротивление неосознанно придавало всем его движениям неуклюжесть.
— Ать-два! Ать-два! — бодро выкрикивал Кузьмич, а с поэта катился пот ручьями. Насквозь промокла его сорочка, сердце колотилось в груди подстреленной ласточкой.
Муштра продолжалась добрых два часа. Во время пятиминутного перерыва плацем прошел Долгов с батальонным командиром майором Мешковым. Заметив, что солдаты отдыхают и курят, сидя на траве, а только Шевченко со своим «дядькой» бьют землю подошвами, Долгов обратил с дороги на них внимание и потянул за собой Мешкова.
— Вот тот солдат — это талантливый петербургский поэт и художник, — говорил он Мешкову. — Сегодня он в опале, но завтра обстоятельства могут внезапно измениться и он снова появится в столице, в высшем свете, и снова прогремит либо новой книгой, либо новой картиной. Еще неизвестно, может, и нам с вами когда-нибудь придется просить его протекции. В Оренбурге мне говорили, что за него уже хлопочут очень влиятельные особы.
Увидев офицеров, Кузьмич и Шевченко вытянулись.
— Вольно! — махнул рукой Мешков, а Долгов подошел к Шевченко.
— Доброе утро, Тарас Григорьевич.
— Здравия желаю, ваш бродь!
Мешков, как будто рассуждая в голос, протянул:
— Так вот он какой, художник и прославленный сочинитель. — Потом обратился к поэту: — Генерал Федяев, человек добрейшей души, писал мне о вас, просил помочь вам. Поскольку вы у нас с правом выслуги, то со временем можете выйти в офицеры. Поэтому, я, со своей стороны, постараюсь оправдать доверие его превосходительства и сделать из вас хорошего строевика и образцового солдата, — добавил он, отходя.
Пораженный в самое сердце, Шевченко не нашел в себе силы, чтоб ответить по-солдатски: «Рад стараться, ваш скобродь».
«Дурак! Идиот! — думал он в отчаянии. — Ведь не мог Федяев так прямо и написать, чтобы он освободил меня от муштры, а этот бурбон вот как понял… Загонит он меня в гроб…»
Тем временем закончился перерыв. Снова загремели барабаны. Снова послышался тяжелый топот. Снова, обливаясь потом в жарком суконном мундире, топал Шевченко со своим «дядькой» тяжелыми сапогами, окончательно растерянный и убитый словами батальонного командира. Единственная слабенькая надежда на облегчение оборвалась, как тонюсенькая ниточка.
Смертельная грусть гнула его к земле, и когда до разговора с Мешковым у него начало что-то получаться, то теперь удачные шаги случались все реже и реже.
— Не заболел ли ты, брат? — спросил его наконец Кузьмич.
— Все, все хорошо! — скорее себе, чем Кузьмичу, ответил Тарас.
— Ну-ну! Это ты еще настоящей беды не видел, когда от марширования такое говоришь, — с укором отозвался Кузьмич.
Неизвестно, что сказал бы на это Шевченко, но в эту минуту объявили отбой и солдаты пошли обедать. Потом снова были занятия. Тарасу дали ружье, простое гладкоствольное ружье, хотя в английской, французской, австрийской и даже в турецкой армиях уже ввели нарезное оружие, так называемые штуцеры и винтовки. Кузьмич разобрал ружье, показал, как его чистить, и был чрезвычайно удивлен тем, что Шевченко безошибочно собрал его и снова разобрал. Ответил поэт и на «солдатской словесности» на «отлично», четко и правильно произнося такие «тяжелые» слова, как «флигель-адъютант», «фельдмаршал» и «генерал-квартирмейстер». Это примирило старого с его неповоротливым учеником, и когда наконец все занятия закончились, Кузьмич похвально поплескал его по плечу.
— Хорошо, брат. Не горюй! Всему научишься. Сало с пуза немного сойдет — тогда и маршировать станет легче. А что до ружья и всего другого, увидишь — еще и благодарность заработаешь.
После муштры снова пришлось задыхаться от вони в раскаленной солнцем казарме… Махорочный дым ел горло и глаза. Болела голова, нестерпимо ныли натруженные ноги, а в душе с бессилой злостью билось отчаяние от осознания того, что он обречен на физическое и духовное отупение.
Проходили день за днем. И каждый из них был точным повторением предыдущего. Тарасу казалось, что он живет здесь уже несколько недель, а на самом деле заканчивалась только первая неделя его солдатчины. И вот наступило воскресенье.
Как всегда, утром разбудил его барабан. Как всегда, вывели солдат на проверку. После завтрака их повели в церковь, а потом кто лег спать, а большинство разошлись кто куда.
Как будто пробудившись от тяжелого бреда, вышел Шевченко из казармы и натолкнулся на Кузьмича, который разбирал целую связку удочек с самодельными проволочными крючками.
— На промысел собираешься, Кузьмич? — спросил Шевченко.
— Эге ж! На речку пойду! На Урал, а то и на Орь. Стерлядки здесь чудесные встречаются, а карпов таких, как здесь, нигде не найдешь. За день ведра два наловить можно. Такая юшка будет — пальцы оближешь. Я и лаврушки купил. И генералу рыбки занесу. Дочь его всегда у меня рыбу покупает. И чарочку поднесет. Пойдем вместе!
— Пойдем!
Обогнув церковь, они пошли пыльной улицей, заваленной навозом и кучами пепла, прошли мимо дома священника и аккуратненьких домиков, которые Кузьмич назвал офицерскими.
— А где здесь живет прапорщик Долгов? — спросил Шевченко.
— Какой Долгов?
— Тот, с кем я приехал.
— Нет здесь такого. У нас штат господ офицеров заполнен. Его в четвертую роту назначили, в соседнюю крепость. Там, говорят, какой-то офицер умер.
Шевченко вздохнул. И эта надежда предала!.. И почта, как он уже узнал, приходит сюда только раз в месяц с оказией. Поэтому и написать друзьям можно будет не скоро.
Шел он, не поднимая глаз от пыли на дороге, не видел зеленого палисадника возле поповского дома и роскошных кустов сирени под окнами коменданта генерала Исаева. Из-за генеральского дома выглядывал и сад с высокими тополями, с вишнями и яблонями и не виденными на Украине карагачами. За углом вдоль улицы зеленел и генеральский огород. Далее пошли деревянные, потемневшие от времени, крепко срубленные либо из бруса хаты уральских казаков, а еще далее — жалкие подобия человеческого жилища, слепленные из самана. Их низенькие плоские глиняные крыши были на уровне человеческого роста, а окна возле самой земли.
Кузьмич шел быстро и молча. Молчал и Тарас. Он так устал за неделю, так оглох от барабанного боя и от шума в казарме, что наслаждался тишиной и молчанием. Неимоверно хотелось побыть наедине, и пошел он с Кузьмичом только потому, что не хотел в первый же день попасть в какую-нибудь неприятность.
Наконец сбежали они крутым берегом к Уралу. Старый сразу начал разматывать свои удочки, а Шевченко надвинул на лоб бескозырку и сказал:
— Я пойду. Не буду тебе мешать. Рыба тишину любит, а я тут немного поброжу и, наверное, покупаюсь.
Кузьмич молча кивнул ему, занятый насаживанием червя, а Тарас пошел вдоль Урала и шел долго-долго, углубленный в свои невеселые мысли.
Орск медленно исчезал вдали, сливался с почерневшей от жары степью. Река крутым изгибом повернула вбок, а Шевченко все шел и шел. Наконец он остановился и огляделся.
Безбрежная степь замкнула вокруг него свою круглую плоскую чашу, накрытую голубым полушарием неба. Тихо и пусто было здесь: ни птиц, ни тушканчиков, ни любопытного суслика.
Один! Один!.. Октавиан, высылая с Рима Овидия на Дунай, не додумался до такого утонченного наказания. Нет худшей муки для творца, чем лишить его возможности творить прекрасное… для счастья людей…
В отчаянии упал он лицом в траву и разрыдался.
Отчаяние как будто таяло в слезах и отступало от души отгремевшей грозой. Постепенно вместо отчаяния душа его наполнялась ненавистью, одна капля которой могла испепелить царя Николая вместе со всеми его сатрапами от Дубельта и Орлова, Фундуклея и Юзефовича до Глобы с Мешковым.
А с ненависти рождается протест, сила и воля к борьбе.
— Буду писать! Буду! Не сломаешь меня! Не заткнешь мне рта! — кричал он в пустую степь. — Я не могу не писать, как не может солнце не светить, как не может воздух стать твердым и неподвижным! Буду писать! И все твои запреты бессильны против живого слова! Твой приговор только доказал, что мое слово — тоже оружие! И ты его боишься!
Шевченко поднялся на ноги. Взгляд стал решительным и твердым. Размашистым шагом двинулся он целиной, подминая колючий бурьян, сероватую полынь и белый дымок ковыля.
«Буду писать! Буду! Не завяжешь ты мне рта никакими наказаниями! И не дам себя съесть никаким Глобам. Выучусь и маршировать! Научусь хорошо маршировать! Все уставы вызубрю, чтоб никакая гадина не смогла подкопаться! Сохраню себя вопреки тебе! И рано или поздно мы с тобой еще посчитаемся. Нацепил на меня солдатский мундир — мундир своего защитника и слуги — и думаешь, что уже сломал?!»
В казарме было почти пусто. Несколько пьяных в дым храпели по углам, дневальный совсем куда-то исчез. Шевченко открыл свой шкафчик, вытащил чемодан, взял несколько листов бумаги, спрятал их за пазухой и пошел в степь, за валы. Там, на берегу тихой Ори, поросшей густым камышом, сшил он себе маленькую книжечку и записал в нее свое первое невольничье стихотворение…
Уже третью неделю тянул Тарас свою тяжелую солдатскую лямку. Теперь он хорошо знал команды, в строю четко бил землю сразу всей подошвой, «печатая» шаг. И на стрельбах, и на солдатской «словесности» даже заслужил похвалу. Только сам он никак не становился тем бравым молодцем, которого так желал Мешков.
Он жил двойной жизнью. Одна была у всех на виду: на плацу, в вонючей шумной казарме, на солдатской «словесности». Но была у него еще другая, тайная и глубокая жизнь, о которой могли догадываться лишь друзья. А посторонние и не подозревали, что в душе его звучат неслышимые песни, сплетаются рифмы, рождаются образы, накапливаются наблюдения. Даже на плацу под сухой и оглушительный треск барабанов рождались в нем иронические строки в ритм этим проклятым барабанам.
— Ать-два! Ать-два! — выкрикивал капитан Глоба, священнодействуя.
А Шевченко мысленно вторил ему, подстраиваясь под его убогий уровень:
Ать-два! Ать-два! В кого є ще голова – Викинь думку, не барись! Барабанові молись!При этом носок Шевченкового сапога насмешливо поднялся над уровнем сапог всей шеренги, и Глоба злобно подскочил к Тарасу:
— Куда смотришь, идиот! Снова носок на палец выше!
— Ваш скобродь, — оправдывался Шевченко. — Ей-богу, он у меня от природы такой! Я стараюсь, как только могу…
— Молчать, дурак!!! Без разговоров в строю! — рычал Глоба и тыкал к носу Тараса волосатый кулак, но ударить не осмеливался.
Долгов не зря сказал, что за поэта хлопочут в Петербурге высокопоставленные особы. Лучше не рисковать своей карьерой ради нескольких выбитых солдатских зубов.
— Выпорю! Сквозь строй прогоню, если будешь ловить ворон! — орал он уже тоном ниже и бросался к другому взводу, заметив и там какой-то непорядок.
Шевченко вздыхал и подтягивался. До конца муштры колени его больше не сгибались, а носок не высовывался выше общего уровня.
На праздники и в табельные дни, каких было ежемесячно, кроме воскресенья, не меньше двух-трех, Шевченко шел в степь, к реке Ори, которая впадала в Урал за две-три версты от крепости. И там, убедившись, что никто из казарменных пьяниц, а тем более из начальства, не идет за ним следом, Тарас устраивался в густых кустах, вытягивал из-за голенища крохотную записную книжечку и писал стихотворения родным украинским языком, на котором здесь никто не говорил, даже не понимал его.
Мысли Шевченко всегда были на родине. Стоило ему закрыть глаза или просто задуматься, как вставала перед ним его родная Кириловка, или бесконечно дорогой древний Киев, что пышно раскинулся на зеленых берегах Днепра, или какая-нибудь гостеприимная усадьба, где подолгу жил поэт, рисовал портреты хозяев и одновременно работал над своими стихотворениями. Всегда, всегда душой был там, где страдал его народ, его кровные сестры и братья, и, как Антей, припадая хотя бы в мыслях к родной земле, укреплялся духом и писал. Он рисовал в своих стихотворениях картины украинского села, утопающего в зелени садов, с его белоснежными хатками среди стройных тополей, с зеркально чистым прудом, с левадами и веселым кипением воды на колесе мельницы.
Да, это был рай земной, но рядом, на горе, высился панский дворец, где для вечных банкетов были всегда нужны деньги — вот и отбирали у крестьян последнюю телочку, последнюю жалкую лошадку, без которой не вспахать нищий клочок земли, и продавали урожай, обрекая село на голод.
Так написал он поэму «Княжна». Закипало сердце гневом и ненавистью, слова становились крепче, как удары канчука. Рождались на бумаге строки, которым суждено было только через десять лет дойти до читателя. И, утешившись сладкой мукой творчества, возвращался Шевченко в казарму, сознавая, что даже здесь, в неволе, служит родной земле, готовит оружие для борьбы за свободу народа…
В одно из воскресений в конце июля Шевченко не решился пойти далеко в степь до Ори, потому что небо обложили грозовые тучи, уже то тут, то там серая сетка дождя заступала горизонт и слышались слабые раскаты грома. Устроившись в кустах над Уралом, Шевченко пересмотрел странички своей книжки, своих «деток», как с болью называл он эти стихи, потом, обессиленный предгрозовым жаром, разделся и бросился в холодные волны Урала. Купание освежило его. Он несколько раз нырнул, поплавал немного и уже одевался, когда вдруг приятный баритон спросил с заметным польским акцентом:
— Если не ошибаюсь, господин есть поэт Тарас Шевченко?
Тарас вздрогнул и схватился за сапоги: заветная книжечка была на месте.
— Извините… С кем имею честь? — спросил он уже спокойнее.
— Разрешите отрекомендоваться. Товарищ пана по судьбе: ссыльный поляк Отто Фишер.
У Шевченко отлегло от сердца.
— Очень, очень приятно! Я тоже хотел с вами познакомиться, то есть со всеми ссыльными, — тепло пожал он руку Фишеру. — Но откуда вы обо мне узнали?
— Мой коллега Людвиг Турно написал мне из Оренбурга про пана.
— Турно? Помню: мы познакомились с ним у Гернов. Чрезвычайно симпатичный человек. Но вы здесь, кажется, не одни?
— Сейчас нас в Орской только трое. Один умер весной от туберкулеза. Остальных перевели в другие батальоны. А вы купались? Хорошая вода?
— Прекрасная. Свежая, бодрит очень хорошо.
— Тогда, если пан позволит, и я искупнусь.
Пока Фишер купался, Тарас расчесал свои усы и волосы, хорошо вытряхнул мундир, приводя себя в более опрятный вид. Когда Фишер сел рядом, в тенечке, под кустами, радостно протянул ему обе руки.
— Ох, как же я соскучился здесь за дружеской беседой!
…Они не замечали течения времени, как будто не впервые встретились, а были старыми друзьями, что встретились после долгой разлуки. И только сильный вихрь заставил их опомниться.
— Гроза! — вскочил на ноги Шевченко.
Трепетали перепутанные листья кустов. Зеркальная речка потемнела и взялась крутою рябью, а ковыль наклонился к земле, и казалось, что его седые волосы расчесывает кто-то расческой.
Придерживая рукой бескозырки, торопились друзья в Орск, а черная туча, что уже плотно закрыла жаркую небесную голубизну, раз за разом вздрагивала над ними яркими молниями и раскатистым громом. Полетели первые капли дождя, проникая в землю, как стеклянные стрелы.
Когда они добежали до первых хат, теплый благодатный дождь шумел вокруг, ветер гнал его бледными волнами, и казалось, что это мелькают бесформенные призраки с развевающимися седыми волосами.
Долго отряхивались они на крыльце, потом Фишер ввел Тараса в рубленую хату, построенную по-восточному, окнами во двор, а глухой стеною — на улицу.
Навстречу Шевченко поднялся высокий, темноусый человек лет тридцати пяти — тридцати шести.
— Знакомьтесь, мой друг Станислав Круликевич, — отрекомендовал его Фишер.
— А мы вас разыскивали на прошлой неделе, — приветливо заговорил Круликевич глуховатым басом. — Заходили в вашу казарму, искали в степи. Искренне рад видеть дорогого поэта, нашего единомышленника.
— Благодарю на добром слове! — поклонился Шевченко. — Но не имею права признать за собой какой-либо заслуги в борьбе за вашу страдалицу — Польшу.
— Это ничего! У нас общий враг — самодержавие. А значит, и общая цель: завоевать свободу всем народам, что стонут под его сапогом, — сказал Круликевич.
— А знаете, Тарас Григорович, — вмешался Фишер, — пан Круликевич и пан Завадский, наш третий товарищ, три месяца лежали в госпитале после «зеленой улицы».
— Как?! Шпицрутенами?! — стиснул зубы Шевченко.
— Так… Дважды прогнали через пятьсот человек, — подтвердил Круликевич. — Как подстрекателей к восстанию. Так сказано в конфирмации.
Фишер поспешил и Завадского познакомить с Тарасом. Пожав Шевченко руку, Завадский скинул мокрый мундир и, садясь к столу, спросил гостя:
— Курите?
— Да, но сигареты, а не трубку.
— А я достал у бухарцев чудесного кафану. Это один из наилучших турецких табаков. Может, попробуете? Табак действительно чудесный.
— У меня есть лишняя трубка, — сказал Фишер. — Прошу: на знак нашей будущей дружбы закурим «трубку мира».
— Ну, если вы так ставите вопрос… — и себе улыбнулся Шевченко, принимая трубку.
Закурили. После махорки и дешевых сигарет поэт с наслаждением вдыхал ароматный дым кафана и вдруг заметил на стене большую полку с книгами. Глаза его вспыхнули, как у голодного, что увидел хлеб. Круликевич перехватил его взгляд, и суровые глаза его потеплели:
— Рады книгам? Действительно, с ними здесь тяжеловато. Это земляки из Оренбурга нас выручают, а иногда и родители что-то пришлют с попутчиками. Наша библиотека к вашим услугам.
Шевченко подошел к полке. Мицкевич, Мольер, Словацкий, Шиллер на польском языке, Ян Кохановский, Гнат Красицкий, Вальтер Скотт, немецкие, польские, французские романы. И только три книжки на русском языке: Пушкин, Рылеев и «Пестрые сказки…» Одоевского.
— Нет ли у вас случайно Герцена? — спросил он, пересматривая парижское издание «Гражины».
— Есть, но в будке Барбоса, — отозвался Завадский, который в это время крошил на столе табак.
— Все запрещенное мы держим во дворе, в собачьей будке, — смеясь, объяснил Фишер. — Рылеев также всегда бывает там, но сегодня мы не успели его спрятать, потому что хозяева были дома. К Барбосу мы ходим, когда их нет, или ночью, когда они спят. Барбос честно охраняет книги. Он нас любит… Наш хлеб и кости с нашего борща.
— А клыки у него — как у волка, — добавил Завадский. — Никто чужой не рискует приблизиться к его будке.
— А хозяева?
— Они не знают о нашем хранилище. Мы сделали его, когда ремонтировали будку. Но теперь во время любого обыска у нас ничего не найдут.
Шевченко выбрал «Пестрые сказки…» и маленький, карманного формата, томик Мицкевича. Тем временем на столе появились самовар и закуска. За чаем много разговаривали и вспоминали.
Поляки рассказывали о польском восстании, участниками которого они были, а Тарас рассказал о Кирилло-Мефодиевском братстве, о своем аресте, прочитал им свои «И мертвым, и живым»…», «Завещание», «Сон»…
Поляки смотрели на поэта зачарованно. Впервые в этой страшной тюрьме без стен они были счастливы.
А Шевченко, вернувшись в казарму, лег на свои нары и раскрыл принесенные книги…
Темнело. Прошли вечерняя молитва и проверка. Казарма стала потихоньку затихать. Тарас думал о поляках и Польше. В груди поднималось теплое чувство к этой стране, где рождаются такие смелые и непоколебимые люди.
Казарма спала. Разноголосый храп, сонные вздохи и бормотание звучали со всех сторон. Шевченко спрятал книги, сел возле лампадки, взял клочок бумаги, найденной между страницами книги, и задумался.
Да, поссорили народы Украины и Польши ненасытные магнаты и ксендзы — хищные и хитрые иезуиты…
Прийшли ксьондзи і запалили Наш тихий рай, і розлили Широке море сліз і крові, А сирот іменем Христовим Замордували, розп’яли… Отак-то, ляше, друже, брате. Неситії ксьондзи, магнати Нас порізнили, розвели, А ми б і досі так жили. Подай же руку козакові І серце чистеє подай! І знову іменем Христовим Возобновим наш тихий рай.Тарас перечитал написанное, сложил осторожно листочек и спрятал в карман.
Нетерпеливо ждал он конца этой недели. «Пестрые сказки» перечитал дважды. Много стихов Мицкевича выучил наизусть. Но когда в воскресенье начал собираться к своим новым друзьям и открыл свой шкафчик, «Пестрых сказок…» там не было.
Шевченко побледнел.
— Книга?! Где книга, которую я читал? — кинулся он к Кузьмичу, который пришивал себе пуговицы к мундиру. — Чужая книга!
— Я — не вор, — посмотрел на него суровым, но ясным взглядом старый солдат. — Спроси вон тех, — презрительно кивнул он на дальний угол, где на нарах резались в карты Козловский с разжалованным прапорщиком Белобрововым и с дегенеративным ревельским пьяницей Шульцом.
Шевченко подошел к ним и, глядя в глаза Козловскому, спросил:
— Где моя книга?
Козловский не моргнул глазом.
— Кому нужна прочитанная книга? — ответил он вопросом на вопрос.
— На самокрутки, — небрежно пробасил Белобровов.
— Я требую немедленно вернуть мне книгу! — остро повторил Шевченко.
— Ах, пардон! — стукнул каблуками Козловский. — Я и забыл вас известить, что она находится в слободке, у продавца Чалхушьяна. Он охотно покупает книги за двадцать копеек. Идите и заберите ее. Возможно, он еще не разорвал ее на кульки.
Надвинул бескозырку, Шевченко едва не бегом подался в слободку, где среди серо-желтых халуп размещался магазинчик Чалхушьяна. И чего-чего только здесь не было! Рядом с бочками с ржавой селедкой, керосином и подсолнечным маслом, мешками муки, пшена, сахара и крупы грудились ящики с мылом, махоркой, гвоздями, макаронами, свечками, стояли коробки с дешевыми конфетами, лимонами, изюмом и лавровым листом, а под прилавком стояли плетенные лозой огромные емкости с водкой и дешевым кавказским вином.
— Вам продали книжку? — спросил продавца Шевченко.
— Адин книжка солдат вчера приносил, — флегматично ответил толстый коротконогий продавец. — Смотри! Твой — не твой? — кинул на прилавок «Пестрые сказки…».
— Она! Она! Книга чужая, а он ее украл, — сказал поэт и с ужасом увидел, что у нее уже выдраны «Содержание» и последняя страница. — Тут еще была страница. Может, она у вас сохранилась?
— Солдат приносил, — равнодушно повторил армянин. — Услугу тебе делаю: нам бумага для селедки нужна, для сахара, для кишмиш. Солдат приносить — мы берем, за это водка даем, махорка. Плати тридцать копеек и бери.
Шевченко заплатил деньги и поспешил к своим друзьям. Завадского и Круликевича не застал: они были в карауле, а Фишер ждал поэта. Тарас рассказал ему о приключении и начал извиняться.
— Не берите это близко к сердцу, — видя его волнение, засмеялся Фишер. — Было бы значительно хуже, если бы они всей казармой скурили ее. Садитесь отдохните и лучше расскажите, что у вас новенького, а потом пойдем купаться к Уралу. Захватим и удочки. День сегодня прохладный. В такую погоду рыба хорошо клюет. А обедать пойдем к генералу Исаеву.
— То есть? — удивился Шевченко.
— Очень просто. Генерал вдов. Живет с дочерью Наташей, которая недавно закончила Смольный. А теперь к нему приехала и старшая дочь, вдова офицера, убитого в прошлом году на Кавказе. У этой дамы есть мальчик, которого я готовлю в гимназию. Я часто остаюсь у них на весь вечер. Конечно, я рассказал им и про вас. Генерал хочет вас увидеть, а старшая дочь его читала ваши стихи и увлечена ими. Они просили обязательно привести вас.
Освежившись купанием и прогулкой в степи, налюбовавшись белым дымом ковыля, пошли они к генералу.
В скромно обставленной, но просторной гостиной генеральского дома главным украшением был большой рояль Эбергардта и нескольких пышных финиковых пальм и фикусов. Весело что-то выкрикивал в высокой круглой клетке серый с малиновой грудью попугай.
Встретила их старшая дочь генерала Лидия Андреевна.
— Здравствуйте, — просто протянула она руку Шевченко, которого церемонно отрекомендовал Фишер. — Рада познакомиться с вами. Но что же мы стоим? Садитесь, пожалуйста. Папа, как всегда, хандрит и охает. Он сейчас выйдет… А я читала ваши стихи, ваш «Кобзарь». Еще там, на Кавказе, когда муж был живой. Свежий, оригинальный у вас талант. Иногда он такой мягкий, такой лиричный, а иногда — стихийный, острый и мужественный. Как буря на море. Вы должны сберечь себя, должны все перетерпеть, чтоб подарить людям еще не одну хорошую книгу.
Шевченко только молча поклонился.
В эту минуту вошла Наташа с десятилетним Петей, сыном Лидии Андреевны. Петя нес кошелочку вишен, только что сорванных в саду, а Наташа кинула на рояль новенькие ноты и, поздоровавшись с гостями, обратилась к Фишеру:
— Помогите мне, мсье Отто, придумать средство от грусти. Устроим концерт. Нам прислали чудесные романсы Варламова, отрывки из оперы «Жизнь за царя» Глинки и еще кое-чего. Вы — на скрипке, мы с Лидой — на рояле. У Глобы неплохой бас, а у Степанова — маленький тенорок. Кроме того, можно создать хор. Матушка Степанида имеет неплохой голос, а пропищать два-три романса смогу и я.
— А кордебалет пусть организует господин Мешков на прусский манер, — весело подхватил Фишер. — Недурно он муштрует нас, солдат, вытягивать носки, как на оперной сцене, только без пачек и трико, если панна Наташа не сошьет их всей роте из лазаретной марли и тарлатану.
Все весело смеялись. Лидия Андреевна села за рояль и начала просматривать ноты.
— Это чрезвычайно мелодичный дуэт, — заметил Фишер, поставив на пюпитр ноты в цветастой обложке. — Я пел его еще дома, в Варшаве.
— Вот как! А я уже разбирала его сегодня утром. Давайте, попробуем спеть, — подхватила Наташа. — Играй, Лида! Пардон, мсье Шевченко. Я и не спросила: наверное, и вы тоже поете?
— Пою, только не романсы, а народные песни. Пойте, пожалуйста. Я так соскучился по музыке.
Вступая в аккомпанемент, Наташа запела звонким чистым сопрано:
По реке вниз по широкой, По летящей быстрине Из отчизны в край далекий Едет странник по реке, –подхватил Фишер, бросая на Наташу влюбленный взгляд.
Река шумит. Река ревет. Мой челн о брег кремнистый бьет, –красиво слились их молодые голоса, а Шевченко закрыл глаза и на мгновение забыл, что он в Орске. Ему казалось, что он снова на Украине, в Березовых Рудках, поместье Закревских и слышит чарующий голос Анны.
Лидия Андреевна еще старательней подчеркивала голоса певцов то звонкими аккордами, то бархатным раскатистым тремоло.
Не изменю в стране чужой, И здесь, и там везде я твой! –патетично закончил Фишер.
— А теперь мы попросим спеть вас, Тарас Григорьевич! — сказала Наташа и зааплодировала. — Нет, нет! Не отказывайтесь! Ведь это же не концерт. Мы все только любители! — пылко заговорила она, видя, что Шевченко смутился и даже замахал руками.
— Ну, спойте, пожалуйста! Мы любим малороссийские песни!
— Не до песен мне теперь, — сурово сказал он. — Может быть, когда-нибудь позднее.
Лидия Андреевна вдруг тихо заговорила как будто сама себе:
— Как я это понимаю! Уже год, как погиб мой Алеша. А я все не могу примириться с его смертью.
— Дорогая пани Лида, — остановил ее Фишер. — Мы все вам соболезнуем и сочувствуем. Крепитесь! Перед вами живой пример: пан Шевченко обо всем этом написал, и вот он в Орской крепости, солдат.
Лидия Андреевна горько рассмеялась.
— Знаю! Но иногда и немой начинает кричать. Я жила в Пятигорске с сорокового года. Помню Лермонтова. Он тоже был в опале и тоже не мог молчать…
— …и погиб от пули подосланного убийцы, — договорил за нее Фишер.
Шевченко слушал этот разговор с глубоким волнением. Какое счастье, что он переступил порог этого дома!
В разгар разговора вошел генерал, который всегда сидел с утра в своем кабинете, читал «Русского инвалида» или «Всемирную историю» и только к обеду одевал мундир и при полном параде выходил к столу. Но сегодня, заинтересованный рассказом Фишера о сосланном художнике и поэте, вышел в гостиную на час раньше, чтоб поговорить с ним до появления офицеров, которые каждое воскресенье обедали у своего командира.
Увидев генерала, Шевченко поднялся и вытянулся. Генерал улыбнулся и подал ему руку.
— Бросьте вы это, дорогой мой! На службе уже надоело… Садитесь да расскажите, как вам тут живется.
— Пытаюсь привыкнуть, ваше превосходительство, и быть не хуже других, — сказал Шевченко.
— Тяжело, наверное? Да вы не возражайте, батенька! Сам знаю и очень жалею, что до сих пор о вас не побеспокоился. Болезни замучили, черт их забери! Военному человеку тяжело, а гражданскому наш… кордебалет и совсем не одолеть. Я — суворовской школы солдат и ненавижу эту проклятую прусскую шагистику. Армия существует, чтоб воевать, чтоб защищать родину, а не для парадов и не для того, чтоб издеваться над людьми, — гремел генерал, все более распаляясь. — Маршировать учат, а метко стрелять даже офицеры не всегда умеют! А на войне этот кордебалет никому не нежен. Нет! Не маршированием победили мы Наполеона, и не маршированием штурмовали Измаил, и не под марш переходили Альпы! Из-за этих проклятых порядков и ушел я из гвардии, потому что привык резать правду-матку просто в глаза. Вот и решили, что местный климат для меня здоровее… Ну, да черт с ними! — махнул он внезапно рукой и замолк.
Когда генерал отдышался от своей эмоциональной тирады и снова спросил Шевченко, в чем ему помочь, тот просто сказал:
— Марширование — клятая вещь, но ее хуже — жизнь в казарме. Эта ужасная грязь, эта непереносимая вонь, вши и миллионы клопов, мух и тараканов, которые не дают ни на мгновение отдохнуть. Под утро вроде заснешь от бессилия и просыпаешься с головной болью, совсем разбитым. Я вырос в нищете, в жалкой крестьянской хате, но ничего подобного и во сне не видел…
— Моя вина, — буркнул генерал. — Что-что, а клопов вывести и чистоту навести можно, и… и все другое. Ну, ничего, это мы наладим. И вы не расстраивайтесь: я за вас похлопочу…
Потом генерал пересел в свое любимое кресло-качалку и попросил Лидию Андреевну сыграть ему что-нибудь хорошее. Лидия Андреевна играла с душой, и под ее пальцами ноктюрн Шопена приобретал особенную глубину.
Неожиданно в передней зазвучали громкие голоса, звон шпор, и в гостиную вошли Мешков, Глоба, Степанов, поручик Богомолов и еще какой-то высокий, рудой офицер из другой роты, которого Шевченко видел только издали на плацу. Пока офицеры здоровались с генералом и вежливо и церемонно целовали ручку Лидии Андреевны, Шевченко с Фишером отошли в угол, но генерал сразу про них вспомнил.
— Знакомьтесь, господа, и не в служебном порядке, а в частном, — пробасил он. — Это единственный настоящий художник и настоящий поэт в нашем Орске. Прошу любить и жаловать.
После такого вступления офицерам оставалось только пожать Шевченко руку, и каждый из них почувствовал себя очень неудобно, припомнив, как он «тыкал» ему на плацу и обзывал за каждый неудачный шаг, поворот и взмах ногой.
— Гляньте, мсье Степанов, и вы, капитан, какие чудесные ноты мне прислали из Оренбурга, — очень вовремя защебетала Наташа. — Вот ария Сусанина из оперы Глинки. Это специально для вас, капитан. А вот романс: «Стонет сизый голубочек» для вас, поручик, — обернулась она к Степанову. — А мы тут с господином Отто уже разучиваем очень мелодичный дуэт. Я хочу, чтобы на мои именины каждый из вас что-нибудь выучил. Пан Фишер заиграет на скрипке, и мы с ним пропоем дуэтом. Я хочу, чтобы получился настоящий концерт, как это бывает в больших городах.
— Только без балетного ансамбля в постановке майора Мешкова, — шепотом подсказал ей Фишер.
Наташа не удержалась и прыснула, уткнув нос в носовой платочек, сделав вид, что чихнула.
Мешков подсел к генералу, а Петя вцепился в Степанова, показывая ему модель римской катапульты из дощечек, резинок и пробок, какую он сам смастерил. Лидия Андреевна усадила Шевченко возле себя и начала его расспрашивать о Варваре Репниной, с которой когда-то встречалась в Петербурге, а офицеры рассматривали ноты и рассказывали один другому какие-то военные новости.
Обед прошел шумно и живо. Офицеры немного выпили и весело, непринужденно разговаривали с дамами. После кофе генерал пригласил Мешкова в кабинет и начал расспрашивать про Шевченко.
— Человек он тихий и, если сравнивать с другими, трезв и вежлив, но, хоть убей, остается такой же тюхтей, каким прибыл к нам. Нет выправки — и все! — развел руками Мешков.
— Ну и пусть остается таким, каким родился, — улыбнулся Исаев, выпуская дом из своего длинного чубука. — Я думаю, что его, как политического, надо перевести на частную квартиру.
— Но, ваше превосходительство, это противоречит уставу.
— Почему? Ведь и Фишер, и Завадский, и Круликевич — солдаты, а живут на квартире?
— Что касается поляков, мы имеем отдельную инструкцию. Государь считает необходимым изолировать их от солдат, поскольку они могут на них плохо влиять. А этот Шевченко…
— Нет! Этот Шевченко тоже не простая штучка. Сегодня он унтеров ругает, а там и до высочайших особ доберется…
— За ним же наблюдают…
— Да оно так. И все же… Вылетело слово — его, как воробья, не поймаешь, а вредные мысли уже в солдатские головы и посеяны. Знаю я таких… Его надо немедленно изолировать. Я знаю, что говорю. Не за воровство или убийство его забрили… Дело серьезнее. А если бы ему удалось посеять в казарме нежелательные настроения и это дошло бы куда надо? Что было б? Да вы первый, как батальонный командир, ответили бы за это, а капитан Глоба — как ротный.
Такой неожиданный аргумент поразил и сбил с толку Мешкова.
— Давайте позовем Глобу и обсудим вместе с ним, — предложил он.
— Хорошо. Позовем.
Глоба выслушал генерала и решительно отрубил:
— Противоречит уставу.
— Э, батенька! — с укором оборвал его генерал. — Уставы пишут для порядка, но каждый из вас нет-нет да и нарушает его. Вам, например, капитан, следует отпуск двадцать восемь дней в году. А кто, как не вы, кроме этого, дважды ездили в Оренбург и каждый раз на десять дней, и я вам и слова тогда не сказал, потому что, как говорят, не за каждую вину палкой по спине. А вы, майор, просили меня помочь вам, когда ставили себе дом. Тридцать солдат бесплатно работали на вашей стройке полтора месяца: они и стены вам возвели, и стропила, и крышу, и печи сложили — все. Даже в праздники работали, — поднял палец генерал. — И это за счет строевых занятий, которые тем же уставом ничем не разрешается заменять. И я тоже на все это смотрел сквозь пальцы. А здесь же дело совсем особенное. Я серьезно говорю, что от такого тихенького может родиться и политический бунт. Представьте себе, что снова восстанут киргизы, как было десять лет назад. И вот подступят они под Орск, а он солдатам головы накрутит, что в киргизов нет крепостных, и они сдуру перекинутся к бунтовщикам. Как вы тогда запоете? Вот почему советую вам не спорить. Завтра же утром я подпишу приказ, потому что решил оберегать и вашу, и свою безопасность, изолировав его своевременно от нашей «серой скотинки», — решительно завершил генерал и поднялся, давая понять, что решение его окончательное.
Выходя в гостиную, он еще на минутку задержался на пороге и добавил:
— И в строю советую вам, господа, быть с ним деликатней. Не надо перед солдатами делать из него мученика за волю.
В гостях у генерала офицеры всегда чувствовали себя стесненными: пьянствовать они любили без меры и, выпивши, начинали петь либо танцевать, но присутствие Лидии Андреевны, столичной дамы из высшего света, мешало им. Для порядка они попросили ее сыграть на рояле, а пока она играла, скучали, делая вид, как будто внимательно слушают, вместе поаплодировав ей, и буквально не знали, что дальше делать.
— Эх! — вздохнул вдруг рудой поручик из другой роты. — Стоял я в том году в Нижнем Новгороде. Во время ярмарки шла там сумасшедшая гульня. И цыгане, и комедия, и по ресторанам каждый день пьянка. Был там один прапорщик. Нот он не знал и голос имел прекраснейший, но как же он пел хохлацкие песни! Просто за сердце брало, до слез доводил. Слушал я его часами.
— И наш Тарас Григорьевич тоже поет малороссийские песни, — вбросил Фишер, мгновенно сообразив, что в интересах Шевченко произвести на офицеров наилучшее впечатление. — Попросите его. Он чудесно поет.
Но Тарас наотрез отказался…
На другой день после обеда, только Шевченко вошел в казарму, дневальный крикнул ему с глубины:
— Эй, Шевченко! Марш в канцелярию! Писарь Лаврентьев зовет. Бегом!
Такие вызовы вообще ничего хорошего не предвещали: либо гауптвахту, либо внеочередной наряд, либо что-то в таком же духе. Но Лаврентьев встретил его приветливо.
— Магарыч с тебя, служивый, потому что такой есть приказ, чтоб тебя перевести на вольную квартиру, только с ежедневным выходом на строевую муштру и на все другие ротные занятия. Так что собирай свое барахло, бери сухой паек и топай в слободку. Хлеб будешь получать ежедневно перед муштрой.
Шевченко аж перекрестился от радости и чуть не бросился на шею Лаврентьеву. Тот улыбнулся и спросил:
— Куда же теперь пойдешь? Давай ко мне! Хата в меня одна из наилучших. Баба, теща то есть, зимой умерла. Будешь жить в ее комнате. Теплая она, чистая и клопов нет. Гляди, с собою казарменных не принеси. Жена моя за клопов и тебя, и меня со света сживет. Твоя она землячка — хохлушка, полтавская галушка, поэтому и в хате у меня чисто, как у самого генерала.
— Сколько возьмешь? — заранее спросил Шевченко, потому что деньги его заканчивались.
— Люди рубль за месяц берут, а я тебя так пущу, если ты действительно моих ребятишек Васька и Степку грамоте и считать научишь, а потом и всем другим школьным наукам.
— Согласен, — обрадовался Шевченко и поспешил в казарму за вещами.
В тот день он никак не мог успокоиться. Мешков неожиданно отпустил его из «словесности» устроиться на новом месте. Шевченко одолжил у хозяйки косу, накосил себе травы на сенник, на простой, нестроганый стол выложил из чемодана книжки Шиллера, которые чудом уцелели от жадных очей Козловского и Белобровова, но своих стихов не достал из-за голенища, потому что и на частной квартире за ним тоже будут наблюдать и в любое время дня и ночи могут сделать неожиданный обыск, а эти «захалявные» книжечки были ему дороже жизни.
До вечера сено на солнце высохло. Он набил им сенник и маленькую подушку, покрыл постель серым солдатским одеялом, повесил шинель на гвоздь и сел на табуретку, с наслаждением прислушиваясь к тишине и вдыхая чистый воздух опрятного человеческого жилища. В комнате едва заметно пахло сухим зельем, пучки которого были развешаны по стенам.
Той ночью Шевченко впервые за много дней спал крепко и спокойно. И потянулись дни душевного отдыха. Даже муштра казалась значительно легче после здорового ночного сна. Освободившись, Шевченко сразу спешил в слободку, в свою нищую, но такую тихую и чистую комнатку, но никогда не говорил, что спешит домой, потому что слово «дом» сливалось в его представлении со словом «Украина»…
Мальчики Васько и Степка оказались очень смышлеными и уже через месяц учебы могли бегло читать печатный текст.
Физически Шевченко отдыхал, он окреп на частной квартире, а от хорошего настроения и стихи его зазвучали мягче, теплее. Он даже добавил лирическое вступление к своей скорбной поэме «Княжна»…
Оказия приходила в Орск во второй половине месяца. Все, кому была дорога весть откуда-либо, ждали ее нетерпеливо и в свою очередь заранее готовили письма, пакеты и посылки во все концы огромной Российской империи.
Ждал оказию с нетерпением и Шевченко: надо было отослать Лазаревскому адрес доктора Александрийского, с которым он недавно познакомился у Исаевых и который согласился, чтоб переписка Тараса шла на его квартиру.
В середине августа он начал считать дни и часы, ожидая ответа из Оренбурга, а разом с ним — с Украины. Но августовская оказия не принесла поэту утешения. Никто не приехал с ней в Орск.
Загрустил Тарас, и на страницах его крохотной книжечки появились грустные строки о том, что не греет солнце на чужой земле и если действительно суждено ему погибнуть в зауральской степи, то пусть хотя бы вольный ветер принесет сюда горсть родной земли и посыплет ею могилу изгнанника.
Не греет солнце на чужбине, А дома слишком уж пекло… Мне было также нелегко И в нашей славной Украине. Никто меня не привечал, Меня носило, было плохо, Бродил себе, молился богу И злое панство проклинал. И вспоминаются былые Века, священные места, Тогда повесили Христа… Но терпит с нами сын Марии! Не радостно и горько мне… Но счастья мне нигде не будет – Ни в Украине милой, люди, Ни в чужедальней стороне. Хотелось бы совсем немного… Не схоронили б москали В гробах из дерева чужого, Хотя бы горсточку земли Из-за реки, Днепра святого, Святые ветры принесли Мне б на могилу… Сердце гложет, Хотелось бы… да что гадать… Зачем же бога волновать, – Коль по-другому быть не может.Дни становились короче, а ночи — холодными. Над рудой пожухлой степью плыло по ветру легкое и прозрачное бабье лето.
Каждый праздник и воскресенье Шевченко с утра спешил к своим новым друзьям и с искренней благодарностью возвращал им прочитанную книгу, выбирал себе другую, а потом садился — и начинались беседы о новостях, которые пусть и изредка, но просачивались сюда из Оренбурга, а иногда и с берегов Вислы. Читали письма, где каждое слово имело двойной смысл.
Эти беседы взбадривали Шевченко, возрождали надежды на перемены. Недаром же и Европа переживает время больших перемен.
— Говорю вам, — уверенно повторял Станислав Круликевич, — что, сбросив Людовика XVIII, французы скоро сбросят и этого липового Луи-Филиппа. Не зря же говорит народная мудрость: хрен редьки не слаще. Франция сейчас задает тон всей Западной Европе. И отзвук ее революций расшатывает и прусский, и австрийский абсолютизм. Клянусь, что скоро во всей Европе не останется ни крепостничества, ни самодержцев.
После таких бесед Тарас с чувством облегчения возвращался от друзей, неся в руках новую книгу, а в сердце — луч надежды, что доживет он до лучших времен и снова увидит свободу.
В хату Лаврентьева он приносил книги редко, чтоб избежать неприятностей. Шел в степь и долго читал, либо писал стихи, либо молча сидел где-нибудь над рекой, углубившись в свои мысли:
Проходят дни… проходят ночи; Прошло и лето; шелестит Лист пожелтевший; гаснут очи; Заснули думы; сердце спит. Заснуло все… Не знаю я – Живешь ли ты, душа моя? Бесстрастно я гляжу на свет, И нету слез, и смеха нет! И доля где моя? Судьбою Знать не дано мне никакой… Но если я благой не стою, Зачем не выпало хоть злой? Не дай, о Боже! — как во сне Блуждать… остынуть сердцем мне. Гнилой колодой на пути Лежать меня не попусти…Иногда его сопровождал и Фишер, потому что генерал Исаев тяжело заболел и, отбыв с мальчиками часы занятий, Фишер деликатно исчезал, понимая, что Лидии Андреевне и Наташе не до гостей.
— Пишите! Пишите снова! Чаще напоминайте о себе, — уговаривал он поэта.
Тарас вздыхал.
— Уже писал. Писал Сажину, Лизогубу, писал Плетневу и Далю, Григоровичу и Гребенке. Думал обратиться к Жуковскому, но Герн узнал, что он за границей. Писал даже Карлу Великому, как звали мы профессора Брюллова. И никто не ответил ни одним словом. Вы только вдумайтесь в это — никто!
— Пся крев! И это называется друзья! — возмущался Фишер. — Каждый порядочный человек должен протянуть вам руку помощи или хотя бы морально поддержать. Ну и времена настали, каждый дрожит за собственную шкуру, как мокрый пес!
— От молдаванина до финна на всех языках все молчит, бо благоденствует, — с горькой иронией сам себя процитировал Шевченко, покусывая сухой стебелек.
— Ну и не ждите писем! Не ждите поддержки! Сами себя защищайте! Пишите Дубельту! Пишите Орлову! Обманите их! На словах отрекитесь от своих убеждений, чтоб сберечь себя для будущего! Просите помилования! Кайтесь!
— Ни-ког-да! — по слогам отрезал Шевченко. — Я перестал бы уважать себя за подобный поступок… Послушайте! — и он начал читать:
О думи мої! О славо злая! За тебе марно я в чужому краю Караюсь, мучуся… але не каюсь!..— Так! — помолчав, сказав Фишер. — Я не должен такого вам советовать… Простите…
И Фишер стыдливо замолчал…
Золотыми вечерами ранней осени часто думал Шевченко об Украине, душой был на седом Днепре, видел себя среди развалин трахтемировского монастыря, пристанище немощных, старых казаков. Вспоминал бесстрашных рубак, овеянных славою давних боев, которые на склоне лет шли в монастырь замаливать грехи.
Перед мысленным взором поэта вставали и кручи берега Днепра возле Канева, Киева и Триполья. И мечтал он тогда, как о неосуществимом счастье, о том, что вот вернется на родину и построит на какой-нибудь из этих круч скромную белую хатку…
Строка за строкой, поэма за поэмою рождались в заветной книжице, где поэт сводил счеты с крепостниками, в том числе и с главным из них — которого звали Николай Романов.
Но были и минуты, когда безнадежность охватывала его, и тогда рождались строки-вопли, строки-слезы:
…Як же жити На чужині, на самоті? І що робити взаперті? Якби кайдани перегризти, То гриз потроху б. Так не ті, Не ті їх ковалі кували. Не так залізо гартували, Щоб перегризти. Горе нам, Невольникам і сиротам, В степу безкраїм за Уралом..!Но усилием воли он всегда овладевал собой: надо выжить…
В начале сентября пошли дожди. Сразу стало холоднее, и в эту первую непогоду неожиданно начались маневры.
Роту перебрасывали с места на место. Ночевали в мокрых палатках, чтобы на рассвете снова идти в промокших до рубца и нестерпимо тяжелых шинелях скользким болотом, которое налипало к сапогам, превращая их в тяжеленные гири. Но тяжелее всего было ложиться на землю и стрелять либо ползти в болоте. У Шевченко и раньше осенью всегда крутило ноги от ревматизма, теперь болезнь обострилась. Напрасно старался он не отставать от других под потоком срамного ругательства фельдфебеля и унтеров. Он падал на землю и не мог подняться. Наконец батальонный фельдшер доложил начальству, что рядового Шевченко надо отправить в лазарет. От марширования его освободили, но две недели довелось то валяться в мокрых палатках, то труситься в санитарной двуколке без рессор при батальонном обозе, пока не закончились маневры и батальон не вернулся в Орск.
Узнав о болезни Шевченко, доктор Александрийский немедленно проведал его, нашел у больного ревматизм и начало цинги, выписал ему мазь и приказал делать спиртовые компрессы.
Доктор Александрийский часто навещал Тараса. Он всегда приносил ему что-нибудь почитать и охотно рассказывал интересные случаи из медицинской практики либо из собственной жизни. Шевченко любил эти разговоры с доктором.
Навещали его и польские друзья, обдаривали его наилучшим табаком, приносили и книги…
За две недели Шевченко выздоровел и отдохнул. Поднявшись с постели, сразу пошел в степь. Ровная, как на море, линия горизонта стала по-осеннему четкой. Ветер гнал вдаль рудые шары перекати-поля. Журавли тянулись на юг долгими ключами, и их журавлиный крик отдавался в сердце поэта болезненной грустью.
Тарас обратил внимание: не так далеко от крепости, на берегу Ори, появились юрты казахов-кочевников, которые всегда ближе к зиме прикочевывали ближе к крепости, в надежде защиты и помощи лекарей.
К реке шла женщина, держа за повод верблюда. Верблюд шагал важно, величественно покачивая своею как будто птичьей головой. Подойдя к речке, верблюд лег. Женщина что-то сняла с верблюда, похожее на мешок, и пошла к речке. Тарас тоже подошел к реке и поздоровался с женщиной. Он знал несколько слов по-казахски еще с Оренбурга, а здесь, в Орской крепости, его учителем казахского стал татарин Ахмед.
Женщина оказалась молодой девушкой ослепительной красоты. Когда она подняла глаза, отвечая на приветствие, у Тараса перехватило дыхание от блеска ее черных глаз и очаровательной улыбки. Рука сама начала искать бумагу и карандаш, чтобы запечатлеть такую прелесть. Он вдруг увидел перед собой свою Оксанку, но совсем другую, с необычными чертами смуглого лица.
— Что ты тут делаешь, сестра? — спросил Тарас.
Она в ответ улыбнулась, и сказала, что пришла за водой.
Девушка тут же начала наполнять снятый с верблюда бурдюк водой из реки. Наклонялась и наливала черпаком воду, снова наклонялась и снова наливала.
«Устала бедняжка, — подумал поэт. — Надо ей помочь».
Он подошел ближе и увидел, что на спине верблюда лежит еще один бурдюк. Он подошел к верблюду, который вдруг громко зарычал. Шевченко в испуге отскочил в сторону.
— Не бойся, брат, он не кусается! — сказала девушка с сочувствием и смехом. — Вы просто пока с ним не знакомы. Вы же молодой джигит — разве можно так пугаться?
— Царя не боялся — почему должен верблюда бояться? — ответил Тарас.
Девушка посмотрела на него с интересом, не понимая, что он сказал.
— Вам помочь? — продолжил он, протягивая руку к бурдюку.
Девушка с благодарностью посмотрела на солдата, который кое-как говорил на ее языке, и ответила:
— Спасибо, я сама. — Вытерла пот с лица. — Вы же здесь у нас гость?
«Если бы! Гость! В тюрьме я, в страшной тюрьме… Но как это ей объяснить, и надо ли?» — подумал Тарас.
— Я все же помогу, — улыбнулся он и взял из рук девушки черпак.
Он быстро наполнил бурдюк и принялся за второй.
«Эх, беда, красок нет, — подумал поэт. — Как бы прекрасно получились бы эта вода и эта прекрасная девушка над ней! Только, скорее всего, не согласится она позировать: это запрещает их религия… А надо было бы. В Петербурге все бы умерли от зависти».
Он отнес и второй бурдюк к верблюду, оба разместил на нем. Девушка потянула несколько раз за веревку, верблюд поднялся и не спеша пошел за ней.
Тарас смотрел ей след. И тут девушка оглянулась и помахала рукой:
— Пойдем, брат, чай будем пить.
Поэт какое-то мгновение колебался, но очарование девушки и любопытство взяли верх, и он пошел за девушкой. Это так интересно — побывать в их жилище, увидеть, как они живут. Он догнал ее и шел рядом.
— У тебя есть муж? — спросил Тарас.
— Да есть. Ты его сейчас увидишь, — ответила она.
Тараса это почему-то немного расстроило.
— Как зовут твоего мужа?
— Саримбек.
— А сколько ему лет?
— Уже пятьдесят два.
— А сколько тебе? — с удивлением спросил Тарас.
— Двадцать три будет.
— Так он в два раза старше тебя.
— Это ничего. У него две жены. Я — вторая.
— Младшая?
— Да, я его младшая жена, — спокойно ответила девушка.
Тарасу было удивительно. Конечно, он знал, что на Востоке имеют по несколько жен, но вот так идти и говорить с одной из них ему еще не доводилось…
— А вот и наша юрта, заходите, — пригласила она. — Муж дома… Принимайте гостей! — крикнула девушка, отклонив полог юрты.
Тарас вошел в юрту. В юрте было темно — и он сперва ничего не мог увидеть. Однако сказал, как говорят на Украине:
— Доброго дня вам в вашей хате, — и добавил по-казахски: — Салям алейкум!
— Ва-алейкум ас-салям, — послышалось в ответ мужским голосом.
В полумраке кто-то поднялся и пошел ему навстречу. Это был муж, который что-то сказал. Тарас догадался, что его приглашают присесть на почетное место.
Он послушно прошел и сел там, где ему показали. Снял бескозырку и стал осматриваться…
Саримбек громко сказал:
— Вставай, Масати, — гость у нас! Ты много спишь — стыдно!
Первая жена Саримбека задвигалась, поднялась и поздоровалась.
Шевченко смотрел на нее. Она была еще молода — лет под сорок, глаза игривые и немного сонные.
Прошло немного времени — и вот уже посреди юрты горит огонь, закипает чай, странные тени бегают по стенам юрты. Идет неторопливый разговор между мужчинами, а женщины заняты своим делом.
— Так каким же ветром, — спросил Саримбек, — занесло тебя в наши края аж с белой столицы?
Тарас, с трудом подбирая слова, старается объяснить, что он не из столицы, а с Украины, что есть такая земля, и люди там живут — украинцы, и что он тоже украинец. И что приехал сюда он не по доброй воле, а по приказу царя, рассердившегося за стихи, написанные им, Тарасом.
Помолчали. Женщины разливали чай в пиалы.
— Пей, пей, — приглашал Саримбек. — Тяжело тебе будет. Ваш царь — злой царь. Здесь таких, как ты, много. Царь все Кызылкумы хочет заселить такими, как ты.
— Он стоял на берегу Ори, когда я пошла за водой, — вмешалась вторая жена, которую, как оказалось, звали Айбупеш. — И помог мне набрать воды в бурдюки.
— Ай спасибо! Когда же ты сюда приехал?
— Недавно. Летом.
— Как тебя зовут?
— Тарас. Тарас Шевченко.
— Тараз… Тарази… По-нашему «Тарази» обозначает «справедливость». Ты сын справедливости.
Тарас поклонился, прижав руку к груди.
— Ты сын справедливости. А сидишь здесь, как в клетке. Не любит ваш царь справедливости.
— Не любит.
Они не спеша пили чай, а женщины что-то готовили в большом казане. Тарас рассказывал, как царские войска воюют на Кавказе. Саримбек рассказывал об Орской крепости и ее солдатах.
Наконец Тарас обратился к Саримбеку:
— Я хотел бы нарисовать портрет твоей жены… Но боюсь, она не согласится, поскольку Коран не разрешает…
— Коран не разрешает. Но ты сын справедливости, к тому же не мусульманин. У тебя чистое сердце. Тебе можно.
— Можно? Тогда я завтра приду и нарисую твою юрту, верблюда, собаку… Тебя нарисую, твоих жен… Согласен?
— Хорошо!
Женщины тем временем расстелили на полу скатерть и поставили на нее большую деревянную чашу, полную мяса. Саримбек сказал, что это мясо дикого козла, и пригласил садиться ближе.
Саримбек брал мясо пальцами и клал его себе в рот. Тарас спросил:
— А почему Айбупеш и Масати не едят? Я хочу, чтобы и они сели рядом.
Саримбек удивленно посмотрел на гостя, а потом пригласил жен.
После обеда Саримбек предложил Тарасу выпить горького шубату — кумыса из верблюжьего молока.
«Смогу ли?» — подумал Тарас.
Но не хотелось разочаровывать хозяев, и он одним духом проглотил целую пиалу шубату, скривился, но сказал: «Вкусно!»
Саримбек засмеялся, похлопал Тараса по плечу:
— Хорошо! Хорошо, Тарази!
Наступал вечер. Шевченко надо было идти в крепость. Он пожал руку Саримбеку и поклонился Масати и Айбупеш.
— Спасибо тебе, сестра, — сказал он, подбирая слова. От шубату он немного захмелел. — Я всю жизнь буду благодарить тебя за приглашение в свою юрту.
— И тебе спасибо, — сказал Саримбек, — за хорошие слова, за помощь. Приходи к нам чаще, будем много-много пить чай, кумыс и шубату. Айбупеш, — обратился он младшей жене, — проводи гостя.
Они вышли из юрты и отошли немного в сторону. Остановившись, Тарас внимательно посмотрел на Айбупеш.
— Я хочу нарисовать тебя, — сказал Тарас. — Ты такая красивая! Люди в Петербурге скажут: «Ах, какая красивая девушка! А мы и не думали».
Айбупеш опустила глаза и молчала. Лицо ее сияло тем внутренним светом, которым сияет у девушек только раз в жизни. Потом посмотрела своими чудными глазами и тихо промолвила:
— Тарази, ты приходи к нам. Я буду очень тебя ждать…
Тарас хотел ее поцеловать, но она увернулась и побежала к юрте…
Ему было тяжело возвращаться назад, в свою тюрьму от этого места, от этих людей, которые жили в нищете, но на свободе. И он снова подумал, что надо будет нарисовать увиденное вопреки всем запретам. «Цари живут и сдыхают, а искусство вечно» — всплыло в его памяти.
Придя в свою комнатку, он почти сразу лег спать. Но не спалось. Перед глазами стояла Айбупеш и смотрела на него своими волшебными глазами и улыбалась… «Может я влюбился? — спросил он сам себя. — Ох, Тарас, до любви ли тебе, да еще к чужой жене. Мало тебя жизнь била? Была ведь одна, Анна… Сколько прошло времени, и ни одного слова в эту тюрьму не прорвалось от нее… Просто, наверное, она не любила, это был ее каприз, случайная прихоть переполненной развлечениями пани… А как же близость?.. Как же дочь, что родилась?.. Это тоже был каприз… Прежде бывало — на собаку брось, так попадешь в друга, а как пришлось плохо, так бог знает, где они делись! Не умерли уж?.. Нет, здравствуют; да только отказались от злополучного друга своего… А если бы они знали, что одно ласковое слово для меня теперь больше всякой радости!.. Так что-то недогадливы они…» Наконец Тарас уснул, но и во сне он видел улыбающуюся Айбупеш.
Ожидая новой оказии, Шевченко снова писал письма.
Напрасно убеждал он себя, что не друзья малодушно от него отреклись, а почта не доставила его первых писем адресатам, — горечь обиды и разочарование в людях все углублялись и все чаще возвращалось к поэту чувство безысходности от мысли, что он навеки выброшен всем миром и осужден на безнадежное прозябание гарнизонного солдата.
Иногда острое презрение наполняло его сердце. Презрение к людям, которые не осмелились даже в частном письме высказать хотя бы чуть-чуть сочувствия к нему в его тюрьме.
Стиснув зубы, он пытался думать о другом, потому что это неуважение к своим современникам душило его, но после волны гнева его охватывало бессилие. Все становилось безразличным, бесконечно далеким. Но через какое-то время снова просыпалась боль в душе, снова вспыхивала непобедимая любовь к жизни и острое желание спастись.
И тогда снова писал Шевченко «на волю» — стучал в сердца людей.
Запечатав последнее письмо, Шевченко задумался. Он понимал, что друзья боятся потерять должности за переписку с «государственным преступником», но дамы?! Когда закованных декабристов погнали на каторгу в Сибирь, княгиня Волконская и княгиня Трубецкая бросили вызов царю, оставили высшее общество, привычную роскошь и веселую беззаботную жизнь, чтоб разделить со своими мужьями их страдальческую судьбу.
Конечно, он, Тарас, не принял бы такой жертвы, ему бы только две строчки сердечного привета от той, которую он называл своею зоренькою и которую вспоминает, когда солнце заходит и горы чернеют…
Он решился написать Репниной. Он сел к столу, вынул лист бумаги и своим мелким почерком написал:
«Дорогая Варвара Николаевна!»
И вдруг бросил перо.
«А что, если и она не ответит? Что, если она во мне видела лишь талантливого художника и поэта, способного увековечить ее образ в стихах и на полотне?»
Но сразу отбросил эту мысль. Разве не она хлопотала о зачислении его преподавателем рисования в Киевском университете? Разве не она своими руками связала ему шарф, заметив, что не было мехового воротника на его зимнем пальто? Разве не она выписывала для яготинской библиотеки все журналы и покупала все книги, которые могли ему пригодиться либо заинтересовать его. Кто-кто, а Варвара Николаевна безусловно ответит на письмо. Она неспособна забыть… Писал просто, тепло и серьезно, как пишут старшей сестре, которая все поймет, которая почувствует, что надо так или иначе вырвать его отсюда, пока жива его душа, пока не исчез его талант, пока горит в нем желание жить.
Как это тяжело, как несвойственно всему его естеству: просить, жаловаться… Скорее перешел к описанию здешней природы, кайзахов (так тогда называли казахов), киргизов…
«Киргизы такие живописные, такие оригинальные, что сами просятся на карандаш. Иногда я встречаюсь с ними. Какой стройный народ! Какие прекрасные головы! И постоянная важность без наименьшей напыщенности. Если бы мне можно было рисовать, сколько бы я прислал вам новых и оригинальных рисунков! Но что сделаешь!.. А смотреть и не рисовать — это такая мука.
…Вот уже больше полгода, как я оторван от литературы. Пришлите мне, будьте так добры, последнюю книгу Гоголя „Выбранные места из переписки с друзьями“ и „Чтения Московского археографического общества“, издания Бодянского».
Перечитал написанное и почувствовал, как слезы подступают к горлу. Снова приходится просить… просить… просить…
«Последняя попытка, — думал он, запечатывая письмо, — если и на этот раз никто не откликнется …»
Через неделю снова собрался Тарас к Саримбеку. Он взял с собой нарисованный по памяти карандашный рисунок Айбупеш. В юрте были только женщины, Саримбек ушел куда-то на охоту.
Женщины обрадовались приходу Тараса, особенно была рада Айбупеш. Она развела огонь, приготовила чай, нарезала лепешку, и обе стали на ковре угощать гостя. Попив чая, а потом и кумыса, Тарас решил показать рисунок Айбупеш.
— Сестра, — сказал он, обращаясь к ней, — я хочу показать тебе твой портрет.
Он вынул из кармана лист бумаги, на котором была изображена головка Айбупеш со смеющимися глазами.
Она взяла в руки листок, и лицо ее выразило удивление и восторг. Какое-то время она молчала, а Шевченко любовался ею. Она была невероятно прекрасна! Шевченко, как художник, особенно чувствовал это.
Вскоре Айбупеш оторвалась от портрета и посмотрела на Тараса. В глазах ее появились слезы.
— Тарази!.. Это ты нарисовал? — спросила она дрожащим голосом.
— Я, Айбупеш… У меня нету красок, я бы мог нарисовать тебя еще красивее…
— Тарази!.. Тебя Аллах целовал!.. Так человек не может рисовать!.. Подари мне его, — с мольбой в глазах попросила она.
— Конечно, Айбупеш, я его рисовал для тебя.
— Посмотри, Масати! — с восторгом воскликнула Айбупеш.
Масати взяла рисунок в руки и ее глаза расширились от удивления. Она впервые в жизни держала в руках портрет человека. На ее лице отразился даже страх.
— Айбупеш, ты здесь как живая… Но это колдовство… Ты можешь умереть!
На лице Айбупеш тоже отразился испуг.
Тарас смотрел на происходящее с любопытством.
— Сестра, не бойся. Это я рисовал, и Саримбек мне разрешил это сделать. Никакого колдовства. Я много лет учился, чтобы уметь изображать людей и все вокруг.
Тарас быстро достал из костра уголь и на обратной стороне кожи несколькими штрихами изобразил верблюда.
Женщины были ошеломлены и смотрели на Тараса, как на чудо.
Постепенно страсти улеглись, и они снова принялись пить чай. Тарас смотрел на Айбупеш, и сердце его начинало учащенно биться.
«Без хозяина, — подумал он, — наверное, не надо долго засиживаться».
— Мне надо возвращаться в крепость, — допивая чай, сказал Тарас. — Солнце скоро спрячется.
— Посиди еще, Тарази, — попросила Айбупеш. — Скоро вернется Саримбек.
— Спасибо, но надо идти. Ты меня проводишь?
— Конечно, Тарази.
Они вышли из юрты и пошли в направлении крепости. Шли молча, каждый о чем-то думая.
«Какая прелестная девушка! — думал Тарас. — Жаль, что она чья-то жена. Жизнь ее тоже не сахар. Та же нищета, которая и меня всю жизнь сопровождала. Ее красота может вдохновить и художника, и поэта, и композитора, но она недолговечна. Еще несколько лет — и она станет похожей на Масати».
«Тарази похож на волшебника… Но почему он в солдатской одежде? Саримбек говорил, что он поссорился с самим большим царем, — думала Айбупеш. — Он хороший, и мне весело, когда он приходит и я его вижу. Почему так?»
Тарас остановился, взял руку Айбупеш.
— Возвращайся, Айбупеш. Спасибо тебе за угощение. Ты очень хорошая. Я буду скучать без тебя и думать о тебе.
— У Тарази жена есть? — вдруг спросила Айбупеш.
— Нет у меня жены, даже одной. А почему ты спрашиваешь?
— Я думала, что у Тарази должна быть очень красивая жена.
— Нет, не нашел я еще такую красивую, как ты.
— Тарази еще молодой, он найдет.
— Конечно, найду, если только не умру здесь в вашей степи.
— Тарази не надо умирать. Айбупеш будет плакать.
Она вдруг дотянулась до щеки Тараса своими губами, а потом быстро побежала к своей юрте.
Тарас стоял с горячей головой и бьющимся сердцем. Он хотел понять, почему его так взволновало это прикосновение, и не мог. Заход солнца был чудесный, небо прозрачное и чистое. Воздух был чистым и недвижимым. Даже легкие шарики перекати-поля лежали там, где вчера забыл их, засыпая, веселый степной ветер. Тарас еще немного побродил возле речки и медленно пошел в крепость.
Бородатый мужчина лет тридцати пяти в круглой фетровой шляпе поднялся ему навстречу в его комнатке.
— Разрешите отрекомендоваться, Федор Лазаревский, старший брат вашего оренбургского приятеля. Привез вам привет от оренбургских друзей и несколько писем.
Наконец! Не помня себя от радости, Шевченко обнял желанного гостя. Все обиды на «неверных друзей, которые забыли его в беде» растаяли в безбрежно большом чувстве благодарности и любви к людям.
А гость уже расстегивал ремни саквояжа и вынимал письма, книги и разные пакеты.
— Вот вам письмо от брата Михаила и Сергея Левицкого, — говорил он, — а вот письмо с родины, а это от Карла Ивановича Герна. Привез вам два номера «Современника», новый роман Гюго «Собор Парижской богоматери». Вот газеты. Привез и украинскую запеканку, и колбасу. Все это они получили от родителей и приказали передать вам.
У Шевченко дрожали руки от волнения, когда он разрывал конверты. А Лазаревский, делая вид, что не замечает этого, говорил, ставя на пол опорожненный саквояж.
— Живу я тут недалеко, в Троицкой, а работаю попечителем приграничных киргизов. Приехал сюда по служебным делам и буду приезжать достаточно часто — примерно раз в два-три месяца. Приходится ездить и в Оренбург, поэтому смогу передавать вам и от вас все, что захотите. Рад помочь вам.
— Спасибо. Искренне благодарю, — говорил Тарас и то начинал читать письма, то бежал к хозяевам, просил поставить самовар, поджарить свежую рыбу, которую принес ему Кузьмич.
До поздней ночи просидел у Шевченко Федор Матвеевич, а на другой день попрощался с ним как наилучший друг и вручил ему, как будто по поручению брата Михаила, пятьдесят рублей ассигнациями.
Несколько раз читал и перечитывал Шевченко теплые строки письма от Лизогуба — первый привет с родного краю. Это письмо разминулось с письмом Шевченко, посланным только неделю тому назад через Александрийского. Не меньше порадовало поэта и пылкое письмо его юных оренбургских друзей.
Было воскресенье. Проводив гостя, Шевченко долго стоял возле крайней орской халупы и смотрел, как исчезает в рудой дали черная точка тарантаса. Седой ковыль окружал даль тонким, туманным покрывалом, солнце пекло, как и вчера, но отдельные тучки иногда закрывали его, и тогда серые тени от них шли степью, как грустные воспоминания о прошедшем.
После захода солнца неожиданно похолодало. Подул резкий северный ветер, тяжелые темные тучи заслонили небо, ночью сыпнул секущий дождь, а потом пошел густой снег. Шел он всю ночь, сначала мокрый, а потом мерзлыми большими пластинами. Когда утром Лаврентьев разбудил своего жильца, стекла окон были залеплены снегом, а на дворе выла и кружила вьюга.
Зима застала гарнизон врасплох. Хотя оказия и привезла теплое обмундирование, но документы на весь этот транспорт оказались неправильными и все привезенное закрыли в цейхгауз, а солдатам выдали только прошлогодние башлыки, шерстяные портянки и рваные рукавицы.
Было пятнадцать градусов мороза. Роту, как всегда, вывели и построили на плацу. Ветер трепал полы шинелей, концы башлыков, сек острым снегом лица, задувал в рукава и крутил снег белыми вихрями. Солдаты нетерпеливо топтались на месте, ноги их мерзли, но команда «Смирно!» заставляла их замирать. Капитан Глоба сразу заметил, что нарушена геометрическая четкость построения: у одного солдата нога соскользнула с комка земли и еле заметно сдвинулась назад; у другого ноги расставлены немного шире, чем положено. Глоба взбесился, но скомандовал: «Вольно!» и взорвался оглушительными ругательствами, от которых, казалось, краснел даже снег.
Солдаты стояли неподвижно и хмуро супились. Мерзли руки в рваных рукавицах, едва удерживая ружья. Ноги теряли гибкость, и, когда наконец захрипевший от ругательств Глоба скомандовал: «Шагом марш!», многие не смогли легко и четко взмахнуть ногой и сразу трахнуть подошвой замерзшую землю.
Метель продолжалась три дня, и три дня мучил Глоба свою роту без теплой одежды и, главное, без валенок, хотя мороз достигал двадцати пяти градусов при сильном северо-восточном ветре… Снег не лежал на земле, он летел, мчался над степью одним безостановочным потоком на сотни верст шириной, как течение в океане.
Половина солдат отморозила носы, уши и щеки, но значительно больше пострадали у всех ноги; на них открылись гнойные раны. Многих пришлось положить в госпиталь, но там не хватало ни коек, ни даже сена или соломы, чтоб разместить их на полу. И каждое утро солдаты прежде всего бросались к окнам посмотреть, не утихла ли метель. Но за окном продолжала висеть белая пелена, по земле привидениями мчались волны снега, а дневальный, возвращаясь из канцелярии, на вопрос, нет ли приказа выдать теплую одежду, безнадежно махал рукою.
— Тебе повылазило? Не видишь, как метет? Кто поедет через степь на верную погибель! Каждому жизнь дорога. Нет ответа из Оренбурга…
На третий день вечером Шевченко пошел к Лидии Андреевне, намереваясь рассказать генералу, что происходит в роте. Лидия Андреевна встретила его грустная, взволнованная. Шевченко сразу заметил ее усталость.
— Нашему отцу все хуже и хуже, — ответила она тихо на его тревожный вопрос, и подбородок ее задрожал. — Я все лето говорила ему: возьми отпуск, съезди на Кавказ к солнцу и теплу, к целебным водам. У него давно застуженные почки. Но разве его можно уговорить!! А теперь ему плохо. Ноги как колодки. И еще этот буран. Теперь уже из Орска не выбраться. Боже мой, неужели он здесь умрет?
Из глубины дома послышался хриплый генеральский бас:
— Кто там?
— Это Тарас Григорьевич, — ответила Наташа.
— Кто? Не слышу! Зовите сюда! — приказал Исаев.
Лидия Андреевна привела Шевченко в спальню больного. На столике возле кровати среди аптечных пузырьков горела высокая свеча.
— Здравия желаю, ваше превосходительство! — вытянулся Шевченко.
— Здравствуйте, дорогой мой. Садитесь, — протянул ему руку генерал. — Рассказывайте, что у нас новенького?
— Кажется, кроме вьюги, ничего и нет.
И вдруг, взглянув на ноги Шевченко, генерал удивленно спросил:
— Почему же вы не в валенках? Ведь на улице мороз!
— Не выдали еще, ваше превосходительство. А мороз крепчает: сегодня двадцать три…
— Черт знает что! А строевые занятия остановлены?
— Никак нет: проводятся по расписанию. Только… — тут Шевченко на мгновение запнулся, потом решился: — Только в нашей роте почти половина солдат отморозили себе ноги. Многих забрали в госпиталь…
— Та-ак! — протянул генерал. — Подаем пример христианской любви к ближнему. Мешкова мне! Глобу! Сорокин! — позвал он денщика. — Сбегай за офицерами. И каптенармуса сюда! А вы, дорогой мой, идите лучше домой. Не надо, чтобы они вас тут видели! Заклюют, если я умру… И ты, Сорокин, молчи, что Шевченко до нас приходил. Лидонька, дай Тарасу Григорьевичу мои катанки. Нет, нет, не отказывайтесь! Мне выдадут новые, а вы пока что в них покрасуйтесь.
Генералу с каждым днем становилось хуже. Он лежал неподвижно, слабый, желтый, с полузакрытыми глазами, набряклый, как будто весь налитый водою… Дочери день и ночь дежурили возле него. Шевченко приходил каждый вечер сменить замученную Лидию Андреевну или Наташу. Врач Александрийский ежедневно проведывал больного, но никакие лекарства не помогали.
Как-то, выходя от Исаевых вместе с доктором, Шевченко спросил его:
— Неужели ничем нельзя ему помочь?
Александрийский двинул плечами:
— У него застарелый нефрит. Медицина тут бессильна. В начальной стадии, в теплом климате, где больной не может замерзнуть, а тем более застудиться, некоторые выздоравливают, но теперь уже поздно…
— И долго он еще будет умирать?
— Несколько недель — не больше. Он уже почти три года серьезно болеет…
Смерть генерала Исаева всколыхнула весь Орск. Мешков по просьбе Лидии Андреевны отпустил к ним Тараса помочь с похоронами.
Хоронили Исаева с надлежащими генералу почестями.
Глухо ахнули за кладбищем крепостные пушки, когда плавно опускали гроб в могилу.
В стороне толпились казахи и киргизы, пришедшие хоронить Исай-пашу. В толпе Тарас увидел и Айбупеш с Саримбеком. Она посмотрела на него грустными глазами. Казахи с интересом наблюдали церемонию похорон, слушали церковное пение и долго потом перешептывались между собой, возвращаясь в свои юрты.
«Ой, что же будет? Пропадем теперь, если новый паша будет такой злой, как Мешка-майир или красномордый Глоба. Тогда и Тарази не придет к нам и не споет своих песен», — думала Айбупеш.
Шевченко подошел к сестрам и потому, что Наташа аж шаталась, обессиленная от слез, осторожно взял ее под руку. Мешков скосил на него глаза, заметил, что на руках у Шевченко не форменные рукавицы, а белые замшевые перчатки, ничего не сказал и взял под руку Лидию Андреевну.
Глоба обратился к Наташе:
— Разрешите, мадмуазель… Наталья… Андреевна, — сказал он и бесцеремонно оттолкнул плечом Тараса.
Наташа была так удручена горем, что подняла глаза на Глобу и так и стояла над могилой, не замечая, что сестра уже пошла.
— Разрешите, — повторил Глоба и, не дождавшись ответа, просунул ее безвольно опущенную руку себе под локоть.
Она пошла, как привидение. Все на свете было ей безразлично.
Шевченко, постояв еще с минуту среди поределой толпы, тихо пошел к себе на квартиру.
Вечером Лаврентьев принес приказ «посадить рядового Шевченко на гауптвахту сроком на одни сутки за появление на улице и в церкви в белых перчатках вместо форменных рукавиц».
— Так, Григорьевич. Заработал ты себе гауптвахту, — вздохнул Лаврентьев, пока Шевченко собирался.
Ночь на «гауптвахте» неожиданно освежила и укрепила его после трех бессонных ночей над больным и над мертвым… Он сразу заснул крепким здоровым сном утомленного человека и проснулся, когда стукнул засов и дежурный унтер Злинцев открыл дверь.
— Иди сразу к Исаеву, — сказал унтер. — Барышня тебя у майора выпросила на неделю проводить их в дорогу.
Неделя прошла как один день. С утра до вечера Шевченко помогал упаковывать вещи, мебель, посуду, письменный стол и разные мелочи, что напоминали сестрам их отца и мать, которая умерла, когда они были еще маленькими.
Мешков, как временный комендант крепости, дал им лошадей. Багаж погрузили на несколько саней. Когда сани с багажом отправились, к крыльцу подали крытый возок умершего генерала. Первым выбежал Петя в новеньком белом кожушке и меховой шапке. За ним вышли обе сестры. Они в последний раз огляделись вокруг, пожали Тарасу руку и, краснея и теряясь, уговорили его принять на память чистый альбом, куда были засунуто несколько ассигнаций. И возок поехал, скрипя полозьями по глубокому снегу.
Шевченко долго стоял на крыльце, глядя им вслед. Теперь некуда пойти отвести душу, послушать музыку…
Возок исчез за поворотом. Тарас сошел с крыльца и пошел заснеженной улицей.
«Жизнь, — думал он, — это вечное прощание с чем-нибудь. Прощаешься с родителями, что отходят в могилу, с детством, а потом — с молодостью, с товарищами детских игр, с первой невинной любовью, прощаешься с разбитыми мечтами и с родными местами, с могилами родителей, со свободой и, наконец, даже с надеждой на освобождение».
Грустный и растерянный ждал его Лаврентьев.
— Такое оно поганое дело выходит, Григорьевич, — начал он, как только Шевченко переступил порог и начал сбрасывать кожух, — что и говорить гадко. Приказал майор, чтобы, значит, тебя назад в казарму… Уже как я просил, говорил: «Разрешите ему, ваш скобродие, еще немного у меня пожить. Человек он смирный, никакого от него шума или беспокойства, а деток моих он грамоте научил, теперь снова-таки рихметице учит». Ручаюсь, значит, за тебя, что ни пьянки, ни шума от тебя не будет… А майор как цыкнет на меня: «Он против самого государя инпиратора бунтовщик, враг внутренний есть, которого уничтожать положено, а поэтому ты и заступаться за него не смей, а если ему от генерала — царствие ему небесное — послабление было, так генерал сам бы за него и отвечал, а я за него, преступника, отвечать не желаю». Так вот, Григорьевич, собирайся, голубь, поведу я тебя, значит, снова в казарму. Только ты не журись и сердцем не грусти: даст бог, пришлют нам нового генерала, может быть, я тебя снова на фатеру к себе выпрошу.
Казарма встретила Тараса знакомой вонью и стоном.
— Не все коту масленица, — рассмеялся разжалованный прапорщик Белобровов. — А мы уже думали — снюхался ты с генеральской дочкой да с ней смоешься в Оренбург.
Шевченко стиснул кулаки.
— Не трогай дерьма, брат, чтоб не воняло, — тихо сказал Кузьмич, — полают, да и перестанут. Это они от несчастья звереют.
— И то правда, — овладел собой Шевченко и с уважением посмотрел на старого солдата.
Место его было свободным, потому что зимой все старались быть ближе к печке.
Потянулись утомительные дни беспросветной казарменной жизни. Темнело рано. Бесконечные ночи несли Шевченку серую грусть. Сна не было. Лежал и смотрел в темноту, и ему казалось, что он слепой, что вечная ночь, которой нет конца-края, спустилась над ним.
В мыслях бродил он родной Кириловкой или улицами Киева, видел каждый его дом и среди них темно-красный университет с черными капителями колонн, с высоким фронтоном. Входил в его долгие коридоры с блестящими чугунными плитами полов. С университета переносился в институт благородных девиц, где в прошлом году цветущей весной был на выпускном балу с профессором Костомаровым. Посещал ничем не приметную Георгиевскую церковь, потому что там похоронен Ипсиланти, руководитель восстания греков против турецкого ярма, под его знаменем когда-то сражался Байрон, властелин дум двух поколений.
Несмотря на запрещение, Шевченко продолжал писать стихи. Стихотворения посвящались Украине, воспоминаниям о ней, или изображали душевные состояния, пережитые поэтом. «Как же жить на чужбине, — говорит он в этих стихах, — и что делать взаперти?.. Горе нам, осиротелым невольникам, в беспредельной степи за Уралом!.. Не для людей и не для славы пишу я теперь эти стихи, а для себя, милые братья. Мне легче становится в неволе, когда я пишу их, и они радуют мою бедную, убогую душу. Мне с ними так же хорошо, как богатому отцу со своими маленькими детьми… В неволе тяжело, хотя, сказать по правде, и воли-то не было настоящей. Но все-таки как-то жилось. Теперь же я, точно самого бога, жду такой воли и высматриваю, и свой глупый ум проклинаю за то, что дался дуракам одурить себя и в луже волю утопить…»
И днепровскими кручами бродил в мыслях Шевченко в эти долгие бессонные ночи. Входил в дома друзей-киевлян, которые предали его в тяжком горе.
Но не все друзья его предали. Вскоре он снова получил письмо от Лизогуба и Варвары Репниной. Лизогуб прислал ему коробку с красками, с карандашами и альбом для рисования. Он заплакал над красками, прижимал их к губам и целовал, шептал слова бесконечной благодарности.
В ответном письме он искренне благодарит Лизогуба за доставленную радость и за невыносимую боль из-за невозможности воспользоваться его подарками:
«И врагу моему лютому не пожелаю так казниться, как я теперь казнюсь… Я страшно мучаюсь, потому что мне запрещено писать и рисовать! А ночи, ночи! Господи, какие страшные и долгие, да еще в казармах!.. Нельзя, конечно, и без того, чтобы иногда не дать воли и слезам: кто не тоскует и не плачет, тот никогда и не радуется. Бог с ним, с таким человеком. Будем плакать и радоваться!»
Репнина писала Тарасу, что она только недавно узнала от друзей, куда его сослали: «Здесь мы Вас не забываем, и очень часто речь идет о Вас. С какою радостью все Ваши здешние друзья помогали бы Вам нести крест…» Она сообщила также, что изданы распоряжения властей об изъятии всех произведений Шевченко из всех библиотек и книжных магазинов.
В ответе Репниной он пишет: «Вы непременно рассмеялись бы, если бы увидели теперь меня: вообразите себе самого неуклюжего гарнизонного солдата, растрепанного, небритого, с чудовищными усами — и это буду я! Смешно, а слезы катятся. Что делать?.. Горько, невыносимо горько. И при всем этом горе мне строжайше запрещено рисовать что бы то ни было и писать (кроме писем). А здесь так много нового; киргизы так живописны, оригинальны и наивны, сами просятся под карандаш, и я одуреваю, когда смотрю на них. Местоположение здесь грустное, однообразное: тощие речки Урал и Орь, обнаженные серые горы и бесконечная киргизская степь. Иногда эта степь оживляется бухарскими караванами (на верблюдах), как волны моря зыблющимися вдали и своей жизнью удваивающими тоску. Я иногда выхожу за крепость, где обыкновенно бухарцы разбивают свои разноцветные шатры… Страшно!.. Вчера я просидел до утра и не мог собраться с мыслями, чтобы кончить письмо. Какое-то безотчетное состояние овладело мною. Приидите все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы…»
Друзья старались поддержать ссыльного поэта. Лизогуб, Репнина, М. Лазаревский присылали не только письма, но и журналы, книги Лермонтова, Гоголя, Шекспира, других авторов, о которых просил поэт.
В первый же год своей ссылки Шевченко принялся хлопотать об официальном разрешении ему рисовать; он написал письмо на имя всесильного Дубельта, мотивируя свое требование отменить жестокий «высочайший» запрет тем, что осужден он не за рисунки, а только за стихи.
Письмо было передано в Третье отделение художником Алексеем Чернышевым, возвратившимся в декабре 1847 года в Петербург, и к Дубельту оно попало тотчас же. В результате этого письма Третье отделение запросило в январе 1848 года корпусного командира Обручева «об усердии, поведении и образе мыслей» бывшего художника Шевченко с заключением о том, «заслуживает ли он ходатайства о дозволении ему заниматься рисованием».
Несмотря на положительные отзывы о поведении Шевченко по службе, что Шевченко в Орске «ведет себя хорошо, службою занимается усердно, в образе его мыслей ничего предосудительного не замечено, и, по засвидетельствованию его ближайшего начальника, он заслуживает ходатайства о дозволении ему заниматься рисованием», вердикт начальника Третьего отделения Орлова был неутешительным: «еще рановременно входить по сему предмету со всеподданнейшим докладом» к царю.
Княжна Репнина, убедившись из писем, что ее другу живется далеко не радостно, написала шефу жандармов графу Орлову письмо, в котором просила его облегчить участь поэта-художника, дозволить ему рисовать, прибавляя при этом, что правосудие, переходящее границы, становится жестоким. «Переписка ваша с Шевченко, — отвечал ей шеф официальной бумагой, — равно как и то, что ваше сиятельство еще прежде обращались ко мне с ходатайством об облегчении участи упомянутому рядовому, доказывает, что вы принимали в нем участие, неприличное по его порочным и развратным свойствам». В заключение ей предлагалось не вмешиваться в дела Малороссии, а в противном случае она сама будет причиною неприятных для нее последствий.
Конечно, такой ответ не убедил Репнину в том, что Шевченко — человек с «порочными и развратными свойствами», и она продолжала переписку с ним…
В казарме Шевченко снова начал болеть. Ноги ныли от ревматизма и сколько ни поил его фельдшер лошадиными дозами салицилового натрия, ему не становилось легче. Не помогал йод, которым он мазал суставы. А других лекарств не знал ни фельдшер, ни доктор Александрийский, и маршировать Шевченко становилось все тяжелее. Появилась и одышка.
Еще в Петербурге, студентом Академии художеств, когда Шевченко заболел плевритом, доктор обнаружил у него, кроме плеврита, порок сердца. Теперь сердце чаще напоминало о себе: когда приходилось бежать и даже при обычном маршировании Тарас задыхался. Но разве мог Глоба сделать хотя бы небольшое и даже законное облегчение государственному преступнику? И Шевченко тянул тяжелую солдатскую лямку, перегружая больное сердце.
Кроме этого, у него началась цинга. Все тело покрылось ранами и синяками. Иногда, когда Тараса наконец временно освободили по болезни от строя, кашевар давал ему в качестве лекарства сырую репу и лук.
Зима тянулась нестерпимо долго. Бури сменялись бурями, и даже тогда, когда погода считалась тихой, летела над степью седая поземка и ветер так толкал людей в спину, что заставлял их почти бежать.
Шевченко страдал. Распухшие суставы едва сгибались, и боль становилась невыносимой, но когда фельдшер доложил Глобе о болезни поэта, Глоба бешено стукнул по столу кулаком:
— Врешь, стерва! Знаем эти штучки! Дал он тебе рубль на водку, вот ты его и выгораживаешь! Еще раз напомнишь мне об этом лодыре — на гауптвахту пойдешь!
— Ваш бродь, пусть его скородие пан дохтур осмотрит… Воля ваша, хоч на гапвахту сажайте, но только все же он больной.
— Иди к черту!
Фельдшер замолкал, а Шевченко снова гнали на муштру, и замученный поэт писал в своей книжице:
Благаю бога, щоб світало, Мов волі, світу сонця жду, Цвіркун замовкне: зорю б’ють. Благаю бога, щоб смеркало, Бо на позорище ведуть Старого дурня муштрувати, – Щоб знав, як волю шанувати, – Щоб знав, що дурня всюди б’ють…От цинги шатались зубы, пухли десна, и, когда он кусал ломоть хлеба, — хлеб становился красным от крови…
На плацу появился сам комендант Мешков. Он вышел на середину и крикнул:
— Здравствуйте, солдаты!
— Здрав… жлам… ваш… бродь! — всеми горлами дружно гаркнул плац.
— Здороваться умеете, а как подготовка?
— Осмелюсь доложить, — откозырял Глоба, — подготовка удовлетворительная.
— Удовлетворительная? Значит, и не хорошо, и не плохо. Сейчас увидим. — Показал пальцем на одного из солдат.
— Рядовой Культяпкин, два шага вперед, — скомандовал ротный.
Культяпкин вышел.
— За что тебя сослали в солдаты? — спросил майор.
— За то, что переспал с женой бурмистра.
Засмеялся весь строй.
— Дурак!
— Так точно, господин майор!
— Марш в строй!
— Слушаюсь!
Мешков еще спросил несколько человек, наблюдая, как они выходят со строя, как отвечают, как реагируют на его реплики.
— Рядовой Свенцицкий, два шага вперед!
Свенцицкий перед Мешковым.
— За что тебя сослали в солдаты?
— Я писал листовки и читал людям стихи Мицкевича. Адама Мицкевича.
— Кто такой? Почему не знаю? Что за Адам, а где его Ева?
Снова смех.
— Великий польский поэт.
— Не может быть у поляков великого поэта!
— Позволю не согласиться с вашей мыслью!
— Отойти отдельно в сторону! Мы с тобой еще займемся муштрой.
Потом также отвел в сторону второго, третьего.
— Рядовой Шевченко, два шага вперед! За что в солдатах?
— За стихи.
— Не по форме отвечаешь, — гаркнул Мешков. — За сочинения сверх самой меры непристойных и крамольных стихов против государя императора. Повтори!
Тарас повторил. Даже добавил, что этот государь — Николай Павлович и император Великой, Белой и Малой Руси…
— Выйти на середину. Выполнять упражнения! — стреляя взглядом в Шевченко, приказал Мешков.
Тарас исполнил упражнение, получилось неплохо. Но Мешков остался недоволен.
— Нет радости в исполнении.
— Так точно!
— Сочинять умеете, а дела не знаете.
— Так точно, — с издевкой в голосе ответил Шевченко.
— Сволочь ты, рядовой Шевченко! Настоящая сволочь!.. Я требую от вас, господин штабс-капитан, чтоб рядовой Шевченко научился выполнять все воинские приемы, чтобы выучился отвечать по форме. Здесь ему не академия, а армия!
— Слушаюсь, — гаркнул Глоба. — Разрешите исполнять ваш приказ?
— Исполняйте.
И началась дополнительная муштра…
Каждое воскресенье и каждый праздник солдат водили в церковь.
В этот раз Шевченко столкнулся с Мешковым на паперти. Как надлежит солдату, Тарас дал командиру дорогу и сорвал с головы бескозырку.
— Трое суток гауптвахты! — ударил его, как плетью, голос Мешкова. — Пора вам, Шевченко, запомнить, что головной убор снимают не правою, а левой рукой.
Давно исчез Мешков в глубине церкви, а Шевченко еще стоял на паперти с бескозыркой в руках. Нищие тихонько захихикали вокруг, а старый безногий солдат поучительно сказал:
— Заработал, служивый, гауптвахту? Теперь будешь знать навеки, что солдату нельзя ловить ворон… Подайте, Христа ради, копеечку калеке-воину; за веру, царя и отечество пострадал… Подайте старому солдату за упокой родителей ваших, — забубнил он, протягивая руку к выходившим из церкви прихожанам.
«Вот так и мне придется нищенствовать в конце жизни», — подумал Тарас и с тяжелым сердцем пошел отсиживать на гауптвахте свои трое суток…
Приближалось Рождество. На Украине с этим праздником связано множество разных примет, обычаев, легенд и обрядов, которые дошли до нас с глубокой дохристианской старины.
Накануне утром не вывели солдат на муштру, а приказали чисто убрать и помыть казарму. Все задвигались, прибирали в своих шкафах, мыли, скребли, аккуратно складывали дрова в углу.
От обеда солдаты отказались, потому что постились «до вечерней звезды». Во второй половине дня всех повели в баню, где цирюльник старательно постриг и побрил их, а каптенармус видал новое белье, мундиры и шапки.
После вечери в необычно чистой и хорошо проветренной казарме не было ни пьяных песен, ни ругательств. Лица солдат стали торжественно сосредоточенными.
Шевченко пошел в свой угол и лег лицом к стене, чтоб никто не видел его слез. Он вспомнил свое безрадостное детство и тот особенно горький святой вечер в год смерти матери, когда довелось маленькому Тарасику со старшей сестричкою нести, по обычаю, вечерю старому деду. Переступив порог хаты деда, мальчик должен был сказать, как того требует обычай: «Святой вечер! Отец и мать прислали вам, деду, праздничную вечерю». Но не смог сирота сказать этих слов, когда легла в могилу его родная мать, замученная нищетой и панщиной. Слезы полились из его очей, а за ним заплакала и сестричка… И теперь, на чужбине, вспоминая этот вечер, лежал поэт на нарах, казалось, забытый всем миром, и остро, как в детстве, ощущал свое сиротство.
— Не тужи, брат. Не надо, — вдруг ласково заговорил Кузьмич, положив руку ему на плечо. — Грех в святой вечер так убиваться, когда на всей земле мир и в человецех благоволение.
Шевченко не ответил, но от этой неожиданной ласки еще сильнее задрожал от беззвучных рыданий, а Кузьмич легонько гладил его по плечу и говорил:
— Много нас тут таких… И у каждого из нас сердце раненое. Пусть хоть раз в год оно станет мягче надеждою. Даст бог, и ты домой вернешься.
— Я ничего… Мать вспомнилась… — сказал Шевченко.
— Конечно! Сохнет сердце без ласки. И при седом волосе тяжело быть сиротой, — тепло ответил Кузьмич. — Я тоже без отца рос. Соберемся мы, бывало, под святой вечер и пойдем по хатам Христа славить. Где грош дадут, где пирог, где хлеба, а где и колбасы или сала отрежут. Принесем все матери, заплачет она над этой милостыней, разделит меж нами, малыми, а сама и кусочка себе не возьмет. «Я уже поела», — скажет, а мы, малые, и не догадываемся, что она совсем голодная, — вздохнул, договорив, Кузьмич и тоже смахнул непрошеную слезу…
В праздничные дни Тарас вырвался к Саримбеку. Был солнечней морозный день и совсем тихо. Замерзлым морем сияла под солнцем степь. И неглубокий снег лежал на ней мелкими бугорками в редкой щетине прошлогоднего бурьяна и ковыля. Одинокие колючки торчали из маленьких кучек снега, в которые вмерзли шарики перекати-поля.
Шевченко шел напрямик, угадывая берега Ори по редким кустам, которые росли вдоль реки. Вскоре вдали показались юрты, и Тарас ускорил шаги. Сегодня он чувствовал себя почти здоровым. Но дорога все же утомила его, и до юрты Саримбека он еле добрался. Вся семья была в сборе. Тарасу обрадовались все. Особенно рада была Айбупеш, которая тут же принялась готовить для гостя чай. Тараса снова усадили на почетное место, и Саримбек стал его расспрашивать о жизни в крепости.
— Жизнь в крепости у простого солдата, — отвечал Тарас, — не сахар, да и здесь у вас, в открытой степи, тоже не мед. Мерзнете, наверное?
— Да, холодно, ветер, — отвечал Саримбек. — Но мы привыкшие: немножко костер, немножко шкуры верблюда… Мы жалеем, что умер Иса-паша, хороший был человек, справедливый, нас не обижал, не прогонял от крепости.
— Да, ты прав, Саримбек. Генерал был доброй души человек. Такие редко встречаются. Мы с ним подружились… Теперь без него трудно стало.
— Тарази, сегодня мы тебя будем угощать мясом дикого барана, которое тебе понравилось. Только вчера я был на охоте и одного застрелил.
— Спасибо! Будем праздновать. У русских сегодня большой праздник, я даже на всякий случай захватил с собой бутылку водки.
— Очень хорошо! А у нас есть шубат и кумыс. Масати, — обратился он к старшей жене, — готовь мясо. А ты, Айбупеш, помоги ей.
— Саримбек, я хочу тебя попросить, пока мы еще трезвые, чтобы Айбупеш попозировала мне. Я хочу нарисовать ее портрет красками, которые я тоже захватил с собой. В крепости мне царь запретил рисовать, а здесь у тебя можно.
— Тарази, я видел твой рисунок Айбупеш… Как живая!.. Ты настоящий чародей! Конечно, пусть она тебе помогает, а я буду смотреть на твое волшебство.
— Хорошо!..
Тарас разложил краски и попросил доску для листа бумаги, которую он вырвал из подаренного ему альбома.
— Айбупеш, — обратился он к девушке. — Зажги свечку и держи ее в левой руке чуть ниже лица, а правой рукой как бы обними свечу с другой стороны, чтобы больше света падало на твое лицо. Стой так с выражением, как будто ты ждешь чего-то приятного.
Тарас сам разместился так, чтобы видеть большую часть лица Айбупеш.
У него еще никогда не было такой прекрасной модели. Он начал быстро набрасывать краски на бумагу. Вскоре на бумаге постепенно появлялась Айбупеш с ее чудными глазами, светившимися радостью.
Саримбек с широко раскрытыми глазами следил за рукой Тараса с благоговением, восторгом и удивлением. Казалось, он готов был упасть к ногам Тараса и поклониться, как божеству.
Примерно через час работа в основном была завершена. Все собрались вокруг Тараса и стали рассматривать картину. Масати в каком-то полустрахе, полувосторге молчала. Айбупеш смотрела и удивлялась своему изображению. «Это я такая красивая? — думала она. — Или это Тарази просто такой меня нарисовал? Но два изображения так похожи!»
Саримбек взял Тараса за руку:
— Тарази, у тебя волшебные руки, руки бога!.. Я не поверил бы, если бы не видел собственными глазами, как ты все это сотворил!.. Дай мне подержать твою руку, пусть от нее и мне достанется чуточку твоего таланта, но только в охоте и в рыбалке. А теперь, Масати, подавай мясо, разливайте кумыс и шубат.
— Водку тоже будем пить? — спросил Тарас.
— Конечно, ведь праздник сегодня у русских, и русские простые люди нам братья.
Все сели на ковер, на котором дымилось мясо, горячий чай, кумыс, шубат. Тарас открыл бутылку водки и пригласил с согласия Саримбека к этому импровизированному столу и женщин.
И началось дружеское общение. Тарас рассказывал о своем детстве, об Украине, о тяжелой жизни крепостных, о чарующей украинской природе, о Днепре…
Саримбек тоже делился своей нелегкой жизнью. Не везет ему. Хотел детей, женился на Масати, но Аллах детей не дал. Второй раз женился, но Айбупеш не одарила его ребенком. Но он еще надеется… Скоро он уедет на Арал рыбачить, надо заработать немного денег, чтобы содержать семью.
— Ах, Тарази, — вдруг изменив тему, сказал Саримбек, — Ты вроде бы и веселый сегодня, а в твоих глазах вижу печаль. Вижу. Всадник лучше всех знает все достоинства своего коня, а друг — все печали друга.
Тарас взглянул на Саримбека, выпил чарку и запел свою любимую: «Да забелели снега…»
Пел, аж плакал. На душе было тяжело от того, что не было рядом тех, кто мог бы ему подпеть.
И вдруг услышал — вроде кто-то подпевает. Поднял голову — Айбупеш. Не зная слов, не понимая их, она ухватила мелодию… И Тарасу стало легче…
Когда Тарас закончил петь, Саримбек обнял его:
— Тарази, какая красивая песня твоего народа!.. Какой чудесный у тебя голос!.. У меня даже слезы появились на глазах, когда тебя слушал. Какой ты большой человек: рисуешь, пишешь стихи, поешь… Почему царь тебя не любит?..
— Не бывает, Саримбек, хороших царей… Все они пьют кровь простого человека, держат его в ярме, позволяя своим нукерам последнее сдирать с него. А тех, кто пытается открыть людям глаза на их рабское положение, заковывают в цепи — и в Сибирь или отправляют в солдаты…
— Ты прав, Тарази, наши баи тоже дерут три шкуры с бедного кайзаха или киргиза… Тяжело, Тарази…
— Давай сегодня не будем о грустном… Сегодня праздник… У каждого народа есть своя музыка, свои песни, в которые он вложил свою душу. Есть они и у вашего народа. Саримбек, спой нам свою песню!..
Саримбек взял в руки свой дутар и завел веселую песню. Звенели струны, звучал голос Саримбека — немного хриплый, но свободный, как широкая степь.
— Вот видишь, Саримбек, какой ты! — засмеялся Тарас. — Только сейчас открыл свой талант. А я и не знал, что ты еще и жирау.
— Не говори, далеко мне до жирау. Я пою только для себя и для тебя, и еще для Масати и Айбупеш, а жирау — для всех. Ты тоже пишешь свои стихи для всех.
— А где ты научился так хорошо говорить по-русски?
— Кое-что выучил в крепости… Кое-что на Арале, куда я скоро уеду…
Масати и Айбупеш сидели и тихонько плакали. Песни Тараса что-то будили в их душах, но что именно — они не знали. Им просто было грустно и удивительно, что на свете есть далекие страны, где живут такие люди, как этот Тарази, сын справедливости…
— Вот поедет наш Саримбек, — заговорила Масати, — приходи к нам, джигит, приходи чаще. Мы встретим тебя так, как будто Саримбек дома, а не на далеком Арале. И тебе будет весело и нам приятно…
— Спасибо! — поблагодарил Тарас. — Приду, если Саримбек разрешит.
— А почему бы не разрешить? — удивился Саримбек. — Ты мой друг. Моя юрта — твоя юрта. Мои жены — твои…
Масати закрыла лицо руками. Тарас засмеялся: шутит Саримбек.
— Приходи к моим женам, рассказывай им об Украине, какие там у вас женщины — они любят слушать об этом и плакать… А если будет воля Аллаха, может быть, еще и встретимся на Арале…
Их встреча затянулась до полуночи. В крепость возвращаться было уже поздно, туда просто не пустили бы, да и начальство наутро обязательно накажет.
— Оставайся у нас, Тарази, переночуй, а рано утром я тебя провожу к крепости… Айбупеш, приготовь гостю постель, — сказал Саримбек.
— Мы уже все приготовили, — весело отозвалась Айбупеш. — Ложитесь спать.
Тарас видел, что этой девушке нравилось, что такой гость будет ночевать в ее жилище.
Утром Айбупеш напоила Тараса чаем.
— Тарази, — спросила она несмело, — а ты мне подаришь портрет, который рисовал?
— Конечно, Айбупеш, но позже, я хочу его еще доработать, чтобы он был еще красивее. Согласна?
— Согласна, — ответила она, блеснув своими колдовскими глазами, от которых у Тараса чаще забилось сердце.
«Какое чудо эта девушка! — подумал Тарас. — Нет, мне кажется, я решительно влюбился!.. Почему так часто мне нравятся именно замужние женщины?»
На этот вопрос у него не было ответа. Да и мог ли он быть, ведь, как известно, сердцу не прикажешь.
После чая они с Саримбеком направились к крепости. В степи стояла тишина, ветер совсем утих. На восходе светлело небо.
— О чем думаешь, Тарази? — спросил Саримбек.
— О родном крае, об Украине…
— Наверное, прекрасна твоя земля.
— Самая прекрасная в мире.
— Да ты что, — удивился Саримбек, — побывал бы ты у нас весной — это такое, что и слов не могу найти.
— Мне самая красивая — Украина, тебе — твоя земля. А нам обоим — свобода и братство.
— Да… Да… Ну, хорошо, Тарази, тебе время идти. Не опаздывай на службу. Не знаю, увидимся ли еще до моего отъезда. На всякий случай — прощай…
— Прощай! И спасибо тебе за все, за твое гостеприимство…
Прошел и Новый год. В судьбе Тараса ничего не менялось. Муштра, муштра… Очень редкие известия от друзей. Тоска раздирает его больное сердце. Он пишет в письме Михаилу Лазаревскому:
«С Новым годом, будьте здоровы, дорогой и искренний мой земляк! Где вас бог носит, вы уже в Питере или еще в Одессе? Пусть где хочет носит, да только шляхи пусть талантом стелет, но не любит вас, ибо сказано, кого любит, того и карает. Тяжело, брат мой добрый, быть наказанным и самому не знать за что. Вот так и со мной случилось, сначала смело заглянул горю в глаза. И думал, что это была сила воли над собой, но нет, то была слепая гордость, я не рассмотрел дна той пропасти, в которую упал, а теперь, когда рассмотрел, то душа моя убогая рассыпалась, как былина перед лицом ветра. Не по-христиански, брат мой, знаю, а что делать? Кроме того, что не с кем искреннее слово сказать, кроме тоски, что впилась в сердце лютой гадюкой, кроме тех несчастий, что душу терзают, бог наказал меня еще и телесным недугом, заболел я сначала ревматизмом, тяжелая болезнь, но я все-таки понемногу с ним боролся, а доктор, спасибо ему, тоже помогал, и то, что я прозябал хотя и в плохой, но все-таки в отдельной комнате, так видите, чтобы я не нарисовал своей болезни, то и решили за благо перевести меня снова в казарму. До табачного дыма, вони и крика стал я понемногу привыкать, но тут захватила меня цинга жестокая, и теперь, как Иов на гноище, только меня никто не посещает. Так мне теперь тяжело, что если бы не надежда хоть когда-нибудь увидеть свою бесталанную страну, то молил бы бога о смерти.
І благав би я о смерті… Так ти, і Украйна, і Дніпро крутоберегий, И надія, брате, Не даєте мені Бога О смерті благати.Иногда меня тоска так за сердце сдавит, что (без срама сказка) аж заплачу.
Если бы все то рассказать, что я терплю теперь по любви и милости милосердного бога, то и за неделю не рассказал бы. Но, бог с ним, пусть оно снится тому, кто людям добра не хочет…»
Когда брат Михаила, Федор Лазаревский, перед тем, как отправить письмо брату, прочитал это письмо, он сперва даже не поверил, что писал его Тарас. Даже почерк не такой, как всегда. А главное — тоска, печаль и безнадежность…
«И это пишет Тарас? — думал он, перечитывая письмо снова и снова. — Вот что делает с человеком болезнь! Неужели она сломает его волю, неужели Тарас подчинится судьбе? Тогда смерть! Тогда — погибель…»
Федор понимал, что письмо адресовано еще и Третьему отделу, графу Орлову — на случай, если бы им посчастливилось перехватить эту цидулю Шевченко.
Он ходил с этим письмом от одного знакомого к другому, он знал его уже наизусть.
— Надо немедленно действовать, — сказал Герн, прочитав письмо. — Надо что-то делать как можно быстрее… Иначе наш друг погибнет.
— Не говорите таких страшных слов, Карл Иванович, — почти вскрикнул Федор. В его глазах заблестели слезы, губа задрожала.
— Надо что-то делать, Федор Матвеевич… Обязательно надо. Этот идиот Мешков выслуживается перед начальством. Неужели он не понимает, что творит? Может, написать Мешкову несколько слов?
— А чем они помогут? — скривился Федор. — Только беду накличем на Тараса. У нас на Украине есть пословица: «Не дай бог — с хама пана!» Вот вам полная характеристика Мешкова. А ротный, а унтер! Все они ненавидят Тараса за то, что он выше их на несколько голов… Когда-то Греч писал: «Там, где не достает мне ума и таланта, там хватит мне пламенной любви к государю императору и отечеству!» Вот и они так же. Намереваются продвигаться по службе не за счет своих талантов — их у них нет, а за счет любви к царю, любви не от сердца, а по уставу…
— Ого! Такие высказывания могут понравиться мне или Левицкому, а кому-то и не понравятся…
Лицо Федора погрустнело.
— Все равно, пусть не нравятся те или другие выражения, — в конце концов суть не в этом. А в том, что Тарасу очень и очень тяжело. Его надо спасать.
Герн закурил трубку.
— Вот представьте себе. Я — царь. Что я делаю? Я просто отменяю свой указ — и все… Теперь представьте себе: я — не царь…
— Это я представляю, — сказал Лазаревский.
— Я не император. Никто. Выходит, его солдатчины не отменить. Государь начертал указание — его будут исполнять… Что же можно сделать?.. Единственное, что можно сделать, — забрать Тараса с Орска. Но разрешите еще спросить: куда? Даже если бы это удалось. Вы уверены, что вместо Мешкова не появится другой любитель муштры?
— Нет, не уверен… Но…
— Но есть, кажется, одна возможность. И я сейчас о ней подумал. Недавно прибыл сюда из Петербурга штабс-капитан Макшеев. Готовится экспедиция на Аральское море. Говорят, что ее возглавит капитан Бутаков. Это — не Мешков. Это — образованный человек, мореход, литератор. Государь император литераторов не любит, на его счету уже две смерти — Пушкина и Лермонтова, но это его личное дело. А вот литератор литератора поймет… К тому же морской офицер — это не пехота. Сатрапов на флоте не любят. На флоте надо быть грамотным, умным и сердечным. Иначе погубишь и корабль, и себя. Я знаю, что Бутаков напечатал в «Отечественных записках» целую повесть о кругосветном путешествии. И его похвалил за нее даже Белинский. А Белинский дурака или бурбона не похвалит. Это вы знаете?
— Догадываюсь…
— Поэтому идея такая: необходимо сделать все возможное, чтобы Бутаков взял Тараса с собой. В географической экспедиции обязательно надо рисовать. Пейзажи, растения, животные, человеческие типы… Таким образом, Бутаков может дать возможность Тарасу рисовать. Моя жена говорила — она же, вы знаете, считает себя артистичной натурой, — что художнику обязательно надо упражняться в рисовании. Иначе он погибнет как художник. Но у Бутакова он сможет упражняться. Это во-первых. Во-вторых, Бутаков — не Мешков, и если увидит, что Тарас, что-то там написал, то Орлову донос по этой причине строчить не будет… В-третьих, если экспедиция будет удачной, если Бутаков даст Академии полное описание Аральского моря, то участников могут и наградить, и повысить в чине. А для Тараса это имеет значение.
— Как будто Тарас — это такой человек, что только и мечтает дослужиться до унтера или даже офицера…
— Знаю, что не мечтает. Знаю, что он пренебрегает любыми лычками на погонах и даже — вот как эти мои звездочки… Но если у него будет какая-нибудь лычка — уменьшится количество тех, кто его сможет мучить. Разве не так?
— Кто его знает…
— А самое главное — Тарас по характеру ученый. На Украине он рисовал исторические памятники, пейзажи, типы людей. И не просто, а для науки. Это разносторонний талант.
— Я с вами согласен. Именно это главное…
— Теперь далее. До сих пор я говорил о том, что «за». А теперь о том, что «против…» Во-первых, путешествие будет не из легких, а здоровье Тараса не богатырское. Значит, есть сомнение в том, выдержит ли он его. Во-вторых, те края не мирные. То бухарцы налетают, то хивинцы, то кокандцы, а то и туркмены наскочат. Там льется кровь — не так, как на Кавказе, но льется. Кроме того, нам же хорошо известна трагичная судьба экспедиции Бековича. Кто его знает, что может случиться и с экспедицией Бутакова… Россия хочет мирным путем присоединить те края… Но головы сносят… Стоит ли рисковать головой Шевченко?
— Надо рискнуть, — задумчиво помолвил Лазаревский. — Не в честь империи, а во имя науки.
— Очевидно, рисковать стоит. Как говорил мне Тарас: «Убежишь — не убежишь, а бежать надо…»
В марте над Оренбургом и над Орском еще гуляет пурга, еще в степях трещат морозы, гоняя волков. Но все равно уже пахнет чем-то новым — пусть не весной, но уже концом зимы. То солнце выглянет, то воробьи зачирикают, то что-то звонко, хотя и несмело, капнет с крыши.
Алексей Иванович Бутаков ходил по Оренбургу, рассматривал его, как рассматривают каждый заморский город. Он ему не нравился, но что поделаешь — судьба бросила его сюда, а значит, надо привыкать — хоть и ненадолго — и к Оренбургу.
Заглянув в библиотеку, он познакомился с Раковским. Тот сразу выложил перед Бутаковым целую гору книг и, извиняясь, сказал:
— Все равно вы тут мало что возьмете для себя. В прошлом году я давал эти книги Шевченко, так некоторые из них вызвали у него скептические высказывания… Впрочем, может быть, вы что-то и вычитаете…
— Это какому Шевченко? Поэту и художнику?
— Ему.
— А где он сейчас?
— В Орске. Очень бедствует… Тянет лямку.
Бутаков уже знал о Шевченко и его службе от Плетнева и художника Чернышева, с которым он встретился на квартире Плетнева. Чернышев привез в Петербург письмо Тараса с просьбой о ходатайстве разрешить ему рисовать и облегчить его участь.
Раковский сел на свое место и изредка смотрел на Бутакова, пытаясь разгадать, о чем тот думает. Потом поднялся, пошел в другую комнату. Взял альбом «Живописная Украина», который дал ему Лазаревский на несколько дней, и принес Бутакову.
Бутаков вопросительно взглянул на Раковского. Взял из его рук книгу и начал рассматривать.
— А что? Очень даже неплохо, — промолвил он. — Художник таки отличный. В пейзажах сильный и точный… Так… Жаль…
Это все, что услышал Раковский от Бутакова.
Во второй раз в Оренбурге капитан-лейтенант Бутаков имя Шевченко услышал от Карла Ивановича Герна. Тот пригласил бравого моряка к себе домой. Жена Герна очень внимательно присматривалась к бывалому моряку, но Герн ничего плохого в этом не видел. Внимательная — тем лучше!
Когда за столом было выпито несколько рюмок — с надлежащими тостами, их умели произносить и один, и другой, Карл Иванович посерьезнел и завел разговор о Шевченко.
— Я очень хорошо знаю, кто это такой, — остановил Герна Бутаков. — Но, дорогой Карл Иванович, что вы от меня хотите?
— Чтобы взяли его в свою экспедицию!
— Ого! А петербургское начальство разрешит?
— Не разрешит. Но надо сделать так, чтоб об этом у начальства и не спрашивать. По крайней мере у петербургского.
— А как это?
— Обычно. Попросите у местного начальства — вам, дескать, нужен квалифицированный художник. Не просто квалифицированный, а высокой квалификации. И наши отпустят Шевченко с вами. Ну скажут, конечно, чтобы он не писал разных глупостей, не рисовал ничего такого, кроме того, что необходимо для дела, — вот и все…
Бутаков повернулся все корпусом к Герну.
— Дорогой мой Карл Иванович, — промолвил он, — если хотите знать, то вот что вам скажу. Ко мне еще в Петербурге подходили достаточно влиятельные и уважаемые люди с таким же предложением. Одновременно они обратились к государю разрешить Шевченко рисовать. Вам известны результаты их хлопот?
— Знаю, государь не разрешил.
— Вот так! Могу ли я своей волей отменить такие, пусть даже осмелюсь сказать, недальновидные решения? Имею ли я право ставить под удар экспедицию?
Герн замолчал. Но потом решительно промолвил:
— А разве мы не знали о решениях государя? Однако нам хватило здравого смысла сделать вид, что ничего не видим. Что не видим, как Шевченко рисует и пишет… Не знаю, только считаю, что это дело чести и порядочности каждого патриота. Бог не простит нам, если мы поспособствуем тому, что этот талант погибнет…
В дверь кто-то постучал. Герн направился к двери. Это пришел Федор Лазаревский.
— Вот еще один человек, кровно заинтересованный в облегчении участи Шевченко. Даже откладывает свой отъезд в Троицк, где служит попечителем пограничных киргизов, лишь бы увидеться с вами.
— Именно поэтому задерживаюсь, в самом деле, — ответил Лазаревский и сел за стол.
— Федор Матвеевич, прочтите письмо Тараса и расскажите, как вы в последний раз видели его, — попросил Герн.
— Как я его в последний раз видел? — задумчиво переспросил Лазаревский. — Вы знаете, что по своим государственным делам, — он иронически улыбнулся, — я иногда заглядываю и в Орскую крепость. Бывало так, что я Тараса не заставал в казарме. И тогда я спрашивал у людей, и мне говорили, что Шевченко пошел к Ори или к Уралу. Я шел туда, где растут высокие травы, — там Тарас имел привычку прятаться от сторонних глаз и что-то писать… последний раз было так. Иду. Ничего не видно — только камыш и высокая трава. А крикнуть боюсь, — не отзовется, может не узнать голоса и подумать, что его ищут по приказу Мешкова… Стою, оглядываюсь. Смотрю — какая-то птица взлетела вверх, а потом опускается. Но не садится, а летит вбок. Кажется, там кто-то есть. Иду. Вижу — следы солдатских сапог… Может, Тарас. А может, и нет… Остановился. Думаю, тут уже недалеко, запою украинскую песню — он все поймет. Затянул своим не очень сильным голосом «Да забелели снега…». Вижу — поднимается из травы, оглядывается. Посмотрел на меня — и не узнает… Иду уже прямо к нему. А он снова присел в траву — и не видно его. «Тарас Григорьевич, — зову. — Это я, Лазаревский. Чем вы так заняты, что я вас ищу уже два часа?» — «А это ты, Федор Матвеевич! Подходи с правой стороны, здесь удобнее». Подхожу, спрашиваю, где же здесь вход в аудиторию. Ну, он повеселел. Отвечает, что двери широкие, можно заходить, не стучась, надо только ноги вытирать, потому что хозяйка злая и будет ругать… Подхожу к нему ближе, а он сидит на какой-то кочке и рисует траву. Рисовать траву — это, я вам скажу, самая что ни есть антигосударственная деятельность. Рисует, глаза протирает. Мы обнялись. Я сел на другую кочку. Чувствую — влажно, холодно снизу. Спрашиваю: «Тарас Григорьевич, зачем вы рискуете своим здоровьем? Здесь же можно бог знает какой ревматизм схватить». — «А вы хотите, чтобы я рисковал своим званием художника? Ведь если перестану рисовать, то через пять лет мне останется только заборы красить… А что касается ревматизма — то не переживайте, он у меня уже есть. Хуже то, что глаза устают, на стрельбах у меня плохие дела. Боюсь, как бы снова не оказаться на гауптвахте…»
А его, оказывается, уже несколько раз отправляли на гауптвахту. Его, выдающегося художника, поэта, что стоит на уровне Пушкина, какой-то там солдафон имеет право отправить на гауптвахту!.. Потом Тарас вынул из-за голенища маленькую книжечку. В нее он переписал стихи, которые сочинил во время муштры… Сели мы читать — господи твоя воля! Самая высокая поэзия!..
Бутаков вздохнул:
— У меня экспедиция не поэтическая, а географическая, — вы этого не забыли?
— Да, смею вас заверить. Если бы вы проанализировали его поэзию с точки зрения географии, то вы из нее много бы взяли. Там есть и описание местности, цвета степи. И даже названия трав, что здесь растут.
— Я не наивный человек. У Пушкина тоже есть цвета и запахи… Однако…
— Это же прирожденный географ!
— За окном девятнадцатый век. Нужны специальные знания.
— Он больше знает, чем вы представляете. Это — энциклопедист.
— Ясно. Вольтер, Дидро, Даламбер… Не перебивайте, я не закончил свою мысль. Я знаю, что ему тяжело. Я знаю, что он способен мне помочь. И он поможет мне такой же мерой, если не большей, чем я ему. Мне очень нужен художник — и не просто художник, а человек с широким научным и гражданским сознанием… Только ему в экспедиции будет тяжело. Очень тяжело. Экспедиции погибают не только на Севере. Не только в джунглях Африки. Можно легко погибнуть и на Арале… А у него здоровье никудышнее, он обессилен… Что делать?
— Тогда он просто умрет в Орске, — сказал Лазаревский. — Вот послушайте, что он пишет.
И он прочитал письмо Тараса.
Бутаков долго молчал, потом поднялся, оперся на стиснутые кулаки, сказал:
— Все. Дискуссия закончена. Даю вам слово русского моряка, что я сделаю все возможное. Попробуем спасти его. Только надо, чтобы и вы поговорили с местным начальством, подготовили его к этому… В Петербурге я говорил даже с Беллинсгаузеном. Он смог открыть Антарктиду, но не может сейчас даже рта открыть перед императором, чтобы помочь Шевченко. Даже Беллинсгаузен! А что такое — Бутаков? В Петербурге любой разговор о Шевченко — дело безнадежное… Но, если это удастся в Оренбурге, — я буду счастлив. Договорились?
— Вы благородный человек, Алексей Иванович… — начал Герн.
— Не надо, — махнул рукой Бутаков. — не люблю лирических отступлений…
Весна летела, как быстрый парусник. Ярче и теплее становилось небо. В Оренбурге пахло талою водою и молодой зеленью. Прохладные, а то и морозные ночи сменялись теплыми днями, на небе играло своими лучами солнце.
Бутаков торопился. Сразу же по приезде в Оренбург он занялся организационными делами. Все заботы теперь лежали только на нем, поэтому в первые дни ему некогда было думать про Тараса и о предложении Герна, а главное — он никак не мог подойти к Обручеву с просьбой о включении Шевченко в состав экспедиции.
Строительство шхуны «Константин» наполовину было уже завершено, подобраны почти все члены экспедиции. Не хватало только геолога и художника.
Бутаков с этим и пошел к командующему отдельного Оренбургского корпуса, генералу Обручеву.
Обручев сидел в своем кабинете и курил трубку. Вид у него был суровый, но, увидев Бутакова, генерал тяжело поднялся и улыбнулся:
— Приветствую открывателей Атлантид. Нам как раз одной Атлантиды и одного моря и не хватает.
— Значит, найдем! С вашей помощью.
— Наш флотоводец имеет ко мне какое-то дело? Кого-то, наверное, ему не додали?
— Именно так! — ответил Бутаков. И сразу же приступил к делу: — Мне нужен геолог и художник. Настоящий геолог и настоящий художник. Для рисования берегов Аральского моря.
— Так берите — кто вам их не дает?
— Вот по этому делу я и подготовил на ваше имя бумагу.
— Давайте сюда ваш рапурт, как привыкли высказываться на флоте! Давайте! Сейчас подмахнем… Любите вы порядок во всем, Алексей Иванович, любите…
Он взял перо и приготовился поставить подпись. Потом достал очки и начал читать. Он читал, а Бутаков наблюдал за выражением его лица. Недавно такое добродушное, оно вдруг стало неприветливым, вытянулось и окаменело. Генерал положил перо, снял очки, сложил руки на животе и вперился взглядом в Бутакова.
— М-да, — проговорил он, помолчав. — Вы что — все сговорились?
— Я вас не понимаю!
— Хе-хе! Все вы понимаете! Все понимаете… — Генерал не спускал с капитана хитрых очей.
Снова тишина. Бутаков молчал. Молчал и Обручев. Наконец Обручев кашлянул и через минуту:
— У вас на флоте приказы издаются, очевидно, для того, чтобы их исполнять?
— Конечно, — совершенно спокойно, как будто не понимая, куда клонит генерал, ответил Бутаков.
— Представьте себе, капитан-лейтенант, что у нас — то же самое. Не странное ли совпадение?
— Я тоже так считаю, — все так же спокойно продолжал капитан-лейтенант. — Даже уверен в этом.
— Так какого черта вы подсовываете мне эту цидулю?
— Это не цидуля, а рапурт.
— Действительно, я и не заметил, что рапурт… А знаете ли вы, что тот геолог Томаш Вернер — поляк и крамольник и что его сослали отбывать наказание, а не корчить из себя Марко Поло или Магеллана.
— Я знаю и русских крамольников. И что с того? — ответил холодно Бутаков. И не дожидаясь, когда Обручев соберется с мыслями, добавил: — Мне нужен геолог — это главное. Поляк ли он или еврей, или малоросс, или русский — меня это не волнует!
— Крамольник-с! — подчеркнул Обручев.
— Здесь половина солдат — крамольники. Так что — мне возвращаться в Петербург?
— Речь идет не о простом крамольнике. А о таком, который хочет отделить Польшу от России.
— Это меня не интересует. А если кто-то именно этим интересуется, — пусть интересуется. Для меня важно одно — знает ли он геологию. За этим я сюда и пришел. Имейте в виду, что по-польски я с ним разговаривать не собираюсь, империя от моих с ним слов не зашатается…
— Вернер… Вернер… Это что же — больше никого вы не нашли, кроме него? — пробурчал Обручев.
— Если вы найдете лучшего, я буду вам благодарен.
— Черта лысого тут найдешь, — огрызнулся генерал. И добавил: — Ну, пусть свершится чудо: я соглашусь на Вернера. Допустим, экспедиция не может без него. А — Шевченко?
— А что — Шевченко?
— Вам нужны его малороссийские стихи?
— Стихи мне ни к чему. Мне нужен его талант, как художника…
— Так-так-так… А приказ императора в отношении Шевченко вам известен?
— Слышал о нем, — отозвался Бутаков.
— Так как же вы можете толкать меня на нарушение его приказа?
Бутаков все так же спокойно ответил:
— Речь идет о написании, как вы сказали, крамольных стихов. А в экспедиции рядовой Шевченко будет выполнять то, что я скажу, — делать съемку местности. Это даже не рисование, а ближе к черчению. А о черчении государь ничего не писал и не говорил…
— Так скажет.
— Вот когда скажет, тогда мы Шевченко отправим назад. Только и всего.
Обручев долго что-то думал, сердито сопел, надевал очки, потом их снимал. Наконец сказал:
— Ох, и подведете вы старого генерала под монастырь.
— А если не будет художника, то зачем же нам тогда ехать? — настаивал Бутаков. — Я же не виноват, что во всем Оренбургском крае нельзя найти художника. А из-за такой мелочи мы не имеем права срывать экспедицию, высочайше утвержденную самим государем.
— А вы еще будете иметь неприятность, — ответил Обручев. — И я буду иметь…
— Вы будете иметь благодарность от государя — за то, что действовали в соответствии с обстановкой…
— Ну, черт с вами, — вздохнул Обручев. — Только следите за этими сорвиголовами.
Он уже взял перо, чтоб поставить резолюцию, но остановился.
— А может, немного позже? Вы идите спокойно, а все сделаю, не волнуйтесь.
Бутаков поднялся.
— У меня нет ни времени, ни привычки по сто раз ходить по одному и тому же делу, — проговорил он сухо и официально. — Придется издавать приказ, что экспедиция отменяется. Все.
— Ну, не надо так горячиться, — сказал генерал. — Я сейчас…
Он вызвал секретаря и продиктовал ему распоряжение:
— «Рядового Оренбургского корпуса Тараса Шевченко передать из распоряжения коменданта Орской крепости майора Мешкова в распоряжение и под надзор начальнику Аральской экспедиции капитан-лейтенанту Бутакову». Поставьте мою подпись.
Когда секретарь вышел, Обручев сказал:
— Ну, вот и все. А вы на меня даже рассердились. За что?
— Прошу меня извинить, если я что-то не так сказал. Благодарю вас! — сдержанно, скрывая радость, ответил Бутаков.
— А теперь, Алексей Иванович, — перешел на неофициальный тон генерал, — я вас очень прошу не спускать глаз с Шевченко. Мне кажется, он все время думает только о том, как бы нарушить приказ государя. Мы все люди добрые, доносов не пишем, но если какая-нибудь собака напишет цидулю в Петербург или даже мне — плохо будет…
— Я постараюсь выполнить вашу просьбу, хотя у меня будет немало и других дел, — пообещал Бутаков. — Только думаю, когда он поболтается на волнах Аральского моря да несколько раз нырнет в них, то ему будет не до карандаша и бумаги…
— Разве что… — неуверенно ответил Обручев…
Всю зиму Тараса продолжали муштровать. Иногда ему удавалось избежать муштры. Как ни странно, но ему в этом помог Козловский.
— Учитесь у меня уму-разуму, мой дорогой. Хотите не маршировать на плацу? Есть простой способ — напоить офицеров.
— Как это напоить? — удивленно спросил Тарас.
— Очень просто — надо придумать что-нибудь этакое, например, какой-нибудь праздник… Ну, например, можно предложить охоту на волков…
— Предложить-то можно…
— Ну, и договорились… Предлагаю пойти к Мешкову и предложить ему именно охоту на волков. В этом нам и кайзахи помогут, которым эти волки большое беспокойство приносят.
— Пойдем, — неуверенно ответил Тарас…
Утром Шевченко с Козловским пошли на квартиру Мешкова. Появление Шевченко вместе с Козловским чрезвычайно удивило майора, и он приказал пригласить их в кабинет.
— Что скажете? — спросил он, выходя к ним в халате. — И почему нарушаете субординацию и обращаетесь ко мне, а не к ротному командиру?
— Мы, ваш скобродь, не по-своему и не по ротному делу, — вытянулся Шевченко. — Был я вчера у кайзахов. Ходил к знакомым. И они просили передать вашему скобродию просьбу от всех тамошних кайзахов и киргизов, чтоб помочь им уничтожить волков. Очень им волки досаждают: каждую ночь то коня, то пару баранов раздерут, а то и больше. Просят организовать большую охоту, облаву… Подумали мы с Козловским и решили, если будет на то разрешение вашего скобродия, то можно в ближайшие дни организовать облаву. Нашим казакам волки тоже не дают жить: среди белого дня к лошадям подбираются. Было бы господам офицерам приятное развлечение, а людям большая польза: настреляли бы серых, а потом организовали хороший сабантуй с кайзахами, которые готовы зарезать баранов, а мы бы выпивку обеспечили.
У Мешкова загорелись глаза. Довольная улыбка поползла губами и спряталась где-то под усами, но для порядка он сдвинул брови, постоял с минуту задумчиво и нерешительно ответил:
— Та-ак… Бить волков — надо, и очень. Просто не знаю, что вам сказать… — Потом подумал и неожиданно махнул рукой: — Хорошо! Действуйте!.. И возьмите коня и сани, ведь у вас больные ноги, Шевченко… Ох и хитрецы вы оба!.. Вас с Козловским до облавы освобождаю от строя, чтобы вы смогли спокойнее все подготовить. Зайдите после обеда в канцелярию, приказ будет готов, и действуйте. Хорошо иногда внести немного разнообразия в нашу нудную жизнь, — добавил он, приветливо кивнув Тарасу…
— А что! Я говорил, что клюнет, — и клюнуло! — удовлетворенно воскликнул Козловский, коли они вышли от Мешкова. — Еще и водки не нюхал, а вспомнил твою болезнь. И на «вы» заговорил. Вот тебе первый итог разумного начинания.
Подготовка к облаве затянулась более чем на неделю. Охота удалась: убили более десятка волков, несколько лисиц и другой мелкой живности. Пьянка с обильной закуской длилась три дня…
Доктор Александрийский официально не был военным доктором, но поскольку в Орске не было никакого доктора, то его приглашали к тяжело больным солдатам и офицерам и на военные комиссии.
Шевченко он лечил, считая это своей гражданской обязанностью. Он любил поэта за талант, пытливый ум и чрезвычайную честность. Любил разговаривать с ним и глубоко сочувствовал его судьбе. Почти ежедневно навещал его, а иногда добывал для него прошлогодние журналы или какую-нибудь книгу, чтобы развеять его грусть.
А Шевченко отоспался, согрелся в тепле лазарета, отдохнул от муштры, от облавы, которая стоила ему много нервов и забот. Но и для грусти теперь оставалось больше времени.
Александрийский без слов понимал все и с особенной радостью принес Тарасу такие долгожданные письма, целых три: от Варвары Репниной, от Лизогуба и из Петербурга от Михаила Лазаревского, а на другое утро получил поэт посылку с Украины, а потом еще деньги и посылку из Петербурга.
Шевченко почувствовал, как будто поток солнечного света и тепла проник ему в наболевшую душу. Он читал и перечитывал полные теплого сочувствия письма, он впитывал каждое слово, как целительный бальзам, и со слезами благодарности в глазах то вынимал из ящичков краски, альбомы и книжки, карандаши и кисти, почтовую бумагу и теплое белье, то снова аккуратно и бережно складывал их. Все прислали ему, о чем он писал и просил: два тома Лермонтова, Шекспира, Кольцова, Гоголя и «Чтения Московского археографического общества».
Книги надолго украсили ему лазаретные дни. Он увлеченно вчитывался в полные чарующей красы стихи Лермонтова, наслаждаясь их музыкой. Он читал их Фишеру, доктору Александрийскому и ночью, когда не мог уснуть, на память повторял несравненные «Мцыри», такие созвучные ему в те дни.
А вот книга Гоголя вызвала у Тараса разочарование. От бывшего великого сатирика земли русской, автора «Ревизора» и «Мертвых душ», в ней не осталось ничего. Заживо умер великий мастер и художник слова, от внимательного глаза которого не могла спрятаться ни одна темная сторона крепостной России. Охваченный темным мистическим бредом и ханжеством, Гоголь гасил теперь зажженный им свет.
Здоровье понемногу улучшалось. Александрийский радовался, что выздоравливает его пациент, но с грустью видел, что приближается время, когда придется его выписывать. Доктор думал продолжить лечение до весеннего тепла, но его пациент не мог заставить себя стонать и жаловаться на несуществующую болезнь.
Неожиданное письмо из Оренбурга взволновало Тараса: Федор Лазаревский писал ему, что в Оренбург прибыл морской офицер Бутаков и начал строить большую двухмачтовую шхуну, на которой будет обследовать Аральское море. Далее писал он, что полковник Матвеев и Герн с генералом Федяевым уговорили Бутакова взять Тараса в состав экспедиции.
Обрадовался этому доктор. Но Шевченко, вместо того, чтобы тоже обрадоваться, ужаснулся:
— Еще дальше?! В эти бескрайние степи, где зимой гоняют волки, а летом каждая щель кишит гадюками?
— Да подумайте только, дорогой мой! Это счастье! Это путь на волю! — уговаривал его доктор. — Послушайте меня внимательно. Во-первых, на полтора-два года вы освобождаетесь от мундира и муштры. О Бутакове все говорят, что он умный, порядочный человек. С ним будет офицер генерального штаба и несколько молодых моряков, которых не министерство назначило, а выбрал сам Бутаков. Конечно, в каждой географической экспедиции случаются трудности: приходится терпеть и неудобства, и жару или холод и тому подобному. Но вы будете не один. А за участие в такой экспедиции вас, наверно, ждет награда. И первую награду вы уже сразу будете иметь, так сказать, в счет будущего. Это официальное разрешение рисовать. Понимаете: ри-со-вать! Таким образом, первая часть вашего приговора уже не действует, а там и писать разрешат. И не угаснет ваш талант, и вы не разучитесь писать ни пером, ни кистью или карандашом…
Шевченко слушал сначала недоверчиво, как ребенок, которого хотят утешить интересной сказкой, но, когда он услышал последний аргумент Александрийского, а потом сам еще раз прочитав письмо из Оренбурга — радость начала заполнять его душу, и, забыв все сомнения, он вдруг перекрестился широким, счастливым крестом.
Выписывая Шевченко из лазарета, Александрийский приказал фельдшеру еще на несколько дней освободить Шевченко от строя. Начальство не возражало, поскольку хорошо запомнили трехдневную пьяную гульбу, и с того времени офицеры по-другому смотрели на Тараса, говорили ему «вы» и не подносили к глазам волосатые кулаки, когда его носок отступал от нормы.
— Набирайтесь у меня ума, мон шер, — сказал Козловский, приближаясь к Шевченко своей вихлявой походкой. — Когда «они» забудут облаву и она, как говорит Эжен Сю, «порастет травой забытья», напомните им снова о себе новым угощением, а пока что одолжите мне двадцать копеек, потому что, если я сегодня не чикалдыкну хотя бы шкалик водки, душа моя окончательно испарится и исчезнет в эфире…
Козловский оказался прав. Вскоре появился Мешков:
— Ну, Шевченко, жалели мы вас больше шести недель… Подлечили, дали отдохнуть. Пора вам браться за солдатскую науку.
И на третий день снова вывели Тараса Григоровича на плац.
И снова маршировал он журавлиным «павловским» шагом. Снова стрелял с колена или лежа на снегу, а в лицо мела ледовая январская вьюга. И снова заныли его ноги от ревматизма, а голова раскалывалась от зубной боли.
— О чем задумался солдат? — как-то подошел к нему Козловский, вихляя задом.
— Зубы замучили. Нет сна, есть не могу… А Мешков муштрует и муштрует.
— А это с его стороны тонкий намек на толстые обстоятельства. Которые зовутся водкой с хорошей закуской в веселом кругу.
— К сожалению, другой облавы не организуем, — вздохнул Шевченко.
— Э, мон шер! Кроме облав, существуют именины, дни рождения, «табельные» дни, когда всем верноподданным следует пить за здоровье государя и других сиятельных особ. Таких зацепок можно придумать сколько угодно. Надо только уметь сообразить. Компрене?
— Да не здесь же организовывать пьянку? — сердито заметил Шевченко, раздраженный нахально-покровительственным тоном Козловского.
— Можно подумать, что нет женатых писарей, казаков и унтеров, — фыркнул Козловский. — Ну да черт с вами, Шевченко! Надоело мне вас учить! — И он поплелся в свой угол, где Белобровов с Шульцем обыгрывали в карты двух новичков.
Шевченко лег, укрылся с головой шинелью и сделал вид, что спит, но на другой день перехватил Лаврентьева возле крыльца канцелярии. Писарь искренне посочувствовал ему и, когда Тарас передал ему разговор с Козловским, сразу же все понял.
— Ты, Григорьевич, только зацепку придумай и деньжат припаси, а мы с моей Оксаною враз тебе соответственный ужин устроим. Пирогов напечем, гусей зажарим, колбасы, браги наварим, а наливка-терновка у нас всегда есть готовенькая. Водки купим, и станет оно тебе втрое дешевле, чем облава. Я и офицеров приглашу: ему самому, дескать, неудобно приглашать… Они снова подобреют к тебе и, возможно, снова тебя ко мне на фатеру отпустят. А возле тебя и другим служивым послабление… Говорят, за тебя в казарме так просто господа молят?
Зацепка была одна: день рождения Тараса. За два дня Лаврентиха купила все необходимое и приготовила такую закуску, что сам Шевченко удивился. Кроме офицеров, привелось пригласить фельдшера, фельдфебеля, унтера и чудесного слепого гармониста из бывших солдат, который жил в слободке. Он играл то марши, то народные песни, а когда офицеры были уже под градусом, вдарил камаринскую, лихо протанцевал ее Глоба, а навстречу бросился Мешков с платочком, изображая застенчивую девушку. Потом снова пили, пели песни и снова пили. Поздравляли Шевченко, желали ему как можно быстрее выйти в офицеры и добиться помилования. Потом Мешков, уже едва держась на ногах, потянул его в угол и, дыша ему в лицо смрадом водочного перегара, зашептал заплетающимся языком:
— Вы, Шевченко, с-скоро от нас… п-поедете. Есть приказ. Поедете в Р-раим с какими-то мор-ряками. Только это пока что тайна.
Сердце Шевченко затрепыхалось в груди как птичка. Значит, правда? Но Мешкову он сказал:
— Ваш скобродь, да кому я, такой больной, нужен? Слабый, хромой?! Ведь ноги снова ноют… Да вы меня такого и показать никому не сможете.
— Н-не волнуйся, дорогой. М-мы поможем, — проговорил, еле шевеля языком, Мешков и, когда гармонист вдарил танцевальной, снова пошел, заплетая ногами, выписывать кренделя, но споткнулся, сел на пол и засмеялся. А Шевченко подошел к столу, налил себе полный стакан вина и опрокинул одним духом.
Новая страница жизни открывалась перед ним.
После вечеринки в хате писаря Мешков рассказал офицерам, что Шевченко назначен в научную экспедицию на Аральское море и что до появления транспорта возле Орска надо как-то укрепить его здоровье. Поэта освободили от муштры и назначили помощником каптенармуса. Надо было навести порядок в цейхгаузах, потому что ожидали ревизию.
С этого дня Шевченко не маршировал под оглушительный треск барабанов, а развешивал на проволоке и просушивал на солнце влажное белье, заплесневелые валенки, уничтожал крыс, пересчитывал кипы белья, тягал чувалы драной одежды к батальонному портному. И это было для него отдыхом. Он заметно окреп и повеселел.
Узнав о своем близком отъезде, Тарас написал Лизогубу и попросил его прислать ему еще красок и кистей. Лизогуб сразу же выслал ему все необходимое. Остерегаясь, Шевченко весь этот скарб хранил у доктора Александрийского…
Ближе к весне Тарас несколько раз бывал в юрте Саримбека. Его жены, Масати и Айбупеш, каждый раз радостно встречали его, поили чаем, кумысом, а он им пел украинские песни. Женщины слушали и плакали. Айбупеш старалась сесть поближе к Тарасу, заглядывая в его глаза своими волшебными черными глазами. Этот взгляд волновал поэта, заставлял чаще биться его сердце. Всякий раз они приглашали его ночевать, но он не отваживался.
Вот и сегодня Тарас решил пойти проведать этих женщин, сказать им, что на днях уезжает на Арал, и попрощаться с ними.
День был уже по-настоящему теплый, ярко светило солнце, степь, ожившая необычными красками распустившихся цветов, лежала перед ним живописным ковром.
Возле юрты Тараса ласково встретила Масати:
— Заходи к нам, Тарази, заходи, я тебя сейчас чаем угощу!
— Спасибо, дорогая Масати, спасибо, родная, но мне сейчас не до чая. Я на днях уезжаю на Арал, туда, где Саримбек.
— Возьми и меня с собой! — глаза Масати засветились, в них показались слезы. — Я соскучилась за Саримбеком.
— Я бы взял тебя с удовольствием, но ты же не солдат… А где Айбупеш?
— Вот-вот будет… Пошла кизяки собирать и хворост.
— Так я побегу и позову ее…
— Беги! — улыбнулась Масати.
Тарас направился в ту сторону, куда указала Масати, и почти сразу увидел Айбупеш с целым мешком кизяков. Он поторопился ей навстречу, разведя руки, как будто пытался обнять ее. Она остановилась, опустила мешок на землю. А Тарас все же обнял ее за талию и закружил вокруг себя. Айбупеш ничего не могла сказать от удивления, а он никак не мог остановиться.
— Что с тобой, Тарази? — спросила она, когда Тарас опустил ее на землю.
— Иду на Арал, может быть, завтра или послезавтра.
— Правда? — с ноткой грусти спросила Айбупеш.
Она вдруг почувствовала, что ей очень нравится быть в объятиях этого солдата с усами и такой притягательной улыбкой. Однако смотрела на него одновременно с чувством радости и грусти.
— Что с тобой? — спросил ее Тарас. — Ты не рада, серебряный месяц? — попробовал он перевести ее имя.
— Рада, — коротко ответила Айбупеш, а ее глаза смотрели на него с грустью и печалью.
— А почему ты печальная?
— Я думаю, что теперь ты к нам больше не придешь, — сказала она задумчиво, поправляя платок на голове.
И в этот момент Тарас снова отметил, какая она красивая, юная и нежная. Вспомнил, как только что держал ее в объятиях, — и что-то защемило в сердце.
Он взял у нее мешок и сказал:
— Пойдем в юрту.
— Я сама, — потянула она мешок к себе.
— Хочу помочь тебе, — попросил Тарас. — Разреши, пожалуйста.
Они шли к юрте и молчали. Айбупеш думала о своем, а Тарас пытался разгадать ее мысли.
В юрте их ждала Масати, у которой уже был готов чай. Она разлила его по пиалам, и они уселись на ковре, обмениваясь новостями.
Сегодня Айбупеш почти не разговаривала, продолжая о чем-то думать. Вдруг она спросила:
— Тарази, а где мой портрет?
— Айбупеш, дорогая, ты меня извини, но из-за болезни я не смог его доработать. Хочешь, я сейчас нарисую тебя и подарю тебе этот рисунок…
— Нарисуй, Тарази. Пусть твоя нежность перейдет в меня.
Шевченко подумал: что она хочет этим сказать? Эта молодая, наивная и чистая душой казахская жена взволновала его душу, — и он захотел сделать для нее что-то необычное.
— У меня сейчас нет ни бумаги, ни карандаша, — с сожалением сказал он, роясь в карманах. Но я нарисую твой портрет на стене юрты. Углем от костра, хорошо?
— И себя нарисуй, — попросила Айбупеш. — Поедешь, а я буду смотреть на тебя, а ты мне будешь рассказывать…
— О чем?
— Обо всем. О том, что ты знаешь и чего не знаешь…
Тарас пытался на белом сукне юрты нарисовать Айбупеш. Было нелегко, но он не сдавался… «Впервые в жизни рисую на таком материале, — подумал он. — Рисовал на стенах казармы, на гауптвахте, на стенах орских домов, а вот на стене из сукна юрты — впервые…» Но портрет получался. Со стены смотрела на огонь, что горел посреди юрты, Айбупеш. Она улыбалась, только в ее глазах была еще и неразгаданная грусть… «Кайзахская Джоконда, чьей улыбки никому не разгадать… Только я знаю…» — подумал Тарас.
— А теперь себя рисуй! — попросила Айбупеш.
— Ну, это уже просто, — улыбнулся Тарас, и по памяти нарисовал свой давний автопортрет — там, где он молодой, чубатый, смотрит пытливо в мир…
Он набросал общий образ, быстро начертал разные, давно известные ему детали — и уже увидел себя — молодого и красивого парня, что смотрит с противоположной стороны юрты. Он тоже смотрел на огонь, на тот же огонь, который видела Айбупеш.
— Тарази, — простонала Масати и заплакала. — Ты же сейчас совсем не такой… Состарился, наполовину седой, подурнел… А вот это, — она показала на стену, — как будто твой младший брат. Нарисуй усы и бескозырку…
— Не надо, — попросила Айбупеш. Не надо. — Ты всегда такой. И даже, когда ты будешь аксакалом, ты будешь таким же. Ничего больше не рисуй…
— Хорошо, — сказал Тарас. — Надо идти, уже поздно. Солнце вот-вот спрячется.
— Оставайся у нас ночевать, — снова начали просить его женщины.
Он минуту колебался, а потом все же решил идти в крепость, где могли уже его искать.
Он обнял и поцеловал Масати, а Айбупеш спросила почти шепотом:
— Тарази, можно я тебя провожу?
Разве мог он отказать этот милой и нежной женщине?
Они вышли из юрты и пошли молча, не спеша вдоль берега Ори. Солнце спряталось за горизонт, и на землю опускались сумерки. Молчание прервала Айбупеш:
— Тарази, давай на прощанье присядем здесь на берегу. Я хочу посидеть в последний раз с тобой.
Они сели и Айбупеш вдруг прижалась к Тарасу. Его сердце от теплоты женского тела было готово выскочить из груди. Он посмотрел на нее и встретил молящий взгляд ее колдовских глаз, от чего сердце начало стучать еще сильнее.
Айбупеш дотронулась руками до его губ, а потом поцеловала их.
— Тарази, — прошептала она, — я хочу сейчас быть твоей женой…
Она обняла его за шею… Тарас не мог сдержаться… Эта юная, хрупкая женщина его победила…
Потом, уже прощаясь, Айбупеш сказала:
— Я всегда буду любить и помнить тебя, Тарази… Если будет мальчик, я назову его Тарази…
— Я тебя тоже никогда не забуду, Айбупеш… Но если будет девочка, назови ее Оксана. Скажи Саримбеку, что это я так просил…
Айбупеш вернулась в юрту…
— Масати, — спросила Айбупеш, — Аллах не будет на меня сердиться, что я сегодня очень счастливая и очень несчастная?..
— Нет, дорогая, — ответила Масати, — Аллах добрый…
Айбупеш сидела и не спускала заплаканных глаз с молодого Тараса, что смотрел на нее со стены…
Глава 5. Аральская экспедиция
Транспорт Бутакова из Оренбурга в Орск прибыл девятого мая и отаборился на сутки на противоположном берегу Урала, чтобы дать отдохнуть уставшим людям, лошадям и верблюдам.
Тарас то бросался за валы на берег Урала глянуть на шумный табор за рекой, то снова возвращался в казарму, чтобы не проворонить минуты, когда его позовут к начальству. Он весь пылал от волнения: все казалось ему, что о нем забыли, но напомнить о себе не решался.
Вечером отчаяние охватило поэта. Забыли или обманули! А значит, снова муштра, и так недели, месяцы, годы… В бесконечную даль тянулась эта длинная и однообразная цепь дней, до тоски похожих один на другой, и на конце последнего из них будет свежий бугорок земли с деревянным крестом…
Молча лежал поэт в своем углу. Не было сил ни пошевелиться, ни промолвить слово.
Неожиданный глубокий сон прервал скорбное течение его мыслей, а на другой день до завтрака Мешков вызвал Тараса и официально известил, что его откомандировали в распоряжение Аральской научно-описательной экспедиции и он должен немедленно явиться к своему новому начальнику лейтенанту Бутакову.
В первое мгновение Шевченко растерялся. Он стоял и не понимал, что говорил ему далее Мешков, даже не слышал его слов. Машинально откозырял поэт своему мучителю и только на крыльце подумал, что не спросил, где искать Бутакова.
— Григорьевич! Эй, Григорьевич! — выбежал вслед Лаврентьев. — Господин лейтенант здесь, в кабинете ротного. Они тебя зовут.
Шевченко с минуту постоял, как будто не сразу понял писаря, потом кинулся назад и, войдя в кабинет, неожиданно гаркнул:
— Здравия желаю, ваше благородие! Рядовой Шевченко явился в ваше распоряжение!
— Здравствуйте, Тарас Григорьевич, — подошел к нему Бутаков и по-товарищески пожал его руку, все еще вытянутую «по швам». — Очень рад с вами познакомиться. Садитесь, пожалуйста, поговорим.
— Я… Я не знаю, как вас благодарить… Я… — наконец выдавил из себя Шевченко и умолк, чувствуя, как что-то душит его, подступает к горлу клубком. — Спасибо!
— А это уже я должен благодарить судьбу, что получил такого ценного сотрудника и товарища, — тепло откликнулся Бутаков. — Эта экспедиция — дело всей моей жизни. Сколько лет ношусь я с мыслью о ней!.. — Бутаков помолчал, взволнованный. — Ну, да мы с вами еще не раз об этом поговорим в свободное время. — Через минуту он снова заговорил: — Ведь полтора, а то и два года придется нам прожить вместе. Успеем надоесть один другому. А сейчас извините великодушно — дела. А вы, Тарас Григорьевич, собирайтесь. Завтра утром в путь. Вещи свои запакуйте в ящики или в чемоданы и отнесите ко мне, в мою повозку. Я скажу Тихону, денщику, положить их с моими собственными вещами и с мореходными приборами, а это самый ценный багаж. И можете теперь уже переодеться в партикулярный костюм.
Шевченко был счастлив. Прежде всего он переоделся в парусиновый костюм Левицкого и помчался к доктору Александрийскому за красками и кистями, вернулся с ними в казарму. Он разложил на постели имущество художника и, как ребенок любуется своими игрушками, любовался плитками акварели, тюбиками масляных красок, кистями, этюдником, мольбертом, палитрою, альбомами и свертками ватмана и загрунтованного полотна. Теперь он не прятался с ними, не боялся, что отберут их.
Шевченко так закрутился со сборами, что только поздно вечером нашел свободную минутку, чтобы написать Лизогубу коротенькое письмо: «Я теперь веселым отправляюсь на это никудышнее Аральское море… Ей-богу веселым… Пришло мне разрешение рисовать, а на следующий день — приказание в поход выступать. Беру с собой все твои рисовальные принадлежности… Прости меня, ей-богу некогда и сухарь какой-нибудь съесть, а не то чтобы письмо написать как следует. Варваре Николаевне напишу уж разве что из Раима…» И просил писать ему в Орск на имя доктора Александрийского, который обещал пересылать в Раим все, что принесет ему почта.
От волнения Шевченко всю ночь не сомкнул очей, а на рассвете уже был на ногах.
Транспорт готовился к походу: снимали палатки, запрягали лошадей, нагружали верблюдов, и в десять часов после напутственного молебна двинулись в путь.
Тремя темно-серыми полосами тянулась до горизонта экспедиция. Звенело железо, ржали кони, кричали верблюды, слышались разговоры, даже песни, какие-то команды, крики…
Было еще утро, а солнце уже пекло, как будто летом. От земли поднимался пар, и Тарасу казалось, что он вот-вот полетит над степью и будет кружить над ней.
Степь еще была по-весеннему свежей и зеленой, местами как будто пелененная седым дымком от прошлогоднего ковыля. В первом ряду дышать было легко, но сзади, где тысячи ног, колес и копыт мгновенно вытаптывали траву, — над возами уже поднималась серая туча пыли и расползалась, заступая ясный горизонт, а чистое небо с веселым майским солнцем стало понемногу желтеть и как будто затягиваться сухою желтоватой пленкой.
Колонны то исчезают тремя полосами, то снова появляются, повторяя неровности степи…
Шевченко шел пешком. Он был в парусиновом костюме и в своем стареньком летнем пальто. Настроение у него было чудесное…
Айбупеш встретилась после нескольких верст от крепости. Вышла из-за бугра и пошла за Тарасом. Сначала он даже не поверил, а когда подошла ближе, заплакал. Так они и шли степью, отстав от каравана, держась за руки. Ей было приятно, что сын справедливости рядом с ней и говорит ей нежные слова на непонятном для нее языке. Она хотела попросить, чтобы он ей все это сказал на ее языке, но не решалась. А что, если он скажет ей: «Мен сени суйомин? (Я тебя люблю)». Она уже говорила ему эти слова. Тарас держал ее за руку, что-то рассказывал, говорил нежно-нежно… Он читал ей свои стихи на украинском языке…
Наконец Тарас сказал ей по-казахски:
— Иди назад. Тебя ждет твоя юрта.
Она стояла и смотрела на него. Ее припухлые губы дрожали, она хотела что-то сказать, только так, чтобы Тарас ее понял. Но она не умела говорить по-русски.
— Я тебя поцелую? Можно?
Тарас осторожно притянул ее к себе, она задрожала перепелкой. Он осторожно поцеловал ее в припухлые, еще почти детские губы, вздохнул и сказал:
— До свидания, Айбупеш…
Он бросился догонять караван, а она стояла, закрыв лицо руками. И сколько ни оглядывался Тарас, стояла все так же, как статуя скорби…
Уже у него и ноги притомились, уже вокруг стелилась ковыльная серебряная степь, а она все маячила на горизонте, все стояла, и хотя Тарас не видел, где она держала свои руки, он был уверен: она стоит, закрыв лицо, и плачет…
«Малое дитя… — думал Тарас. — Что оно знает? Купил ее Саримбек, заплатил калым по обычаю… Но не лежит ее душа к нему… Зачем я пришел к ним в юрту и разбудил ее душу? Зачем я говорил так ласково с ней? Разве не мог я наступить сапогом на собственные чувства и сделать все возможное и невозможное, только бы ее душа не тревожилась? Наверное, не мог… Потому что в этом голом поле, где господствуют законы царя и шариата, хочется найти что-то человеческое. Потому что мы — люди. И как я мог не смотреть на нее, как я мог не говорить ей слов, которые рвались из сердца? Не мог… Но я говорил ей эти слова на языке моей Украины… Айбупеш… Айбупеш… Бросить бы эту солдатчину, сбежать с армии. Забрать Айбупеш с юрты — и бежать свет за очи!.. Ребенок ты Тарас! Ты ведь не имеешь на это права! Ты должен выжить и приехать на Украину, привезти туда свои стихи и рисунки — назло царю и жандармам…»
И все же Айбупеш стояла перед глазами — и ее заплаканное лицо, трепет ее ресниц и губ, грусть ее прекрасных заплаканных глаз… Он чувствовал на губах ее прощальный, такой горячий и волнующий поцелуй…
Он шел и думал о том, как когда-то нарисует ее, как передаст красоту лица, гибкость талии, глаза, полные грусти, любви и предчувствия чего-то большого…
Тарас снова оглянулся. Айбупеш уже не было. Она исчезла, растаяла на горизонте, и только шпили Орской крепости еще виднелись — и эта крепость как бы напоминала Тарасу: «Берегись! Я всегда буду следить за тобой!»
«Следи, следи, чтоб ты навеки канула вместе с тем, по чьей воле здесь стоишь. А я вот уже иду и пишу. Пусть не на бумаге, а в памяти, пусть не сейчас, а потом… Все, что я здесь увидел, передумал, почувствовал, — все это будет на бумаге. А бумага долговечнее любого бастиона…»
Так думал Тарас, шагая в последних рядах бутаковской армады.
Солнце стоит над самой головой, припекает, от земли идет такой аромат, что Тарасу, полузадушенному в казармах, становится дурно. Он чувствует неожиданную слабость в ногах, их начинает сводить судорога…
Что-то проваливается у него под ногами — и Тарас летит куда-то, летит, как птица… Вот он уже кружит над степью. Ему жарко. Он летит ближе к солнцу, крылья, что скрепленные воском, рассыпаются, горячий воск капает ему на руки, на лицо — и вдруг воск становится холодным, как вода… Икар падает в море…
Тарас раскрыл глаза. Что случилось? В лицо светит солнце на голубом небе, а над ним стоят казаки и льют воду ему на голову. Как будто сквозь сон долетает:
— Живой! Раскрыл глаза!
О ком это? О нем? А что такое? Почему он лежит, а не стоит? Надо встать, обязательно встать. Иначе будет бить унтер…
— Лежи. Лежи! — ласково говорит бородатый яицкий казак. Мы тебя сейчас на воз уложим. Там и отойдешь.
Тарас все равно пытается подняться, чувствует слабость, как будто на него положили два мешка с зерном… Но теперь он уже понял. Потерял сознание. Потерял сознание, как девушка…
— Поднимите меня, — просит он. Ему стыдно лежать перед десятками глаз. Он должен стоять.
Но его не поднимают. Сквозь толпу казаков протискивается врач. Берет Тараса за руку и щупает пульс…
— Все будет хорошо, — говорит он, немного подумав. — Просто человек ослаб. Наверное, ночь не спал, да и переболел… Болел? — спросил Тараса. — Чем?
— Цинга была зимой… Ревматизм…
— Вам не следовало отправляться в поход… Вам надо лежать в госпитале.
Тарас молчал.
— Ничего, может, как-то и обойдется. Только вам не следует много ходить. Мы сейчас положим вас на телегу — вы отдохнете, а там что-то придумаем…
Тарасу помогли подняться, положили на телегу…
Его подбрасывало на кочках, но ехать было лучше, чем идти. Он даже начал сочинять стихи. Они приходили один за другим, они просились на бумагу, которой не было под рукой, и он их запоминал:
А нумо знову віршувать. Звичайне, нишком. Нумо знову, Поки новинка на основі, Старинку Божу лицювать. А сиріч… як би вам сказать, Щоб не збрехавши. Нумо знову Людей і долю проклинать. Людей за те, щоб нас знали Та нас шанували. Долю за те, щоб не спала Та нас доглядала. А то бач, що наробила: Кинула малого На розпутті, та й байдуже, А воно, убоге, Молодеє, сивоусе, – Звичайне, дитина, – І подибало тихенько Попід чужим тином Аж за Урал…Тарас задумался о своей судьбе, об Украине… Подумал и о том, как он нарисовал себя молодого в юрте и как Масати и Айбупеш удивились, каким он был и каким стал. Как Масати просила дорисовать усы и бескозырку… А те усы уже седые, хотя ему всего-то тридцать четыре…
Надо думать о стихе. Надо его повторить, чтобы не забыть. А потом записать в захалявную книжечку…
Телега остановилась. Тарас попробовал подняться. Встал легко. Слабость прошла.
— Ого, ребята, да мне уже совсем хорошо! — сказал Шевченко, слезая с телеги. — Почему стоим?
— Приказано сделать привал. Час будем отдыхать. — ответил казак, чем-то напоминающий Пугачева, портрет которого когда-то Тарас рисовал для «Наших, писанных с натуры русскими…»
После привала тронулись дальше. Тарас шел вместе со всеми. Неожиданно к нему подъехал всадник. Заметив форменные золотые пуговицы на куртке, что выглядывала из-под плаща, привычно вытянулся.
Всадник соскочил с коня.
— Познакомимся: штабс-капитан Макшеев, Алексей Иванович. А вы, наверное, художник Шевченко? Значит, будем вместе с вами плавать Аральским морем.
— Так точно, — ответил Шевченко, еще не зная, как держаться с этим элегантным офицером.
— Да бросьте, пожалуйста, эти официальности, уважаемый Тарас… — запнулся офицер, пожимая поэту руку.
— …Григорьевич, — подсказал Тарас.
— Садитесь со мной на коня, иначе не догоним наших.
Но Шевченко покачал головой.
— Нет, сердечно благодарю. Я пешком.
— Тогда и я с вами… У нас с вами много общих знакомых, — сказал Макшеев. — Я дружу с Момбелли. Он не раз рассказывал про вас, даже показывал вашу книжку. К сожалению, я не понимаю по-малороссийски и поэтому не мог ее прочитать. В Оренбурге я узнал о вашей судьбе и решил обязательно с вами познакомиться. Как здорово, что Бутакову посчастливилось вырвать вас из Орска. Мерзкое место! Даже киргизы зовут его Жаман-Кала, то есть плохое место.
— А вы знаете их язык?
— Только отдельные слова. Но очень интересуюсь ими.
Разговор снова коснулся петербургских знакомых. Потом Макшеев начал рассказывать о литературных новостях прошедшей зимы, о том, как он познакомился у Петрашевского с талантливым писателем Достоевским и поэтом Плещеевым, рассказал о новостях театрального сезона. Шевченко слушал с напряженным вниманием. Душа его оголодала без умственного питания и жадно глотала эти скупые новости. И оба в разговорах не заметили, что уже прошло более двух часов. Стало жарко. Тучи пыли, поднятые транспортом, расплывались над степью все шире и шире. Начала мучить жажда…
На ночь остановились рано, когда солнце еще висело над горизонтом. Остановились около полузаваленных степных колодцев, на дне которых тускло поблескивала темная вода.
Для офицеров сразу сняли с верблюдов и поставили легкие палатки. Макшеев пригласил Шевченко к себе ночевать…
Отправились в путь на рассвете, вся степь блестела от буйной росы, как будто усыпана бриллиантами. Чтобы спастись от пыли, Шевченко вышел на полчаса раньше, сразу следом за проводниками и разведчиками, и все утро дышал свежим, чистым воздухом, наслаждаясь тишиной бескрайней степи. День был ясный, но в полдень Тарас заметил впереди, на самому горизонте, маленькие белые тучки, которые то появлялись, то как будто тонули, не поднимаясь выше.
— Что это такое? — спросил один молодой казак, впервые попавший в степь, у другого, постарше.
— Да разве ослеп, не видишь? — отвечал старый казак. — Степь горит!
— И в самом деле горит…
К полудню навстречу транспорту ветерок принес уже и запах дыма. Сначала отдельные, мелькающие среди дыма огоньки сливались в непрерывные нити; затем, после захода солнца, в дыму образовалось мощное, очень красивое зарево.
С приближением ночи зарево краснело и близилось к транспорту. Из-за темной горизонтальной, чуть-чуть кое-где изогнутой линии начали показываться красные струи и язычки. В транспорте все затихло, как бы ожидая чего-то необыкновенного. И действительно, невиданная картина представилась изумленным глазам участников экспедиции. Все пространство, виденное днем, как бы расширилось и облилось огненными струями, почти в параллельных направлениях. Чудная, неописуемая картина! Тарас всю ночь просидел возле палатки, любуясь огненной картиной…
Шевченко по просьбе спутников зарисовал эту почти фантастическую иллюминацию. Рисунок был им выполнен акварелью — тонко и с большим мастерством, — и все вдруг почувствовали по-настоящему, какого замечательного художника забросила судьба в эти края…
Обходя утром свой табор, генерал Шрейбер, командующий всего транспорта, наткнулся на Шевченко. Остановившись возле художника, он долго смотрел на его работу, похвалил ее:
— Ну, если вы сделаете такие рисунки и на Арале, то я, на месте государя, простил бы вам все ваши грехи!
— Нет у меня грехов, ваше превосходительство, — ответил Тарас, опустив голову, — кроме одного — любви к человеку…
— Так… так… — проговорил генерал, возвращая Тарасу его рисунок с откровенной жалостью. Шевченко понял намек. Что было делать?
— Ваше превосходительство, — смущаясь, сказал Шевченко. — Я вижу, что моя работа вам понравилась. Разрешите подарить ее вам на память об этом пожаре…
На следующем переходе Тараса догнал Макшеев с еще одним всадником. С ними была третья лошадь.
— Познакомьтесь, Тарас Григорьевич, это Агау — проводник нашей экспедиции.
Тарас протянул руку проводнику.
— Мы вам привели коня, — продолжал Макшеев. — На коне все же лучше, чем пешком идти.
— Нет, — ответил Шевченко, — я на коне ездить не умею. С опыта детства знаю, что на нем трясет.
— Ничего, научитесь… Галопом значительно лучше, — сказал проводник.
С помощью проводника Тараса усадили в седло, и он попробовал погнать коня галопом.
Конь перешел на быструю рысь, Шевченко сильно затрясло, но вдруг стало прекрасно — как будто его качали на качелях. Конь скакал степью, Тараса то поднимало, то опускало, но в целом все было гармонично. Тело почти сразу привыкло к галопу, и теперь они все трое мчались вдоль каравана, поднимая пыль за собой.
Проскакав весь день, к вечеру Тарас сказал:
— Надо искать место для ночлега.
— Едем к Бутакову, — отозвался Макшеев. — Он и накормит, и спать уложит…
— Где же его теперь найти?
— Найдем, — уверенно сказал Макшеев. — Его палатка приметна…
Ночью Тарас вспомнил Айбупеш, ее нежные темно-каштановые глаза, полные слез и невысказанной печали, ее припухлые губы и дрожащие руки во время прощания. Ему почему-то подумалось, что она сейчас тоже думает о нем и, наверное, плачет… Айбупеш… Милая, ласковая казахская женщина, которую он в мыслях всегда называл девочкой… Вот она наклонилась над водой и черпает воду пиалой. Вот она наклонилась над ступкой, устала, мелкий пот выступил на смуглом лице, стоит, опираясь на большой деревянный толкач, отдыхает… А вот собирает хворост и кизяки для костра, тоже наклонившись… И только один раз он увидел ее, когда она стояла выпрямившись, — тогда, когда прощалась с ним.
Она поднялась на цыпочки, чтобы видеть его глаза и смотрела, заплаканная, но прямая, чистая, гордая в своей невысказанной любви-печали.
И вдруг вспомнились другие заплаканные глаза. Глаза княжны Репниной. Почему он сейчас вспомнил и ее? Не знает Тарас… Где-то на Украине плачет за ним еще одна женская душа — совсем другая, но такая же наивная, как и эта казахская душа… «Одна слеза с очей карих — и я пан над панами».
Нет, сейчас, вспоминая их слезы, Тарас об этом не думает. Ему как-то не по себе, ему тяжело осознавать, что он, Тарас, принес печаль и слезы двум женщинам… Но нет, он принес им не только печаль. Он знает, что есть в той печали и своя радость… Ему кажется, что Айбупеш через всю свою жизнь пронесет в своем сердце пламя любви к нему, Тарасу, что оно будет согревать ее даже в самые трудные минуты. Он помог Айбупеш понять, что она не бессловесная вещь, а — человек, женщина, способная любить… А он, Тарас, никогда не забудет Айбупеш, и тот вечер на берегу Ори, ее неосознанный порыв, подобный пробуждению после тяжелого сна… Она проснулась и его разбудила… Когда ему было особенно тяжело, он всегда приходил в юрту Саримбека, часами сидел там, смотрел на Айбупеш и Масати. А они делали свое дело, изредка перебрасываясь с ним словами… И только… Но после этого почему-то хотелось жить, бороться, писать, несмотря на все запреты…
А утром он снова был на коне и снова думал об Айбупеш: «Спасибо тебе, милая Айбупеш, что ты есть на свете…»
Конь шел спокойно. Утро было чудесное — тихое, ласковое, прозрачное, как улыбка Айбупеш…
Но вот караван зашел на выжженную огнем степь. В воздух сразу поднялась гарь, стало трудно дышать… Тарас ехал… Пекло солнце, в рот и нос лезла черная пыль, застревала между зубами, от чада кружилась голова…
Теперь караван казался белой полосой в черной степи… Только через несколько часов, когда солнце давно уже перевалило за полдень, дошли они до бело-зеленой степи, до берега реки. Бутаков еще не успел отдать команду разбить привал, как все бросились к воде, а потом попадали на землю. С полчаса все лежали как убитые, и только потом принялись за свои обычные дела — начали разгружать верблюдов, распрягать лошадей, ставить палатки.
Макшеев пригласил Шевченко снова в свою палатку.
— Сегодня уже никуда не поедем, — сказал он. Надо хорошо отдохнуть и выспаться.
Тарас прилег на траву и жадно хватал легкими чистый воздух. Он слышал, как Бутаков приказывал солдатам разбить его палатку.
— А также, — дополнил он, — приготовьте все необходимое для приема гостей. Хочется выпить, хорошо поесть и поговорить.
Стало веселее на душе. Хотя ни пить, ни есть не хотелось. Но выпить надо — это поддержало бы, поскольку все очень устали.
— Эй, господин художник, — крикнул Бутаков Тарасу. — Лежите, лежите!.. Устали? Наверное, не только фрейлины бывают нежными, но и мы, слуги Марса…
— Вы слуги Нептуна, а я Аполлона, — отозвался Тарас.
Бутаков подошел ближе, сел на траву и засмеялся от удовольствия:
— Прекрасно, черти бы его взяли… Прекрасно — вот так себе сесть или лечь. И ни о чем не думать, и ничего плохого не вспоминать. Правда?
— Конечно, — ответил Тарас. — А еще лучше, если бы плохого вообще не было.
— Да вы, дорогой, и в самом деле переутомились. Как ни прячете усталость, а я ее вижу и без подзорной трубы…
— Конечно, ведь сколько прошли, да еще в таких ужасных условиях. Стоит и отдохнуть, — ответил Тарас, уставив свой взгляд в небо.
— Сейчас немного отдохнем. А потом сядем возле чарки. Увидим, как и к вам силы вернутся. Вы же молодой человек, а к таким силы возвращаются быстро…Ну что, ребята, все готово?
Тарас краем глаза увидел подошедших солдат.
— Так точно, — ответили они.
— Поднимайтесь, Тарас Григорьевич, пойдем к нашему скромному столу…
Сели вокруг расстеленного рядна, на котором лежали мясо, хлеб, сухари, стояло несколько бутылок. Бутылки открыли.
— Как говорится в пословице: «Если захочешь, то и снег подожжешь», — промолвил Бутаков, бросив взгляд на присутствовавших. — Будет сейчас у нас вечеринка не хуже, чем в Петербурге. Жаль только, что нет дам.
— А они будут в наших воспоминаниях — и это еще лучше, — улыбаясь, сказал Макшеев.
— Это тоже идея, господа! Всем налито? Ну, тогда мой тост. Мы прошли горелой степью, спалив своих кораблей. Честь нам и слава! А еще большая слава нашим ребятам, которые все на свете выдержат ради науки. За наших ребят! — провозгласил он, подморгнув Тарасу.
Выпили, а Тарас, поднеся стакан ко рту, сказал:
— И вот это надо пить? Я привык к холодному квасу со льдом, а как же мне пить эту теплую водку. Горькая же, и как ее пьют капитаны?..
Все засмеялись.
— Но люди обидятся, если не выпью, — продолжил Тарас. — Так пусть оно, это бесовское зелье, горит у меня в горле! — и одним духом опрокинул чарку водки и, вместо закуски, понюхал кулак.
— Ого! Это петербургская школа Дениса Давыдова! — одобрительно отозвался Бутаков.
— Это запорожская школа… Когда не было чем казакам закусывать, то нюхали кулак, а когда пили в море и не было тарани, то соленый от морской воды ус сосали — очень вкусно, — ответил Тарас.
— О! — поднял палец Бутаков. — А вы говорите — художник! Моряк! — и сразу, перейдя на серьезный тон, добавил: — Еще адмирал Ушаков оставил о подвигах запорожских казаков слова, полные уважения и любви…
И действительно, после чарки стало как-то веселее, где и сила взялась и настроение восстановилось, — и уже захотелось петь, танцевать, рассказывать что-нибудь веселое.
— Ну, что, господа, — промолвил немного погодя Бутаков. — Пока на море нет шторма, надо успеть выпить и по второй. Так за что поднимете вы эту чарку, Тарас Григорьевич?
— Я?
— Вы!
Тарас поднялся, глянул в железную кружку, наполненной водкой:
— Господа, мы были бы не людьми, а чем-то удивительно ненужным миру и богу, если бы знали только артикулы и законы, если бы в наших сердцах не было того великого, что вдохновляло на творческие подвиги Рафаэля и Леонардо, Петрарку и Шекспира… Если бы не было в наших сердцах того, что мы зовем любовью к женщине. Среди нас нет сейчас наших дам. Но все они в наших сердцах. Выпьем за них, за их трудное счастье. Выпьем за наших любимых и наших матерей, которые чувствуют своим сердцем, где мы сейчас и что с нами. Выпьем за наших сестер и за наших дочерей. Мы их любим, и эта любовь делает благородными и чистыми наши сердца. За них, святых, выпьем!
Все встали. Каждый видел свою жену, свою любимую, свою мать или сестру… Перед глазами Тараса стояла Айбупеш, ее полные слез глаза, ее нежные губы…
Уже давно и звезды высыпали на небе, а возле палатки Бутакова горел костер, смеялись офицеры. Смеялся и Тарас, потому что чувствовал сегодня, что это первый вечер, когда он свободно, как равный с равными, сидит за столом, пьет чарку. Провозглашает тосты и поет песни…
И снова дорога, и снова колонна экспедиции Бутакова, как огромная змея, ползет, извиваясь, по раскаленной степи…
Не доходя нескольких верст до реки Карабутак, заметили, как впереди замаячила черная точка. Левая колонна отделилась от общего потока и повернула к той точке. Через какое-то время повернули и другие колонны.
Шевченко спросил у одного башкира, что это такое.
— Мана аулья агач, — ответил тот, что означало: «Это — святое дерево».
Его называют еще «Джангыс-агач», то есть «Одинокое дерево».
Шевченко не выдержал: пошел за казахами. Пройдя две версты, он увидел ложбину, в которой рос тополь. Это был осокорь, или «черный тополь», саженей пять в высоту и не менее двух саженей в обхвате у корня. На вершине находилось гнездо «тальги» — птицы из породы орлов. Он был уже старый, с дуплом, но, как и в юные годы, его ветки приветливо шелестели густыми свежими листьями, под ним был приятный холодок. Это было единственное дерево, встреченное на протяжении всего пути от Орска до Раима.
Когда Шевченко приблизился к «Джангыс-агачу», вокруг него столпилось уже много народу; люди с благоговением смотрели на дерево, на котором были навешаны кочевниками различные лоскутья, обрывки цветной ткани, пучки крашеного конского волоса и самое богатое — это шкура дикой кошки, крепко привязанная к ветке.
Тарас понял: это были жертвы бедных сынов этой голодной степи. Они молились этому дереву с верой и надеждами, ибо разве не чудо, что растет оно здесь, среди пустыни, разве такое возможно без вмешательства высших сил на этой первозданной земле.
— Расскажи мне легенду об этом дереве, — попросил Тарас Агау, который тоже подъехал к дереву.
— Откуда ты знаешь, что у него есть легенда?
— Должна быть. Если все к нему бросились, значит это не простое дерево и должна быть легенда.
— Ты разумный, гяур. Недаром тебя царь боится…
— Не об этом речь. Так расскажешь?
— Слушай… Когда-то вся кайзахская степь было покрыта лесом. Лес был такой густой, что богатые потеряли весь свое скот — пошел скот в лес и не вернулся. Вот и задумали богачи уничтожить лес. Если запалить, то и скот в лесу погибнет. Надо рубить. Но попробуй вырубить лес! Больше всех хотел вырубить лес один богач, которого звали Худайберген. Сам он был из кайзахов. Скота у него было больше, чем у остальных. Думал он, думал и надумал. Вспомнил, что слышал он от какого-то чародея об удивительном топоре, который рубит сам. Только он на высокой горе и ее охраняет сам бог. Многие хотели украсть этот топор, но бог не позволил. Худайберген тоже хотел украсть, но это ему не удалось. Только он был хитрый кайзах. Он взял весь скот, который остался у него и решил подкупить бога. Принес скот в жертву. Удивился бог такому щедрому подарку и начал подсчитывать свой доход. Пока бог это делал, он забыл про топор. А Худайберген именно этого и ждал. Он влез на гору и украл топор. И пустил его лес рубить. Как начал топор рубить — все под ним легло. Только одно дерево и уцелело: не взял его худайбергеновский топор. Поэтому люди и уважают это дерево, которое выстояло даже перед божьим топором. Поэтому кайзахи, идя степью, обязательно подходят к святому дереву поклониться ему. А тот, кто не поклоняется, — тот грешный перед людьми…
— А мне, гяуру, можно подарить хотя бы что-нибудь этому дереву? — спросил Тарас Агау.
— Можно, — поколебавшись какое-то мгновение, ответил Агау. — Но что ты подаришь?
Тарас вынул альбом, посмотрел на лист, на котором была нарисована Айбупеш, аккуратно вырвал его и слез с коня. Подошел к дереву, наколол листок на ветку дерева. Посмотрел на него в последний раз и сел на коня…
Тарас коня не гнал. Конь просто себе шел, а Шевченко думал о легенде. Потом наклонился, вытащил захалявную книжечку и, остановив коня, записал:
У Бога за дверми лежала сокира. (А Бог тойді з Петром ходив По світу та дива творив.) А кайзак на хирю Та на тяжке лихо Любенько та тихо І вкрав ту сокиру. Та й потяг по дрова В зелену діброву, Древину вибравши та й цюк! Як вирветься сокира з рук – Пішла по лісу косовиця. Аж страх, аж жаль було дивиться… Одним-єдине при долині В степу край дороги Стоїть дерево високе, Покинуте Богом. Покинуте сокирою, Огнем непалиме, Шепочеться з долиною О давній годині. І кайзаки не минають Дерева святого. На долину заїзжають, Дивуються з його І моляться, і жертвами Дерево благають, Щоб парости розпустило У їх біднім краї.Перечитав написанное, Тарас улыбнулся и пустил коня вскачь. Хотелось петь — и он запел…
На берегу небольшой речки Карабутак надо было заложить новый Карабутакский форт. Несколько раньше сюда отправили отряд во главе с Карлом Ивановичем Герном, которому и поручалось заложить этот форт. До прибытия сюда экспедиции Бутакова работы уже были в разгаре на высокой скалистой круче над рекой.
Герн стоял на этой круче и наблюдал, как приближается огромный караван. Он не выдержал, сбежал вниз, сел на оседланную лошадь и вместе с несколькими солдатами помчался навстречу.
Подскочив к Бутакову, Шевченко и Макшееву, Герн слез с коня, улыбаясь, всем троим протянул руку. С какой же радостью встретился с ним снова Шевченко — «с единственным человеком во всем безлюдном Оренбургском крае…», как говорил Тарас.
Герн после приветствий обнял Тараса:
— Вот за кого я рад! — промолвил он. — Молодец Бутаков! Выполнил нашу просьбу.
— Так это вы постарались? — перевел свой взгляд поэт на Бутакова.
— Что — я? Весь Оренбург старался!.. Да что об этом говорить. Давайте поднимемся в форт, засядем возле чарки и поговорим обо всех новостях…
У Герна сели за столы, на которых уже были расставлены бутылки и закуска. Неожиданно Карл Иванович обратился к Тарасу:
— Просим нашего поэта прочитать что-нибудь из своих стихов!
Тарас вопросительно посмотрел на Герна, но тот махнул рукой — не бойся, здесь все свои.
Тарас взял чарку.
— Несколько вступительных слов… Когда-то французы посадили дерево свободы… Я не знаю, растет ли оно сейчас, но расти оно должно. Сегодня я тоже видел дерево и тоже воспринял его, как символ непокорности даже самому всевышнему. Кайзахи его называют «джангиз-агач», растет оно под палящим солнцем и постоянным ветром, и ему поклоняются несчастные кайзахи, которые мечтают, что это непокоренное дерево пустит ростки в их крае… Как то дерево во Франции. Здесь оно растет, и там оно растет. И даст плоды свободы — чует мое сердце. Так вот стих об этом дереве. Мне стихи писать запрещено, но слагать их в голове никто не запретил. Итак, слушайте…
І моляться, і жертвами Дерево благають, Щоб парости розпустило У їх біднім краї.— Я предлагаю поднять чарки за деревья свободы по всей земле! — сказал Тарас и выпил чарку.
— Величественный тост! — коротко сказал Бутаков. — За это стоит выпить. Я пью!..
Пообедав. Все начали собираться в дорогу. Карл Иванович подошел к Тарасу, обнял его и похлопал по плечу: «А ты такой же крамольник, как и раньше! Это самое главное», — говорил его восхищенный взгляд. Но в голос Герн сказал совсем другое:
— Прими от меня, Тарас, небольшой подарок — бутылку эстрагона и лимоны. В дороге вспомните… Ну, счастливо, дорогой!
Они снова обнялись…
Недалеко от могилы Достан-батыра к Бутакова примчался всадник — из тех, кто ехал впереди.
— Капитан, там… там… — взволнованно пытался он что-то вымолвить.
— Что там?
— Там… там… наши! Только без голов!
Как будто небо упало на Тараса. Ему показалось, что конь под ним задрожал и побежал боком.
— Где это? — внешне спокойно спросил Бутаков. — Веди меня! — приказал. — А вы подождите, — обернувшись, сказал он Макшееву и Шевченко.
Шевченко наблюдал за Бутаковым взглядом. Метров за триста от них Бутаков остановился. Соскочил с коня. Подошел ближе к чему-то, что лежало там. Туда подъехали солдаты и казаки, окружили то место…
Тарас дернул уздечку коня, но Макшеев мягко попросил его:
— Не надо туда, Тарас Григорьевич! Там ничего интересного для художника нет… Будет сниться… Не надо.
Из толпы вышел Бутаков, ведя коня в поводу.
— Поехали ему навстречу, — сказал Макшеев.
Подъехали к Бутакову.
— Алексей Иванович, что там такое? — тихо спросил Макшеев.
Бутаков молчал. Лицо его было бледным. Наконец он понял, что его спрашивают, поднял голову и сказал:
— Что такое? Ничего чрезвычайного для нашего времени… Помните, Герн говорил, что боится, как бы на отряд топографов не напали хивинцы… Очевидно, напали. Дня три тому назад. Наверное, захватили нескольких в плен, а потом отрезали им головы и понесли в дар хивинскому хану. А тела бросили, чтоб мы увидели и поняли, что и нас это ожидает…
— Дикое зрелище, — после нескольких минут молчания продолжил он. — Три дня тела лежали на жаре… Подъехать страшно… Дышать нечем… Я приказал похоронить их здесь…. — А вас, Тарас Григорьевич, — обратился он к Шевченко, — попрошу нарисовать могилу Достан-батыра. Это понадобится для отчетов экспедиции…
Так проходили в дороге день за днем.
После могилы Достан-батыра потянулись совсем сухие места. Начались Каракумы… Мучительное передвижение через пустыню продолжалось почти две недели. Жара становилась все более и более нестерпимой, и транспорт снимался с ночлега часа за два до рассвета.
Стало хуже с водой. На пути встречались засыпанные колодцы, а те, что уцелели, не могли обеспечить водой лошадей, верблюдов и такого количества людей. Воду из замутненных людьми и животными колодцев нельзя было пить, не процедив через густую марлю и не вскипятив на огне.
Вот когда Тарасу пригодился скромный подарок Герна. Однажды, сидя на привале, едва шевеля пересохшими губами, Шевченко вынул ту самую бутылку эстрагона и лимоны и, через силу улыбаясь, предложил их Бутакову:
— А у меня есть выпивка! Предлагаю поднять чарки.
Бутаков утомленно посмотрел на бутылку, его глаза вспыхнули, но он только махнул рукой:
— Не надо, Тарас! Это еще вам пригодится.
— Я сам не напьюсь, а вместе — как раз.
Бутаков, посмотрев на Тараса, улыбнулся и приказал солдатам приготовить все к банкету.
Солдаты расстелили рядно, на нее поставили металлические кружки и кусок солонины. Солонина была червивой. Тарас даже не хотел на нее смотреть, а чтобы взять эту гадость в рот — боже сохрани. Однако есть хотелось. Он взял пересушенный сухарь — давно заплесневелый, аж зеленый — и начал постепенно его грызть.
Бутаков разлил прозрачную воду в кружки, взял одну из них и провозгласил тост:
— За то, чтобы мы быстрее доехали до Арала! Будем!
И стал медленно пить воду…
Не допив, поставил кружку, взял нож и начал счищать с солонины червей. Счистил, сколько смог, отрезал кусок, посмотрел, понюхал, достал красный перец, густо посыпал — и все это отправил в рот.
Тарас молча смотрел, но следовать примеру Бутакова не отважился…
Бутаков отпил из кружки глоток воды, поставил ее и снова начал резать мясо.
Потом посмотрел на Тараса и проговорил, иронично улыбаясь:
— Кстати, те матросы, что плавали с Магелланом, ели и не такое еще мясо. И как-то дожили до той пятницы, когда ступили на испанскую землю… А те, что боялись есть такой деликатес, а только грызли заплесневелые сухари, благополучно отдали душу господу богу!.. Ну, так как, Тарас Григорьевич?
— Нет, я немного подожду, перетерплю… Все-таки наше путешествие будет не таким уж и долгим…
— Как хотите, ваше благородие…
Тарас засмеялся. После глотка воды стало легче, и теперь он мог принимать шутки.
Выпили воду, съели лимон — и снова двинулись в дорогу…
Тарас шел пешком: не хотел мучить коня…
Снова стало жарко.
Кто-то ехал навстречу. Шевченко присмотрелся и узнал во всаднике фельдшера Истомина. Что ему надо?
Истомин подъехал и, не слезая с коня, подал Тарасу какую-то сетку.
— Что это? — удивился Шевченко.
— Сетка из конского волоса. Наденьте.
— Зачем?
— Агау сказал, что скоро будем проезжать такыр — высохшее соленое озеро. Оно слепит, как снег на севере. Ослепнете от блеска. Надевайте быстрее и садитесь на коня.
Он и лошади одел сетку, махнул рукой и поскакал между рядами солдат, казахов и башкир…
Сперва Тарасу было темно, но вскоре глаза привыкли. Но даже через такую сетку блеск от соли, что застыла белыми шарами, резал глаза… Тарасу казалось, что он едет сквозь белый ослепляющий ад, от которого некуда спрятаться. Он чувствовал, как пылает лицо, как перегреваются руки, как храпит конь, пытаясь вырваться в степь…
Наконец белая равнина осталась позади, и транспорт снова пошел серо-желтыми барханами, которые становилась все ниже и ниже. Изредка появлялись даже кустики саксаула.
А еще через день далеко-далеко на юге стало видно узенькую синюю полоску.
— Здравствуй, долгожданное Синее море! — с глубоким волнением вымолвил Бутаков. — Таки добрались до тебя!
И, сбросив фуражку, перекрестился.
Люди мгновенно оживились. Даже лошади ускорили шаг. Их ноздри уже ловили свежесть морских просторов. На второй день, в полдень, транспорт подошел к одной из северных заток Аральского моря. Солдаты, ездовые, казаки — все вместе кинулись в теплые волны, что с шелестом набегали прозрачными струями на песчаный пляж. Солдаты на бегу сдирали с себя мундиры и рубашки, по-ребячьи смеялись и бросались в теплую морскую воду.
Но это была всего лишь небольшая передышка. Транспорт должен был идти к укреплению Раим, расположенному в устье реки Сыр-Дарьи, рядом с могилой батыра Раима, и отстоящему от Аральского моря в шестидесяти километрах, то есть в двух дневных переходах.
Вечером 18 июня 1848 года транспорт начал свои последние переходы. Теперь приходилось идти по ночам, потому что июньская жара достигала сорока градусов в тени; в раскаленном песке яйцо пеклось всмятку за пять минут.
Когда на второй день взошло солнце, вдали показались валы и камышовые кровли Раимского укрепления. Пятидесятидневный переход был завершен.
Шевченко за это время похудел и загорел, физически устал, но был бодр и весел, нервы успокоились и укрепились.
Тарас поселился, по приглашению Макшеева, в его войлочной походной кибитке, помещенной посреди площади в центре Раимского укрепления.
Первые три дня он, как и все, только спал или лежал на мягком песчаном берегу Сыр-Дарьи.
Солдаты на берегу реки построили верфь и начали складывать из готовых частей, привезенных транспортом из Оренбурга, шхуны «Константин» и «Николай».
Через две недели «Константин» был готов к спуску на воду. Дощатый помост под его днищем продлили до самой реки и в реке до глубины человеческого роста. Из-под «Константина» выбили клинцы, которые подпирали его на помосте, десяток солдат уперлись в его корму — и шхуна медленно начала сползать по скользкому от масла настилу к реке и через несколько минут закачалась на ее волнах.
Еще неделю достраивали и оборудовали «Константина». И когда, наконец, в кают-компании установили стол и диван, а в камбузе будущий кок разместил на крючках и полках свои сковородки и кастрюли, Бутаков вместе со штурманом Поспеловым начал устанавливать в штурманской рубке компасы, барометры, октанты, барографы и разные другие приборы, а на штурманском столе разложили вместо мореходных карт чертежные доски с натянутыми на них чистыми ватманами.
Тарас в это время тоже работал. Он много рисовал и писал стихи. В альбоме Шевченко играли свежими красками пять пейзажей Раимского форта, пейзаж импровизированной верфи на Сыр-Дарье и «сборки шхуны», появилась поэма «Варнак»…
За работой забывалось все… И даже образ Айбупеш медленно начал стираться из памяти. Тарас пытался как-то восстановить его, попробовал нарисовать ее. Вышло похоже, но это была уже не она, не такая, как на рисунке, который он подарил святому дереву…
«Как ты сейчас там, маленькая, — думал он. — Неужели я тебя больше не увижу и не нарисую? То, что я нарисовал в юрте, долго не удержится. Оно скоро сотрется, как стерлись твои черты в моей убогой памяти… И только тепло твоего сердца останется со мной навсегда… И каждое кайзахское лицо разбудит в моей душе что-то доброе…»
Айбупеш являлась ему все чаще. Вот только никак не мог нарисовать ее снова. Как будто все получалось, однако не было той Айбупеш, которая позировала ему в юрте, обнимала на берегу Ори, а потом провожала в степи…
Накануне отплытия Бутаков, весь в делах, растрепанный, загорелый, как казах, подошел к Шевченко, который сидел на берегу и рисовал.
— Как наши дела? — спросил капитан-лейтенант.
Тарас кивнул на блокнот с зарисовками и на несколько начерно законченных картин, что были при нем.
— Можно посмотреть?
— Пожалуйста! Еще до конца не доведено.
Бутаков полистал блокнот. А потом посмотрел картины.
— Хорошее, очень хорошее у вас начало… Если бы так же хорошо закончить и наше дело… А вот эти две картины — это уже первое достижение экспедиции, — он показал на «Укрепление Раим», «Вид с верфи на Сыр — Дарью и на шхуны „Константин“ и „Николай“»…
— А что? — ответил Шевченко весело. — Думаю, у экспедиции будет еще не одно достижение.
25 июля оба судна снялись с якоря в Раиме и начали продвигаться к устью Сыр-Дарьи. Пушки на «Константине» салютовали семью выстрелами, столькими же выстрелами ответили и пушки Раима.
В крохотной офицерской каюте шхуны «Константин» помещались семь человек: Бутаков, Макшеев, Поспелов, Акишев, Истомин, Шевченко и Вернер. В офицерской каютке было так тесно, что впоследствии не только днем, но и ночью некоторые из ее обитателей предпочитали находиться на палубе.
На переднем судне — на «Константине» — стояли Бутаков, Макшеев, штурман Поспелов, топограф Акишев. Вместе с ними стояли геолог Томаш Вернер и художник Тарас Шевченко. Экспедиция пошла на Арал…
А море встретило экспедицию Бутакова приличным ветром и пенными валами волн. Глаза Алексея Ивановича, до этого такие добрые и спокойные и даже как будто немного сонные, загорелись-запылали веселым азартным огнем.
— Что — Атлантика? — кивнув головою в сторону синего простора, крикнул Бутакову Тарас.
— Бискайский залив! — в тон Шевченко ответил Алексей Иванович. — Ого! — весело и немного настороженно продолжил капитан-лейтенант. — Как там у вас, Тарас, о Днепре сказано?
— Рэвэ та стогнэ Днипр шырокый, сэрдытый витэр завыва!..
— Ревет Арал, ревет широкий, сердитый ветер воет! Звучит?
— Думаю, что вы правы!
— Ну, так я вас приветствую с выходом на морские просторы!
— И я вас! — ответил Шевченко, держась за поручни. Облыселая за зиму его голова блестела на солнце, мелкие капли соленой морской воды падали на лицо. — Так что — приятно быть первым морским капитаном на Арале?
— Конечно! — ответил Бутаков, и в эту минуту стал смотреть в бинокль. Смотрел, расставив ноги, куда-то на горизонт. — О-ва! Мы тут не первые! Вижу маленькое суденышко. Курс — норд!
То был небольшой баркас, который, маневрируя против ветра, шел навстречу «Константину».
— Смотри какой! — повернулся Бутаков к Тарасу. — Неплохо идет. Кто это может быть?
— Да, наверное, никто другой, кроме Захряпина, — отозвался подошедший Макшеев.
Судна сближались. Макшеев, взяв бинокль у Бутакова, посмотрел на баркас и передал бинокль Тарасу.
Он стал внимательно рассматривать баркас. Впереди стоит здоровенный мужчина с красным обветренным лицом. Очевидно, это и есть Захряпин. Еще несколько лиц. Но вот среди них промелькнуло знакомое… Бородка, казахские глаза…
— Саримбек! — крикнул Шевченко.
Но Саримбек его не услышал.
— Знакомый? — спросил Макшеев, когда Тарас опустил бинокль.
— Да, знакомый из Орска.
Через четверть часа Тарас обнимал Саримбека на палубе «Константина».
— Ох, Тарази, как ты изменился, — обнимая Шевченко, сказал Саримбек. — Ты совсем не такой, каким был недавно.
— Старый стал? Аксакал?
— Бороды нет, а отпустишь — будешь точно аксакалом. Только глаза у тебя молодые, как у джигита. И загорел — стал настоящим кайзахом. Отпусти и ты бороду, — будут говорить, что мы братья и одноверцы!
— Тебе передавали привет Масати и Айбупеш. Передали подарки. Я их вез через степь и горячую пустыню — и они до сих пор еще теплые от их рук…
— Как ты хорошо сказал! — отозвался Саримбек. — Ты так хорошо сказал! Когда ты меня поцеловал, мне показалось, что это Айбупеш поцеловала…
Тарас опустил голову: ему было неудобно перед Саримбеком, но он был уверен, что Саримбек простил бы ему, если бы он узнал о его любви к Айбупеш.
— Очень красивая Айбупеш, Саримбек, — тихо промолвил Тарас. — Я нарисовал ее портрет на сукне юрты углем из твоего костра…
Послышался голос Захряпина:
— Мне очень будет трудно без него. Он же здесь все знает… Нам надо много рыбы наловить… Это и для него важно…
— Рыба рыбою, а экспедиция экспедицией, — ответил Бутаков.
Красное лицо Захряпина покраснело еще больше.
— Если так… Мы еще с ним немного поездим, а потом уже передам вам… Только не сегодня. Хорошо?.. Ну, надо и его спросить…
— Саримбек, — крикнул Бутаков.
Саримбек и Шевченко подошли к капитану.
— Я хочу тебя, как человека, который хорошо знает эти места, взять в свою экспедицию. Что ты на это скажешь?
Саримбек наклонил голову. Потом поднял ее и сказал:
— Буду с Тарази…
— Прекрасно! — обрадовался Бутаков. — Ты еще какое-то время поплавай на баркасе, а потом Захряпин тебя отпустит. Согласен?
— Жаксы!
Пронизывая волны и высоко поднимая киль, «Константин» повернул на юго-запад. Воздух пах медом, море, серо-голубое, завораживало своей глубиной. Тарас любовался проплывающими берегами и молчал. Все было необычным, удивительным, в воздухе разливалась какая-то необычная нежность. Саримбек стоял рядом и тоже молчал.
Подошел Вернер — коротко остриженный, светлые усы. Остановился, немного наклонился, засмотрелся в воду, потом на скалы…
— Богатый край, удивительно богатый край. И для геолога здесь работы и работы…
— Кроме песка и воды, здесь еще есть что-то? — с удивлением спросил Тарас.
— Ого! — покачал головой Вернер. — В пустыне должны быть уголь и нефть. С геологического строения видно.
— Ну, ты, Томаш, специалист… А я только на цвета смотрю да к легендам прислушиваюсь…
— Не говорите… Цвета — это важная вещь. Если вы их точно отразите, рисуя берега, то любой геолог может определить даже в Петербурге, какие там могут быть ископаемые. Даже важен цвет воздуха. Есть ископаемые, которые выделяют те или другие газы, придавая воздуху определенный цвет. Примитивный художник этого не заметит, а настоящий — обязательно.
— С вами даже страшно говорить. А если я не передам?
— Не передадите… Я видел ваш рисунок, на котором вы изобразили могилу Достан-батыра. Там в воздухе есть что-то такое… Мне кажется, что там должны быть элементы, которые сопровождают нефть и медные руды… Я точно сказать не могу, но мне кажется…
— То у меня настроение было плохое — поэтому так и нарисовал, — отмахнулся Тарас.
— Не говорите, это не фантазия… Настроение настроением, но есть что-то и объективное… Вот вы его и изобразили, даже подчеркнули в такой мере, что даже я заметил. А суть в том, чтобы подметить самый тонкий, не заметный для неопытного глаза нюанс и выделить его…
— Вам бы заниматься теорией искусства, — усмехнулся Тарас, непривычно взволновавшись таким поворотом разговора.
— Теория искусства — это не для меня, — скромно ответил Вернер. — Я много говорить не люблю. А вот если вы, Тарас, попробуете обратить внимание на то, что я говорил, — ваши картины будут интересны не только для ценителей искусства, но и для геологов… Посмотрит геолог и скажет: «Ого! Стоит туда поехать. Вот там нефтью пахнет, а здесь должны быть залежи ртути… Все на этой картине!»
— Еще немножко — и я влюблюсь в вашу геологию! А кто же стихи будет писать?
— О, стихи — это исключительное искусство… Если бы вы познакомились с Мицкевичем, он сказал бы, что вы могучий поэт.
— Не имел случая познакомиться… А стихи его люблю. И поэмы. И его переводы… И вообще — гениальный мастер…
На горизонте показался остров. Недалеко от Тараса, Вернера и Саримбека стоял Бутаков и смотрел в подзорную трубу.
Тарас повернулся к Саримбеку:
— Как называется остров?
— Барса-Кельмес…
Тарас засмеялся. Вернер удивленно посмотрел на него:
— Название удивительное и поэтическое. Перевести можно так: «Пойдешь — не вернешься!» Надо Бутакову сказать.
— Как называется и что означает? — крикнул Бутаков, не отрываясь от подзорной трубы. Он, оказывается, кое-что слышал из разговора.
— Барса-Кельмес, — сказал Шевченко и перевел на русский язык это странное название.
— Оказывает впечатление, — сказал Бутаков. — Аж страшно подходить к нему… Но подойти надо, служба такая…
Вернер несколько раз ездил на остров. Вот и сейчас он уехал. Саримбека забрал Захряпин. Шевченко остался один в каюте. Он взял альбом Вернера и вытащил из него свой рисунок удивительного цветка, которого Вернер привез с острова. Он захотел его доделать.
Положил листок на стол, развел краски и вдруг понял, почему его потянуло к этому цветку…
…Это было как будто вчера, а прошло уже пять лет. Тогда Тарас путешествовал по Украине, писал стихи, рисовал. Поездка казалась сплошным сном. Украина, ее люди, ее песни, ее история раскрывались перед Шевченко во всем своем величии и красе.
Евгений Гребенка предложил пойти в село Березовую Рудку на бал княгини Волховской. Тарас согласился. Правда, уже по дороге он сказал Гребенке: «Я не очень люблю ходить без приглашения». Гребенка категорически заявил: «Брось, Тарас, там ждут. Ты должен быть!» — «Кто там может меня ждать?» — удивился Шевченко. «Чудной! — промолвил Гребенка. — Ты же Кобзарь!» И Гребенка, обнимая Тараса, которого не так давно вместе с Брюлловым, Григоровичем, Жуковским и Сошенко освобождали из рабства и выводили в люди, начал весело рассказывать о самой княгине Волховской и ее привычках, а потом о том, сколько времени она готовилась к этому балу, кого пригласила…
Их посадили на самых почетных местах. Вокруг собралось изысканное общество, посыпались вопросы на разных языках, Тарас еле успевал отвечать, а Гребенка сидел и улыбался: ему было радостно за Тараса, как за родного сына.
Потом началось угощение. Шевченко и Гребенка сели за стол, где собралась молодежь. Тарасу было тогда всего двадцать девять. Молодежь пела песни, шутила и пила чарку за чаркой. Несколько чарок пришлось выпить тогда и Тарасу. Он стал чувствовать себя свободнее, веселее и легче. Когда его просили что-нибудь прочитать — читал, рассыпал шутки, смеялся вместе с другими…
Именно тогда и приметил левее от себя молодую женщину в голубом платье. На груди у нее было несколько цветков. Женщина задумчиво смотрела на Тараса. Она была по-настоящему красивая. Кто-кто, а Шевченко, которому на своем веку довелось рисовать не одну красавицу, имел право об этом судить. Нежное, чистое лицо, темные, но голубые глаза — задумчивость и лукавинка в них. Чудесные цветы были у нее на груди, но женщина была еще чудесней… Сейчас Тарас уже не помнит, с чего начался разговор. Женщина в разговоре была удивительно прекрасной. Отвечала вежливо и остроумно — и одновременно в каждом ее слове, в каждом жесте была какая-то неуловимая скромность и чистота. Эта скромность и чистота не давала ему права быть настырным — и все же он не мог сдержаться от просьбы: «Подарите мне цветок с вашей груди, пожалуйста!» — «Зачем?» — растерянно спросила она. «На память!» — ответил Тарас и почувствовал, что покраснел до самых ушей. «Не может быть ничего тяжелее, — ответила она, — чем подарок на память». Тарас ничего не придумал в ответ. Она сидела, полуобернувшись к нему. «Я не могу силой отобрать у вас цветок. Но я его у вас украду», — наконец пообещал он. «Попробуйте. Только я могу рассердиться, — ответила она, улыбнувшись, и добавила: — А пока что я хочу выпить!» Он налил ей вина и себе, чокнулись бокалами. И в этот момент она обернулась к нему. Пила вино медленно, закрыв глаза, а он тем временем впервые в жизни позволил себе, чего раньше не позволял, — незаметно снял с ее платья сразу несколько цветков. Когда она закончила пить, — он уже сидел с цветками и деловито (хотя сердце стучало тревожно) прикалывал их у себя на груди. Женщина перепуганно посмотрела на платье и сказала серьезно: «Тяга к красоте — вещь хорошая, но поступок все-таки слишком смелый!» — «Я не смог удержаться, извините», — весь красный, как рак, ответил он. Она ничего не сказала и отвернулась. Тарас не спускал с нее взгляда. Она сердится — да; может быть, она ждет, что будет дальше? Выпитое вино, в придачу к водке, сделало его смелее и изобретательнее. Он искал момента для наступления, хотя понимал, что не стоит этого делать. Потому что это не какая-то любовная интрижка, а что-то большее. Но в женщине было что-то такое, что он не мог себя сдержать. Потихоньку сбросил на пол салфетку, что лежала у нее на коленях, а сам сделал вид, что это произошло им незамеченным, и продолжал рассказывать ей о каком-то приключении. Но женщина есть женщина. Она очень скоро заметила, что салфетки нет, и хотела ее достать. Тарас решил ей помочь. Они наклонились одновременно, и он под столом успел схватить ее за руку. «О! Так это сама судьба желает, — сказал он, как будто страшно удивленный, — чтобы мы с вами познакомились. Попробуем? Меня зовут Тарас, фамилия — Шевченко». — «О, а я и не знала, — удивленно и серьезно ответила она. — А мои имя и фамилия ничего вам не скажут. Поэтому я не буду отягощать вашу память лишней мелочью». «Сделайте, пожалуйста, такое удовольствие — отяготите!» — не отступал он. «Честное слово, в моей жизни нет ничего такого, что могло бы вас заинтересовать… Я ж…» — «Разве можно такое говорить? — аж вспыхнул Тарас. — Разве только то, что вы существуете на земле — это что-то такое, что не стоит внимания? Вспомните Джоконду. Чем-то она все же заинтересовала Леонардо…» — «Так то же Джоконда…» — «А вы разве не Джоконда на этой земле? — запальчиво спросил Тарас, и в его душе не было и тени сомнения, что она на самом деле, действительно украинская Джоконда. «Нет. У меня нет такой судьбы, такой… красоты, чтоб они были для вас интересны… — и добавила: — Мне сейчас двадцать один год, а моему мужу сорок два…» Тарас посмотрел на нее с удивлением. «Вот видите, удивились! Думали, что перед вами молодая девочка. А у меня, оказывается, есть секреты, которые облегчают горе, а есть и такие, которые разжигают…»
Тарас сидел и молчал. Ее ответ и в самом деле его ошарашил, и он не знал, что и сказать.
«Выпьем? — спросил он, притворяясь веселым. Тарас молча налил ей и себе. Выпили. Прежде чем поднести бокал к губам, она внимательно посмотрела в ту сторону, где сидели старшие мужчины. Там уже было очень весело.
«Извините, — наконец смог переспросить Тарас, — вашему мужу уже сорок два? Как же это?..» — «А что в этом удивительного? — улыбнулась она. — Я живу с ним уже пять лет. Мне было семнадцать, когда за него выдали… Так что ничего интересного вам не расскажу…» «Я знаю вашего мужа?» «Конечно, это Платон Алексеевич Закревский…» «А…» — разочарованно промолвил Тарас. С Закревским он был немного знаком. «Выдали меня замуж молодою, я почти не знала, за кого иду. Как говорят на селе, и не надевувалась… Так что может быть интересного в моем жизнеописании для вас? Ничего». — «Вы счастливы? — спросил Тарас и тут же ответил: — Вы несчастливы, я это знаю…» — «А кто счастливый? Вы?» — «Я счастливый, потому что вижу вас!» Она рассмеялась от этого банального комплимента, однако через минуту снова стала серьезной. «Я хотел бы вас сделать счастливой», — промолвил он, не спуская с нее глаз. «Интересно — как?» — «Не знаю…» — «А вы уже сделали меня сегодня счастливой — удостоили меня своим разговором и вниманием…» Тарас хотел ответить. Но в это время зазвучала музыка — началась мазурка.
«Не могли бы вы меня удостоить мазуркой? — спросил Тарас и поднялся в полупоклоне. Она поднялась тоже, быстрым взглядом осмотрела зал. Закревский и его друзья по чарке вели за столом какие-то пьяные разговоры, как будто в кабаке.
Они кружили в танце — и все расступались перед ними. Любовались старые, любовались молодые — красавица Анна Закревская танцует с Тарасом Шевченко — самым почетным гостем княгини Волховской. Только Тарас еще не знал, как зовут его даму. Он снова спросил ее имя — и она, кружась, выдохнула: «Анна Ивановна». Им было весело и хорошо, и они даже не почувствовали, когда кончился танец.
Тарас отвел Анну на ее место, а к нему подошел Гребенка. «Что, Евгений Петрович?» — взволнованно, но все еще со счастливой улыбкой на губах спросил Тарас. «Тарас, будь осторожным, зачем тебе эти цветы?» — серьезно сказал Гребенка, кусая губы. — «А что?» Гребенка показал глазами в сторону стола, за которым сидел Закревский. Но в ту же минуту снова загремела музыка. Тарас умчался к своей даме. Уже ни он, ни Анна не обращали внимания на то, что происходит за столом, где сидел Платон Закревский. Тарас смотрел на нее, а она не спускала очарованных глаз с него. Она улыбается, как ребенок, как будто не было у нее никакого замужества, ни семейных дел, — и казалось им обоим, что все вокруг куда-то исчезло, есть только он и она. Прядь волос выбилась на ее ровное белое лицо, она этого не замечала, а Тарас любовался, какая она красивая и молодая, и думал: «Почему так? Почему это чудо природы должно быть несчастливым?» Она как будто отгадала его мысли и, поведя бровью, тихо промолвила: «А я счастливая! Ага!» И он, забыв обо всем, ответил: «И я!»
И именно в этот момент между танцующими парами появился Платон Александрович. Тяжело шатаясь, он водил по сторонам мутными глазами, разыскивая Анну. Вот наконец он все-таки увидел Тараса, а с ним и свою жену. Расталкивая пары, направился к ним. Подойдя, поймал Анну за руку и потянул ее танцевать с собой. Тарас остался один — растерянный, встревоженный. Анна несколько раз посмотрела на него через плечо мужа, посмотрела тоже печально и растерянно. «Боже мой, — почему-то подумал Тарас, — так этот пьяный медведь ей ноги отдавит…»
Он пришел на свое место и устало сел. Безразлично посмотрел на Гребенку, который присел возле него. «Так что?» — спросил его Евгений Петрович. «Ничего. Сижу», — отмахнулся Тарас. «То ваше счастье, что Платон Закревский не увидел у вас на груди ее цветы». — «А что бы он мне сделал?» — спокойно ответил Тарас. «Тебе ничего, ей…» — «Да он такой пьяный, что не только цветка не увидит, а вообще… — ответил Тарас. — Я удивляюсь, как это он ее отыскал в танце».
Анна Закревская запала в сердце Тараса — да так крепко, что он несколько лет хранил у себя цветок с ее платья…
Тарас тут же, в каюте, под впечатлением от воспоминаний о пережитом, на попавшемся под руку клочке бумаги начал писать:
Немає гірше, як в неволі Про волю згадувать. А я Про тебе, воленько моя, Оце нагадую. Ніколи Ти не здавалася мені Такою гарно-молодою І прехорошою такою Так, як тепер на чужині, Та ще й в неволі. Доле! Доле! Моя ти співаная воле! Хоч глянь на мене з-за Дніпра, Хоч усміхнися з-за….Тарас перечитал написанное, горько улыбнулся, и крупная слеза скатилась по щеке на усы…
Тарас нормально себя чувствовал на шхуне. Он был окружен в Аральской экспедиции людьми симпатичными и передовыми, относившимися к нему не как к «опасному» политическому ссыльному или бесправному «рядовому» николаевской армии, а как к человеку, заслуживающему и уважения, и сочувствия, и самого искреннего расположения. Никто за ним не следил, не было никаких запретов, он мог писать и рисовать, правда, в основном пейзажи и представителей местной флоры и фауны. А главное, не было муштры, бездушной шагистики, не было унижений и оскорблений. И все же — эта свобода была относительной, хоть не совсем тюрьма, но… тюрьма, из которой никуда не деться. Постоянная тоска одолевала его душу. Тоска по друзьям, по общению, по возможности окунуться в новости культурной жизни, познакомиться с новинками литературы, изобразительного искусства своих собратьев-художников, по музыке и театру. Ну и, конечно, тоска по его Украине, по ее горемычному народу, по ее природе и песням, по его родне — сестрам и братьям, тянущим помещичье ярмо. Эта тоска выливается в стихи:
Мов за подушне, оступили Оце мене на чужині Нудьга і осінь. Боже милий, Де ж заховатися мені? Що діяти? Уже й гуляю По цім Аралу; і пишу. Віршую нищечком, грішу. Бог зна колишнії случаї В душі своїй перебираю Та списую; щоб та печаль Не перлася, як той москаль, В самотню душу. Лютий злодій Впирається-таки, та й годі.Катастрофически не хватало книг…
Бутаков прекрасно понимал состояние души Тараса. Однажды, когда тот сидел в глубоком раздумье, он подошел к нему и сказал:
— Тарас Григорьевич, у нас на борту есть три ящика книг. Стихотворений там немного: кроме Лермонтова и Пушкина ничего нет. Но если вас интересуют, например, путешествия по морям земного шара, ботаника или география, — корабельная библиотека к вашим услугам.
И Шевченко, естественно, жадно набросился на книги. Там были сочинения Гумбольдта и знаменитых французских путешественников Араго и Дюмон-Дорвиля, воспоминания Крузенштерна и других. В них рассказывалось о природе далеких материков и островов, о жизни их народов, обычаях и культуре. Ужасная судьба африканских негров, которых продают в рабство в Соединенные Штаты Америки, наиболее его поразила. Никак не мог только простить географу и путешественнику Гумбольдту, который так горячо сочувствовал неграм и другим заокеанским рабам, что он так нерешительно и вяло высказывался против крепостничества в своей Германии, в Австрии и Российской империи, которую он имел возможность хорошо изучить во время своих путешествий по Уралу, Алтаю, каспийскому побережью и по другим уголкам России.
Под влиянием произведений Гумбольдта Тарас заинтересовался ботаникой, и теперь вместе с Вернером собирал растения для гербария экспедиции. Он старательно выкапывал их, пересаживал в горшочки и ухаживал за ними на борту «Константина».
Иногда Тарасу казалось, что, познакомившись с геологией или с исторической географией, он как будто поднялся на высокую гору, с которой увидел необозримую даль.
Как-то они вместе с фельдшером Истоминым попросили Бутакова прочитать им лекцию по астрономии.
Лекция состоялась в первый штильный вечер. Сначала Бутаков подробно рассказал им о солнечной системе. Как зачарованный, слушал Тарас Бутакова. Впервые заглянул он в космос, а когда охрипший от двухчасовой лекции Бутаков умолк, растерянным вышел Тарас на палубу, долго молча курил, смотрел на звезды и вдруг рассмеялся:
— А в библии пишется, что «сотворение света» было шесть тысяч лет тому назад и продолжалось шесть дней…
Долго сидел он так в одиночестве, смотрел на звездное небо, на море, покрытое мглою. Долго курил, кидал за борт окурки и вернулся в каюту, когда все давно спали, так и не додумавши до конца сотни сложных вопросов, что возникли в его голове под влиянием новых знаний…
На остановках для исследований новых географических объектов Тарас съезжал на берег, там в первую очередь искал живописные пейзажи и сразу брался за кисти. Но каждый раз в его распоряжении было только два-три часа. Поэтому он набрасывал лишь контур, намечал тени и сразу брался за краски, чтоб схватить особенности колорита и характерное освещение, оставив все детали на потом.
Таких этюдов уже набралось много. И вот теперь, на борту «Константина», в глубокий солнечный штиль, когда свежий морской воздух переполнял грудь, а море переливалось за бортом блестящим шелком, он дорабатывал, и заканчивал их, и превращал в картины.
И тогда же рождались в душе его стихи. Длинной толпой проходили перед его мысленным взором образы современных и исторических деятелей. Здесь закончил он поэму, в которой с таким сарказмом изобразил старозаветных венценосцев.
Во Иудее во дни оны, Во время Ирода-царя, Возле Сиона, на Сионе Романцев пьяных легионы Паскудились. А у царя, У Ирода, в его чертоге, И во дворе, и на пороге, Стояли ликторы, а царь – Самодержавный государь! – Лизал у ликтора халяву, Чтоб тот ему на то, на се… Дал в долг хотя б один динарий. И ликтор свой карман трясет И, вынув деньги не считая, Ему, как старцу, подает. И пьяный Ирод снова пьет!..Он мог бы пополнить эту галерею хищников более поздними экземплярами, но уже другие темы и другие судьбы зажигали его душу и творческое воображение…
Расцвела на селе красавица девушка Марина. А молодой развратник пан отдал в солдаты ее нареченного, а девушку забрал в панские покои и закрыл, чтоб быстрее преодолеть ее сумасшедшее сопротивление. Не выдержала девушка издевательств, и сошла с ума, подожгла панский дворец, и сама погибла в пламени. Разве мало таких историй слышал в детстве Тарас еще в селе, а потом и в царской казарме?
…Образы… Образы…
Сколько их, скорбных, ужасных или вызывающих сочувствие… И все они выхвачены из самой жизни. Проходят долгой чередой, обливаясь кровавыми слезами, с глубокими и незажившими ранами в сердце. Все с разбитыми мечтами, преданными надеждами… Ну, а сам он? Разве нашел он в жизни хотя бы каплю простого обычного счастья разделенной любви, теплое гнездышко, семью?..
Неизвестно, как и где погибла его Оксаночка — первая чистая любовь. На мгновение явилась нежная и чуткая полячка на берегу Вилии… Потом на родине, когда вернулся он уже прославленным художником и поэтом, красавица Анна, чужая жена. Она не ответила на его письмо, написанное кровью сердца… Забыла? Или никогда и не любила, а ее пылкие слова и поцелуи были только игрою. И все же таки ее чарующий образ не оставляет поэта, как будто смотрит она на него глазами синими, как это море — чужое, неприветливое, но все же прекрасное Аральское море, которое помогло ему вырваться из казармы, спастись от опротивевшей муштры, от ужасного умственного голода…
Настала осень. От приказчика рыбачьей ватаги Бутаков знал, что гирло Сыр-Дарьи осенью мелеет. И это заставило его взять курс от открытого ими острова Константина до гирла Сыр-Дарьи. Ошвартовавшись напротив Косаральского форта, рядом с рыбацкой ватагой в небольшом затоне острова Кос-Арал, где течение Сыр-Дарьи было едва заметно. Бутаков спустил Андреевский флаг, брейд-вымпел и тридцатого сентября стал на зимовку.
За шестьдесят девять дней плавания Шевченко сжился с семьей моряков. Они зажгли его своим энтузиазмом, своим духом вечных путешественников, что мечтают о неизвестных островах и странах. Они ввели его в круг своих интересов. Опасности и жестокие бури, которые ежеминутно угрожали им смертью, закалили его характер. Он понял, что отныне связан с этими людьми глубоким теплым чувством.
Но на берегу эта спайка сама собой ослабела. Первое время они еще ночевали в кают-компании, но от рассвета до сумерек каждый занимался своими делами. Обедали на берегу, возле походной кухни.
И чувство одиночества и грусти по родине снова охватило поэта. В прошлом году тоска усиливалась жгучей ненавистью к муштре. Теперь боль от разлуки с родным краем сливалась с тихой грустью воспоминаний. От вынужденного безделья появилось чувство собственной ненужности. Активный характер Шевченко не мог с этим мириться.
Жили они теперь в своих войлочных палатках: Бутаков с Поспеловым и Акишевым, Макшеев с Шевченко и Вернером, а фельдшер Истомин ночевал в недостроенном штабе и канцелярии Косаральского форта вместе с его комендантом, поручиком Богомоловым, переведенным сюда из Орска.
Бутаков целые дни проводил на высоком мысе, который далеко уходил в море. Еще летом там заложили форт Кос-Арал, где должны были зимовать моряки вместе с полусотней уральских казаков и отрядом Орской пехоты. Поспелов и Акишев сопровождали лейтенанта. На сооружении форта работали все вместе: матросы, казаки и пехота. Строили большую казарму на сто человек, два цейхгауза, пекарню, конюшню, овчарню, жилой дом, штаб с канцелярией, насыпали валы, рыли землянки, складывали печи, крыли железом крыши, делали саман и кирпичи, месили на топливо кизяки. И орские солдаты и казаки удивленно отмечали, что никто из начальства не ругается, не орет, не угрожает кулаками и розгами, а все работают тщательно и старательно и не нуждаются ни в каких угрозах.
Шевченко попробовал включиться в эту напряженную общую работу, но Бутаков категорически запретил ему браться не за свое дело.
— Не застудите себе руки, дорогой мой, — сурово сказал он. — Помогайте Вернеру упорядочить коллекции, пишите стихи, рисуйте, что хотите, читайте. А тут достаточно людей и без вас.
И Тарас прислушался, да и в душе накопилось столько всего, что оно рвалось наружу. На Арале случился всплеск его поэтического вдохновения. Здесь он написал несколько поэм и десятки стихов, в которых отразилось и давно пережитое, и пережитое здесь — в казарме, в пустыне, на море. Но, несмотря на все тяготы, на угрозу новых наказаний, Шевченко остается верен себе и своему поэтическому гению.
Неначе степом чумаки У осени верству проходять, Так і мене минають годи, А я й байдуже. Книжечки Мережаю та начиняю Таки віршами. Розважаю Дурную голову свою, Та кайдани собі кую (Як ці добродії дознають). Та вже ж нехай хоч розіпнуть, А я без вірші не улежу. Уже два года промережав І третій в добрий час почну.В начале октября пришла в Раим оказия. Сюда она приходила три-четыре раза в год, поэтому ждали ее с особенным нетерпением. Почту для косаральцев привезли из Раима рыбаки с ватаги и бросили кучей на стол в будущей канцелярии форта. В одно мгновение комната наполнилась людьми, а поручик Богомолов начал громко называть адресатов. Была такая теснота, что ближние передавали вызываемому письмо, и он сразу начинал продираться к выходу, чтобы наедине с наслаждением прочитать теплые строки, порадоваться им или тяжело вздохнуть, если весть была грустной.
Шевченко и Вернер стояли в углу и с волнением и надеждой смотрели, как Богомолов берет письмо за письмом. Вот-вот он назовет их фамилии. Но гора писем таяла на глазах, и, наконец, они поняли, что для них нет ничего. Комната сразу опустела. Молча пошли они к выходу. У Томаса дрожали губы, он едва сдерживал слезы. Шевченко держался лучше. Темнело. Молча легли они на свои койки, не посмотрев один на другого. С улицы было слышно, как сухо и трескуче шумит камыш.
— Тяжело быть одиноким, — вырвалось у Тараса. — Ждешь писем, но чужие люди не понимают, не могут понять, как они нужны в неволе! Жжет сердце тоска, как жажда в Каракумах. Была бы у меня мать или жена — они бы поняли и написали б…
— Написали б! — горько улыбнулся Вернер. — Вот у меня и мать, и жена есть. И сестры… И даже ребенок, которого я еще не видел. А писем — нет. Молчат уже третий год. Лучше б их вовсе не было! Тогда бы я не ждал напрасно. И был бы спокойный и твердый, как скала.
И резко отвернул лицо к стене.
Шевченко молчал, потом поднялся, сел к столу, зажег свечу и начал писать.
Мы долго в море пропадали. Пришли в Дарью, на якорь стали. С ватаги письма принесли, И все тихонько их читали, А мы с коллегою легли, Беседовали, вслух мечтали. Я думал: где б ту благодать – Письмо иль мать добыть на свете? — А ты один? — Жена и дети, И хата, и сестра, и мать! А писем нет… И снова мне не привезла Ни слова почта с Украины… А сердце плачет, вижу снова Дни невеселого былого В той невеселой стороне, В своей Украйне, — надо мною Они когда-то пронеслись…Приаральская степь была еще беднее и пустыннее, чем возле Орска. Тут во всем чувствовалось соседство двух пустынь — Каракумов и Барсуков. Глинистые либо каменисто-песчаные пагорбы изредка поросли колючками или реденьким ковылем и ослепительно-белые солончаковые низины — чаши давно пересохших озер — утомляли зрение своею яркой белизной. Голые кустики саксаула и неизвестно откуда принесенные ветром прозрачные шары перекати-поля — вот и все, что видел тут Шевченко, блуждая в окрестностях Кос-Арала, кроме зарослей камыша, что сухо трещал от ветра. И над всем этим — низкое холодное октябрьское небо.
І небо невмите, і заспані хвилі, І понад берегом геть-геть, Неначе п’яний, очерет Без вітру гнеться. Боже милий! Чи довго бути ще мені В оцій незамкнутій тюрмі, Понад оцим нікчемним морем Нудити світом? Не говорить, Мовчить і гнеться, мов жива, В степу пожовклая трава, Не хоче правдоньки сказать, А більше ні в кого спитать.Так писал поэт Шевченко дней через пять после прихода почты, одиноко скитаясь дюнами там, где мутные воды Сыр-Дарьи тяжело одолевали едва прикрытую водой мель, что длинным языком уходила в море…
И действительно, здесь, на Арале, Тарас был практически полностью изолированным от внешнего мира, от всех важных революционных событий, которые в это время развивались в Европе. В единственном письме, которое он получил в середине августа от А. Лизогуба, пересланного из Оренбурга доктором М. Александрийским, Лизогуб лишь намеками указывает на события в Европе в 1848 году…
Начались заморозки, зимовщики перешли из палаток в землянки и там продолжали обрабатывать собранные данные, систематизировать коллекции. Когда реку и озера затянуло крепким льдом, офицеры стали кататься на коньках. Из Раима на Кос-Арал и обратно ездили на тройках «в гости» друг к другу.
В Раимском укреплении, да и на Кос-Арале были книги, журналы, газеты, хотя и устаревшие, завозившиеся на Аральское море из Оренбурга раз в несколько месяцев, но тем усерднее и внимательнее их читали.
Жили все очень дружно, часто собирались вместе — за оживленной беседой или чтением. Душой общества был Шевченко, всех развлекавший и увлекавший.
Он то в лицах изображал, как командир 2-й роты поручик Богомолов на следующий день после чьих-то именин никак не мог сладить с пером, чтобы написать записку на склад — «отпустить три топора», — все рвал бумагу, начинал писать сызнова и при этом ругался:
— Вот поди ж ты, чертово письмо, какое хитрое! Да я уж тебя перехитрю!
И все умирали со смеху, в том числе и присутствовавший при рассказе Богомолов, который и хохотал, может быть, больше всех потому, что искренне мог оценить все правдоподобие разыгранной сценки.
То Шевченко во всю доску большого некрашеного липового стола рисовал пером и карандашом веселую карикатуру: на ней красовалась палатка провиантского чиновника Цыбисова; у входа в нее сидит хорошенькая девятнадцатилетняя брюнетка — дочь хозяина; мать схватила девушку в объятия, отец стоит в угрожающей позе сзади, с поднятой лопатой в руках; а к палатке тянется длинная вереница безнадежных поклонников юной покорительницы сердец, и здесь каждый узнавал себя. И так метко, всего несколькими черточками — лица, фигуры — было схвачено самое характерное в каждом человеке, что сходство было удивительное.
Собиравшееся общество нередко просило Шевченко почитать стихи, и он читал — и свои, и русских поэтов, которых любил и знал наизусть, — Пушкина, Рылеева, Кольцова, Лермонтова.
Как-то утром на Кос-Арал прискакало несколько всадников-казахов.
— Где здесь майири живут? — спросил старший и самый уважаемый из них.
— Таких у нас нет, — презрительно улыбнулся уралец с блондинистым чубом, что лихо торчал из-под шапки, сдвинутой набок.
— Ну, если майиров нет, — давай генерала! — настаивал аксакал. — Большое дело имеем к нему.
— Вишь, куда прыгнул! «Генерала», — передразнил его казак. — Иди к морякам, — показал он на землянку Бутакова.
— Большое дело имеем к тебе, — повторил аксакал, войдя к лейтенанту. — Здравствуй, русский начальник! Помоги нам, пожалста!
— Здравствуйте, добрые люди. Садитесь, — приветливо ответил Бутаков, указывая на лавку и снова опускаясь в кресло. — Какое лихо привело вас ко мне?
— Ой, бай, большое лихо! — покачал головой старый. — Тут, в камышах, живет джульбарс. Большой, длинный, как лошадь, а рост маленький, как баран. Наши джигиты хотели его убить, искали, а он спрятался — нету. А потом каждую ночь он барана у нас ест, лошадь ест, — по пальцам считал аксакал, — маленький ребенок тоже ест.
— А где его логово?
— Не знай. Боятся наши в камыши ходить. А камыш нам очень нужен. Не знай!
Бутаков задумался. Пешком на тигра не пойдешь…
— Придите ко мне, добрые люди, через два дня, а я тем временем посоветуюсь с нашими, как его уничтожить, — решительно сказал лейтенант.
Когда казахи уехали, Бутаков сразу пошел к казачьим офицерам, поскольку соседство с тигром ничего хорошего не обещало и участникам экспедиции.
Пришел он со своим предложением очень вовремя. Накануне несколько солдат и казаков охотились на диких свиней. Охотникам чрезвычайно повезло. Кроме трех свинок, они убили громадного кабана. Еле вытащили его тушу с топкого болота на твердый грунт и оставили ее там до утра, чтобы вывезти лошадьми. Приезжают и видят: полкабана съедено, а вокруг на земле отпечатки тигровых лап. С минуты на минуту тигр мог вернуться к своей случайной добыче. Ничего не придумав, охотники отправились к своему командиру спросить совета и как раз застали у него Бутакова.
Начали советоваться. Мнения разошлись. Одни были за то, чтобы немедленно запрячь лошадей и ехать за остатками кабана; другие предлагали устроить засаду и ждать тигра возле недоеденной туши. А третьи смеялись и говорили:
— У тигра нюх значительно тоньше, чем у вас. Просидите зря ночь, промерзнете, а тигр, учуяв человека, пойдет тем временем жрать баранов или телят, а то полезет и к нашим лошадям.
Шевченко молча стоял за спиной Бутакова, посмеиваясь в усы и наконец сказал, когда все охрипли и умолкли:
— А что, если установить заряженные штуцеры, нацеленные на тушу, а к куркам привязать веревки или проволоку и противоположные концы привязать к туше. Стоит тигру дернуть тушу, как все штуцеры одновременно выстрелят и тигр будет либо убит, либо тяжело ранен.
Предложение Тараса сразу всех примирило, и дальше разговор пошел лишь о том, как и на чем лучше разместить штуцеры.
Двое солдат взялись за работу, и через два-три часа заряженные штуцеры уже смотрели из густых камышей на недоеденную тушу, а Шевченко с Бутаковым и поручиком Богомоловым осторожно и крепко прикручивали к клыкам и ребрам убитого кабана веревки от взведенных курков. Потом, чтоб уничтожить запах человека, они протащили по своим следам тушу забитой свинки и спокойно пошли к Кос-Аралу.
На другое утро охотники бросились к засаде. Остатки кабана были целыми, но перевернуты на другой бок. Возле них темнели на земле две лужи крови, а тигровых следов вокруг стало значительно больше.
Не сразу отважились охотники пойти кровавыми следами в заросли камышей. Все знали, что раненный тигр первым бросается на человека. Но когда собралось двенадцать хорошо вооруженных охотников, они смело двинулись в путь. Через полверсты от приманки лежал мертвый тигр в луже крови: все шесть пуль пробили его насквозь, и надо было только удивляться живучести зверя, который, смертельно раненный, истекая кровью, смог отойти так далеко.
Все поздравляли Тараса с удачным предложением, а он спешил набросать карандашом и акварелью громадного тигра, любуясь его дикой силой и красой. То был настоящий королевский тигр с ярко-оранжевой шкурой, с черными полосами, необыкновенно жирный и длиною в 6 футов 4 дюйма от морды до начала хвоста…
Шевченко общался не только с членами экспедиции. Он, как и везде, где ему приходилось бывать, стремился как можно больше узнать о жизни местного населения. И здесь, в этой пустыне, у него было много друзей среди казахов и киргизов. Особенно к нему привязывались дети, называя его Тарас-ага. Они, грязные, оборванные, голодные, целыми стайками прибегали к Тарасу, чтобы он им смастерил какую-нибудь игрушку или что-то нарисовал, а главное, покормил.
Почти ежедневно за час-полтора до обеда прибегали в форт Кос-Арал казахские дети, от шестилетних малышей, что едва топали худенькими ножками в порванных меховых носочках, до долговязых нескладных подростков в дырявых сапогах и худых куцых чапанах, из которых почти по локоть торчали красно-синие от холода руки. Огромные малахаи из лисьего или волчьего меха красовались на их головах, бросая на снег причудливые тени. Каждый держал в руках деревянную или глиняную миску.
И тогда Тарас отводил их к кашевару. Кашевар, которого моряки упрямо называли коком, заметив их, улыбался:
— Шагает голопузая орда. И как они только могут переться за ложкой каши в такую даль, да еще по такой погоде?
Ожидая обеда, дети прижимались друг к другу, как замерзшие цыплята, и, чтобы хоть чуть согреться, зарывались в стог сена, что стоял за кухней. Иногда какой-нибудь казак крикнет на них, сделав нарочно грозные глаза:
— Голопузые! Зачем сено ворошите? Не для вас кошено!
Дети смотрели на него испуганно-виновато и теснее прижимались друг к другу, чтобы показать, как они замерзли. При сильных морозах Тарас и казаки иногда приглашали их в казарму погреться возле горячей печки. Но в большинстве случаев они так и сидели в сене, пока «рус ата» не откроет двери «камбуза», как он упрямо называл свою кухню, и не начнет выдавать обед. Стайкой воробышков они мгновенно перелетали через двор и становились в почти неподвижную очередь перед плитой. Каждому кок наливал в миску полный черпак борща и клал кусок вареного мяса. Они отходили к стене, садились на пол и, обжигаясь, осторожно хлебали через край миски горячую жидкость, потом выбирали руками мясо и овощи и снова подходили к коку, который бросал им в миску порцию каши. Съев кашу, они тщательно вылизывали свою посуду, а потом руки и пальцы. Тарас смотрел на них со стороны с грустью и с ласковой улыбкой, вспоминая свое голодное детство. В душе его обострялась грусть о родном крае и теплое отцовское чувство, вложенное в сердце каждого человека. Отобедав, детишки, попрощавшись с Тарас-ага, отправлялись к своим юртам, даже если мела метель…
Шевченко и сам бедствовал, как эти дети. Частенько не было у него медного пятака на табак, на конверт и почтовую марку, на кусок мыла, на фунт сахара к чаю. Приходилось искать заработок. Он писал письма на родину для неграмотных солдат и казаков, но и они не имели чем платить. Иногда он предлагал офицерам нарисовать с них портрет, и за такой портрет карандашом или акварелью ему платили червонец. Но офицеров в Раиме было человек десять и в Кос-Арале трое, и они сами бедствовали и часто не могли позволить себе такой роскоши, и Тарас частенько бродил с горькой мыслью, где бы раздобыть махорки на цигарку. Даже это было тяжелым вопросом, потому что почти все матросы были староверами и не курили, а солдатам и самим не хватало пайковой махорки и просить у них не поворачивался язык.
Иногда маркитант выручал Тараса, но за пачку махорки он должен был написать ему какое-нибудь заявление либо переписать начисто счета и деловые письма, а когда не было чего переписывать, маркитант ничего не давал ему в долг.
Приближался новый 1849 год. У каждого непроизвольно зашевелилась тайная грусть. Припоминалось детство, рождественские колядки, елки, вспоминались родные и близкие. И каждому хотелось поделиться с друзьями воспоминаниями в тихом и задушевном разговоре.
Тарасу тоже многое вспоминалось в эти дни: и родное село, и мама, которая старалась хоть что-то приготовить к празднику для детей, видел он и себя с братьями, распевавшими колядки. Вспомнилась ему и Айбупеш, угощавшая его на рождественский праздник. Как светились тогда ее глаза! «Тяжело, наверное, ей сейчас: холодно и голодно» — подумал Тарас.
Вернер грустил по семье, по родной Варшаве. Молоденькие прапорщики вспоминали пышные балы, тайные свидания с наивными институтками либо со светскими дамами, интригующие разговоры со смешными масками на маскарадах, театры, катания на тройках, цыганские хоры в отдельных кабинетах загородных ресторанов; а почти все другие зимовщики — жен и детей, праздничные ярмарки с яркими каруселями и балаганами, пьянки, кулачные бои, праздничное гадание, где так удобно под видом гадания признаться в любви, назначить свидание…
Шевченко остро чувствовал настроение людей, и даже собственные боли волновали его меньше, чем эта грусть, что, как туман, клубилась вокруг него. Поэтому, когда Бутаков предложил устроить праздничное представление, он его поддержал. Но ни в Кос-Арале, ни в Раиме не было ни одной печатной или хотя бы переписанной от руки пьесы, не было здесь и женщин, способных выступить на сцене. Елку тоже не было где взять, потому что за тысячу верст вокруг не было ни одного хвойного дерева.
— Вот вы, дорогой Тарас Григорьевич, — сказал Бутаков, — попробуйте обновить в памяти какую-нибудь комедию или смешной водевиль. Или одну из ваших малороссийских сценок о купцах, чиновниках-взяточниках, о монахах и стряпчих? Честное слово, никто бы вас не стал укорять, если бы вы что-то перекрутили или добавили!
Тарас с удовольствием воспринял инициативу Бутакова, который задумал провести праздничное представление. Это было то, что помогло бы хоть на короткое время развеять непреодолимую тоску и грусть, забыть оковы и вериги царского приговора.
— Послушай, Хома, — сказал Шевченко, поймав Вернера. — Вспомни хотя бы ваши национальные танцы. Я слышал в Оренбурге, что вы чудесно танцуете.
— Нет у меня ни дамы, ни костюма, — растерялся Вернер.
— Все найдем! Посушим голову, найдем! Алексей Иванович говорит, что праздновать и веселиться будем вместе со всей командой, как это заведено у моряков в дальнем плавании.
— Правильно, — весело поддержал, подходя, Бутаков, — поэтому привлеките нашего боцмана: он замечательно исполняет негритянские танцы. Да и сам он немного похож на негра. Покрасить бы его в черный цвет — никто б не поверил, что он белый. А марсовый Клюкин хорошо танцевал в Неаполе тарантеллу — надо и его привлечь. Они напоют мелодии своих танцев, а штурман Ксенофонт Егорович подберет на гитаре аккомпанемент. И барабан, и кастаньеты сделаем, только все беритесь сейчас за дело! Организуйте нам, господа, такой дивертисмент! Тогда мы всем табором нагрянем в Раим. Увидите, как они там обрадуются!
Взявшись за дело, Вернер и Шевченко втянулись в него, потом увлеклись. Прошлогодний опыт с устройством облавы на волков теперь очень пригодился Тарасу. Прежде всего сложили они с Вернером программу представления, потом — список необходимого реквизита, который надо было изготовить своими силами или, как сказал Вернер, «сделать из ничего», и начали искать источники этого «ничего». Бутаков сразу согласился отдать им старое белье и простыни на костюмы и на занавес. У Богомолова в канцелярии нашлось красные и синие чернила. Истомин дал шесть шкурок зайцев-беляков. Каптенармус нашел несколько картонных коробочек, куски золотого и серебряного позумента. Макшеев подарил бутылочку обувного лака. Кок где-то добыл шкурку каракуля и черного лохматого долгошерстого барана, Чорторогов — шкуру медведя, а Шевченко попросил у своих друзей казахов орлиных перьев и старенькую бархатную женскую безрукавку… Нашлись и нитки, клей, и закипела работа.
Тарас нарисовал два польских и один неаполитанский костюмы. Среди матросов обнаружился бывший портной. Привлекли и его. Шевченко с Вернером вырезали и клеили из картона цилиндры для чиновников и конфедератки для поляков, обтянули конфедератки голубым полотном, украсили белыми перьями и заячьим мехом, из каракуля Тарас сделал парик для негра, а другой — курчаво-лохматый — для Клюкина. Из распущенного манильского троса сделали женский белявый парик с длинной пышной косой.
Тараса нельзя было узнать: он был весь в движении с утра и до поздней ночи и, кажется, больше всех беспокоился, чтоб все вышло, «как в настоящем театре». Его единогласно избрали главным режиссером и организатором представления. Он то клеил, то рисовал, то садился писать народную сценку, то изготавливал маски, то наблюдал за тем, как репетируют «его актеры», и всегда давал им хорошие советы, как человек, что много раз бывал в наилучших театрах столицы и разбирался в сценическом мастерстве первоклассных актеров.
Предвидя близкое появление оказии, Шевченко урвал минутку и написал письмо Лизогубу, где, успокаивая друга, искренне рассказал о своем настроении: «Не могу сказать, чтобы я чувствовал себя счастливим, но теперь я по крайней мере веселый, а это очень важно: и так хмурая грусть и тоска уже перегорели во мне».
Его подвижная энергия зажигала всех. «Актеры» старательно повторяли свои номера, усложняли и совершенствовали их, пытались сделать их оригинальнее. А Шевченко тем временем сделал из орлиного пера фантастический убор индейца и уговорил фельдшера Истомина протанцевать индейский танец под какую-нибудь необычную мелодию, которую играл на гитаре унтер-офицер Абизаров, уверяя всех, что это настоящая индейская танцевальная. Конечно, никто не мог его проверить. Но номер всем очень понравился.
За два дня перед рождеством в Кос-Арале состоялась генеральная репетиция, но без грима и костюмов, потому что настоящего театрального грима не было, а на репетицию расходовать мизерный запас акварели запретил Бутаков.
В Раим умчался всадник сообщить, что на первый день праздника косаральцы нагрянут туда полным составом.
В полдень отправились в путь четырьмя большими парными санями, не дождавшись казаков, которые в последнюю минуту решили тоже принять участие в развлечении.
Раимцы уже ждали гостей. После первых приветствий гости с хозяевами вышли на плац, где утром подмели снег. В эту минуту за околицей заиграли казацкие трубы, и небольшой отряд уральцев с есаулом Чортороговым во главе торжественным маршем въехал в Раим.
И сразу началась великолепная казацкая джигитовка.
Первыми вылетели на плац три всадника и поскакали кругом, стоя на седлах и тесно переплетясь руками. Потом боковые всадники на мгновение придержали лошадей, а средний поскакал дальше. На полном скаку он лег поперек коня на седло и начал подбирать с земли красные и зеленые платочки, разбросанные там для него, потом, схватившись за подпруги, он сполз с седла под живот лошади и поскакал галопом плацем, заметая его полами своей черкески.
Бурные аплодисменты были ему наградой. Потом помчались первый и третий казаки. Они на полном скаку перепрыгивали с коня на коня, жонглировали саблями и шапками.
Потом выехали на плац сразу четверо всадников, стоя на седлах. На плечи им вылезли трое, а на тех трех еще два молодых казака, и вся живая пирамида помчалась галопом по кругу. Казаки стояли на лошадях неподвижно и вытянув «руки по швам».
Зрители затаили дыхание, и только боцман Парфенов буркнул себе под нос:
— Посмотрели бы они на наше парусное ученье на фрегатах, когда мы стоим на реях строем и не шелохнемся даже при волнах.
На самом деле ему тоже нравилась джигитовка, но его матросскую гордость поразило, что не только моряки такие ловкие и смелые.
Разгоряченные джигитовкой казаки и замерзшие зрители весело отправились с плаца обедать, а тем временем наибольшую в Раиме казарму начали готовить для концерта и танцев. Вдоль передней стены сдвинули нары — это должна была быть эстрада. Пока в зале устанавливали лавки и стулья, «артисты» быстро переодевались. Скоро зал заполнился праздничной публикой, но концерт почему-то все не начинался.
— Почему не начинаете? — спросил Бутаков, заглянув за импровизированный занавес.
— Мы первым номером даем негра, — ответил Тарас, уже одетый в старенький фрак, растирая на тарелочке какую-то грязно-черную жидкость, — а краски не хватило. А он же танцует босой, костюм коротенький — до колен, и руки голые, и шея… Вот я сижу с клеем глину размешиваю, чтобы не тратить последнюю акварель. Сейчас быстро покрашу его, но нельзя костюм ему одеть, пока он не подсохнет, иначе вся сажа с тела окажется на белом полотне.
— Тогда начинайте с другого номера, — приказал Бутаков.
— Разрешите, ваш скобродь, нам джигу станцевать, наш номер второй, — подскочили до лейтенанта четверо матросов в новеньких форменках с широченными клешами над наваксованными ботинками.
— Вот и хорошо! Начинайте!
Зазвучал гонг — это ударили в медный кухонный таз. На край эстрады, свесивши ноги в партер, сел косаральский гармонист и заиграл джигу, которую он старательно учил с голоса уже три недели, а на эстраду лихо вылетели четверо матросов, четко и ловко выбивая быстрый ритм английского морского танца.
Стройный и гибкий, как тростник, марсовой Клюкин давно был загримирован цыганом. Красная шелковая косоворотка и черные плисовые штаны красиво обнимали его талию. Патлатый парик из черного барана и черные наклеенные усики сделали его настоящим цыганом. Когда матросы закончили джигу, он вывел на цепи зашитого в медвежью шкуру приземистого и толстого кока, лицо которого закрывала маска медвежьей морды работы Тараса. С горловым цыганским акцентом Клюкин обратился к «медведю»:
— Покажи, Мишенька, как попадья в церковь собирается.
И «медведь» рукой в рукавице, вывернутой мехом наружу, схватив вату, сунул ее в муку и начал пудрить себе морду, манерно прихорашиваясь перед представляемым зеркалом.
— А теперь покажи, Мишенька, как попадья в церкви молится.
«Медведь» послушно складывает лапы ладонь к ладони и стоит, опустив глаза, но через минуту начинает смотреть то вправо, то влево под гомерический смех присутствующих и самой кокетливой матушки Степаниды.
Не успел «медведь» слезть под громкие аплодисменты с высокой эстрады, как на краю эстрады снова расположился косаральский гармонист с унтер-офицером Садчиковым, и на двух гармошках они заиграли веселую бравурную мазурку, а из-за занавеса вылетел на эстраду Томас Вернер с маленьким худощавым эстонцем Густавом Термом, одетым дамой. Оба в голубых национальных костюмах, обрамленных пушистым белым мехом зайца-беляка. Вернер танцевал с чрезвычайным подъемом, и все поняли, что он придает этому родному танцу и, в частности, своему национальному костюму здесь, в этих условиях, особенное значение. Кончая танец, он с подчеркнутым шиком склонил колено, пока Терм грациозно оббегал его и замер перед ним в глубоком реверансе.
Тем временем Парфенов был уже загримированный. Тарас подрисовал ему глаза мелом, а губы намазал ярким кармином. С каракулевым париком вышел из него негр «как живой». Когда черная краска на его теле окончательно просохла, он оделся в достаточно-таки примитивный красно-белый полосатый костюм, подобный античной тунике с коротенькими рукавами, и когда Вернер со своей «дамой» вернулись под громкие аплодисменты, на краю эстрады появился штурман Ксенофонт Егорович Поспелов с негритянским банджо, привезенным из кругосветного плаванья. Удивительно протяжная мелодия полилась из-под его пальцев, и из-за занавеса выпрыгнул негр. Все аж ахнули, а банджо, закончив интродукцию, вдруг перешло на быстрый и как бы прыгающий мотив. Парфенов заложил себе под мышки кулаки и, вымахивая локтями, ударил веселый гвинейский танец, вывезенный тоже из кругосветного плавания. Он и цокал языком, и подмаргивал, и бросал взгляды на все стороны, как будто рассказывая зрителям какую-то комическую тайну.
И танец, и сам негр вызвали неимоверное, дикое восхищение. Танец пришлось повторить дважды. Парфенов каждый раз входил в азарт. Пот струйками стекал с его лица, прокладывая белые полоски, а когда зрители наконец его отпустили с эстрады, он с огромным наслаждением скинул парик и погрузил голову в бочку с водой, смывая вместе с потом сажу и акварель.
После Парфенова вышел Тарас в своем худеньком фраке с гусиным пером за ухом, а за ним казак Столетов в синей чумарке, в сапогах-бутылках и с длинной черной бородой. Они разыграли интересную бытовую сценку из жизни чиновников-взяточников, которые со всех посетителей собирают свою дань, и эта сценка вызвала взрыв смеха и бурные аплодисменты.
Тем временем Клюкин надел белую рубашку, бархатную безрукавку, коротенькие, до колен, бархатные штанишки и полосатые чулки, голову завязал красным шелковым платком и с бубном в руках легким прыжком вылетел на сцену под прозрачные и нежные звуки мандолины и двух гитар. Тарантелла вышла чудесная, и даже Бутаков невольно вздохнул, припоминая долгую стоянку корабля возле подножья Везувия, ослепительную, теплую синь Средиземного моря и, возможно, любовь к тоненькой грациозной итальянке с тамбурином и миндалевидными прелестными глазами.
После Клюкина снова вышел Шевченко в вышитой украинской сорочке и рассказал несколько смешных анекдотов из народной жизни. В завершение концерта Истомин, голый по пояс, но весь разрисованный разноцветными «татуировками» и с целым веером орлиных перьев на голове, протанцевал необычный танец «вождя ирокезов».
И программа, и исполнители очень понравились зрителям. Раимцы наперебой благодарили Шевченко и Бутакова за интересное развлечение. После веселого недолгого ужина начался бал.
Царицей бала была единственная на весь Раим девушка, дочь провиантского чиновника Людочка Цибисова. Смуглая, миловидная, она не сидела ни минуты. Все неженатые офицеры и чиновники Раима были в нее влюблены. Они тянулись к ней, как бабочки к огню. Мать следила за каждым шагом дочери, а отец смотрел на пылких поклонников, как Цербер, что вот-вот сорвется с цепи.
Большим успехом пользовалась и попадья, которая только весной закончила гимназию в Оренбурге, и жена кассира Дубовского, дородная блондинка лет тридцати, которую кто-то назвал румяным созревшим яблоком. Не так давно к ней приехала старшая сестра, да так и застряла здесь до весны. Это была старая дева, до невозможности костлявая и с лорнетом.
«На безрыбье — и рак рыба, а на бездамье и пугало — дама» — решил, видимо, Поспелов, приглашая ее на кадриль.
Танцы продолжались до трех часов ночи. Ехать ночью домой под угрозой волков никто не отважился, поэтому раимцы разобрали офицеров по своим хатам и юртам, а матросов и казаков устроили в казарме.
Тараса пригласили к себе Цыбисовы, убедившись, что он совсем не собирается приударить за их дочерью. Все время, пока они шли с ним домой, пока стелили постель и раздевались, отец горько жаловался на ухажеров его Людочки.
— Хуже всего приходится ей, — говорил старый, — в конце месяца, когда они еще не проветрили головы после пьянки, получив двадцатого жалованье. Только и бойся, чтоб какой-нибудь мерзавец не обидел.
Так и уснул Тарас под ворчанье старого, а утром, пока мать с дочерью готовили праздничный завтрак, Шевченко нарисовал на белой, некрашеной доске их стола огромную карикатуру: в одном конце ее был дом Цыбисова, на крыльце сидела Людочка в объятиях матери, а через весь раимский плац тянулась к ним длинная очередь поклонников, которые несли ей кто цветы, кто собственное разбитое сердце, кто длинное письмо. Здесь были все: и поручик Эйсмонд, и Богомолов, и доктор Лавров, и прапорщик Нудатов, и Соловьев, и доктор Килькевич, и все другие жители Раимского форта, а над самою Людочкою возвышалась монументальная фигура отца. Он угрожал всем рыцарям здоровенною дубиной.
Долго смеялась семья Цыбисовых, увидев этот рисунок, долго показывали его родственникам, знакомым и даже всем изображенным на нем поклонникам.
На третий день праздника раимцы со своими музыкантами приехали в Кос-Арал с ответным визитом. Снова был обед, танцы, ужин. Снова шутили, смеялись, много пили, и за всей суетой ни Шевченко, ни Вернеру, ни другим участникам экспедиции не было когда грустить. Новый год встретили тихо и скромно у Бутакова. Выпили по фужеру шампанского, пожелали друг другу всего наилучшего и через час тихо разошлись…
Все зимние месяцы Тарас работает над материалами экспедиции, много рисует пейзажей заснеженного Кос-Арала, бытовые сценки из жизни своих друзей-казахов, портреты членов экспедиции… Много времени отдает литературному творчеству. За зиму им написано несколько десятков стихотворений, в которых отразилась судьба любимой Украины, ее народа и собственная судьба запертого в глуши поэта. Среди поэтических произведений можно назвать «Как будто степью чумаки…», «Сотник», «Если бы тебе довелось…», «Заросли дороги терном…», «В нашем рае на земле…», «Дурные и гордые мы люди» и другие. Особой печалью наполнено стихотворение «И золотой, и дорогой…», вызванной увиденным на родине, всколыхнувшее и его воспоминания о своем безрадостном детстве:
І золотої й дорогої Мені, щоб знали ви, не жаль Моєї долі молодої: А іноді така печаль Оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу Малого хлопчика в селі. Мов одірвалось од гіллі, Одно-однісіньке під тином Сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що се я, Що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи Воно не бачитиме волі, Святої воленьки. Що так Даремне, марне пролетять Його найкращії літа, Що він не знатиме, де дітись На сім широкім вольнім світі, І піде в найми, і колись, Щоб він не плакав, не журивсь, Щоб він де-небудь прихиливсь, То оддадуть у москалі.В конце января пришла оказия. Для бутаковской экспедиции пришло немало разного груза и новостей.
Прежде всего весь персонал искренне поздравил Бутакова с тем, что его избрали действительным членом Российского географического общества. Это уже было признанием его заслуг как ученого исследователя, путешественника и первооткрывателя.
Вернер тоже сиял: ему дали звание унтер-офицера. Это был первый шаг на пути к освобождению. Томас искренне благодарил Бутакова за представление и прекрасную характеристику.
Пришло немало радостного и Тарасу. Он получил от Лизогуба большое и теплое письмо и пакет с теплой одеждой, комплектом масляных красок, лекарствами и разной мелочью. Пришло также письмо и от Михаила Лазаревского из Петербурга. Петербургские друзья снова прислали ему деньги и сообщали, что были у графа Орлова, который сначала и слушать не хотел о Шевченко, но, прочитав его письма и узнав о его болезни, подобрел и обещал запросить Оренбург и Орск о поведении и направлении мыслей поэта «на предмет смягчения его судьбы».
Все эти письма были давними, писаны еще весной, пролежали в Орске все лето и осень, но для Шевченко было очень важно, что его помнят, беспокоятся и хлопочут о его освобождении. Репнина тоже прислала ему много теплых искренних слов, полных сочувствия, писала, что молится за него ежедневно и тоже будет обращаться к Орлову и другим, как только приедет в Петербург.
Со слезами благодарности читал и перечитывал поэт эти строки, и в душе оживала надежда, в которой он еще боялся признаться, надежда на светлое будущее.
Разволновался и Макшеев, его отзывали в Оренбург. Он спешно взялся за обработку своих съемок и за составление карты островов и снятых участков побережья. Один экземпляр этой карты должен остаться в делах экспедиции, а другой — в Оренбургском военном округе, где также понемногу составляли военно-топографическую карту своего округа.
Дни были очень короткими, Макшеев мог работать только при дневном освещении, поэтому он принимался за работу сразу после завтрака, а Тарас выходил из землянки, чтобы не мешать ему.
На этот раз приехал в Раим и налоговый инспектор, который должен был обложить ясаком местные аулы и собрать его.
Налоговый инспектор Корсаков был человеком себе на уме. Об интересах государства беспокоился, но и своих не забывал, а поэтому, за крытым возком, в котором он ехал сам, еще шли двое парных саней, нагруженных чугунными и медными казанами, самоварами, мисками и пиалами, мешками муки, сахара, ящиками с ситцем, дешевым шелком, вельветом, ножами, позументами, большими блестящими пуговицами, которыми казашки украшали свои безрукавки, иголками и разным другим мелким товаром. С этим грузом ехал его крепостной, лакей и приказчик Трохимич…
Макшеев утомленно выпрямился. Приближался полдень, а он с восьми утра, не разгибаясь, вычерчивал подробную военно-топографическую карту острова Барса-Кельмес.
Вдруг за дверьми землянки затопали чьи-то тяжелые шаги, послышался незнакомый голос, и в раскрытые двери буквально ввалился Корсаков в волчьей шубе и шапке, а за ним Трохимич с двумя чемоданами.
Макшеев удивленно посмотрел на них.
— Здравствуйте, мон шер. Неужели не узнаете?! Александр Иванович Корсаков. Из Петербурга. Мы с вами не раз встречались у баронессы Притвиц.
— А, извините! Вы так неожиданно… И это было так давно, — подал ему руку Макшеев, не выявляя особенной радости от такого вторжения.
Гость скинул шубу и шапку и вытер носовым платком поседевшие от инея усы, ресницы и брови.
— Чемоданы подвинь под стол и иди себе, — приказал он Трохимичу, бесцеремонно садясь напротив Макшеева. — А я уже третий день как приехал с аулов. В Раиме скитался… Собачьи условия! Ночевал на полу, постелив сена. Не выдержал! Убежал! Узнал, что вы тут, и обрадовался. Старый знакомый даст хоть какой-нибудь угол.
— Боюсь, что и здесь не будет вам удобно. Я живу не один, а с двумя товарищами по экспедиции.
— Так, так. Я слышал: солдатни к себе запустили. Так им и в казарме будет хорошо. Ведь я временно и к тому же по служебным делам. Теперь я больше не работаю в Опекунском совете, как в Питере. Я теперь налоговый инспектор. Охраняю, так сказать, государственный интерес.
Макшеев понял, что от Корсакова сразу не отвертеться, снял со стола чертежную доску и, заметив Тараса, что как раз входил в землянку, сделал широкий жест в его сторону:
— Знакомьтесь! Господин Шевченко, профессор живописи Киевского университета, а ныне художник Аральской научно-описательной экспедиции.
Шевченко даже растерялся от такой неожиданной рекомендации и молча поклонился приезжему.
— Очень-с приятно! Корсаков! Старый приятель Алексея Ивановича, — поздоровался инспектор, демонстрируя свои прокуренные зубы.
— Дорогой Тарас Григорьевич, — чрезвычайно вежливо обратился Макшеев к Тарасу. — Вы еще в шубе. Не откажите, пожалуйста, в любезности: прикажите там, чтобы нам дали быстрее обедать. Гость, наверное, с дороги голодный, а я, честно говоря, очень устал за этим черчением. За обедом немного отдохну — и снова за рейсфедер. Ведь меня отзывают в Оренбург, — пояснил он Корсакову. — Вот я и тороплюсь закончить все черчение, иначе не смогу выехать. Время уплывает, а работы еще на месяц, не меньше.
Через четверть часа на столе паровал наваристый флотский борщ, стояли консервы маринованой рыбы, и Макшеев разливал по чаркам крепкую старку. Гость не остался в долгу и вытащил из погребца бутылку зубровки. Завязалась беседа. Корсаков рассказал, как стая волков долго шла за оказией. Макшеев вспомнил об охоте на тигра. После борща подали зайца, которого накануне застрелил Истомин, потом кипящий самовар, и Тарас торжественно поставил на стол бутылку настоящего ямайского рома.
— Откуда? — удивился Макшеев.
— Заработал! Нарисовал портрет одного новоназначенного офицера, а он мне, кроме оговоренного гонорара, подарил вот это и замечательную рамку для акварели.
После обеда Шевченко сел в сторонке заканчивать пейзаж морской затоки с вмерзшими в лед шхунами на зимовке, а Макшеев с Корсаковым продолжили разговор.
— Так, шер ами, — жаловался Корсаков, угощаясь чаем с ромом. — Что и говорить: препаршивая у меня должность. Скитаешься целый год этой степью, стягивая со здешних дикарей налоги. Работаешь, работаешь, — никакой тебе благодарности и, главное, никак не добиться полной выплаты налогов. А все из-за моего тестя. «Служи, — говорит, — до действительного статского советника, чтобы дочь генеральшей стала. Тогда озолочу!» А он у меня миллионер. Но как тут выслужиться, когда эти чертовые киргизы не вылезают из недоимок? Я уже и так добился, что недоимки уменьшились почти вдвое, его превосходительство меня за это к «Анне» представил.
— Вот как! Но… как вы добились таких блестящих результатов? — спросил Макшеев, подливая гостю ром.
Гость порядочно хлебнул за обедом и разоткровенничался:
— Очень просто: кнутами. Но, представьте себе, есть такие мерзавцы, что готовы лучше умереть под кнутом, но налогов не платить.
Шевченко выпрямился, кровь бросилась ему в лицо, сами собой стиснулись кулаки, но неимоверным усилием воли он сдержался и взялся за кисть.
— Неужели вы не понимаете, что никакой кнут не выбьет из нищего того, чего он не имеет? — спросил Макшеев.
— Э, батенька мой! Все они прикидываются нищими. Должность действительно препоганая: противно слушать их жалобы, крики и так далее…
В этот момент кто-то нерешительно дернул двери.
— Кто там? Войдите! — крикнул Макшеев.
В землянку вошел казах Жайсак, друг Шевченко. Он низко поклонился Макшееву и Шевченко и молча остановился возле порога.
— Что скажешь, голубь? — спросил Корсаков, небрежно закинув ногу за ногу.
— Люди говорят, шкурки лисьи тебе надо, ясачный начальник? У меня есть шкурки. Я ходил в Раим, там тебя искал. Нету. А ты сюда откочевал.
— А-а!.. Так, мех берем, если он чего-нибудь стоит. Покажи! — все еще небрежно кинул Корсаков.
Жайсак вытащил из-за пазухи две чудные шкурки чернобурой лисицы. У Корсакова глаза вспыхнули жадным огнем. Он взял шкурки, дунул на них, стал гладить их вдоль и против шерсти, потом спросил с кажущейся небрежностью:
— По сколько хочешь?
— Не знаю. Сколько дашь, ясачный начальник. Мне ясак платить надо… Много надо…
— Сколько же их у тебя есть? — пренебрежительно перебил его Корсаков.
— Много есть. Может, два раза десять или три раза. Надо пересчитать.
— Тридцать? Ну что ж, дам тебе по полтиннику.
— Ой, начальник!.. — аж вскрикнул Жайсак. — Бухарский купец за маленькую три рубля дает, а за такие… Это же большие, зимние.
— Ну и иди к своим бухарцам, — спокойно отвернулся Корсаков и хлебнул из чашки, где было больше рома, чем чая.
Макшеев возмущенно переглянулся с Тарасом, а Жайсак переступал с ноги на ногу и с отчаянием смотрел на своих красивых лисиц.
— Разрешите… Лисицы большие и отличного качества, — вмешался Макшеев, пытаясь сохранить корректный тон.
— Вот и берите себе их, если они вам так нравятся, — ответил Корсаков на французском, чтобы Жайсак его не понял. — А я не такой богатый, чтобы бросаться дурными деньгами.
Макшеев и сам подумал в первый миг купить одну-две шкурки, даже потянулся к карману, но вспомнил, что едет он в долгое, почти двухмесячное путешествие, и так и не вытащил кошелька. Это движение не выпало от внимания Корсакова.
— Но в Москве вы возьмете за них рублей по шестьдесят, не меньше, — продолжал Макшеев.
Тем временем Шевченко незаметно дернул Жайсака и жестом потребовал, чтобы тот забрал своих лисиц. Но, вероятно, с Жайсаком случилось что-то чрезвычайно серьезное, потому что он не послушал Тараса, а безнадежно вздохнул и отрицательно покачал головой. Он внимательно прислушивался к разговору на незнакомом языке и только переводил взгляд с Корсакова на Макшеева и с Макшеева на ясачного начальника и вдруг сам обратился к Макшееву:
— Возьми, майир! Отдам по два рубля шкурка. Очень нужны деньги.
Все молчали. Макшееву было неудобно взять мех за такую мизерную цену, а больших денег у него действительно не было. Корсаков иронически улыбнулся:
— Ну хорошо! — вдруг промолвил он. — Начальник тебя пожалел. Ради него дам тебе по два рубля за шкурку.
И с видом благодетеля дал Жайсаку четыре рубля, но не серебром, а ассигнациями, значительно дешевле серебра. Жайсак тяжело вздохнул, взял деньги и вышел, низко опустив голову. Шевченко схватил пальто и бросился ему вдогонку. Когда за ним стукнули двери, Корсаков весело постучал себя по коленке и радостно рассмеялся.
— Вот это действительно хороший гешефт. Но в Москве я возьму за них не по шестьдесят, а по сто рублей серебром. Посмотрите, какая краса! Сколько это процентов прибыли?
— Это нечестно! — прорвало Макшеева.
— Так это же дикари! А дикарям сам бог приказал служить для нас источником прибыли. Почему вы так вскипаете, мон ами?
— Стыдно, господин хороший!
Корсаков громко рассмеялся:
— Мой дорогой! Они даже и слов таких не понимают. Какой стыд? Ведь это первобытные люди! Каменный век! Пройдите всю степь, все их кочовища — нигде ни бани, ни туалета не найдете. Птица — и та не гадит в своем гнезде, как они в своих юртах…
— А много нашли вы туалетов и бань по нашим селам?! — остро прервал его Макшеев. — Но это именно вы и подобные вам повинны в этом. Надо учить, быть для них примером, а не грабить их и загонять в могилу кнутами, взятками и обманом, любезный!
Корсаков вскочил с места:
— Что-о?! Повторите, что вы сказали! — взвизгнул он пронзительным фальцетом.
Макшеев побледнел от злости:
— И по-вто-рю! — отчеканил он по слогам. — Обманываете и занимаетесь грязной и подлой спекуляцией, позорным обманом, что оскорбляет честь дворянина и мундир, который вы носите!
И вдруг, неожиданно для самого себя, схватил уже порожнюю бутылку из-под рома и, замахнувшись ею, как палкой, крикнул во весь голос:
— Вон! Вон отсюда, погань!
С Корсакова моментально слетела нахальная самоуверенность. Он испуганно сделал шаг назад, хватая ртом воздух, и, сорвавши с гвоздя шубу и шапку, исчез, забыв лисиц.
Макшеев, тяжело дыша, поставил бутылку на стол, выбросил за дверь корсаковские чемоданы, потом одним глотком допил свой остывший чай, положил на стол чертежную доску, взял рейсфедер и склонился над своею работой…
Тарас догнал Жайсака далеко за казармой.
— Жайсак! Постой, Жайсак! Что случилось? — кричал он, хватая за плечо молодого табунщика. — Зачем отдал лисиц этому жулику? Я тебя толкаю, моргаю, а ты…
Жайсак остановился и, как будто проснувшись, посмотрел на Шевченко.
— Беда, Тарас-ага! Ибрай умер. Исхак и остальные подались на похороны. А Шаукен ночью родила мальчика.
— Так что же тут ужасного? — удивился Тарас. — Умер Ибрай — так царствие ему небесное. Старый был…
— А мне сейчас нужны деньги. Много денег. А где их взять? Видишь, как ясачный начальник платит за мех? За них в Жаман-Кала Исай-паша, и Мешка-майир, и лысый майир всегда давали мне по красненькой. В Оренбурге больше дают, но как туда мне добраться? От Жаман-Кала три дня ехать, а отсюда…
И Жайсак безнадежно махнул рукой.
Шевченко искренне пожалел молодого табунщика. Но надо было как-то подбодрить его, и Тарас решительно ударил его по плечу:
— Какой ты нетерпеливый!.. Принеси мне завтра двадцать штук. Попробую выручить за них больше: по крайней мере, дешевле, как по десять рублей, не отдам.
Когда Шевченко вернулся в землянку, ни Корсакова, ни его чемоданов там не было.
— Где же наш гость? — спросил он.
— Выгнал, — отрывисто ответил Макшеев и, снова разгораясь, взволнованно заговорил: — Жайсак бьется, как птица в клетке, а этот наглец на нем богатеет! Мало не бросил в него вашу бутылку.
— Искренне говоря, у меня тоже чесались руки выписать ему подорожную на мороз, — засмеялся поэт. — Ну да черт с ним! А вот Жайсаку действительно надо помочь. Денег прислали мне немного, и все же я от себя даю червонец…
— Мне перед отъездом тяжеловато, — признался Макшеев. — Но надо что-то сделать для него общими силами.
— Вот так и мои друзья когда-то сушили себе голову, как меня выкупить у Энгельгардта, — улыбнулся Шевченко, — а потом Брюллов написал портрет поэта Жуковского и его разыграли в лотерее.
— Лотерея? — переспросил Макшеев. — Так это хорошо придумано! Но что бы такое разыграть?
Он глянул на стены землянки, и взгляд его остановился на охотничьем ружье, на которое давно уже с завистью посматривали Поспелов и Истомин. Стоит ли тащить его назад в Оренбург? Ни в дороге, ни там оно ему не понадобится. И вообще, какой из него охотник?
— Разыграем на счастье Жайсака ружье! — радостно произнес он. — Назло этому проходимцу! Оно совсем новенькое. Я отдал за него ровно двести рублей. Вот только не знаю, как организовывают эти лотереи. Помогите, Тарас Григорьевич, вы у нас на все руки мастер.
— Дело несложное. Напишите список всех знакомых косаральцев и раимцев. Пусть каждый оплатит вам стоимость билета и сразу отдаст вам деньги, даже распишется напротив своей фамилии. А потом подготовим билеты. Все будут пустые, а на одном будет надпись: ружье. Пусть все соберутся в ближайший праздник, и каждый вытянет свой билет. У кого окажется билет с надписью «ружье», тот и станет его владельцем.
— Прекрасно, — весело ответил Макшеев и сразу сел писать список участников экспедиции и уральских казаков, страстных охотников.
На другое утро, взяв с собой ружье, как хорошую приманку, Макшеев начал обход. Поспелов с Истоминым сразу взяли по три билета, из матросов позарились на ружье только двое, а вот уральцы почти все залюбовались прекрасным оружием, и билеты пошли нарасхват.
— Эти камыши — настоящий рай для охотников, — говорили они, выплачивая деньги. — Диких уток здесь, гусей, лебедей — видимо-невидимо. А зверей!.. Только успевай набивать и стрелять!
Билетов сделали восемьдесят. По пять рублей каждый. Пообедав, Макшеев приказал оседлать Зорьку и помчался в Раим соблазнить еще и раимцев таким прекрасным выигрышем. Здесь ружье тоже имело успех, а рассказ об охоте на тигра оказал на новичков такое впечатление, что Макшеев вернулся вечером в Кос-Арал, не продав только двух последних билетов.
Тарас тоже зря времени не тратил. Утром Жайсак принес ему двадцать чернобурок, и Шевченко пошел с ними в Раим и прежде всего обошел всех женатых. Жена нового коменданта Дамиса взяла у него две шкурки на воротник манто и на муфту за двадцать пять рублей. У Цыбисовых тоже взяли две. Соблазнилась и Дубовская, и старые девы с лорнетами. Даже маркитант-армянин взял одну большую лису для своей необъятно толстой Аннуш Аршаковны…
Осталось у Тараса двенадцать шкурок, которые он начал понемногу сбывать пылким поклонникам смугленькой Людочки Цыбисовой. Действовал он тонко и дипломатично. Узнав, что через неделю будет день рождения Людочки и ей исполнится двадцать лет, он как будто бы случайно встречал каждого из них и, оставшись с ним один на один, начинал, пряча в глазах лукавые искорки, примерно такой разговор:
— Живем мы с вами, мой дорогой юноша, в такому медвежьем углу, где нельзя приобрести ни одного пристойного подарка для молоденькой симпатичной девушки. Вот на днях исполнится Людочке двадцать лет, а здесь не найдешь ни тонких духов, ни дорогих конфет, ни живых цветов… Случайно попала ко мне чудесная вещь: знакомый киргиз должен немедленно уплатить ясак, а денег нет. Вот он и принес мне такую чудную шкурку. Отдает он ее за бесценок. Роскошный мех! Купите: это же для вас просто находка.
И вытягивал очередную чернобурку. Рыбка безотказно клевала.
— Только об этом никому ни слова, — предупреждал влюбленного Шевченко, — потому что другие могут воспользоваться этой идеей, и пропадет весь эффект.
Так за три дня разошлись все шкурки, и даже в последнюю минуту взял одну из них Макшеев — в подарок жене.
В день рождения Людочки каждый из ее верных рыцарей подарил ей по черно-бурой лисице. Много было по этому поводу смеха и шуток, но ни один поклонник, ни сама Людмила, ни ее родители не имели ничего против такого приплыва роскошного меха. Наоборот: старики сразу поняли, что в большом городе этот мех станет настоящим сокровищем и искренне благодарили Тараса за его выдумку.
В ближайшее воскресенье разыграли и ружье. Выиграл его один из матросов и сразу продал за полста рублей заядлому охотнику Поспелову, а в понедельник, как и договаривались, появился в Кос-Арале Жайсак.
Удивительное оцепенение охватило его, когда он увидел на столе кучу ассигнаций, серебряных, золотых и медных монет. Молча смотрел он то на Макшеева, то на Тараса и не мог вымолвить ни одного звука, ни слова.
— Сколько он с тебя требует ясака? — спрашивал Тарас, наслаждаясь оказанным на юношу впечатлением.
— Полтора рубля, — неживым голосом выдавил из себя наконец Жайсак. — Да еще за прошлый год отец уплатил только половину.
— За мертвых не платят, — заметил Макшеев.
Жайсак покачал головой:
— Ясачный начальник очень требует. «Бить буду», — говорит. Три дня думать дал.
— Да черт с ним, проходимцем! Отдай и за отца. Это будет два с четвертью рубля. Да еще пени с полтины набежит. Считай три рубля.
— Все эти деньги твои, — проговорил Макшеев. — Сейчас мы с тобой их пересчитаем, и неси их домой. Есть у тебя, где их хорошо спрятать?
— Спрятать негде.
— Тогда пусть лучше они остаются здесь. Возьми три рубля на ясак и еще немного.
Только сейчас почувствовал Жайсак сердцем, что и к нему пришло счастье. Не надо больше ни мерзнуть, ни голодать, и будет рядом с ним мечта его души, его прекрасная девушка.
— Ой, майир Макши! Ой, Тарас-ага! Вы два как великие колдуны, — с волнением говорил Жайсак.
Что-то душило его, слезы стояли в очах, а сердце трепетало, как жаворонок над своим гнездом.
— Вы два сделали мне такое, как сам аллах!..
Он стиснул пальцы в кулаки и крепко прижал их к сердцу, как будто боялся, что сердце выскочит из груди. Слов больше не было. Он только молча смотрел на своих друзей. А Макшеев и Тарас, чтобы спрятать и успокоить свое волнение, начали считать его деньги.
По совету своих друзей, Жайсак забрал только три рубля для ясака и еще полсотни для покупки баранов, а шестьсот рублей они спрятали под полом землянки.
Как на крыльях, помчался Жайсак в аул, чтобы и старенькая мать, и, конечно, Кульжан порадовались вместе с ним…
В последний вечер перед отъездом Макшеев долго разговаривал с Тарасом. Вернер рано лег спать и сразу крепко уснул. Да и они уже собирались ложиться, когда Макшеев вдруг встрепенулся:
— Тарас Григорович, а главного я снова чуть не забыл. Сколько раз хотел я вас просить прочитать мне что-нибудь из ваших стихов… Даже как-то удивительно: прожили вместе более полугода, а я до сих пор не знаю, что и как вы писали. Почему вы никогда ничего мне не прочитали?
— Был уверенным, что мои стихи вас не интересуют, — просто ответил Шевченко. — Ведь вы никогда о них не вспоминали.
Макшееву стало неловко.
— Наоборот, они меня очень интересуют, но я думал, что у вас есть определенные причины не вспоминать о них. Но, если все так случилось, исправим это взаимное недоразумение, и прочитайте мне что-нибудь, пожалуйста.
Шевченко помолчал, в мыслях подбирая стихотворения, которые подходили бы для такого случая, и прочитал ему «Реве та стогне Дніпр широкий».
— Здорово написано. Мужественный стих, — похвалил Макшеев, искренне удивленный силой и выразительностью образов. — А еще?
Шевченко прочитал ему разговор часовых из цикла «В каземате», отрывок из «Гайдамаков», недавно законченную «Тытаривну» и несколько небольших стихов. Макшеев слушал очень внимательно.
— Еще! — просил он каждый раз, когда Шевченко умолкал. — Хорошо, — сказал он наконец убежденно. — У вас широкий диапазон тем, оригинальная трактовка, много драматизма в сюжетах. Одно раздражает: почему вы, человек, который так глубоко уважает Пушкина и Лермонтова, все время сбиваетесь с классических хореев и ямбов, на народный, песенный лад либо на силлабический стих?
Шевченко утомленно закрыл глаза: «Этот не поймет. Вот акын — тот понял бы меня. И Кузьмич понимает…»
— Я пишу так, как поет и творит мой родной народ. Прежде всего я — поэт народный, обязан — слышите? — обязан говорить с ним понятным и родным языком и стихом, который его может больше всего взволновать, — неохотно сказал он.
— Да, вы — действительно поэт народный. Этого у вас не отнять. Но у каждого народа есть люди разного… уровня, и для каждого из этих уровней существуют разные формы.
Шевченко не ответил и начал раздеваться. Когда они легли и погасили свет, Макшеев вдруг снова заговорил:
— Я очень рад, что, хотя бы на прощанье, познакомился с вашими стихами. Считаю своей обязанностью сказать, что вы поэт божьей милостью, ну… и волей народа.
Утром Макшеев уехал. Участники экспедиции провели его до Раима и сразу вернулись в Кос-Арал. Теперь землянка осталась в полном распоряжении Вернера и Шевченко. Соскучились они по долгим и искренним разговорам, потому что весь последний месяц Макшеев упорно работал и почти не выпускал из рук рейсфедера либо погружался в свои топографические расчеты, и им приходилось молча читать или что-то делать такое, чтобы ему не мешать. За зиму между Вернером и Шевченко, кроме обычной дружбы, возникло еще одно чувство, которое они назвали «чувством ссыльных», и это чувство мешало им говорить в присутствии свободного человека о своих надеждах и душевных ранах.
Прежде всего набросились они на макшеевские газеты, которые раньше читали, и не раз, но урывками. Снова искали они ответы на сотни вопросов и, в частности, о французской революции, слухи о которой едва сюда доходили. Но тяжело было найти на страницах петербургских газет не то что стоящую статью, но и сухой пересказ таких событий: буквально все вычеркивала бдительная и неумолимая цензура. Да и газеты были очень старыми: январская оказия отправилась из Оренбурга в ноябре, сейчас был март, и они обсуждали события прошедших лета и осени.
В письме Лизогуба были намеки на какие-то чрезвычайные события, но в таком зашифрованном виде, что трудно было что-либо понять. «Новостей много, — писал Лизогуб, — но поскольку все они касаются далеких чужих стран, не буду о них подробно писать. Скажу только, что каждый желает лучшего, но все это проходит не тихо, а под аккомпанемент 24-фунтовых ядер».
Из этой фразы они поняли, что в Париже начались бои…
Они начинали считать дни и часы, когда может прибыть оказия и принести новые письма, газеты и журналы. И, наконец, просто замолчали, удрученные ужасной оторванностью от всего мира.
Вернер часто исчезал, поскольку в землянке не было места для геологической коллекции, с которой он еще не управился, а Тарас снова много писал. Может быть, под влиянием кровавых событий на берегах Сены, снова вспомнил он времена Колиивщины и написал балладу «Швачка», об одном из руководителей тогдашнего крестьянского восстания.
Мысли сменяли одна другую. Начиналась весна. Сердце поэта стремилось туда, на Украину, невольно вспоминались юношеские годы и город Вильно, где познал он, украинец, любовь к полячке. Под влиянием этих воспоминаний и написал он балладу о любви еврейки-красавицы к молодому литовскому графу.
Вспоминалась и она, предательница, Анна Закревская, и снова посвящал ей поэт грустное стихотворение, пряча посвящение под двумя буквами: «Г. З.». И песни писал Шевченко, которые с тех пор уже почти полтора столетия поет украинский народ и часто даже не знает, что это написал их Кобзарь.
Иногда он так углублялся в свои мысли, что забывал, зачем вышел из землянки, куда и зачем собрался идти. Теперь приходилось им с Вернером по очереди вести хозяйство. Пока Макшеев жил с ними, все это делал его денщик, а теперь надо было и по воду пойти, и печь затопить, и пол подмести, и к «камбузу» сбегать за кипятком для чая, и за обедом, и за ужином.
Задумываться Тарасу было над чем. Он знал, что скоро «Константин» поднимет якорь и отправится в свое последнее научное плаванье. До осени будут колыхать его дикие штормы Аральского моря, а потом…
Неужели снова Орская крепость, проклятая казарма, тупой и жестокий Глоба, пьяница-солдафон Мешков?..
Все эти мысли так нервировали Шевченко, что он потерял сон и после бесконечно долгой бессонной ночи вставал с головной болью и покрасневшими веками. Задумался, загрустил Тарас и, глядя на свои крошечные захалявные книжечки, с отчаянием думал, будут ли они когда-нибудь напечатанными, эти скорбные и гневные строчки, или им суждено пожелтеть и рассыпаться на кусочки от ношения за голенищем сапога?
Шевченко снова переболел цингой. Много лет спустя, при воспоминаниях о ночах в Кос-Арале, у него, по собственному признанию, холодело сердце. А тут еще изводили казаки-староверы, несшие в Кос-Арале сторожевую службу. Они приняли Шевченко из-за его бороды за ссыльного раскольничьего попа и преследовали поэта назойливыми выражениями своей почтительности.
Уральские казаки-староверы, увидев среди сошедших с шхуны человека с бородой, как лопата, тотчас смекнули, что это непременно есть мученик за веру. Донесли тотчас своему командиру, и тот пригласил Тараса в камыши и упал перед ним на колени:
— Благословите, батюшка! Мы уже все знаем!
Тарас растерялся, но поняв, в чем дело, хватил казака раскольничьим благословением. Восхищенный есаул облобызал руку Тараса и вечером задал такую пирушку, какая поэту уже давно и во сне не грезилась.
В другой раз уральцы-казаки предложили Тарасу 25 рублей за благословение. От денег Тарас отказался, что было расценено казаками, как беспримерный бескорыстный подвиг, и подвигло их просить поэта отговеться в табуне, в кибитке, по секрету, и, если возможность позволит, причаститься от такого беспримерного пастыря.
Чтобы не нажить себе хлопот с этими седыми наивными людьми, Тарас сбрил бороду и уже аккуратно, каждую неделю два раза, стал ее брить…
Но хуже всего была бессонница. Туманная луна подымалась над Голодной степью — там лежали неведомые страны, откуда Сыр-Дарья несла мутную и мертвую воду.
Шевченко выходил по ночам на палубу и тихо пел любимые украинские песни, — томился, вспоминал об Украине. Слушал эти песни только вахтенный матрос. А пел Шевченко прекрасно. Некоторые из его современников говорят, что талантливость Шевченко якобы ярче всего была выражена не в его стихах и картинах, а в пении старинных запорожских песен.
Трещали камыши, холодная ночь простиралась над миром, и одиночество камнем лежало на сердце. Иногда в такие ночи великий поэт и замуштрованный солдат, преждевременно состарившийся от каторжной муки, плакал, сидя на палубе шхуны, и вытирал глаза рукавом колючей шинели. Плакал о своей недоле, милых друзьях, о заброшенности и беспомощности среди окружавших его казенных людей…
Нечасто видел теперь Бутаков своего художника. Но и он заметил, что Шевченко стал сам не свой. Сначала он подумал, что это случайное настроение, но потом понял, что происходит с поэтом. Надо было позаботиться о его будущем. Но масса тяжелых и неотложных дел по подготовке второго и последнего плавания экспедиции свалились на голову капитан-лейтенанта и надолго лишили его возможности выкроить для Тараса время.
И все же, несмотря на занятость, Бутаков все время думал, как вырвать Шевченко из солдатчины.
Однажды, в свободную минуту, он пошел к землянке, которую все в Кос-Арале по привычке называли макшеевской.
В тот день после бессонной ночи Шевченко переживал наплыв угнетающей грусти. Стиснув голову ладонями, сидел он спиной к дверям и медленно раскачивался, как от сильной мигрени.
— Тарас Григорьевич, что с вами? — подошел к нему Бутаков. — Заболели? Голова? Зубы?
Шевченко вздрогнул, как будто проснулся от тяжелого бреда, с минуту смотрел на Бутакова непонимающе, потом поднялся и подал гостю стул.
— Что с вами? — встревоженно повторил Бутаков. — Случилась неприятность?
— Просто задумался, — ответил Шевченко, полуотвернувшись. — Есть о чем задуматься солдату штрафного линейного батальона…
— Да, конечно… Я как раз зашел к вам поговорить о вашем будущем.
Шевченко молча смотрел на Бутакова, внешне спокойный, только пальцы его судорожно сжимали клочок ненужной газетной бумаги.
— Во-первых, за прекрасную работу художника я представляю вас к унтер-офицерскому званию. Во-вторых, как вам известно, мы скоро пойдем в море, в наше второе и последнее плаванье. Возвратившись, мы сразу отправимся в Оренбург. Ни здесь, ни тем более в море, на борту «Константина», вы не сможете закончить и обработать во всех деталях ваши сепии и акварели. Поэтому я подаю рапорт, чтобы вам разрешили по окончании экспедиции выехать со мной в Оренбург для окончательной обработки ваших рисунков, а также для переноса всех гидрографических зарисовок на гидрографическую карту, когда она будет создана. Потом мы сделаем роскошный альбом либо даже два альбома с вашими рисунками и поднесем их царю. Думаю, они станут основанием для вашего возвращения на родину.
Шевченко молчал. Острая боль прошла огненной иглой сквозь его сердце. Больное, оно задрожало в груди, как перепуганная птица… Что-то тонко зазвенело над ухом, как первый весенний комар, и две прозрачные капли на мгновение затуманили глаза — такие же синие, как синий Арал в безоблачный летний день.
Бутаков все понял. Чтобы не волновать поэта, он быстро поднялся, крепко пожал ему бессильно опущенную на стол руку и взял свою фуражку.
В апреле лейтенант Бутаков обратился к командиру 23-й пехотной дивизии генерал-лейтенанту А. Толмачеву с просьбой после завершения плавания оставить при нем для подведения итогов экспедиции в Оренбурге рядовых Шевченко и Вернера…
Нежно и незаметно зазеленела степь вдоль Сыр-Дарьи. Оглушительный гам бесчисленных стай уток, гусей, лебедей и разных мелких птиц наполнял заросли кустарников и камыша, где устраивали они свои гнезда, а высоко в небе летели и летели на север журавлиные караваны. Вечером оглушительным хором квакали в болотистых озерах лягушки. Все пело о весне, о том, как радостно просыпается от зимнего сна вся природа, о любви и о расцвете земли.
Экспедиция готовилась к выходу в море.
На берегу лежала шхуна «Константин», перевернутая на правый борт. Матросы внимательно осматривали ее днище и бока, просмаливали и конопатили их перед плаваньем. Смола кипела в казане над костром. Желтогорячие языки огня бежали вверх под его закуренным дном, шипели и слизывали с него капли смолы. Тонкий голубоватый дымок таял в воздухе над костром.
Как и в прошлом году, Шевченко сидел на песке под навесом, рисовал и пытался как можно точнее передать яркую цветную гамму этого солнечного весеннего дня.
Разговор с Бутаковым сделал свое. Теперь Тарас понимал, почему матросы так доверяют своему капитану и так надеются на его опыт, знания, считая его слово надежнее всяких официальных обязательств.
В первых числах мая «Константин» и «Николай» с новым капитаном Поспеловым вышли в море. На прощанье «Николай» отсалютовал брейд-вымпелу Бутакова семью пушечными выстрелами. «Константин» ответил таким же салютом — и разошлись корабли по своим синим неизведанным путям: «Николай» — вдоль восточного побережья, а «Константин» направился на юг, огибая с запада многочисленные острова, что тянулись вдоль восточных берегов.
Тяжелым и опасным было это плаванье, и, вместе с тем, нудное и однообразное. Возле восточных берегов совсем не было живописных островов, скал и бухт. Острова были плоскими, песчаными. Иногда они едва поднимались над уровнем моря. Незаметные для глаза и поэтому чрезвычайно опасные мели окружали их и отходили далеко в открытое море предательскими длинными языками, едва прикрытыми водой.
— Ну что здесь рисовать? — сетовал Шевченко. — Как заход солнца отражается в море? Или камыш? Но тогда никто не поверит, что это Арал, а не Ладожское озеро. Ничего характерного! Или эти дюны?.. Одну-единственную акварель сделал за неделю на острове Чиканарал.
— Не волнуйтесь, — успокаивал его Бутаков. — Найдутся еще интересные пейзажи. Не все время будем крутиться в этих мелких протоках. Пойдем в открытое море — еще пожалеем об этих дюнах и мелководье.
День был солнечный и тихий-тихий. На острове Чиканарале топограф Рыбин заканчивал съемку, а Шевченко сложил альбом и пошел бродить вместе с Вернером, пополняя ботаническую коллекцию новыми растениями.
— Из этого куян-суюка казахи делают замечательную желтую краску, — объяснил Вернер. — Надо его засушить…
— Подождите, — вдруг крикнул Шевченко. — Присмотритесь сюда: вокруг нас одни птичьи гнезда. Вот черный баклан кормит рыбой своих птенцов. А это что за пугало?! — остановился он, увидя огромного пеликана. — Ой, какие же у него, или у нее, странные птенцы! Совсем голые и красные, как сырое мясо.
— И как они тяжело дышат, — подхватил Вернер, приближаясь к гнезду.
Пеликаниха зашипела, защелкала клювом, но, наверное, птицы были здесь непуганые, потому что совсем близко подпускали к себе. Это так поразило Шевченко и Вернера, что они замерли на месте. А пеликаниха тем временем вытащила из своей торбочки маленьких рыбок и совала их в раскрытые клювы своих детенышей, искоса наблюдая на всякий случай за странными двуногими.
Они еще долго бродили зарослями и камышами, полными шуршанием крыльев, пронзительных криков и писка птенцов. Вернер взял из гнезд по яичку от каждой птицы — для коллекции, а Шевченко все жалел, что не может за несколько минут нарисовать каждую птицу возле ее гнезда.
Ночь простояли на якоре возле Чиканарала, а утром послали шлюпку с топографом на остров для съемки, когда неожиданно поднялся сильный ветер. Пушечным выстрелом Бутаков приказал шлюпке вернуться на корабль, но уже была такая волна, что матросы не могли подойти к кораблю. Шлюпку вытащили на берег, а «Константин» бросил второй якорь, потому что ветер перешел в шторм.
Море было здесь мелким, волны шли бурунами, загребая воду до самого дна. И каждый раз, взлетев на гребень волны, «Константин» вместе с валом бросался в глубокую яму между двумя водяными горами, готовый разбиться в щепки на почти оголенном дне.
Под одним из мощнейших порывов треснул канат от тяжелого станового якоря-даглиста, и шхуна еще беспорядочнее задергалась на одном меньшем якоре.
— Все наверх! — скомандовал Бутаков, стоя на капитанском мостике.
Марсовый Клюкин, который стал теперь боцманом, засвистел в свою дудку. Вместе со всей командой выскочили на палубу Шевченко с Истоминым.
— Привязывай верп к оборванному канату! — приказал Бутаков.
Все бросились к канатам.
— Бросай верп!
Палуба вставала дыбом, превращаясь в крутую плоскость, на которой чудом удерживались матросы. Пена, брызги, а иногда и сама волна накрывали команду. Во время сильного крена вдруг сорвался гик грот-мачты и с разрушительной силой начал размахиваться над палубою. Каждый такой взмах угрожал снести голову любому, кто попадет под него. Не успел Бутаков скомандовать, как Шевченко бросился навстречу гику, вцепился и повис на нем, толкая его к борту, чтобы снова закрепить его гикашкотом.
— Закрепляй! — крикнул Бутаков.
И матросы уже мчались на помощь смельчаку.
С развеянными ветром гривами шли волны с ревом на крохотный корабль, угрожая ежеминутно разбить его, как игрушку. Ветер выл и сыпал холодным дождем и не менее холодными солеными брызгами. Он срывал гривы волн и мчал их над взбесившимся морем, как мелкий соленый туман, и обсыпал им мокрых, продрогших матросов.
— Задраить люки! — приказал Бутаков.
В блестящем, насквозь промокшем «непромокаемом» пальто и фуражке стоял Бутаков на мостике, крепко вцепившись руками в поручни. Губы его были стиснутыми, лицо стало бледным и суровым. Он понимал, что каждый вал, каждый порыв ветра — это возможная гибель. Но надо было поддержать команду — и ни один мускул не дрогнул на его лице, только громко и сурово звучали короткие слова команды, и это давало уверенность, что смерть пройдет мимо.
Проходили минуты, часы. Буря не затихала: наоборот, казалось, что она усиливается. Шхуну бросало с волны на волну. Темные низкие тучи проносились над головой стаей бесформенных чудовищ и почти касались грот-мачты — такие же лохматые и порванные, как гривы волн. К вечеру они свалили на море шквал ураганной силы с холодным ливнем и градом. Ветер мчал его над морем, как буран. Крупные градины с мелкую сливу били моряков, промокших и замерзших до костей. Только головы их в плотных зюйдвестках не боялись граду, который болезненно бил спину, руки и лицо, как камни.
Как настоящий матрос, Шевченко то крепил канаты, которые едва удерживали запасную шлюпку, то вычерпывал воду, то вязал и подтягивал паруса.
Настала ночь, муторная ночь в штормовом море. Шторм не затихал. Все труднее было удерживать шхуну носом к волне, и не один раз сменял Тарас штурвального, когда затекшие руки матроса отказывались работать.
«Как хорошо, — думал Тарас, — что в прошлом году я в свободное время попросил Парфенова открыть мне тайну штурвала».
В трюме появилась вода. Терм своевременно ее заметил и сразу начал заделывать трещину, которая могла стать началом конца.
Казалось, ночи не будет конца. Стрелки часов как будто примерзли к циферблату. Ужасная усталость валила людей с ног, но они работали, как автоматы, иногда не осознавая, что делают, и механически, но точно выполняли команды.
После полуночи ветер начал менять направление, и на десять часов утра настолько стих, что Бутаков приказал передать на остров топографам, чтобы они возвращались на шхуну. Клюкин начал им сигналить флажками, а часом позже Бутаков приказал всем, кроме вахтенных, отдыхать и сам пошел в кают-компанию и попросил подать сухое белье и стакан горячего чая.
— А вы молодец, — сказал он Тарасу, который взволнованно проверял, не пострадали ли его альбомы. — Оказывается, вы и штурвал успели изучить. Ей-богу, вы молодец! — повторил он, утомленно садясь на койку…
Семнадцать дней уже был «Константин» в море. Запас пресной воды заканчивался. Надо было немедленно его пополнить. Шхуна все время шла на юг, и скоро Бутаков сделал новое географическое открытие. Это были два небольших острова. Первый из них он назвал островом Меншикова, а другой — островом Толмачева. Рыбин сразу начал их топографическую съемку, а матросы принялись копать колодцы. Но вода на обоих островах была горько-соленой, непригодной для питья. Зато нашли прекрасную снеговую воду, что собралась в низине, но успели набрать ее только шесть ведер, поскольку вдруг подул сильный ветер, и шхуне пришлось спасаться от нового шторма за противоположным берегом острова. А потом «Константин» сразу пошел дальше на юг и вскоре приблизился к восточному гирлу Аму-Дарьи в затоке Джалпак. Бутаков с Рыбиным сели в шлюпку и вошли в рукав реки, но с большим удивлением обнаружили, что вода в нем была совсем соленая.
Запас воды на шхуне быстро закончился. Наступила непереносимая жара. Пустыни вокруг этого одинокого моря так раскалились на солнце, что воды Аральского моря не могли ни уменьшить жару, ни увлажнить воздух. Жара и жажда мучили людей. Ни купание, ни обливание не уменьшали их мучений. С отвращением пили они забортную воду, от которой через несколько часов начиналась нестерпимая боль в желудке, а потом понос. Но команда не роптала, только в глазах больных были мука и мольба. Бутаков, сам совсем больной, понял, что надо отложить все дела, чтобы как можно быстрее разыскать пресную воду.
Он уже обошел бродом вместе с Рыбиным всю затоку Джалпак и выявил, что раньше речная вода свободно вливалась в море, но встречные северные ветры, морское течение постепенно забили гирло песком, который выносила в море Аму-Дарья, и во время большого весеннего паводка река, очевидно, где-то прорвала себе другой выход в море.
Бутаков решил немедленно его разыскать. Но снова налетел шторм и пришлось еще несколько дней стоять на двух якорях, а потом шхуна попала в лабиринт мелей, которые вовсе перекрыли ей путь. Едва выбрались они, а муки жажды были уже нестерпимыми. Ни на острове Толмачева, ни на восточном берегу моря пресной воды не было. Половина команды слегла, остальные едва двигались. И фельдшер Истомин предупредил Бутакова, что больные вскоре начнут умирать. Тогда Бутаков махнул рукой на все инструкции и министерские приказы, направился к острову Токмак-Ата и кинул якорь в двух милях от западных гирл Аму-Дарьи. Здесь под защитой острова, что не пускал к реке северного ветра, вода за бортом была почти пресной. Замученные люди пили и не могли напиться этой водой. На другой день желудочная боль и страдания их уменьшились, а на четвертый день все без исключения были на ногах…
Исследование Аральского моря экспедицией Бутакова — со штормами, опасными ситуациями, часто с угрозой жизни для ее участников — продолжалось до середины сентября 1849 года. Все это время Тарас много работал, в основном рисовал. Двадцать второго сентября на шхунах спустили флаги.
Экспедиция была завершена, но огромный объем работы лег на плечи ее участников. Бутаков спешно дочерчивал географическую, гидрографическую и мореплавательную карты Арала, приводил в порядок свои астрономические наблюдения. Истомин с утра до ночи щелкал на счетах, подсчитывая, сколько потрачено провианта, лекарств, одежды… Рыбин проверял топографические данные и чертил топографическую карту островов и берегов.
Много дел было и у Вернера с Шевченко. Они систематизировали, нумеровали и каталогизировали каждый камушек, каждый комок глины, каждую черепашку и окаменелость, потом укладывали их в плоские коробочки и наклеивали на них порядковые номера. После минералогической коллекции взялись за ботаническую и как можно тщательнее следили за растениями, высаженными в горшочки, — как образцы редких представителей пустынной зоны.
— Хотя бы в дороге не вдарил мороз. Тогда все погибнет, — говорил Вернер и с большой тревогой каждое утро смотрел на барометр и термометр.
Настроение у Шевченко и Вернера было чудесное. Вернер был уверен, что если ему дали унтер-офицера на основании прошлогоднего представления Бутакова, то сейчас за выполнение научной работы по ботанике, геологии и, главное, за открытие еще одного месторождения каменного угля его наверняка должны повысить до прапорщика, то есть автоматически снять с него ссылку.
— Немедленно пойду на демиссию, — мечтал он вслух, — и сразу поступлю в один из технологических институтов на востоке от Днепра. Тогда через три-четыре года стану инженером.
— Почему — на востоке от Днепра? — удивился Шевченко.
— Неужели ты, Тарас, забыл, что нам, ляхам, недавно запретили служить в государственных учреждениях и учиться в университетах и институтах западнее Пулковского меридиана?
— Вот черт! Снова забыл, где живу и в какое время, — в сердцах отозвался поэт.
Шевченко очень хотел увидеть Кульжан и Жайсака и узнать, как сложилась их жизнь, но аул откочевал от Раима почти одновременно с выходом в море «Константина», и никому не сказали казахи, где будут кочевать до зимы.
Работая здесь, на Арале, Шевченко душою был далеко. Ему разрешили оставаться вместе с Бутаковым и отправиться с ним в Оренбург. И даже то, что оказии ничего ему не привезли, уже почти не волновало его. Небрежно пересматривал он газеты за последние месяцы.
— Нам надо спешить, — сказал Вернер, — Ведь, когда отдохнет последняя оказия, нам с ней придется возвращаться в Оренбург.
За два дня до отхода оказии Бутаков тепло попрощался с гарнизоном и другими жителями Кос-Арала и Раима и выехал под охраной полсотни яицких казаков вместе с военным инженером, который приезжал для фортификации Раимского укрепления. А Вернер, Рыбин, Шевченко и Поспелов с матросами Балтийского флотского экипажа погрузили на возы оказии все коллекции, имущество и научные материалы экспедиции и теперь ожидали отъезда.
Глава 6. И снова Оренбург
В последнюю ночь Тарасу не спалось. Все вещи давно были упакованы. Оставались только постель да складные походные койки. Вернер долго молча сидел возле стола и смотрел в одну точку, а Шевченко достал свою заповедную книжечку и начал писать. И вдруг ему стало грустно от мысли о том, что он иногда так небрежно и даже презрительно относился к этому Синему морю, к полному величества многоводной Сыр-Дарьи, к Раиму и Кос-Аралу, где жилось ему намного лучше, чем в Орске. Орск! Там где-то Айбупеш… Он ничего о ней не знает. Их обоз будет останавливаться на обратном пути в Орске. Надо будет обязательно посетить юрту Саримбека и увидеть Айбупеш…
Во всяком случае, Шевченко расставался с Аралом как с другом, сохраняя к нему благодарное чувство.
Он многое здесь повидал, многое понял, многому научился. Здесь все относились к нему чутко, уважали в нем не только человека, но и художника, и поэта, и его прощальные стихи невольно отразили эту его грусть.
Готово! Парус распустили; Баркас с байдаркой заскользили Меж камышами в Сыр-Дарью, Плывут по голубой дороге. Прощай же, Кос-Арал убогий! Два года злую грусть мою Ты все же развлекал умело. Спасибо! Сам себя хвали, Что люди и тебя нашли И знали, что с тобою сделать. Прощай, мой друг! Твоей земли Не славлю я, не проклинаю. Быть может, вновь тоску узнаю, Изведанную в этом крае, Но от него уже вдали.И вдруг сердце его стеснила боль — то ли от этой близкой разлуки, то ли от неясного предчувствия нового горя…
— Что же это я раскис, как баба, — промолвил он сам себе вслух, спрятал свою книжечку и начал раздеваться.
Утром Раим вышел провожать мореплавателей. По этому случаю офицеры пригласили накануне Шевченко, Вернера, Истомина и Поспелова пообедать вместе с ними и так понапивались, что едва держались на ногах. Выпили по чарке-другой и матросы с уральцами и пехотой, ощущая, что честно заработали это угощение в жестокой борьбе с ветрами и штормами небольшого, но неспокойного Аральского моря.
Из Раимского укрепления в Оренбург Шевченко вместе с Вернером и другими участниками Аральской экспедиции выехал 10 октября. И когда передовой отряд охраны с двумя пушками двинулся вперед, а за ним потянулись со скрипом возы почты, боцман Калистрат Парфенов вытащил свою гитару, взял звонкий аккорд, и молодые басовитые голоса грянули песню, посвященную Бутакову:
Как по морю да по морю по Аральскому Наш корабль «Константин» в синюю даль летит…Через полторы недели обоз прибыл в Орск. Казаков, матросов и солдат разместили в казарме. Тарас вместе с Вернером и Поспеловым отправились в дом унтера Лаврентьева. Хозяин и вся семья встретили гостей радостными возгласами и пригласили разместиться в их доме, что было с благодарностью принято. Весь вечер, сидя за столом, гости рассказывали о Кос-Арале, о плавании, приключениях. Дети Лаврентьева, уже заметно подросшие, слушали рассказы Тараса и его друзей с широко раскрытыми глазами. Поужинав и выпив бутылку водки, которую Вернер прихватил с собой с последней вечеринки на Кос-Арале, утомленные дорогой, гости быстро уснули.
На следующий день, узнав о дне и часе отъезда из Орска, Тарас предупредил, что ему надо отлучиться, чтобы повидать друзей из местного населения. Он торопился увидеть Айбупеш.
Выйдя за ворота крепости, Тарас пошел вдоль Ори. Сквозь тучи изредка пробивались лучи солнца, и тогда осенняя степь едва оживала в своих блеклых красках. Воздух был чистый, прозрачный и заметно холодный.
В голове Тараса роилось тысяча мыслей о предстоящей встрече с Айбупеш… Вот уже показалась и юрта Саримбека. Шевченко ускорил шаг, сердце готово было выскочить из груди.
На пороге юрты он чуть было не столкнулся с Саримбеком.
— Тарази, — радостно воскликнул Саримбек, — я не верю глазам своим! Проходи в юрту, какое счастье видеть тебя, — говорил Саримбек, обнимая поэта. — Мои женщины будут очень рады.
Они вошли в юрту, и Тарас произнес приветствие:
— Салям!
— Тарази! — почти крикнула Масати, подойдя к Шевченко. — Аллах снова послал тебя к нам.
Тарас заметил, что Айбупеш осталась сидеть на месте, качая детскую колыбель. Ее волшебные глаза загорелись счастливым огнем.
— Здравствуй, Масати! Здравствуй, Айбупеш! — еще раз поздоровался Тарас.
Усадив гостя на почетное место, Саримбек попросил Масати приготовить для гостя чай и что-нибудь к чаю.
— Тарази, аллах услышал мои молитвы и подарил нам сына. Мы его назвали, как ты и просил, тоже Тарази. У меня теперь есть наследник. Я в этом году не стал ездить на Арал, остался дома, чтобы помочь Айбупеш управиться с ребенком. Айбупеш, — обратился он к жене, — покажи сына Тарази.
Айбупеш поднялась, взяла закутанного ребенка на руки и подошла к Тарасу. Тарас глянул на ребенка, и кровь ударила ему в голову: ребенок не был похож на казаха — светлые волосы и светлые глаза. «Это мой сын, — промелькнула в голове Тараса мысль. — Что же теперь будет? Догадывается ли о чем-либо Саримбек? Как быть мне теперь? Любимая Айбупеш, что будем делать?..»
— Айбупеш, дай мне его подержать, — попросил он.
Он взял ребенка на руки, чувствуя его тепло. Ребенок посмотрел на Тараса и неожиданно улыбнулся. Тарас готов был расплакаться, но, приложив неимоверное усилие, сдержался.
Айбупеш стояла рядом и улыбалась счастливой материнской улыбкой.
— Тарази, посмотри, какой растет джигит, акын. Ему только год исполнился. А он уже все понимает, а голос какой — весь аул просыпается от его голоса.
— Поздравляю тебя, Саримбек, — немного смущаясь, сказал Тарас. — Да, это настоящий джигит… Если бы ты согласился, я бы его забрал себе, чтобы дать ему образование…
— Мы тебя очень любим, Тарази… Но это наш сын и он останется с нами… Это наша надежда на продолжение рода. Я много молился, и аллах услышал меня. Отдай ребенка Айбупеш и садись, будем пить чай.
Айбупеш снова уложила ребенка в колыбель и села рядом с Тарасом и Саримбеком.
Масати разлила чай и положила на чистую скатерть большую миску с мясом.
— Угощайся, Тарази, — пригласил Саримбек.
Тарасу хотелось крикнуть: «Это мой ребенок, мой сын!» Но посмотрев в глаза Айбупеш, понял, что он этого не должен делать. Она была счастлива, и это главное для них обоих.
Они сидели, пили чай, Тарас отвечал на их вопросы, рассказывал о Кос-Арале, о друзьях и знакомых Саримбека, о морских приключениях и о том, что завтра он уезжает в Оренбург.
На стене рисунок Тараса немного поистерся, пришлось взять уголь и его немного обновить, что принесло огромное удовлетворение художнику.
Торопясь, он забыл захватить с собой бумагу и краски. А как было бы замечательно нарисовать Айбупеш с ребенком на руках. Настоящая казахская Мадонна! Но он обязательно попытается нарисовать, пусть хоть и по памяти!
Время пролетело незаметно. Надо возвращаться в крепость. Тарас засобирался, прощаясь с хозяевами. Он подошел к колыбели и посмотрел на ребенка. Тот тихо посапывал во сне. Сердце поэта снова затрепетало… Он тяжело вздохнул и направился к выходу.
— Айбупеш, — сказал Саримбек, — проводи Тарази.
И Тарас понял, что Саримбек обо всем догадывается, а может быть, Айбупеш сама ему обо все рассказала.
На пороге юрты они обнялись с Саримбеком.
— Тарази, ты мой брат, ты мой кунак, я всегда буду помнить о тебе. Что бы с тобой не случилось, я всегда буду рад видеть тебя. Моя юрта — твой дом!
— Спасибо тебе, дорогой Саримбек. И ты мой брат! Я виноват перед тобой, но ты не держи на меня зла. Жизнь порой сильнее нас. Мы живем не только умом, но и сердцем.
— Я благодарен тебе, Тарази! Ты мой аллах! Удачной тебе дороги! Возвращайся!
Тарас и Айбупеш пошли в направлении крепости. Какое-то время они шли молча. Потом Айбупеш взяла Тараса за руку.
— Как я счастлива видеть тебя, Тарази, — тихо проговорила она, прижимаясь всем телом к поэту. — Я каждый день плакала и думала о тебе, молила аллаха, чтобы хоть на мгновение увидеть тебя. И аллах смилостивился. Я сегодня такая счастливая…
— Милая Айбупеш, и я много думал о тебе в бессонные ночи… В темноте я представлял твое лицо, твои глаза…
Они остановились, обнялись. Айбупеш целовала его губы, лицо… Оба плакали…
— Айбупеш, любимая! Тебе пора и мне пора в крепость, а то закроют ворота… Береги сына.
— Прощай, Тарази… — сквозь слезы прошептала Айбупеш. — Ты сделал меня счастливой… Спасибо тебе! Я тебя очень люблю и всегда, до последних дней буду помнить о тебе. Я чувствую, что мы больше никогда не увидимся, но ты остаешься навсегда в моем сердце… Прощай!..
Она обняла, поцеловала Тараса и быстрыми шагами направилась к юрте.
Тарас стоял окаменело, пока ее фигура не растаяла в вечерних сумерках…
Придя в крепость, он еще долго не мог ни о чем думать. В его ушах звенел голос Айбупеш, а перед глазами стоял ее образ, на него смотрели ее глаза со слезами счастья…
Обратный переход из Раима в Оренбург был проделан гораздо быстрее: всего за три недели. 2 ноября Шевченко и его спутники уже прибыли в Оренбург.
— Тарас Григорьевич! Дорогой! Неужели это вы?! Глазам своим не верю! — восхищенно восклицал Сергей Левицкий, не выпуская из объятий своего любимого Кобзаря.
— Да ей же богу — я, — весело отвечал Шевченко. — Месяц с гаком ехали.
— Раздевайтесь. Как же я рад! — бросился Левицкий снимать с него худенькое пальто и шляпу. — Замерзли, наверное? Садитесь вот здесь, возле печки.
— Подождите, голубь мой сизокрылый, — остановил его Тарас. — Прежде всего познакомьтесь: это мой друг, штурман дальнего плаванья, капитан шхуны «Николай» Ксенофонт Егорович Поспелов, а это, — повернулся он к Поспелову, — Сергей Левицкий, о котором я вам немало рассказывал.
Левицкий пожал руку симпатичному молодому моряку с загорелым лицом:
— Очень, очень приятно! Садитесь, пожалуйста! Ой, да какой же у нас беспорядок!.. «Типичное холостяцкое логово», как говорит наша хозяйка, — заметался он, пытаясь одним махом превратить «логово» в пристойное человеческое жилище.
Он освободил стулья от газет и бумаг, бросил их в шкаф и подсунул гостям стулья, потом схватил грязные стаканы, бутылку от вина, пепельницу, полную окурков, ткнул все это за дверью Аксинье, бросая радостные выкрики:
— Вот не думал, не ждал! Ну, рассказывайте, как вы там плавали?
— А где же Федор? — спросил Шевченко, осматривая комнату и сразу заметив, что кровать Лазаревского стоит незанятой и слишком уж аккуратно застеленной.
— Он в командировке. Ждал его вчера весь день до поздней ночи. Наверное, сегодня вернется. Между киргизами ссоры и грызня, грабят один другого, отбивая отары, а нам — морочься с их ссорами и рассматривай их жалобы… Где же вы эту ночь ночевали?
— Переночевали с матросами в крепости, а утром в первую очередь побрились, постриглись, в бане хорошо помылись — и прямо к вам, — сказал Шевченко. — Город чужой, в «номерах» паспорт требуют, а какой у меня паспорт, у солдата!.. Вот и пришли, если не выгонишь.
— Прекрасно! Хорошо сделали! — снова сорвался с места Левицкий. — Аксинья! Самовар! И чего-нибудь покушать!
Он быстро сунул служанке в руку несколько медных монет и снова сел напротив гостей.
— Комната у нас, как видите, большая, теплая, а недавно хозяйка наконец согласилась сдать нам и смежную комнату… Вон там двери к ней, за шкафом. Там есть хорошая кровать с пружинным матрацем и диван. Я только ждал Федю, чтобы переселиться. Надо пристойно устроиться: я уже теперь не помощник, а попечитель и чин коллежского асессора имею.
— Молодец! Поздравляю! А Федор?
Левицкий на миг замялся. Не мог же он сказать Шевченко, что Лазаревского вычеркнули из списка рекомендованных на повышение «за чрезмерное и нетактичное подчеркивание дружбы с политическим ссыльным рядовым Тарасом Шевченко», как написал начальник Краевой пограничной комиссии.
— Федя пока что на старой должности, но мы надеемся, что к Новому году и ему улыбнется судьба. Но расскажите, наконец, как вы там плавали и путешествовали. И что нашли интересного? И какие планы на будущее?
— Плавали так, что и сейчас сами себе не верим, что остались живыми. Голодали, умирали от жажды без капли воды. Сидели без дров и грызли заплесневелые сухари с холодной водой. Ели сырую солонину, полную червей, и кашу с заплесневелой крупой, — сдвигая густые брови, говорил Шевченко, а в прищуренных глазах его играла лукавая улыбка.
— Господи! — охнул испуганно Левицкий. — Неужели?! — Он и верил, и не верил, и только переводил растерянный взгляд с Шевченко на Поспелова и с Поспелова на Шевченко.
— Всякое бывает, — улыбнулся и Поспелов. — В плаванье без этого не бывает.
— Но были и чудесные минуты, — продолжал Шевченко, — когда на неведомых просторах вдруг появляются никому не известные острова с горами и лесами, с уютными бухточками и источниками свежей и чистой воды. Ведь было и такое? Было! А вспомните, Ксенофонт Егорович, штильные ночи возле хивинского берега, когда с моря поднималась луна, как будто какой-то фантастический цветок из первобытного хаоса.
— В самом деле, луна какого-то удивительного дымчато-апельсинового оттенка, — дополнил Поспелов. — Да вы сами увидите, это прекрасно передал Тарас Григорьевич в своей картине «Восход луны». Чудное полотно! Только на картине небо ясное, а когда оно немного затуманенное — луна становится вовсе сказочной.
Тем временем Аксинья подала завтрак и свежие, еще теплые калачи, густо запудренные мукой, как будто висячие замки от лабазов, а Левицкий достал бутылку с остатками зубровки. Проголодавшиеся путешественники тщательно заработали челюстями. Утолив голод, Шевченко отодвинул тарелку и спросил:
— Нет ли у вас для меня писем? — А услышав, что нет, загрустил. — Как это?! Неужели с весны ничего не было?!
— Было два письма из Седнева: одно из Яготина и одно из Петербурга.
— Где же они?
— Федя сразу отослал их в Орск Александрийскому, как вы просили.
— Был я по дороге в Орске, зашел к нему, а он поехал куда-то по служебным делам. Где же тогда эти несчастные письма? — нервно размышлял Шевченко. — Неужели он выслал их в Раим?!
Левицкий смущенно двинул плечами.
— Рад бы вам сказать, но ничего не знаю. Да не нервничайте, ради бога, Тарас Григорьевич. Раз вы теперь здесь, на тысячу верст ближе к родине, — напишите всем своим, и через месяц будет вам ответ. Расскажите лучше, как ваши дела, если это не секрет.
При этом Левицкий незаметно указал глазами на Поспелова, как бы спрашивая, можно ли при нем говорить откровенно. Шевченко махнул рукой.
— Судьба моя бурлацкая, — ответил он с горькой улыбкой. — Бутаков представил на унтер-офицера за работу в его экспедиции, но все эти рисунки надо еще закончить. Все они пойдут в Петербург до самого царя. Друзья надеются — возможно, помилует… А пока что буду настойчиво работать. Сегодня воскресенье. Отдохну, а завтра надо появиться у Бутакова. Эх, если бы вы знали, какой это чудесный человек! Правда, Ксенофонт Егорович?
— Да, на редкость скромный, трудолюбивый и сердечный человек, — подхватил и Поспелов.
— Ну, если вам завтра рано вставать, то идите ложиться, выспитесь с дороги, — предложил Левицкий, — а мне надо ненадолго в город. Устраивайтесь, как вам удобнее. Обе кровати в вашем распоряжении, а уже потом займемся переселением.
— Ложитесь, Ксенофонт Егорович, а я почитаю газеты. Ох, как соскучился я по новостям! — сказал Шевченко, бросая в пепельницу окурок. — Но расскажите мне хотя бы коротенько, что сейчас во Франции! — остановил он Левицкого. — Мне Лизогуб писал про их революцию, но еще весной. Расскажите же, что теперь там, в Париже?
— Республика… Там все успокоилось. Но в газетах об этом ничего не найти. Разве что про суды и смертные приговоры руководителям июльского восстания. Впрочем, я не очень следил за этими событиями.
— А в Венгрии?
— Там тоже полыхнуло весной. Но там быстро придушили. Бросили и наши войска под командой Паскевича на помощь австрийскому императору, окружили венгров и заставили капитулировать.
— Ч-черт! — ругнулся Шевченко. — Невесело!
Потом посмотрел на часы и взялся за шляпу.
— Пойду к Герну. Черт с ними, с газетами! Успею начитаться. Завтра стану к работе, а сегодня надо друзей проведать.
— А я действительно лягу спать, — откликнулся Поспелов. — Только не сидите там долго. Неудобно мне в чужом доме самому оставаться, — добавил он, снимая мундир.
Герн сам открыл Шевченко дверь.
— Вот наконец и вы, наш прославленный мореход! — весело приветствовал он поэта. — Я еще вчера вас ждал. Бутаков сказал, что вы должны прибыть с оказией, — говорил Карл Иванович, приглашая гостя в свой кабинет. — Зося пошла глянуть, что там нового в магазинах, и я дома один. Ну, покажитесь, какой же вы.
Его внимательный взгляд сразу схватил и мешки под глазами, и поределые волосы над высоким «сократовским» челом, и мелкие морщины на висках.
— Время идет и оставляет свой след, — сказал он серьезно, — а вообще вид у вас неплохой. Я доволен.
Герн тоже изменился за эти два года. Первая седина заблестела серебром на висках, зачесанных наперед по моде Александра I. Две глубокие морщины прорезали переносицу.
— А вы, Карл Иванович, почему-то невеселый, — обеспокоенно заметил Шевченко.
— Эх, батенька! На службе — интриги, сплетни, подсиживание, — брезгливо отмахнулся Герн. — Надоело! Если бы, кроме этого дома, были хоть какие-то средства, плюнул бы на все и подал бы в отставку.
— Подсиживание? — искренне удивился Тарас. — За что? С какого дива?
— Старая и отвратительная история! Короче говоря, был у нас до Обручева губернатор Перовский, большой друг нынешнего царя, благодаря которому сделал умопомрачительную карьеру. Говорят, это он посоветовал царю выставить четырнадцатого декабря на Сенатскую площадь пушки. Потом Перовский был здесь, в Оренбурге. Восстание киргизов под руководством Исатая Тайманова придушил железом и кровью — реки крови. Немало своих солдат погибло при нем под шпицрутенами. Вообще при нем палачам, казнокрадам и разным темным людишкам жилось как у бога за пазухой, но честных, умных и гуманных офицеров он за любую мелочь мог неделями держать на гауптвахте. Окружил он себя себе подобными, и только лишь из-за позорного хивинского похода, когда погибло много наших, пришлось ему уйти отсюда, а на замену этому типовому сатрапу приехал Обручев.
Все бывшие соратники Перовского при внешнем уважении ненавидят Обручева и всеми возможными и невозможными способами под него подкапываются. Но это нелегко сделать. Прежде всего Обручев человек честный, скромный и порядочный. Он сразу почувствовал, что здесь нет у него опоры, и началась чехарда: кое-кого он убрал, кое-кого отдал под суд, некоторых повысил, чтобы перетащить на свою сторону. И, как всякий администратор, оказавшись в незнакомом окружении, начал перетягивать сюда своих людей — и теперь между обручевцами и перовцами ведется глубокая и непримиримая борьба. Внешне все прекрасно: вежливые приветствия, ласковые улыбки, визиты, поздравления, а в душе — готовы горло перегрызть один другому.
А зацепок для борьбы сколько хотите. Идет борьба за каждую должность, за каждый орден и чин, за каждое повышение. Даже за приглашение на бал, или торжественный банкет или раут. Кто богатее, держится независимо, а вот нам, для кого служба — единственный источник существования, здесь чрезвычайно тяжело… А вообще — черт их всех побери! — закончил Герн, затягиваясь сигарой. — Хватит вам ваших собственных дел и беспокойств. Расскажите лучше, как вам было в Орске и в бутаковской экспедиции.
Шевченко начал свой рассказ с того, как Мешков не понял письма Федяева и Герна. Потом, нарисовав казарменный быт, помянул сердечным словом дочек генерала Исаева, рассказал о своих болезнях, о сочувственном отношении доктора Александрийского, наконец описал путешествие через степь и пустыни, рассказал о первом и втором плаванье, о зимовке в Кос-Арале. Рассказал и о Бутакове, которого полюбил и глубоко уважает.
— Он и на меня оказал хорошее впечатление, — сказал Герн, протягивая Тарасу портсигар.
Шевченко взял сигару, начал разминать между пальцами. Потом, зажегши ее от сигары Герна, спросил:
— Расскажите, что происходит на белом свете. Левицкий говорит, как будто в Париже и в Венгрии все придушено, а поляки утром мне сказали, что в Западной Европе Россию называют мировым жандармом. Название удачное. Но что теперь у нас? В Петербурге? На Украине? На Кавказе? И главное, что в нашей литературе?
— К сожалению, хорошего мало. Вы, наверное, уже знаете о смерти Белинского?
— Как!.. Белинский?! Умер?! Какой ужас! Какая непоправимая утрата! — с искренней болью вскрикнул Шевченко. — Когда же и как это случилось?
— Умер двадцать шестого мая в прошлом году в Петербурге. Одно лишь утешает, что смерть спасла его от каторги за его письмо к Гоголю.
— Какое письмо? Я же ничего не знаю. Расскажите, ради бога, все-все!
— Письмо по поводу последней книги Гоголя «Избранные места из переписки с друзьями».
— Позорная книжонка! — добавил Шевченко. — Но, извините, я вас перебил… Что же писал по этому поводу Белинский?
— Это было не письмо, а уничтожающий приговор за предательство славных традиций нашей передовой литературы и общественной мысли, за мракобесие, за оправдание крепостничества, казнокрадства, ворюг и взяточников. Каждое слово Белинского бичевало и сжигало огнем.
— Но… Неужели его напечатали?
— Конечно нет! Белинский написал его за рубежом, в Зальцбурге, куда врачи послали его лечиться. Это письмо ходило и ходит по рукам в тысячах копий. Белинский призывал к немедленному освобождению крестьян, к всеобщему образованию, говорил о конституции и республиканском строе. Это не письмо, это — «Марсельеза», которая призывает к вооруженной борьбе за свободу, это гимн будущей революции!
— Боже мой! Хотя бы прочитать его! Неужели в Оренбурге нельзя его найти?
— Найти, наверное, можно. Но вам, как политическому ссыльному, чрезвычайно опасно его иметь и даже вспоминать в разговорах, что вы о нем слышали либо читали. Неужели вы также не слышали, что случилось с Петрашевским и всем его кружком?
— Абсолютно ничего. Дорогой Карл Иванович, вы забываете, где я был. Я ж отстал от жизни на целых два года с гаком.
— Вы правы. Так вот этой весной арестовали и его, и всех, кто у него бывал.
— За что? В чем их обвиняют?
— Никому это еще не известно. Ходят разные противоречивые слухи. Но, кроме прочего, все говорят, что у него читали вслух письмо Белинского к Гоголю. И как будто бы они распространяли его в копиях. Суда еще не было. Сидят они в Петропавловской крепости. Все время в Петербурге идут все новые обыски и аресты. Публика в панике. А вообще теперь очень тяжелый и поганый момент. Францию и Венгрию придушили, но в Италии начинается восстание против австрийского ярма. Бунтуют наши мужики. На Кавказе — война с горцами. Все это, вместе взятое, так напугало наше правительство, что оно еще сильнее затянуло петлю на шее несчастной России, и в будущем я не вижу просвета.
Шевченко почувствовал, как будто его пронизал холодный сквозняк. Разве в таких условиях можно надеяться на освобождение? Не таких новостей ожидал он от Герна! Вспомнилось ему, как Момбелли приглашал его к Петрашевскому, на его «пятницы», как рассказывал, что там собираются передовые люди и откровенно обмениваются мыслями о прочитанных книгах, делают доклады, спорят о будущем России… Неужели и он?..
— Карл Иванович, скажите, а кого, кроме самого Петрашевского, арестовали? — спросил Шевченко после долгой паузы.
Герн бросил недокуренную сигару, но сразу снова закурил ее и глубоко затянулся. Чувствовалось, что разговор разволновал и его.
— Запомнил я немного. Взяли молодого писателя Достоевского, Майкова, Момбелли, Спешнева. Еще поэта Плещеева… Кажется, все.
Шевченко грустно склонил голову: знал он и Плещеева.
— Только прошу вас. Даже у меня в доме на эту тему — ни слова! По роду моей службы у меня, кроме друзей, всегда бывает разная публика. А врагов у меня хватает не только откровенных, но и скрытных.
— Похоже на времена «святой инквизиции», когда родители боялись детей, муж — жены, дети — родителей, и все вместе — соседей, знакомых, родственников и друзей.
— Похоже, — согласился и Герн. — Кстати, я разговаривал о вас с Бутаковым. У меня есть свободный флигель во дворе. Там две комнатки, маленькая кухня и сени. Домик деревянный — сухой и теплый. Алексей Иванович говорил, что вам необходимо помещение под мастерскую и жилье. Поселяйтесь у меня. Найдется и кое-какая мебель на чердаке, не новая, правда… Денщику я прикажу ежедневно у вас убираться и печку топить. А завтракать и обедать будете с нами. Жена будет очень вам рада.
— Искренне благодарю, но я уже поселился у Лазаревского с Левицким. Они смертельно обидятся, если я от них уйду. Вот разве что мастерская… Хотя Бутаков собирался разместить меня в помещении штаба.
— Нет там сейчас даже щелки свободной. Поэтому не отказывайтесь заранее от моего предложения. По пословице: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», — тепло засмеялся Герн.
— Хорошо! После мук жажды в Каракумах и на Аральском море чувствую глубокую симпатию ко всем колодцам на свете, — засмеялся и Шевченко.
Как не задерживал Герн Тараса, Шевченко быстро попрощался и поспешил к своим друзьям на Костельную.
Медленно шел Шевченко оренбургскими улицами, погрузившись в невеселые мысли. Новости ошеломили его, и грусть снова проснулась в нем.
Белинский… Петрашевский… Момбелли… И вдруг вспомнилось, что и Макшеев был знаком с Петрашевским и тоже принимал участие в жарких спорах в его кружке о судьбе России и народов Востока. Неужели и здесь, в Оренбурге, вырвет его из жизни когтистая лапа Третьего отдела?! А может, все-таки переезд из столицы в провинцию спасет его от ареста и каторги?
Мысли вихрем кружили в голове. Надо прежде всего успокоиться и обуздать свои нервы. С этого начинал Шевченко всегда, когда душа его была взволнована. Он свернул на безлюдный бульвар, сел на скамейку со сломанной спинкой, изрезанную и поцарапанную ножиками, и долго молча сидел, закрыв глаза.
Острая боль от удара судьбы, который разрывал его сердце первое время, уже утихла. Грубость, грязь и нищета солдатской жизни теперь стали казаться ему не кошмаром, а омерзительной, но привычной деталью…
— Так. Так оно и есть! — сказал Шевченко в голос и поднялся со скамейки.
Поспелов и Левицкий давно ждали Шевченко с обедом. Аксинья раз за разом выбегала на улицу посмотреть, не идет ли Тарас Григорьевич, и переживала, что перестоит приготовленный обед и остынут воскресные пирожки. И только вошел в комнату поэт, как на столе появилась суповая ваза с парующим настоящим украинским борщом и целая гора румяных пирожков.
Не успели они уничтожить и половины поданного, как за окном зазвенели бубенчики и из тарантаса выпрыгнул Федор Лазаревский.
— Федя приехал! — бросился навстречу Левицкий, — Федя, Федя, Тарас Григорьевич вернулся! — кричал он, хватая Лазаревского за плечи, пока Аксинья втягивала чемоданы, портплед, охотничье ружье и пару подстреленных диких уток.
— Неужели?! Вот это сюрприз! Это действительно радость! — подбежал Лазаревский к Тарасу и горячо обнял его. — Наконец! Совсем или временно?
— Не знаю. Пока что поживу, а там увидим.
Лазаревский был все такой же худощавый и гибкий. Он стал шире в плечах, и бородка начала расти по-настоящему, а не реденькими кустиками, почти незаметными раньше на его нежном лице.
— Возмужал, возмужал, — с отцовской теплотой в голосе повторял Шевченко, пока Лазаревский снимал пыльник и драповое пальто.
— Грязный я, как кот, что болтается по чердакам и крышам, — сказал он Шевченко, вопросительно посматривая на Поспелова, который деликатно отошел и стоял в стороне.
Шевченко познакомил их, потом Лазаревский пошел помыться, скоро вернулся в домашнем пиджачке и сел к столу. Глотая подогретый борщ, он торопливо расспрашивал Тараса и несколько раз выбегал из-за стола, то вспомнив, что где-то в коморке есть заветная бутылочка, припрятанная для торжественного случая, то чтобы показать чрезвычайно интересную, на его взгляд, статью.
Понемногу разговор стал общим. У всех на душе было тепло и радостно от этой неожиданной и такой желанной встречи. И Шевченко повеселел. А может, еще-таки повезет и ему? Долго пили чай с ромом и сухим киевским вареньем, потом вместе приступили к «великому переселению народов», как выразился Сергей Левицкий. Отодвинув тяжелый шкаф, в котором было больше старых газет и разного барахла, чем белья и одежды, открыли забитые двери в смежную комнату и начали устраиваться.
Не обошлось и без дружеских споров. Молодые хозяева пытались отдать Шевченко с Поспеловым отдельную комнату, считая, что Тарасу не один раз захочется побыть одному, чтобы писать либо просто отдохнуть и сосредоточиться, а гости твердо стояли на том, что новую, большую комнату надо преобразовать на общую спальню, а первую — на гостиную и столовую.
— Ведь к нам будут приходить люди, — говорил Шевченко. — Нельзя же их принимать в комнате с неубранными кроватями, а так Аксинья приберет ее утром, пока мы еще спим, и комната всегда будет чистою и пристойною.
Спор разгорался. Все перебивали один другого и говорили вместе, а Аксинья стояла посреди хаты с веником и тряпкой и не знала, кого слушать и, главное, что делать. Наконец все охрипли и на миг умолкли. Тогда Шевченко решил захватить инициативу.
— Если так, тогда я завтра переезжаю к Герну. Бутаков нанял у него для меня флигель под жилье и мастерскую. Там две комнаты. Вдвоем с Ксенофонтом нам будет там очень удобно, а вы приходите к нам в гости.
Угроза подействовала. Левицкий с Лазаревским высказались, что будут считать себя смертельно оскорбленными, если дорогие гости их покинут, и сразу согласились разместиться так, как нравится Тарасу Григорьевичу.
— Слушать мою команду! — вдруг крикнул Шевченко, так ловко скопировав боцмана Парфенова, что Поспелов после первой минуты удивления аж присел от смеха. — Диван, трюмо и мягкие кресла тяните в первую комнату, — продолжал он с комичной серьезностью. — Кровати и шкаф — туда. Ломберный столик один сюда, другой — туда, в спальню. Письменный стол — в простенок.
Началась веселая возня. Каждый что-то тянул либо передвигал, а Шевченко пробовал все новые и новые комбинации, чтоб придать жилищу как можно больше уюта и выставить лучшую мебель напоказ, в первую комнату, а старую убрать в темные углы, подальше от чужих глаз. За два часа помещение было не узнать, таким пристойным и уютным оно стало.
Точно в девять утра Шевченко появился у Бутакова в штабе.
— Я думал устроить вашу мастерскую здесь, в штабе, но не вышло, — сразу же сказал Бутаков. — Все помещения заняты, а в общей канцелярии вы не сможете работать: каждый бы заглядывал в ваши альбомы, и вам пришлось бы обязательно носить мундир и ежеминутно подниматься и вставать смирно перед каждым офицером, который вошел бы в комнату. Я нанял для вас флигель у Герна.
— Спасибо, но мы с Ксенофонтом Егоровичем уже поселились у моих друзей Левицкого и Лазаревского.
— Вот как?! Очень хорошо. Живите, где хотите, но флигель берите под мастерскую. У друзей — семейная атмосфера, а в мастерской — тишина и все необходимое для работы. Полностью завершайте ваши рисунки. Дополните мелкими аксессуарами. Мы их наклеим на ватман, сделаем роскошный альбом и пошлем в подарок царю ко дню его тезоименитства шестого декабря, поэтому работайте энергично и быстро.
— Есть! — по-матросски вытянулся Шевченко.
— Я тоже тороплюсь с картами — географической, гидрографической, топографический и мореходной. Хочу еще дать климатическую и живописную, но боюсь — не успею. Готовлю доклад для Географического общества и полное описание Аральского моря для министерства. Работы непочатый край. Если возникнут непредвиденные обстоятельства, приходите ко мне сюда, а еще лучше на квартиру. И не советую вам в цивильном мозолить начальству глаза. Вот мой адрес, — протянул он поэту кусочек бумаги, — и вообще заходите. Привык я ко всем вам за эти два года и, честно говоря, полюбил. Дайте мне и свой адрес, потому что до Герна — не близко.
У Шевченко вздрогнуло сердце.
— Ну, а мы же!.. Если уж так, разрешите мне, дорогой Алексей Иванович, от имени моих земляков, от меня лично и от Поспелова просить вас посетить нас. И я, и Ксенофонт, и весь экипаж… мы полюбили вас, как родного, а глас народа — глас божий.
Бутаков покраснел, смущенно улыбнулся, и просто и тепло поблагодарил за приглашение, потом снова заговорил своим привычным деловым тоном:
— Чтобы вы успели, я прикомандирую к вам на помощь еще одного художника из сосланных поляков. Завтра он к вам придет туда — к Герну. Ну, удачи…
Когда Шевченко уже открыл двери, Бутаков вдруг остановил его.
— Подождите минутку, Тарас Григорьевич. Не знаю, известно ли вам, что весной прошлого года был из Петербурга запрос о вашем поведении, нынешних взглядах и состоянии здоровья. Губернатор Обручев и генерал Федяев спрашивали о вас Мешкова и местных врачей. Для чего был этот запрос, мне неизвестно, но, кажется, кто-то там за вас хлопочет. Так вот Мешков дал на вас прекрасную характеристику, и за подписью здешних начальников ее послали в Петербург. Ответа пока нет. Но важно то, что во врачебных выводах сказано, что вы болеете пороком сердца, а поэтому вас перевели в нестроевые.
— Как это? — не понял Шевченко.
— А так, что, когда бы вам снова довелось вернуться в обычные армейские условия или в поход, — вас не имеют права гонять на строевые ученья, а в походе — в бой. Могут поставить работать в канцелярии, в лазарете, помощником кашевара. А поскольку вы ссыльный и теперь уже работаете как художник, ваша болезнь — это еще один серьезный шанс на помилование.
— Что ж, и за это спасибо судьбе, — грустно улыбнулся поэт…
Софья Ивановна Герн любила общество. Кроме ее земляков, польских ссыльных, к Гернам приходило много знакомых, от старых отставных генералов до молоденьких прапорщиков, которые только-только закончили юнкерскую школу.
Также любила она, чтобы ее считали знатоком и ценителем искусства, хотя на самом деле мало что понимала в нем, и все ее увлечения либо небрежно-высмеивающие высказывания о какой-нибудь книге или пьесе, игре актеров были присвоенными, чужими мыслями. Она хвалила то, что хвалили все, а о чем-нибудь новом избегала разговоров, пока не услышит мысли знатоков. Эти невинные хитрости помогли ей приобрести славу женщины культурной, с тонким вкусом и художественным чутьем.
Услышав, что Шевченко будет работать в их флигельке, она приказала денщику Гурию достать с чердака старенький, но еще совсем пристойный диван, два мягких кресла, несколько стульев и большой стол, на котором удобно разложить рисунки и чертежные доски. Она сама повесила на окна чистые белые занавески, на стол поставила пепельницу и графин с водой, а в крошечной кухне расставила на полках немного посуды, чтобы художник мог напиться чая либо что-то себе поджарить на завтрак.
Шевченко тепло поблагодарил Гернов за заботу и сразу взялся распаковывать свои сокровища.
Герны обедали в четыре часа пополудни. В первый день Шевченко так увлекся работой, что забыл о времени, и Карл Иванович сам пришел пригласить его к столу.
— Как же вы там существовали, в этом первобытном Кос-Арале? — расспрашивала его за столом Софья Ивановна. — На корабле — это понятно, но на зимовке?
— Иногда обедал в форте с нашей пехотой, но чаще — у нас в землянке. Часто ходил в Раим к знакомым или заходил к маркитанту. Ловкий он был человек: и магазин имел, и что-то наподобие столовой, где, конечно, больше выпивали, чем харчевались, но горячую пищу там всегда можно было найти.
— Да, но не задаром же кормил вас этот маркитант? Нужны были деньги?
Тут Шевченко невольно вздохнул, вспомнив, как тяжело ему доставались эти клятые деньги.
— Иногда я рисовал портреты, — сказал он не сразу. — Только людей там немного, а денег у них еще меньше. По червонцу за штуку брал.
— По червонцу? Какой ужас! Ты слышишь, Карл?! По червонцу портрет! Неужели маслом?!
— Конечно, нет. Акварелью, а иногда белилами с тушью на цветной бумаге. Представьте себе, неплохо выходило.
— Все равно это задаром, — повторяла Софья Ивановна. — Ну, тут мы найдем вам заказчиков. И не из бедных. Я сама этим займусь.
— Но не рассказывай, что Тарас Григорьевич вынужден там так дешево брать, — сказал Герн, хорошо зная разговорчивость своей Зоси. — Тут надо действовать по-другому: приехал, дескать, известный петербургский художник. Он закончил Академию художеств по классу знаменитого Брюллова, писал портреты князя и княжны Репниных, княгини Кейкуатовой и многих других. Вот и вам представилась возможность увековечить себя на полотне.
— Да что ты меня учишь! Знаю! — рассердилась Софья Ивановна. — Можете на меня положиться, Тарас Григорьевич: найду вам заказчиков, а пока что давайте вашу тарелку. Эта буженина, кажется, получилась удачно.
Потянулись дни новой жизни. Утром, быстро попив чаю, торопился Тарас в слободку, в свою мастерскую, и почти одновременно с ним приходил туда его помощник Бронислав Залеский, либо, проще, Бронек, друг Вернера, что сразу, с первой встречи, сблизило его с Шевченко.
Залеский был на пять лет младше Шевченко. Сын врача из Вильно, закончив гимназию, поступил в Дерптский университет и на втором курсе стал активным членом тайного студенческого общества. Но общество раскрыли. Залеского арестовали и заслали в Чернигов. Через два года Бронеку разрешили закончить Харьковский университет, а потом он вернулся в Вильно, где работал в одном государственном учреждении. Через некоторое время его снова арестовали и отдали в солдаты в один из линейных батальонов Оренбургского военного округа.
Художником Залеский никогда не был, но любил живопись и учился рисовать еще со школьной скамьи. Упорный и настойчивый, он стал прекрасным копиистом. У него хорошо получались сложные орнаменты, маски и головы. Он точно улавливал контурные линии и затушевывал тени так мягко и ровно, как будто работал не карандашом, а тушью и кистью, но ни композиция, ни колорит ему не удавались. И он просто признался в этом Шевченко, поэтому Тарас сразу начал широко пользоваться его помощью при обработке графических деталей, а все более сложные работы, которые требовали творческого взлета, делал сам.
Работали они в основном молча. Шевченко едва слышно напевал какую-нибудь песенку, но иногда они устало бросали кисти и карандаши и неожиданно начинали долгий искренний разговор, в котором каждый находил отзвук своих собственных переживаний, и теплую грусть воспоминаний, и боль за свою разбитую жизнь и смелые надежды.
Первые дни Шевченко больше расспрашивал Бронека о жизни в Оренбурге, о других ссыльных…
Вечерами Шевченко и Поспелов сидели дома. Поспелов играл в шахматы с Левицким, или рассказывал о своих кругосветных путешествиях. Шевченко много читал. Он снова стал посещать городскую библиотеку, где можно было познакомиться с почти свежими литературными новинками и журналами. Иногда он читал что-нибудь интересное вслух, а потом начинали обсуждать прочитанное.
Заходил к ним Герн. А потом к ним зачастил и Бутаков, у которого совсем не было в Оренбурге знакомых. Он чувствовал себя здесь человеком, который оказался в чужом окружении, и только в гостеприимном кругу своих бывших помощников отдыхал душой. Его тянуло к веселой и дружной молодежи, а когда иногда в шкафу обнаруживалась припрятанная на вечер бутылка вина, тогда начинал и он шутить, смеяться, вспоминать разные смешные случаи из своей и чужой жизни.
Немало смеху было, когда Тарас рассказал, как однажды зазвал его в густые камыши есаул Чорторогов, приняв его из-за бороды за попа раскольников, бухнулся перед ним на колени, и начал просить благословения, и совал ему в руку ассигнацию стоимостью в двадцать пять рублей «на молитвы».
— Эх, вы! — смеялся Бутаков. — Надо было не разочаровывать его и взять деньги как штраф за дурость. Эти деньги не один раз вам помогли бы!
— Не догадался, — с забавной жалостью вздохнул Шевченко. Новый взрыв смеха покрыл его слова.
Когда не было гостей, расходились в десять часов, и молодежь сразу засыпала крепким здоровым сном, но еще долго светились окна первой комнаты дома, и, если бы кто заглянул в щелку оконницы, увидел бы он низко склоненную над книгой голову Шевченко. Читал жадно: кроме стихов, романов и рассказов, внимательно изучал и научные статьи, и критику, следил за международной политикой и не оставлял неразрезанным ни одного раздела толстых ежемесячников. Почти выучил он и рецензию на «Космос» Гумбольдта, интересовался попытками изобрести электрическую лампочку для освещения и даже попросил у библиотекаря учебник физики, считая необходимым ознакомиться и с этой наукой.
В один из первых дней своего пребывания в Оренбурге Шевченко написал Лизогубу и попросил его подробно рассказать о жизни на Украине, обо всех общих знакомых и о судьбе кирилло-мефодиевских братьев. О себе он написал: «Возвратился я из киргизской степи, с Аральского моря — в Оренбург… Я жив, здоров и, если не слишком счастлив, то по крайней мере весел».
Тогда же Лазаревский отдал ему письмо Варвары Репниной, которое он получил для Шевченко, когда поэт был в экспедиции. В этом письме княжна умоляла Лазаревского сообщить ей, где Тарас и что он о нем знает.
Это письмо глубоко взволновало поэта: где-то существует горячее женское сердце, которое страдает его страданиями и грустит его грустью. В тот же день написал ей большое письмо, благодарил за память: «Добрый и единый друг мой! Обо мне никто не знал, где я прожил эти полтора года, я ни с кем не переписывался, потому что не было возможности: почта ежели и ходит через степь, то два раза в год, а мне всегда в это время не случалось бывать в укреплении, вот причина!..
Не много прошло времени, а как много изменилось, по крайней мере со мною! Вы бы уже во мне не узнали прежнего глупо восторженного поэта, нет, я теперь стал слишком благоразумен… Я сам удивляюсь моему превращению: у меня теперь почти нет ни грусти, ни радости, зато есть мир душевный, моральное спокойствие…»
Дописав письмо, он положил перо и задумался.
— Отошлю ей свой автопортрет, завтра же дорисую его и отошлю. Пусть посмотрит, каким я стал, — сказал он себе…
Софья Ивановна сдержала слово. Не прошло и недели после их разговора, как прибежал до Тараса денщик Гурий:
— Идите, Тарас Григорьевич, госпожа зовет. И сказали, чтобы вы взяли с собой краски и на чем рисовать.
Шевченко вытер руки, показал Бронеку, что дальше делать, и пошел в головной дом.
— Вот и он, — встретила его Софья Ивановна. — Знакомьтесь: Николай Григорьевич Исаев, наш хороший знакомый, — Тарас Григорьевич Шевченко, художник.
— Не родственник умершего генерала Исаева? — спросил Шевченко, пожав руку прапорщику.
— Однофамилец, — лаконично ответил офицер. — Извините, что оторвал вас от срочной работы, но я хотел бы заказать вам свой портрет.
— Пожалуйста. Маслом или акварелью?
— Пока что акварелью, но после Нового года — я ожидаю на Новый год повышения — закажу другой, масляными красками в полный рост.
— А сейчас альбомный формат вас устроит?
— Вполне.
— Тогда прошу ко мне в мастерскую.
Прапорщик замялся.
— Нет, это неудобно… Лучше было бы позировать здесь, конечно, если Софья Ивановна не против.
Хозяйка была не против, только предложила перейти к ней в будуар, чтобы не помешали художнику неожиданные гости.
— Чудесно! — поднялся Исаев.
И пошел вперед, как человек, что знает здесь каждый угол. Он сел в низенькое кресло, оббитое розовым плюшем с темно-зелеными вензелями.
— А сколько с меня за эту акварель? — небрежно спросил он, пока Шевченко приспускал шторы на боковом окне, чтобы выровнять освещение.
— Три червонца, — решительно сказал Шевченко.
— Гм!.. Дороговато, — немного скривился Исаев. — Ну что же, я согласен, хотя вы могли бы немного поступиться, потому что у меня много знакомых и многим из них, особенно дамам, захочется увековечить на полотне свою молодость и красоту.
Шевченко промолчал, раскрыл коробку с красками, налил в стакан чистой воды и начал работать.
Офицер был молоденький, красивый и аккуратный. Всем своим видом подчеркивал, что он столичная особа, жуир, бретер и сердцеед, и как бы между прочим попросил художника подчеркнуть в позе военную выправку.
— «Военный хотел, чтобы виден был Марс», — улыбнувшись, процитировал Шевченко Гоголя.
Поправляя кистью тени и обернувшись на голос хозяйки, он неожиданно зацепил переносицу начатого портрета. Тоненькая, едва заметная черточка от этого касания кисти легла на портрет, но от нее выражение лица Исаева вдруг стало грубее, чем в действительности. Шевченко это сразу заметил и потянулся кистью исправить, но голос Софьи Ивановны его остановил:
— Ах, как это красиво! Посмотрите, cher Nicolas. Какой вы здесь суровый воин, герой!
— Это случайно. Зацепил кистью… — начал было Шевченко.
Но Исаев уже увидел:
— Так! Прекрасно! Нет, нет: не трогайте! Это как раз то, что я говорил. Прекрасная, талантливая работа!
«Военный хотел, чтобы виден был Марс», — второй раз, но уже про себя процитировал Шевченко и вдруг понял, что этот прапорщик никогда не читал Гоголя. И, наверное, вообще никогда и ничего не читает, кроме порнографических стихов Баркова, некоторых модных романов и воинских уставов.
— Понятно, — откликнулся Исаев. — Каждый желает, чтобы был схвачен его… как бы это выразиться… внутренний дух. А мне, как патриоту, как офицеру, как фундаменту, на котором держится трон нашего наияснейшего монарха, естественно, чтобы это отразилось на моих чертах.
— Хорошо. Пусть остается, — спокойно ответил Шевченко, которому тоже вдруг захотелось оставить и даже еще усилить эту черточку, эту гадкую «суть», которую Исаев сам так ярко высказал.
Он поработал еще с час и положил кисть.
— На сегодня достаточно. Устал. Итак, завтра в то же время?
— Если хотите, отложим до завтра, — согласился и прапорщик.
На третий день портрет был готов. Исаев был в бурном восторге — сразу заплатил Тарасу все деньги, больше не пытался торговаться, а через три дня ливрейный лакей принес Шевченку надушенное письмо на дорогой бумаге сиреневого цвета с выбитым золотым гербом от жены генерал-квартирмейстера войск Оренбургского края баронессы Бларамберг.
Баронесса приглашала Тараса заглянуть к ней на следующий день в первом часу пополудни. Она хотела бы иметь портрет кисти господина Шевченко.
— Хорошо, передайте баронессе, что буду, — ответил Тарас, прочитав письмо, и снова наклонился над своей работой, и до сумерек не бросал кисти, потому что Бутаков нервничал и просил как можно быстрее закончить роботу с материалами экспедиции.
— Просто не знаю, в чем к ней идти, — жаловался вечером Шевченко Лазаревскому, показывая ему письмо баронессы. — Не в старом же перелицованном фраке.
— А ты поговори с нашей домовладелицей Кутиной. Во-первых, два года тому назад ты обещал ей нарисовать портрет ее умершего мужа, а во-вторых, как уверяет Аксинья, она ничего не продала из его вещей. Два года смотрела на них, пересыпала табаком и нафталином, умываясь слезами, а теперь замкнула шкаф. Может быть, она тебя выручит.
Кутина приветливо встретила своего знаменитого постояльца и сразу начала его угощать кофе со сливками и сладкими булочками, расспрашивая, как он там плавал, и ахала, и охала, когда Тарас рассказывал ей о бурях. Потом, вытирая платочком совершенно сухие глаза и по привычке вздыхая, показала ему дагерротип, с которого думала заказать портрет, и добавила, что просит Тараса Григорьевича нарисовать и ее портрет, чтобы повесить их в золотых рамах рядом «для украшения помещения».
— Через десять дней я закончу работу над материалами экспедиции и смогу работать над вашим заказом несколько дней без перерыва, — сказал Шевченко. — Каждый художник, даже такой, что не учился в академии, берет не меньше трехсот рублей за портрет. Дайте мне пристойную сюртучную пару, костюм на каждый день, теплое пальто на зиму, и будем считать, что вы рассчитались.
Кутина обрадовалась неимоверно. Она хорошо знала, что за новый черный сюртук, который стоил сто рублей, никто не даст больше двадцати пяти, а татарин-мусорщик еще меньше. Так же и за другие уже поношенные вещи. Таким образом, два портрета обойдутся ей намного дешевле, чем людям.
Она повела Тараса в спальню и открыла огромный гардероб, откуда повеяло тяжелым духом табака, нафталина и пропотевшей одежды, и вывалила на стол сюртуки, пиджачные костюмы, поддевки, теплое пальто и медвежью шубу.
— Фрака, извините, нет, — говорила Кутина, — он у меня в большой фирме главным бухгалтером служил и в торжественные дни сюртук надевал, как среди купечества водится. Вот самый новый. Три раза он его надевал. Думала в нем хоронить, да родные отговорили: говорят, сюртук — одежда немецкая. В поддевке схоронили.
Сюртук был тонкого английского сукна и сидел на Тарасе неплохо. Надо было только немного укоротить рукава и переставить пуговицы, за что сразу взялась Аксинья. Пальто тоже было совсем пристойным, на шерстяной вате, с каракулевым воротником. Тарас был доволен.
— Ну, хорошо. В сюртуке вы пойдете договариваться с этой баронессой, а работать у нее в чем и ходить каждый день? Краски очень липкие. Недолго и вымазаться: и сюртук пропадет, потому что краски растирают маслом, а масло никакими способами не вывести. Может, у вас, художников, есть особенная форма для работы? — расспрашивала Кутина.
— Столичные художники у себя дома работают в широких бархатных или суконных куртках. Так и заказчиков принимают, но, если приходится писать большое полотно, как вот эта стена, либо разрисовывать церковь или дворец, тогда они, как маляры, надевают длинные халаты из парусины, потому что тогда от пятен и краски не спастись.
Кутина на мгновение задумалась, потом бросилась к шкафу.
— Подождите! От мужа остался новенький бархатный халат. Возьмите его, да и пошейте себе из него куртку.
— Да бог с вами, Мария Степановна! Мне дыхнуть некогда. Стану я еще швею искать! Старенький сюртук возьму или пиджачный костюм, а без куртки обойдусь.
— А вы не отказывайтесь, когда вам от души дают! Дам и костюм… Завтра праздник. Бог меня простит: согрешу, не пойду в церковь, поведу вас к местной мадам, к Терезе Робертовне. Дадите пятерку, и она вам за три дня прекрасную куртку сошьет, да еще и по фасону, который вы ей закажете. Иначе наши пани увидят, что у вас одежда не та… и будут платить меньше за работу. Надо настоящую цену с них брать. Это же коммерция!
Последний аргумент сломал колебания Шевченко, и на другое утро он пошел вместе с Кутиной к швее-француженке, которая сразу сняла с него мерку и сказала зайти примерять куртку на другой день вечером.
Во время снятия мерки Терезе Робертовне помогала молодая девушка, с черными волосами и карими глазами. Она поразила Тараса своей свежестью и красотой, напомнила ему Украину, украинских девушек… Он даже подумал: «Не с Украины ли эта дивчина?»
Тарас с восхищением смотрел на девушку, и она это заметила, смутившись.
Когда они вышли от швеи, Шевченко спросил Кутину:
— А что это за девушка такая, смуглявая, что коробку с булавками принесла, когда с меня мерку снимали? — спросил Тарас.
— А это помощница ее, Забаржада, татарка. Вдова. В прошлом году умер от холеры ее муж. Из Крыма она, а он был казанский. Обобрали бедную родственники мужа. Тереза Робертовна, можно сказать, на улице ее подобрала голодную. Теперь она у Терезы вышивальщица. За Терезой как собачка бегает. Тереза ей и паспорт выправила, и живет она у Терезы как своя.
— Та-ак, — протянул Шевченко и начал прощаться со своей говорливой спутницей, видя, что время собираться к баронессе.
И вдруг остановился.
— А вы бы смогли когда-нибудь пригласить их к нам, Мария Степановна: и Терезу, и помощницу. Я бы ее нарисовал, эту татарку. Уж больно она красивая и стройная: так и просится на картину.
— Какой вы, однако, Тарас Григорьевич, все заметили! Вы правы, Забаржада очень красивая и очень несчастная. А какая у нее душа!.. Чистый ангел!.. Приглашу, почему не пригласить…
Забаржада запала в душу поэта, зажгла тот огонь знакомого чувства, которое всегда вызывало волнение в сердце поэта. Лежа в постели с закрытыми глазами, он вдруг ясно увидел глаза этой девушки, которые так обожгли его… «Как бы увидеть еще ее, поговорить…» — подумал Тарас, засыпая…
И он вскоре увидел ее, выходящую из мечети. Сердце Шевченко затрепетало.
— Здравствуйте, — сказал он, подойдя ближе. — Извините, вы меня, наверное, не узнали? — спросил он немного дрожащим голосом, почему-то смутившись.
Девушка посмотрела на Тараса своими чудными глазами:
— Нет, я вас помню. Вы приходили к Терезе Робертовне заказывать, кажется, куртку.
— Да, это я! У вас замечательная память. Давайте знакомиться… Меня зовут Тарас… Я ссыльный художник, с Украины. Ну, а вас зовут Забаржада, и вы из Крыма…
— Так вы уже все знаете обо мне…
— Честно вам признаюсь — когда вас увидел, на меня повеяло родной Украиной. Я был очарован всем вашим видом, от которого исходило что-то близкое и родное…
Девушка смутилась от такого признания и подняла на Тараса глаза. В них светилось любопытство и немой вопрос.
— Вы извините меня, — продолжал Тарас, — за эту дерзость, но я почему-то не в силах себя сдержать.
— Мне кажется, вы преувеличиваете мои достоинства. Я обыкновенная женщина, не очень счастливая, недавно потеряла мужа…
— Я тоже не могу похвастаться судьбой ссыльного, отданного в солдаты… Может быть моя душа и встрепенулась оттого, что почувствовала родственную душу. Разрешите, я провожу вас домой.
Дойдя до дома Терезы Робертовны, они еще долго не расставались, делясь воспоминаниями. Они почувствовали какую-то особую тягу и интерес друг к другу. Прощаясь, Тарас и Забаржада договорились встречаться в свободное время. С этих пор Шевченко часто видели в компании с красавицей-татаркой…
Баронесса Бларамберг встретила Шевченко приветливо, пригласила в свой будуар и начала подробно расспрашивать его, когда он заканчивал академию, какие его полотна были на выставках, чьи портреты он писал. Походя обратила внимание, что знакома с Венециановым, с Щедриным, знает Тропинина — «такого же самородка, как и вы», добавила она и начала увлеченно говорить об итальянских пейзажах Щедрина. Вообще выявилось, что она любит и знает искусство, и Шевченко вдруг стало приятно думать, что дважды на неделе он сможет подолгу разговаривать с ней обо всем, таким дорогим ему, как художнику.
Она заказала ему поясной портрет масляными красками в натуральную величину. Потом перешли к тому, что для него было, наверное, самым важным: в чем позировать.
Горничная принесла целую гору юбок и костюмов разного цвета, фасону и назначения — от роскошных утренних пеньюаров из легкой полупрозрачной белой шерсти или шелка с дорогим шантильским, брюссельским или алансонским кружевом и тяжелым гипюром для элегантной амазонки из темно-синего английского сукна и от парчового бального туалета, обработанного мехом соболя, до траурной юбки, какую носила она в прошлом году после смерти матери.
Каждый туалет Шевченко осматривал и набрасывал на плечи баронессе, чтобы увидеть, как он оттеняет и какой бросает свет на лицо, потом из всех отобранных, принимая во внимание цвет, надо было сделать окончательный выбор. Баронесса на две-три минуты исчезала в соседнюю комнату и появлялась к художнику в одном из отобранных туалетов, садилась к окну или на диван, пока горничная держала перед ней большое зеркало, а Шевченко присматривался к ней, как к будущей модели.
Больше всего понравилось ей черное бархатное платье с большим декольте и строгая синяя амазонка. Баронесса колебалась.
— Но в амазонке надо позировать на воздухе, где-то на крыльце, на веранде или в аллее парка, а сейчас ноябрь, заморозки. Я замерзну. А она мне так подходит…
— Тогда остается либо отложить рисование до весны, либо сейчас позировать в черном, а весной, если моя работа вам понравится, писать вас повторно на вольном воздухе, в амазонке, даже с лошадью, как рисовал Брюллов сестер Шишмаревых, свою «Всадницу» и других дам.
— Чудесная идея! — воскликнула баронесса, обрадовавшись. — Согласна! Пишите меня теперь в черном, а весной напишите с моею Ночкой. Она такая красавица, моя любимая лошадка! Как моделью, вы будете ею вполне довольны.
С предчувствием новой и оригинальной работы он договорился о своем гонораре, дне и часах сеансов и попрощался с баронессой…
Как не торопился Бутаков с работой, он видел, что раньше, чем к Новому году, материалы его экспедиции не попадут в столицу, но сдать работу неаккуратной либо недоделанной он не мог — это означало бы самому зачеркнуть всю научную ценность двухгодичной настойчивой работы, дорогой и любимой. Поэтому он и сам работал чуть не по двадцать часов в сутки и все время торопил Шевченко с Залеским.
Понимая, что все их будущее зависит от качества их работы, они не протестовали и только удваивали свои усилия. Днем, при солнечном свете, они выполняли основную работу, а всякое художественное оформление и надписи на картах и черчениях — исполняли теперь при свечах, засиживаясь до полуночи, и тогда оставались ночевать в мастерской. Поэтому Герн приказал поставить им туда кровати. А две последних недели они и вовсе не выходили из мастерской. Портреты Кутиной, ее покойного мужа и баронессы пришлось отложить, а, чтобы баронесса не нервничала, Герн лично заехал к ней подтвердить обещание Тараса Григорьевича, что портрет будет закончен к Новому году.
Все пейзажи степи, укреплений, могил батыров и речек, берегов Аральского моря с его островами и прибрежными скалами наклеили на ватман и отдали оправить в роскошный альбом с обложкой из тисненой кожи с бронзовыми застежками и пластиной, на которой Тарас нарисовал масляными красками маленький морской пейзаж, наподобие медальона, от чего альбом стал еще роскошнее.
Двенадцатого декабря участники экспедиции наконец торжественно сдали материалы военному губернатору Обручеву.
Вместе с альбомом Бутаков сдавал большой хозяйственный и научный отчет экспедиции, а также географические, топографические, геологические, гидрологические и мореходные карты изученного и обследованного моря, его островов и берегов. Несколько солдат несли ящики с запакованными и готовыми к отправке в столицу коллекциями. Вернер и Шевченко сопровождали их.
В большом кабинете военного губернатора был, кроме Герна, дежурный адъютант. Два ординарца стояли возле дверей.
Все принесенное, кроме ящиков с коллекциями, сложенных в углу, разложили на большом столе для заседаний военного совета справа от письменного стола. Карты экспедиции имели прекрасный вид — украшенные художественным орнаментом с аккуратными графическими надписями в старорусском стиле, киноварью и золотом. Особенно хорошо была оформлена гидрографическая карта, где на контуре каждого острова был миниатюрный пейзаж или даже несколько пейзажей этого острова, его гор и берегов.
Разложивши все принесенное, Бутаков, штурман Поспелов, Вернер и Шевченко — все в парадных мундирах — теперь стояли в стороне и нетерпеливо посматривали на маленькие внутренние двери возле письменного стола, над которым возвышался огромный, в полтора натурального роста, портрет царя. Дежурный адъютант исчез за этими дверьми, пошел сообщить губернатору, что участники экспедиции ждут его.
— Почему нет с нами Макшеева? Ведь он здесь, в Оренбурге? — тихо спросил Шевченко.
— Я заходил к нему, приглашал. Он ответил, что был в экспедиции случайной и эпизодичной фигурой и ему неудобно, — лаконично ответил Бутаков.
В этот момент на дверях вздрогнула портьера. В кабинет быстро вошел маленький худощавый старый генерал в неновом мундире без орденов. Все вытянулись. Бутаков сделал несколько шагов вперед и отдал по-военному рапорт.
— В соответствии с распоряжением вашего превосходительства участники описательной экспедиции Аральского моря явились с готовыми картами, зарисовками пейзажей, отчетами и всеми другими материалами, а также собранными там научными коллекциями.
— Вольно! — скомандовал генерал по-дружески пожал руку Бутакову. — Очень рад, дорогой Алексей Иванович, что вам удалось своевременно и так блестяще и продуктивно закончить вашу экспедицию. Это большой вклад в нашу отечественную науку, и это вклад, как говорил наш Ломоносов, еще раз блестяще показывает,
Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать.Бутаков молча поклонился, потом обернулся на своих спутников, чтобы официально отрекомендовать их начальству, но генерал сам подошел к ним.
— Здравствуйте, господа. Рад приветствовать вас и поздравить с завершением вашего большого и полезного дела. Алексей Иванович, познакомьте меня с ними.
— Штурман дальнего плаванья Балтийского военно-морского флота прапорщик Поспелов Ксенофонт Егорович, — представил Бутаков молодого моряка.
Генерал запросто, приветливо и крепко пожал руку Поспелову.
— Томас Антонович Вернер, унтер-офицер 1-го батальона Оренбургского особенного линейного корпуса, — продолжал Бутаков. — Геолог нашей экспедиции, минеролог, ботаник и ихтиолог, энтомолог и так далее.
Вопреки всем войсковым уставам, генерал крепко пожал руку и Вернеру.
— А кто же рисовал эти чудные пейзажи? — вел далее генерал, подходя к столу с разложенными на нем картами, черчениями, альбомом и несколькими картинами, которые не попали из-за формата в альбом.
— Разрешите представить вашему превосходительству автора этой красоты, нашего талантливого художника, рядового 5-го линейного батальона Тараса Григорьевича Шевченко, бывшего классного художника российской императорской Академии художеств и… бывшего преподавателя рисования Киевского университета святого Владимира, — едва заметно запнулся Бутаков.
Шевченко стоял, вытянувшись перед генералом, и, как требует устав, «ел глазами начальство», но генерал просто протянул ему руку и вежливо сказал:
— Очень рад познакомиться! Да, мало у нас в Оренбурге талантливых представителей искусства. Но мне говорили, что вы еще, кроме того, и известный поэт. Покажите мне, пожалуйста, вашу работу.
Шевченко подошел к столу и, раскрывши альбом, начал показывать сначала пейзажи степи и новых фортов на пути экспедиции, коротенько объясняя генералу, с какой стороны они нарисованы, где главные валы и траншеи. Но потом увлекся, начал рассказывать о природе степи, об Арале, о скалах его побережья, об островах, мелях и рифах, о неожиданных бурях и шквалах. Он и не заметил, что рассказывает уже больше получаса.
Потом Обручев еще долго расспрашивал Бутакова и его спутников о разных деталях экспедиции и наконец сказал:
— Должен высказать вам, Алексей Иванович, и всем другим участникам экспедиции свою благодарность за отличную работу и считаю за свою обязанность хлопотать перед государем императором и военным министерством о награждении вас соответствующими наградами и о дальнейшем повышении вас в звании. А также о смягчении вашей судьбы, — добавил он, обращаясь к Шевченко и Вернеру.
Солнце сияло в душе обоих ссыльных, когда они выходили из губернаторского дворца. А Герн тем временем говорил Бутакову:
— Ну, теперь будет сидеть наш генерал над списками тех, кого он представляет к новогодним наградам, повышений и новых назначений. Ох, и интриг же сплетается всегда вокруг таких списков!..
Бутаков только молча сочувственно покачал головой и направился за своими помощниками.
— А теперь пошли к нам, на Костельную, — сказал Тарас. — Сегодня день рождения Сергея Левицкого. Попразднуем! Ведь сегодня впервые неясные надежды на будущее облегчение набрало для меня и Томаса более-менее реальные формы. Только не надо об этом говорить даже Левицкому с Лазаревским. Я становлюсь суеверным: боюсь, что подслушает меня моя несчастливая судьба и снова разрушит мои надежды.
Дорогой купили вина, закусок, конфет, и, нагруженные пакетами, весело ввалились в свое холостяцкое жилище, убрали его и приготовили праздничный стол. В восемь часов пришли гости Левицкого: двое товарищей по службе с женами, Кутина с родственницей, две классные дамы-черниговки, Вернер и Бронек Залеский. И все, как водится, с подарками.
Сначала пили чай, потом Кутина принесла свой органопан — музыкальную шкатулку, в которую вставлялись большие круглые пластинки бристольного картона со многими дырочками и потом надо было крутить ручку, как у шарманки. Начались танцы. Танцевали все. Даже Тарас прошелся с Кутиной в мазурке. Пластинок было много. Нашли и с гопаком.
— Браво! — зааплодировали женщины. — Мы не успокоимся, пока Тарас Григорьевич не спляшет с именинником.
Все стали кругом. Кутина быстрее стала крутить ручку органопана, и под задорную музыку Шевченко вылетел в круг и пошел вприсядку. Левицкий уже мчался ему навстречу, и они то сходились, то мчались один за другим, а все другие отбивали такт и весело передергивали плечами, захваченные стремительным мотивом. Вдруг одна из классных дам скрестила руки на груди, повела плечами в пышной вышитой сорочке с пышными рукавами, блеснула глазами из-под черных бровей и полетела кругом легкими быстрыми прыжками.
Даже Бутаков притопывал в такт танцорам, его быстрые черные глаза пылали. Ведь он вырос в Севастополе, среди смелых рыбаков Черного моря и Днепра-Славуты, где такое горячее солнце, такая плодородная земля, такие пахучие степные травы и такие жгучие поцелуи женщин…
В одиннадцать сели ужинать. Кутина с Аксиньей хорошо постарались: дичь, рыба, пироги, пирожные — все было удивительно вкусным. Все ели, пили, шутили, смеялись, разгоряченные танцами и напитками. Потом снова пошли танцевать. В первом часу собрались домой служащие с женами, которым утром надо было на работу, но вечеринка продолжилась. Разошлись в пять утра.
— Хорошо у вас было: молодо, весело и непринужденно, — сказал Бутаков, разыскивая шапку. — Спасибо за хороший вечер…
— А сегодня я уже от тебя не отстану, — сказал на другой день Бронек Залеский, помогая Шевченко собрать эскизы, разбросанные по всей мастерской после отправки их работ в губернаторский дворец. — Сегодня вечером введу тебя в наш кружок. Сам знаешь, как много нас здесь, конфирмованных. Но не все в солдатах: есть и такие, что на вольном поселении, живут под надзором полиции. Давно уже меня просили привести тебя, но через эту клятую работу некогда было и дыхнуть… Люди хорошие, не пожалеешь.
— Ну хорошо. Пойдем, — согласился Шевченко, вбрасывая в затопленную печку целые кучи обрезков чертежной бумаги, порванных этюдов и разного мусора.
Открыла им панна Констанция, жена патера Зеленки, и, заметив незнакомого человека в цивильном пальто и высокой шапке, растерялась:
— Пан к кому? — спросила она недоверчиво, закрывая вход, но в это мгновение из-за плеча Тараса выглянул маленький ростом Бронек:
— Это мы, панна, с паном Шевченком.
Она покраснела, как школьница, отступила вбок, приглашая гостя, и сделала ему смешной книксен.
— Проше выбачить! Бардзо проше! — пролепетала она пристыженно и сразу же исчезла в глубине темного коридора.
В большой просто обставленной столовой сидело вокруг стола четверо солдат, молоденький казачий офицер, какой-то солидный пан в сером сюртуке, и далее другой, худощавый, седой — в черном сюртуке.
— Наконец! — радостно выкрикнул один из солдат и бросился к Шевченко с протянутыми руками. — Не узнаете? — спросил он, немного смущенный сдержанным приветствием Шевченко. — Турно! Людвиг Турно! Мы с вами познакомились два года назад у Гернов, когда вы впервые прибыли в Оренбург.
— Теперь узнал, — приветливо откликнулся Тарас и крепко пожал ему руку, — Мы в Орске часто вспоминали вас с Круликевичем и Завадским. Они мне рассказывали, что вас и еще одного пана судили по одному делу.
— Так, так! Меня и Копровского. Как же они там сейчас, в Орске?
— Они конвоировали транспорт генерала Шрейбера. Круликевич зимовал в Раиме. Просил искренне приветствовать вас и всех, кто его помнит.
Разговаривая, Шевченко обходил стол, здороваясь со всеми присутствующими и в конце концов оказался рядом с паном в черном сюртуке. Пан с приветливой улыбкой поднялся навстречу поэту, его незастегнутый сюртук неожиданно раскрылся на груди, и Шевченко увидел на ней большое серебряное распятье, какое носят католические монахи и ксендзы. Это и был патер Михаил Зеленка, префект всех католиков Оренбургского военного округа.
Патер был человеком наблюдательным и заметил недоверчиво-настороженный взгляд поэта. Он читал в свое время и «Кобзарь», и «Гайдамаков», и ему была понятна эта традиционная настороженность украинцев к католическому духовенству, корни которой тянулась в века, и помнил он строки Шевченко:
Вот так, поляк, и друг, и брат мой! Несытые ксендзы, магнаты Нас разлучили, развели, – Мы до сих пор бы рядом шли. Дай казаку ты руку снова И сердце чистое отдай!..Зеленка сам себе улыбнулся и приветливо обратился к Тарасу:
— Наверное, вас удивило присутствие среди военных человека с крестом? Я такой же ссыльный, как и все другие. Только мой сан спас меня от солдатского мундира.
— Действительно, был немного удивлен, — искренне ответил Шевченко, — потому что восстание — дело вооруженное и боевое. Неужели за то, что вы благословляли восставших или молились за них?..
— О нет! Мое дело немного другое, — охотно ответил Зеленка. — Я был законоучителем Гродненской мужской гимназии. В тридцатом году одного из моих учеников арестовали за участие в нелегальном политическом кружке. Мальчику было только шестнадцать лет. Отца у него не было. Я начал за него хлопотать — и сам попал в ссылку.
— За хлопоты?! — ужаснулся Тарас. — Я еще такого не слышал…
Зеленка молча развел руками.
— И вы здесь почти двадцать лет?.. Представляю, сколько ужаса вы тут насмотрелись!..
— Да… Немало… Особенно в первые годы. Конфирмованные могли жить только в казарме. Никому, кроме меня, как их духовнику, не разрешалось их посещать. Иногда вечерами я приходил к ним со жбаном молока для религиозной беседы. И это было их единственное утешение. Да и местные жители иначе тогда к нам относились, чем теперь. Вас, наверное, удивляет, что я не в сутане? Когда я сюда приехал, за мной ходила толпа и кричала: «Смотрите! Комедианты приехали! Ярмарка будет!» Тогда я пошел к бывшему военному губернатору Перовскому и сказал, что отныне буду носить сюртук, чтобы не подвергать унижению мой сан.
Шевченко молчал, удивленный: двадцать лет ссылки! И за что? Тяжелым кузнецким молотом стучала эта мысль в ушах и голове. И непроизвольно родилось оправдание предавших друзей, что не отвечали на письма и не осмеливались хлопотать за него…
Подали чай. Разговор стал общим. Рядом с Шевченко сидел молоденький казачий офицер, который сразу обратился к Тарасу.
— Мой брат Алеша много рассказывал мне о вас. Вы с ним учились в Академии. Днями он должен приехать на рождественские каникулы и будет очень рад с вами увидеться.
— Извините… Как ваша фамилия?
— Я Чернышев Матвей.
Шевченко обрадовался. Начал его расспрашивать про брата. Тот рассказал, что Алексей теперь готовит дипломную работу «на большую золотую медаль», которая дает право на командировку в Италию.
Тем временем пришел Томас Вернер. Подходили и другие люди — почти все в военном, и скоро вокруг большого овального стола стало тесно. Тогда грузный пан в сером сюртуке вытащил из кармана несколько газет и какие-то листочки.
— Имеем, уважаемое общество, новые российские и заграничные газеты. Немало новостей.
— Кто это? — шепотом спросил Шевченко соседа, кивнув на пана в сером сюртуке.
— Это пан Венгржиновский, он заведует школой в приюте для киргизских детей, который существует на общественные средства, — тихо ответил тот. Бронек Залеский постучал ложечкой о край стакана. Все разговоры утихли.
— Вот письмо из несчастной и героической Венгрии, — начал Венгржиновский, разворачивая листок тонкой бумаги, исписанной микроскопически мелкими буквами. — Вы уже знаете о трагической судьбе Чеслава Зволского, но теперь…
— Разрешите, — вдруг перебил его Вернер. — У нас сегодня гость, известный украинский поэт и художник Шевченко. Он недавно вернулся с двухгодичной экспедиции на Аральское море и, как и я, наверное, слишком мало знает об этих трагических событиях, поэтому просим…
— Да, — кивнул и Шевченко. — Действительно, если мы с Вернером урывками узнали о парижских событиях, то о Венгрии я, например, знаю только то, что там была революция, которую придушили с помощью российской армии, — и все. Очень прошу, если уважаемое панство не против, расскажите нам с Вернером коротенько, что там произошло.
— Надо рассказать!
— Обязательно! — подхватили голоса.
Венгржиновский молча поклонился, сложил свои газеты и начал рассказывать:
— Так вот, тринадцатого марта восстала Вена. Взрыв был такой единодушный, что Меттерних сразу подал в отставку и убежал за границу. Перепуганный император на третий день согласился дать конституцию.
В тот же день, то есть пятнадцатого, восстал Пешт, потому что Вена отказалась дать Венгрии отдельный кабинет министров, ответственный только перед венгерским сеймом. Венгры освободили политических узников, создали Комитет гражданского спасения и объявили призыв в Национальную гвардию… В городах изгонялись австрийские чиновники и австрийские гарнизоны. Восставшие крестьяне требовали отмены крепостничества, жгли поместья.
— Пан забыл, что в конце марта грянула итальянская революция! — одновременно выкрикнули Турно и Доморацкий.
— Нет, я нарочно сегодня не касался итальянской революции. Об этом подробно поговорим в другой раз.
— Венгры, — продолжал Венгржиновский, — избрали свое Национальное собрание, где большинство стояло за реформы в составе габсбургской монархии. Там начались бесконечные свары между партиями и группами. Национальное собрание создало двухсоттысячную армию, отдельный отряд которой послали в Италию! Но не на поддержку, а чтобы задушить итальянскую революцию.
— Позор! — не выдержал Вернер.
«Предательство», — подумал Шевченко.
— Настоящие демократы были возмущены, Шандор Петефи призвал сбросить власть предателей и либералов. На сторону демократов перешел известный общественный деятель Кошут. Национальное собрание создало Комитет защиты родины. Тогда в народе вспыхнул революционный энтузиазм, и в конце сентября сорок восьмого года армия Елачича вынуждена была отступить к Вене.
Тем временем в Вене тоже разворачивались события. В первые дни революции рабочие организовали вооруженные отряды, студенты — Академический легион. Когда же разразилась революция в Италии и Чехии — император Фердинанд согласился выделить чехов в отдельное конституционное государство. А в апреле принял венгерскую, а потом австрийскую конституцию…
Шевченко слушал этот рассказ, включив все свое внимание. Будучи оторванным от остального мира, он лишь догадывался о каких-то важных событиях в Европе, но не мог себе представить, что в это время рушились целые империи. Народы сбрасывали с себя ненавистное ярмо порабощения, требуя свободы, братства и равенства…
— Но все завершилось печально, — продолжал свой рассказ Венгржиновский. — В самой Венгрии предательская «партия мира», высшее католическое духовенство и старое кадровое офицерство откровенно стояли за Габсбургов. Кошут держался нерешительно и в начале августа 1849 года сбежал в Турцию, а венгерская армия, которая была вполне боеспособной, капитулировала под Вилагошем. Чтобы задушить революцию, русский царь, напуганный событиями в Европе, бросил туда свои войска, выполняя роль жандарма…
— Ну, а теперь? — не выдержал Шевченко. — Что там теперь?
— Что? Полевые суды, казни, звон кандалов, слезы детей и женщин. Кошута заочно приговорили к смертной казни, — сказал Залеский.
— Запретили носить одежду национальных цветов!
— Государственным языком признан только немецкий!
— Ликвидировали венгерские школы!
— Отменили все революционные законы!..
Провожать Шевченко пошли Турно и Залеский. Шевченко долго молча шел с Бронеком, потом вдруг заговорил, как будто размышляя вслух:
— Когда бросишь камень в пруд, то пойдут на воде круги, сначала маленькие, а потом все шире и шире… Вот так еще маленьким мальчиком я думал, что, когда бы наш пан был добрым — все было бы чудесно. Это — наименьший круг. Позже я понял, что надо издать закон, по которому строго запрещалось бы обижать и унижать людей — это уже как бы шире круг. Потом увидел я, что надо вообще отменить крепостное право. А подрастая, понял, что не только крестьянам погано жить, а и интеллигентам, и мелким чиновникам, и мастеровым. Думал, что достаточно было бы иметь лучшего царя, а потом понял, что все они одинаковы, только один угнетает людей откровенно, а другой — обманом. Мечтал о конституции, но потом увидел, что это тоже обман: просто дурят людей обещаниями. Казалось мне, что надо только провозгласить республику — и все изменится, а за этот год понял, что и это только немного шире круг, ибо раньше угнетали людей аристократы, а в республике — буржуа.
— Слишком много темноты в народе: ведь и в армии Паскевича почти все солдаты из крестьян. Могли бы понять, в чьих интересах усмиряют венгров, — горько заметил Залеский.
— Даже в наших линейных батальонах немало солдат, которые за «веру, царя и отечество» готовы кровь проливать, — добавил и Турно.
Дальше шли молча, потом Шевченко заговорил задумчиво и медленно:
— В последнее время я часто вспоминаю один разговор с Белинским. Я с ним был мало знаком. Видел его когда-то у Панаева, Гребенки и у Струговщикова, но никогда не приходилось мне с ним по-настоящему поговорить. И вот как-то весной стоял я на набережной Невы и любовался жемчужным отражением тучек в волнах. Стою, увлеченный этой красою, и не заметил, как подошел и стал рядом Белинский. «О чем вы так задумались, Шевченко?» — спросил он меня. Не знаю как, но начал я говорить о том, что стояло у меня тогда перед глазами: как строили эту Северную Пальмиру наказанные Петром запорожцы и русские мужики, как гибли тут люди от лихорадки, тифа, цинги, а на их костях вырастал роскошный город. Как до сих пор страдает народ. Белинский помолчал, потом сказал особенно как-то вдохновенно, как будто вдруг увидел далекое будущее: «Придет время, и не будет ни угнетателей, ни угнетенных. Не будет тогда и нищих, бездомных сирот, старых солдат, что просят копейку на краюху хлеба. Эта идея стала для меня идеей идей, альфой и омегой существования…» Сказал, пожал мне руку и быстро ушел. И разговаривал он в то мгновение, видимо, больше сам с собой, чем со мной. Больше не виделись. Дорого бы я дал, чтобы снова увидеть его, поговорить. Но нет его в живых, а меня нет в Петербурге…
Они уже стояли возле дома Кутиной, и Турно крепко пожал руку Шевченко.
— Мы кое-что тоже знаем об этих идеях. Я найду вам несколько номеров «Новой Рейнской газеты». Там много пишут о социализме. Приходите чаще к нам. Найдем для вас и письмо Белинского к Гоголю, и все, что вы хотели бы прочитать.
Первое знакомство с польским кружком оказало на Шевченко большое впечатление. Как будто вольным ветром повеяло в лицо. Все утро вспоминал он вчерашние разговоры и только жалел, что не успел много о чем расспросить и что раньше не познакомился со всеми своими товарищами по «конфирмации», потом, захватив прочитанные книги и дождавшись сумерек, побежал в библиотеку по новый «хлеб духовный».
По его просьбе библиотекарь оставил ему все последние статьи Белинского, «Неточку Незванову» Достоевского, роман Гончарова «Обыкновенная история», Тургенева, и Тарас вернулся хорошо нагруженным книгами, одну из которых сразу взял Поспелов, а Шевченко как пришел, так и углубился в чтение.
Достали друзья ему и письмо Белинского к Гоголю: «Нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность, как истину и добродетель… Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отмена телесного наказания… Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, что Вы делаете? Взгляните себе под ноги — ведь вы стоите над бездною!.. В Вашей книге Вы утверждаете, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, Вы не знали, что творили…»
Что было для Шевченко ближе, понятнее, дороже этих горячих, гневных слов?! Ведь и он смело и последовательно выступал против кнута самодержавия, против лжи и безнравственности крепостного права. Ведь в своих обличениях он употреблял даже этот самый иносказательный образ — «византийство», то есть деспотизм и мракобесие:
Всё будут храмы воздвигать, Да всё царя, пьянчугу злого, Да византийство прославлять, И не дождемся мы другого…Напрасно пытался Лазаревский заговорить с поэтом. Тарас либо вовсе не слышал его вопросов, либо отвечал невпопад. Наконец Федор Матвеевич махнул рукой и сел писать письмо родителям. А утром Шевченко надел свою бархатную блузу и пошел к баронессе.
Он бывал у нее трижды на неделе и искренне увлекся своей работой. Если Исаева писал он с внутренним сопротивлением и предубеждением, то теперь в нем проснулся настоящий творец. Он старался не только схватить внешнюю схожесть, но и перенести на полотно немного тайны внутренней жизни человека, незаметной для равнодушных глаз, схватить какие-то мелкие черточки, от которых обычный портрет приобретает вдруг силу произведений великих мастеров. С наслаждением поймал он кистью луч солнца в тот момент, когда он упал на ее висок и зажег под полуувялой кожей этой сорокалетней женщины жилку, полную яркой крови, а в ее взгляде засияла мысль знатока и любителя искусства, что понимает его поиски.
— Да, немногие художники пытаются угадать, о чем думает их модель… Значит, до весны, в синей амазонке с моей чудесной Ночкой, — сказала она ему на прощанье, когда портрет был готовый. — А летом вы напишете портрет моей дочери, которая заканчивает Смольный.
Нарисовал Тарас и портрет Забаржады. Теперь она встречалась с поэтом, когда была свободной, приходила к нему в мастерскую, когда там никого не было. В такие часы сердце Тараса громко стучало от счастья видеть эту девушку. Он все больше увлекался ею, все чаще он думал о ней. Они вместе вспоминали Украину и даже пели украинские песни. Тарас ей много рассказывал о своей молодости, о жизни в Петербурге, читал свои стихи. В такие моменты Забаржада сидела тихонько в уголке и слезы катились из ее прекрасных глаз. Тарас утешал ее:
— Ну, что ты, сердце мое, улыбнись. Я люблю смотреть на тебя, когда смеются твои глаза, когда ты улыбаешься. Все будет хорошо… Может, и нам судьба еще улыбнется… И мы будем с тобой счастливы…
— Милый Тарас, мне хорошо с тобой… Ты очень добрый… Мне кажется, я полюбила тебя за твое доброе сердце и душу, открытую для добра…
— Это оттого, что оба мы насмотрелись и натерпелись столько горя… Я очень хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной…
— И я хочу, милый Тарас…
— Послушай, это стихотворения я написал для тебя:
І станом гнучим, і красою Пренепорочно-молодою Старії очі веселю. Дивлюся іноді, дивлюсь, І чудно, мов перед святою, Перед тобою помолюсь. І жаль мені, старому, стане Твоєї Божої краси. Де з нею дінешся єси? Хто коло тебе в світі стане Святим хранителем твоїм? І хто заступить? Хто укриє Од зла людського в час лихий? Хто серце чистеє нагріє Огнем любові, хто такий? Ти сирота, нема нікого, Опріче праведного Бога…На этот раз Забаржада надолго задержалась в мастерской Шевченко. Почти в полночь Тарас вышел ее проводить к дому. Подойдя к воротам ее дома, они обнялись и поцеловались.
— Спокойной ночи, сердце мое, — сказал Тарас вслед уходящей девушке…
Дней через пять после сдачи карт и альбома Карл Иванович Герн зашел в мастерскую Шевченко, где поэт теперь чаще писал стихи, либо читал запрещенные книги, либо с аральских этюдов писал пейзажи масляными красками.
— Генерал Обручев просит вас явиться к нему сегодня после полудня. Кажется, хочет заказать вам портрет.
Шевченко немного растерялся:
— Надо надеть солдатскую форму?
— На первый раз — да. А там будет видно. Обручев человек без гонора. Кстати, он уже послал в Третий отдел запрос, напомнил о вашей характеристике, отосланной два года тому назад, и просил ответить, не разрешат ли вам рисовать. А по военной линии Обручев вас представил на унтер-офицера.
Шевченко молчал. А Герн взял свою фуражку и, приглаживая ладонью волосы, утомленно сказал:
— Ох, эти новогодние представления! Каждый день составляем новые списки, а потом одних вычеркиваем, а других дописываем. И вокруг каждой фамилии ведется тайная борьба. Ни днем, ни ночью нет мне покоя…
Шевченко старательно наваксил сапоги, почистил мундир, побрился и пошел к губернаторскому дворцу. Зашел он, конечно, с черного хода, откуда несло кухонным чадом и дешевым табаком. В кухне, кроме повара, сидел пожилой унтер с двумя медалями и «Георгием» на груди.
— Здравия желаю! — поздоровался Шевченко и нерешительно остановился.
— Тебе чего? — солидно спросил унтер.
— Доложите его превосходительству, что пришел Тарас Шевченко.
— Еще чего придумал! — хмыкнул унтер. — Если ты с жалобой, так иди по субординации к ротному. Пока за дурость не всыпали, — солидно добавил он и отвернулся, всем своим видом показывая, что разговор закончен.
— Его превосходительство приказали мне прийти сегодня после обеда.
— Приказали? — удивленно оглянулся унтер. — Ты кто? Портной?
— Нет, я художник. Так и доложите его превосходительству.
Унтер нерешительно двинул плечами, отвесил нижнюю губу, поднялся и исчез за внутренними дверьми. Через несколько минут он вернулся и поманил Шевченко пальцем.
— Идите к генералу. Что же вы сразу не сказали, что художник, — говорил он, провожая Тараса какими-то коридорами и комнатами, заставленными шкафами и комодами, потом через гостиную и огромный зал, и наконец остановился перед дверьми резного дуба. Морды львов с бронзовыми кольцами в зубах украшали их и служили ручками.
— Здесь, — вполголоса сказал унтер и на цыпочках удалился.
Шевченко тихо постучал.
— Войдите! — послышался голос за дверью.
— А, это вы, Шевченко, — приветливо улыбнулся Обручев, когда поэт переступил порог. — Здравствуйте, здравствуйте! Я хотел просить вас написать портрет моей жены, а потом, если будем живы, то и мой. Да вы садитесь, — указал он на кресло возле своего стола, потом дернул долгий шелковый шнур за спиной.
Где-то далеко едва слышно отозвался звоночек. На пороге беззвучно появился лакей.
— Попросите барыню, — сказал генерал и снова обратился к Шевченко. — Сейчас я вас познакомлю с женой, и вы уже сами договоритесь с ней, когда ей удобно позировать и обо всем остальном.
Шевченко молча поклонился.
— Ну-с, отправили мы ваш чудесный альбом его императорскому величеству, и — надо надеяться — судьба ваша будет устроена. Мы со своей стороны побеспокоимся и дальше будем помогать вам стать на ноги… И надо же было вам впутаться в это бессмысленное тайное общество!
Мягко шелестя шелковым платьем, вошла Обручева и приблизилась к мужу, не посмотрев на солдата в кресле.
— Ты звал меня, Вольдемар? — спросила она его на французском.
— Звал, моя дорогая, — ответил генерал. — Вот тот петербургский художник, чей альбом мы днями послали государю. Я пригласил господина Шевченко написать твой портрет.
— Ах, это вы рисовали баронессу Бларамберг? Я видела ее портрет. Очень похожая, даже немного приукрашена, — сказала генеральша, когда Тарас молча поклонился. — Так вы согласны рисовать меня?
— Как прикажете, ваше превосходительство, — ответил Шевченко, вытянувшись, и даже цокнул каблуками.
— Меня зовут Матильда Петровна, — милостиво сказала генеральша. — А вас?
— Тарас Шевченко.
— Тарас… А по отчеству?
— Григорьевич, — слегка поклонился поэт уже не по-солдатски.
— Так вот что, Тарас Григорьевич, не будем мешать Владимиру Панасовичу: у него теперь много работы. Пойдем ко мне и там обо всем окончательно договоримся.
Она привела Тараса в маленькую гостиную, чрезвычайно уютную и хорошо освещенную тремя высокими окнами с толстыми зеркальными стеклами и шторами тяжелого кремового шелка. Матильда Петровна сразу показала Шевченко свое любимое платье, в котором хотела быть нарисованной. Формат выбрала без долгих колебаний «в натуральный размер», чтобы быть на полотне «совсем, как живая», и Шевченко оставалось лишь найти точку в комнате, где было бы наилучшее освещение, усадить свою модель в кресло и придать ей самую лучшую позу.
О цене не было и речи…
Письмо Лизогуба ждало Тараса, когда он вернулся от Обручевых. Теплом родной земли повеяло от него на поэта, винным ароматом осенних киевских садов, ласковым уютом Седнева. Лизогуб поздравлял его с переездом в Оренбург, писал, что это, наверное, первый шаг на новом пути, признак перелома в его судьбе, и обещал днями прислать ему посылку с теплыми вещами, книгами и продуктами собственного хозяйства.
Второе письмо было, наверное, написано несколькими днями позднее, поскольку было ответом на вопрос Шевченко в его последнем письме.
«Ты спрашиваешь меня, друг мой, — писал Лизогуб, — о судьбе тех, кого судили либо забрали вместе с тобой. Только о молодежи знаю я кое-что, потому что они переписываются со своими старыми родителями.
Студентов Андрузкого и Посяду, продержав по несколько месяцев за решеткой, потом отвезли в Казань, где разрешили поступить в местный университет, а когда они его закончили и получили дипломы, — их отослали служить по специальности в одну из центральных губерний России „под надзором полиции“, без права переезда на Украину. А приятеля Гулака, студента Тулуба, в Петербург не возили, поскольку во время обыска ничего серьезного у него не нашли, ему позволили закончить Киевский университет, а потом заслали в Златопиль на Полтавщине „под надзор полиции“. Гимназии там нет — пришлось ему учительствовать в поветовом дворянском училище.
Предателя Петрова, сынка жандармского офицера, приняли на службу в Третий отдел и выдали ему награду пятьсот рублей серебром, а потому, что ни в одном университете студенчество не потерпело бы присутствия в своей среде такого иуды, жандармы приказали выдать ему официально оформленный диплом Киевского университета со званием „действительного студента“, а он, мерзавец, получив свои пятьсот сребреников, не пошел и не повесился, как Иуда Искариот, а благополучно существует, и здравствует, и ползает по земле, как ядовитая гадина.
О братчиках старшего поколения ничего у нас не слышно. Знаю только, что все они высланы, то есть где-то живут „под надзором полиции“, где-то преподают, но не имеют права даже на каникулы приехать на Украину».
— Сатрапы! Нелюди! — не выдержал Шевченко и на вопросительный взгляд Левицкого и Лазаревского добавил: — Андрузкий много лишнего наговорил на меня с перепуга. Хорошо, что другие не подтвердили его показания. Он и сам себя утопил своим длинным языком. А Посяда… Он только и думал о горькой крестьянской судьбе и о ликвидации крепостного права, а в конституциях, или республиках, или реформах ничего не понимал. На допросах отвечал коротко, ни на кого не клепал и перед жандармами выявился умнее, чем ученый и умный профессор Костомаров… Гулака жаль… Крепкий у него ум и крепкий характер — настоящий борец. И жандармы это почувствовали. И попал он в Шлиссельбургскую крепость… Живой ли он там, бедолага?!
И Шевченко тяжело вздохнул.
— А как пришло к вам это письмо? — спросил Поспелов. — Неужели почтой? Надо немедленно написать вашему приятелю, чтобы он был осторожнее и не касался таких тем в письмах: и сам может в беду попасть, и вас окончательно утопить.
— Не волнуйся: Лизогуб — человек осторожный, — вмешался Лазаревский. — Привезла письмо одна помещица, сын которой здесь служит, и никто, кроме нее, не знает о его существовании, а о содержании его и она, наверное, не догадывается.
Тарас сел писать ответ: «Спасибо, друг, за письмо, за искреннее слово. Я так обрадовался!.. аж заплакал, так любо мне стало!.. Что тебе сказать о моей жизни? Тюрьма, и больше ничего… Вот какова моя гадкая судьба! Я, поднявшись пораньше, принялся писать к вам настоящее письмо, только что принялся, а тут дьявол несет ефрейтора (которому обыкновенно поручается меня извещать, потому что я живу сейчас не в казармах): „Пожалуйте к фельдфебелю!“ Пришлось письмо оставить, а сегодня почта уходит! Так кое-как умолив фельдфебеля, возвратился я домой и принимаюсь снова, а время бежит, уже около часа, так простите, если не все расскажу, что хотелось бы рассказать…»
(Когда представишь себе, что каждую минуту мог явиться ефрейтор и потребовать «рядового Шевченко» — и не к корпусному командиру, а просто к фельдфебелю, когда знаешь, что этого фельдфебеля поэт вынужден был «умолять», чтобы отлучаться к себе домой на самое короткое время — написать на родину письмо, — тогда становится понятно, какая была эта воображаемая «свобода», которой он пользовался в Оренбурге.)
Он пошел в свою мастерскую, но работа валилась из рук. Он сидел, глубоко задумавшись. Ему снова вспомнилась Украина, его село и его родные. Сердце пронзила острая боль. Как же так? Он закончил Академию, стал на ноги, прославился, ездил по Украине, издавал альбомы «Живописная Украина», человеком стал, а его родные братья и сестры, даже любимая сестричка Иринка, пропадают на панщине, крепостные-рабы… Что он сделал, чтобы их спасти? Теперь он укорял себя за каждый бокал шампанского, за каждую вечеринку, где он, в панской одежде, добивался внимания женщин, где он был центром внимания всего общества, читал свои стихи о рабской судьбе, а заработанные деньги так и не смог повернуть на то, чтобы освободить их от рабства.
«За них меня карает судьба», — с отчаянием думал он. И тяжелые свинцовые слезы катились из его глаз.
Он взял карандаш, бумагу и начал писать:
Такие, боже наш, дела У нас в раю, страшней не знаю На праведной земле твоей! Ад сотворили мы на ней И чаем неземного рая! В ладу мы с братьями живем, Руками братьев нивы жнем, Слезами нивы поливаем… Быть может, сам на небеси Смеешься, отче наш, над нами, Совет держа тайком с панами, Как править миром? …Нет, боже, не хвала, не радость, А кровь, да слезы, да хула, – Хула всему, всему! Не знают Святого люди ничего! – Уже — ты слышишь? — проклинают Тебя, владыка, самого!Весь день Тарас был грустным, тоска душила его. До сумерек сидел в одиночестве в своей мастерской, грыз сухой хлеб, купленный утром по дороге, и лег спать. Он не смог вернуться на Костельную, где друзья сразу начали бы его расспрашивать, и от этого стало бы еще тяжелее…
С легкой руки баронессы Бларамберг Тарас получил еще несколько заказов на портреты, и потому, что декабрьские дни — самые короткие дни года, он с утра и до сумерек не оставлял кисти. Быстро позавтракав, спешил он к кому-нибудь из заказчиков, когда утреннее солнце еще расстилало на розовых сугробах долгие сиреневые тени, работал до полудня, потом мимоходом забегал в народную чайную, заказывал себе пару чая, московский, густо усыпанный мукой, калач, колбасу и, наскоро перекусив, мчался к другому заказчику.
От заказчиков дважды на неделе шел поэт в библиотеку, и, нагруженный новыми книгами, возвращался на Костельную, обедал и сразу садился читать, а в другие дни навещал вечером своих польских друзей, от которых узнавал последние новости.
Особенно радостными для Тараса были те вечера, когда приходила Забаржада. Эта девушка вносила рай в его душу. Но было это очень редко, только тогда, когда хозяйка девушки уходила к своим подругам или родственникам. В такие вечера они сидели, обнявшись, шептали друг другу нежные слова, пели песни, Тарас всегда читал ей свои стихи:
Зоре моя вечірняя, Зійди над горою, Поговорим тихесенько В неволі з тобою. Розкажи, як за горою Сонечко сідає, Як у Дніпра веселочка Воду позичає. Як широка сокорина Віти розпустила… А над самою водою Верба похилилась; Аж по воді розіслала Зеленії віти, А на вітах гойдаються Нехрещені діти. Як у полі на могилі Вовкулак ночує, А сич в лісі та на стрісі Недолю віщує. Як сон-трава при долині Вночі розцвітає… А про людей… Та нехай їм. Я їх, добрих, знаю. Добре знаю. Зоре моя! Мій друже єдиний! І хто знає, що діється В нас на Україні? А я знаю. І розкажу Тобі; й спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш.Девушка слушала, и слезы сами катились из ее прекрасных глаз. Тарас нежно утирал их, целуя ее мягкие губы.
— Ну, что ты, мое серденько, моя голубка, я здесь, рядом с тобой…
9 декабря граф Орлов, наконец, отважился представить царю доклад «О рядовом Шевченко». Изложив пространно всю историю ссылки поэта, Орлов сообщал о запросе генерала Обручева: «Можно ли дозволить Шевченко заниматься рисованием под наблюдением ближайшего начальства?»
На первом листе этого доклада в тот же день появилась леденящая надпись, тотчас же заботливо покрытая прозрачным лаком:
«Высочайшего соизволения не воспоследовало».
А затем пошла соответствующая бумага и в Оренбург, Обручеву: «Вследствие отношения Вашего высокопревосходительства… О дозволении рядовому Оренбургского линейного батальона Шевченко заниматься рисованием… Высочайшего соизволения не последовало…»
Значит, Николай хорошо помнил Шевченко!..
Проблески бледных лучей свободы заволакивались тучами…
Буйно и весело промелькнуло Рождество. Три дня улицы Оренбурга были чрезвычайно многолюдные и пестрые. Мастеровые, челядь, перекупки, приказчики, канцеляристы и другие люди, всегда занятые с утра до ночи работой, теперь с женами и детьми вышли на свежий воздух. Все были в своем наилучшем убранстве.
На крутых берегах Урала, заваленных пушистым глубоким снегом, дети и молодежь спускались с горок на санях.
На льду давно скованного льдом Урала возник веселый и многолюдный каток.
Тридцать первого декабря в город влетел на тройке взмыленных лошадей столичный фельдъегерь с пакетом, запечатанным пятью сургучными печатями. И сразу все писари штаба начали писать длиннейшие списки награжденных орденами, повышенных в чине либо назначенных на высшую должность…
Шевченко сидел в своей мастерской, грыз перо и думал, что принесет ему наступающий год, когда вдруг вошел к нему Герн. Он поздоровался, заглянул во все углы и сел напротив Тараса.
— Хочу вас предупредить, что ваш альбом будет поднесен царю только тогда, когда Бутаков закончит и представит свое «Описание Аральского моря». Не тот научный, со всеми данными и цифрами, который он готовит для Географического общества, и не тот гидрографический, который подал в свое морское министерство, а сокращенный, популярный и полухудожественный, который поднесут царю одновременно с альбомом, а поэтому и судьба ваша решится не теперь, а позднее, после отъезда Бутакова в столицу.
Шевченко почувствовал в голосе Герна что-то нехорошее и взволнованно спросил:
— Что-то случилось, Карл Иванович?
— Пока что мы получили ответ только на наше двухгодичной давности прошение о том, чтобы вам разрешили рисовать и об облегчении вашей участи в связи с вашей болезнью.
Шевченко побледнел, поднялся и, опираясь ладонями об стол, наклонился к Герну:
— И что же?
— Граф Орлов только теперь подал царю наше прошение, и, как он пишет, «высочайшего соизволения на него не последовало».
— То есть мне снова не разрешается брать в руки ни кисти, ни карандаша? — глухо спросил Шевченко.
— Это означает, что надо быть осторожным. Ваши аральские рисунки, выполненные для государственной надобности, никто не собирается прятать, но открыто принимать заказы на портреты и рисовать их здесь, в мастерской, никак нельзя, да и у заказчика тоже надо быть чрезвычайно осторожным и брать заказы только лишь у наверняка честных и порядочных людей и с условием, чтобы никто не застал вас там за работой. Но вы не падайте духом, — взял его за руки Герн. — Все пройдет и все будет хорошо.
— Да, конечно, все пройдет, — невесело ответил Шевченко.
И низко наклонилась его большая лобастая голова.
— Обручев просит вас надеяться на лучшее и не грустить. Портрет Матильды Петровны продолжайте рисовать, а мы ее предупредим, что надо перенести сеансы в другую комнату и на такое время, когда во дворце не бывает офицеров… Да бросьте вы горевать, голубчик мой! Увидит царь ваш альбом — и все наладится! А теперь послушайте новости: Бутаков награжден орденом Владимира с бантом. Левицкого Сергея со значительным повышением переводят в Петербург. Полковнику Матвееву — Анну на шею, а Обручев с завтрашнего дня — генерал от инфантерии, то есть его высокопревосходительство.
Шевченко понемногу овладел собой и даже улыбнулся. Но когда Карл Иванович ушел, он снова наклонил свою грустную голову… Слова сами ложились на бумагу:
Мені здається, я не знаю, А люди справді не вмирають, А перелізе ще живе В свиню абощо, та й живе, Купається собі в калюжі, Мов перш купалося в гріхах. І справді так. Мені байдуже За простих сірих сіромах, Вони і Господом забуті! Так що ж мені тут гріти-дути! А де оті? Невже в сажах Годує хам собі на сало? А може й так? Добра чимало Вони творили на землі, Ріками сльози розлили, А кров морями…Новый год встречали дома. Шевченко радовался, что в этот вечер вместе со всеми была и Забаржада. Она в новом платье была просто обворожительная. Все завидовали Тарасу, и все спрашивали, как это ему удалось в этом захолустном Оренбурге отыскать такую драгоценность. Тарас отшучивался, глядя влюбленными глазами на девушку. Он взял ее за руку и стал читать:
Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Між ярами над ставами Верби зеленіють. Сади рясні похилились, Тополі по волі Стоять собі мов сторожа, Розмовляють з полем…Все молча слушали музыку стиха поэта, и каждый вспомнил свою родину…
— Как там сейчас у нас на Украине… — проговорил Тарас, грустно улыбнувшись…
Шевченко никому не рассказывал о новостях, сообщенных ему Герном, но, когда кукушка на часах прокуковала двенадцать и Бутаков, как старший по возрасту и должности, поднял бокал и поздравил всех с Новым годом, Тарас поздравил Бутакова с Владимиром, а Сергея Левицкого с повышением и переводом в столицу, о чем тот так долго хлопотал и так давно мечтал.
Всем сразу стало весело и радостно, и только тогда друзья обратили внимание, что какая-то тень пробежала по лицу поэта.
— А вам что обещает Новый год? — заботливо спросил Бутаков.
— Есть и у меня подарок от гольштейнского принца.
И он рассказал об ответе графа Орлова. Все замолчали. Радость сбежала с лица Левицкого, которому вдруг стало нестерпимо тяжело и стыдно за свою удачу, когда у Шевченко темные тучи закрыли горизонт. Насупился и Бутаков. Он лучше всех понимал, что, если царь не забыл стихов Шевченко, — никакие рисунки, никакой альбом не принесет ему освобождения. Но он молчал и знака не подавал, как сжалось его сердце недобрым предчувствием.
Шевченко поднял бокал, обвел взглядом всех, кто сидел за столом, улыбнулся вымученной улыбкой и сказал:
— Друзья мои! Я поднимаю этот бокал за всех вас, за все, что вы сделали для меня. За те счастливые минуты моей жизни, которыми вы ее украсили… Спасибо вам! Как бы там ни было, я всегда буду помнить вас, вашу любовь и поддержку! За вас!.. Не будем грустить, а будем сегодня веселиться, танцевать и петь песни!..
Вечер продолжился почти до утра. Все гости разошлись. Тарас проводил домой Забаржаду. Они молча шли сонной улицей. Было тихо, падал снег, и казалось, что в этот час не существует на земле зла, слез, унижения, рабства, цепей…
— Забаржада, голубка ты моя!.. — сказал Тарас ей на ушко почти шепотом. — Я сегодня, несмотря ни на что, такой счастливый, что вижу тебя. Могу обнять тебя… Трудно предугадать свою судьбу, но, как бы там ни было, ты здесь, в моем сердце…
Она вдруг обняла Тараса за шею и стала обжигать его своими пламенными поцелуями… Слезы катились из ее глаз…
Шевченко был в отчаянии. 1 января 1850 года он писал княжне Репниной:
«Мне отказано в представлении на высочайшее помилование! И подтверждено запрещение писать и рисовать! Вот как я встречаю Новый Год! Не правда ли, весело? Я сегодня же пишу Василию Андреевичу Жуковскому (я с ним лично знаком) и прошу его о ходатайствовании позволения мне только рисовать… Весной, говорят, хотят меня снова отправить в Орск или даже еще дальше — на берег Каспийского моря искать каменный уголь…»
Письмо получилось трагическим, но Шевченко не стал его смягчать и начал писать Жуковскому, который так помог ему при выкупе из рабства.
Шевченко не понимал, что вся царская семья считала его своим особенным врагом и оскорбителем. Горько жаловался он Жуковскому, что Брюллов мог, но не захотел его спасти, и молил Жуковского добиться хотя бы разрешения рисовать.
В феврале того же года в Третье отделение поступила просьба о разрешении Тарасу Шевченко рисовать — члена Государственного совета, бывшего оренбургского военного губернатора Перовского. Василий Алексеевич Перовский, брат министра внутренних дел Льва Перовского, родной дядя поэта Алексея Толстого и братьев Жемчужниковых, по настойчивой просьбе племянников написал Дубельту письмо об облегчении участи Шевченко.
Различными путями ходатайствовали в то же время за Шевченко и Андрей и Илья Лизогубы и очень влиятельный московский сановник граф Гудович (на сестре которого был женат Илья Лизогуб).
Но все эти хлопоты доброжелателей разбивались о стену тупой самодержавной ненависти к поэту. Здесь уже и от Третьего отделения мало зависело. «При всем искреннем желании сделать в настоящем угодное Вашему высокопревосходительству не представляется возможным…», — так извинялся Дубельт перед Перовским, сообщая ему, что рассчитывать на царское снисхождение к Шевченко не приходится.
При жизни Николая поэту нечего было и думать об облегчении своей участи!..
Левицкий готовился к отъезду, а Бутаков заканчивал «Описание Аральского моря». На Костельной все время стояла предвыездная кутерьма.
В середине января пришло из Петербурга письмо от Михаила Лазаревского, адресованное брату Федору. Федор был в командировке. У его друзей не было друг от друга никаких тайн, поэтому они решили распечатать письмо и за вечерним чаем его прочесть.
После обычных праздничных поздравлений и вопросов о здоровье Лазаревский описывал казнь петрашевцев:
«Это было что-то невыносимо ужасное. С рассветом народ толпой отправился на площадь, где должно состоятся это мерзкое и кровавое зрелище. В толпе показывали матерей, братьев, родителей жертв. Некоторые из них не могли держаться на ногах. Посторонние люди поддерживали под руки, сами в волнении дрожа, как в лихорадке.
И вот наконец под сильным конвоем появился их ужасный кортеж. Ехали они по двое и по трое открытыми возами без шапок, в легких летних пальто, в которых были арестованы весной, хотя на улице стоял лютый крещенский мороз. Синие от холода, бледные тюремной бледностью, они казались мертвецами.
Мне хотелось убежать от этого зрелища, но ноги как будто приросли к земле.
Бесконечно долго читали приговор… В толпе десятки бледных губ повторяли их фамилии и страшное слово: „Казнить“. Потом каждого из осужденных ставили на колени, и палач в кроваво-красной рубашке, в черных плисовых штанах и лаковых сапогах, как Малюта Скуратов с древней гравюры, ломал над головой приговоренного заранее подпиленную шпагу. Так символически лишали его чести, дворянства, титулов, всех человеческих прав, дипломов, орденов и других наград и военных и гражданских чинов, потом священник подошел к ним с крестом, напутствуя их в вечную жизнь… И наконец начали натягивать на них саваны — длинные, грубые рубашки до земли с длинными, аршина на три, рукавами.
Я слышал, как за моей спиной громко вскрикнула какая-то женщина, и этот звук, пронзительный и звонкий, полный безграничного страха, еще до сих пор звучит у меня в ушах. Я не выдержал. Я бросился прочь от эшафота, от этой толпы, где одни переживали жестокие душевные страдания, а другие готовились смотреть на смертные мучения лучших людей страны с откровенным интересом, как смотрят на опасный номер цирковых акробатов под куполом цирка.
Вечером пришли земляки и рассказали, что осужденных помиловали и заменили им смертную казнь долгими годами каторги в Восточной Сибири».
В письме было еще несколько строк к Шевченко, но письмо выпало из его рук и так лежало на столе недочитанным. Все молчали. Самодержавие глянуло им в глаза жестоким бездушным взглядом палача, от которого в тепло натопленной комнате вдруг стало всем холодно.
— Сжечь, — первым опомнился Поспелов.
Никто не пошевелился. Он поднес письмо к свече и держал так, пока огонь не коснулся его пальцев…
Чувство глубокого одиночества охватило Тараса после отъезда Бутакова, Поспелова и Левицкого. Он окончательно перебрался в свою мастерскую у Герна в слободке, где всегда было чисто убрано и тепло.
Тоска по собственному гнездышку захватила его с непривычной силой.
— Бродяга, бесприютный бродяга, — шептали его губы.
Сколько помнит себя, всегда и везде жил он по чужим людям — сначала как крепостной, бессловесное животное, что вынуждено ездить со своим господином, куда погонят его господские желания. Потом мастерская Ширяева, известного петербургского подрядчика-маляра. Изредка ночевал у художника Сошенко, потом — мастерская Брюллова, огромная, роскошная мастерская, где несколько лет жил он, прибитый туда бурей жизни бесприютный ученик. Потом…
Да разве можно вспомнить все хутора да усадьбы Украины, по которым бродил или жил он, пусть прославленный поэт, но не хозяин, а полунахлебник!
Потом Киев. Родной старинный Киев! Только здесь жил он не гостем, а у себя, нанимая вдвоем с Сажиным крохотное помещение в Крещатинском переулке в доме, который мало чем отличался от крестьянской избы.
И снова — путешествия. То по роскошным усадьбам с белоснежными дворцами в изысканно строгом стиле Александрийского ампира или в утяжеленном от украшений пышном украинском барокко. Везде — гость, везде — чужак и путешественник… И наконец — Третий отдел, каземат, Орская крепость, казарма, борт «Константина» и землянка на Кос-Арале, которую тоже называли не его, а макшеевской.
Где же конец этим вечным скитаниям? Где тот порт, в котором бросит он свой тяжелый жизненный якорь, где найдет он свою семью, жену, деток? Где это будет? И будет ли когда-нибудь? Он устал от вечных скитаний, замерз душой среди чужих, пусть и добрых, людей. Ведь и самый наилучший друг никогда не станет родным. Но именно родного и кровного тепла молит его усталое сердце и одинокая душа…
Долго сидел он так в своей мастерской на слободке, не чувствуя течения времени, потом вытащил свою заветную книжечку и начал писать:
А я так мало, небагато Благав у бога. Тілько хату, Одну хатиночку в гаю, Та дві тополі коло неї, Та безталанную мою, Мою Оксаночку? щоб з нею Удвох дивитися з гори На Дніпр широкий, на яри, Та на лани золотополі, Та на високії могили; Дивитись, думати, гадать: Коли-то їх понасипали? Кого там люде поховали? І вдвох тихенько заспівать Ту думу сумную, днедавну, Про лицаря того гетьмана, Що на огні ляхи спекли. А потім би з гори зійшли; Понад Дніпром у темнім гаї Гуляли б, поки не смеркає, Поки мир божий не засне, Поки з вечерньою зорьою Не зійде місяць над горою, Туман на лан не прожене. Ми б подивились, помолились І, розмовляючи, пішли б Вечеряти в свою хатину…Он бросил перо, подпер руками голову и в мыслях оказался на днепровых кручах возле Триполья и Канева. Ему показалось, что Оксаночка рядом с ним, что бродят они вдвоем, утомленные дневной работой, и думают, кто столько веков пахал это необозримое надднепровское поле, когда еще люди не были крепостными? И бились ли здесь славные полки Наливайко? Потом они тихо спустились к Днепру и только вечером вернулись вдвоем к своей белой хатке, в свое теплое родное гнездышко…
Опомнившись от мечты, горько улыбнулся поэт. Все райские сады на Украине принадлежат панам, а крестьянам нельзя и выглянуть из своих жалких халуп. И, схватив перо, Тарас закончил свое стихотворение полными сарказма и гнева строками:
Даєш ти, господи єдиний, Сади панам в твоїм раю, Даєш високії палати. Пани ж неситії, пузаті На рай твій, господи, плюють І нам дивитись не дають З убогої малої хати. Я тілько хаточку в тім раї Благав, і досі ще благаю, Щоб хоч умерти на Дніпрі, Хоч на малесенькій горі.Томас Вернер и Бронек Залеский первые заметили, как глубоко загрустил поэт без своих друзей-моряков, и еще приветливее начали приглашать его к себе, окружили теплым вниманием.
Шевченко утешало это внимание: оно согревало его после горьких унижений и оскорблений последних лет, и он позволял себя утешать, как осиротелый ребенок, подобранный чужими людьми на жестоких дорогах войны…
С материальной стороны для Шевченко настали тяжелые времена. Гонорары Исаева, баронессы и других платных заказчиков растаяли еще до Нового года. И вот теперь он оказался, как говорят, «на сухом».
По совету Обручева, Бутаков перед отъездом не отправил Шевченко в линейный батальон, расквартированный в Оренбурге, потому что командующий 23-го пехотного корпуса генерал Толмачев, большой формалист и точный исполнитель буквы закона, сразу бы отправил поэта в казарму и потом в одну из удаленных крепостей Оренбургской линии. Но зато Шевченко был лишен солдатского пайка и обмундирования. Надо было самому добывать себе средства на жизнь.
Герн ничего не брал с него за квартиру с отоплением и освещением и приглашал его ежедневно обедать и завтракать, но Шевченко по некоторым едва заметным признакам почувствовал, что его присутствие то ли стало мешать, то ли надоело Софье Ивановне, поэтому он приходил только тогда, когда Карл Иванович был дома. Но служба Герна была беспокойной, ему приходилось неожиданно и часто выходить из дома, поэтому Тарас все чаще оставался без обеда и питался целый день одним черным хлебом.
Брать заказы за деньги Шевченко теперь не решался. Он нарисовал на Костельной несколько хороших пейзажей по аральским этюдам, но не рисковал их подписать и держал в комнате Лазаревского, с грустью размышляя, что самая лучшая, но не подписанная картина теряет половину своей стоимости. Один такой пейзаж послал он Лизогубу с просьбой подписать киноварью под ней фамилию автора и продать хотя бы за пятьдесят рублей и был бы несказанно счастливым и благодарным Андрею Ивановичу, если бы с ответной почтой получил желаемые деньги.
Но и им все-таки пришел конец.
Вернер и Бронек первые заметили, как похудел и побледнел Шевченко, и намекнули Зеленке, что, наверное, у Тараса большая проблема с деньгами и что надо как-то помочь ему.
Как будто для того, что Шевченко мог бы дать ему хороший совет, Зеленка пригласил поэта пойти с ним к новому, недавно построенному костелу, где запрестольная стена оставалась не разрисованной, и после нескольких вступительных фраз просто предложил ему от имени костела этот заказ, гарантируя словом чести тайну.
— Штукатурка давно высохла, поэтому писать фреску уже нельзя. Придется рисовать масляными красками на полотне, — сказал Зеленка, незаметно, но внимательно наблюдая, как легкая краска вдруг выступила на бледном лице Шевченко. — Но что именно рисовать, мы еще не решили. Пусть пан художник сам посоветует нам тему. Мы предлагали «Тайную вечерю», но другие уверяли, что лучше дать вознесение или воскрешение, как моменты победы духа над смертной плотью. К тому же эти праздники весенние: все происходит на фоне роскошной южной природы Палестины. Но если уважаемый пан Шевченко предложит нам какую-то другую и лучшую тему, мы только с благодарностью подадим пану художнику кисть, по которой так тоскует его творческая душа.
Шевченко молча стоял рядом с Зеленкой, смотрел на голую серовато-белую стену в глубине алтаря, на которой были заметны мелкие трещины, и вдруг эта голая стена окрасилась и вспыхнула яркими образами, и полная величия страшная и трагическая картина развернулась перед ним с такой ослепительной явью, как будто она уже висела на стене и ее всю осветили несколькими многосвечными люстрами. Шевченко закрыл глаза, но от этого картина стала еще живее, ярче, реальнее.
— Распятье! Только распятье! — заговорил он отрывисто, едва переводя дыхание, как будто сбегал на высокую и крутую вершину Голгофы. — Распятье! Потому что разве и сегодня не распинают все лучшее на земле, не распинают целые народы?! Бессильно упала голова в терновом венке. Острые шипы глубоко впились в кожу, а на небе сзади растет темная, угрожающая туча. Ослепительная молния расщепила ее огненной расщелиной. Сорвался вихрь, полетала пыль, песок и камень. Ветер колышет окровавленные тряпки на бедрах страдников, срывает с головы богоматери ее темно-синий платок, растрепал прядь полуседых волос на ее виске. Люди с ужасом бросились врассыпную. А на кресте рядом еще живой разбойник. Он плачет. Лицо его повернуто к Христу. Оно обезображено мукой. Все тело скорчилось от боли, но глаза полны раскаяния и надежды.
— Но, пан… — пытался вставить слово Зеленка.
Шевченко не слушает. Он — в экстазе. Он весь во власти своего вдохновения. Он творит.
— А слева, на третьем кресте, корчится в муках второй разбойник. Челюсти сведены оскалом. Он извергает не стон, а проклятья. Голубоватый, мертво-холодный свет молнии ярче подчеркивает его искаженные муками мышцы. Это — предсмертные корчи нераскаявшегося.
Зеленка непроизвольно застывает, поддаваясь силе импровизации Шевченко… Тарас не говорит, а бросает отельные слова, как мазки на огромное полотно, и патеру кажется, что он тоже видит и страдальческие глаза богоматери, которая с безграничной материнской тоской смотрит на мертвого сына, и это бессильно повисшее тело Иисуса, который уже выпил до дна ужасную чашу своих страданий, и обоих разбойников на боковых крестах, и грозу, и померкшее в вышине южное солнце.
— Но пан, это бы нарушило канонические правила, — через силу ворошит Зеленка губами. — В Лувре либо в Ватиканском музее это было бы полотно, перед которым всегда стояла бы толпа. Но в храме… Здесь должна быть икона, перед которой молятся. На ней нельзя изображать разбойников с такой страшной правдой. Люди не смогут молиться.
— Что? — спрашивает Шевченко, как будто внезапно проснувшись.
— Я говорю, что это не отвечает каноническим правилам. Боковые кресты надо только наметить. Они должны быть полуспрятанными рамой. Один только Христос в центре полотна, а ниже возле основания креста — богоматерь, апостолы, женщины…
— Так все же будет точно по евангелию, — перебивает Шевченко. — Один разбойник покаялся, а другой скрипит зубами и извергает проклятия.
— Да, пане, да! Это хорошо задумано, но это не для храма. Это картина, а не икона. Это для Лувра, для Ватиканского музея, для Мюнхенской пинакотеки, для столицы любой христианской страны. Кроме бога и святых, на иконах никого нельзя рисовать. Их можно только схематически наметить где-нибудь в стороне. Я покажу, даже дам пану наши канонические правила. Пан Тарас хорошо ознакомится с ними, и в душе его родится замысел еще прекраснее и вдохновенней от этого, и мы благоговейно склонимся к вашим ногам со слезами благоговения.
— Я не богомаз. Я — художник, — остро сказал Шевченко и, повернувшись на каблуках, быстро пошел к выходу.
— Но, пан! — мелкими шагами последовал за ним Зеленка. — Подождите, пан! Ради бога!
— Не надо! Не буду рисовать! — повторил Шевченко, не оборачиваясь и чувствуя, что в груди закипают слезы…
Вернувшись в мастерскую, Шевченко бросился на кровать и расплакался от трагического осознания, что никогда он не напишет этого чудесного полотна. Потому что ему запрещено рисовать, и нет у него денег даже на черный хлеб, а на такую картину нужен огромный подрамник, большая, светлая мастерская, большое полотно, много красок и долгие месяцы спокойной, напряженной работы, немало этюдов с натуры и огромное число натурщиков — живых людей.
«Нет, это не был бы „Последний день Помпеи“ Брюллова, где все красочно и красиво, как пышная театральная декорация. Не красавцев и не красавиц рисовал бы я», — думал он, с болью ощущая свое бессилие.
Вдруг он поднялся с кровати, взял альбом, карандаш и с горячечной поспешностью начал набрасывать композицию своего «Распятья», а на втором листе — голову нераскаянного разбойника. Под карандашом рождались набряклые от нечеловеческого напряжения вены, обезображенный мукой и ненавистью раскрытый рот. Из глубины памяти всплывали, казалось, забытые детали и черты лиц каторжников из Орского каземата. Образы меняли один другого быстро, как в калейдоскопе, яркие и точные, как тела натурщиков. Они принимали нужные позы, проклинали, ругались, рычали от боли.
И вдруг Шевченко вздрогнул. Глаза разбойника неожиданно вспыхнули под его карандашом, и он узнал его — могучего в своей непокорности мстителя, наполненного лютой ненавистью, умирающего на колу гайдамака… А может… может, какого-то другого восставшего, в котором воплотилась вся ненависть непокоренного, хотя и находящегося в рабстве, народа, который и в смертный час шлет проклятье угнетателям.
Но порыв понемногу слабел. Бессилие охватило Шевченко. Глаза его погасли, карандаш выпал из рук… И только тогда художник вспомнил, что уже темнеет, а он с утра ничего не ел, даже краюшки хлеба.
Зеленка вернулся домой совсем расстроенный. Он был уверен, что Шевченко увлечется таким предложением и на добрых полтора года будет обеспечен работой, — и вдруг такое возмущение и этот гениальный, но совсем нереализуемый замысел, мгновенно рожденный порывом лишенной права на творчество души.
Патер утомленно опустился в качалку и, медленно качаясь, думал, чем теперь заняться. В доме было тихо: все его жильцы вскоре возвратятся с муштры — что же им сказать, и главное, что посоветовать? И чем помочь этом непокорному и непрактичному художнику? Казалось бы, должен он за всю свою тяжелую и нищенскую жизнь научиться ценить хорошие заказы и к тому же не работу ремесленника, а настоящую творческую работу.
— Отец префект, кажется, дома? — послышался голос Вернера.
— Да, прошу!
— Ну как? — спросил Вернер, здороваясь.
— Отказался. Рассердился. Сказал, что он не богомаз… Но сколько в нем силы! Какой неудержимый творческий огонь!
— Отказался?! — аж вскрикнул Вернер. — Как же оно так случилось?
— Очень просто.
И патер подробно рассказал о своем разговоре с Шевченко.
— Жаль, что такая чудесная картина никогда не будет написана, и, если бы он передал на полотне хотя бы половину того, что задумал, его «Распятье» затмило бы все, что когда-либо было создано, кроме, возможно, «Тайной вечери» да Винчи и «Сикстинской мадонны» Рафаэля, хотя его манера была бы совсем другой, еще не виданной и совсем не… церковной, — вздохнув, добавил Зеленка.
— Что же нам делать? Ведь совершенно ясно, что он голодает. Он уже продал за полцены свои часы. Да и красок у него уже почти нет…
Тем временем вернулись домой Станевич, Залеский, Турно, да и все другие, и за пять минут уже все знали, что случилось в новом костеле.
— Попробуй, Бронек, его уговорить, — посоветовал Турно, — но не сегодня. Пусть он успокоится, подумает и поймет, что этот заказ был бы для него спасением и к тому же великой славой, когда уже можно будет не скрывать его имя. Пусть вместо разбойника рисует что-нибудь другое.
Залеский только рукой махнул на такой совет.
— Так что же нам делать? Ведь не можем мы оставить его без помощи!
— Соберем ему денег.
— И это невозможно. Он принимает помощь от столичных друзей и земляков, но никогда не возьмет ничего от нас, таких же ссыльных. Надо придумать что-то другое.
— А я вот что предлагаю, — сказал Станевич, который все время молчал. — Надо помочь ему продать его апрельские пейзажи. Все мы даем уроки или зарабатываем чем-нибудь другим. Я, например, имею уроки в семье директора банка, учу внуков заводчика Демидова и других. Люди они богатые и влиятельные: я завтра же сделаю там психологическую разведку. А его пейзажи масляными красками действительно чудесные, и не стыдно их рекомендовать истинным знатокам искусства.
— Хорошо! Но теперь он больше не пишет картин. Боится доносов. И это его поддержит только временно. Надо что-то придумать.
— Уговорим его ежедневно приходить сюда с утра и до трех, пока мы на муштре, пусть рисует здесь до сумерек. Мы возвращаемся в половине четвертого и сразу садимся обедать. Надо, чтобы он обедал с нами, а панна Констанция пусть постарается, чтоб он всегда был сытый.
— Да, но что же он здесь будет рисовать? Не ту же панну Констанцию?
— Закажем ему автопортрет, и в виде аванса подарим большой ящик красок. И пусть работает. Отец префект не откажет одолжить ему для такого случая свое большое зеркало.
— Прекрасно придумано! Я даю два рубля на краски! — выкрикнул Турно.
— Я рубль серебром!
— У меня денег сейчас нет: днями получу и дам свою часть!
— Я даю три рубля. Сегодня кое-что получил.
— А я рубль.
Деньги сыпались на колени Зеленки.
— Надо и мольберт ему купить. И полотно!
— И Венгржиновского надо привлечь: он не откажется.
— И аптекаря Цейзика!
— И братьев Чернышевых!
— А я подарю ему фунт табака — дюбека или кафана. Он так любит хороший табак!
Собранные деньги отдали Залескому, который хорошо разбирался в красках, и приказали купить наилучших. А Вернер согласился в воскресенье пойти к Шевченко и сказать, что, дескать, в кружке есть интересные новости.
На том и согласились, уверенные, что на этот раз Шевченко им не откажет. И действительно, в воскресенье Тарас пришел к своим польским друзьям. Они сразу окружили его и преподнесли ему свои подарки: роскошную коробку красок, табак, мольберт, набор кистей Шариона и несколько листов загрунтованного полотна, и все вместе начали просить, чтобы он нарисовал свой портрет.
Шевченко был растроган и растерян. Он не знал, как и благодарить их, потом задумался и наконец сказал:
— Хорошо, если вы мне мастерскую здесь предлагаете, я согласен, но не требуйте, чтобы я сразу же сегодня взялся за кисти.
Друзья не спорили и только взяли с него слово, что он действительно будет приходить в их дом рисовать или писать стихи.
— Поэтому мы не только краски приобрели, но и мольберт, чтобы не надо было ничего носить улицей, привлекая внимание прохожих, — пояснил Зеленка.
Шевченко снова поблагодарил друзей, потом добавил:
— И не говорите мне больше «пан Шевченко». Я для вас просто Тарас, как водится между настоящими друзьями.
— Хорошо, дорогой Тарас, — ответил Зеленка.
Но другие ссыльные смущенно загудели:
— Тогда мы будет называть тебя батькой… Ты хотя и ненамного старший… Да тут не в возрасте дело!
В эту минуту кто-то позвонил с улицы. Панна Констанция побежала открывать, и в комнату вошел Алексей Чернышев. Начался оживленный и радостный разговор, полный воспоминаний, за скромным, но сытным товарищеским ужином. Чернышев рассказал немало столичных новостей и, рассказывая, взял альбом и начал рисовать то одного, то другого с присутствующих.
— Нарисуй нас всех вместе, — попросил Тарас. — Пусть будет нам память о сегодняшней встрече.
И под общий шум, смех и разговоры Чернышев начертил карандашом несколько силуэтов — кучку друзей, захваченных интересным разговором…
Шевченко снова сидел серьезный, погрузившись в свои какие-то мысли.
— О чем задумался, батько Тарас? — подсев, спросил его Залеский.
— Мысли мои там, на Украине… Все чаще думаю, удастся еще хотя бы одним глазком взглянуть на Днепр, на родные просторы, на рай зеленый… А как вспомню, как там люди живут в этом раю и мучаются… и сердце обливается кровью… Вспомнил свое детство, родной дом, отца, мать… и такая тоска схватила душу… Вчера она излилась стихами…
— Батька Тарас, — начали все его просить, — прочитай, батька…
Мгновение поколебавшись, срывающимся от волнения голосом Шевченко начал:
За що, не знаю, називають Хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились, Найперші сльози. Я не знаю, Чи єсть у бога люте зло, Щоб у тій хаті не жило?Суровые интонации его голоса убеждали, приказывали верить поэту. Все молчали, и так тихо стало в комнате, что было слышно, как потрескивают свечи на рояле, а поэт завораживал переливами своего голоса, в котором слышались слезы:
У тій хатині, у раю, Я бачив пекло. Там неволя, Робота тяжкая, ніколи І помолитись не дають. Там матір добрую мою Ще молодую — у могилу Нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми (А ми малі були і голі), Не витерпів лихої долі, Умер на панщині!.. А ми Розлізлися межи людьми, Мов мишенята…Молча плакала панна Констанция. Тяжело вздохнул Томас Вернер, вспомнив и свое нищенское детство. А Шевченко уже обращался к самому богу, как же он допускает такую нечеловеческую жизнь для людей, созданных для того, чтобы радоваться красоте земли и неба, и с сарказмом спрашивал:
А може, й сам на небесі Смієшся, батечку, над нами Та, може, радишся з панами, Як править миром!И советовал богу посмотреть, что творится в том «рае», воспетом панами и их подхалимами-поэтами:
Що там твориться у тім раї! Звичайне, радість та хвала! Тобі єдиному святому За дивнії твої діла! Отим-то й ба! Хвали нікому, – А кров, та сльози, та хула, – Хула всьому! Ні, ні, нічого Нема святого на землі… Мені здається, що й самого Тебе вже люди прокляли!— Ой! — перепуганно вскрикнула панна Констанция, которая не могла спокойно слышать таких слов про бога.
Вздрогнул и Томас Вернер и в мыслях начал читать «Патер ностер», а Турно схватил Шевченко в объятия и начал его пылко поздравлять с прекрасным стихотворением. Все задвигались, зашумели. Говорили, что стих оказал на них огромное впечатление…
Шевченко писалось. Он написал большую поэму «Петрусь» о судьбе парня, что взял на себя чужую вину и пошел на каторгу, спасая от суда настоящего виновного. Не одну такую историю слышал Шевченко в каторжных казематах…
С гневом и ненавистью писал он и о тех, кто утопил в болоте чистый алмаз его души, кто заставил его «кропать плохенькие стишки», вместо того чтобы разжигать искру неугасимого пламени, которыми должны они пылать перед глазами всего человечества. С огромной силой написал он эти строки и снова вспомнил свой замысел, свое «Распятье». А оно было бы совсем другим в отличие от всех канонических «Распятий» и православной, и католической церкви!..
Иногда, утомленный гневом и сарказмом своих строк, Шевченко жаждал тишины и мягкой нежности лирических поэзий. Тогда он вспоминал женщин, которые его любили, или казалось, что любили, вспоминал свое детство — нищее и безрадостное. Теперь, окутанное сказкой воспоминаний, оно казалось ему прекрасным…
І досі сниться: під горою Меж вербами та над водою Біленька хаточка. Сидить Неначе й досі сивий дід Коло хатиночки і бавить Хорошеє та кучеряве Своє маленькеє внуча. І досі сниться, вийшла з хати Веселая, сміючись, мати, Цілує діда і дитя Аж тричі весело цілує, Прийма на руки, і годує, І спать несе…В начале марта пришло письмо от Репниной. Как всегда, оно было наполнено теплой заботой о бедном изгнаннике, надеждой на лучшее будущее. Письмо надолго согрело и украсило его серые будни.
«Только теперь я наконец по-настоящему оценила великий талант нашего Гоголя и его „Мертвые души“. Вы правы, Тарас Григорьевич; это одна из прекраснейших наших книг. Я его раньше не понимала», — писала, в частности, Варвара Николаевна.
Тарас искренне обрадовался этому признанию. Он всегда склонялся перед Гоголем и поторопился ответить Репниной большим сердечным письмом.
В нем Тарасу пришлось немного схитрить: он знал, что Репнина — глубоко религиозная. Это была экзальтированная, мистически настроенная девушка, и оскорбить ее чувства означало бы навсегда потерять ее дружбу и уважение, а дружбой с ней Шевченко слишком дорожил. Вот почему он совсем не вспомнил в письме о последней книге, в которой Гоголь под влиянием религиозного психоза зачеркнул свое великое творчество и оправдывал и крепостничество, и казнь декабристов, кандалы петрашевцев, и страшную «зеленую улицу» из шпицрутенов, и кнуты, и все другие ужасы николаевского режима.
«Вспомните! — пишет Шевченко. — Случайно как-то зашла речь у меня с Вами о „Мертвых душах“, и Вы отозвались чрезвычайно сухо. Меня это поразило неприятно, потому что я всегда читал Гоголя с наслаждением… Меня восхищает Ваше теперешнее мнение и о Гоголе, и о его бессмертном создании! Я в восторге, что Вы поняли истинно христианскую цель его! Да!.. Я никогда не перестану жалеть, что мне не удалось познакомиться лично с Гоголем. Личное знакомство с подобным человеком неоцененно, в личном знакомстве случайно иногда открываются такие прелести сердца, что не в силах никакое перо изобразить!..»
Да, Репнина была надежным другом. Не побоялась она написать графу Орлову, добиваясь помилования или хотя бы разрешения ему рисовать, за что получила суровый ответ с прямой угрозою судом и арестом, если она не перестанет интересоваться судьбой осужденного поэта. Но она не испугалась и не отказалась от переписки с поэтом, только предприняла некоторые наивные меры, чтобы не так мозолить глаза жандармам: адрес писала не она, а ее приятельница Глафира Псел, письмо отправляли не с Яготинской почты, а с одного из ближайших городков, и адресовали его в Оренбург, в штаб Военного округа его высокоблагородию капитану Карлу Ивановичу Герну. Все это было связано со значительным риском, и Шевченко это понимал и тем выше ценил каждое слово Варвары Николаевны…
В помещении на Костельной покрывался пылью на мольберте начатый еще в декабре портрет Лазаревского, а в слободке — портреты Герна и Софьи Ивановны. Герн был всегда занят, а Софья Ивановна позировала редко и без желания. Шевченко было неудобно навязываться, но он очень хотел хотя бы таким образом отблагодарить Гернов за все хорошее, что делал для него Карл Иванович.
Теперь он все время и силы отдавал автопортретам: писал себя и в мундире, и в сюртуке, и в белой, и в черной фуражке. Один из таких автопортретов отослал Лизогубу, другой — в подарок Репниной.
Друзья уговаривали Шевченко нарисовать себя не в обычной комнате, а в одном из каторжных казематов, за решеткой, закованным в кандалы. Тарас не согласился на такую символику, но снова взялся за кисти. Портрет получился очень удачный. Доморацкий, Станевич, Турно и все начали просить этот портрет на память. Шевченко как раз сидел без копейки… Фальшивый стыд не позволил ему в этом признаться. Напряженно думал он, где и как выручить за него хотя бы немножко денег, поэтому сказал, что обещал показать его знакомым, и забрал его на Костельную. И какая же была его радость, когда встретил его Лазаревский. Наконец-то вернулся он из Гурьева-городка, где пробыл целых три месяца.
После объятий и первых вопросов Тарас развернул и показал ему портрет.
— Чудесный! Очень похож, — восхищался Лазаревский, рассматривая его и издали, и ближе. — Где же ты его писал?
— У наших ляхов, на Сакмарской улице, — пояснил Шевченко. — Возьми ты его, бога ради! Я хочу, чтобы он остался в твоих руках, ибо ж выпросят они его у меня, а мне деньги край как нужны.
Лазаревский замялся.
— Никак не могу, дорогой друг. Портрет твой — вещь ценная, художественное произведение, и мне дорога, но сейчас, когда Сергей переехал в Петербург, мне самому будет трудно! Ведь он зарабатывал значительно больше меня. Платить, ей-богу, нечем.
Шевченко поднял ногу и показал свой порванный сапог.
— Видишь, в чем хожу? Дай мне свои старые сапоги, больше ничего мне не надо.
Лазаревский почувствовал, как кровь обожгла ему щеки, а сердце сжалось в маленький комок. Он бросился к шкафу, вынул почти новые сапоги и протянул их Тарасу.
— Но как ты в морозы ходил? Были же у тебя валенки?
— Были, но протерлись в феврале. Но теперь уже не страшно: весна близко, а вообще… — и Шевченко коротко рассказал, как плохо сложились его дела.
— Думали Бутаков с Обручевым сделать лучше, напомнив обо мне Орлову, а вышло только хуже. Теперь, наверное, и аральский альбом не поможет, — вздохнул он.
Сердце Лазаревского снова сжалось. Герн как-то говорил ему о безнадежности положения Шевченко. Но зачем раздражать раны поэта, которому и без того приходится несладко! И Лазаревский промолчал, а на другой день написал брату Михаилу письмо и попросил его как можно быстрее помочь Тарасу. Письмо не осталось без быстрого ответа: столичные друзья сразу сложились и выслали ему сто рублей.
Прошло три недели. Был чистый четверг, апрельский солнечный день. На колокольнях медленно и грустно перекликались большие колокола, как будто падали тяжелые нудные капли, а в лесу за Уралом и в городе, на редких вербах и березах во дворах, громко кричали и дрались за прошлогодние гнезда грачи. На березах ветки стали слегка зеленоватыми, все в узелках набряклых почек. От домов разносился запах куличей, жареной поросятины и других вкусностей.
Шевченко пообедал у Гернов и вышел вместе с Карлом Ивановичем на крыльцо. Герн остановился на ступеньках, застегивая портупею, и засмотрелся на журавлиный клин в небе.
— Снова надо идти в штаб, — с досадой сказал он. — Вырваться хотя бы на день на охоту! В степи по всем озерам и лужам полно птицы, а дел такая куча, что часто сидишь до полуночи… Кстати, сегодня привезли почту. Если будут для вас письма, я вырвусь на минутку домой, чтобы порадовать вас праздничными приветствиями. Вы будете дома?
— Думал побродить возле Урала, но ради писем буду сидеть до сумерек, — ответил Шевченко и медленно направился к своему флигельку. Он надеялся, что к нему придет Забаржада, если сумеет освободиться от праздничных хлопот своей хозяйки.
В углу мастерской стоял мольберт с портретом Герна. Лицо было почти закончено, но руки, плечи и мундир едва намечались. Нехотя взялся Шевченко за кисти и начал подрисовывать золотые подковки эполет, потом толстые шнуры аксельбантов, все время посматривая в окно, надеясь увидеть Забаржаду. Но понемногу увлекся и сам не заметил, что проработал почти два часа без перерыва. На мгновение оторвавшись от портрета, он заметил прапорщика Исаева, который промелькнул от калитки к крыльцу основного дома.
«Значит, Герн дома, я его проворонил, — подумал Шевченко. — Вот и Исаев принес ему бумаги из штаба на подпись».
Набросив свое худенькое пальто, Шевченко перебежал двор к черному ходу и вошел в кухню, где Гурий вынимал из печи румяные пасхи, от которых вкусно пахло шафраном и лимоном. Тарас вытер грязные сапоги и решительно двинулся к дверям внутреннего коридора, но вдруг Гурий перекрыл ему дорогу.
— Нет капитана, — сказал он. — Еще не приходили.
— Тогда я к госпоже.
— К ним нельзя. Они спят.
— Как это спят?! Да к ней только что прапорщик Исаев пришел. Я видел, как он пробежал двором.
Вместо ответа Гурий уперся в дверь руками.
— Да ты что, с ума сошел? — возмутился Шевченко. — Когда у нее гости — можно к ней и мне.
— Вот поэтому и нельзя, что сейчас у нее тот прапорщик, — отрезал Гурий и глянул Шевченко просто в глаза. — Да что вы, Тарас Григорьевич, дите малое или что?! Разве можно к ней, когда у нее любовник?!
Шевченко смотрел на Гурия широко раскрытыми глазами.
— Такого мужа, паскуда, имеет и с такой гнидой снюхалась! — говорил далее Гурий. — Чистый четверг, пост, а она… Да другая за нашего капитана бога бы благодарила… То с ляхами своими, то с офицерьем… А мне покрывать доводится… Тьху! — аж плюнул он.
— Какая грязь! — прошептал Шевченко.
Он давно уже понял с душевной болью, что и сам недавно там, на Украине, был героем случайной интрижки. Наверное, именно поэтому стало ему так больно за Карла Ивановича, в котором он любил и ценил разумного, гуманного и глубоко честного человека.
А Гурий все говорил, с ненавистью поглядывая на двери коридора:
— Придет сюда этот паршивец паскудить в гнезде честного человека, а потом напьется пьяный и похваляется: «Ни одна баба против меня не устоит». Денщик его часто ей цидулки от него носит. «Молчал бы лучше прапорщик, — говорит и он, — потому что это дело добром не закончится». И верно: мы, простые люди, набьем один другому морду и бабе хорошего прочухана дадим — и все. А господа сразу за пистолеты берутся либо за сабли. Долго ли тут до беды! А Исайка этот по кабакам и в клубе болтает черт знает что.
И Гурий грустно вздохнул и осторожно оттеснил Шевченко от дверей.
— Идите, идите себе, Тарас Григорьевич, так будет лучше.
Шевченко вышел во двор и, как был, без шапки, в незастегнутом летнем пальто, вышел на улицу и побрел свет за очи безлюдной, поросшей спорышом улицей.
Возле слободской церкви уже кучками стояли люди. Но Шевченко, не посмотрев, прошел мимо них и спустился к Уралу. Река только днями скинула ледовый панцирь, и от нее веяло холодом, а вода была темной и грязной. Урал уже вот-вот должен был разлиться по заливным лугам, откуда слабенький и теплый ветерок доносил запах черемухи. Но и этого не замечал грустный поэт.
— А я с таким теплым чувством начал ее портрет! Так вот почему она стала такая невнимательная ко мне. Боится, что догадаюсь, — полушепотом сказал сам себе Шевченко. — Бедный Карл! Как он переживет такое?..
Он пошел назад и сначала блуждал слободскими улицами, потом околицей города и наконец дошел до центра.
Повечерело. Шевченко дошел до Соборной площади, где, наполняя небо низким бархатным басом, гудел большой и тяжелый главный соборный колокол. Каждый удар его медленно и величаво расплывался в воздухе мягкими широкими волнами и долго-долго колебался глубокой зыбью, как когда-то колебала шхуну «Константин» глубинная зыбь в штилевые ночи возле хивинского берега.
Высокая, трехъярусная звонница таяла в темноте, как будто касаясь невидимым снизу крестом темно-синего высокого неба, на котором все ярче и ярче проступали пушистые весенние звезды.
Шевченко незаметно дошел до дома Кутиной. Лазаревский уже дома. В комнате приятно пахнет свежими пасхами. Раскрасневшаяся Аксинья подает самовар.
Шевченко сбрасывает пальто и только теперь замечает, что он без шапки.
— Ну, садись ужинать, — сказал Лазаревский. — Кстати, вот тебе двадцать рублей. Получил остаток командировочных. Это тебе за портрет.
— Спасибо, — крепко жмет ему руку поэт и неожиданно добавляет: — Не женись, брат. Все они такие: на взгляд — ангел, а по сути…
Чрезвычайно удивленный, Лазаревский начал расспрашивать поэта, что случилось. Шевченко молчал.
— Перебирайся снова ко мне, — умолял Лазаревский. — Мне так грустно здесь одному без Сергея и Михаила. Ведь ты единственный человек, с которым можно слово сказать родным языком. Действительно, переезжай! Ты для меня теперь не только любимый поэт, ты мне как родной…
— Хорошо! — сказал наконец Тарас. — Да и портрет твой надо закончить. Завтра принесу краски, а в субботу переберусь.
— Вот и чудесно! Завтра мы еще работаем, но мы договорились выходить по очереди, потому что каждому надо либо что-то купить, либо в парикмахерскую. В два часа я буду дома. Пообедаем вместе.
Еще раз буркнув «хорошо», поэт допил свой чай и начал раздеваться ко сну.
Утром Лазаревский ушел на работу, не разбудив Тараса. Шевченко проснулся поздно, побрился и поторопился в слободку за письмами и красками. Не успел он войти в свою мастерскую, как к нему постучал Герн.
— Вот вам, друг мой, письмо к празднику, — подал он Тарасу конверт. — Это во-первых. Во-вторых, сообщаю вам, что вас наградили за участие в Аральской экспедиции пятью рублями серебром. Поторопитесь получить. В-третьих, я решил сегодня отдохнуть дома и немного вам попозировать. Думал поехать на охоту, но так устал, что не могу. Наверное, вы все-таки на нас с Зосей за что-то обиделись, что наши портреты до сих не закончены, — добавил он, приблизившись к мольберту. — О! Оказывается, вы без меня кое-что сделали! Разрешите только одно маленькое замечание: этот шнур аксельбанта всегда короче другого. Вот посмотрите!
Скинув шинель, Герн сел на свое обычное место.
— Вот жаль! — вздохнул Шевченко. — Придется действительно исправить…
Он подвинул мольберт ближе к окну, осторожно соскреб подсушенную краску и взялся за кисть.
— Неужели и штаб сегодня не работает? — спросил он не сразу.
— Работает, но писари отпросились в церковь, а я сказал, что еду на охоту, чтобы дали мне покой, потому что и сам Обручев поехал стрелять диких уток.
Разговор не вязался. Герн закурил. Вдруг Шевченко увидел, как через двор прошмыгнул прапорщик Исаев, по-злодейски оглянулся на флигелек.
Шевченко вздрогнул и уронил кисть.
— Что такое? — встревоженно спросил Герн.
— Н-ничего, — сказал Шевченко и наклонился за кистью.
— Там кажется кто-то прошел?
— Т-так. Кажется.
— Значит, пропал мой отдых! Это, наверное, за мной, — поднялся Герн, потянулся к шинели и вышел из флигеля.
— Стойте! — кинулся вдогонку Шевченко и схватил его за рукав. — Будьте готовы… спокойны…
— Что такое? — не понял Герн. И вдруг, внимательно взглянув Шевченко в глаза, побледнел и бросился к черному входу.
Шевченко побежал за ним. Герн влетел в кухню, в коридор, в столовую, заглянул в пустую гостиную и кабинет. Тогда ударом ноги выбил дверь спальни и исчез за ними.
…Минута… Две…
Двери широко раскрылись…
Шевченко едва успел отклониться, Исаев вылетел в столовую, треснувшись головой о львиную морду на дверцах буфета.
Не помня себя, бросился Тарас к флигелю, схватил краски и кисти и поспешил на Костельную…
Как сумасшедший, влетел Исаев к ротмистру Мансурову и, не поздоровавшись, стукнул по столу кулаком:
— К барьеру! Драться! Драться до большой крови! Серж, ты должен быть моим секундантом!
— Прежде всего надо поздороваться, а потом — с кем это ты собираешься драться?
— С Герном! Он меня смертельно оскорбил! Унизил! Опозорил перед солдатами! Одевайся! Передай ему мой вызов!
— Ну-ну! Снова женщина? Какой ты действительно жеребец! — покачал головой Мансуров. — Рассказывай все до конца.
— Все дело в Зосе Герн. Черт забери, чрезвычайно аппетитный бабец! Втюрилась она в меня по самые уши, а эта немецкая свинья… Приревновал, как мужик. Ну, вызвал бы меня, как надлежит порядочному человеку, а он… Ворвался в спальню в самый критический момент…
— Хо-хо-хо!!! — басовито засмеялся Мансуров. — Постой, постой, да у тебя вон ухо окровавленное! Неужели этот доморощенный Отелло укусил тебя за ухо?
— Не укусил, а стащил с кровати. Чуть ухо не оторвал. Я должен драться и немедленно!
Мансуров снова оглушительно рассмеялся, потом вытер слезы с глаз и покачал головой.
— Ну и дурак! Герн — первый стрелок Оренбургского края, да и в Петербурге трижды брал приз за стрельбу. Убьет он тебя, как дикую утку. Не дуэль, а самоубийство.
Исаев сразу притих.
— Но я же — офицер… Я должен драться либо подать в отставку. Но тогда с чего жить?! — жалобно спросил он.
— Дурак ты, а не офицер! — вел далее Мансуров. — Мало тебе крепостных девок, мещанок и разных модисток? Так нет: подавай тебе даму. А с дамами дело сложнее: мужья не любят делиться.
— Хорошо тебе философствовать! Ты лучше скажи, что мне сейчас делать? Ведь его денщик и этот хохлацкий художник, который писал мой портрет, видели все.
— Представляю себе! Неповторимое зрелище!
Мансуров снова громко рассмеялся, потом смех вдруг исчез с его лица, он поднялся и начал застегивать мундир.
— Это действительно погано! Шевченко принят в наилучших домах и разнесет скандал по всему Оренбургу. Да и ты не раз болтал черт знает что… Тогда дуэли не избежать. А все Обручев и эти клятые паны либералы! Носятся с эти хохлом, представляют один другого на повышение да к орденам, а верных слуг царских… Ведь ты тоже рассчитывал на вторую звездочку на погонах?
— Еще бы! Я должен был получить подпоручика и командовать половиной роты, — возмущенно подхватил Исаев. — Но не отклоняйся от темы, скажи, что мне сейчас делать?
— А вообще-то, — размышлял в голос Мансуров, — не такой уж он и дурак, этот хохол, чтобы болтать лишнее. Думаю, он будет молчать. И если ты сам свяжешь свой язык — все останется шито-крыто… А Герну тоже не так уж будет приятно прославиться рогоносцем.
— Да, но я оскорбленный!
— Еще неизвестно, кто кого больше оскорбил. Но отомстить за оцарапанное ухо — это очень притягательно. И это надо обдумать. Не ты один на него точишь зубы.
Глаза Исаева вспыхнули ненавистью: он вытянул тонкую шею и всем своим видом показывал напряженное внимание. Мансуров закурил трубку с длиннющим чубуком и заговорил, хитро подмаргивая:
— Кто у нас формирует списки представленных к наградам? Герн, как адъютант по особым поручениям. Утверждает их Обручев. На Новый год вся их компания была награждена орденами и другими наградами. И на Пасху будет то же самое. И следующей зимой. И далее… Всегда и везде, пока мы их не сбросим с насиженных мест. Мы уже об этом не один раз размышляли с Толмачевым. Он больше, чем ты, ненавидит Герна и Обручева и всю их либеральную компанию на примере этого хама Матвеева. Пойдем к Толмачеву. Наверное, что-нибудь с ним придумаем.
— Да, но я вовсе не хочу, чтобы Толмачев знал об этом скандале.
— Во-первых, Толмачев свой человек, а кроме того, мы не станем рассказывать ему все. Достаточно и намека.
Исаев еще колебался, но мысль, что Герн сам может его вызвать, положила конец его сомнениям, и друзья двинулись в крепость, где жил Толмачев.
Генерал был дома. Услышав, что они не в гости, а по какому-то делу, он пригласил их в кабинет, замкнул дверь и был готов выслушать. Исаев тоном, что подчеркивал высшее доверие, коротко изложил свое раздражающее дело.
— Черт толкнул вас увлечься этой полячкой! — возмутился генерал. — Нашли «неприступную крепость», где ворота настежь для каждого прохожего. Но чтобы офицер генерального штаба привел с собой какого-то солдата, и раскрывал перед ним тайны своей спальни, и компрометировал такого же офицера, как он сам, — этого я никак не понимаю. До чего доводит бессмысленный либерализм! И вообще с того дня, как уехал от нас наш дорогой Перовский, жизни не стало порядочным людям. К сожалению, Обручев такой осторожный, что тяжело нащупать у него слабое место: взяток не берет, женщинами не интересуется, не пьет. Интендантов и снабженцев за наименьшую провинность отдает под суд, законы и приказы выполняет. Вообще не штаб у него, а институт благородных девиц, а солдат развращает потаканиями и с моряками дружит — особенно с этим… как его…
— С Бутаковым?.. — услужливо подсказал Мансуров.
— Да-да! А наши морячки, как известно, пошатались по белому свету, да и набрались по Европам бунтарского духа. Один Бутаков чего стоит! Не матроса послал, а сам полез в воду дно промерять. А что с наградами нас, как вы говорите, обижают, то к этому мы уже привыкли. Обручев кого хочет, того и награждает. На то его губернаторская воля. Вот если бы его сковырнуть… Тогда бы и нам посыпались чины, кресты и звездочки на грудь и на погоны. Кстати: пишет мне бедолага Перовский, что места себе не находит, так грустит по яицким казакам. Даже государь недавно заметил, какой он хмурый и скучный. «Что с тобой, Перовский?» — спрашивает. Наш Василий Алексеевич просто сказал, что соскучился по славным уральцам. Государь улыбнулся и ответил, что этой беде можно помочь. А это значит, что, если бы Обручев на чем-то споткнулся, — вернется к нам наш дорогой Перовский. Но пока что приходится терпеть и ждать…
И Толмачев грустно развел руками…
— Все это, ваше превосходительство, так. Но посоветуйте нашему молодому приятелю, что делать, Обручева ему не сбросить, а Герна надо наказать за ободранное ухо. Николаю Григорьевичу надо избежать дуэли с таким опасным противником, как Герн.
Генерал с минуту молчал, потом откровенно признался:
— Вся эта история — неимоверная глупость, не стоящая и ломаного гроша. Лучше всего закрыть на нее глаза и забыть. Но… — вдруг остановился он и не сразу добавил: — С нее можно кое-что сделать на пользу всем нам и одновременно дать Герну хорошего щелчка. Ведь Герн, как адъютант по особым поручениям, должен не раз читать государеву резолюцию в деле Шевченко и не раз докладывать ее Обручеву. А они — Герн и Обручев — первые нарушили царскую волю, откомандировав Шевченко в состав Аральской экспедиции как художника. Да и сейчас они ее систематически нарушают, откровенно и нагло. Если бы узнал государь, как в Оренбурге исполняются его приказы, — клочками полетела бы с них кожа. Правда, пострадал бы и Шевченко, а он талантливый художник и жаль его. Но для нас он просто солдат и должен нести свою солдатскую службу, а не болтаться в оренбургских салонах. А если Николай Григорьевич, — повернулся генерал к Исаеву, — подаст Обручеву рапорт на Герна, а заодно и на самого Обручева, Обручев будет вынужден влепить Герну суровый выговор. Таким образом, мы поднесем обоим на Пасху такое «красное яичко», что светлый праздник станет им темнее самых хмурых будней. А если Николай Григорьевич отошлет такой же рапорт графу Орлову, — можно биться в залог на сто тысяч рублей, что генерал-адъютантские вензели слетят с эполет Обручева, а потом потеряет он и высокий пост военного губернатора. И тогда снова вернется к нам наш Перовский.
— А Герн? — не утерпев, перебил его Исаев.
— Что Герн!.. Не до дуэли тогда ему будет! Слетят и с него адъютантские аксельбанты, а возможно, и офицерский мундир. Достанется и этому «ученому» морячку Бутакову, и никакие альбомы и разрисованные карты не спасут его от опалы.
— Чудесно!
— Большое вам спасибо за совет! — горячо пожали генералу руку Мансуров и Исаев.
Толмачев довольно улыбнулся в усы.
— Поздравляю и вас, господа, с большой победой, — весело ответил он. — Нашли все-таки у либералов ахиллесову пяту. Теперь они в наших руках.
Исаев молниеносно преобразился из растерянного в победителя: он подкрутил свои рудые усики и высоко поднял голову с петушиным чубчиком.
— Тысячу раз — мерси! — щелкнул он каблуками. — Итак, остается написать рапорт.
— И как можно быстрее, чтобы подать его завтра утром, — добавил Толмачев. — Эффект от него будет умопомрачительным.
Написать обыкновенный коротенький рапорт было для Исаева настоящей мукой. С грамматикой он всегда враждовал, простейшие мысли никак не ложились на бумагу и сразу становились тяжелыми, как скала гранита, а одни и те же слова и фразы многократно повторялись на одной и той же странице.
Но сейчас надо было написать не коротенький рапорт, а целый серьезный донос, который попадет не только в руки Обручева и шефа жандармов, но, возможно, и самого царя. Пот прошиб прапорщика, и не успел он оглянуться, как пробило третью и штаб сразу опустел. Первыми исчезли офицеры, потом писари позакрывали свои столы и незаметно растаяли, как лед на солнце, а Исаев все сидел над доносом, в растерянности грыз перо и раз за разом рвал на куски написанное.
— Ваш бродь, господа офицеры давно пошли обедать. Всех дел одним разом не переделаешь. Шли бы вы отдыхать или к плащанице приложиться, — обратился к нему дежурный писарь, который должен был сидеть в канцелярии до вечера. — Снова же надо пол мыть, убрать все к празднику.
Исаев вздрогнул, как вор, пойманный на горячем, и быстро сгреб свою писанину, потом посмотрел на часы.
— Действительно, пора домой, — сказал он, овладев собой, сунул в карман написанное и грустно побрел снова к Мансурову, чувствуя острый страх. В самом деле, на улице мог встретиться ему Герн.
Мансуров прочел написанное и швырнул на письменный стол.
— Ну и дурак ты. Настоящий дурак! — искренне вырвалось у него. — Разве так пишут доносы?! «Имею честь доложить вашему высокопревосходительству, что художник Шевченко, который писал по моему заказу мой портрет и портрет ее высокопревосходительства, вашей жены, а также портрет баронессы Бларамберг и многих других, является ссыльным солдатом и, согласно приказу государя императора, он должен жить в казарме, не писать и не рисовать». Да все это он сам хорошо знает! И потом в слове «честь» надо писать «е», а не «ять», а в слове «портрет» букву «о», а не «а». Эх ты, грамотей несчастный!
— Да я же так торопился, так волновался… Не до ятей мне было. Уже пятый час. Все давно разошлись, — оправдывался Исаев. — Будь другом, Серж, помоги! Перо из рук падает, когда подумаю, что государь будет читать.
— Хорошо! Черт с тобой! Помогу, но не ради тебя, а потому, что пока Обручев сидит у нас на шее — не быть мне до веку подполковником, — решительно отрезал Мансуров.
Больше часа писал он, то зачеркивая целые фразы, то добавляя что-то к написанному. Наконец довольно откинулся на спинку кресла и начал громко читать свой донос:
«В порыве искренней преданности престолу и родине я, прапорщик Исаев Николай Григорьевич, считаю своим долгом и делом чести довести к сведению вашего высокопревосходительства, что адъютант ваш Герн Карл Иванович, капитан-лейтенант военно-морского флота Бутаков Алексей Иванович и другие начальствующие особы Оренбургского края, наверное, того не зная, кричаще топчут и нарушают волю наияснейшего монарха нашего, высказанную в собственноручной резолюции его императорского величества на конфирмации рядового Шевченка о том, чтобы оный художник и автор был отдан в солдаты и отправлен под наисуровейший присмотр начальства с запрещением писать и рисовать в Оренбургский край для прохождения там воинской службы и, согласно распоряжению Третьего отдела собственной его императорского величества канцелярии, оный Шевченко должен пребывать в одной из отдаленнейших крепостей Оренбургской линии.
Теперь же Шевченко, записанный как художник в состав описательной экспедиции на Аральское море, которая давно закончила свое существование, живет в Оренбурге, в доме вышеназванного капитана Герна Карла Ивановича, адъютанта по особым поручениям вашего высокопревосходительства, свободно ходит по городу в цивильной одежде, запросто принят в высшем обществе и пишет по заказам портреты высокопоставленных особ, в тому числе и жены военного губернатора Матильды Петровны Обручевой, чем добывает себе средства к существованию, о чем имею честь довести до сведения вашего высокопревосходительства для принятия соответствующих мер и сурового наказания всех виновных в таком кричащем нарушении монаршей воли».
Мансуров громко прочитал этот достойный образец своего творчества, смакуя каждое слово, потом с удовольствием щелкнул языком и указал Исаеву на кресло возле письменного стола.
— Садись и переписывай начисто в двух экземплярах. Один пошлем Обручеву, а другой — в Петербург, в Третий отдел графу Орлову. Переписывай внимательно и не наделай грамматических ошибок, — добавил он, положив перед Исаевым два листа лучшей бумаги.
Исаев писал едва ли не до полуночи, а утром не пошел в штаб, а послал денщика на почту сдать два одинаковых письма. За обедом он выпил целый штоф водки и сразу же лег спать…
Герн не разговаривал с женой и не замечал ее присутствия. Спал в кабинете на диване и проснулся с головной болью, но, выпив крепкого кофе, заставил себя одеться и, как всегда, подтянутый и пунктуальный, точно минута в минуту появился в штабе.
Утро прошло в рассмотрении секретной фельдъегерской почты, в подготовке доклада Обручеву, потом долго согласовывал с Толмачевым список участников праздничного парада и только в полдень занялся мелкими текущими делами и рассмотрением обычной ежедневной почты. Солидная кучка писем, жалоб и пакетов понемногу таяла перед ним: он разрезал конверты, быстро просматривал написанное, делал на каждом необходимые пометки, а некоторые бумаги складывал отдельно для доклада Обручеву и сразу брался за новый пакет.
Последним лежал пакет со штемпелем «городской». Герн разрезал конверт, вытащил аккуратно сложенный вчетверо лист плотной бумаги, густо исписанный с двух сторон, и начал читать. Кровь бросилась ему в голову.
— Какой мерзавец! Какая ядовитая гадина! — шептал он, пробегая глазами четко выписанные строки.
Да, писал прапорщик Исаев. Это действительно его колючий почерк, но зловещая логика и ехидство в доносе — не его. Донос написал кто-то другой, с едкой, истинно жандармской хваткой. До этого Исаев никогда бы не додумался, и доказательство этого то, что он первый заказал Шевченко свой портрет, но об этом промолчал в доносе… Его использовали как оружие. Он даже не против Шевченко, этот насыщенный отравой донос, а против генерал-губернатора Обручева, против Герна как его адъютанта и против несчастного Бутакова, человека такой большой, такой смелой и чистой души!
— Какая подлость… — процедил снова сквозь зубы Герн. — Но какая сволочь стоит за ним? Неужели тут действуют «перовцы»?
Оставив почту на столе, Герн внутренними винтовыми ступеньками поднялся на второй этаж в личные покои Обручева.
— А-а! Наконец, дорогой мой, — встретил его генерал. — Спросите там, пожалуйста, всем ли разнесли приглашения на разговение?
— Слушаюсь! — машинально ответил Герн. — Но разрешите сначала познакомить ваше высокопревосходительство с этим исключительным паскудством, — положил он на стол донос Исаева.
Обручев удивленно зыркнул на Герна, надел очки и начал читать, и с каждой строчкой его лицо то бледнело, то покрывалось пятнами, то наливалось кровью, чтобы сразу снова побледнеть и покрыться крупными каплями пота.
— Какая мразь! Господи, какая мразь! — повторял генерал, читая. — Какая грязная и низкая душа!.. Но оставлять донос без внимания нельзя.
— Нельзя, — подтвердил и Герн. — Вопрос поставлен слишком опасно и подло.
— Вы тоже так думаете? Что же, на ваш взгляд, надо сделать?
— Прежде всего обыск у Шевченко, но накануне предупредить его, чтобы он успел уничтожить или надежно спрятать свои рукописи, если они есть, переписку и рисунки. Если обыск не даст результатов, а Исаев еще не написал в Третий отдел, — дело можно будет как-то замять… Но тон доноса слишком наглый и ехидный. Он грозит серьезными неприятностями. Значит, наверное… Жаль, что почта уже закрыта, я бы узнал… Приходится отложить это дело на после праздника.
— Да… да… конечно, — заволновался Обручев. — Распоряжайтесь, пожалуйста, дорогой Карл Иванович. И вот что: отправьте этому паскуднику приглашение на разговение… Вот до чего я дожил! Плюнуть бы на него, а придется пожимать ему руку, принимать его…
И вдруг тонким срывающимся от волнения фальцетом выкрикнул:
— Нет, я этого не переживу! Тут надо быть камнем! Не жалеть человека, не уважать никого и ничего порядочного! Бедный Шевченко! Такой талантливый!..
— Успокойтесь, бога ради! Если обыск будет безрезультатный, это наполовину обезвредит донос.
— Да! Да! Вы правы! Действуйте и торопитесь. Вызовите офицеров на помощь.
— Нет! Все сделаю я сам, — решительно ответил Герн и быстро вышел из кабинета. Закрыл почту в ящик стола и направился к дверям.
— Коня! — крикнул он дежурному ординарцу. Оседланная лошадь всегда стояла в штабной конюшне на случай экстренных выездов. Ординарец бегом подвел ему лошадь. Герн помчался домой.
На дверях флигелька висел замок.
— Где Тарас Григорьевич? — бросился он к Гурию.
— Не могу знать. Вчера ушли они и еще не возвращались, — объяснил тот, с тревогой и жалостью глядя на «своего капитана». — Да вы бы, ваш скобродь, пообедали. Так и обессилеть можно, и заболеть недолго. Я сейчас же подам.
Герн только сейчас почувствовал, какой он голодный, сбросил шинель, жадно проглотил заботливо поданную котлету и чашку крепкого кофе со сливками и сразу снова вышел из дома.
— Если Тарас Григорьевич вернется, скажи ему, чтобы никуда не выходил и подай ему кушать туда, в мастерскую. Скажи, что у меня к нему срочное и чрезвычайно важное дело. Я скоро вернусь, — добавил он и снова сел на лошадь.
В штабе Герн написал письмо жандармскому полковнику с просьбой в связи с сообщением, полученным в штабе, произвести обыск у рядового Шевченка и выяснить, действительно ли он пишет стихи и рисует картины вопреки высочайшему повелению, потом вызвал дежурного писаря и спросил:
— Ты когда сменяешься?
— В девять вечера, ваш скобродь.
— Так вот, когда тебя сменят, отнеси этот пакет жандармскому полковнику и сдай под расписку, — приказал Герн, вышел на улицу, подозвал извозчика и помчался на Костельную к Лазаревскому…
Отрава исаевского доноса не сразу пронзила Обручева до костей. Сначала он просто бросал отрывистые возмущенные выкрики, полные презрения к Исаеву и сочувствия к Тарасу, но когда Герн ушел и он еще раз перечитал донос, он со всей ясностью понял, что острие доноса направлено не против художника, а против него самого.
— Ох подлая гадина! — вскрикнул он на высокой пронзительной ноте и, полуоткрыв дверь в большой парадный зал, где под руководством самой Матильды Петровны четыре лакея расставляли и накрывали огромные столы для торжественного разговения, крикнул, не узнавая своего голоса:
— Тильдо! Тильдо! Иди сюда! Быстрее иди сюда!
— Что случилось? — спросила Матильда Петровна, войдя в кабинет. — Чего ты так кричишь? Люди могут бог знает что подумать.
— Это ужасно! Это неимоверно! — не слушая, выкрикивал Обручев. — Этот негодяй доносит, что мы позволили Шевченко писать и рисовать вопреки высочайшему повелению. Ты понимаешь, чем оно пахнет? Даже твой портрет приплели к доносу.
— Какой донос? — удивленно спросила Обручева. — И при чем здесь мой портрет?
— Я говорил Бутакову, что Шевченко запрещено писать и рисовать, а он настаивал. Меня уговаривали: «Для государственной надобности и ради науки можно использовать даже каторжников, а не только ссыльных». Я и пожалел бедолагу, а теперь должен погибнуть из-за него! Ты знаешь нашего государя, какой он злопамятный! Стоит только Орлову доложить — конец моей службе! Все пойдет прахом! И некому за меня заступиться! — истерично кричал Обручев, хватаясь за голову.
— Бог с тобой, Вольдемар! — пыталась успокоить его Матильда Петровна. — Все как-то наладится.
Но Обручев только еще сильнее волновался.
— У меня нет заступников в высших кругах, — кричал он. — Я — маленький человек! Я сам себе пробил дорогу в жизни! Я не аристократ, без разных тетечек и вельможных родственников! Вот что значит быть добрым и жалеть людей! Хватит! Теперь в казарму его! В каземат! У меня дети, семья! Я не могу рисковать их судьбой!
— Тише! Тише! Бога ради, тише! — молила перепуганная Матильда Петровна.
Она наливала ему валерианы, давала нюхательную соль, но Обручев долго не мог успокоиться и все повторял с отчаяньем в голосе:
— В наше время нельзя быть человеком. Надо быть камнем! Зверем! Палачом! Боже мой, что теперь будет со мной?! Что будет?!.
В полдень все учреждения закрылись, служащие разошлись. Поспешил домой и Лазаревский. После обеда Тарас снова взялся за кисти. Работалось легко и быстро, потому что он с радостью почувствовал, что портрет получится удачным и не только хорошо передает похожесть, но и написан с настроением, и веет от него тем теплом, с которым относится он к своему молодому другу.
Поработав более часа, он сделал последний мазок и положил палитру на подоконник.
— Хватит, — сказал он. — Хватит, а то можно неожиданно испортить. Посмотришь на него в конце жизни, вспомнишь нашу дружбу и добрым словом помянешь Тараса.
Лазаревский молча обнял поэта.
Солнце клонилось к горизонту. Из-за реки тянуло прохладой и ароматом расцветшей черемухи.
Друзья начали собираться к заутрене и торжественному разговению. Лазаревский был приглашен к Обручевым, а Шевченко к Кутиной. Он надеялся, что туда придет и Забаржада. Глянув в зеркало, он заметил, что надо подстричься, и пошел в соседнюю парикмахерскую. Лазаревский переодевался, когда возле крыльца остановился извозчик и Герн почти вбежал к нему в комнату.
— Где Тарас Григорьевич? — спросил он, не поздоровавшись.
— В гости собирается, пошел в парикмахерскую за углом, — ответил Лазаревский, почувствовав что-то нехорошее.
— Бога ради, позовите его быстрее и гоните в слободку. На него подан Обручеву донос. Сегодня будет у него обыск. Сожгите там все, что может его погубить: уничтожьте все следы стихов, рисунков, письма, а все самое ценное спрячьте в надежном месте. И, молю вас, спешите: дорога каждая минута!
— Садитесь, пожалуйста, а я сейчас его позову, — заметался Лазаревский.
Но Герн тоже спешил и, попрощавшись, уже в дверях бросил растерянному юноше:
— Берите с ним моего извозчика. Дорога каждая минута.
Лазаревский побежал в парикмахерскую, заглянул в нее, но Шевченко там уже не было. Бегом вернулся назад, зашел на кухню и увидел там Шевченко, который гладил брюки от нового сюртука.
— Едем в слободку: ночью у тебя будет обыск! Обручеву подан донос на тебя.
— Мстит, гаденыш, — спокойно улыбнулся поэт и вышел на улицу.
За четверть часа извозчик довез их к мастерской. Шевченко вывалил на стол целый чемодан разных бумаг и с иронией спросил:
— Ну что же здесь сжигать?
Тем временем Гурий принес дрова и растопил печку. Лазаревский начал пересматривать письма.
— Я тоже не знаю, что сжигать. Рисунки, рукописи, говорил Герн. Ну, а остальное?
— Сжигай письма Варвары Репниной. Орлов уже угрожал ей арестом за переписку со мной, — решительно сказал Шевченко и бросил в печку дорогие ему письма.
За письмами Репниной отправились в огонь портреты Софьи Ивановны и Герна, десятка полтора этюдов Аральского моря и скал, письма Лизогуба.
— Может, оставим кое-что? — спросил Лазаревский.
Но Шевченко на все отвечал одним словом:
— Сжигай!
— Послушай, Тарас, — остановил его наконец Лазаревский. — Если мы все сожжем, они поймут, что тебя предупредили об обыске, и подозрение упадет на Карла Ивановича. Ведь же он единственный человек, который мог знать о доносе. Надо что-то оставить для жандармов.
— И то верно, — согласился Шевченко. — Хватит сжигать. А теперь едем на Костельную. Там тоже надо кое-что уничтожить.
Они еще раз внимательно проверили, не остался ли какой-нибудь черновик стиха или рисунка, и уже собрались выйти, но в последнюю минуту Шевченко решил остаться.
— Езжай домой один. Спрячь свой портрет, а все, что есть в ящиках письменного стола, сожги без остатка. И вот тебе мои захалявные книжечки. Береги их, как зеницу ока, до лучших времен. А я должен «гостей» встретить с открытым забралом. Да и навести порядок здесь надо: смотри, как мы намусорили. Ведь Пасха настает.
Лазаревский не спорил. Шевченко провел его до извозчика, крепко обнял, и извозчик погнал свою лошаденку на Костельную.
Возле Сакмарских ворот навстречу уже мчался экипаж полицмейстера. Плац-адъютант Мартынов и жандармский полковник ехали вместе.
«По Тарасову душу поехали», — подумал Лазаревский, и непроизвольный холод пробежал по его спине.
Шевченко спрятал чемодан под стол, сложил вещи. Радуясь, что краски и кисти остались у Лазаревского, подмел пол, сжег мусор, потом быстро надел новую рубашку с крахмальной манишкой и манжетами, свой парадный сюртук, галстук, новые запонки, как будто собирается на торжественное разговение… И в этот момент услышал, как подъехал экипаж, потом тяжелые шаги, звон шпор. Кто-то дернул с улицы незамкнутые двери, застучал в сенцах тяжелыми сапогами, и в комнату вошли жандармский полковник, за ним полицмейстер и плац-адъютант. Двое городовых вытянулись у дверей.
— Ты арестован! — грубо кинул полковник Шевченко и приказал городовым: — Обыскать помещение!
Один из городовых бросился в другую комнату, где тоже горела свеча, и начал ворошить постель. Второй зажег огарок и пошел на кухню, а полковник с полицмейстером вывалили на стол на три четверти опорожненный чемодан и начали пересматривать оставленные им письма, перелистывать книги и старые газеты, рассматривая на них надписи и отметки.
Плац-адъютант Мартынов не принимал участия в обыске. С презрительно скучным видом сидел он в кресле возле окна, уже в парадном мундире, напудренный и надушенный, лениво потягивая сигарету и вопросительно посматривая на Тараса.
Шевченко молча стоял возле стола, внешне спокойный, только лицо его было немного бледнее, чем обычно, и глаза казались совсем черными. Ждал он обычного казарменного обыска: дежурного офицера по батальону и двух унтеров, и появление жандармского полковника поразило его и сказало ему все. Дело сложнее. Это не просто следствие доноса мстительного прапорщика, которое легко можно было обернуть против самого доносчика, доказав, что он первый приказал ему написать свой портрет, да еще и рекомендовал его другим. Нет. Или что-то случилось с польским кружком, или Исаев отправил свой донос в столицу. Значит, снова Орск, казарма, муштра! И в голове уже звенели когда-то написанные в Орске строки о том, как снова
…поведуть Старого дурня муштрувати, Щоб знав, як волю шанувати, Щоб знав, що дурня всюди б’ють.Мысли метались, как мыши в мышеловке, ища подходящие ответы на возможном допросе. И желание преодолеть новый удар судьбы, эту волчью яму на тернистом пути к освобождению, все сильнее и сильнее разгоралось, поднималось со дна души.
Обыск продолжался долго. В комнате стало нестерпимо душно. Туча табачного дыма висела под потолком. Натопленная печка пылала жаром. Толстый полковник все чаще вытирал платком потное лицо, чисто выбритую голову. Он расстегнул воротник мундира, а плац-адъютант поднялся и раскрыл окно настежь.
В комнату ринулась пахнущая прохлада весенней ночи, аромат смолистых тополевых почек и цветущей черемухи.
И вдруг в эту пахнущую и свежую тишину ворвался буйный, разноголосый поток пасхального перезвона. Шевченко выпрямился, а полковник поднялся с места.
— Как мы, однако, задержались… Гримнюк! Севастьянов! Сложите все эти бумаги в мешок. В отделе разберемся, — добавил он, отделив два или три листа и положив их себе в карман. — Не опоздать бы к разговению… У Обручевых, говорят, какие-то особенные паштеты из диких уток…
Полицмейстер и полковник торопливо застегивали шинели…
Полковник посмотрел на Шевченко:
— Этого, — обратился он к городовым, — доставить в ордонансгауз и посадить на гауптвахту… Переоденьтесь в военную форму, — добавил он в сторону Шевченко…
Обыск, естественно, дал немного: несколько уцелевших писем от разных знакомых да две тетради с фольклорными записями и рисунками, уже раз побывавшие в полицейских руках еще в 1847 году и возвращенные Шевченко.
В тот же вечер все отобранные у Шевченко бумаги были доставлены к Обручеву, который сразу обратил внимание на недавно полученное поэтом письмо из Петербурга, от Сергея Левицкого:
«Вот уже третий месяц, — писал Левицкий 6 марта 1850 года, — как мы не виделись с вами, мой дорогой земляк! Словно третий год с тех пор пошел… Я еще до сих пор не виделся ни с Остроградским, ни с Чернышевым, у которых у каждого был раз по пять и ни разу не заставал дома. Доехав до Москвы, письмо Ваше к Репниной я отправил и пошел к Бодянскому, насилу достучался, но зато, как сказал, что я от Вас и еще имею письмецо, так с ним сталось что-то такое, будто он слышит о брате… Долго говорили об Оренбурге… Виделся на этих днях с Бутаковым; сказал он мне, что начал дело…»
Затем, сообщив о своем знакомстве с магистром математики из Харькова, Николаем Алексеевичем Головко, Левицкий добавлял:
«Как сойдемся, так первое слово его о Вас. Он сотрудник некоторых журналов; человек очень умный, жаль только, чтобы своею прямотой да не сделал бы того, что упрячут и его куда-нибудь, потому что уже и сейчас он под надзором полиции…»
И далее восторженно восклицал:
«Много здесь есть таких, что вспоминают Вас, а Головко говорит, что Вас не стало, а вместо того стало больше людей, даже до тысячи, готовых стоять за все, что Вы говорили и что говорят люди, для которых правда — это такая громкая и великая истина, что хоть бы провозглашать ее и при самом царе, так не испугались бы…»
Обыск на квартире Лазаревского тоже не дал ничего такого, что могло обрадовать жандармов. Нашли Библию, две книги Шекспира, сочинения Лермонтова, «Евгений Онегин» Пушкина, два портфеля для бумаг, деревянный ящичек с кистями, красками и бумагами…
В ночь с 22 на 23 апреля, по обычаю, разговлялись после заутрени в доме военного губернатора почти все офицеры штаба, чиновники управления краем и прочие. Обручев был заметно не в своей тарелке. Присутствующих поразило, что военный губернатор прямо заискивал перед каким-то прапорщиком: то возьмет его под руку и с улыбкой о чем-то спрашивает, то подведет к столу и любезно угощает.
А потом, словно оправдываясь, говорил Герну, уже обо всем осведомленному:
— Конечно, он мерзавец, но… что же будешь делать? Боюсь, что этот негодяй и на меня послал донос прямо шефу жандармов. А в Петербурге у меня нет никого за плечами: я, как и Шевченко, человек-то маленький…
Четыре дня праздников делом поэта никто не занимался. Шевченко сидел в камере совершенно опустошенным. В голове пульсировала единственная мысль: «Снова казарма… Снова муштра…»
Несколько раз к зданию ордонансгауза приходила Забаржада, просила увидеться с арестованным, но никто ее и слушать не хотел.
Только 27 апреля 1850 года Обручев отдал распоряжение о возвращении Шевченко в Орскую крепость, в батальон № 5. Но с отправкой его приказал повременить до «особого распоряжения». Он явно выжидал: не обнаружатся ли еще какие-нибудь доносы подлого прапорщика?
Но все было тихо. Из Петербурга никаких сигналов не поступало. Шевченко просидел три недели в гарнизонной тюрьме. 12 мая корпусный командир распорядился освободить арестованного и по этапу отправить его в Орскую крепость.
Глава 7. Новопетровское укрепление
Путь в Орск из Оренбурга, около трехсот верст, Шевченко проделал пешком, в составе этапной команды.
А по прибытии в крепость началась для Шевченко обычная солдатская жизнь в уже знакомом ему батальоне, которым, как и в 1847 году, командовал тот же майор Мешков и который встретил поэта радостным возгласом:
— Рад тебя видеть, Шевченко! С возвращением! Честно говоря, мы по тебе соскучились. Что ты там снова натворил против нашего царя-батюшки?..
Вслед за Шевченко в Орск прибыло предписание Обручева об усилении за ссыльным поэтом надзора: «Поручить, сверх батальонного и ротного командиров, иметь надзор благонадежному унтер-офицеру и ефрейтору, которые должны строжайше наблюдать за всеми его действиями, и если что-либо заметят предосудительное или неповиновение, — то доводили бы о том в тот же час до сведения батальонного командира, который обязан немедленно мне донести, надписывая на конвертах: „секретно“ и „в собственные руки“».
Кроме того, Обручев еще более усложнил переписку поэта, приказав, «чтобы к рядовому Шевченко отнюдь не могли прямо доходить письма и от него другим лицам пересылаться, ибо все таковые письма должны поступать на предварительное мое рассмотрение».
Теперь Шевченко не выпускали за пределы крепости. Он рвался увидеть Айбупеш с ребенком, но вскоре к тому же узнал, что аул куда-то откочевал…
Наконец спустя месяц после доноса прапорщика, обыска и ареста Шевченко, 23 мая, Обручев отправил в Петербург рапорт военному министру обо всем происшедшем. Уже в этом рапорте корпусный командир, пытаясь как-то выгородить себя, основательно кривил душой, когда писал:
«Ныне мне сделалось известным, что будто бы означенный рядовой Шевченко ходит иногда в партикулярной гражданской одежде, занимается рисованием и составлением стихов».
К рапорту были приложены и отобранные у Шевченко письма.
Рапорт был получен в Петербурге 7 июня. Военный министр князь Чернышев тотчас же доложил об этом деле царю. Николай, никому не доверявший, кроме жандармерии, в тот же день распорядился передать все материалы в Третье отделение.
Граф Орлов отнесся к новому «делу» с необыкновенным рвением. Еще даже не получив из военного министерства обещанных материалов, Орлов 8 июня нетерпеливо писал царю: «Ваше величество изволили мне вчерась говорить о деле Шевченко в Оренбурге, которое я получу от военного министра, но я его еще не получил… Я, как рассмотрю бумаги от военного министра, составлю о сем деле доклад Вашему величеству, и, к сожалению, нахожу, что, вероятно, придется несколько лиц подвергнуть допросу, а может статься, и аресту…»
Предусмотрительность исключительная: начальник Третьего отделения еще не получил дела, бумаг никаких не видел, но заранее «находит», что ряд лиц придется, «к сожалению», арестовать.
При этом нужно вспомнить, что всего несколько месяцев минуло с того дня, как была разгромлена тайная организация Петрашевского, которая насмерть перепугала царя и его окружение.
При первом же знакомстве с бумагами жандармы обратили внимание на письмо Левицкого, намекавшее как будто бы тоже на существование большой организации, а то и заговора.
Впрочем, сам Обручев в своем рапорте постарался выделить и особо подчеркнуть важность этого письма: ведь в этом случае на второй план отодвигалось не только партикулярное платье, но и Аральская экспедиция, и портрет Матильды Петровны, рисованный «конфирмованным» рядовым Шевченко в официальной резиденции военного губернатора.
По докладу князя Чернышева Николай приказал «рядового Шевченко подвергнуть немедленно строжайшему аресту и содержать под оным…». 8 июня этот приказ был отправлен в Оренбург. Получив его 24 июня, Обручев отдал приказ батальонному командиру Мешкову:
«Состоящего во вверенном Вам батальоне рядового Тараса Шевченко немедленно подвергнуть строжайшему аресту в гауптвахте крепости Орской, впредь до особого от меня предписания».
Так в конце июня 1850 года Шевченко был снова взят под стражу.
Впрочем, усердие Обручева не спасло его: в том же году он был снят со своей должности, и начальником края снова был назначен В.А. Перовский.
В Петербурге за эти две-три недели произошли совершенно неожиданные события. В поисках нового «тайного общества» Орлов и Дубельт обратились с докладом к царю, приводя «угрожающие» цитаты из письма Левицкого и требуя немедленного ареста коллежского секретаря Левицкого и упоминаемого в его письме магистра Головко. Доклад был составлен 13 июня. Резолюция получена 14 июня. Распоряжение Дубельта об аресте Левицкого и Головко отдано 15 июня. 16 июня, в одиннадцать часов дня, Сергей Левицкий уже был доставлен в каземат Третьего отделения и помещен в камеру № 6.
А вот с Головко произошло не все так гладко. Когда жандармы в восемь часов утра вошли в его квартиру во втором этаже флигеля дома купца Форстрема (по Мало-Конюшенной улице), им отворил сам Головко: прислуги у него не было. Жандармский полковник сразу же объявил:
— По высочайшему повелению, вы арестованы.
В поведении Головко не было, однако, ни малейшей растерянности. Он спокойно сказал:
— Сейчас я оденусь.
И вышел в соседнюю комнату. Жандарм прошел за ним. Это была узкая, полутемная спальня с одной простой кроватью и маленьким столиком у стены.
Опытным глазом полковник окинул комнатку и убедился, что «бумаг» здесь нет никаких. А жандармы были уже за последние годы приучены к тому, что самый страшный враг, жестоко преследуемый императором, — это всевозможные бумаги, писанные и печатные, за которые людей одевают в арестантские халаты, заковывают в кандалы, вешают, расстреливают, ссылают на каторгу и отдают в солдаты.
Полковник возвратился в первую комнату и принялся по-хозяйски рыться в письменном столе. Среди конспектов лекций по физике, математике, философии и другим наукам жандарм обратил внимание на литографированную тетрадь с текстом философского содержания и с надписью в нескольких местах: «Н. Момбелли… Н. Момбелли… Н. Момбелли…»
Фамилия эта была хорошо памятна жандармскому полковнику, состоявшему, как он сам о себе с гордостью писал, «по особым поручениям при господине шефе жандармов», ведь Момбелли был одним из крайних радикалов в тайном обществе Буташевича-Петрашевского.
Ныне Момбелли находился на каторге в Александровском Заводе. Это он сочинял возмутительные, проникнутые безбожием и революционными воззрениями статьи, переписывал во многих экземплярах и распространял «Письмо к Гоголю» покойного литератора Белинского, в своем дневнике писал:
«Деспотизм враждебен всякому умственному образованию и всякому истинному праву».
Так, значит, этот Головко с ним знаком!
В воображении жандарма уже рисовались радужные картины: он открывает новое тайное общество, связанное и с сосланными петрашевцами, и со злоумышленным малороссийским поэтом, загнанным в Оренбургские степи…
Как вдруг из спальни выскочил квартальный, за ним Головко с пистолетами в руках. Головко выстрелил, но промахнулся. Жандармы выбежали в прихожую, а Головко захлопнул за ними дверь.
После этого за запертой дверью прозвучал еще один выстрел. А когда дверь взломали, Головко лежал мертвый на полу между потертым диваном и дешевым мещанским трюмо, возле него валялись пистолеты, и кровь густой черной лужей разлилась под запрокинутой головой…
По указанию военного министра было отдано 5 сентября распоряжение «рядового Тараса Шевченко по освобождении из-под ареста перевести на службу, под строжайший надзор ротного командира, в одну из рот Оренбургского № 1 батальона, расположенных в Новопетровском укреплении».
Штаб батальона № 1 и две роты, 1-я и 2-я, находились в Уральске; 3-я и 4-я роты, куда перевели Шевченко, были размещены на полуострове Мангышлак, в Новопетровском укреплении.
Путь Шевченко лежал из Орской крепости через Оренбург, Илецкую Защиту — в Уральск. Это около шестисот верст.
В Уральск Шевченко прибыл только в начале октября.
Уже наступала глубокая осень. Оставались считанные дни навигации по Каспийскому морю, а единственный путь к Мангышлаку — лодкой из Гурьева-городка или из Астрахани. Корпусный командир недаром еще в начале сентября требовал, чтобы Шевченко был отправлен в Новопетровское укрепление «немедленно, дабы не упустить навигации сего года». Между тем от Уральска до Гурьева-городка на Каспийском море — еще почти пятьсот верст; Шевченко был отправлен дальше в сопровождении унтер-офицера Булатова. Они ехали из Уральска на юг, к Каспию…
О чем думал в это время Шевченко?
Может быть, в его уме звучали еще строки, сложившиеся на гауптвахте в Оренбурге:
Уже давно томлюсь в неволе Я, как преступник, под замком. На торный путь смотрю, на поле Да на могильный крест. На нем Сидит ворона. Из острога Не вижу дальше… …Такая, знать, судьба моя! Сижу один и все гляжу я На крест высокий из тюрьмы То погляжу, то повторю я Слова молитвы, и тоска, Как убаюканный ребенок, Слегка притихнет. И тюрьма Как будто шире, запевает И плачет сердце…Теперь Шевченко еще и еще вспоминал всю свою жизнь, своих друзей и врагов, свои радости и горе… Но не в чем было упрекнуть себя, и он хорошо понимал: если бы пришлось начинать все сызнова, он опять поступал бы точно так же. «Неисправимый… Неисправимый…» — с горькой иронией, но и со светлым чувством думал Шевченко.
В Гурьев Шевченко с Булатовым прибыли через четыре дня после выезда из Уральска — 12 октября. И на следующий день, в холодную, штормовую осеннюю погоду, на почтовой лодке отплыли на Мангышлак.
Небо хмурилось, дул пронзительный ветер. Начиналась новая, самая тяжкая пора в тяжком изгнании поэта. Но ничто не могло сломить его веру в лучшее завтра.
Проходя по единственной улице Гурьева-городка, Шевченко поднял с земли сломанную кем-то, но еще совсем свежую ивовую ветку. Он вез ее с собой на почтовой лодке в новое место изгнания: живую ветвь дерева — в пустыню забытого богом полуострова на каменистом, суровом берегу Каспия…
Поднятую в Гурьеве ивовую ветку Шевченко по приезде в Новопетровское укрепление воткнул в землю на гарнизонном огороде как первую веху долгих лет на новом месте. На удивление, ветка принялась и с годами превратилась в настоящее дерево.
Шла четвертая осень в ссылке. Позади и Оренбург, и Орск, и Раим, и Кос-Арал, степь и море, тесный кружок друзей и тюремная камера, наполненная ворами и бродягами. Сами собой появились строки:
Считаю в ссылке дни и ночи – И счет им теряю. О господи, как печально Они уплывают! А года плывут меж ними, И тихо с собою Доброе они уносят И уносят злое!.. В болотах тусклыми струями, Меж камышами, за годами Три года грустно протекли; Всего немало унесли Из горницы моей унылой И морю тайно обрекли; И море тайно поглотило Мое не злато-серебро, – Мои года, мое добро… Пускай унылыми струями Текут себе меж камышами Года невольничьи… А я! Таков обычай у меня! И посижу, и погуляю, На степь, на море погляжу, Былое вспомню, напевая, И в книжечке вовсю пишу Как можно мельче. Начинаю.Новопетровское укрепление было основано на полуострове Мангышлак в 1846 году — на возвышающейся в нескольких километрах от моря известняковой скале. Укрепление, огороженное стеной, имело около километра в длину и с полкилометра в ширину. Здесь были расположены казармы, несколько офицерских флигелей, комендантский дом со львами, высеченными еще в 1846 году неизвестным скульптором, провиантский склад, госпиталь и другие сооружения; наконец — небольшая церковь.
Под скалой, на которой высилось укрепление, раскинулись мазаные и глинобитные постройки поселка, кибитки кочевых казахов, лавки, баня. В стороне, примерно в полуверсте от укрепления, прямо напротив его главных ворот, лежал гарнизонный огород, на котором, при самом активном участии Тараса, позднее разросся сад…
К Шевченко, тотчас по прибытии в Новопетровское укрепление, был приставлен особый «дядька» из нижних чинов, на которого и возложили обязанность неотступно следить за «поведением» политического преступника. Командиром 2-го полубатальона, расположенного в Новопетровске, куда был зачислен рядовой Шевченко, был штабс-капитан Потапов, человек черствый и грубый. Его не любили даже офицеры, а уж про роту и про Шевченко и говорить нечего: они просто его ненавидели! Донимал Потапов Тараса не тем, что не делал для него исключений или послаблений, а всякими мелочами да просто-таки и ненужными придирками, — он грубо насмехался над поэтом:
— Рядовой Шевченко, два шага вперед! Как шагаешь, идиот? Повторить выход из строя!.. Вывернуть карманы!.. Никак снова прячешь карандаш и бумагу, чтобы на царя пасквили писать?!.. Не слышу ответа!.. Почему глаза опущены?..
Затем он поручал унтер-офицерам заняться отдельно с Шевченко выработкой тонкой выправки, маршировки, овладением ружейных приемов.
Вот в такие минуты в голове у Тараса в отчаянии возникала мысль: «Лучше было бы мне или совсем на свет не родиться, или умереть поскорей!..»
Шевченко с трепетом и замиранием сердца красил усы, брал в кулак свои нервы и являлся пред хмельно-багровое лицо отца-командира сдать экзамен в пунктах ружейных приемов, а в заключение выслушать глупейшее и длиннейшее наставление о том, как должен вести себя бравый солдат и за что он обязан любить бога, царя и своих ближайших начальников, начиная с дядьки и капрального ефрейтора…
Было гнусно и отвратительно! «Дождусь ли я, — думал поэт, — тех блаженных дней, когда из памяти моей испарится это нравственное безобразие? Не думаю, потому что медленно и глубоко врезалось в нее это безобразие».
Столкнулся Шевченко и с другими мерзавцами в офицерских мундирах. Помощником командира роты был поручик Обрядин. Исполняя обязанности казначея, он систематически воровал деньги, присылаемые солдатам из дому. Несмотря на то, что негодяя в этом не только постоянно подозревали, а иногда и уличали, он все как-то выходил сухим из воды.
В одной роте с Шевченко служил рядовой Скобелев, из беглых крестьян Херсонской губернии, человек характера смелого и непокорного. За этот характер Шевченко и полюбил Скобелева, который к тому же пел удивительно просто и выразительно народные песни.
«Тече річка невеличка з вишневого саду», — выводил он, бывало, прекрасным, мягким тенором, и эта песня переносила поэта на берега Днепра, на волю, на его милую родину. Дружба с этим солдатом согревала душу Тараса…
Скобелев узнал, что поручик получил для него пакет с десятью рублями и присвоил деньги себе; Скобелеву попал в руки только пустой конверт с пятью сургучными печатями.
И солдат не стерпел. Он явился к «отцу-командиру» с конвертом в руках и потребовал вернуть ему похищенные деньги. Обрядин, недолго думая, ударил Скобелева по лицу. Но солдат тоже ответил поручику увесистой пощечиной.
Хотя суд и подтвердил, что поручик Обрядин действительно обокрал Скобелева и офицеру было приказано «подать в отставку», тем не менее рядовой, осмелившийся вступиться за свою честь, подлежал несравненно более строгому наказанию: Скобелева прогнали сквозь строй двух тысяч шпицрутенов и сослали на семь лет в арестантские роты в Омский батальон.
Шевченко очень больно пережил трагическую историю Скобелева. А подобных историй случалось кругом немало…
С первых же месяцев пребывания в Новопетровске Шевченко подружился еще с одним солдатом. Это был земляк из-под Звенигородки, Андрей Обеременко. С виду суровый и неприветливый человек, он на самом деле обладал нежной и ласковой душой, очень любил детей, а «это, — говорил Шевченко, — верный знак сердца кроткого, незлобивого». Он часто, как живописец, любовался его темно-бронзовой усатой физиономией, когда она нежно льнула к розовой щечке младенца. Это была одна-единственная радость в его суровой, одинокой жизни.
Обеременко с большой симпатией относился и к Шевченко. Они вместе гуляли в окрестностях укрепления, в прилегающих балках и скалах, которые Тарас полюбил за их живописность…
Длинные бессонные ночи поэт напролет просиживал на крыльце казармы, глядя на усыпанное звездами и редко закрываемое облаками небо. Ко всем ударам, свалившимся на Шевченко в первые же месяцы его ссылки в Новопетровск, прибавилось еще и полнейшее отсутствие писем от друзей.
В начале января 1851 года он попытался известить о своем новом местопребывании Репнину и Лизогуба. Последнему он даже отправил свои (неподписанные, конечно) рисунки с просьбой продать их, так как чрезвычайно нуждался.
Но ни от Репниной, ни от Лизогуба ответа не было. В совершенном отчаянии он пишет Лизогубу:
«Ни от Вас, ни от Варвары Николаевны до сих пор не имею совершенно никаких известий. Право, не знаю, что и думать!.. Я с Вами только и Варварой Николаевной иногда переписывался. Прошу Вас, умоляю: когда получите письмо мое, то хоть чистой бумаги в конверт запечатайте да пришлите, по крайней мере я буду знать, что Вы здравствуете!»
Шевченко не подозревал, конечно, что все люди, состоявшие с ним в переписке, получили за это от царских жандармов строжайшее «внушение». Федор Лазаревский был отставлен от предстоявшего ему повышения в должности. Бутаков, кроме выговора, имел и другие неприятности по службе. Андрея Лизогуба вызвал к себе во время проезда через Чернигов летом 1850 года граф Орлов и прямо запретил продолжать переписку с Шевченко.
Даже княжне Репниной было направлено из Третьего отделения следующее письмо:
«Секретно.
Милостивая государыня, княжна Варвара Николаевна! У рядового Оренбургского линейного № 5 батальона Тараса Шевченко оказались письма Вашего сиятельства; а служащий в Оренбургской пограничной комиссии коллежский секретарь Левицкий, в проезд свой через Москву, доставил к Вам письмо от самого Шевченко, тогда как рядовому сему высочайше воспрещено писать; переписка же Ваша с Шевченко, равно и то, что Ваше сиятельство еще прежде обращались и ко мне с ходатайствами об облегчении участи упомянутому рядовому, доказывает, что Вы принимаете в нем участие… По высочайшему государя императора разрешению, имею честь предупредить Ваше сиятельство как о неуместности такового участия Вашего к рядовому Шевченко, так и о том, что вообще было бы для Вас полезно менее вмешиваться в дела Малороссии, и что в противном случае Вы сами будете причиною, может быть, неприятных для Вас последствий…
Граф Орлов».
Естественно, княжна испугалась не за себя: она боялась своими письмами ухудшить положение Шевченко, поэтому и подчинилась запрещению Третьего отделения.
Тараса царь пытался полностью изолировать от внешнего мира…
Счастливой возможностью несколько отвлечься от своего тяжелого состояния явилось для Шевченко участие в геолого-разведывательной экспедиции летом 1851 года.
Полуостров Мангышлак богат полезными ископаемыми. Залежи каменного угля здесь очень велики, причем уголь выходит прямо на поверхность. Позже здесь были найдены месторождения нефти, марганца, меди, железной руды и фосфоритов.
В начале мая 1851 года молодой горный инженер, штабс-капитан Антипов, прибыл на Мангышлак для геолого-разведывательных работ, главным образом для изучения каменноугольных залежей.
Вместе с Антиповым приехала целая группа вспомогательных рабочих, техников, солдат, предназначавшаяся для похода в горы Кара-Тау на поиски полезных ископаемых. В составе группы оказались Бронислав Залеский и Людвиг Турно — чудесные давние друзья Шевченко по оренбургскому кружку.
Нечего и говорить, что эта встреча принесла ссыльному поэту огромную радость. Залеский и Турно привезли Шевченку письма, — от кого, мы никогда не узнаем: наученный горьким опытом, поэт их уничтожил тотчас же по прочтении, чтобы не навлечь новые беды…
Залеский и Турно привезли ему и рисовальные принадлежности. В экспедиции он мог беспрепятственно рисовать.
Поход в горы не был легким. В мае в этих местах уже стоит настоящий летний зной. Экспедиция двинулась из Новопетровска на юго-восток по так называемой Хивинской дороге.
Первый привал сделали в урочище Ханга-баба, в тридцати верстах от укрепления. Шевченко выполнил здесь несколько рисунков. Кроме общего вида Новопетровского укрепления, издали, с Хивинской дороги, он нарисовал уголок оазиса в Ханга-баба, а также старинное туркменское кладбище. Шевченко рисовал и чувствовал себя свободным…
Залеский, Турно и Шевченко спали в одной палатке. Сколько здесь можно было, не боясь соглядатаев и доносчиков, высказать, как можно было отвести душу после всего пережитого за последний тяжкий год!
От Ханга-баба дальше в горы, через урочище Апазырь, экспедиция прошла между основными хребтами, тянущимися вдоль полуострова Мангышлак.
За пять месяцев похода Шевченко сделал здесь свыше ста рисунков; на них изображены местности, пройденные экспедицией: Ханга-баба, Апазырь, Агаспеяр, Сюн-Куг, Далисмен-Мола-Аулье, долины Турш и Кугус, гора Кулат.
В двухстах верстах от Новопетровска экспедиция обнаружила мощные каменноугольные пласты.
Поход в Кара-Тау на некоторое время развлек Шевченко, дал ему возможность сделать много зарисовок и — что было для него важнее всего — на протяжении почти пяти месяцев жить вместе с задушевными друзьями.
Экспедиция возвратилась в Новопетровск 1 сентября 1851 года, проделав за лето путь в несколько сотен километров. 19 сентября Залеский и Турно расстались с Шевченко: они уехали в Гурьев, чтобы возвратиться в Оренбург, а поэт остался в Новопетровске, в своей, как он говорил, «незапертой тюрьме»…
Но вскоре в Новопетровске все больше людей относились к Тарасу с уважением, сочувствием, сердечным расположением. В середине 1852 года ненавистного Потапова сменил штабс-капитан Косарев в должности командира роты, который проникся симпатией к поэту. Старик Антон Петрович Маевский, подполковник, комендант Новопетровского укрепления, на свое имя получал почту для Шевченко и сам отсылал его письма. Заведующий библиотекой форта врач Сергей Никольский делился с поэтом всем, что было у него для чтения…
И все же душа Шевченко была переполнена тоской. Его поэтическая муза умолкла, потрясенная ударами несправедливости, унижения и грубого насилия. Рука Тараса перестала тянуться к перу и бумаге… Эта немота продлится несколько лет.
А пока, чтобы хоть как-то заглушить непереносимую тоску, он стал принимать участие во всем, что могло отвлечь от тяжелых мыслей: поездка на охоту, сборище холостяков, певческий хор… Хор этот устраивали офицеры, и Шевченко, обладавший хорошим и чистым тенором и знавший много чудесных украинских песен, стал постоянным участником этого хора…
Он организовал кружок драматического искусства. Свой выбор для спектакля Тарас остановил на новой комедии «Свои люди — сочтемся» никому еще в то время не известного молодого драматурга Александра Островского.
В Новопетровске все роли, в том числе и женские, исполнялись офицерами. Косарев играл Подхалюзина, поручик Зубильский исполнял роль Большова, прапорщик Бажанов — его жены, Аграфены Кондратьевны, молоденький безусый блондин прапорщик Угла играл Липочку и т. д. Шевченко досталась роль стряпчего.
Были изготовлены костюмы, парики, накладные бороды. Декорации строил и расписывал Шевченко по собственным эскизам, с помощью солдат — плотников и маляров.
Фурор был полный; вызовам и аплодисментам не было конца; и особенно сильное на всех впечатление оказало исполнение роли Рисположенского поэтом.
Когда он появился на сцене закостюмированный и начал играть, так не только публика, но даже актеры пришли в изумление и восторг!.. Казалось, это вовсе и не он! Ничего в нем не осталось тарасовского: ярыга, чистый ярыга — и по виду, и по голосу, и по ухваткам!..
Публика прямо выходила из себя от восторга, когда в последнем действии, уже после того, как Самсон Силыч отправился в долговую тюрьму, Рисположенский является к Аграфене Кондратьевне и как ни в чем не бывало спрашивает:
— Вы, матушка Аграфена Кондратьевна, огурчиков еще не изволили солить?
— Нет, батюшка! — отвечает купчиха. — Какие теперь огурчики! До того ли уж мне!..
Но Рисположенский не унимается:
— Это водочка? Я рюмочку выпью.
Зрители были в восхищении от естественной и тонкой игры Шевченко. После спектакля комендант Маевский устроил у себя ужин и, поднимая стакан за здоровье Шевченко, сказал:
— Богато тебя, Тарас Григорьевич, оделил бог: и поэт-то ты, и живописец, да еще, как оказывается, и актер… Жаль, голубчик мой, одного — что не оделил он тебя счастьем!.. Ну, да бог не без милости, а казак не без доли!..
Подготовлены были и другие спектакли при самом непосредственном участии Шевченко. С успехом исполнялись водевили: «Дядюшка, каких мало, или Племянник в хлопотах» П. Татаринова, «Ворона в павлиньих перьях, или Слуга-граф и граф-слуга». В пользу солдат собиралась плата: от рубля до десяти копеек за место.
Нарочно, чтобы повидаться с ссыльным поэтом и передать ему письма от друзей, приехал на день-два из Уральска в Новопетровск молодой казачий офицер Никита Савичев.
Утром, после завтрака, Савичев зашел к Шевченко в общую казарму — длинное здание с низкими нарами вдоль обеих стен, с небольшими окнами под самой крышей. Глинобитный пол был слегка смочен для прохлады. Солдат в казарме почти не было: кто отправился на работы, кто находился в командировке.
В самом конце казармы, в углу, лежал на нарах человек, углубившийся в книгу. Это и был Шевченко. Постель его состояла из тонкого тюфяка, покрытого рядном, и подушки с грубой наволочкой — видно было, что жить приходилось без малейших удобств. У Шевченко не было в казарме даже стола и стула.
Когда Савичев в сопровождении прапорщика Михайлова приблизился, Шевченко поднялся и вопросительно взглянул на гостей.
Михайлов отрекомендовал прибывшего.
— Прошу садиться рядом со мной, — сказал Шевченко, поздоровавшись с гостями.
— Вам, Тарас Григорьевич, велели кланяться все ваши уральские друзья и знакомые. Передали они и несколько писем со мной.
Савичев передал письма, которые Шевченко тут же сунул в карманы своих широких шаровар.
— Мне еще надо кое-что вам передать от друзей. Прошу вас за этим зайти в комендантский дом, где я остановился вместе с командиром батальона, — продолжил Савичев.
— Благодарю вас… Но, мне кажется, лучше было бы, если бы вы зашли ко мне после обеда, часов в пять, когда немного спадет жара. Пройдемся с вами в поле, прогуляемся в окрестностях форта…
Явившись в казарму в назначенный час, Савичев застал Шевченко в той же позе, ставшей, видимо, привычной: лежащим с книгой в руках. Тут он встал, набросил короткое парусиновое пальто, взял с полки над изголовьем том Шекспира, и они вышли.
За воротами крепости спустились в ложбину, подошли к крутому обрыву, покрытому обломками ракушечника, и, взобравшись наверх, уселись на мхе между камней. Вдали расстилался синеющий Каспий.
Потекла нескорая, тихая беседа. Савичев рассказывал об однообразном и скучном житье-бытье общих знакомых, передал деньги от А. Лизогуба и С. Артемовского. Потом обмолвился, что с 1849 по 1851 год стоял со своим казачьим полком на Украине, бывал в Звенигородке, Кириловке.
Шевченко оживился.
— А попа Кирилла ты не видал? — спросил он.
— Видел, как же!
— А поповну молодую?
— Нет, не видел.
— А брата моего Никиту видел?
— Нет, не знаю его.
— Так сколько же ты пробыл в Кириловке?
— Трое суток.
— А еще кого видал?
— Был в гостях у дьякона…
— Ну, так там же и брат Никита живет!
— Может быть, — продолжал Савичев, — нас там было гостей много, как же мне знать, что среди них и брат ваш Никита…
— Да, послушай, брось ты, пожалуйста, это «вы». А еще казак!.. Так ведь Кириловка — моя родина… Ну, рассказывай, что ты там делал.
Савичев рассказал, как в домах, где он бывал на Звенигородчине, помнят Шевченко, часто о нем говорят.
«Тарас Григорьевич должен быть где-то там, в ваших краях, возле Аральского моря, — твердили шевченковские земляки Савичеву, добавляя: — Вы с ним можете там повидаться…»
Шевченко внимательно слушал Савичева… Поэта интересовала каждая мельчайшая подробность, он словно переносился мечтой в свою далекую Кириловку. Просил описать ему усадьбу, в которой жил Савичев, и когда тот припомнил, что посреди огорода стояла одна-единственная огромная груша, Шевченко радостно воскликнул:
— Знаю, знаю! — и тотчас же назвал фамилию хозяина усадьбы. — Мы ребятами тоже охотились за этими грушами…
Потом задумался, грустно опустив голову, помолчал и, вздохнув, сказал:
— А все-таки неладно, что ты не знал моего брата Никиту!..
С гостем они совершили еще несколько прогулок. На последней прогулке поэт был очень задумчив. Они сидели молча на громадных камнях под высокой скалой. Со стороны моря издали доносился шелест волн, набегавших на песчаную отмель. С темного неба спокойно смотрел двурогий месяц.
После долгого молчания Шевченко стал тихо, будто про себя, читать стихи на украинском языке:
Минують літа молодії, Минула доля, а надія В неволі знову за своє, Зо мною знову лихо діє І серцю жалю завдає. А може, ще добро побачу? А може, лихо переплачу? Води Дніпрової нап’юсь, На тебе, друже, подивлюсь. І може, в тихій твоїй хаті Я буду знову розмовляти З тобою, друже мій. Боюсь! Боюся сам себе спитати, Чи се коли сподіється? Чи, може, вже з неба Подивлюсь на Україну, Подивлюсь на тебе. А іноді так буває, Що й сльози не стане. І благав би я о смерті… Так ти, і Украйна, І Дніпро крутоберегий, І надія, брате, Не даєте мені бога О смерті благати.В конце апреля на смену умершему в начале 1853 года Маевскому прибыл новый комендант крепости, майор Усков Ираклий Александрович, с женой и ребенком.
Тотчас по приезде в Новопетровск Усков принялся облегчать существование Шевченко: его освободили от нарядов, от муштры, разрешили отлучки из укрепления; и Шевченко теперь часто ночевал не в казарме.
Ираклий Усков, его жена Агата Емельяновна очень скрашивали жизнь Шевченко в Новопетровске. Поэт скоро стал у них в доме своим человеком, привязавшись особенно к детям, которых всегда любил и очень располагал к себе.
Вскоре после приезда Усковых в Новопетровск они потеряли сына. Шевченко тяжело переживал эту смерть вместе с родителями ребенка. В письме к Казачковскому он писал об этом:
«Недавно прибывший к нам комендант привез с собою жену и одно дитя, по третьему году, милое, прекрасное дитя (а все, что прекрасно в природе, как вьюнок вьется около нашего сердца). Я полюбил это прекрасное дитя, а оно, бедное, так привязалось ко мне, что, бывало, и во сне звало к себе „лысого дядю“ (я теперь совершенно лысый и седой). И что же? Оно, бедное, захворало, долго томилося и умерло. Мне жаль моего маленького друга, я тоскую, а иногда приношу цветы на его очень раннюю могилу и плачу, я, чужой ему. А что делает отец его и особенно — мать? Бедная! Горестная мать, утратившая своего первенца!»
Может быть, именно эта печальная утрата и сблизила так быстро Шевченко с Усковыми. Через несколько месяцев у Усковых родилась дочь Наталья. Поэт постоянно развлекал ребенка, пел песни, то грустные, заставлявшие сжиматься сердце, то веселые. И несказанно полюбила Наташенька своего дядю — Горича, как она его называла.
— Истый Тарас Горич, мое серденько, моя ясочка! — приговаривал Шевченко, целуя ее.
Тарас привязался и к матери. В его сердце зародилось горячее чувство уважения к этой женщине. Он склонен был даже идеализировать Агату Ускову. Он писал о ней Залескому:
«Эта прекраснейшая женщина для меня есть истинная благодать божия. Это одно-единственное существо, с которым я увлекаюсь иногда даже до поэзии. Следовательно, я более или менее счастлив; можно сказать, что я совершенно счастлив; да и может ли быть иначе в присутствии высоконравственной и физически прекрасной Женщины?..
Какое чудное, дивное создание непорочная женщина! Это самый блестящий перл в венце созданий. Если бы не это одно-единственное, родственное моему сердцу, я не знал бы, что с собою делать. Я полюбил ее возвышенно, чисто, всем сердцем и всей благодарной моей душою. Не допускай, друже мой, и тени чего-либо порочного в непорочной любви моей…»
Шевченко часто гулял с Усковой, и она была рада такому собеседнику. Темы для разговоров во время прогулок были очень разнообразны: они вызывались каждым предметом или явлением, на который почему-либо обращалось внимание во время прогулки. Благодаря этому разговоры всегда были далеки от местных сплетен и доставляли большое удовольствие обоим.
Но вот «вышла сплетня». Кто-то кому-то что-то сказал. До Усковой дошло, она «вынуждена была» отвадить поэта. Ускова вместо прогулок стала сидеть дома и усиленно играть с гостями в преферанс. Воздушный замок, созданный поэтом, развалился. Все очарование, привидевшееся ему — необыкновенная женщина, счастье от общения с ней, — сразу вылиняло, вещи стали на свои места. Трезвый ум Шевченко, на минуту обманутый, увидел их такими, какими они были в действительности, — обыкновенная, провинциальная дама, с мещанскими интересами, жеманная, привирающая, плохая мать — и весь уклад все той же ненавистной ему офицерской семьи с денщиком, с карточными столами, пирогами, сплетнями. Ее вьющиеся на затылке волосы оказались искусственными, книги, о которых говорила она, — не читаны, знание — с чужих слов… Богиня обернулась плохой барыней…
Несмотря на удаленность Новопетровского укрепления от всего цивилизованного мира, сюда несколько раз за время пребывания Шевченко приезжали люди, с которыми поэт мог отвести душу.
Понятно, что пусть и редкий, но каждый живой вестник живого мира, попадавший в Новопетровск, вызывал у ссыльного поэта волну впечатлений.
Побывал на Мангышлаке молодой естественник Адриан Головачев, член Московского общества естествоиспытателей. С ним Тарас провел несколько часов, самых прекрасных часов, каких он уже давно не знал. О чем только они не переговорили! Головачев сообщил поэту все, что было нового и хорошего в литературе, на сцене и вообще в искусстве.
Несколько раз побывал в Новопетровске с научно-исследовательской экспедицией знаменитый русский натуралист академик Карл Максимович Бэр. Его сопровождал писатель Николай Данилевский, с которым Тарас сблизился до самой искренней дружбы, встревоживший дремавшую бедную душу поэта. И когда Данилевский уехал, одиночество его стало особенно мрачным и невыносимым…
Приезжал Алексей Феофилактович Писемский, в то время уже известный писатель. Шевченко провел с ним несколько вечеров. Радостным был для поэта рассказ Писемского об одном вечере, на котором присутствовало человек двадцать земляков с Украины. Они, читая стихотворения поэта, плакали от восторга и произносили его имя с благоговением.
— Я сам писатель, — говорил Писемский, — и больше этой заочной чести не желал бы другой славы и известности!..
Несмотря на все ограничения и трудности, Шевченко следит за новостями литературной и политической жизни. Он читает официальную газету военного ведомства «Русский инвалид»: в ней наряду с правительственными сообщениями помещалась информация о политической и культурной жизни, и даже «фельетон», то есть поэтические и прозаические произведения.
Булгаринская «Северная пчела» тоже систематически получалась в Новопетровске. Этот орган в те времена имел монополию на сообщения из международной жизни.
Комендант Усков выписывал журнал «Библиотека для чтения», и Шевченко читал здесь переводы Василия Курочкина из Беранже. Здесь же был помещен первый русский перевод стихотворения Шевченко («Для чего мне черные брови»), сделанный Гербелем и опубликованный под заглавием «Дума (с малороссийского)», без указания имени Шевченко. В этом же журнале Шевченко прочитал рассказ Льва Толстого «Встреча в отряде с московским знакомым» («Разжалованный»). Читал он и журнал «Современник», где был напечатан рассказ Толстого «Метель», несколько статей и рецензий Чернышевского («Стихотворения графини Ростопчиной», «Очерки сибиряка», «Силуэты, сцены в стихах В. Попова»).
Особенно примечательна здесь большая статья великого критика о стихотворениях графини Ростопчиной, направленная против салонной поэзии и «искусства для искусства». Здесь же была впервые помещена древнерусская стихотворная повесть «Горе-Злосчастие», случайно отысканная в погодинских архивах Пыпиным и подготовленная к печати Костомаровым. Это замечательное произведение неизвестного автора очень увлекло Шевченко, и он задумал изготовить серию рисунков на тему повести о Горе-Злосчастии, назвав эту серию «Притчей о блудном сыне» и перенеся все действие из древней Руси в настоящее время.
Несмотря на все запреты, из всей серии о блудном сыне Шевченко успел выполнить восемь рисунков: «Проигрался», «В кабаке», «В хлеву», «На кладбище», «Среди разбойников», «Наказание колодкой», «Наказание шпицрутенами» и «В каземате…»
Стесненный в возможности заниматься живописью, Тарас пробует себя в скульптуре, а также экспериментирует с гравированием, начинает свои прозаические произведения. В прозаических произведениях Шевченко, как и в его лирике, немало автобиографических черт; его личные знакомые нарисованы здесь без всякого вымысла. Брюллов и его ученики в повести «Художник»; Глинка со своими друзьями — в повести «Музыкант»; Жуковский и Венецианов, Сошенко и Штернберг, Демский и Фицтум — в повести «Художник»; первые учителя маленького Тараса — в повести «Княгиня». В прозаических произведениях точно описаны обстоятельства его выкупа из крепостной зависимости, первые годы учения в Академии художеств, поездка на Украину — в повести «Капитанша» и вынужденное путешествие из Петербурга в Оренбург, а затем в Орскую крепость и к Аральскому морю — в повести «Близнецы».
Даже вдали от всех очагов культурной жизни Шевченко сохранял высокую требовательность к печатному слову. Когда Брониславу Залескому вздумалось порадовать Шевченко сборником на украинском языке Грицька и Стецька Карпенко «Ландыши Киевской Украины», Тарас ему ответил:
«Скажи ты мне ради всех святых, откуда ты взял эти вялые, лишенные всякого аромата „Киевские ландыши“? Бедные земляки мои думают, что на своем чудном наречии они имеют полное право не только что писать всякую чепуху, но даже и печатать! Бедные! И больше ничего. Мне даже совестно и благодарить тебя за эту, во всех отношениях тощую, книжонку».
Как не ломала жизнь Тараса, но он оставался все тем же Тарасом, что и прежде. Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания проходили, как будто не касаясь его. Малейшего следа не оставили по себе… Ни одна черта во внутреннем образе не изменилась. По крайней мере, ему так казалось. И он от глубины души благодарил своего ангела-хранителя, что не допустил ужасному опыту коснуться своими железными когтями его убеждений, его младенчески светлых верований. Некоторые вещи просветлели, округлились, приняли более естественный размер и образ. Из всех тяжких испытаний он выходил, как сталь из горнила, — еще тверже, еще светлее, еще острее.
Он ничего не утратил, но многое приобрел, он ничего не забыл, но многому научился; он и знал, и понимал теперь вещи глубже, яснее, чем когда бы то ни было…
В феврале 1855 года, в разгар Крымской войны, неожиданно умер «коронованный жандарм» Николай I. Упорно толковали о самоубийстве совершенно растерявшегося царя. Передавали также, что предсмертным его напутствием наследнику были слова:
— Сдаю тебе команду не в добром порядке…
Новый царь, Александр II, такой же крепостник и реакционер, как и его отец, тем не менее вынужден был дать политическую амнистию. На каторге, в тюрьмах, в далекой ссылке в это время томились сотни людей, сосланных еще в кровавое царствование Николая I. Но амнистия ссыльным давалась новым царем туго, с длительными проволочками и многочисленными ограничениями.
Положение Шевченко было особенно тяжело: над ним тяготело изуверское «запрещение писать и рисовать». Хотя формально ему дано было пресловутое «право выслуги» (то есть право получения унтер-офицерского чина), однако же на деле производство всякий раз упиралось в какую-то невидимую преграду.
Еще летом 1854 года Новопетровское укрепление инспектировал начальник артиллерийских гарнизонов Оренбургского округа генерал-майор Фрейман. Любитель живописи, он сочувственно относился к Шевченко; поэт через генерала даже передавал свои рисунки и скульптурные работы друзьям в Оренбург. Фрейман представил командиру корпуса Перовскому доклад о своевременности производства Шевченко в унтер-офицеры.
О докладе Фреймана Шевченко знал и существовал этой бедной надеждой. Однако батальонный командир Шевченко, майор Львов, на запрос корпусного начальства по поводу представления генерала Фреймана отвечал, что, хотя Шевченко «в поведении и оказывает себя хорошим, но по фронтовому образованию слаб», а потому и не заслуживает производства в унтер-офицеры.
И вот вместо производства привезли приказ майора Львова, чтобы взять Шевченко в руки и к его приезду непременно сделать из него образцового «фронтовика», а не то — он никогда не должен надеяться на облегчение своей участи…
Александр II между тем собственноручно вычеркнул имя поэта из представленного ему списка амнистированных.
— Кто осмелился вписать в списки амнистированных этого наглого хохла? Мы здесь прощаем врагов престола. Этого я не могу простить, потому что он оскорбил мою мать в своих уродливых хохлацких стихах!.. Кто за него просил?
— Ее императорское высочество великая княгиня Мария Николаевна, — дрожащим голосом ответил новый шеф жандармов князь Долгоруков.
— А кто просил ее?
— Снова тот же граф Федор Петрович Толстой, вице-президент Академии…
— Как он мне надоел, этот старик, со всеми его просьбами…
Двумя-тремя росчерками пера царь вычеркнул имя художника Шевченко, прорвал бумагу, аж брызги полетели с черного лебединого пера. Новый царь хорошо знал и о судьбе Шевченко, и о его стихах — знал, ненавидел и боялся!..
Долгое время оставались безуспешными и хлопоты друзей в Петербурге. Тотчас после смерти Николая I они снова усиленно стали добиваться освобождения поэта.
Хлопотал за него вице-президент Академии художеств Ф.П. Толстой, хорошо помнивший Шевченко по прежним годам…
Жена Толстого, Анастасия Ивановна, дочь бедного армейского офицера, отнеслась с большим участием к поэту, стала ему писать в Новопетровск ободряющие письма.
Переговоры с Толстыми о помощи Шевченко вели многие: художники Алексей Чернышев и Николай Осипов, княжна Варвара Репнина и домашний учитель Толстых Старов, Писемский и Карл Бэр. Хлопотали о его освобождении М. Лазаревский, Б. Залеский, З. Сераковский и многие другие.
Глава 8. Свобода!
Наконец 1 мая 1857 года было «высочайше повелено»: «Во внимание к ходатайству президента Академии художеств» рядового Шевченко «уволить от службы, с учреждением за ним там, где он будет жить, надзора, впредь до совершенного удостоверения в его благонадежности, с воспрещением ему въезда в обе столицы и жительства в них». Об этом Тарас узнал из письма графини Анастасии Ивановны Толстой, жены вице-президента Академии художеств.
В ответном письме Шевченко писал: «Друже мой благородный, лично незнаемый! Сестра моя, богу милая и никогда мною невиденная! Чем воздам, чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обаяла, восхитила мою бедную тоскующую душу? Слезы! Слезы беспредельной благодарности приношу в твое возвышенное, благородное сердце. Радуйся, несравненная, благороднейшая заступница моя! Радуйся, сестра моя сердечная, радуйся, как я теперь радуюсь, друже мой душевный…
Как золото из огня, как младенец из купели, я выхожу теперь из мрачного чистилища, чтобы начать новый… путь жизни…
Всем сердцем моим целую графа Федора Петровича, вас, детей ваших и всех, кто близок и дорог благородному сердцу вашему…»
Но только 1 августа 1857 года майор Усков выдал Шевченко отпускной «билет № 1403» следующего содержания:
«Предъявитель сего, служивший в Новопетровском укреплении линейного Оренбургского батальона № 1, рядовой из бывших художников Санкт-Петербургской академии художеств, Тарас Григорьев Шевченко, согласно предписания командира означенного батальона от 26 июня, за № 1651, последовавшего к заведывающему здесь двумя ротами того же батальона, а мне сообщенного в его рапорте от 29 июля, за № 535, по высочайшему повелению уволен от службы и ныне, по желанию его, отправлен на местожительство свое в г. Санкт-Петербург…»
— Свобода! — пело сердце поэта.
Заручившись этим драгоценным документом, Шевченко не стал дожидаться прихода почтовой лодки; отказавшись и от «кормовых» и от «прогонных» денег, уговорился со своими друзьями-рыбаками Николаевской станицы, нанял у них простую рыбацкую шлюпку и в девять часов вечера 2 августа, задушевно распростившись с новопетровцами, отправился по Каспийскому морю в Астрахань…
Широкий морской простор, раскрывшийся перед поэтом и сверкавший под ослепительными лучами южного летнего солнца, говорил ему, что впереди снова огромное поле деятельности, творчества… борьбы?.. Казалось, что впереди еще целая жизнь…
Солнце уже садилось, когда Шевченко в пять часов вечера 5 августа, к исходу третьего дня плавания на утлой рыбачьей ладье, приплыл в Астрахань.
«Все это так нечаянно и так быстро совершилось, что я едва верю совершившемуся», — пронеслась мысль в голове Тараса.
Еще подходя к Бирючьей косе (главная застава на одном из многочисленных устьев Волжской дельты), он увидел сотни кораблей, и ему показалось, что проток Волги, на котором расположена Астрахань, по ширине и глубине не уступает Босфору… Воображению поэта уже рисовался прекрасный древний город, нечто вроде Венеции эпохи дожей.
Однако вскоре его взору предстал довольно грязный, хотя и бойкий, торговый город, застроенный громадным количеством самых жалких лачуг с их до невероятия бедным населением; а над всем этим неприглядным ансамблем высился своими белыми зубчатыми стенами знаменитый Астраханский кремль, стройный, великолепный пятиглавый собор XVII столетия.
Внимание Шевченко привлек старинный Успенский собор, построенный крепостным зодчим Дорофеем Мякишевым. Осматривая сооружение с помощью соборного ключаря Гавриила Пальмова, Шевченко спросил:
— Кто был архитектором этого колоссального и прекрасного собора?
— Простой русский мужичок! — отвечал ключарь…
В Астрахани в то время не было даже гостиницы; Шевченко пришлось бы ночевать на улице, если бы он случайно не встретил прибывшего по служебным делам плац-адъютанта Новопетровского укрепления — прапорщика Льва Бурцева, своего хорошего приятеля, который тут же и пригласил поэта к себе на квартиру.
Вскоре выяснилось, что отплыть из Астрахани вверх по Волге не так-то просто: как раз в это время, в период Нижегородской ярмарки, все пароходы находились в Нижнем Новгороде, и раньше, чем через десять дней, ни один не должен был прийти в Астрахань. Опять предстояло томительное ожидание. По счастью, ссыльные поляки Степан Незабытовский и Томаш Зброжек знали Шевченко; а преподаватель истории и географии в астраханской гимназии Иван Петрович Клопотовский, окончивший Киевский университет, считал даже Шевченко своим «учителем», так как в 40-х годах слышал несколько лекций по теории живописи, прочитанных Тарасом.
Клопотовский и Зброжек сообщили о приезде Шевченко молодому рыбопромышленнику-миллионеру Сапожникову, знакомому Шевченко по Петербургу: будучи в то время «шалуном-школьником в детской курточке», Сапожников брал у Шевченко уроки живописи.
Сапожникову, разумеется, льстило возобновление старого знакомства с поэтом, пользовавшимся теперь громкой славой. Астраханский богач пригласил Шевченко плыть вместе с ним в Нижний на отдельном пароходе.
На пароходе «Князь Пожарский», принадлежавшем пароходной компании «Меркурий», не было других пассажиров, кроме самого Сапожникова с женой и родственниками. Капитаном парохода оказался тоже старый знакомый Шевченко, большой любитель литературы и человек передовых взглядов — Владимир Васильевич Кишкин. На пароходе была приличная библиотека, в частности, «все книги всех русских журналов» за текущий год. У Кишкина, кроме того, имелся «заветный портфель», в котором он хранил всевозможные запрещенные произведения, начиная от декабристской «Полярной звезды» за 1824 и 1825 годы с отрывками из поэм Рылеева «Войнаровский» и «Наливайко» и кончая самыми последними творениями «подпольной музы» вроде стихотворения Петра Лаврова «Русскому народу», популярной в то время «Кающейся России» Хомякова, политических стихов Бенедиктова и даже новинок лондонской типографии Герцена и Огарева.
Это соблазнило поэта, тем более что пассажирских пароходов в ближайшее время не предвиделось. Заранее купленный в пароходстве проездной билет Шевченко отдал в пользу неимущих пассажиров и согласился ехать на «Князе Пожарском».
Плавание по Волге продолжалось целый месяц и доставило поэту много удовольствия.
Буфетчиком на «Князе Пожарском» был вольноотпущенный крестьянин Алексей Панфилович Панов. Этот «крепостной Паганини», как называет его Шевченко, обладал выдающимися музыкальными дарованиями.
Слушая чудесную игру на скрипке «своего возлюбленного виртуоза», поэт думал о том, сколько таланта, сколько творческих сил таится в народе и ждет только возможности, чтобы проявиться, чтобы завоевать себе заслуженное право на существование!
Шевченко очарован музыкой, и он записывает в своем дневнике: «Ночи лунные, тихие, очаровательно поэтические ночи! Волга, как бесконечное зеркало, подернутая прозрачным туманом, мягко отражает в себе очаровательную, бледную красавицу-ночь и сонный, обрывистый берег, уставленный группами темных деревьев. Восхитительная, сладко успокоительная декорация!
И вся эта прелесть, вся эта зримая, немая гармония оглашается тихими, задушевными звуками скрипки. Три ночи сряду этот вольноотпущенный чудотворец возносит мою душу к творцу вечности — пленительными звуками своей лубочной Скрипицы… Он извлекает волшебные звуки, в особенности в мазурках Шопена. Я никогда не наслушаюсь этих общеславянских, сердечно глубоко унылых песен.
Благодарю тебя, крепостной Паганини! Благодарю тебя, мой случайный, мой благородный друг! Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный, мрачный, глубокий стон миллионов крепостных душ! Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего свинцового уха, наш праведный, неумолимый, неублажимый боже?..»
Находясь впервые на пароходе, приводящемся в движение мощью паровой машины, поэт под впечатлением ощущений возносится до предвиденья, записывая там же в своем дневнике: «Под влиянием скорбных, вопиющих звуков этого бедного вольноотпущенника пароход в ночном погребальном покое мне представляется каким-то огромным, глухо ревущим чудовищем, с раскрытой огромной пастью, готовою проглотить помещиков-инквизиторов.
Великий Фультон! И великий Ватт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное, гениальное дитя.
Мое пророчество несомненно…»
31 августа «Князь Пожарский» остановился у саратовской пристани. Шевченко воспользовался тем, что пароход простоял здесь почти целые сутки, и с полудня до часу ночи провел у жившей в Саратове матери Костомарова — старушки Татьяны Петровны.
Когда Шевченко вошел к ней и произнес первые слова приветствия, Татьяна Петровна тотчас узнала его по голосу:
— Тарас Григорьевич…
Но, взглянув на гостя, старушка заколебалась: нет, она ошиблась, неужели этот лысый бородатый старик с печальными глазами — Шевченко?.. Они виделись десять лет тому назад, и тогда это был молодой человек с густыми каштановыми кудрями, горячим, живым взглядом выразительных, смеющихся глаз.
Шевченко убедил Татьяну Петровну, что это все-таки именно он, — и Костомарова обняла его и долго плакала, целуя Тараса в голову. «И боже мой, чего мы с ней не вспомнили, о чем мы с ней не переговорили. Она мне показывала письма своего Николаши из-за границы и лепестки фиалок, присланные ей сыном из Стокгольма от 30 мая. Это число напомнило нам роковое 30 мая 1847 года, и мы как дети зарыдали…»
И вдруг почувствовал в этот момент Шевченко, состарившийся в тяжкой солдатчине, как далеко разошлись дороги его и Костомарова, спокойно совершавшего сейчас научно-развлекательное турне по Швеции, Германии, Франции, Швейцарии, Италии…
Могло ли прийти в голову праздновавшему медовый месяц своей свободы поэту, что в это самое время полицейские, военные и всякие иные власти уже вели бурную переписку по поводу отбытия опасного ссыльного.
Комендант Новопетровского укрепления Усков уже писал объяснения по поводу допущенной им оплошности и просил эти свои объяснения «повергнуть на милостивое благоусмотрение его превосходительства г-на корпусного командира».
И как раз 18 сентября, когда «Князь Пожарский», спокойно пыхтя тяжелой паровой машиной и размахивая огромными колесами, приближался к цели своего плавания, а Шевченко, пожимаясь от ранних в этом году морозов, вглядывался в туманную даль, высматривая нижегородские причалы, — только что назначенный взамен ушедшего «на покой» Перовского новый командир корпуса и генерал-губернатор самарский и оренбургский Катенин отдал приказ, в котором указывал Ускову, что тот поступил «весьма опрометчиво», и только «в уважение долговременной усердной и полезной службы» ограничился «на сей раз объявлением строгого замечания».
Предписания немедленно задержать Шевченко, отобрать у него «билет № 1403» и возвратить «бывшего рядового» в Оренбург «до окончательного увольнения его оттуда на родину» были уже разосланы во все концы: и в петербургскую городскую полицию, и в московскую городскую полицию, и в правление Академии художеств, и нижегородскому полицмейстеру.
Именно это последнее и дожидалось поэта при первом его шаге в Нижнем Новгороде.
20 сентября 1857 года в одиннадцать часов утра Шевченко сошел на пристань, и в тот же день главноуправляющий пароходной компании «Меркурий» Брылкин объявил ему, что имеет «особенное предписание полицмейстера» дать знать, как только «отставной солдат Оренбургских батальонов, из политических ссыльных», Шевченко Тарас прибудет в город.
Такая неожиданность сконфузила Тараса… Можно себе представить, какой это был действительно неожиданный и тяжкий удар!.. Поэт не удержался от горестных восклицаний:
— Вот тебе и Москва! Вот тебе и Петербург! И театр, и академия, и Эрмитаж, и сладкие дружеские объятия!.. Проклятие вам, корпусные и прочие командиры, мои мучители безнаказанные! Гнусно! Бесчеловечно! Отвратительно гнусно!..
По совету друзей Шевченко решил, что не грех подлость отвратить лицемерием, и притворился больным «во избежание путешествия, пожалуй, по этапам в Оренбург за получением указа об отставке…»
Конечно, в этот момент Шевченко еще не мог предполагать, что в Нижнем ему придется прожить в ожидании решения своей судьбы целых полгода. Он и не подозревал, что дело не просто в «получении указа об отставке», а в том, что сама отставка не была для него долгожданным «освобождением из ссылки», а обусловливала дальнейшее — и вдобавок бессрочное — поселение в том же хорошо знакомом поэту Оренбурге.
К счастью, нижегородское «начальство» отнеслось к Шевченко довольно снисходительно. В это время нижегородским гражданским и военным губернатором был Александр Муравьев, тот самый Александр Муравьев, который в 1816 году основал вместе с Павлом Пестелем первую тайную организацию декабристов — «Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов отечества».
Муравьев с большим уважением относился к Шевченко и содействовал тому, чтобы нижегородские власти не требовали от поэта возвращения в Оренбург. Полицейский врач Гартвиг без малейшей формальности нашел Тараса больным какой-то продолжительной болезнью, а обязательный нижегородский полицмейстер полковник Лаппо-Старженецкий засвидетельствовал действительность этой мнимой болезни.
Так Шевченко получил возможность переждать в Нижнем Новгороде, пока велась длительная бюрократическая переписка. Опять друзья хлопотали о новом «освобождении» поэта и о разрешении ему въехать в столицы. Опять Третье отделение составляло «справки», а министерства — «доклады» «о дозволении отставному рядовому Шевченко проживать в С.-Петербурге и, для усовершенствования в живописи, посещать классы Академии…»
Весь конец сентября погода стояла прескверная, пасмурная, часто шел дождь, и по залитым грязью, немощеным нижегородским улицам нельзя было пройти. В эти дни Шевченко был в очень плохом настроении, почти никуда не выходил и лежал, читая то лондонское издание Герцена «Голоса из России», то исследование Костомарова о Богдане Хмельницком, печатавшееся в «Отечественных записках».
Наконец в один прекрасный день, в первых числах октября, ударили морозы. Ясное зимнее солнце засверкало на многочисленных куполах Нижегородского кремля — выдающегося архитектурного сооружения начала XVI столетия. Старинные нижегородские церкви просто очаровали Тараса. Он бродит по Нижнему с карандашом и листом бумаги, срисовывая памятники старинного русского зодчества.
В начале октября Шевченко познакомился с Николаем Константиновичем Якоби. Шевченко стал бывать у Якоби, который познакомил его с лондонским изданием «Крещеная собственность» Герцена.
В «Крещеной собственности» Шевченко прочитал: «Пока помещик не уморил с голоду или не убил физически своего крепостного человека, он прав перед законом и ограничен только одним топором мужика. Им, вероятно, и разрубится запутанный узел помещичьей власти».
«Топор», как символ вооруженного восстания, крестьянской революции, постоянно с этого момента фигурирует в стихах Шевченко. К нему вновь вернулась его муза. В это время он работал над начатой еще в Новопетровске поэмой «Неофиты». В ней, обращаясь к царю, поэт восклицает.
Не громом праведным, святым Тебя сразят — ножом тупым Тебя зарежут, как собаку, Иль обухом убьют!Когда 3 ноября 1857 года Шевченко впервые увидел сборники Герцена «Полярная звезда» с литографированными портретами пяти повешенных Николаем декабристов — Пестеля, Рылеева, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола и Каховского — над изображением плахи и топора, как символ народного отмщения, — Шевченко не мог сдержать горячего волнения:
— Обертка, то есть портреты первых наших апостолов-мучеников, меня так тяжело, грустно поразили, что я до сих пор еще не могу отдохнуть от этого мрачного впечатления. Как бы хорошо было, если бы выбить медаль в память этого гнусного события! С одной стороны — портреты этих великомучеников с надписью: «Первые русские благовестители свободы», а на другой стороне медали — портрет неудобозабываемого Тормоза с надписью: «Не первый русский коронованный палач».
В Нижнем Новгороде начал Шевченко героическую эпопею о декабристах, которой предполагал дать заглавие «Сатрап и дервиш». Эта поэма не была написана, сохранилось лишь начало ее, известное под названием «Юродивый». Здесь вновь (как когда-то в сатире «Сон») на контрастном противопоставлении построен рассказ о борцах за свободу:
Да чур проклятым тем Неронам! Пусть тешатся кандальным звоном, – Я думой полечу в Сибирь, Я за Байкалом гляну в горы, В пещеры темные и в норы, Без дна глубокие, и вас, Поборники священной воли, Из тьмы, и смрада, и неволи Царям и людям напоказ Вперед вас выведу, суровых, Рядами длинными, в оковах…Героиня поэмы, мать осужденного тиранами борца за народ, вместе с тысячами таких же, как она, страдалиц явилась в столицу молить о защите «цезаря и бога»; поэт с болью говорит об этих ослепленных людях:
Пришли их тысячи в слезах, Со всех концов страны… О горе! Кого вы умолять пришли? Кому вы слезы принесли, К кому в несчастье и позоре Пришли с надеждой? Горе! Горе! Рабы незрячие! Кого, Кого вы молите, благие, Рабы незрячие, слепые? Палач не слышит ничего!.. Молитесь правде на земле, Другим богам не возносите Своей молитвы! Всё обман: И поп, и царь…1 октября открылся в Нижнем театральный сезон. Брылкин пригласил Шевченко в свою ложу. Давали «сентиментально-патриотическую» драму Потехина «Суд людской — не божий». Герои этой пьесы, одержимые величайшими страстями, легко сходили с ума и затем так же быстро выздоравливали; отец препятствовал счастью влюбленных, девушка в отчаянии отправлялась в монастырь, а возлюбленный обращался к публике со следующей тирадой:
— Один у меня отец — царь-батюшка, ему пойду служить, за него да за матушку Россию сложу свою голову бедную!
Понятно, что вся эта напыщенная, псевдопатриотическая фальшь в духе пьес Кукольника и Полевого вызывала у Шевченко отвращение.
Но его привлекла естественная, правдивая игра некоторых актеров; он сейчас же отметил у М.В. Мочаловой «движения настоящей артистки»; он замечает, что «натурально и благородно» играет Е.М. Васильева.
И Шевченко делается завсегдатаем местного театра, одного из старейших в России, помогает в художественном оформлении спектаклей, пишет в «Нижегородских губернских ведомостях» театральные рецензии.
Среди актеров у Шевченко скоро завязались знакомства. Особенно сблизился он с семьей потомственных театральных работников Пиуновых, у которых была юная дочь-артистка, шестнадцатилетняя Катенька; Шевченко еще в первых спектаклях отметил способности Катеньки Пиуновой:
«Спектакль был хоть куда, — записывает он в дневнике. — Васильева, в особенности Пиунова, была естественна и грациозна. Легкая, игривая роль ей к лицу и по летам».
На бенефис Катеньки Пиуновой Шевченко откликается подробной рецензией, которую из местной газеты перепечатали даже «Московские ведомости».
Шевченко стал чуть ли не ежедневным гостем в семействе Пиуновых. Его здесь полюбили, а младшие ребятишки по целым часам забавлялись, распевая и отплясывая вместе с Тарасом: «Ах, чеберики-чок-чебери!..» Малыши, плохо еще говорившие, называли Шевченко просто «Чеберик» или «Чок-чеберик».
Поэт любил слушать рассказы Пиуновых о том, что бабушка Катеньки, Настасья Ивановна, о которой с гордостью говорили в семье, была когда-то крепостной актрисой князя Шаховского.
Сердце поэта снова задрожало чувственной дрожью. Шевченко принялся воспитывать в Пиуновой литературный, эстетический вкус. Он заставляет девушку декламировать Кольцова и Крылова, сам переписывает для нее стихи Курочкина, носит ей для чтения Пушкина, Гоголя и «Губернские очерки» Щедрина, наконец, выбирает для ее выступления сцену из «Фауста» Гете и сам достает ей с большим трудом экземпляр гениальной трагедии в переводе своего покойного приятеля Губера.
Словом, Шевченко по-настоящему увлекся молодой Пиуновой. Она уже привлекала его не только как способная актриса, но и как женственное, миловидное существо, веселое и жизнерадостное, любившее и попеть, и поплясать, и подурачиться.
Времяпрепровождение поэта в семействе Пиуновых удовлетворяло его давнюю тоску по родному углу и семейному уюту…
Подлинные друзья не забывали Шевченко. Семидесятилетний больной старик Щепкин в ответ на предложение Шевченко встретиться где-нибудь под Москвой сам предложил приехать в Нижний.
Престарелый артист в декабрьскую зимнюю стужу отправился за четыреста с лишним верст на лошадях на свидание с опальным другом…
Глухой зимней ночью, в три часа пополуночи, в самый сочельник, 24 декабря, приехал в Нижний Новгород Михаил Семенович Щепкин.
Друзья после десятилетней разлуки бросились друг другу на шею и плакали сладкими слезами в этих братских объятиях.
Шевченко встретил Щепкина задушевнейшим посвящением к своей поэме «Неофиты»; посвящение было так и озаглавлено — «на память 24 декабря 1857 года», то есть на память о приезде великого артиста в Нижний. Поэт обращался к другу:
Любимец вечных муз и граций! Я жду тебя и тихо плачу, Я думу скорбную мою Твоей душе передаю. Так прими же благосклонно Думу-сиротину, Наш великий чудотворец, Друг ты мой единый!Приезд в Нижний Новгород знаменитого артиста сделался событием в жизни города. Щепкин выступал в местном театре в «Ревизоре» Гоголя, в классическом украинском водевиле Котляревского «Солдат-чародей», в переводной пьесе «Матрос» французских драматургов Соважа и Делурье.
По рекомендации Шевченко Катя Пиунова выступала вместе с великим артистом. И в роли Татьяны («Солдат-чародей») она так понравилась и Щепкину и Шевченко, что с этой поры они в своей переписке называют Екатерину Пиунову не иначе как «Татьяной», «Тетясей», «Танечкой».
Шесть дней провел Щепкин у Шевченко в Нижнем и перед самым Новым годом возвратился опять в Москву. Как сон пролетели эти дни…
— Старый чародей, — говорил Тарас, — своим посещением сделал из меня то, что я и теперь еще не могу прийти в нормальное состояние… И нужно же было ему такую штуку выкинуть! Нет, таких богатырей-друзей не много на белом свете. Да я думаю, что он один только и есть… Храни его господь на поучение людям!
Зима была уже на исходе, а разрешение на въезд в Петербург все не приходило.
«Семь лет в Новопетровском укреплении мне не казались так длинны, как в Нижнем эти пять месяцев, — жаловался Шевченко в письме к Ираклию Ускову. — Весною, если не разрешат мне жить в столицах, поеду в Харьков, в Киев, в Одессу и за границу… А там, что бог даст. Не погиб в неволе, не погибну и на воле, говорит малороссийская песня».
Одним из самых тяжелых переживаний Шевченко в конце пребывания его в Нижнем Новгороде явилась печальная развязка его искренних отношений с юной Катенькой Пиуновой.
Явившись к Пиуновым, Тарас обратился к родителям Катеньки с просьбой внимательно выслушать его, так как он должен сообщить нечто весьма важное.
— Слухайте-ка, батько и матка, — сказал поэт, — и ты, Катруся, прислухай… Вы давно меня знаете, видите: вот я, какой есть — такой и буду… У вас, батько и матка, есть товар, а я купец — отдайте за меня Катрусю!..
Хотя и сама Катенька, и ее родители все время охотно принимали у себя прославленного поэта и любили пользоваться его услугами, помощью (даже рассчитывали, что по протекции Шевченко, через Щепкина, Екатерине Борисовне, несмотря на ее молодой возраст, удастся заполучить выгодный ангажемент в Харьковском театре), но отдавать дочь за ссыльного… А потом, что в нем жениховского? Сапоги смазанные, дегтярные, тулуп чуть не нагольный, шапка самая простая, барашковая, да такая страшная, а в патетические минуты Шевченко бросает ее на пол в день по сотне раз, так что, если бы она была стеклянная, то часто бы разбивалась.
Прямо отказать на прямое предложение руки и сердца поостереглись, и это больше всего огорчило искреннего, прямодушного поэта. Из боязни, что Шевченко оставит свои хлопоты о ней, Пиунова и ее родители пытались некоторое время хитрить и лицемерить.
«Я совершенно не гожусь для роли любовника, — пишет он в дневнике. — Она, вероятно, приняла меня за помешанного или просто за пьяного и, вдобавок, за мерзавца… Как растолковать ей, что я ни то, ни другое, ни третье и что я не пошлый театральный любовник, а искренний, глубокосердечный ее друг!..»
Он ищет встречи с нею, посылает ей книги; но она избегает его, а книги посылает обратно, не читая. «Я вас люблю, — пишет он ей по поводу этого последнего обстоятельства, — и говорю это вам прямо, без всяких возгласов и восторгов. Вы слишком умны для того, чтоб требовать от меня пылких изъяснений в любви; я слишком люблю и уважаю вас, чтоб употреблять в дело пошлости, так принятые в свете. Сделаться вашим мужем — для меня величайшее счастие, и отказаться от этой мысли будет трудно. Но если судьба решила иначе, если я имел несчастие не понравиться вам, и если возвращенные мне вами книги выражают отказ, то нечего делать: я должен покориться обстоятельствам…» И Шевченко покорился обстоятельствам… Скоро он, однако, успокоился; у него «все как рукой сняло». Его поразило, что Пиунова, об устройстве которой на харьковской сцене он хлопотал вместе с Щепкиным, не дождавшись ответа, заключила контракт с нижегородским антрепренером. После этого пассажа у него не хватило духу даже поклониться при встрече своей «любой дивчине». «Я скорее простил бы ей, — говорит он, — самое бойкое кокетство, нежели эту мелкую несостоятельность, которая меня, а главное, моего старого знаменитого друга поставила в самое неприличное положение».
«Случайно встретил я Пиунову, — отмечает он в том же дневнике, — у меня не хватило духу поклониться ей. Дрянь госпожа Пиунова! От ноготка до волоска дрянь! Вот она где нравственная нищета!.. Завтра Кудлай едет во Владимир, попрошу его взять и меня с собой. Из Владимира как-нибудь доберусь до Никольского и в объятиях моего старого, искреннего друга Щепкина, даст бог, забуду и Пиунову, и все мои горькие утраты и неудачи…»
Но на следующий день, 25 февраля, как раз в день рождения и именин Шевченко, пришло, наконец, известие о разрешении выехать в Петербург.
— Лучшего поздравления с днем ангела нельзя желать! — воскликнул поэт.
В эти же дни получил Шевченко от Лазаревского свои драгоценные «захалявные» тетрадочки, оставленные им ровно восемь лет тому назад в Оренбурге на сохранение.
Ждать полицейского пропуска пришлось еще почти две недели, и только 8 марта 1858 года, в три часа пополудни, покинул Шевченко Нижний и отправился в Москву по знаменитой, оплаканной в народных песнях Владимирской дороге — «Владимирке», по которой тысячи людей шли на каторгу, в ссылку.
Ночью на почтовой станции во Владимире у Шевченко произошла радостная встреча с Алексеем Ивановичем Бутаковым, уже капитаном 1-го ранга и начальником Аральской флотилии, созданной по его инициативе. Бутаков направлялся вместе с женой в Оренбург, а потом вновь на берега Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи.
У Шевченко при одном воспоминании о его вынужденном пребывании в Оренбургском крае холодело сердце. Но энтузиазм отправлявшихся туда добровольцев-землепроходцев, исследователей неведомых мест был ему понятен и глубоко симпатичен.
10 марта, поздно вечером, Шевченко прибыл в Москву и остановился до утра в какой-то гостинице. Поутру он оставил свое временное пристанище, показавшееся ему очень неуютным, и отправился на квартиру к Щепкину, жившему «у старого Пимена, в доме Щепотьевой». Здесь Шевченко и поселился, сердечно встреченный старым другом.
Простудившись в дороге, Тарас внезапно почувствовал себя плохо. Пришлось пригласить врача. Врач прописал лекарства, диету и запретил выходить на улицу.
— Вот тебе и столица! — жаловался Шевченко. — Сиди да смотри в окно на старого, безобразного Пимена!
Но уже на следующий день по Москве разнеслась весть о приезде Тараса Шевченко, и в дом к Щепкину началось настоящее паломничество: спешили навестить старого знакомого прежние друзья, являлись и люди, жаждавшие познакомиться со знаменитым изгнанником; приходили и гости-украинцы с рассказами о событиях на родине, и москвичи.
Вопреки запрещению врачей 17 марта Шевченко «вечером, втихомолку» вышел из дома; первый московский визит его был к княжне Варваре Николаевне Репниной.
Много воды утекло со дня их разлуки… И вот сейчас, в Москве, как-то холодно встретился Шевченко с Репниной; прежнего взаимопонимания уже не было, искра чувств исчезла; княжна совсем ударилась в мистику. Это была сухонькая старушка; трудно было им возобновить задушевный разговор: они стали не те, что были в Яготине, и вокруг все было не то…
Оправившись, поэт целые дни ходил по Москве, любовался древним Кремлем, наслаждался просто московскими улицами, несмотря на весеннюю грязь; часто сопровождал его Щепкин.
— Грешно роптать мне на судьбу, — говорил Шевченко Щепкину, — что она затормозила мой поезд в Питер. В продолжение недели я здесь встретился и познакомился с такими людьми, с какими в продолжение многих лет не удалось бы встретиться.
Одно из таких знакомств было знакомство с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым. Аксаков глубоко привлекал Шевченко своим ярким художественным талантом. Несмотря на ограниченность его политических взглядов, Шевченко искренне ценил Аксакова как писателя-реалиста, изумительного знатока родной природы и языка. В доме Аксакова Шевченко слушал, как его дочь, Надежда Сергеевна, пела украинские народные песни. Шевченко здесь же прекрасно спел несколько великорусских песен, в том числе волжскую бурлацкую, вызвавшую слезы на глазах у присутствующих.
Москва приняла поэта с распростертыми объятиями. Можно сказать, что он здесь впервые по-настоящему ощутил, как за истекшие десять лет выросла его слава, как везде его знают и уважают, каким почетным гостем он является в каждом доме, куда бы ни вошел…
Приближался срок отъезда в Петербург. Там друзья уже волновались; Михаил Лазаревский писал Тарасу: графиня Толстая «чрезвычайно жалеет о твоей болезни и боится, чтобы Михайло Семенович не удержал тебя в Москве и на пасху; она даже сомневается в твоей болезни и думает, что ты остался там для Михайла Семеновича… Она просит тебя скорее приехать сюда, если можно — к праздникам».
Однако на пасху Шевченко еще был в Москве. Посмотрев прославленную пасхальную заутреню, «ночное кремлевское торжество», поэт иронически заметил:
— Если бы я ничего не слыхал прежде об этом византийско-староверском торжестве, то, может быть, оно бы на меня и произвело какое-нибудь впечатление, теперь же ровно никакого. Свету мало, звону много, крестный ход — точно вяземский пряник — движется в толпе. Отсутствие малейшей гармонии и ни тени изящного…
А на следующий день, 25 марта, М.А. Максимович, бывший ректор Киевского университета, устроил торжественный обед в честь Шевченко.
На этом обеде Максимович прочитал посвященные поэту стихи, так и озаглавленные автором: «25 марта 1858». В стихах, между прочим, говорилось:
На святе благовіщення Тебе привітаю, Що ти, друже, вернувся З далекого краю!.. Заспівай нам таких пісень, Щоб мати Вкраіна Веселилась, що на славу Тебе породила!Жена Максимовича, Мария, очаровательная молодая женщина, спела несколько украинских песен. В тот же вечер Тарас подарил ей автограф одного из лучших своих лирических стихов «Садок вишневий коло хати», написанный еще в каземате Петропавловки перед ссылкой.
26 марта Михаил Семенович Щепкин уезжал с семьей в Ярославль. Для Шевченко уже не было смысла дольше задерживаться в Москве. Проводив утром Щепкиных, он к двум часам дня, «забравши свою мизерию», отправился на вокзал недавно открытой железной дороги Петербург — Москва.
И вот поэт уже в поезде — впервые в жизни!
В два часа, закупоренный в вагоне, оставил Тарас гостеприимную Москву, а в 8 часов вечера на следующий день громоносный локомотив свистнул и остановился в Петербурге. С вокзала Шевченко поехал на квартиру Лазаревского, где временно нашел для себя пристанище.
Начинался новый, самый значительный, самый важный период жизни поэта.
Глава 9. Бессмертие
С каким радостным волнением вступал Шевченко снова на оставленные почти полтора десятка лет назад камни северной столицы. С Петербургом были связаны самые лучшие воспоминания его молодости, самые задушевные дружеские симпатии, самые сильные впечатления пытливой мысли!
В первый день своего пребывания в столице Шевченко словно в каком-то опьянении восторга. По снегу и слякоти пешком обегал он половину города почти без надобности.
О Петербурге поэт мечтал долгие годы, о своей «милой академии», об оставленных здесь друзьях, об очередной художественной выставке, Большом театре, некогда расписанном его собственными руками, об Эрмитаже…
Да, «северная Пальмира» снилась Шевченко в далекой ссылке, как снилась ему и его милая, родная Украина, его увитый садами Киев…
28 марта 1858 года, то есть в первые же сутки своего пребывания в столице, Шевченко зашел повидать своих «соизгнанников» оренбургских — Сераковского, Станевича и Желиговского (Сову). Радостная, веселая встреча! Сердечные речи продолжились за бокалом вина и завершились пением родных песен.
Сейчас же по приезде поэта в Петербург, в апреле 1858 года, Федор Петрович и Настасья Ивановна Толстые устроили в его честь торжественный обед. Среди многих знатных гостей был и старый друг Шевченко, певец и композитор Семен Гулак-Артемовский, и талантливый поэт Николай Щербина, и педагог Николай Старов, который, выступая, сказал:
— Несчастие Шевченко кончилось, а с тем вместе уничтожилась одна из вопиющих несправедливостей… Нам отрадно видеть Шевченко, который среди ужасных, убийственных обстоятельств, в мрачных стенах «казармы вонючей» не ослабел духом, не отдался отчаянию, но сохранил любовь к своей тяжкой доле, потому что она благородна. Здесь великий пример всем современным нашим художникам и поэтам, и уже это достойно обессмертить его!..
Толстой дополнил Старова:
— Будем бога молить за государя-императора, который милостиво вернул нам друга, а миру — поэта и художника.
Шевченко, не думая о последствиях, хотел было возразить, резко повернулся в сторону графа, но нечаянно расплескал из своего бокала вино. Темно-красное пятно на дорогой скатерти смутило его, и он, растерявшись, ничего не сказал. Граф подошел и молча взял его за руку…
Поэту Старов пришелся по душе — они стали друзьями.
Очень привязался Тарас к пятнадцатилетней Катеньке Толстой.
Заходя к Толстым, он часто отправлялся прямо к Кате:
— Серденько, берите карандаш, идем!
— Куда это? — пыталась объясниться Катенька.
— Да я тут дерево открыл, да еще какое дерево!
— Господи, где это чудо?
— Недалеко, на Среднем проспекте. Да ну же, идем скорей!
Оба хватали свои альбомы и спустя некоторое время уже стояли рядом и срисовывали удивительное дерево на Среднем проспекте.
Вернувшись домой, они садились на желтый диван в полутемной зале, и лились его восторженные речи! Со слезами в голосе поверял он девушке свою тоску по родине, рисовал широкий Днепр с его вековыми вербами; рисовал лучи заката, золотящие купола церквей, утонувший в зелени Киев; вечерний полумрак, легкой дымкой заволакивающий очертания далей; рисовал дивные, несравненные украинские ночи: серебро над сонной рекой, тишина… и вдруг трели соловья… еще и еще… и несется дивный концерт по широкому раздолью…
— Вот где бы пожить нам с вами, серденько!..
По ходатайству Толстых Шевченко поселили в отведенной ему небольшой квартирке из двух комнат в здании Академии художеств. К нему, для мелких поручений, был приставлен бывший солдат Прохор, служащий Академии, которому граф Толстой приказал уважать Шевченко, как его самого.
После возвращения из ссылки Шевченко начал добиваться разрешения на новое издание своих сочинений. Попечителю Петербургского учебного округа и председателю Петербургского цензурного комитета печально известному Делянову было подано следующее «прошение»:
«Получив высочайшее соизволение для проживания в столице, но нуждаясь в дневном пропитании, покорно прошу Ваше превосходительство дозволить мне новое издание моих сочинений: „Кобзарь“ и „Гайдамаки“, которых экземпляр при сем прилагается. Так как обе эти книжки составляют библиографическую редкость, то позвольте просить, по миновению в них надобности, возвратить их мне.
Тарас Шевченко».
Книгоиздатель Д.Е. Кожанчиков заключил с Шевченко договор на печатание его произведений. Но вместо ожидаемого разрешения последовала знакомая еще с николаевских времен резолюция Третьего отделения — «приказано оставить» (то есть «оставить» тяготевшее с 1847 года над сочинениями Шевченко «высочайшее» запрещение), и договор с издателем пришлось расторгнуть. Шевченко это возмутило и расстроило. Рука с пером потянулась к бумаге:
…Доброго не жди, – Напрасно воли поджидаем, – Она заснула, Николаем Усыплена. Чтоб разбудить Беднягу, надо поскорее Обух всем миром закалить Да наточить топор острее, И вот тогда уже будить. А то, пожалуй, так случится – До страшного суда заспится, – Паны помогут крепко спать: Все будут храмы воздвигать Да все царя, пьянчугу злого, Да византийство прославлять, И не дождемся мы другого…Между тем кто-то из друзей Шевченко переправил за границу несколько наиболее революционных его стихотворений из цикла «Три года», и в конце 1858 года в Лейпциге, в издании Вольфганга Гергардта, вышла книга под названием «Новые стихотворения Пушкина и Шевченко».
Сборник состоял из семи запрещенных в России цензурой стихотворений Пушкина и шести произведений Шевченко, помещенных в украинских оригиналах: «Кавказ», «Холодный Яр», «Как умру, похороните…» (под заглавием «Думка»), «Разрытая могила», «За думою думы роем вылетают…» (тоже под заглавием «Думка»), «И мертвым, и живым…»
Спрос на стихи Шевченко, его слава были так велики, что вскоре понадобилось новое издание; в 1859 году те же шевченковские произведения вышли в Лейпциге под заглавием «Поэзии Тараса Шевченко».
Оба издания очень скоро стали известны в России. Кроме того, в России ходили по рукам списки стихов Шевченко, затем стали появляться подпольные литографированные издания, а еще спустя некоторое время — и отпечатанные в тайных типографиях.
Сразу широко стали распространяться и его новые стихи. Огромную популярность получило стихотворение «Сон», написанное летом 1858 года:
На барщине пшеницу жала, Устала; все ж не отдыхать Пошла в снопы, — заковыляла Ивана-сына покачать…Задремала несчастная мать-рабыня,
И снится ей, что сын Иван, Такой красивый и богатый, Уже не холостой, женатый – На вольной, кажется, — и сам Уже не барский, а на воле; И на своем веселом поле Свою они пшеницу жнут, А деточки обед несут!Увы, все это только сон:
И тут бедняга улыбнулась От радости и вдруг проснулась – Нет ничего! Она взяла Тихонько сына, повила; Боясь бурмистра, оглянулась И дожинать урок пошла…В печати «Сон» был посвящен Марко Вовчку. Под псевдонимом Марко Вовчок выступила в 1857 году молодая (в то время ей было всего двадцать два года) украинская писательница Мария Александровна Маркович, жена давнего знакомого Шевченко, бывшего члена Кирилло-Мефодиевского общества Афанасия Васильевича Марковича.
Первая же книга Марко Вовчка — «Народные рассказы» — произвела большое впечатление на литературную общественность; Тургенев написал к русскому переводу этой книги предисловие, восторженные отзывы о ней дали Чернышевский и Добролюбов, Герцен и Писарев.
Познакомился Шевченко с Марко Вовчком в начале 1859 года и впоследствии всегда называл ее своей «доченькой».
В посвященном Марко Вовчку стихотворении поэт говорит:
Господь послал Тебя нам, кроткого пророка И обличителя жестоких И ненасытных. Жизнь моя! Моя ты зоренька святая! Моя ты сила молодая! Свети и обогрей меня, И оживи немолодое Ты сердце бедное, больное, Голодное. И оживу И думу вольную на волю Из гроба к жизни воззову; И думу вольную. О доля! Пророк наш! Дочь земной юдоли! Твоею думу назову!Весной 1858 года, сразу по возвращении в Петербург, Шевченко занялся акватинтой. В мае он встретился с профессором гравирования Федором Ивановичем Иорданом, который охотно предложил ему свою помощь.
— Какой обаятельный, милый человек и художник, — делился Шевченко с друзьями своим впечатлением от встречи с Иорданом, — и вдобавок живой человек, что между граверами большая редкость. Он мне в продолжение часа показывал все новейшие приемы гравюры акватинта. Изъявил готовность помогать мне всем, что от него будет зависеть.
И вот Шевченко принимается за дело.
«Как настоящий вол, впрягся в работу, — пишет он Щепкину в ноябре 1858 года, — сплю на этюдах: из натурного класса и не выхожу, — так некогда!»
Лучшие его офорты этих лет: «Притча о работниках на винограднике» (с картины Рембрандта), «Вирсавия» (с картины Брюллова), «Приятели» (с картины Соколова), «Нищий на кладбище», несколько портретов и автопортретов (с собственных оригиналов).
Офорт «Притча о работниках на винограднике» построен на контрастных белых и черных пятнах и выполнен тонким, мягким штрихом. Он хорошо передает богатейшую гамму светотени Рембрандта.
Офорт «Нищий на кладбище» выполнен по оригинальному рисунку Шевченко. На лице старика нищего, стоящего на переднем плане с книгой в протянутых руках, светится глубокая мысль; вся его фигура проникнута величием и благородством, составляющими резкий контраст с его рубищем и позой.
Гравюра в то время была наиболее доступным народу видом искусства. Посредством гравюры Шевченко сделался известен как художник широким слоям населения…
Крупнейшие мастера русского офорта второй половины XIX и начала XX столетий — Шишкин, Матэ, Репин — считали Шевченко одним из своих учителей.
Нужно к этому добавить, что Шевченко был не только выдающимся гравером-реалистом, но и изобретателем, конструктором граверной техники…
В ноябре 1858 года в Петербург с гастролями приезжает негритянский актер Айра Олдридж. Шевченко был очарован его игрой. При посредстве дочери Федора Толстого Катеньки Шевченко сблизился с замечательным артистом, который потряс зрителей исполнением гениальных шекспировских трагедий «Отелло», «Король Лир», «Венецианский купец».
Во время гастролей негритянского трагика в Петербурге Шевченко с Олдриджем виделись почти ежедневно. Шевченко написал его портрет. Сеансы проходили в мастерской художника. Олдридж никак не мог усидеть спокойно: лицо у него все время менялось, принимая то хмурое, то необыкновенно комическое выражение. Иногда он начинал петь трогательные, певучие негритянские мелодии — заунывно-печальные или жизнерадостно-веселые, и, наконец, переходил к отчаянной «джиге», которую отплясывал посреди шевченковской мастерской.
Шевченко пел Олдриджу украинские народные песни, и у них завязывалась оживленная беседа о типических чертах разных народностей, о сходстве народных преданий и общности стремлений всех народов к свободе.
Олдридж рассказывал свою биографию (переводчицей и неизменной спутницей артиста была Катенька Толстая); рассказывал, как еще ребенком мечтал о сцене, но на театрах видел только обычную в Америке надпись: «Собакам и неграм вход воспрещается».
Чтобы все-таки бывать в театре, Олдриджу пришлось наняться лакеем к одному актеру.
— Можно себе представить, сколько страданий он пережил и сколько энергии должен был проявить, пока добился, наконец, известности, да и то не на своей родине, — говорил Тарас, сравнивая рабские судьбы негра и свою собственную.
Как оба они были растроганы, когда Катенька рассказала Олдриджу историю Шевченко, а последнему переводила с его слов жизнь трагика!..
Публика в Петербурге устраивала артисту небывалые овации, забрасывала Олдриджа цветами, окружала его после каждого выступления, чтобы только поцеловать «его благородные черные руки».
И театральная критика находила, что после гастролей негритянского трагика его влияние явно сказалось на игре русских актеров — Мартынова, Сосницкого, Каратыгина, которые сами говорили, что учатся у Олдриджа простоте и живости сценических образов…
Весной 1859 года Шевченко представил две свои гравюры — «Притчу о работниках на винограднике» и «Приятели» — на соискание звания академика гравюры.
16 апреля состоялось постановление совета Академии художеств о том, чтобы Шевченко «по представленным гравюрам признать назначенным в академики и задать программу на звание академика по гравированию на меди».
После выполнения заданной программы должно было последовать присуждение звания академика.
Этой же весной Шевченко стал собираться на Украину. Для этого требовалось испрашивать разрешения полиции, и снова началась длительная междуведомственная переписка…
Поэт жалуется в письме на Украину к молодой жене Максимовича, Марии Васильевне, с которой у Тараса сложились особенно теплые отношения:
«Взялся я хлопотать о паспорте, да и до сих пор еще не знаю, дадут ли мне его или нет. Сначала в столицу не пускали, а теперь из этой вонючей столицы не выпускают. До каких пор они будут издеваться надо мной? Я не знаю, что мне делать и за что приниматься. Удрать разве потихоньку к вам да, женившись, у вас и спрятаться? Кажется, что я так и сделаю…»
Настроение у Шевченко было тяжелое. Он и Марко Вовчку писал:
«Я еще и до сих пор здесь, не пускают домой. Печатать не дают. Не знаю, что и делать. Не повеситься ли, что ли? Нет, не повешусь, а удеру на Украину, женюсь и возвращусь, словно умывшись, в столицу…»
Наконец 25 мая 1859 года санкт-петербургский полицмейстер выдал «состоящему по высочайшему повелению под строгим надзором полиции» Тарасу Шевченко свидетельство сроком на пять месяцев на проезд «в губернии Киевскую, Черниговскую и Полтавскую для поправления здоровья и рисования этюдов с натуры…»
Но в это же самое время, кроме «явной» переписки, велась и другая — тоже полицейская, но уже тайная: 23 мая 1859 года за № 1077 Третье отделение извещало жандармские власти в Киеве о поездке Шевченко — «для должного наблюдения за художником Шевченко во время его пребывания в Киевской губернии». Дословно то же самое и в тот же самый день сообщало Третье отделение в Полтаву и в Чернигов…
Губернаторы трех губерний предписывали всем земским исправникам и городничим учредить за Шевченко строгий надзор, наблюдать «за всеми его действиями и сношениями» и при этом «доносить почаще о последствиях сих наблюдений».
С какой невыразимой тоской поэт в далекой ссылке думал о своей прекрасной Украине! С каким щемящим сердце чувством мечтал снова побывать в родных местах, повидать Днепр, леса и степи, рощи и белые хаты!
Я так, я так ее люблю, Украину, мой край убогий, Что прокляну святого бога И душу за нее сгублю!Выехал Шевченко из Петербурга 26 мая, поездом в Москву. Он явно спешил; в Москве пробыл всего один день; повидался со Щепкиным, Бодянским; а 29 мая — через Тулу, Орел, Курск — отправился лошадьми на Украину.
5 июня поэт был уже в Сумах, а оттуда отправился на хутор Лифино, как раз на половине дороги между Сумами и уездным городком Лебедин.
Шевченко впервые был в этих местах; его привлекали живописные берега реки Псел, поросшие густыми лиственными лесами. В эти погожие июньские дни на Украине, когда яркая зелень еще не тронута знойным летним солнцем, когда по утрам на темно-синем небе высоко стоят ослепительно белые, как комья снега, облака, постепенно растворяющиеся к полудню в необозримой синеве, он бродил в окрестностях Лифина и Лебедина, удил рыбу, рисовал пейзажи, писал стихи — и его потянуло поселиться здесь, женившись на простой крестьянской девушке:
— Осточертело уже жить бобылем…
Ведь еще в Оренбурге грезился ему этот счастливый из счастливых дней его жизни:
А я ведь не казны богатой Просил у бога! Только хату, Лишь хатку мне б в родном краю, Да два бы тополя пред нею, Да горемычную мою, Мою Оксаночку; чтоб с нею Вдвоем глядеть с крутой горы На Днепр широкий, на обрыв, Да на далекие поляны, Да на высокие курганы…Теперь вновь поэт ощутил тоску по дому, по семье…
Это не было еще усталостью, утомлением; но, может быть, уже сказывалась смертельная болезнь, неумолимо подступавшая к сердцу, привезенная Шевченко с солдатской каторги.
И он мечтал устроить свое пристанище здесь, на Украине, среди народа, который знал он и который уже знал его.
12 июня Шевченко приехал в Переяслав, где четырнадцать лет назад написал свое «Завещание».
Старый друг, переяславский врач Козачковский, встретил поэта объятиями; он стал на память читать Тарасу Григорьевичу прежние его стихи, написанные в Переяславе.
Но с той поры утекло немало воды; многое переменилось и в самом Козачковском, и когда стали они с Шевченко говорить о самых жгучих вопросах нынешнего дня, о необходимости освобождения крестьян, поэт с горечью почувствовал, что эти самые главные для него предметы переяславский его приятель воспринимает совершенно иначе…
В разговоре с Козачковским Шевченко в конце концов не без досады воскликнул:
— Да, вы правы! Хорошо было бы жить поэту, если бы он мог быть только поэтом и не быть гражданином!
Но Козачковский, видимо, не понял ни горькой иронии этого восклицания, ни намека на прогремевшее как раз в это время по всей России стихотворение Некрасова «Поэт и гражданин» с его знаменитыми строками: «Будь гражданин! Служа искусству, для блага ближнего живи» и «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
В этот свой приезд на Украину Шевченко еще больше, чем всегда, проводит времени с крестьянами, подолгу ведет с ними беседы. Отправившись вместе с Козачковским на рыбную ловлю к Днепру, он поминутно оставляет своего приятеля, чтобы потолковать с рыбаками.
В это время слава Тараса Шевченко гремела повсеместно; люди приходили из дальних сел, только чтобы его повидать и послушать; кобзарь Остап Вересай пел песни на слова Шевченко; каждое слово поэта разносилось далеко…
Утром 13 июня Шевченко распрощался с Козачковским и отплыл на простом крестьянском «дубе» вниз по Днепру, в Прохоровку, к Максимовичам.
Хутор Максимовича Михайлова Гора, у села Прохоровки, был расположен на левом берегу Днепра, десятью верстами ниже Канева.
Приехал Шевченко к Максимовичам к вечеру. Хозяева обрадовались гостю. Мария Васильевна тут же распорядилась все приготовить для отдыха гостя после дороги и пригласила к столу. Шевченко откровенно любовался хозяйкой, которая была на двадцать лет моложе своего престарелого мужа. «И где он, старый антикварий, выкопал такое свежее, чистое добро? И грустно, и завидно!..» — пронеслось в голове у поэта.
После ужина Максимович пригласил Тараса в свою комнату, где они за чаркой наливки и с трубками в зубах вели беседу о делах крестьянских, вспоминали общих знакомых.
И с Максимовичем, как и с Козачковским, не оказалось у Шевченко общего языка: по-разному относились они к народу, к его правам, к его будущему.
Шевченко, живя на Михайловой Горе, часто уходил из дома, время проводил в селе, в поле; рисовал, беседовал с крестьянами. Если оставался дома, то его тянуло поговорить с хозяйкой, присутствие которой рядом вызывало повышенное волнение его сердца. Эта красавица с большими голубыми глазами притягивала Тараса к себе невидимыми нитями особого чувства, в котором он боялся признаться сам себе.
— Мария Васильевна, я бы хотел, чтобы вы, когда я уеду отсюда, вспоминали меня. Я знаю, как это сделать!.. Серденько, можно я нарисую ваш портрет?..
Щеки женщины неожиданно покрылись румянцем…
— Вот такая вы особенно проситесь на холст, — улыбнулся Тарас, заметив ее смущение.
Шевченко принялся за портрет. Он подсказал Марии Васильевне, какую лучше принять позу так, чтобы свет отражался в ее глазах, делая их блеск по особому выразительным.
Шевченко рисовал вдохновенно, работа продвигалась довольно быстро, и за три сеанса портрет был готов.
Работая с кистью, Тарас рассказывал сидящей перед ним прекрасной модели, что он сейчас работает еще над одной «Марией» — поэмой, в которой совершенно «кощунственно» использовал древнехристианскую легенду о «божьей матери» — Марии.
В поэме Мария не мифическая «богородица», а обыкновенная крестьянская девушка-«покрытка», родная сестра шевченковских героинь: Катерины, Наймички, Слепой. Образ самоотверженно-мужественной матери воплощает у поэта постоянно волновавшую его тему поруганной человечности. Он читает отрывки из поэмы прекрасной молодой женщине как-то по-особому, с каким-то чистым и пламенным эросом:
Все упованіє моє На тебе, мій пресвітлий раю, На милосердіє твоє, Все упованіє моє На тебе, мати, возлагаю. Святая сило всіх святих! Пренепорочная, благая! Молюся, плачу і ридаю: Воззри, пречистая, на їх, Отих окрадених, сліпих Невольників. Подай їм силу Твойого мученика сина, Щоб хрест-кайдани донесли До самого, самого краю.Мария Васильевна слушала Тараса, и глаза ее наполнялись слезами. С мужем живут они уже двенадцать лет, а детей бог не дал…
Максимович, увидя портрет жены, загорелся желанием иметь и свой. Шевченко нарисовал и его портрет.
За два дня до отъезда Шевченко из хутора Михайлова Гора Михаил Александрович уехал в Канев к знакомым по земельным делам. Тарас проснулся поздно, позавтракав, ушел на свое любимое место под дубом в парке, где он часто проводил время. Раскрыл блокнот, чтобы продолжить работу над поэмой, но вдохновение где-то еще витало… Голова наполнилась мыслями о своей доле несчастливой… «Вот другим, тому же Максимовичу, какое счастье выпало! Была бы у меня такая жена, и желать больше ничего не надо было бы… Вот отыщу здесь чепурную девушку и женюсь, ей-богу, женюсь!.. Как это будет весело иметь свою семью, свой дом…» — думал Тарас. Он и не заметил, как солнце начало клониться к закату.
Он вошел в дом, на пороге его встретила Мария Васильевна.
— Тарас Григорьевич, что же это вы даже обедать не приходили? — с озабоченностью в голосе спросила она.
— Серденько, Мария Васильевна, усыпил меня дуб в вашем парке. Шумел над головой своими листочками, и мысли роем так и кружились в голове…
Они прошли в гостиную. Сели рядом на диване.
— О чем мысли были? Наверное, о Петербурге, об Академии?..
— Об этом у меня еще будет время подумать… Серденько, я вам признаюсь, что думал о своей несчастной доле… — Тарас тяжело вздохнул, — Мне уже сорок пять лет, но ни кола, ни двора, ни жены, ни деток… Я завидую Михаилу Александровичу… Как это ему удалось очаровать такую красавицу, как вы?.. Вы просто ангел, спустившийся с небес… Вы милое, прекрасное созданье!.. Именно такой нетронутый тип моей землячки приходит ко мне во сне…
Он протянул к ней руку, и это движение было таким темпераментным, а голос его зазвучал и проникновенно, и нежно, и весь он засиял, как будто вспыхнул горячим внутренним светом, и стал неожиданно таким молодым и красивым, что женщина, помимо своей воли, увлеклась его порывом…
Тарас вдруг почувствовал, что ему становится трудно говорить… Мария Васильевна тоже рядом как-то странно смотрела на него, щеки ее и глаза пылали… Она вдруг протянула к нему руки и обняла Тараса за шею, припала своими губами к его губам…
Ужинали они молча, стараясь не думать о случившемся…
Уехав от Максимовичей, поэт посетил свои родные села — Кириловку и Моринцы.
В Кириловке Шевченко направился к сестре Ирине Бойко. Она была на огороде, копала грядки. К ней подбежала ее девчушка:
— Мама, мама, вас какой-то Тарас спрашивает! Скажи, говорит, матери, что к ней Тарас пришел.
— Какой Тарас?
Не успела она опомниться, как подошел сам Тарас.
— Здравствуй, сестра!
Сестра, как будто онемела, не могла слова произнести от неожиданности и счастья. «Брат ли это мой? Такой седой и старый?» — пронеслось у нее в голове…
Сели они на завалинке; Тарас положил голову на колени сестры, и начал просить сестру, чтобы она рассказывала о своей горемычной жизни. Он слушал сестру и все приговаривал:
— Да! Так, сестра, так!
Потом Тарас рассказал и о своей солдатчине.
Наплакались они вдвоем вволю.
Зашел Шевченко и к брату.
Никиты не было дома — работал в поле. Жена его, Пелагея, когда увидала Шевченко в окно, сразу тоже не узнала. Вышла ему навстречу в сени. Смотрит и думает: «Кто бы это мог быть?» А тот молчит, только глядит так пристально да так печально…
— Не узнаешь?
И как сказал — Пелагея сразу узнала. Так голос его и покатился ей в сердце.
— Братик мой, Тарас!.. Откуда ты взялся? — вскрикнула невестка и упала ему на грудь.
А он обнял ее, целует и плачет, и ни слова не говорит…
Вот она, Кириловка, такая же, как и десять, двадцать, тридцать лет назад, такая же, как тысячи сел, хорошо знакомых Тарасу.
Только вот любимая яблоня засохла, и ее пришлось срубить. Засохла и заветная верба у ворот.
— Скоро ли все мы будем свободными? — спросила Тараса Пелагея.
Тарас махнул рукой, вздохнул:
— Пока это случится, еще не один раз высекут тебя на барской конюшне…
Узнав, что приехал в гости к родным Тарас Шевченко, стали приходить к нему односельчане. Он и сам ходил по хатам, был в церкви на обедне, где узнал о трагической судьбе молодой поповны. Встречался со знакомыми и с незнакомыми, и все его без конца спрашивали одно и то же:
— Скоро ли будет воля?..
Брат Шевченко Иосиф был женат на сестре своего однофамильца — Варфоломея Григорьевича Шевченко, управлявшего имением князя Лопухина в Корсуне. Тарас и в Корсунь заехал в гости.
В момент приезда Тараса Варфоломей был там и видел, как во двор въехала телега, запряженная парой: в телеге сидит кто-то с большими усами, в парусиновом сером пальто и в летней шляпе. Этот кто-то прошел мимо дверей хаты — и прямо в ворота. Сердце Варфоломея как-то неспокойно забилось, и он выбежал на улицу и пошел навстречу приезжему, а тот тем временем успел уже пройти через двор в другие двери — и в сени.
Тарас открыл двери в хату и сказал громко:
— Ну, узнаешь или нет!..
Варфоломей едва опомнился.
— Отец родной! — только и вскрикнул он и опрометью бросился на грудь Тараса.
Они молчали и только рыдали, как дети, обнявшись. Выбежала жена, и тоже в слезы… В это мгновение все они будто онемели: слов не было, только слезы так и катились. Так они молча стояли на одном месте и рыдали слезами радости, пока не подошел извозчик Тараса и не спросил, что ему делать…
Тарас остановился здесь на все время, пока предполагал быть на Украине.
— Да, да, брат, — сказал Тарас, — у тебя, у тебя я буду; потому что на всей святой Украине нигде и ни у кого не будет мне так тепло, как у тебя.
Тарас искренно полюбил семью Варфоломея, особенно его одиннадцатилетнего сына Андрея. Поэт всякий раз брал его с собой. Андрей пел ему украинские песни, которыми Тарас, как сам он говорил, «упивался», и рассказывал мальчику, какая песня что означает.
В летнее время, особенно в сенокос или жатву, Варфоломею некогда было сидеть дома, он работал от зари до зари, поэтому с Тарасом они беседовали только тогда, когда тот разохотится и поедет вместе на работу, или же вечером, когда он еще не ляжет спать. Вставал Тарас очень рано, в четыре часа, и сразу в сад: а сад в Корсуне был очень, очень хороший! Во-первых, потому что место само по себе очень красивое, а кроме того, князь не пожалел денег, чтобы сделать свой сад еще прекраснее. Выбирал Тарас в этом саду какой-нибудь чудесный уголок и изображал его на бумаге. Пожалуй, в саду не осталось ни одного уголка, не зарисованного им в альбом. Однако поэтической душе поэта были милы только те уголки, в которых искусство человека не нарушало искусства матери-природы. Тарасу больше нравились глухие, запущенные уголки сада.
Когда Тарас ездил с Варфоломеем на работу, он постоянно пытался обратить его внимание на то, что следует заводить как можно больше машин, чтобы как можно меньше работали человеческие руки.
Во время таких поездок Тарас иногда рассказывал кое-что о своей тяжелой жизни в ссылке. Но как рассказывал! Начнет, скажет несколько коротких слов, будто оторвет. Да и такие рассказы случались редко. Тарас не любил ворошить своей минувшей беды!
Трудно найти человека, который бы любил украинские песни больше, чем Тарас. Иногда, как только Варфоломей возвращался с работы домой, Тарас сейчас же вел его в сад и давай петь! Тарас брал больше чувством; каждое слово в его песне изливалось с таким чистым, искренним чувством, что едва ли какой-нибудь артист-певец мог выразить его лучше, чем Тарас! Любимой песней Тараса была: «Ой зійди, зійди, зіронько вечірня…» Окончив эту песню, он сразу начинал следующую: «Зійшла зоря із вечора, не назорілася, прийшов милий із походу, я й не надивилася».
Тарасу хотелось обзавестись семьей; видя жизнь Варфоломея, он не раз говорил: «Сподобит ли и меня господь завести свое гнездо, хату, жену и деток?» Они часто разговаривали об этом, и Тарас всегда просил совета и помощи найти ему место, где бы он поселился, и «дівчину», но чтобы девушка обязательно была украинка, простая, не панского рода, сирота и «наймичка» (батрачка).
Вот и стали они ездить и искать такое место, чтобы поселиться, чтобы «Дніпро був під самим порогом». Вскоре такое место нашли, и на самом деле замечательное! Над самым Днепром, с небольшим лесочком. Землица эта — едва ли в ней было две десятины — была собственностью пана Парчевского. Стали с этим помещиком сговариваться: он — ни туды, ни сюды, рад бы и продать, да чувствуется — что-то жмется, увиливает.
Тарас собрался совершить измерение выбранного участка земли. Варфоломей проводил его почти до Межирича.
Из Межирича пригласили землемера Хилинского для обмера участка. Утром 10 июля Шевченко вместе с управляющим Вольским и землемером Хилинским отправились из Межирича, за пятнадцать верст, к селу Пекари.
С помощью нескольких крестьян долго обмеряли участок на высоком берегу Днепра.
— Какая благодать! — восклицал Шевченко, полной грудью вдыхая аромат цветов, буйной зелени. Далеко раскинулись на левом берегу реки пойменные луга; в темно-синем июльском небе неподвижно застыла белая пена облаков.
Тарасу уже грезились усадьба над «сивым» Днепром, хата с яблоней и грушей «на причилку» и — непременно! — на крылечке жена с кудрявым малышом на руках.
— Благодать! — повторял он, перепрыгивая с одного пригорка на другой и хватаясь руками за крепкие ветки орешника.
В полдень Шевченко пригласил всех под липу, на самой верхушке Княжьей горы, закусить. Мальчишка лесника-крестьянина Тимофея Садового сбегал в село к деду Прохору за квартой водки.
Поэт стал расспрашивать о подробностях недавних событий в этих местах — о крупном крестьянском восстании 1855 года, известном под именем «Киевской казатчины».
Вольский и старик землемер, видно, и сами сочувствовали крестьянам. Разговор получился задушевный, искренний. Шевченко думал о Вольском: «Добрый и искренний человечина!»
Вдруг из кустарников, со стороны дороги, вынырнули две странные фигуры; особенно один молодой человек производил смехотворное впечатление: он был во фраке и белых перчатках, словно явился не в лес, а на бал.
Увидев этого удивительного франта, Шевченко рассмеялся. Молодые люди оказались родственниками Вольского и Хилинского; они специально прибыли сюда, на обрывы Днепра, чтобы познакомиться со знаменитым петербургским художником и поэтом, пожелавшим поселиться в этих местах.
Над облаченным во фрак родственником землемера, отрекомендовавшимся: «дворянин Козловский», — Шевченко еще некоторое время продолжал подтрунивать. Но как только заметил, что тот несколько туповат и на острую шутку не умеет ответить шуткой, сразу же перестал подсмеиваться, даже попросил извинения и пригласил новоприбывших под липу, принять участие в импровизированном завтраке.
Прежний искренний разговор уже не мог возобновиться. Шевченко сделался сдержан и осторожен.
Но постепенно снова стали возникать волновавшие в это время всех темы: положение крестьян, отношение помещиков к ожидавшейся крестьянской реформе.
Козловский говорил по-польски. Шевченко сначала отвечал ему тоже по-польски, затем, желая вовлечь в беседу крестьян, перешел на украинский язык.
Козловский настаивал на том, что царь сам договорится обо всем с панами и мужикам нечего беспокоиться: царь позаботится, чтобы мужикам хорошо жилось.
— Да ведь царь сам кругом у панов в зависимости! — сказал, наконец, Шевченко, а затем стал читать наизусть свои новые стихи:
Во Иудее, во дни оны, Во время Ирода-царя, Вокруг Сиона, на Сионе Пьянчужек-римлян легионы Паскудили. А у царя, Там, где толклось народу много, У Иродова, бишь, порога Стояли ликторы. А царь, Самодержавный государь, Лизал усердно голенища У ликтора, чтоб только тот Хоть полдинария дал в ссуду. Мошною ликтор наш трясет Да сыплет денежки оттуда, Как побирушке подает, И пьяный Ирод снова пьет!Козловский прокашлялся и заметил, что он плохо понимает по-украински, поэтому ничего не будет возражать по существу услышанных стихов, однако… Шевченко его перебил:
— А вот это, может быть, вы все же поймете?
Мы сердцем голы догола! Рабы, чьи с орденами груди, Лакеи в золоте — не люди, Онучи, мусор с помела Его величества.Уже Хилинский и управляющий не смеялись. Задумались и старик Садовой, и другие крестьяне…
Но Козловский не унимался.
— Как вы полагаете, — допытывался он у Шевченко, — о пресвятой богородице, беспорочной матери вифлеемского младенца?
Вместо ответа Шевченко начал было опять читать:
О, спаси же нас, Младенец праведный, великий, От пьяного царя-владыки!..Но вдруг оборвал стихи и сказал убежденно и искренне:
— Перед женщиной, которая родила бы людям героя, отдающего свою жизнь за народ, мы все должны благоговеть, даже если бы она была просто «покрытка» и люди над ней издевались. Не знаю, однако, почему вы думаете, что евангельская Мария была «беспорочной», а ее сын «богом»? Я не верю ни тому, ни другому! Это нелепые поповские басни!
Козловский снова попытался спорить, но Шевченко уже совсем его не слушал. Он все более раздражался.
Сорвав с липы листок, Шевченко вдруг спросил:
— А это кто дал?
Козловский молчал; Тимофей Садовой нерешительно произнес:
— Бог?..
— Дурак ты, если веруешь в бога! — сердито вскричал Шевченко. — Мало еще тебя учили… Кто верует в бога, тот никогда не избавится ни от царя, ни от панов, ни от попов!
Вольский и Хилинский принялись успокаивать разволновавшегося и громко кричавшего Шевченко. Но тот все сердито повторял:
— Не нужно нам ни царя, ни панов, ни попов!..
И, не попрощавшись ни с кем, ушел один в Межирич…
Наутро Шевченко уехал в Городище, на завод, в воскресенье был уже в Корсуне, у Варфоломея, потом снова в Кириловке.
Он тревожился; было досадно, что так не к месту случился этот горячий спор в лесу у Пекарей; перед глазами все маячил дурацкий фрак Козловского, чудился его скрипучий голос:
— Вы не правы… Как вы полагаете?..
13 июля Шевченко опять прибыл в Межирич, чтобы встретиться с Парчевским, который должен был в этот день приехать из Петербурга и заключить купчую на обмеренный участок.
Но напрасно прождав целый день, Шевченко вечером написал Варфоломею Григорьевичу записку:
«Я не дождался Парчевского и, значит, не сделал ничего, только купил гербовой бумаги; так на бумаге этой пишите уже Вы…»
А сам решил поехать переночевать к Максимовичу.
Когда Шевченко, переправившись на струге через Днепр из Пекарей в Прохоровку, шел к Михайловой Горе, в усадьбу Максимовича, его задержал становой пристав из местечка Мошны. С приставом были десятские и тысяцкие; Тарасу Шевченко объявили, что он арестован…
Затем его тут же усадили в другой, полицейский струг, переправили обратно, на правый берег Днепра, и становой доставил Шевченко в Мошны, даже «не объяснивши причины, по какому праву он это сделал».
Итак, снова жандармы, снова арест. А что впереди?.. Может быть, опять тюрьма, ссылка?..
В Мошнах Шевченко содержался под домашним арестом в квартире станового пристава.
На следующий день, 14 июля, черкасским исправником Табачниковым и жандармским поручиком из Киева Крыжицким было снято с Шевченко и ряда «свидетелей» первое дознание.
Об этом Табачников 15 июля отправил подробные Донесения генерал-губернатору князю Васильчикову и киевскому губернатору Гессе. Земский исправник осмелился к изложению событий присовокупить также и собственные соображения.
«Было бы полезным, — писал Табачников, — не дозволяя Шевченко дальнейших разъездов, обязать его выехать на место службы в С.-Петербург».
Шевченко настоятельно требовал, чтобы его отпустили в Киев или по крайней мере отправили вместе с возвращавшимся туда Крыжицким; ему отказали якобы за неимением места в экипаже.
Вместо этого Табачников 18 июля увез Шевченко к себе в Черкассы.
В Черкассах поэт снова жил под домашним арестом, на этот раз в квартире исправника. Здесь он написал стихотворения «Сестре»:
Минаючи убогі села Понаддніпрянські невеселі, Я думав: — Де ж я прихилюсь? І де подінуся на світі? – І сниться сон мені: дивлюсь, В садочку, квітами повита, На пригорі собі стоїть, Неначе дівчина, хатина. Дніпро геть-геть собі розкинувсь! Сіяє батько та горить! Дивлюсь, у темному садочку, Під вишнею у холодочку, Моя єдиная сестра! Многострадалиця святая! Неначе в раї, спочиває Та з-за широкого Дніпра Мене, небога, виглядає. І їй здається — виринає З-за хвилі човен, доплива… І в хвилі човен порина. – Мій братику! моя ти доле! – І ми прокинулися. Ти… На панщині, а я в неволі!.. Отак нам довелося йти Ще змалечку колючу ниву! Молися, сестро! будем живі, То Бог поможе перейти.22 июля поэта отвезли в Мошны, где Шевченко поселился у полковника Грудзинского и проводил время в парке имения Воронцова. Так прошло несколько дней в ожидании ответа из Киева на письмо Табачникова.
В Мошнах у Шевченко появились знакомые; многие нарочно приезжали в Мошны, чтобы взглянуть на прославленного поэта.
Приехал сюда и Максимович, которому Шевченко сообщил 22 июля о своем местопребывании. Максимович привез поэту оставленные у него вещи и деньги.
Наконец 24 июля прибыло предписание вице-губернатора Селецкого доставить Тараса Шевченко в Киев «под надзор здешней полиции».
26 июля, в воскресенье, Шевченко отправился в полицейской тележке и в сопровождении жандарма в Киев.
29 июля Шевченко прибыл в Киев, где не бывал с 1847 года.
Всего две недели провел на этот раз Шевченко в своем любимом городе, «матери городов русских».
Начались эти две недели очень неприятно: с допросов в канцелярии генерал-губернатора князя Васильчикова, с этих давно знакомых поэту опросных листов и всех неизбежных принадлежностей полицейского следствия.
Однако, к счастью для Шевченко, расследование его «дела» было поручено разумному и доброжелательно настроенному чиновнику Андреевскому, который сразу же повел к тому, чтобы освободить Шевченко от всякой ответственности.
Андреевский повернул все свое «следствие» так, что князь Васильчиков признал взведенные на Шевченко обвинения необоснованными и сообщил в Петербург: «Не придавая делу этому особого значения, я оставляю его без последствий».
Однако тот же Васильчиков заявил устно Шевченко, что «советует» ему поскорее уезжать обратно в Петербург, и не внять этому начальническому «совету» было невозможно.
Шевченко тотчас же после официального окончания дела, последовавшего 12 августа, должен был поспешить оставить Киев.
Уезжал он с Украины в полной уверенности, что в самом ближайшем будущем возвратится сюда снова и поселится на более продолжительный срок.
С дороги он пишет Варфоломею: «Сделал ли ты что-нибудь с Вольским? Если нет — так сделай, как сможешь, да как бог тебе поможет, потому что мне и днем и ночью снится та благодать над Днепром, которую мы с тобой осматривали».
А Варфоломей в это время получил от владельца межиричской земли помещика Парчевского следующий ответ:
«Нужно спросить генерал-губернатора, можно ли Тарасу Шевченко покупать тут землю, а то как бы не вышло чего-нибудь!»
В Киеве Шевченко повстречался со своим старым другом Иваном Максимовичем Сошенко.
Встреча очень взволновала обоих. Ведь не видались ровно двадцать лет! Много утекло за это время воды, много каждый пережил… Старик Сошенко преподавал рисование во 2-й Киевской гимназии, помещавшейся на Бибиковском бульваре, а жил на Львовской (Сенной) площади; Шевченко с ним, с его племянницей «чернявой Ганнусей» и ее подругами гулял на Киселевке и над Днепром; вместе пели песни…
С Украины в Петербург Шевченко приехал утром 7 сентября 1859 года.
По дороге он заезжал еще к нескольким знакомым — в Переяславе, Гирявке, Качановке. В Москве поэт повидался со Щепкиным.
Вернувшись в Петербург, поэт много работает, хлопочет о разрешении издания новой редакции Кобзаря, появляются новые стихотворные произведения, пишет портреты друзей и знакомых, пишет несколько автопортретов, работает над офортами, интенсивно переписывается с Варфоломеем по поводу земли и покупки леса для строительства дома.
Не покидает его мысль создать свою семью. Жениться он хотел только на простой крестьянской девушке:
— Я по плоти и духу сын и родной брат нашего обездоленного народа, так как же себя связать с собачьей господской кровью? Да и что какая-нибудь разнаряженная барышня станет делать в моей мужицкой хате? С тоски пропадет и мой недолгий век сократит, — так отвечал Шевченко людям, уговаривавшим его взять себе в жены непременно «образованную» девицу из высших классов.
В письмах к Варфоломею он просит найти ему пару. Тот сначала подумал, уж не приглянулась ли ему жившая в их семье гувернантка Н. Шулячивна, как вдруг Шевченко прямо написал о Харите. Шевченко представил себе живую, стройную девушку, выглядывавшие из-под тонких черных бровей большие черные глаза и написал из Петербурга Варфоломею, что если Харита еще никем не засватана, то не уговорит ли он ее пойти за Тараса.
«Харитина мне очень, очень нравится, — писал Шевченко в Корсунь, — а если Харита скажет, что она беднячка, сирота, батрачка, а я богатый и гордый, так скажи ей, что у меня тоже многого недостает, а порой нет и чистой рубашки, и что гордость да важность я еще от матери своей приобрел, от мужички, от несчастной крепостной. Да так или этак, но я должен жениться, а то проклятая тоска сживет меня со света. Сестра Ирина обещала найти мне девушку в Кириловке; да какую еще она найдет? А Харита сама нашлась. Научи же ее и растолкуй, что несчастлива она со мной не будет».
Эту Хариту жена Варфоломея взяла еще ребенком и воспитала ее. Когда Тарас приехал в 1859 году, Харита как раз расцвела. Нельзя сказать, что Харита была красивой, но что-то в ней было очень симпатичное: тихий характер и нежное доброе сердце, чистая душа и молодые годы были красотой Хариты. «Спроси, братец, Хариту, может, она пойдет за меня?» — писал Тарас. Варфоломей посоветовался с женой и выполнил волю Шевченко: спросил Хариту, пошла бы она за Тараса? «Что это вы выдумали?.. за такого старого и лысого!» — ответила Харита. Больше ее не стали уговаривать, а чтобы не обидеть Тараса, написали ему, что Харита ему не пара, что она не образованная, что если бог даст детей, как она их будет воспитывать, чем духовно, кроме любви, сможет поделиться со своим супругом? Тарас не обратил на эти слова внимания и ответил: «Мать, браток, всюду та же мать! Лишь бы сердце было доброе, тогда все будет». Снова спросили Хариту, и она снова ответила то же самое: «Такой старый!» Что было делать? Написать Тарасу правду — все равно, что вонзить ему нож в самое сердце! Сказать, что он слишком стар для восемнадцатилетней девушки, значило напомнить, что его молодость, что его время жениться на молодой навеки прошли!.. И где прошли? где потеряны? За Аралом, в степях, в казарме, под солдатским ружьем. Напомнить мученику о его муках, его ссылке, пробудить в его душе тяжкие думы, которые и без того не давали ему покоя!.. Нет! На это у Варфоломея не хватило сил… Уговаривать Хариту — означало морально принуждать ее. Конечно, они могли бы уговорить Хариту и выдать «за такого старого, лысого, с седыми усами», но что бы из этого вышло?..
Оказавшись в таком необычном положении, находясь «между двух огней», Варфоломей долго-долго колебался, не зная, как поступить: «наложить руку» на сердце Хариты и уговорить ее или соврать Тарасу? Он выбрал последнее и написал Тарасу, что Харита стала грубой, непослушной и дерзкой…
Шевченко очень огорчился этим ответом, так что «чуть не пошел в монахи»; «мне бы лучшей жены и на краю света искать не нужно», — писал он Варфоломею.
Возвращение из ссылки вызвало небывалый всплеск поэтической музы Шевченко. Романтическая взволнованность раннего эпоса поэта, разрушительная аналитическая сила социальных раздумий, задушевный лиризм, проникновенность образов «невольничьей поэзии» — все соединилось в лирике и поэмах Шевченко последних лет его жизни. Это было время наивысшего расцвета его поэтической мощи.
Богатство красок и интонаций, то страстно бичующих, то чарующе мягких, то вдохновенно пророческих, дает поэту возможность раскрыть большой и сложный мир человеческой души и социальной действительности в их неразрывном единстве.
Он, как Прометей с его огненным факелом, несет людям пламенные слова правды, гнева, борьбы, сопротивления угнетению и несправедливости, слова надежды:
О люди! бедные, слепые! К чему, скажите, вам цари? К чему, скажите, вам псари? Вы все же люди, не борзые!.. Однажды над Невой иду В глухой ночи. И на ходу Так размышляю сам с собою: «Когда б, — я думаю, — когда б Таким покорным не был раб, То этих скверных над Невою Не возвышалось бы палат! Была б сестра, и был бы брат. А то… Лишь слез и горя много, И нет ни бога, ни полбога. Псари с псарятами царят…» Когда же суд! Падет ли кара На всех царят, на всех царей? Придет ли правда для людей? Должна прийти! Ведь солнце встанет, Сожжет все зло — и день настанет…У Костомарова, который переехал в 1859 году из Саратова в Петербург, происходили с осени этого года еженедельные литературные собрания по вторникам.
На этих «костомаровских вторниках», в меблированных комнатах Балабина, именовавшихся в просторечии «Балалаевкой», бывало много народу. Сам Костомаров называет среди своих постоянных посетителей Чернышевского, Шевченко, Кавелина, Желиговского, Виктора Калиновского, Сераковского, Василия Белозерского.
В «Балалаевке» литературные собрания носили по преимуществу характер легкий, обычно с оттенком шутливости, но и на этих людных, оживленных «вторниках» сказывалось напряжение, в котором находилось тогда все общество.
В один из таких вечеров скрипнули двери и показалась голова, промолвившая с порога:
— Нет бога, кроме бога, и Николай — пророк его!
Это был Чернышевский, постоянно подшучивавший над хорошо знакомым ему по Саратову Костомаровым.
— Здравствуй, волк в овечьей шкуре! — отвечал Чернышевскому Костомаров.
На вечере присутствовал писатель Мордовцев, который редактировал в это время «неофициальную часть» саратовских «Губернских ведомостей» и пропустил в газете одну, как в те годы говорили, «обличительную» заметку о каком-то офицере Бутырского полка, свирепствовавшем по части мордобоя.
Чернышевский сразу обратился по этому поводу к Мордовцеву:
— Читали, читали ваше обличение! Назвать героев-бутырцев «мокрыми орлами», чуть ли не курами! Да за это обличение сидеть вам в месте злачне, в месте прохладне, идеже праведнии пророк Николай (то есть Костомаров, проведший год в Петропавловской крепости) и кобзарь Тарас упокояшася… Так, Тарас Григорьевич?
— Нет, немножко не так, — отвечал Шевченко Чернышевскому и тут же прибавил: — А вы там еще посидите!
И мрачное пророчество Тараса вскоре свершилось: Чернышевский был арестован и отправлен в крепость, а потом в ссылку.
Шевченко тоже знал, что ему ежечасно угрожает.
— Слава мне не помогает, и мне кажется, — говорил он с горечью, — она меня и во второй раз поведет телят Макара пасти…
Вместе с Чернышевским Шевченко бывал на многолюдных вечерах у либерала Кавелина, с которым поэт познакомился еще весной 1858 года, тотчас по приезде в Петербург. На этих собраниях происходили бурные споры революционных демократов с либералами. Шевченко был хорошо знаком не только с Чернышевским, но и с другими сотрудниками журнала «Современник» — Добролюбовым, Некрасовым, Тургеневым…
Между тем переписка министра народного просвещения с начальником Третьего отделения, с Главным управлением цензуры и с попечителем Петербургского учебного округа, составившая обширное дело «О дозволении печатать произведения Т.Г. Шевченко», безнадежно затянулась. Только 26 ноября 1859 года состоялось, наконец, это долгожданное «дозволение». В этот день Шевченко сообщил друзьям: «Сегодня цензура выпустила из своих когтей мои бесталанные думы, да так их, проклятая, обчистила, что я едва узнал свои чада».
Печатание новых произведений поэту не было разрешено, а только перепечатка прежних, изданных еще в 40-х годах, да при этом и в них были произведены изъятия ряда мест, некогда пропущенных даже николаевской цензурой! Этот сборник, которому было дано прежнее заглавие — «Кобзарь», вышел в свет в январе 1860 года с портретом поэта.
На издание «Кобзаря» отозвался Добролюбов, заметив, что Шевченко «…поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов не идет с ним в сравнение, потому что складом своих мыслей и даже своими стремлениями иногда отдаляется от народа. У Шевченко, напротив, весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни. Он вышел из народа, и не только мыслью, но и обстоятельствами жизни с ним крепко и кровно связан…»
Шевченко энергично занялся освобождением своих братьев и сестры. К этому самые энергичные меры принял только что организованный «Литературный фонд», именовавшийся «Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым».
Инициаторами создания Литературного фонда были деятели из круга «Современника» и сам Чернышевский, который 24 октября 1859 года писал Егору Петровичу Ковалевскому, будущему председателю общества:
«Изъявили желание быть членами-учредителями Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым:
Т. Г. Шевченко
И. И. Панаев
В. И. Ламанский
А. Н. Пыпин
Е. П. Карнович».
Одним из первых дел, предпринятых новым обществом, явились хлопоты об освобождении из крепостной зависимости родных Шевченко. В марте 1860 года комитет общества обратился с письмом к помещику Флиорковскому, владевшему крестьянами села Кириловки:
«Уважаемый и любимый сочлен нашего общества, известный всей России поэт Тарас Григорьевич Шевченко имеет между крепостными Вашими крестьянами Киевской губернии, Звенигородского уезда, в селе Кириловке, двух родных братьев Никиту и Иосифа и сестру Ирину. Он очень желает, чтобы они получили свободу и… готов даже, если Вы потребуете, внести за них выкуп…
Подписали: Председатель Общества, директор Азиатского департамента, генерал-майор Ковалевский. Помощник председателя, профессор Санкт-Петербургского университета, статский советник и кавалер К. Кавелин. А. Заблоцкий, тайный советник в должности статс-секретаря в Государственном Совете. Редактор журнала „Библиотека для чтения“ А. Дружинин. Помещик Орловской губернии Иван Тургенев. Профессор А. Галахов. Редактор журнала „Современник“ Н. Чернышевский. Помещик Симбирской губернии Я. Анненков. Член Главного управления цензуры, ординарный академик и профессор А. Никитенко. Товарищ редактора „Отечественных записок“ С. Дудышкин. Редактор „Отечественных записок“ статский советник А. Краевский. Директор Коммерческого банка Е. Ламанский».
Смущенный столь авторитетным ходатайством, помещик вынужден был согласиться на выкуп семьи Шевченко: но он, во-первых, запросил неслыханно высокую сумму, а во-вторых, наотрез отказался продать освобожденным землю.
Шевченко категорически отсоветовал родным соглашаться на такое решение дела.
«Хорошо бы ты сделал, — писал поэт Варфоломею Григорьевичу, — если бы съездил в Кириловку, да сказал бы Никите, Иосифу и Ирине, чтобы они не хватались за свободу без поля и без усадеб, пускай лучше подождут». И в следующем письме: «Пану Флиорковскому пусть Никита скажет, чтобы он трижды чмокнулся со своим родным папашей — чертом. По 85 рублей пускай берет теперь наличными деньгами, с усадьбами и полем, а то потом (осенью) шиш получит».
Вся история получила огласку в печати. Газеты и журналы (в том числе широко распространенные «Санкт-Петербургские ведомости» и официальный «Русский инвалид») печатали письма Литературного фонда, лично Егора Ковалевского, Шевченко и наглые, лживые ответы Флиорковского.
В конце концов Флиорковский все-таки настоял на своем, и родные Шевченко подписали «безземельную волю».
Узнав, что братья согласились на освобождение без земли, Тарас писал Варфоломею:
«Брату Иосифу скажи, что он глупец…»
Литературный фонд устраивал концерты с участием артистов и писателей в пользу нуждающихся студентов и литераторов. На литературных чтениях выступали самые любимые публикой писатели, и достать билет считалось большим счастьем: зал всегда был переполнен; каждый концерт становился событием, о котором долго говорили. Неизменным успехом пользовался Шевченко. Когда он впервые появился на сцене, публика его так приняла, точно он гений, сошедший в залу Пассажа прямо с небес. Едва успел он войти, как начали хлопать, топать, кричать. Это было демонстрацией — чествовали мученика, пострадавшего за правду.
Подобной овации Шевченко не ожидал; он несколько минут молча стоял на эстраде, опустив голову. Внезапно повернулся и быстро ушел за кулисы.
В зале сразу наступила тишина. Из-за кулис выбежал кто-то и схватил стоявший на кафедре графин с водой и стакан: поэту от волнения стало дурно…
Когда он несколько оправился и снова вышел к публике, читать ему было трудно. Однако понемногу он увлекся и с воодушевлением прочитал отрывок из поэмы «Гайдамаки», «Вечер» («Вишневый садик возле хаты…»), «Думы мои, думы…».
Публика слушала, затаив дыхание…
В семье Карташевских поэт осенью 1859 года познакомился с двадцатилетней крепостной горничной — Лукерьей Полусмак.
У Варвары Яковлевны Карташевской и ее мужа Владимира Григорьевича в собственном доме на углу Ямской и Малой Московской часто бывали литературные вечера, на которые приезжали Некрасов, Тургенев, Тютчев, Писемский, братья Жемчужниковы, Анненков, Кулиш, родной брат Карташевской — Николай Макаров и двоюродный — Андрей Маркевич, Марко Вовчок, Белозерские; одним из самых почетных гостей был Шевченко.
На вечерах гостям обычно прислуживала красивая черноглазая девушка в украинском национальном костюме. Шевченко ею искренне любовался, а Тургенев тут же спрашивал Лукерью:
— Скажите, вам нравится Тарас Григорьевич?
Иногда Лукерью хозяева посылали разносить наиболее уважаемым знакомым приглашения. Когда она приносила Шевченко в Академию художеств записочку, он ее спрашивал:
— Ты сюда пешком шла?
— Пешком… — отвечала Лукерья.
На лето Макаров, Карташевские, Кулиш уехали за границу и Лукерью отдали в услужение жене Кулиша, Александре Михайловне (известная украинская писательница Ганна Барвинок). Она жила вместе с сестрой, Надеждой Михайловной Белозерской, на даче в Стрельне.
Здесь к Лукерье относились совсем не так, как у Карташевских: ее заставляли делать много черной работы, ходила она плохо одетая, в порванных башмаках.
Как-то вечером девушка сидела на крыльце дачи и тихонько напевала:
Де ти, милий, чорнобривий, де ти, озовися! Як я бідна тут горюю, прийди подивися!..Вдруг неслышно подошел Шевченко:
— А где же твой милый?
Лукерья растерялась, не знала, что сказать.
Шевченко стал ежедневно приезжать в Стрельну.
Как-то приехал он прямо с утра и долго ходил по саду с Александрой Михайловной. В это время Лукерья чистила дорожку.
— Лукерья, принеси Тарасу Григорьевичу воды, — приказала хозяйка, а сама ушла в дом.
Лукерья принесла воды. Шевченко выпил и говорит:
— Садись возле меня!
— Не сяду! — покраснев, отвечала девушка, но, заметив, что Тарас недовольно нахмурился, села на скамейку.
Шевченко поглядел Лукерье в лицо и просто спросил:
— Пойдешь за меня замуж?
По всему его серьезному, задушевному тону девушка поняла, что отвечать нужно так же просто и искренне, как Тарас спрашивал. И Лукерья тихо ответила:
— Пойду…
В душе Шевченко снова вспыхнула надежда на то, что он нашел, наконец, свою «долю», перед ним снова встают картины благополучной семьи.
С каким восторгом обращается Шевченко к девушке, называя ее: «Моя голубка! Друг мой милый!» — стремясь зажечь ее своими чувствами и убеждениями:
Моя голубка! Не крестись, И не клянись, и не молись Ты никому! Солгут все люди, И византийский саваоф обманет!.. Мы не рабы его — мы люди!Подлинно отеческой заботой окружает Шевченко свою невесту; он носит ей книги, сам заказывает ей одежду, дарил ей разные подарки, искренне тревожится, узнав о легком нездоровье Лукерьи.
«Передайте эти вещи Лукерье, — просит Шевченко в записке на имя Белозерской. — Я вчера только услыхал, что она захворала. Глупая, где-то хлюпала по лужам, да и простудилась. Пришлите с Федором мерку ее ноги. Закажу теплые башмаки, а может быть, найду готовые, так в воскресенье привезу… Передайте с Федором — лучше ли ей или нет?»
Варфоломею Григорьевичу Шевченко в августе сообщал: «Будущая супруга моя зовется Лукерьей, крепостная, сирота, такая же батрачка, как и Харита, только умнее в одном — грамотная… Она землячка наша из-под Нежина. Здешние земляки и землячки наши (а особенно барышни), как услыхали, что мне бог такое богатство послал, так еще немножко поглупели. Криком кричат: „Не пара и не пара!“ Пускай им сдается, что не пара, а я хорошо знаю, что пара…»
Украинские помещики, «земляки и землячки», о которых с горечью упоминает Шевченко, — это прежде всего Кулиш, Белозерские, Карташевские, — приложили немало стараний, чтобы отравить последние годы жизни поэта.
Когда сестры Александра Михайловна и Надежда Михайловна принимались уговаривать Шевченко не жениться на Лукерье, он сердито отвечал:
— Хотя бы и отец мой родной поднялся из гроба и сказал бы мне то же, так я бы и его не послушался!
Хотя Лукерья была очень миловидной девушкой, но и ленивой, неряшливой и необыкновенно ветреной. Это очень было не по душе Тарасу. Он все же мечтал о жене «чепурненькой», то есть аккуратной. А ей не нравился Шевченко, «старый да сердитый», но она готова была выйти за него замуж, потому что считала его богачом. Шевченко объявил ее громогласно своей невестой, возил даже к графине Толстой, поместил на отдельной квартире.
Однако недолго продолжалось это увлечение. Посещая квартиру Лукерьи, он неоднократно указывал ей на грязь и беспорядок. Неряшливость Лукерьи страшно бесила его и привела в конце концов к полному разрыву. Эта неудавшаяся женитьба закончилась следующим трагикомическим объяснением в присутствии посторонних лиц. «Лукеро, — говорит поэт, — скажи правду, обращался ли я когда-нибудь с тобою вольно?» — «Нет», — тихо отвечает та, потупившись. «А может быть, я сказал тебе когда какое-нибудь неприличное слово?» — «Нет». Тогда он вдруг поднял кверху обе руки, затопал ногами и не своим голосом, в исступлении закричал: «Так убирайся же ты от меня!.. Иначе я задавлю тебя!..» Лукерья стрелой вылетела из комнаты.
Разрыв с Лукерьей означал для Шевченко, что рушится его заветная мечта создать на склоне лет свой дом, семью. Он тяжело переживал это свое поражение, даже запил…
Огорчило и в душе обрадовало его еще одно известие, что у Максимовичей наконец-то родился сын. Он направил им теплое поздравление, но мысли его были невыносимо тяжелыми: «Это мой сын… Я чувствую его моим больным сердцем… Но об этом не могу признаться даже самому себе…»
Тяжелым чувством одиночества повеяло в его стихах:
И молодость моя минула, И от надежд моих дохнуло Холодным ветром. Зимний свет! Сидишь один в дому суровом, И не с кем даже молвить слова Иль посоветоваться. Нет, Ну, никого совсем уж нет! Сиди один, пока надежда Тебя — глупца — не засмеет, Морозом взор не закует И гордость дум, что были прежде, Не разнесет, как снег в степи. А ты сиди в углу, терпи, Не жди весны — счастливой доли, – Она уж не вернется боле, Чтоб садик твой озеленить, Твою надежду обновить, И мысль свободную на волю Не сможет выпустить. Сиди, Сиди и ничего не жди!Но были в эти последние месяцы жизни поэта и светлые, радостные дни. В конце октября 1860 года состоялось торжественное годичное собрание Академии художеств, на котором был рассмотрен вопрос о присуждении звания академика по представленным работам Тарасу Григорьевичу Шевченко. Собрание единогласно решило присвоить это высокое звание Шевченко с выдачей соответствующего диплома:
«Санкт-Петербургская императорская Академия художеств за искусство и познание в гравировальном художестве признает и почитает художника Тараса Шевченко своим академиком. С правом и преимуществами в установлениях Академии предписанными. Дан в С.-Петербурге за подписанием президента и с приложением печати.
1860 года, октября 31 дня»
Это была огромная победа Шевченко над всеми горестями и несчастьями своей судьбы, над всеми унижениями и издевательствами, над всей системой царской власти угнетателей. Родившись крепостным рабом, он к концу жизни стал любимым народным поэтом и академиком изобразительного искусства! Такое могло быть под силу только гиганту мысли и творчества, который, подобно богоподобному Прометею, преодолевая муки наказания, сумел передать людям пламя своей души…
В эти же дни произошло еще одно событие, которое заставило учащенно биться больное сердце поэта.
В один из редких вечеров, когда Тарас оставался дома и корпел над очередным офортом, к нему подошел его Прохор:
— Тарас Григорьевич, там какая-то женщина вас спрашивает. Я пытался сказать, чтобы она завтра приходила, но никак не хочет уходить…
— Так проси ее ко мне, раз такая упорная… Может, у нее важное дело…
В комнату вошла опрятно одетая молодая женщина лет тридцати пяти. Она внимательно всматривалась в Тараса. Потом вдруг сказала тихим голосом:
— Чевченко, как ты изменился!.. — прозвучал ее голос с легким акцентом. Из глаз ее потекли слезы.
Шевченко вздрогнул… Комок подступил к горлу: так произнести — «Чевченко» — могла только она, Амалия…
— Это ты?.. Амалия, голубка… — У Тараса тоже из глаз хлынули слезы. — Не верю глазам своим!.. Ах, бог ты мой, как же ты меня нашла через столько лет?..
— Тебя найти нетрудно, весь город о тебе говорит. И в Академии говорят…
— Что ты, где ты?.. — растерянно задавал вопросы Тарас.
— Я, как и раньше, зарабатываю моделью у молодых художников… И живу здесь недалеко…
— Что же ты раньше не приходила, сердце мое?..
— Я боялась… боялась, что ты меня прогонишь… Ведь ты тогда уехал на Украину и мне ничего не сказал… Я подумала, что ты решил избавиться от меня… Потому что я была… уже беременной…
Тарас весь встрепенулся от этих слов:
— А ребеночек… где ребеночек… где мое дитя?..
— К несчастью, он родился мертвым… Я тогда сильно болела. Думала, умру…
— Бедная моя, Амалия, сердце, голубка моя… Когда я вернулся с Украины и тебя не застал на месте, я обежал весь Петербург, чтобы найти тебя. Но никто не смог мне помочь, кого бы я ни спросил. Я тогда многое передумал, но ничего из этого так и не вышло… Ну, а потом меня арестовали и на целых десять лет отправили туда, где Макар телят пасет — в оренбургские степи…
Тарас как будто опомнился. Он помог раздеться Амалии, усадил за стол…
— Прохор, — позвал он старого солдата, — приготовь нам чай и к чаю что-нибудь…
Они в этот вечер засиделись до полуночи, а потом Тарас пошел проводить желанную гостью к ее дому…
С тех пор Амалия почти каждый вечер приходила в квартирку поэта, иногда оставалась там и ночевать. Тарас как будто ожил, как будто в какую-то целебную воду его окунули… Когда она приходила к нему, он тянулся к ней всей душой и ворковал, как голубь, отогревая своим дыханием ее замерзшие пальцы…
Но болезнь все равно брала свое. Шевченко болел давно. Сердечная болезнь, осложненная заболеванием печени, мучила его еще в ссылке. Но он не любил лечиться, не обращался к врачам, не слушался советов даже своих друзей-медиков: Николая Курочкина, Павла Круневича.
Марко Вовчок, нежной и преданной любовью платившая Тарасу за его доброе к себе отношение, писала в это время ему из-за границы:
«Мой самый дорогой Тарас Григорьевич!
Слышу, что Вы все хвораете да недомогаете, а сама себе уже представляю, как там Вы не бережете себя…
Вот люди добрые Вам говорят:
— Тарас Григорьевич! Может, Вы шапку наденете: ветер!
А Вы сейчас же и кафтан с себя долой.
— Тарас Григорьевич, надобно окно затворить: холодно…
А Вы поскорее к дверям: пускай и те стоят настежь. А сами только одно слово и произносите:
— Отвяжитесь! — да поглядываете себе в левый уголок.
Я все это хорошо знаю, да не побоюся сказать Вам и крепко Вас просить: берегите себя! Разве такими, как Вы, у меня целое поле засеяно?..»
Резкое ухудшение в здоровье Шевченко произошло с ноября 1860 года. Доктор Павел Адамович Круневич, знавший Шевченко еще со времен его закаспийской ссылки, определил у больного тяжелую сердечную недостаточность, выражавшуюся в острых приступах грудной жабы.
Круневич решил посоветоваться с профессором Бари, опытным врачом-терапевтом. Шевченко в это время особенно жаловался на боли в груди.
Бари прописал лекарства, назначил режим, диету.
Здоровье поэта-художника разрушалось. На горизонт его надвигалась мрачная туча, и уже понесло холодом смертельной болезни на его облитую слезами жизнь. Он все еще порывался видаться с друзьями, все мечтал поселиться на родине… и чувствовал себя все хуже.
В последнем своем стихотворении, чувствуя приближение конца, поэт, за несколько дней до смерти, обращаясь к Амалии, пишет:
Чи не покинуть нам, небого, Моя сусідонько убога, Вірші нікчемні віршувать, Та заходиться риштувать Вози в далекую дорогу, На той світ, друже мій, до Бога, Почимчикуєм спочивать. Втомилися і підтоптались, І розуму таки набрались, То й буде з нас! Ходімо спать, Ходімо в хату спочивать… Весела хата, щоб ти знала!.. Через Лету бездонную Та каламутную Перепливем, перенесем І славу святую – Молодую безвічную. Або цур їй, друже, І без неї обійдуся – Та як буду здужать, То над самим Флегетоном Або над Стіксом, у раю, Неначе над Дніпром широким, В гаю — предвічному гаю, Поставлю хаточку, садочок Кругом хатини насажу, Прилинеш ти у холодочок, Тебе, мов кралю, посажу. Дніпро, Україну згадаєм, Веселі селища в гаях, Могили-гори на степах – І веселенько заспіваєм…В конце января 1861 года Шевченко писал Варфоломею: «Так мне плохо, что я едва перо в руках держу, и бог его знает, когда станет полегче. Вот как!» А заключал он письмо так: «Прощай! Устал я, точно копну жита в один прием обмолотил…»
Огромным напряжением воли держался все эти дни Шевченко, несмотря на страшные боли. Амалия каждый день посещала больного, ухаживая за ним и ободряя его. Он смотрел на нее нежным взглядом, в котором угадывалась грусть, и целовал ее руки. Добрый до наивности, теплый и любящий, он был тверд, силен духом, — как идеал его народа. Самые предсмертные муки не вырвали у него ни единого стона из груди. И тогда, когда он подавлял в самом себе мучительные боли, сжимая зубы и вырывая зубами усы, в нем достало власти над собой, чтоб с улыбкой выговорить «спасибі», — тем, которые о нем вспомнили…
В субботу, 25 февраля, был день рождения и именины Шевченко.
Приходившие его поздравить заставали поэта в сильнейших мучениях; с ночи у него началась боль в груди, ни на минуту не прекращавшаяся и не позволявшая ему лечь. Он сидел на кровати и напряженно дышал.
Приехал доктор Бари. Выслушав больного, он определил начинающийся отек легких. Говорить Шевченко почти не мог: каждое слово стоило ему громадных усилий.
Страдания несколько облегчились поставленной врачом на грудь больному мушкой.
Шевченко все-таки слушал полученные поздравительные телеграммы, благодарил. Потом попросил открыть форточку, выпил стакан воды с лимоном и лег.
Казалось, он задремал. Присутствующие сошли вниз, в мастерскую, оставив больного на антресолях одного. Бари уехал.
Было около трех часов пополудни. Шевченко снова стал принимать посетителей. Он сидел на кровати и поминутно осведомлялся: когда будет врач? Врач обещал снова приехать к трем часам.
Между тем Шевченко чувствовал себя все хуже и хуже, выражал желание принять опий. Он метался и все спрашивал:
— Скоро ли приедет доктор?
Потом он заговорил о том, как ему хочется побывать на Украине и как не хочется умирать…
Опять приехал Бари и успокоил больного, заявив, что у него удовлетворительное состояние, и посоветовал продолжать применять прописанные средства.
Друзья продолжали приходить к Шевченко. Пришел часов в шесть доктор Круневич. Он нашел своего друга в очень тяжелом состоянии: поэт с видимым усилием отвечал на вопросы и, очевидно, вполне сознавал безнадежность своего положения.
Взволнованный опасным состоянием больного и ясно приближавшейся катастрофой, Круневич снова отправился за Бари.
Они приехали вместе часам к девяти вечера. Оба еще раз выслушали больного; отек легких все усиливался, сердце начинало сдавать. Поставили опять мушку…
Чтобы отвлечь умирающего, снова стали читать ему поздравительные телеграммы; он как будто чуть-чуть оживился и тихо проговорил:
— Спасибо, что не забывают…
Врачи спустились в нижнюю комнату, и Шевченко попросил оставшихся у постели тоже удалиться:
— Может быть, я усну… Огонь унесите…
Но через несколько минут он опять позвал:
— Кто там?
Когда к нему поднялись, он попросил вернуть поскорее Бари.
— У меня опять начинается приступ, — сказал врачу больной. — Как бы остановить его?
Бари поставил ему горчичники. Затем больного уложили в постель и оставили одного.
Когда в половине одиннадцатого ночи к Шевченко снова вошли, его застали сидящим в темноте на кровати. Друзья хотели с ним остаться, но он сказал:
— Мне хочется говорить, а говорить трудно…
Всю ночь он провел в ужасных страданиях; сидел на кровати, упершись в нее руками: боль в груди не позволяла ему лечь. Он то зажигал, то тушил свечу, но слугу, оставленного на всякий случай в нижней комнате, не звал.
В пять часов утра он попросил приготовить ему чай. Амалия, которая не покидала поэта, приготовила ему чай. Было темно: поздний февральский рассвет еще не занимался. Шевченко при свече выпил стакан теплого чаю со сливками.
На антресолях ему было душно. Шевченко попросил Амалию:
— Серденько мое, убери-ка теперь здесь, а я сойду вниз.
— Чевченко, может быть тебе лучше здесь остаться, прилечь?..
— Нет, серденько, мне легче… Пойду я…
Она осталась на антресолях, а Тарас с трудом спустился по крутой винтовой лестнице в холодную, тускло освещенную свечой мастерскую.
Здесь он охнул, упал…
Когда подбежали слуга и Амалия, Шевченко был бездыханен. Смерть от паралича сердца наступила мгновенно.
Это было в пять часов тридцать минут утра, в воскресенье, 26 февраля (10 марта по новому стилю) 1861 года. Ему было ровно 47 лет.
А через несколько часов он уже лежал в комнате на столе, покрытый простыней, спокойный и величавый. Тонкие свечи трещали в изголовье и озаряли измученное лицо ссыльного солдата и великого народного певца.
Черное солнце поднялось в тот день над милой его Украиной.
Эпилог
Смерть Тараса Шевченко была воспринята как великая всенародная утрата.
Некрасов написал проникновенное стихотворение «На смерть Шевченко», в котором выразил обуревавшие всю передовую общественность чувства:
Не предавайтесь особой унылости: Случай предвиденный, чуть не желательный. Так погибает по божией милости Русской земли человек замечательный С давнего времени. Молодость трудная, Полная страсти, надежд, увлечения, Смелые речи, борьба безрассудная, Вслед за тем долгие дни заточения… Все он изведал: тюрьму петербургскую, Справки, допросы, жандармов любезности, Все — и раздольную степь Оренбургскую, И ее крепость. В нужде, в неизвестности Там, оскорбляемый каждым невеждою, Жил он солдатом — с солдатами жалкими, Мог умереть он, конечно, под палками, Может, и жил-то он этой надеждою… Но, сократить не желая страдания, Поберегло его в годы изгнания Русских людей провиденье игривое, – Кончилось время его несчастливое, Все, чего с юности ранней не видывал, Милое сердцу, ему улыбалося. Тут ему бог позавидовал. Жизнь оборвалася.Горькая весть о смерти великого украинского поэта быстро разнеслась по телеграфу во все концы страны. Уже в полдень 26 февраля в Киеве весь город узнал об этом печальном событии; в Киевском университете учащаяся молодежь устроила гражданскую панихиду.
В это время в Петербурге гроб с телом Шевченко был установлен в Академии художеств. Художники делали последние рисунки с навсегда уснувшего собрата. Скульптор Каменский снял с покойного поэта гипсовую маску.
28 февраля в Академии художеств состоялась панихида. Над гробом Шевченко сказали прощальное слово Кулиш, Белозерский, Костомаров; студент Владислав Хорошевский выступил с надгробной речью на польском языке.
Он лежал в гробу как казак, с шапкой под головой. Гроб его был покрыт по казацкому обычаю красной китайкой и убран лавровыми венками. Народ все подходил и подходил…
Без крышки гроб несли на руках до Смоленского кладбища. Позади ехали похоронные дроги, нагруженные венками. Толпа непрерывно росла, и по мере приближения к кладбищу процессия превратилась в мощную демонстрацию, сильно обеспокоившую полицию.
Над раскрытой могилой снова начались речи. Говорил Николай Курочкин:
— Чистая, честная, светлая личность… Человек, принадлежавший к высокой семье избранников, высказавших за народ самые светлые его верования, угадавший самые заветные его желания и передавший все это неумирающим словом… Не о многих можно сказать, как о нем: он сделал в жизни свое дело!
В последний путь провожали Шевченко почти все петербургские писатели, художники, журналисты. На похоронах присутствовали Некрасов, Достоевский, Тургенев, Чернышевский, Шелгунов, Николай и Александр Серно-Соловьевичи, Салтыков-Щедрин, Лесков, Михайлов, Пыпин, Панаев, Николай и Василий Курочкины, Лев и Владимир Жемчужниковы, Круневич, Помяловский и многие, многие другие.
Друзья поэта добивались, чтоб тело поэта было перевезено на Украину и похоронено на горах за Днепром, как о том завещал поэт.
Хлопоты о разрешении, хотя и с большим трудом, увенчались все же успехом, и в конце апреля гроб с телом поэта тронулся в путь на Украину.
В Москве состоялась гражданская панихида при громадном стечении народа.
Народ толпами встречал гроб в Орле, Глухове, Борзне, Нежине. В селах крестьяне, которым близко было имя их родного Кобзаря, с плачем провожали его «домовину» далеко за околицу. По инициативе русского города Орла на памятник украинскому поэту была открыта подписка.
Утром 6 мая похоронная процессия подошла к Днепру. В Броварах большая группа киевских студентов уже ожидала прибытия тела. Был безоблачный, яркий южный майский день. К четырем часам дня подошли к недавно сооруженному на месте парома шоссейному Цепному мосту через Днепр.
Перед мостом студенты, народ выпрягли лошадей и на себе понесли гроб в Киев через мост, по Набережному шоссе, на Подол.
Тут киевские власти, узнавшие о непрерывно разраставшемся многолюдном шествии, взволновались. Еще накануне было приказано «для избежания всяких демонстраций… препроводить гроб покойника в большой лодке прямо с черниговского берега» к месту погребения, не заезжая в Киев.
Теперь, когда похоронная процессия уже перешла через Цепной мост и направлялась к Почтовой площади на Подоле, «благочинный» отец Петр Лебединцев принялся активно действовать, чтобы помешать въезду гроба в Киев.
Он бросился в Лавру, к митрополиту Арсению за указаниями: что делать и как воспрепятствовать демонстрации? Перепуганный митрополит распорядился:
— Поезжайте к генерал-губернатору и доложите…
Князь Васильчиков понял, что запрещение внести тело Шевченко в Киев могло вызвать бурю. Ведь это был май 1861 года, когда крестьянские волнения, после объявления манифеста 19 февраля, быстро распространялись по всей стране.
— Что ж, раз уж так случилось, — решил генерал-губернатор, — но дальше Подола, в центр города, к университету, гроб не пускайте ни в каком случае… Нельзя допустить, чтобы устроили митинг…
Гроб с телом Шевченко был внесен в Христорождественскую церковь на Подоле. К вечеру к этой церкви приставлена была уже полиция, а утром присланы и конные жандармы…
Всю ночь толпа народа заполняла Почтовую площадь и прилегающие здесь к Александровской улице переулки. Некоторые из проезжих, не знавшие о похоронах Шевченко, спрашивали полицейских:
— Кто покойник?
Городовые, усатые и с шашками, знали, кто такой Шевченко. Но они не знали, можно ли об этом говорить вслух. И отвечали так:
— Мужик, но чин на ем генеральский!
Наутро, как только гроб с телом вынесли из церкви, тотчас же стихийно начался митинг.
По Александровской улице, по шоссе, на горах Андреевской и Михайловской и на горе у Царского сада стояло народа не меньше, чем бывает во время владимирского крестного хода… Лишь вынесли гроб из церкви на Набережное шоссе, явилось столько всяких ораторов из молодежи, что пришлось останавливаться с гробом чуть не через каждые пять шагов…
Кто-то посреди венков, лежавших на красном покрывале гроба, положил огромный терновый венок.
Погода была пасмурная, временами начинал моросить теплый весенний дождь. Но толпа не уменьшалась и речи не умолкали.
Студенты провозглашали вечную память Тарасу Шевченко, называя его народным поэтом, борцом за освобождение, пророком воли народа…
В четыре часа дня 8 мая пароход «Кременчуг» с телом Тараса Григорьевича Шевченко прибыл в Канев.
Могилу Шевченко на Чернечей горе, под Каневом, копали киевские студенты и местные крестьяне. Похороны состоялись 10 мая в семь часов вечера.
Прах поэта упокоился, как он и завещал:
Як умру, то поховайте Мене на могилі Серед степу широкого На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Було видно, було чути, Як реве ревучий… Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте. І мене в сем’ї великій, В сем’ї вольній, новій, Не забудьте пом’янути Незлим тихим словом.И стоит теперь над Днепром, на могиле поэта, величественный памятник, как дань уважения народа своему любимому поэту, и смотрит поэт на сияющий Днепр, на заднепровские дали, на свою любимую Украину.
Вклейка
Шевченко, автопортрет 1840 г.
Дом родителей Т.Г. Шевченко Художник Т.Г. Шевченко
Т.Г. Шевченко после ссылки, 1858 год Автопортрет
А.И. Бутаков
И. Сошенко
Карл Брюллов. Художник В. Тропинин
Портрет В.А. Жуковского. Художник К. Брюллов
Оксана Коваленко. Художник Т.Г. Шевченко
Ядвига Гусиковская. Художник Т.Г. Шевченко
Амалия Клоберг. Художник Т.Г. Шевченко
Анна Закревская. Художник Т.Г. Шевченко
Варвара Репнина. Художник Г. Псел
Айбупеш. Художник Т.Г. Шевченко
Агата Ускова. Художник Т.Г. Шевченко
Мария Максимович. Художник Т.Г. Шевченко
Лукерья Полусмак. Художник Т.Г. Шевченко
Екатерина Пиунова
Шеф жандармов А.Ф. Орлов
Александр II
Николай I. Художник Франц Крюгер
Т.Г. Шевченко на смертном одре. Художник В.П. Верещагин
Могила Т.Г. Шевченко в Каневе



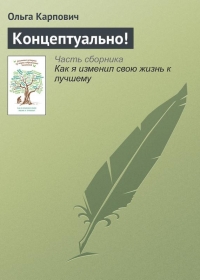

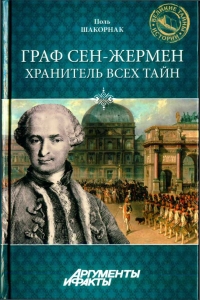


Комментарии к книге «Закованный Прометей. Мученическая жизнь и смерть Тараса Шевченко», Иван Игнатьевич Никитчук
Всего 0 комментариев