Хелен Раппапорт Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев
Посвящается Кэролайн Мишель
Список очевидцев событий
Анэ, Клод (псевдоним Жана Шопфера) (1868–1931) – французский чемпион по теннису швейцарского происхождения, коллекционер антиквариата, журналист и писатель, публиковавшийся в издании «Ле пти паризьен» (“Le Petit Parisien”).
Арбенина, Стелла (баронесса Мейендорф, урожденная Уишоу) (1885–1976) – британская актриса. Родилась в Санкт-Петербурге в семье с англо-русскими корнями; вышла замуж за русского аристократа барона Мейендорфа. После революции была арестована; после освобождения из тюрьмы в 1918 году поселилась в Эстонии.
Армор, Норман (1887–1982) – кадровый американский дипломат; второй секретарь посольства США в Петрограде в 1916–1918 годах. Вскоре после отъезда из России вновь вернулся туда, чтобы спасти оказавшуюся в бедственном положении княгиню Марию Кудашеву, на которой в 1919 году женился. Впоследствии находился на дипломатической работе во Франции, на Гаити, в Канаде, Чили, Аргентине и Испании.
Асабаль, Лили Бутон де Фернандес – см. Графиня фон Ностиц.
Аудендейк, Виллем (впоследствии Уильям Аудендайк) (1874–1953) – выдающийся нидерландский дипломат, в период с 1874 по 1931 год находился на дипломатической службе в Китае, Персии и России. Посол Нидерландов в Петрограде в 1917–1918 годах. За усилия по оказанию помощи британским подданным, оказавшимся в России после революции, был награжден британским рыцарским орденом Святого Михаила и Святого Георгия (степенью Рыцаря-Командора).
Бери, Джордж (1865–1958) – канадский грузоперевозчик, вице-президент Канадской тихоокеанской железной дороги; во время Первой мировой войны находился в России для информирования британского правительства о российской железнодорожной системе. В 1917 году посвящен в рыцари.
Берлин, Исайя (1909–1997) – британский ученый и историк российского происхождения; вырос в Риге и Санкт-Петербурге; его семья переехала в Великобританию в 1921 году.
Битти, Бесси (1886–1947) – американская журналистка, работавшая перед поездкой в Россию в Калифорнии в издании «Вестник Сан-Франциско» (“San Francisco Bulletin”). После революции продолжила журналистскую деятельность; в 1940-х годах, основавшись в Нью-Йорке, стала популярной радиоведущей.
Боуэрман, Элси (1889–1973) – английская суфражистка; санитарка в русском больничном отделении Шотландских женских госпиталей; стала первой женщиной-адвокатом в Центральном уголовном суде в Лондоне.
Брайант, Луиза (1885–1936) – американская журналистка и социалистка из Гринвич-Виллидж[1]; прибыла в Петроград в 1917 году вместе со своим мужем Джоном Ридом; после смерти Джона Рида в 1920 году вновь вышла замуж и поселилась в Париже.
Брюс, Генри Джеймс (1880–1951) – глава британской «канцелярии»[2] в Петрограде; в 1915 году женился на русской приме-балерине Тамаре Карсавиной.
Сэр Бьюкенен, Джордж (1854–1924) – выдающийся британский дипломат, сын посла. Находился на дипломатической службе во многих странах, начиная со службы в Берлине в 1901 году; британский посол в России с 1910 года.
Леди Бьюкенен, Джорджина (1863–1922) – представительница влиятельной семьи Батерст, жена британского посла в Петрограде сэра Джорджа Бьюкенена и мать Мэриэл Бьюкенен; принимала активное участие в оказании гуманитарной помощи в Петрограде во время Первой мировой войны, руководила госпиталем британской колонии.
Бьюкенен, Мэриэл (1886–1959) – дочь британского посла в Петрограде сэра Джорджа Бьюкенена; работала сестрой милосердия в госпитале британской колонии в Петрограде, которым во время Первой мировой войны руководила ее мать леди Джорджина Бьюкенен. После отъезда из России написала множество книг и статей о периоде своего пребывания в России.
Вудхаус, Артур (1867–1961) – английский дипломат; британский консул в Петрограде в 1907–1918 годах.
Вудхаус, Элла (1896–1969) – дочь британского консула в Петрограде Артура Вудхауса.
Гарстин, Денис (1890–1918) – капитан разведывательной службы британской армии, прикомандированный в качестве офицера разведки к британскому отделу по пропаганде в Петрограде; убит во время интервенции союзников в Архангельске.
Гибсон, Уильям Дж. (даты жизни неизвестны) – родился в Канаде, вырос в Санкт-Петербурге, в 1914 году служил в русской армии; в 1917 году – корреспондент в Петрограде; покинул Россию в 1918 году.
Грант, Джулия – см. Кантакузина-Сперанская, Юлия Федоровна, княгиня.
Грант, Лилиас (1878–1975) – медсестра из шотландского города Инвернесс, работавшая по линии Шотландских женских госпиталей на Восточном фронте; находилась в Петрограде вместе со своей подругой санитаркой Этель Мойр.
(Леди) Грей, Сибил (1882–1966) – английская сестра милосердия, помогавшая леди Мюриэл Пэджет руководить Англо-русским госпиталем в Петрограде; дочь бывшего генерал-губернатора Канады и двоюродная сестра министра иностранных дел Великобритании сэра Эдварда Грея.
Джадсон, Уильям Дж. (1865–1923) – офицер инженерных войск ВС США; военный атташе при посольстве США в Петрограде в период с июня 1917 года по январь 1918 года, отвечал за безопасность граждан США в России.
Джефферсон, Джеффри (1886–1961) – английский хирург в Англо-русском госпитале; после закрытия госпиталя был переведен в одно из подразделений медицинской службы сухопутных войск Великобритании на Западном фронте. В дальнейшем стал выдающимся нейрохирургом и членом Королевского хирургического колледжа Великобритании.
Джонс, Джеймс Стинтон (1884–1979) – инженер-механик южноафриканского происхождения; в 1905–1917 годах представитель компании «Вестингауз» в России, занимался электрификацией петроградских трамваев; осуществлял контроль за установкой генератора в Александровском дворце в Царском Селе.
Джордан, Фил(ип) (1868–1941) – чернокожий камердинер, повар и шофер из американского города Джефферсон-Сити (штат Миссури), находившийся на службе у Дэвида Р. Фрэнсиса и его семьи с 1889 года; в 1916 году сопровождал Дэвида Р. Фрэнсиса в его поездке в Россию.
Диринг, Фред (1879–1963) – американский дипломат, служивший в дипломатической миссии в Пекине в 1908–1909 годах; в России в 1916–1917 годах был свидетелем передачи послом Джорджем Ф. Мари обязанностей руководителя дипмиссии Дэвиду Фрэнсису.
Дорр, Рета Чайльд (1868–1948) – американская журналистка, феминистка и политический активист; подруга Эммелин Панкхерст. Прибыла в Петроград в качестве корреспондента издания «Нью-Йорк ивнинг мэйл» (“New York Evening Mail”), одной из первых среди американских журналистов опубликовала статьи, освещавшие июльский кризис 1917 года в России. После возвращения в США попала в автомобильную катастрофу, которая серьезно отразилась на ее дальнейшей профессиональной деятельности.
Дош-Флеро, Арно (1879–1951) – американский журналист; после 1917 года остался в Европе в качестве иностранного корреспондента и стал специальным корреспондентом «Международной службы новостей» в Берлине. За откровенную критику нацизма был арестован и интернирован; в 1941 году поселился в Испании.
Кантакузина-Сперанская, Юлия Федоровна, княгиня (1876–1975) – урожденная Джулия Дент Грант, американская светская львица, внучка президента США Улисса Гранта. После революции в России бежала в США, возглавляла общину русских белоэмигрантов в Вашингтоне; в 1934 году развелась со своим русским мужем.
Кенни, Джесси (1887–1985) – работница текстильной фабрики, уроженка графства Йоркшир; присоединилась к движению суфражисток; активно сотрудничала с Эммелин Панкхерст в Женском социально-политическом союзе. После 1920 года отказалась от политической деятельности; в последующем пыталась построить писательскую карьеру, но так и не смогла что-либо опубликовать.
Клэр, (преподобный) Джозеф (1885—?) – английский священник конгрегационалистской церкви, бакалавр богословия; пастор Американской церкви в Петрограде с 1913 года. После отъезда из России поселился в США, в штате Иллинойс, и принял американское гражданство.
Коттон, Дороти (1886–1977) – прошедшая подготовку в Монреале медсестра канадских экспедиционных сил, работавшая в Англо-русском госпитале с ноября 1915 года по июнь 1916 года и с января по август 1917 года.
Кросли, Полин (1867–1955) – супруга военно-морского атташе США капитана 1-го ранга Вальтера Селвина Кросли; в Петрограде находилась в период с марта 1917 года по март 1918 года; супруги Кросли смогли с большим трудом вырваться из России во время гражданской войны в стране.
Линдли, Фрэнсис (1872–1950) – советник британского посольства в России в 1915–1917 годах; британский генеральный консул в Петрограде в 1919 году; впоследствии служил британским послом в Японии (1931–1934 гг.).
Локхарт, Роберт Брюс (1887–1970) – британский дипломат и разведчик, вице-консул в Москве в период с 1914 по 1917 год, при этом совершал частые поездки в Петроград. После Февральской революции в России исполнял обязанности британского генерального консула; покинул Россию до Октябрьской революции 1917 года.
Ломбард, Босфилд Сван, преподобный (1866–1951) – английский священник, прикомандированный с 1908 года к британскому посольству и англиканской церкви в Петрограде, весьма уважаемая личность в британской колонии. Был арестован и интернирован большевиками в 1918 году.
Лонг, Роберт Крозье (1872–1938) – англо-ирландский журналист и писатель; петроградский корреспондент издания «Ассошиэйтед Пресс» (“Associated Press”). С 1923 года и до момента своей смерти был корреспондентом издания «Нью-Йорк таймс» (“New York Times”) в Берлине.
Лэмпсон, Оливер Локер (1880–1954) – депутат британского парламента; в 1914 году назначен командиром Королевского военно-морского дивизиона бронированных автомобилей, который был направлен на Восточный фронт для оказания содействия русской армии; вернувшись после войны в Великобританию, продолжал исполнять обязанности депутата парламента.
Маркоссон, Исаак (1876–1961) – американский журналист и писатель из штата Кентукки; писал из Петрограда для издания «Сатердей ивнинг пост» (“Saturday Evening Post”).
Мойр, Этель (1884–1973) – санитарка, работавшая по линии Шотландских женских госпиталей на Восточном фронте; в Петрограде тесно общалась с медсестрой Лилиас Грант.
Моэм, Сомерсет (1874–1965) – британский писатель и новеллист; некоторое время в ходе Первой мировой войны сотрудничал с секретной службой Великобритании. Этот опыт лег в основу его сборника рассказов «Эшенден, или Британский агент», опубликованного в 1928 году.
Нери, Амели де (даты жизни неизвестны) – французская журналистка и эссеист, активно публиковалась в 1900—1920-х годах, писала под псевдонимом «Мэрили Маркович».
Нодо, Людовик (1872–1949) – французский военный корреспондент издания «Тан» (“Le Temps”); был арестован большевиками в 1918 году и пять месяцев провел в тюрьме в Москве.
Сэр Нокс, Альфред, генерал-майор (1870–1964) – офицер британской армии; британский военный атташе в Петрограде с 1911 года, наблюдатель на Восточном фронте; в 1924 году был избран депутатом британского парламента от Консервативной партии.
Графиня фон Ностиц (Лили Бутон де Фернандес-Асабаль) (1875–1967) – франко-американская авантюристка и светская львица из американского штата Айова; вначале являлась актрисой театральной труппы в Нью-Йорке и выступала под именем Мадлен Бутон. После революции переехала в Биарриц; после смерти графа фон Ностица в 1926 году в третий раз вышла замуж и поселилась в Испании.
Нуланс, Жозеф (1864–1944) – министр французского правительства, назначенный послом Франции в России для замены посла Мориса Палеолога. Находился в Петрограде с июля 1917 года. Вернувшись во Францию, продолжил антибольшевистскую деятельность в качестве руководителя «Общества французских интересов в России».
Пакс, Полетт (сценическое имя Полетт Менар) (1887–1942) – родившись в России, Полетт Пакс вернулась сюда в декабре 1916 года в качестве актрисы французской труппы Михайловского театра. Покинула Россию в сентябре 1918 года, в 1929 году стала содиректором театра “Théâtre de l’Oeuvre” в Париже.
Палеолог, Морис (1859–1944) – кадровый французский дипломат, современник сэра Джорджа Бьюкенена. Посол Франции в Петрограде в 1914–1917 годах; в 1928 году избран во Французскую академию.
Панкхерст, Эммелин (1858–1928) – лидер британского движения суфражисток, основатель Женского социально-политического союза (1903 год); всю жизнь вела активную политическую деятельность, боролась за права женщин.
Патуйе, Луиза (годы жизни неизвестны) – о жизни этой француженки, находившейся в Петрограде (Санкт-Петербурге) с 1912 года, ничего не известно, за исключением того, что она была замужем за доктором Жюлем Патуйе, директором Французского института в Петрограде; она оставила чрезвычайно ценный дневник, который сейчас хранится в Гуверовском институте войны, революции и мира при Стэнфордском университете (США, штат Калифорния).
Пул, Эрнест (1880–1950) – американский писатель, был направлен в Петроград для освещения революционных событий для изданий «Нью рипаблик» (“New Republic”) и «Сатердей ивнинг пост» (“Saturday Evening Post”). В 1918 году стал лауреатом Пулитцеровской премии.
Леди Пэджет, Мюриэл (1876–1938) – британская общественная деятельница, филантроп; в 1905 году организовала столовую для бедных в Сазерке, бедном районе Лондона; во время Первой мировой войны занималась оказанием в России гуманитарной медицинской помощи. Совместно с Сибил Грей основала Англо-русский госпиталь в Петрограде.
Райт, Дж[ошуа] Батлер (1877–1939) – американский дипломат; в октябре 1916 года сменил Фреда Диринга на посту советника посольства США в Петрограде. Впоследствии находился на дипломатической службе в качестве посла в Венгрии, Уругвае, Чехословакии и на Кубе.
Рид, Джон (1887–1920) – американский бунтарь, писатель и поэт, известный среди богемы Гринвич-Виллидж своей социальной агитацией и откровенно левыми взглядами. Прибыл в Петроград в сентябре 1917 года вместе со своей женой Луизой Брайант.
Рис Вильямс, Альберт (1883–1962) – проповедник конгрегационалистской церкви США, активист рабочего движения и пламенный коммунист. Близкий друг Джона Рида.
Робьен, Луи де (1888–1958) – французский граф, военный атташе при посольстве Франции в Петрограде с 1914 года по ноябрь 1918 года.
Роджерс, Лейтон (1893–1962) – в 1916–1918 годах служащий Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка; в 1918 году добровольно поступил на службу в военную разведку. После возвращения в США работал в области авиации и воздухоплавания в интересах Министерства торговли США. Друг и коллега Фреда Сайкса и Честера Свиннертона.
Рэнсом, Артур (1884–1967) – британский журналист, корреспондент издания «Дейли ньюс» (“Daily News”). Кратковременно находился в России также в 1919 году в качестве корреспондента издания «Манчестер гардиан» (“Manchester Guardian”). Позже стал успешным писателем, известным своей книгой для детей «Ласточки и амазонки».
Сайкс, Фред (1893–1958) – выпускник Принстонского университета, работал в Петроградском филиале Государственного муниципального банка Нью-Йорка в 1916–1918 годах; ушел в отставку с должности помощника вице-президента банка в Нью-Йорке. Коллега Лейтона Роджерса и Честера Свиннертона.
Свиннертон, Честер (1894–1960) – уроженец Массачусетса, выпускник Гарвардского университета; стажер Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка. После отъезда из России в течение многих лет работал в банке в Южной Америке. Друг и коллега Лейтона Роджерса и Фреда Сайкса.
Сеймур, Дороти (1882–1953) – английская сестра милосердия в Англо-русском госпитале; дочь генерала, внучка адмирала, при дворе занимала должность фрейлины принцессы Кристиан.
Стеббинг, Эдвард (1872–1960) – английский профессор лесного хозяйства; был направлен в командировку в Россию во время Первой мировой войны для оценки возможностей поставок древесины в интересах обеспечения строительства фортификационных сооружений британской армии и узкоколейных железных дорог.
Стокер, Энид (1893–1961) – английская сестра милосердия в Англо-русском госпитале; находясь в Петрограде, встретилась с Негли Фарсоном и в 1920 году в Лондоне вышла за него замуж. Их сын, Даниил Фарсон, стал писателем и телеведущим.
Стопфорд, Берти (Альберт) (1860–1939) – английский арт-дилер, специалист по Фаберже, светский лев и друг князя Феликса Юсупова.
Томпсон, Дональд (1885–1947) – американский военный фоторепортер и кинематографист из Канзаса, находился в Петрограде с января по июль 1917 года.
Уайтман, Оррин Сэйдж (1873–1965) – американский врач, во время Первой мировой войны служил в медицинском корпусе армии США; в 1917 году входил в состав медицинской миссии Американского Красного Креста в России.
Уилтон, Роберт (1868–1925) – британский журналист; в 1889–1903 годах был европейским корреспондентом издания «Нью-Йорк геральд» (“New York Herald”), впоследствии стал специальным корреспондентом издания «Таймс» (“Times”) в Петрограде. После отъезда из России стал журналистом в Париже.
Уильямс, Гарольд (1876–1928) – журналист новозеландского происхождения, языковед, ярый русофил. Петроградский корреспондент издания «Дейли кроникл» (“Daily Chronicle”) и сотрудник Англо-русского бюро пропаганды, где работал совместно с Хью Уолполом и Денисом Гарстином. Решительно выступая против большевистского режима, бежал из Петрограда вместе с русской женой и стал редактором внешнеполитического отдела издания «Таймс» (“The Times”).
Уиншип, Норт (1885–1968) – американский дипломат; генеральный консул в Петрограде, в последующем занимал консульские должности во многих других странах; в 1949 году ушел в отставку с должности посла США в Южной Африке.
Уолпол, Хью (1884–1941) – журналист и писатель новозеландского происхождения; когда началась война, стал сотрудником Красного Креста в России. Вернулся в Петроград в качестве главы Англо-русского бюро пропаганды, в этом качестве работал в 1916–1917 годах совместно с Гарольдом Уильямсом и Денисом Гарстином.
Фарсон, Негли (1890–1960) – уроженец Нью-Йорка, проживал в Великобритании. Во время Первой мировой войны находился в Петрограде в качестве доверенного лица англо-американских экспортных коммерческих структур, стремясь обеспечить заказы со стороны русского правительства на поставку мотоциклов. Впоследствии обратился к написанию путевых заметок и журналистике; некоторое время работал иностранным корреспондентом в издании «Чикаго дейли ньюс» (“Chicago Daily News”).
Фрэнсис, Дэвид Р. (1850–1927) – посол США в России в 1916–1918 годах; до этого – мэр города Сент-Луис (1885 г.) и губернатор штата Миссури (1889–1893 гг.).
Фуллер, Джон Луи (1894–1962) – бизнесмен и менеджер в системе страхования из американского города Индианаполиса; в 1917–1918 годах – стажер филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка в Петрограде. Коллега Лейтона Роджерса, Фреда Сайкса и Честера Свиннертона.
Харпер, Самуэль (1882–1943) – американский славист; совершал многочисленные поездки в Россию, сопровождая официальные делегации в качестве переводчика и гида, в том числе в 1917 году специальную дипломатическую миссию США в Петроград во главе с бывшим государственным секретарем Э. Рутом. Являлся неофициальным советником Дэвида Р. Фрэнсиса.
Харпер, Флоренс (1886—?) – канадка, собственный корреспондент американского журнала «Лесли’з уикли» (“Leslie’s Weekly”), работавшая в Петрограде вместе с военным фоторепортером Дональдом Томпсоном.
Хеган, Эдит (1881–1973) – канадская медсестра из города Сент-Джон (провинция Нью-Брансуик), работала в медицинской службе сухопутных войск Канады во Франции, затем в мае 1916 года была направлена в Англо-русский госпиталь в Петрограде.
Хилд, Эдвард (1885–1967) – член Международного комитета Юношеской христианской ассоциации, был направлен в Россию для обеспечения контроля за лечением немецких и австрийских военнопленных. Находился в Петрограде в 1916–1919 годах.
Хоктелинг, Джеймс (1883–1962) – дипломат и журналист; уроженец Чикаго; специальный атташе посольства США в Петрограде; в 1926–1931 годах – вице-президент издания «Чикаго дейли ньюз» (“Chicago Daily News”), впоследствии – специальный уполномоченный правительства США по делам иммиграции и натурализации.
Холл, Берт (1885–1948) – американский военный летчик, до вступления США в Первую мировую войну воевал в составе эскадрильи «Лафайет» ВВС Франции[3].
Чандлер Уиппл, Джордж (1866–1924) – американский инженер и эксперт в области санитарного контроля, находился в Петрограде в составе представительства Американского Красного Креста в качестве заместителя руководителя представительства в России.
Шадборн, Филип (писал свои отчеты из Петрограда под псевдонимом «Поль Вартон») (1889–1970) – сотрудник программы американской гуманитарной помощи во Франции и Бельгии во время Первой мировой войны; был направлен в Петроград для инспекции лагерей для интернированных в России и подготовки соответствующего доклада.
Шамбрюн, Шарль де (1875–1952) – французский дипломат и писатель; первый секретарь посольства Франции в Петрограде с 1914 года.
От автора
В России в 1917 году еще использовался юлианский календарь (старого стиля), который на тринадцать дней отставал от принятого в западных странах григорианского календаря, что создает в равной степени как для историка, так и для читателя бесконечную путаницу и бесчисленные проблемы. Многих иностранцев, проживавших в то время в Петрограде[4], это также приводило в немалое замешательство, и, хотя они какое-то время уже находились в России, они предпочитали игнорировать юлианский календарь и использовать в своих дневниках и письмах на родину, в Великобританию, США и другие страны, григорианский. Лишь немногие порой ставили даты в соответствии с обоими календарями. Тот, кто (как, например, Джесси Кенни) пытался отмечать в своих дневниках обе даты, в конечном итоге совершенно запутывался.
Чтобы избавить читателя от этой головной боли, а также учитывая тот факт, что в книге рассказывается о том, как происходили в России Февральская и Октябрьская революции (согласно календарю, существовавшему на тот момент в России, а не Мартовская и Ноябрьская, как их следовало бы называть, согласно календарю в западных странах), все даты в письмах, дневниках и отчетах, написанных в России во время тех событий и цитируемых в книге, приведены в соответствии со старым русским стилем (СС) – чтобы обеспечить хронологическую связность и внятную последовательность книги. Даты по григорианскому календарю (по новому стилю – НС) встречаются в первоисточниках, которые упоминаются в примечаниях. В некоторых случаях, чтобы избежать путаницы (особенно если какое-либо событие произошло за пределами России), приводятся даты по обоим календарям.
Многие очевидцы по-разному писали русские имена и названия мест. Кроме того, Филип Джордан придерживался весьма своеобразных правил пунктуации, орфографии и использования заглавных букв, что было намеренно сохранено для того, чтобы передать непосредственность и эмоциональность его текстов. Чтобы избавить читателя от бесконечных примечаний: «Так в исходном тексте», – эта орфография (как и в ряде случаев нестандартная орфография других героев книги) была сохранена без каких-либо пояснений, и примечания даны лишь там, где это было необходимо.
Пролог «В воздухе сгущается предчувствие катастрофы»
Накануне революции Петроград попал в осаду и суровой зимы. Заснеженный город с замершими каналами и смутными очертаниями площадей, казалось, погрузился в тяжкие думы. Его изысканные широкие улицы и элегантные дворцы из розового гранита с рядами воздушных колонн и арок уже не создавали ощущения имперского величия, теперь они наводили на мысли об упадке. Где бы вы ни оказались в этом «городе для гигантов» с его грозной, неприветливой архитектурой, вы слышали «свист ветра и звон великого множества колоколов различных размеров и разного тона», завершавшийся «впечатляющим боем большого колокола Исаакиевского собора, который приходит ниоткуда и все обволакивает»{1}. Скованная зимой, открытая арктическому холоду со стороны Финского залива, столица России всегда стремилась приукраситься с особым, свойственным лишь ей размахом, и это была холодная, навязчивая красота. Однако теперь, спустя три года после начала войны, она был переполнена тысячами беженцев – поляками, латышами, литовцами, евреями, – которые спасались от боев на Восточном фронте. Столица была подавлена и деморализована, в воздухе «витала атмосфера враждебности и тревоги»{2}. Зима 1916/17 годов добавила новую зловещую деталь в городской пейзаж: длинные молчаливые очереди угрюмых женщин, ежившихся на холоде в бесконечно долгом ожидании хлеба, молока, мяса – хотя бы чего-нибудь. Петроград устал от войны. Петроград голодал.
Большинство русских сталкивалось с этими невзгодами и лишениями каждодневно. И все же, несмотря на очевидные тяжелые испытания военного времени, неизбежно отражавшиеся на его жителях, нашедшая приют в городе большая и пестрая община иностранцев все еще чувствовала себя не так уж и плохо. И пусть город был русским – вдоль Невы продолжала кипеть жизнь крупных иностранных предприятий. В рабочих районах Васильевского острова, на Выборгской стороне, в других промышленных кварталах крупные ткацкие и бумагопрядильные фабрики, судостроительные верфи, лесозаводы, лесопилки и металлургические заводы по-прежнему управлялись в основном британскими хозяевами и приказчиками[5], многие из которых жили в России уже несколько десятилетий. Большая, со зданиями из красного кирпича, фабрика шерстяных изделий Торнтона (одна из крупнейших в России, основанная в 1880-е годы), на которой было занято три тысячи рабочих, принадлежала трем братьям из Йоркшира. Можно упомянуть также Невскую ниточную мануфактуру (была основана шотландской фирмой «Дж. энд П. Коатс»), Невский стеариновый и мыловаренный завод, управляемый фирмой «Уильям Миллер энд компани оф Лейт» (Уильям Миллер владел также пивоварней в городе), ткацкие фабрики и типографии фирмы «Эджертон Губбард энд компани».
Множество специализированных магазинов в городе было призвано удовлетворить потребности различных привилегированных иностранцев, а также состоятельных русских аристократов. Даже в 1916 году на Невском проспекте еще можно было любоваться громадными сверкающими зеркальными витринами французских и английских роскошных магазинов, в этом плане Невский ничуть не уступал лондонской улице элитных бутиков Бонд-стрит.
Здесь услуги французских портних, закройщиков и перчаточных дел мастеров (таких, например, как Альбер Бризак, кутюрье императрицы, или Анри Брокар, французский парфюмер, который также поставлял свою продукцию царской семье) продолжали пользоваться спросом со стороны богатых клиентов. В «Английском магазине» (более известном под французским названием “Magasin Anglais”) можно было приобрести лучшие костюмы из твида Харрис и английское мыло и насладиться «чопорным английским провинциализмом» этого заведения, вообразив себя на Хай-стрит[6] в Честере, или в Портсмуте, или в Труро, или в Кентербери{3}. Компания “Druce’s” закупала английские товары и мебель из клена в магазинах на лондонской Тоттенхэм-Корт роуд; английская книготорговая фирма «Уоткинс энд компани» пользовалась покровительством многих из британской общины; эмигранты из других стран могли узнать новости о своей родине, зайдя в книжный магазин товарищества М. О. Вольф, где продавались журналы и газеты на семи разных языках.
В Петрограде все еще «не было какого-либо одного, основного для всех магазина, вместо этого на магазинах смело красовались вывески: “English spoken”[7], “Ici on parle Francais” и [до начала войны] “Man spricht Deutsch”»{4}. Французский все еще оставался языком общения русских аристократов и чиновников, а издававшаяся на французском языке российская газета “Journal de St-Petersbourg” являлась полуофициальным органом Министерства иностранных дел Российской империи и пользовалась во время войны большим спросом, поскольку в городе находилось много французских дипломатов и военных атташе. Наряду с этим английский язык считался еще более аристократичным как язык «высших кругов императорского двора» и императорской семьи{5}.
К осени 1916 года ведущие позиции в дипломатическом сообществе Петрограда военного времени занимали посольства союзнических государств: Великобритании, Франции и Италии, а также пока еще нейтральных США; крупные дипломатические миссии Германии и Австро-Венгрии покинули страну в 1914 году. Тон жизни и деятельности иностранной общины в городе всегда задавали британская диаспора (около двух тысяч граждан), британское посольство и его основной источник слухов и сплетен – англиканская церковь на Английской набережной, которую в народе называли «английской церковью».
Вспоминая годы своей жизни в Петрограде, священник этой церкви преподобный Босфилд Сван Ломбард (который с 1908 года служил также капелланом британского посольства) рассказывал, что британская община была «гостеприимной сверх всяких ожиданий», но ее взгляды на жизнь он находил «ультраконсервативными» и в этой связи испытывал чувство тревоги. «Не отличаясь широтой взглядов и раскованностью в своих суждениях», эта община была «ограничена условностями до такой степени, что мне потребовалось достаточно много времени, чтобы понять, что такой консерватизм был возможен». Это было крайне замкнутое сообщество, которое проявляло настороженность к каким-либо переменам или нововведениям. «На любое новое предложение реагировали не словами: «Это невозможно!» или «Это нереально!» – писал Ломбард, – а словами «Здесь такое никогда не было принято» или «Об этом вообще не может быть и речи»{6}. Он с сожалением признавался, что он был «поражен узостью и ограниченностью британской колонии; она напоминала небольшую полную сплетен английскую деревушку, или, скорее, дворик собора»{7}.
Жизнь в этом социально замкнутом анклаве, словно в романах цикла «Барчестерские хроники»[8], была, по выражению арт-дилера и светского льва Берти Стопфорда, ограничена «небольшими группками интимных друзей»{8}. Многие из британцев упорно цеплялись за свой привычный образ жизни, отказывались учить русский язык или говорить на нем и отправляли своих детей учиться в Англию. Большинство остальных настаивали на английских или шотландских гувернантках и репетиторах, или же, в случае отсутствия такой возможности, на французских. Британцы, как правило, предпочитали свои собственные мероприятия, концерты и спектакли, хотя всем им нравился русский балет. Они удивляли русских своей страстью к спорту, предпочитая, естественно, его национальные виды: крикет, футбол, теннис; совершали прогулки на яхтах и организовывали клубы любителей гребного спорта. У них был даже клуб спортивных голубей. Они играли в гольф в Мурино, в десяти милях к северо-востоку от Петрограда, оборудовав здесь поле «в упорном стремлении не позволить ничему встать на пути их самовыражения»{9}.[9]
Представители закрытого, кланового сообщества британской диаспоры посещали также свой Новый Английский клуб по адресу: улица Большая Морская, дом 36. Немногим британским дипломатам было позволено стать почетными членами элитного Императорского яхт-клуба, расположенного прямо напротив (там бывали аристократы, царедворцы и правительственные чиновники Российской империи), поэтому основная задача Нового Английского клуба, который являлся привилегированным заведением британской общины и который часто навещали «практически все британцы в городе, достойные быть членом этого клуба», заключалась в том, чтобы продвигать интересы британского бизнеса под руководством британского посла{10}. Лишь избранным американцам было позволено быть его членами. Негли Фарсон, американский предприниматель, который в течение некоторого времени находился в Петрограде, борясь с продажным бюрократическим аппаратом в своих попытках обеспечить поставки мотоциклов для русской армии, испытывал отвращение к этому узкому мирку и презирал его. Британские экспатрианты «жили, как феодалы…купаясь в роскоши, пользуясь абонементом в балете, задиристыми частными извозчиками, своим Новым Английским клубом на Морской, своим гольф-клубом, своим теннисным клубом, своим «Английским магазином» [“Magasin Anglais”]», который являлся «единственным местом в России, где можно было достать приличную обувь или изделия из кожи», и «целой оравой слуг». Он возмущался их социальным статусом, который позволял им открывать нужные двери гораздо легче, чем ему добраться до них, – имея в виду, в частности, российское Военное министерство. «Англичанин, любой англичанин в царской России, автоматически является милордом – и к нему относятся соответственно», – отмечал он{11}.
В Петрограде в годы войны, конечно же, не было человека, более соответствовавшего понятию «милорд» (причем с самых пеленок), чем британский посол сэр Джордж Бьюкенен, руководивший дипломатической миссией и британской «канцелярией», главное здание которых с видом на Неву располагалось по адресу: Дворцовая набережная, дом 4, в нескольких минутах ходьбы от Зимнего дворца. Посольство занимало часть большого особняка, арендуемую у семьи Салтыковых, которая сохранила за собой комнаты в тыльной части дома с видом на Марсово поле – крупный военный плац, расположенный недалеко от Зимнего дворца. Приехав в Санкт-Петербург в 1910 году после завершения службы в ранге посла в Софии (Болгария)[10], Бьюкенен и его жена леди Джорджина унаследовали здесь обстановку, которая воспроизводила мебель времен Людовика XVI, а также требуемые этикетом хрустальные люстры и красную парчовую драпировку, привычные для любого посольства. Наряду с этим они также привезли с собой собственную коллекцию прекрасной мебели, книг и картин, собранную во время длительной дипломатической жизни в Европе. Как вспоминала их дочь Мэриэл, эти личные вещи придавали комнатам «более домашний, уютный вид, так что порой, задернув гардины, можно было без труда вообразить себя на какой-то старой лондонской площади»{12}.
Сэр Джордж Бьюкенен какое-то время рассматривал возможность перенести посольство в более удобное здание, однако начавшаяся в 1914 году война поставила крест на этих амбициозных планах. Хотя посольство, возможно, казалось весьма фешенебельным и просторным, у него тем не менее был ряд изъянов. Так, система канализации устарела и нуждалась в существенной реконструкции и постоянном ремонте. Кроме того, требовался многочисленный персонал для поддержания в порядке его залов для приемов и церемоний в стиле барокко, помещений его «канцелярии», расположенных на первом этаже, а также (двумя витками винтовой лестницы выше) танцевального зала и большой столовой, которые использовались для крупных официальных мероприятий. Незаменимому на этом посту английскому дворецкому, Уильяму, оказывали помощь многочисленные лакеи, горничные и итальянский шеф-повар, а также множество русских, занятых в повседневных заботах по дому и обеспечивавших кухню{13}. Бьюкенены привезли с собой легковой автомобиль и своего собственного шофера-англичанина, наряду с этим они также содержали кареты и сани и русского извозчика для них.
Сэра Джорджа Бьюкенена, который являлся не только центральной фигурой в собственном посольстве, но и признанным дуайеном дипломатического корпуса в Петрограде, высоко оценивали как русские, так и иностранцы. Те, кто работал вместе с ним, испытывали к нему чувство преданности, если не поклонение. Он был для них почти героем. Сэр Джордж Бьюкенен являлся образцовым дипломатом-джентльменом: аскет, выпускник Итонского колледжа в монокле, сын сэра Эндрю Бьюкенена (также дипломата, служившего в британском посольстве в Санкт-Петербурге), человек чести в изначальном смысле этого слова. Высокий, худощавый, учтивый, Бьюкенен был настоящим исследователем и хорошим лингвистом (хотя он не говорил на русском), широко начитанным человеком, который втайне любил детективы и наслаждался неприхотливой игрой в бридж. Его «невозмутимая безмятежность» и педантизм иногда могли быть неверно истолкованы как чрезмерная строгость, и некоторых его сотрудников сбивали с толку его «обескураживающее простодушие» и немного декадентская рассеянность. «Он был вежлив как при игре в бридж, так и во всем остальном, но было такое впечатление, что он пребывал в мечтах и не осознавал, играл ли он в бридж или в игру “Счастливая семейка”[11]», – вспоминал один из его сотрудников{14}.
Но не было никаких сомнений относительно скромности Бьюкенена и (когда для проявления этого качества пришло время) его смелости, а также относительно его непоколебимой преданности своим коллегам по дипломатической службе. Всем, кто работал с ним в эти последние дни агонизировавшей царской России, было совершенно ясно, что сэр Джордж Бьюкенен к этому времени был болен. Его слабое здоровье, подорванное безграничной преданностью долгу и возросшей нагрузкой во время войны, еще больше ухудшилось в связи с его обеспокоенностью шатким положением царя и растущей угрозой революции[12]. Хотя сэру Джорджу Бьюкенену иногда удавалось съездить на рыбалку в Финляндию или поиграть в гольф в Мурино, к концу 1916 года он, по выражению британского дипломата Роберта Брюса Локхарта, производил впечатление «болезненного человека с усталым, грустным выражением на лице». Однако он стал узнаваемой и уважаемой фигурой на улицах столицы, и, «когда он совершал свой ежедневный визит в Министерство иностранных дел Российской империи, с шляпой чуть набекрень и высокой, худощавой фигурой, слегка поникшей от груза многочисленных забот, каждый англичанин осознавал, что территория его посольства, ни много ни мало, является частью территории Великобритании»{15}.
Если порой сэр Джордж Бьюкенен, казалось, сникал, его энергичная жена придавала ему новые силы. Леди Джорджина, урожденная Батерст, сама была из числа людей «королевских кровей». «Как знает каждый британец, – язвительно заметил в этой связи Негли Фарсон, – существуют только три семьи: Святое семейство, королевская семья – и Батерсты»{16}. Леди Джорджина являлась представительной женщиной, чье «сердце было пропорционально ее массе», а ее рвущаяся наружу энергия была сопоставима с ее мнением, которое являлось бесспорным и высказывалось громогласно. Она была «несдержанна и обидчива: щедрый друг, но опасный враг», как обнаружили некоторые из окружавших ее женщин в британской колонии. Она «руководила дюжиной комитетов и ссорилась со всеми». Она управляла внутренней жизнью посольства, «как по нотам», и «никогда не изменяла своей страсти к пунктуальности, которая у самого посла доходила до одержимости»{17}. С 1914 года леди Джорджина принялась за исполнение дел, связанных с начавшейся войной. Она реквизировала танцевальный зал посольства и заставила его длинными столами, загруженными ватой, пухом и тканями; здесь она дважды в неделю устраивала курсы кройки и шитья. Приходившие сюда дамы из британской колонии «сворачивали марлевые бинты, шили жилетки-«душегрейки» для больных воспалением легких, готовили всевозможные перевязочные материалы для оказания первой помощи, шили больничные пижамы, медицинские куртки и халаты» – некоторые для отправки раненым на фронт, остальные для использования в госпитале британской колонии в Петрограде для раненых русских солдат. Расположенный в крыле большой Покровской больницы на Васильевском острове, этот госпиталь стал вотчиной леди Бьюкенен, организовавшей его вскоре после начала войны. Ее дочь Мэриэл также работала там в качестве сестры милосердия{18}.
После того как Россия в 1914 году вступила в войну, уже сложившаяся в Петрограде к тому времени диаспора пополнилась новой, более дерзкой породой американцев: инженерами и предпринимателями, занимавшимися поставками военной техники, промышленной продукции и боеприпасов. Американцы из компаний «Интернэшнл харвестер» (производитель сельскохозяйственной техники), «Вестингауз» (в течение нескольких лет принимала участие в электрификации трамваев Петрограда) и «Зингер сьюинг машин компани» (начала поставлять в Россию первые швейные машинки в 1865 году) соседствовали на улицах города со своими земляками, прибывшими из Нью-Йорка, чтобы организовать в Петрограде филиалы Государственного муниципального банка Нью-Йорка и Нью-Йоркской компании по страхованию жизни, не говоря уже об американских сотрудниках Юношеской христианской ассоциации, которые создали здесь в 1900 году русский аналог этой структуры – общество «Маяк». В апреле 1916 года дипломатический корпус в Петрограде приветствовал нового американского посла после того, как прежний посол Джордж Мари неожиданно подал в отставку – якобы по причине плохого здоровья. По слухам, его негласно вынудил к этому шагу Государственный департамент, который считал его слишком пророссийски настроенным в то время, когда США все еще сохраняли нейтралитет в продолжавшейся войне.
Преемником Джорджа Мари оказался самый маловероятный из кандидатов. Общительный и добродушный демократ от штата Кентукки, Дэвид Роуленд Фрэнсис, сколотил себе миллионное состояние в Сент-Луисе за счет сделок с зерном и инвестиций в железнодорожные компании. Он был губернатором штата Миссури (1889–1993 гг.) и лоббировал проведение в 1904 году в Сент-Луисе весьма успешной Луизианской ярмарки (более известной как всемирная выставка в Сент-Луисе), а также в том же году – летних Олимпийских игр. Однако у него не было никакого опыта посольской работы, хотя в 1914 году его кандидатура была предложена на пост посла в Буэнос-Айресе – но отклонена. Однако выбор Дэвида Фрэнсиса в качестве посла в Петрограде казался логичным: его несомненная деловая хватка должна была помочь перезаключить договор о торговле и навигации между США и Россией, который в декабре 1912 года был денонсирован американской стороной в ответ на антисемитскую политику царской России[13]. Дэвиду Фрэнсису было хорошо известно, что Россия была готова закупать американское зерно, хлопок и вооружение.
21 апреля (по НС; 8 апреля – по СС) 1916 года Дэвид Фрэнсис отплыл из портового города Хобокен в штате Нью-Джерси на шведском пароходе «Оскар II» вместе со своим личным секретарем Артуром Дэйли и преданным чернокожим камердинером и шофером Филипом Джорданом. Его жена Джейн осталась дома в Сент-Луисе ухаживать за шестью сыновьями, поскольку у нее было плохое здоровье и страх перед легендарными суровыми российскими зимами. Дэвид Фрэнсис не настаивал на том, чтобы она сопровождала его, хорошо зная, что его жене в Петрограде «не понравится»{19}. В ее отсутствие и без того не слишком общительный и «социальный» (как и его коллега Бьюкенен, он не говорил на русском), Дэвид Фрэнсис весьма сильно полагался на защиту «Фила», как он любил называть того: он уважал этого человека как «верного, честного, умелого и к тому же умного»{20}.
Фил (Филип) Джордан, чьи афро-американские корни неизвестны, был небольшим жилистым человеком, выросшим в «Хог али», убогом бедном районе города Джефферсон (штат Миссури), печально известном (как и нью-йоркский район «Бавэри») как притон воров, проституток и пьяниц. В молодости он безоглядно пьянствовал, входил в бандитскую группировку и постоянно участвовал в уличных драках. Затем работал на речных судах, плававших по Миссури, и впоследствии, в 1889 году (с учетом того, что, предположительно, исправил свое поведение), был рекомендован Дэвиду Фрэнсису, вновь избранному губернатору штата Миссури. Проработав непродолжительное время у нового губернатора, Филип Джордан в 1902 году переехал в большой особняк семьи Фрэнсиса, расположенный в районе Сент-Луиса для состоятельных «Уэст энд», поступив на должность камердинера – или, как американцы тогда назвали это, «личного слуги». Здесь он имел возможность встречаться с четырьмя американскими президентами – Гровером Кливлендом, Теодором Рузвельтом, Уильямом Тафтом и Вудро Вильсоном, – которые появлялись в доме Дэвида Фрэнсиса в качестве гостей. В свою очередь, миссис Фрэнсис (которая была более склонна, чем ее муж, прощать Джордану эпизодические запои) научила его читать и писать. За все это Джордан был ей весьма признателен и крайне привязался к ней{21}.
Растерянность и культурный шок, испытанные Фрэнсисом и Джорданом после их прибытия с теплого американского Юга в промерзлый Петроград военного времени, трудно описать. Во время их поездки переводчик русского языка у Дэвида Фрэнсиса, молодой славист Самуэль Харпер, сделал все возможное, чтобы дать неопытному послу «ускоренный курс того, с чем тот мог встретиться в России». Самуэль Харпер пришел к выводу (став свидетелем разговора Дэвида Фрэнсиса с некоторыми американскими бизнесменами, следовавшими в Петроград на том же корабле), что это «весьма откровенный, прямолинейный американец, который считал необходимым высказать свое мнение независимо от норм дипломатического этикета»{22}. Контраст с застегнутым на все пуговицы и безукоризненно вышколенным сэром Джорджем Бьюкененом был слишком очевиден; у этих двух послов было мало общего.
После прибытия 15 апреля поезда «Стокгольм экспресс» на Финский вокзал Петрограда Дэвид Фрэнсис направился в посольство США. Только сейчас он болезненно осознал, что его ждет: «Я еще никогда не был в России. Я еще никогда не был послом. До того как я был назначен на этот пост, я знал о России лишь столько, сколько о ней знал обычный образованный американский гражданин: к сожалению, мало и расплывчато»{23}. С учетом такой обезоруживающей откровенности становится ясно, что его коллеги в дипломатическом корпусе неизбежно относились к нему пренебрежительно. Как выразился Роберт Брюс Локхарт, «старина Фрэнсис не отличит левого эсера от картошки», но, к его чести, «был простодушен и смел, как ребенок». Свойственные Дэвиду Фрэнсису мягкость, терпимость и добродушие, однако, не вызывали восхищения у некоторых более опытных сотрудников американского посольства, которым он казался «лохом» из Сент-Луиса, не понимавшим российской политики. Не имея за плечами привилегированной частной школы и долгих лет кропотливого постижения искусства европейской дипломатии (в отличие от своего коллеги Бьюкенена), Фрэнсис казался по меньшей мере простодушным. Артур Буллард, неофициальный эмиссар США в России, считал Дэвида Фрэнсиса «старым дураком», а по мнению американского врача Оррина Сэйджа Уайтмана, который прибыл в российскую столицу позже в составе медицинской миссии Американского Красного Креста, это был «заносчивый занудный тупица»{24}. Но для русских, которые рассматривали США в качестве залога прибыльных и столь необходимых торговых отношений, новый посол являлся, «безусловно, самым востребованным дипломатом в Петрограде»{25}. Кроме того, Дэвид Фрэнсис, вел себя в обществе таким образом, как не мог себе позволить его британский коллега. Он, не считая нужным делать из этого какой-либо секрет, наслаждался лучшим сортом бурбона «Кентукки» и толстыми сигарами, жевал табак и попадал в плевательницу с нескольких метров. В отличие от сдержанной манеры Бьюкенена при игре в бридж, дружеское простодушие Фрэнсиса не распространялось на карты. Как узнал на себе Локхарт, американский посол не был «ребенком в покере»: всякий раз, когда Локхарт во время игры присоединялся к Фрэнсису, тот обчищал его{26}.
Летом 1916 года, к радости Дэвида Фрэнсиса и его шофера Фила, наконец прибыл посольский автомобиль «Форд» модели «Т», специально доставленный из штата Миссури. Они с гордостью разъезжали на нем по городу с «трехфутовым звездно-полосатым флагом, развевавшимся на крышке радиатора», заставляя прохожих задаваться вопросом, «то ли это флаг развевается от движения автомобиля, то ли развевающийся флаг двигает «Форд» вперед»{27}. Посольство США было расположено очень удачно, по адресу: Фурштатская улица, дом 34, в центре города, в зажиточном районе, в котором проживали русские государственные служащие и другие дипломаты. Оно находилось в нескольких минутах ходьбы от Государственной думы, размещавшейся в Таврическом дворце на Шпалерной улице, и за Смольным институтом, в котором во время Октябрьской революции располагался штаб большевиков. Как и британское посольство, оно арендовало здание у русского аристократа, графа Михаила Николаевича Граббе; это строение имело такие же недостатки. Как вспоминал специальный атташе посольства США Джеймс Хоктелинг, это было «убогое двухэтажное строение без благородного фасада, втиснутое между многоэтажным жилым зданием, с одной стороны, и каким-то скромным жилищем, с другой»{28}. Внутри здание нуждалось в новой отделке; кроме того, оно было настолько плохо меблировано, что Дэвид Фрэнсис полагал, что оно походит «на пакгауз»{29}. Вскоре он начал искать более удобное помещение для посольства, но, как и у Бьюкенена, его усилия подобрать что-либо подходящее не имели успеха в связи с обстановкой военного времени.
Офис Дэвида Фрэнсиса, с балкона которого он мог наблюдать за улицей внизу, был расположен на втором этаже рядом со спальней и гостиной. Все помещения были очень тесными. Штаты посольства были укомплектованы не полностью, везде царил беспорядок. Гораздо хуже, по мнению Дэвида Фрэнсиса, было то, что кофе также был «не очень хорошего качества»{30}. Он любил принимать гостей и устраивать обеды с соотечественниками, поскольку скучал по своей большой семье, оставшейся в Сент-Луисе. Он часто приглашал американских предпринимателей (прежде всего руководителей филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка, недавно созданного в Петрограде) присоединиться к нему за обеденным столом. Кроме того, он подружился с американской светской львицей Джулией Грант, внучкой президента США Улисса Гранта, которая, выйдя замуж за русского аристократа, стала именоваться княгиней Кантакузиной-Сперанской (хотя ее приятели в американской общине несколько бестактно звали ее «княгиней Майк») и у которой был номер в гостинице «Европейская»[14]. Княгиня устраивала Дэвиду Фрэнсису пышные приемы, как и другие богатые аристократы, либо в своих городских особняках в Петрограде, либо в частных номерах своих любимых отелей.
С самого начала у Фила Джордана было сильно развито чувство ответственности за «губернатора», поскольку, как правило, очень многие привыкли обращаться к Дэвиду Фрэнсису со времени исполнения им должности в штате Миссури. Фил Джордан выступал в качестве телохранителя посла всякий раз, когда Франциск отваживался появляться на улицах Петрограда, и они совместными усилиями пытались ужиться с различными аспектами жизни русских – в частности, с русской кухней. Как сообщал Фрэнсис своему сыну Перри, «мы с Филом все еще стараемся найти общий язык с русской поварихой; Фил с огромным трудом объясняет ей, как следует готовить по-американски, так как она не понимает ни слова по-английски, а он не говорит по-русски»{31}. Помощь им вскоре подоспела в виде одной из знакомых Дэвида Фрэнсиса по путешествию на пароходе в Россию: мадам Матильды де Крам, русской, вернувшейся в Петроград и жившей неподалеку. Она стала постоянным гостем в посольстве, вызвавшись научить Дэвида Фрэнсиса французскому, а Джордана – русскому. Дружеские отношения Дэвида Фрэнсиса с мадам де Крам, которые предполагали, в частности, сопровождение ее на бегах в выходной день посла, изрядно напугали сотрудников посольства и контрразведки союзников, которые числили ее немецкой шпионкой, имевшей цель соблазнить нового недалекого и доверчивого посла{32} [15].
Как бы то ни было, благодаря мадам де Крам смышленый Джордан вскоре уже был способен до такой степени объясняться на русском, что самостоятельно ходил по магазинам, утверждая: «Я хорошо справляюсь с этим, так как выучил язык». Вскоре он подобрал для посольства кухонные принадлежности и мебель, в том числе приличного размера столовой стол, за которым могли поместиться двадцать человек{33}. Освоившись, Дэвид Фрэнсис мог уже обходиться без русской поварихи, и Джордан готовил ему завтраки, пока они не наняли «негритянского повара, очень черного негра из Западной Индии, которого звали Грин». Когда тот появился, Джордан был сильно удивлен тем, насколько «мало в Петрограде негров» и насколько «они не похожи на наших негров»{34}. Дэвид Фрэнсис также отмечал в переписке со своей женой, что Фил, у которого была «относительно светлая кожа», настолько «светлая, чтобы сойти за белого», не выходил на улицу с поваром из Тринидада, потому что тот был «слишком черным»{35}. Джордан и Грин, похоже, проводили бо́льшую часть своего времени, «пускаясь во все тяжкие, чтобы добыть еду», и так или иначе чудом обеспечивали блюда для посольского стола, несмотря на крайнюю нехватку продуктов, для чего Джордану, с его примитивным русским, приходилось «бесстрашно шататься по улицам и торговаться на рынках, смешиваясь с разношерстной многоязычной толпой»{36} [16]. Дэвид Фрэнсис, очевидно, сильно скучал по своим типично американским предметам роскоши: он месяцами ждал окороков и бекона, которые заказывал из Нью-Йорка, а два ящика шотландского виски, отправленные морским путем из Лондона, прибыли лишь в октябре{37}.
Сообразительный Фил Джордан быстро стал «бесценным» в решении всех вопросов, касавшихся повседневной жизни посольства{38}. Как отметил в своем дневнике сотрудник посольства Фред Диринг, «в данном случае становилось понятно, что Фил что-то из себя представлял. Никто не мог быть столь ненавязчивым и одновременно столь полезным»{39}. Он, например, активно помогал Дэвиду Фрэнсису отмечать 4 июля День независимости, когда тот отважился устроить прием на сотню с лишним гостей. «Я заказал первоклассный оркестр с девятью музыкантами, – писал Фрэнсис своей жене Джейн, – а благодаря Филу у нас был вкусный пунш к чаю, который наливался из недавно приобретенного нами самовара. У нас были бутерброды с икрой, томатные сэндвичи и (как оказалось, неизвестное для русских) вкусное мороженое»{40}. Представители американской колонии в Петрограде горячо одобрили такое мероприятие и его кулинарные изыски, но для нового посла было важно стать известным среди русских снобов и в дипломатическом корпусе совсем другим образом.
Фрэнсис признался Джейн в июле: «У меня относительно мало русских знакомых в своей среде»{41}. Он избегал светских «чайных приемов» и коктейлей в британском посольстве и тусовок дипломатического корпуса, предпочитая хороший покер. Те, кем он пренебрегал, в свою очередь, пренебрежительно относились к его дипломатическим обедам. Сэр Джордж Бьюкенен, со всем снобизмом и расовой предубежденностью своего поколения и своего класса, страшился приглашений от Дэвида Фрэнсиса. Получив очередное из американского посольства, он сетовал: «Ох, мы будем вынуждены опять пробовать плохой ужин…приготовленный негром»{42}. И в большинстве таких случаев не было никакого оркестра, там был лишь преданный Фил, который, как мастер на все руки, заводил граммофон за сценой – в паузах между обслуживанием гостей{43}.
По правде говоря, ни Дэвид Фрэнсис, ни Бьюкенен не испытывали особенного удовольствия от общения с петроградским обществом. Что касается их выдающегося французского коллеги, Мориса Палеолога, слывшего самым изысканным светским львом в дипломатическом корпусе, то это именно он (как считается) «проводил лучшие вечеринки для самых умных и самых легкомысленных особ»{44}. Действительно, обходительный, полный свежих сплетен и всегда готовый ими поделиться, Морис Палеолог, казалось, больше времени просто вращался в обществе, чем занимался собственно дипломатической работой. Он регулярно ходил на балет и оперу, которые во время войны пользовались большой популярностью. Когда он не бывал там, он «постоянно отирался в великокняжеских гостиных, сплетничая с княгинями», либо ужинал вне дома с петроградским бомондом{45}.
На жизни представителей дипломатического корпуса, таких как Палеолог, а также на жизни других иностранцев война пока еще практически никак не отразилась. По-прежнему большим спросом в городе пользовались билеты на вечерние представления балета на сцене Мариинского театра. Все петроградское общество (как русские, так и иностранцы) ходило смотреть (и показать себя) на представления этого театра в среду вечером и в воскресенье днем, и все одевались по этому случаю соответствующим образом. Большинство билетов распродавалось заранее по закрытой подписке; те немногие, что были в открытой продаже, обходились в 100 рублей. В то время как одни стояли в очередях за едой, другие толпами выстраивались в очередь за билетами на балет. Посол Дэвид Фрэнсис оценил осенний сезон Мариинского театра как «лучший в мире». Вместе с большинством других дипломатов он, «как зачарованный», смотрел трехчасовой балет «Дон Кихот», где в главной роли выступала прима-балерина Тамара Карсавина{46}. В периоде своего расцвета были и два других крупных петроградских театра: Александринский (классический) театр и Михайловский, в котором представляла французская труппа и который тяготел к французской культуре; русская интеллигенция ходила сюда практиковать свой французский язык.
Петроград, при всех своих лишениях военного времени и растущей социальной напряженности, все еще обеспечивал «превосходный беспутный образ жизни» для закоренелых сибаритов, которые привыкли жить эмоциями и потакать своим слабостям{47}. Император Николай II в 1914 году ввел запрет на продажу водки, чтобы обуздать ставшее легендарным пьянство среди русского крестьянства, которое составляло основу призывной армии; но, имея достаточно денег, в отдельных номерах лучших ресторанов и гостиниц города всегда можно было достать изысканные вина, шампанское, виски и другие крепкие спиртные напитки{48} [17]. В прежние годы гостиницы “Hotel de France” и «Англетер» были весьма популярны среди представителей французской и английской диаспор, но во время войны самой известной стала гостиница «Астория». Она была построена в 1912 году на восточной стороне Исаакиевской площади на пересечении улиц Большой Морской и Вознесенской, чтобы обеспечить поток туристов, приезжавших в Санкт-Петербург в 1913 году на трехсотлетие дома Романовых. Названа «Асторией» гостиница была шведским архитектором, Фредриком Лидвалем, в честь известных нью-йоркских отельеров братьев Астор.
Гостиница пользовалась такой популярностью среди британских посетителей, что создала специальное бюро для изучения их потребностей, а предметами ее гордости являлись «гигантская карта Лондонского метрополитена и большая библиотека английских книг от Джефри Чосера до Дейвида Герберта Лоренса»{49}. В гостинице было «десять лифтов, электрическая система звонков для вызова слуг, городские телефонные линии, автоматизированная система уборки пылесосом, паровое центральное отопление, а также 350 номеров с пробковой звукоизоляцией». Кроме того, в «Астории» был громадный ресторан, способный обслужить до двухсот человек, зимний сад и банкетный зал, выполненный в стиле “Art Nouveau”{50}. Ее французский ресторан стал местом радушного приема измученных войной русских офицеров, возвращавшихся домой с фронта, атташе союзников, сотрудников различных посольств и эмигрантов (а также местом притяжения не бросавшихся в глаза проституток высокого класса). Хотя ее конкурент гостиница «Европейская», которая также предлагала посетителям сад на крыше и роскошный ресторан со стеклянным куполом, весьма нравилась Дэвиду Фрэнсису, большинство вновь прибывших в город иностранцев предпочитали направляться в «Асторию». Военные настолько зачастили в «Асторию», что к концу 1916 года гостиница утратила значительную часть своего довоенного очарования и директор ресторана итальянец Йосеф Векки с горечью констатировал, что она стала напоминать «своего рода шикарную казарму»{51}.
Йосеф Векки сожалел о том, что из-за острой нехватки продуктов он уже не мог устраивать такие грандиозные обеды, которые он закатывал всего год назад. К концу 1916 года поставки продовольствия в Петроград сократились примерно на треть от необходимого. Острая нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве сказывалась на уровне сельскохозяйственного производства, поскольку многие крестьяне были призваны на военную службу; но зачастую недостаток продовольствия вызывался спекуляцией и перебоями в работе национальной железнодорожной системы. На складах и в центрах снабжения в южных районах, обеспечивавших страну продуктами питания, мука и другая продовольственная продукция портилась и пропадала из-за отсутствия подвижного состава, необходимого, чтобы доставить ее по железной дороге в голодавшие города на севере Российской империи. Иностранцы являлись свидетелями того, что в провинции еще было много продуктов, и находившиеся в трудном положении домохозяйки часто были вынуждены совершать сюда из города изнурительные поездки, закупая у местного крестьянства сливочное масло, яйца, мясо и рыбу. В Петрограде ходили слухи о том, что спекулянты уже сделали огромные запасы муки, мяса и сахара, чтобы спровоцировать дальнейший рост цен. Даже обеспеченные классы больше не могли позволить себе белого хлеба, но они, конечно же, все еще были в состоянии достать приличные продукты, если хотели организовать какой-либо прием.
Служащий Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка Лейтон Роджерс с удивлением отметил, когда его этой зимой пригласили к одному из русских знакомых «на небольшой семейный ужин»: «Огромный стол в гостиной выглядел так, словно распахнулся продовольственный склад: там были маринованная рыба, сардины, анчоусы, мойва, сельдь, копченый угорь, копченый лосось, вазы с икрой, целые окорока, язык, колбасы, курица, паштет из фуа-гра, красный сыр, желтый сыр, белый сыр, голубой сыр, бесчисленные салаты, корзины сельдерея, соленые огурцы и оливки, соусы – розовый, желтый, цвета лаванды. Все это и многое другое было выложено в три больших ряда с каскадом фруктов в центре и рядами графинов с водкой и тминным ликером «Кюммель» по бокам»{52}.
Как оказалось, это вакхическое пиршество являлось только закуской, предшествовавшей полноценному обеду с лососем и жарким из оленины и фазанов, за которым следовали мороженое и новые фрукты и сыры, подававшиеся с винами (от бордосского до бургундского) и шампанским. В конце ужина в качестве особого подарка русский хозяин, принимавший Лейтона Роджерса, презентовал своим американским гостям «два пакета жевательной резинки «Бименс пепсин»{53}.
За дверями этого и других уютных частных особняков, как писал Негли Фарсон, который продолжал вести в клубах и ресторанах города жизнь завзятого сибарита, «Россия лежала, как поверженный Марс, умирая от голодной смерти»{54}. Но даже ему вскоре надоело проводить ночи напролет в загулах со своими приятелями-иностранцами и ближайшими друзьями, наслаждаясь шампанским и раками в компании проституток в отдельных кабинетах загородного ресторана «Вилла Родэ» рядом со Строгановским мостом, в котором любил бывать Григорий Распутин, скандальный духовный гуру и советчик царя и царицы. Все модные рестораны испытывали проблемы, в том числе ресторан «Контантс», любимое место нидерландского посла Виллема Аудендейка (впоследствии Уильяма Аудендайка), и ресторан «Кафе Донон», в котором любил бывать сотрудник американского посольства Батлер Дж. Райт. Прежняя активность в Новом Английском клубе также «сошла на нет»: как вспоминал Негли Фарсон, к концу 1916 года «его ужины с говяжьим стейком навсегда исчезли»{55}.
Большинство основных продуктов питания, таких как молоко и картофель, с начала войны выросло в цене в четыре раза; другие немаловажные продукты, такие как хлеб, сыр, сливочное масло, мясо и рыба, стали в пять раз дороже. Элла Вудхаус, дочь британского консула, вспоминала: «Нам приходилось держать прислугу, чья единственная работа заключалась в том, чтобы стоять в очередях за молоком, хлебом или за тем, что там еще должно было быть»{56}. С наступлением зимы очереди стали только длиннее и рассерженнее, в них «все чаще обсуждались недееспособность правительства и коррупция в верхах». Потери в результате неэффективного управления при организации поставок продовольствия и топлива (достать можно было только дерево, но не уголь) были громадны, коррупция среди российских чиновников была обычным делом. Петроград походил на город в осаде: о развлечениях все позабыли. «Атмосфера «Римских каникул» в гостинице «Астория» исчезла. На ее место пришло чувство страха»{57}. Совершая свои ежедневные прогулки по набережной, сэр Джордж Бьюкенен ужасался длинными очередями за продовольствием. «Когда придет суровая зима, эти очереди станут горючим материалом», – писал он в ноябре 1916 года. В американском посольстве у Фреда Диринга было такое же ощущение; он писал в своем дневнике: «В воздухе сгущается предчувствие катастрофы»{58}.
У промышленных магнатов – владельцев текстильных фабрик, медеплавильных заводов, военных предприятий – прибыль продолжала расти, в то время как у рабочих призрак голода становился все более зримым. «К этому времени в столице царила глубокая подавленность, – вспоминал Виллем Аудендейк. – Было ясно, что война легла на экономическую жизнь страны слишком тяжелым бременем… Извозчики практически исчезли, и на улицах грохотали переполненные трамваи». У грязных улиц был убогий вид, в магазинах купить было нечего. Русские, с которыми он разговаривал, возлагали всю вину за это на прогнившую бюрократическую систему: «Разговаривали в основном шепотом, как будто боялись быть услышанными, хотя рядом никого не было; высказывали убеждение в том, что так не должно было быть, что приближается буря, хотя, похоже, никто точно не знал, откуда она придет или к чему она может привести»{59}.
«Все, от великих князей до извозчиков, решительно выступали против режима», – отмечал Денис Гарстин из британского отдела по пропаганде в Петрограде{60}. Везде, и в роскошных особняках, и в дрожащих от холода очередях за хлебом, была, как правило, одна любимая тема для разговора: отношения императрицы с Григорием Распутиным. Несмотря на все возражения близких, Николай и Александра упорно не желали отдалять его от себя и совершали одну ошибку за другой, назначая все более реакционных министров. Учитывая тот факт, что Николай находился в Ставке, Александра оставалась одна, чужая для российского двора и большинства своих родственников, она все более полагалась на их «друга». В своей глухой изоляции она всерьез воспринимала лишь советы Распутина. Николая неоднократно предупреждали о росте угрозы для престола; его дядя, великий князь Николай Николаевич, просил его повлиять на жену, чтобы та прекратила наносить ущерб репутации монархии, вмешиваясь в дела правительства. «Вы стоите на пороге новых неприятностей», – предостерегал он. Сэр Джордж Бьюкенен был того же мнения: «Если император продолжит защищать своих нынешних реакционных советников, боюсь, революция будет неизбежна»{61}.
В этой атмосфере «напряженной неопределенности» все открыто говорили о том, что необходимо совершить дворцовый переворот, а императрицу, от греха подальше, запереть в женском монастыре{62}. Бесконечные инсинуации и сплетни о «темных силах», которые олицетворяла она с Распутиным, служили единственной темой для разговоров в элитных клубах, где «великие князья играли в «квинз»[18] и говорили о «спасении» России»{63}. Убийство Распутина казалось единственным решением всех проблем, той панацеей, которая позволила бы предотвратить кризис и спасти монархию от катастрофы.
В ночь с 16 на 17 декабря 1916 года Распутин исчез. В тот вечер французский посол Морис Палеолог наслаждался в Мариинском театре бенефисом Смирновой в «Спящей красавице». Он вспоминал, что ее «прыжки, пируэты и «арабески» не смогли превзойти по своей фантастичности те истории, что передавались из уст в уста» о заговорах с целью отстранения императрицы и ее «друга» от власти. «Посол, мы вернулись во времена Борджиа», – доверительно сообщил ему итальянский дипломат{64}. Когда через несколько дней тело Распутина выловили из реки, императрица Александра была сурова, отправив импульсивных молодых убийц Распутина – князя Феликса Юсупова – в свое имение, и великого князя Дмитрия Павловича – под домашний арест (в то время как русское общество праздновало их «героический» поступок).
К концу года на российскую столицу опустилась атмосфера обреченности. «Все осознавали приближение катастрофы, у всех это было на устах», – вспоминал Роберт Брюс Локхарт{65}. Чувство обреченности усугублялось затемнением улиц в ночное время «из-за опасений перед дирижаблями»; темнота нарушалась лишь прожекторами, которые рассекали небо в их поисках. Россия не могла более выдерживать напор германских войск на Восточном фронте. С 1914 года было мобилизовано четырнадцать миллионов человек, потери к этому времени составляли более семи миллионов убитыми, ранеными или захваченными в плен. Тем не менее массовый призыв в армию продолжался. Везде в столице (на Марсовом поле, на Дворцовой площади, на набережных Невы) можно было постоянно видеть бесконечные колонны шагавших солдат или полевой артиллерии. Обычные россияне взирали на это со все возраставшим безразличием; «их занимала суровая, все более озлоблявшая их проблема: как добыть еды»{66}.
Для Лейтона Роджерса погода в зимнем Петрограде была «настоящим всемирным шлаком»; прибыв в российскую столицу в октябре, он почти не видел солнца, а если оно и показывалось, то где-то к трем часам дня. «Такое впечатление, что мы находимся далеко на вершине мира, за завесой белых туманов, которые пожирают его великолепие»{67}. Когда наступил сезон снежных метелей и сильных холодов, все стали задаваться вопросом, как долго продлится нынешняя взрывоопасная ситуация, сколько еще осталось времени, до того как «очереди из дрожащих от холода женщин, с онемевшими от стужи ногами, сжимавших оцепеневшими пальцами шали на головах», выплеснут свой гнев и начнут громить продовольственные магазины{68}. Эти очереди были повсюду, куда ни посмотри: «в них переминались с ноги на ногу, пихались, толкали друг друга; нетерпеливо, дрожащими руками тянулись за миской супа, жалобно просили добавки, выпрашивали бутылку молока для умиравшего дома ребенка, рассказывали длинные, беспорядочные, жалостливые истории о нужде, страданиях, холоде»{69}.
Оставаясь глухим к жалобам на улицах, полусвет по мере приближения Рождества пустился во все тяжкие, словно из последних сил предаваясь удовольствиям в театрах, кабаре и ночных клубах города: «Через вращающиеся двери гостиницы «Астория» текла нескончаемая вереница женщин в мехах и драгоценностях и мужчин в сверкающих мундирах. По мостам взад-вперед разъезжали лимузины, «тройки» создавали мелодию улиц, состоявшую из звуков бубенцов и скрипа стальных полозьев по снегу… Как и раньше, улицы были запружены толпами народа и трамваями, рестораны процветали. И везде все беспрестанно говорили, как говорят только в России, на земле нескончаемых разговоров»{70}.
На другом берегу Невы убогие, казарменного типа блочные многоквартирные дома в промышленной зоне Выборгской стороны 17 октября стали свидетелями крупной забастовки 20 тысяч рабочих металлургических и военных заводов. Измученные войной, болезнями, антисанитарными условиями жизни, низким уровнем заработной платы и голодом, они более решительно, чем когда-либо ранее, требовали улучшить оплату своего труда и условия работы. «Любого необычного звука, даже неожиданного заводского гудка, было достаточно, чтобы вывести их на улицы. Напряжение становилось мучительным. Все, осознанно или же бессознательно, ждали, что что-то должно произойти». В рабочих кварталах революционные настроения распространялись, «как огонь по стерне», а революционные агитаторы еще больше раздували пламя недовольства{71}. После второй крупной забастовки, организованной 26 октября, были уволены тысячи рабочих. К 29 октября сорок восемь заводов прекратили работу, забастовку объявили 57 тысяч рабочих. Ожесточенные столкновения с полицией продолжались до тех пор, пока уволенные рабочие не были восстановлены на работе{72}.
Для многих в дипломатическом корпусе крах России казался неизбежным, и британским подданным уже было рекомендовано возвращаться на родину. Однако, хотя сэр Джордж Бьюкенен решительно предсказывал революцию, Дэвид Фрэнсис придерживался того мнения, что она не произойдет «до окончания войны», или же что, скорее всего, она случится «сразу же после окончания военных действий»{73}. Он и его сотрудники праздновали Рождество в американском стиле (согласно российскому календарю, это было 12 декабря): с «индейкой и рождественским пудингом»{74}. Сэр Джордж Бьюкенен тем временем предпочел заняться более серьезными делами. Решив предпринять еще одну, последнюю попытку предостеречь царя об опасности неизбежной революции, он отправился в Александровский дворец, находившийся в пятнадцати милях к югу от столицы в Царском Селе. «Если император примет меня сидя, – сказал он перед уходом Роберту Брюсу Локхарту, – то все будет хорошо»{75}. Когда Бьюкенен появился во дворце 30 декабря, царь принял его стоя. Тем не менее Бьюкенен сделал все от него зависящее, чтобы попытаться убедить его в серьезности ситуации в столице, и призвал его, пока еще не поздно, приложить максимум усилий для восстановления доверия к трону путем социальных и политических уступок. «От него зависело, обеспечит ли Россия себе победу и постоянный мир, либо она скатится к революции и катастрофе», – напишет сэр Джордж Бьюкенен позже. Однако Николай не внял его доводам и заявил, что его опасения преувеличены{76}. Полчаса спустя мрачный Бьюкенен ушел. Он высказал свое мнение и теперь мог «выбросить все это из головы»{77}. Но, как он и ожидал, он пытался давать свои советы тому, кто не желал ничего слышать. Николай не так давно еще больше настроил против себя общественное мнение, назначив министром внутренних дел Александра Протопопова, человека, отличавшегося крайне реакционными взглядами, стремившегося любой ценой сохранить самодержавие и известного дружескими отношениями с Распутиным – этот шаг побудил других министров в знак протеста коллективно уйти в отставку.
С учетом наступающего Нового, 1917 года Филу Джордану в посольстве США удалось каким-то образом добыть для праздника контрабандного российского шампанского. Закатали ковры и до самого утра устраивали танцы{78}. Французский посол Палеолог провожал старый год на вечеринке в доме князя Гавриила Константиновича, где все обсуждали различные заговоры против трона, и «все это в присутствии слуг и гулящих женщин, слышавших все эти разговоры, в присутствии певших цыган; стоял устойчивый аромат шампанского «Moët & Chandon брют империал», которое лилось для всей компании рекой»{79}.
В гостинице «Астория» оркестр за ужином играл «Долог путь до Типперери»[19], в это же время английская медсестра, став свидетелем страданий польских беженцев на пункте бесплатного питания британской колонии, раздумывала о том, как бы покинуть российскую столицу: «Мы в гостинице «Астория», и между нами и непогодой на улице – лишь хрупкое стекло; лишь хрупкое стекло – между нами и польскими крестьянами; лишь хрупкое стекло отделяет нас от бедности и держит нас в ужасной атмосфере этого места, с его порочными женщинами и его визгливым оркестром!»{80}
Если уж даже царская тайная полиция предсказывала «самые ужасные последствия голодного бунта», становилось ясно, что это хрупкое стекло будет неминуемо разбито вдребезги{81}.
Часть I Февральская революция
Глава 1 «Женщины в очередях за хлебом начинают бунт»
В ноябре 1916 года Арно Дош-Флеро[20], маститый журналист, работавший в известной американской газете «Нью-Йорк уорлд», прибыл в Петроград сразу же после выполнения тяжелого редакционного задания по освещению битвы при Вердене. Выходец из влиятельной семьи в Портленде, окончив юрфак Гарвардского университета, он решил обратиться к журналистике и освещал ход военных действий с августа 1914 года, когда его редактор в Нью-Йорке неожиданно предложил ему «счастливый билет»: «Как ты смотришь на то, чтобы поехать в Россию?»{82} Однако попасть туда через охваченную войной Европу было непросто; Флеро пришлось пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Англии, а потом сесть на судно, направлявшееся из Ньюкасла в Берген. Затем последовало длительное железнодорожное путешествие по Норвегии и Швеции на север Финляндии, где на контрольно-пропускном пункте в городе Торнио ему пришлось до хрипоты спорить с таможенниками о том, чтобы «[его] печатную машинку пропустили беспошлинно». Когда он сел на поезд[21], чтобы доехать до Финляндского вокзала Петрограда, таможенник попытался охладить его пыл: «Я знаю, как ваши газеты любят сенсации, но, боюсь, вы не найдете ничего такого в России». Флеро ожидал, что его командировка продлится около трех месяцев; в конечном итоге он пробудет в России более двух лет{83}.
Несмотря на то что он заблаговременно телеграфировал и забронировал себе номер в гостинице “Hotel de France”, по прибытии он обнаружил, что та была вся заселена. Ему предложили заночевать на бильярдном столе. Как он вспоминал, это оказалось достаточно трудно «и более способствовало различным размышлениям, нежели сну»{84}. С одной стороны, он был взволнован тем, что после двух лет на Западном фронте оказался в России, с другой стороны, он совершенно ничего не знал о ней и был полон классических предубеждений:
«Я спрашивал сам себя, какие же у меня представления о России, и обнаружил, что я воспринимаю ее как весьма мрачную страну (под впечатлением романа Достоевского «Преступление и наказание»), весьма трагичную страну (в результате прочтения романа Толстого «Воскресение»), внушающую ужас (после прочтения книги Джорджа Кеннана «Сибирь и ссылка»[22]). Я впервые за последние годы вспомнил, как няня-финка часто рассказывала нам, детям, о жестоких русских царях, которым подавали на стол отравленные яблоки, о боярах, бросавших своих крепостных на съедение волкам… У меня в голове была беспорядочная куча сведений о нигилистах с бомбами, продажных чиновниках, «Кровавом воскресенье», жестоких казаках»{85}.
Признавая, что он и его коллеги-американцы «очень мало» знали о ситуации в России и плохо понимали ее, Флеро вскоре получил короткий инструктаж о том, чего следует ожидать в России, от Людовика Нодо, корреспондента французского издания «Тан», чьи донесения с русского фронта ранее произвели на него очень сильное впечатление. Нодо привел Флеро в элитный ресторан «Контантс», где он заказал копченого лосося и икры и предупредил своего коллегу, что «Россия отправляет в нокдаун всех журналистов без исключения»: «Тебя словно околдовывают. Ты понимаешь, что находишься в другом мире, и осознаешь, что недостаточно только понять происходящее: надо еще суметь изложить это на бумаге… Ты не узна́ешь Россию достаточно хорошо, чтобы объяснить что-либо, пока не пробудешь здесь так долго, что станешь наполовину русским – но даже и тогда ты не сможешь никому ничего рассказать так, как следовало бы… У тебя возникнет соблазн сравнивать Россию с другими странами – не делай этого»{86}.
Арно Дош-Флеро и Людовик Нодо были отнюдь не единственными иностранными журналистами, оказавшимися в Петрограде накануне революции. Статьи корреспондента информационного агентства «Рейтер» Ги Берингера, а также журналистов Вальтера Уиффена и Роджера Льюиса из информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс» публиковались на Западе сразу в нескольких изданиях. В Петрограде сложился кружок других (в основном британских) журналистов, в который входили, в частности, Гамильтон Файф (писал для издания «Дейли мейл»), Гарольд Уильямс (новозеландец, писавший для издания «Дейли кроникл»[23]), Артур Рэнсом (писавший для газет «Дейли ньюс» и «Обзервер»), Роберт Уилтон (из издания «Таймс») – все они достаточно регулярно публиковали свои материалы, правда, как правило, без подписи[24]. К Флеро вскоре присоединились его коллеги-американцы Флоренс Харпер, первая американская журналистка в Петрограде, и ее друг, фотограф Дональд Томпсон, – они оба работали для иллюстрированного журнала «Лесли’з уикли».
«Непотопляемый» Дональд Томпсон, родом из города Топика, штат Канзас, был щуплым, но решительным человеком ростом 160 сантиметров. Он был знаменит своими особыми галифе, кепкой, «кольтом» на поясе и камерой, которую носил с собой повсюду. Он восемь раз пытался попасть на Западный фронт в качестве военного фотокорреспондента – и каждый раз военная администрация возвращала его назад, конфискуя его пленки или камеры. В конце концов Дональд Томпсон все же попал на фронт и снимал боевые действия под Монсом, Верденом и на Сомме, а также на многих других направлениях – и нелегально отправлял свои пленки в Лондон или Нью-Йорк. Он приехал в Россию в декабре 1916 года вместе с Харпер (хотя его предупредили, что «их здесь ожидают большие неприятности»), имея дополнительное задание отснять материал для кинокомпании «Парамаунт»{87}.
Как и многие американцы, оказавшиеся в России впервые, Дональд Томпсон, Флоренс Харпер и Арно Дош-Флеро, а также другие, последовавшие за ними, «приезжали в Петроград с торжествующим видом, преисполненные всепобеждающим, всезнающим американским оптимизмом». Но «постепенно погода, русская хандра и серьезность происходившего подрывали их дух»{88}. Чтобы добраться до Петрограда, Харпер и Томпсон выбрали альтернативный маршрут в Россию: на судне через Тихий океан в Японию, а оттуда в Маньчжурию, откуда они добирались уже Транссибирской железной дорогой. С ними были громоздкие камеры и тренога Томпсона и весьма объемный (и в основном неподходящий) гардероб Харпер. Томпсон весело отмечал, что «Флоренс Харпер, с учетом размеров ее багажа, пришлось дополнительно купить шесть железнодорожных билетов»{89}. Прибыв в Петроград 13 февраля 1917 года в час ночи, они направились в гостиницу «Астория», служившую маяком для всех иностранцев, только чтобы услышать, что мест нет. После долгих уговоров Харпер предоставили «такой крошечный закуток, что там не помещалась даже ее ручная кладь»{90}. Томпсон же был вынужден провести свою первую ночь, скитаясь в пургу по промерзшим улицам, пока он не нашел дешевую третьеразрядную гостиницу.
Найти жилье в столице было теперь чрезвычайно сложно. Специальный атташе посольства США Джеймс Хоктелинг отмечал, что «все гостиницы переполнены, и какой-либо дом или квартира, появляющиеся на рынке, сдаются в аренду в течение двадцати четырех часов. Гости вынуждены спать в банкетных залах и в коридорах гостиниц, невозможно принять ванну до девяти часов утра или после девяти часов вечера, потому что какие-то несчастные ночуют во всех ванных комнатах». Приехав в столицу в январе 1917 года, он отметил, что в гостинице, в которой он поселился, стоял запах, «словно в третьеразрядной мебелирашке в Чикаго»{91}.
Острая нехватка жилья в столице была вызвана в основном тем, что Германия в середине января пригрозила, что ее подводные лодки будут торпедировать даже суда нейтральных государств. В результате основные пассажирские и грузовые морские терминалы переместились из Норвегии и Швеции в Россию, и многие иностранные граждане и путешественники невольно оказались в Петрограде. «Сотни людей дожидаются, чтобы вырваться отсюда, а еще сотни ждут в Швеции и Норвегии», – писала шотландская санитарка Этель Мойр{92}. Приехав в январе 1917 года с румынского фронта в Петроград вместе со своей коллегой, медсестрой Лилиас Грант, она обнаружила, что их выгрузили с поезда «прямо в большой сугроб». С вещмешками за спиной они с трудом нашли дрожки и затем смогли лишь на одну ночь приютиться в гостинице, подремав на голом полу{93}. Проведя следующий день в бесплодных поисках, они обратились к преподобному Босфилду Свану Ломбарду в англиканской церкви, которому удалось обеспечить им комнаты в Британском доме для престарелых. Для них было истинным удовольствием после сурового быта полевых госпиталей провести вечер с преподобным Ломбардом, наслаждаясь «настоящим английским камином, удобными креслами, горячими тостами с маслом». Это были «такие же восхитительные предметы роскоши», как и возможность вновь поспать «на настоящих кроватях на настоящих простынях». Однако они беспокоились о том, как им попасть домой. «Проще попасть в Россию, чем выбраться из нее! – писала Этель Мойр. – А судя по тому, что мы здесь слышим, через некоторое время это станет сделать еще сложнее: везде ходят слухи о революции, об этом говорят все»{94}.
В ожидании возможности покинуть российскую столицу и вернуться в Великобританию Этель Мойр и Лилиас Грант посетили леди Джорджину Бьюкенен и ее дочь Мэриэл и узнали о неустанной благотворительной работе, проводимой в Петрограде представителями британской колонии, в частности в отношении тысяч беженцев, укрывающихся здесь от ужасов войны. Они прибывали на Варшавский вокзал, проведя несколько дней в жуткой тесноте в грузовых вагонах, а затем направлялись в грязные временные деревянные бараки неподалеку. Эти строения с тремя или четырьмя рядами коек были чуть больше сараев, в каждом размещалось от двухсот до трехсот человек. Другие беженцы ютились на самой станции, которая представляла собой насквозь продуваемый открытый ангар, спали на холодных каменных полах или забирались в пустые грузовики и товарные вагоны. Некоторые теснились в сырых подвалах без окон. Болезни были обычным делом, особенно часто случались вспышки заболеваний корью и скарлатиной. Везде, где ни посмотри, «весь день вповалку лежали беженцы с потухшими глазами, оцепеневшие в душном зловонии»{95}.
Вид такого количества несчастных детей в нищенской одежде и зачастую без обуви, чьи тела и волосы кишели вшами, вызвал у англичан приступ благотворительной активности. Дважды в день к специально организованному раздаточному пункту выстраивались очереди беженцев, дрожавших в своих лохмотьях в ожидании медного жетона, подтверждавшего их право на кусок черного хлеба и миску овсянки. Эти порции «выдавались им суматошными дамами британской колонии», во главе которых – как всегда – была доблестная леди Бьюкенен{96}. Пожертвования в виде одежды и обуви для беженцев сортировались в британском посольстве другими группами добровольцев из числа дам, которых она привлекала к этой деятельности также в принудительном порядке. Как вспоминала ее дочь Мэриэл, комната, используемая для этой цели, «поразительно напоминала барахолку»{97}. Недовольная своей работой в посольстве и на раздаточном пункте для беженцев, леди Бьюкенен стала также курировать роддом для польских беженцев в Петрограде, который был открыт медсанчастью Миллисент Фосетт в России – при существенной помощи со стороны Комитета по делам беженцев великой княжны Татьяны (Комитет был так назван в честь второй дочери российского императора Николая, которая являлась его почетным председателем).
Назначив сама себя гранд-дамой по организации деятельности британской колонии в военное время, леди Бьюкенен была несколько обескуражена, когда на ее территорию посягнула соперница в облике хрупкой и болезненной, но склочной и решительной леди Мюриэл Пэджет. Страстная филантропка, девять лет руководившая работой столовых для бедных в нищих районах Лондона, леди Мюриэл принадлежала, как и супруга посла, к верхушке аристократии: она была дочерью графа Уинчилси и супругой баронета{98}. Услышав об ужасных потерях русской армии на Восточном фронте, леди Мюриэл провела и реализовала через группу своих сторонников в Великобритании (в числе которых была и Королева-Мать Александра) идею о создании в России под эгидой Красного Креста Англо-русского госпиталя{99}. Являясь его главным организатором, она возглавила медперсонал госпиталя, состоявший из хирургов, врачей, санитарок, двадцати дипломированных медицинских сестер[25] и десяти сестер милосердия. У нее были также планы создать в России еще три полевых госпиталя. Англо-русский госпиталь в Петрограде финансировался за счет пожертвований британской общественности и располагал койко-местами на 180 раненых (могло поместиться и двести человек, если сдвинуть койки вплотную). Уступив уговорам сэра Джорджа Бьюкенена, свой дворец в стиле необарокко предоставил госпиталю на время войны великий князь Дмитрий Павлович.
Расположенный под номером 41 на Невском проспекте, на углу Аничкова моста напротив дворца вдовствующей императрицы на Фонтанке, дворец представлял собой красивое темно-розовое здание с лепниной, с пилястрами и бордюром кремового цвета, но его пригодность в качестве госпиталя оставляла желать лучшего[26]. Его система канализации была крайне устаревшей, а водопровод отсутствовал{100}. Пришлось в срочном порядке обеспечивать здание ваннами и туалетами, одновременно перестраивая позолоченный концертный зал с высокими потолками и две смежные просторные гостиные в больничные палаты. В других разделенных перегородками помещениях оборудовали операционную, рентгенологическое отделение, лабораторию и стерилизационную комнату. Прекрасные паркетные полы во дворце накрыли линолеумом, а гобелены, стенную драпировку из дамасского шелка и лепнину с изображением херувимов зашили фанерой.
Новый Англо-русский госпиталь, над парадной дверью которого был гордо поднят флаг Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, более крупный и лучше финансируемый, неизбежно затмил руководимый леди Бьюкенен скромный госпиталь британской колонии на Васильевском острове с его сорока двумя койками для солдат и восемью койками для офицеров{101}. Он был официально открыт 18 января 1916 года вдовствующей императрицей и двумя старшими дочерьми императора, Ольгой и Татьяной, в присутствии других великих княгинь и князей, а также семьи Бьюкененов. Леди Бьюкенен позировала для обязательной групповой фотографии в большой шляпе и в мехах, однако при этом не скрывала своего негодования. «Я не имею ничего общего с Англо-русским госпиталем, – жаловалась она впоследствии своей невестке, – поскольку леди Мюриэл Пэджет строго проследила за тем, чтобы я оставалась в стороне»{102}. И это было правдой, так как леди Джорджина была полностью поглощена своей гуманитарной деятельностью, которая распространилась даже на организацию в феврале благотворительного представления “Lady Huntworth’s Experiment” («Испытание леди Хантворт») лондонской труппы миссис Уоллер, совершавшей турне по Европе, – все вырученные средства пошли на приобретение «теплой одежды для российских солдат»{103}.
Той зимой леди Джорджина была вездесуща: она не только работала в посольстве и на раздаточном пункте для беженцев, но также занималась сортировкой больничного имущества на складе Красного Креста и оказывала помощь русским военнопленным, вернувшимся домой. «Я раздала рубашки, носки, табак и проч. почти 3000 человек; кроме того, я передала им всю одежду для их жен и детей. Они так благодарили меня в своих письмах!» – отмечала она в письме домой. Однако к началу 1917 года она жаловалась, что «не может выкроить ни минутки, чтобы присесть, а что касается того, чтобы почитать или позволить себе какую-либо другую подобную роскошь, об этом нельзя даже подумать». Ее госпиталь был переполнен. Ни одна койка не пустовала более суток; «в действительности, каждый день нам названивали по телефону, интересуясь, не можем ли мы принять еще раненых;…у нас уже кончается все необходимое»{104}. Англо-русский госпиталь также энергично осаждали. Едва открывшись, он до отказа заполнился тяжелыми пациентами, у многих из них были ужасные гнойные раны. В основном это стало результатом газовой гангрены, которая была настоящим бичом (по оценке хирурга Джеффри Джефферсона) русских войск на передовой. Запах от гнойных ран был ужасен, многих раненых доставляли до Петрограда с фронта четыре или пять дней. И было слишком холодно, чтобы для проветривания держать окна открытыми более нескольких минут{105}.
Дороти Сеймур, английская сестра милосердия, которую перевели в Англо-русский госпиталь после ее работы в качестве медсестры на Западном фронте, пришла в немалое замешательство, оказавшись в Петрограде. Город «очень неприятно пах, был очень большим и очень непохожим на город военного времени, в отличие от Лондона»{106}. Война, казалось, была где-то очень далеко, наряду с этим она остро почувствовала социальную напряженность. «Здесь интересуются политикой, но чрезвычайно трудно получить представление о ней, поскольку царит страшная неразбериха», – писала она матери. Тем не менее ей и другим сестрам милосердия повезло: «Поскольку мы из Красного Креста, нас очень хорошо кормили»; они даже могли позволить себе роскошь иметь «бутылки с горячей водой ночью и горячую воду утром»{107}. Так как Дороти была дочерью генерала и внучкой адмирала, а также занимала почетную должность при дворе в качестве фрейлины принцессы Кристиан[27], у нее были очень хорошие связи. Супруга посла не произвела на нее никакого впечатления. «Леди Дж. Б. весьма переборчива насчет того, кого она приглашает в свой дом, и у нее очень занудные домочадцы, поэтому никто не обращает на нее особого внимания», – сообщала Дороти матери. По-видимому, чванливая леди Бьюкенен «не включила в свой список сестер милосердия», приглашая гостей к себе на чай, поэтому Дороти Сеймур использовала свои собственные связи в петроградском обществе, посещая балет и оперу, чтобы увидеть Шаляпина в роли Бориса Годунова, и почти каждый вечер ужиная с британскими военно-морскими и военными атташе (и отмечая при этом с удивлением, что в Петрограде военного времени «нет никаких изменений в отношении ужинов»). По ее мнению, ей повезло, так как ее работа в перевязочной Англо-русского госпиталя была «легкой». Русский тяжело давался ей, но и для многих других сестер милосердия (которые скучали по английскому джему “Cross & Blackwell” и были вынуждены делить друг с другом тесные, неудобные квартирки или целыми часами упаковывать бинты в госпитале Зимнего дворца, вместо того чтобы ухаживать за ранеными) Петроград стал серьезным испытанием{108}.
У восемнадцатилетней подруги Дороти Сеймур, сестры милосердия Энид Стокер[28], развлекаться не было возможности. Она была поражена теми страданиями, которые испытывали раненые, – и в равной мере она была восхищена их стоицизмом на краю смерти и их простой крестьянской верой, которая проявлялась в частых молитвах перед иконами, висевшими по углам их палат. Они много пели и играли на балалайке, по-детски благодарили ее, что ее весьма трогало, но некоторые ее истории просто разрывали сердце{109}. Так, она вспоминала одного молодого солдата, Василия из Сибири, у которого были ампутированы обе ноги. Однажды он лежал на своей койке с культями на подушке, «когда в палату зашел старый крестьянин. Он проделал путь неведомо как, в тысячу миль, чтобы встретиться со своим сыном». Однако как только он увидел его, он начал кричать, «слезы потекли у него по щекам». Стокер ужаснуло то, что, по словам переводчика, старик проклинал юношу: «Почему он не умер? Тогда они получили бы за него небольшую пенсию – а сейчас он для них непосильное бремя. Как он теперь сможет работать в поле? Для них это еще один дармоед, которого надо кормить, а они и так уже почти голодают»{110}.
В России к этому времени насчитывалось уже более 20 000 вернувшихся с фронта солдат, потерявших руки или ноги. Дороти Сеймур была довольна своей работой, устраивая для этих калек прогулки в дрожках по заснеженному Петрограду и угощая их чаем{111}. Некоторые из них никогда не покидали своих деревень, пока не были мобилизованы, и после нескольких месяцев, проведенных в госпитале, еще не видели столицы. Для Дороти Сеймур это было все же лучше, чем весь день сидеть и готовить бинты. К большой досаде леди Бьюкенен, Дороти Сеймур (благодаря своему положению при британском дворе и ее родственным связям с тетей императрицы, принцессой Еленой) получила личное приглашение императрицы посетить ее в Царском Селе. Разве она могла отказаться от возможности увидеть женщину, «которая вершила историю и которой предстояло войти в историю»{112}? Эти слова были гораздо более пророческими, чем Дороти Сеймур могла себе представить.
К январю 1917 года петроградская зима измучила всех в госпитале. Помощница леди Пэджет, леди Сибил Грей[29] (еще одна аристократка из семьи, занимавшей в обществе высокое положение; она была дочерью бывшего генерал-губернатора Канады), считала, что русскую зиму трудно переносить{113}. «Здесь солнце не светит, как в Канаде, – написала она в своем дневнике. – Если у таких, как мы, комнаты редко прогреваются выше 50 градусов[30], то как же холодно должно быть у бедняков?» Тем не менее город мог еще по-прежнему производить сильное впечатление: Исаакиевский собор, который был виден из госпиталя, «недавно полностью покрылся снегом и смотрится очень красиво, колонны и все остальное выглядят, словно молочный алебастр, бронзовые статуи на фоне белого, и все это увенчано золотым куполом. Два прекрасных тонких изящных золотых шпиля ловят все проблески солнечного света»{114}. При всех вынужденных лишениях Сибил Грей (как и другие медсестры в Англо-русском госпитале) признавала, что было нечто волнующее и пьянящее там, где она оказалась: «Я бы сейчас ни за что не уехала из России». Она была уверена, что недавнее убийство Распутина являлось прелюдией к чему-то гораздо более драматичному. «Не правда ли, любопытно, что чего-либо крайне важного и значительного можно достичь лишь путем интриг и убийств, – писала она домой, имея в виду убийство Распутина близкими членами царской семьи, князем Феликсом Юсуповым и великим князем Дмитрием Павловичем. – Можете ли вы представить себе, чтобы Теки, Коннахты[31] и др. совершили нечто подобное в Англии?»{115}
В то время как Дороти Сеймур была заинтересована в том, чтобы остаться и наблюдать за дальнейшим развитием событий, в другом районе Петрограда другие британские граждане, такие как медсестры Лилиас Грант и Этель Мойр, отчаянно пытались выбраться домой. Британский консул Артур Вудхаус, чья канцелярия находилась на Театральной площади возле Мариинского театра, с самого начала войны был чрезвычайно занят, помогая британским подданным, оказавшимся в затруднительном положении на просторах России, от Балтики до Урала, вернуться на родину. «Масса людей желала поехать домой, с учетом беженцев с территорий, захваченных немцами, это вскоре превратилось в бурный поток», – вспоминала его дочь Элла. Она отмечала, что многие из них «в начавшемся хаосе потеряли свою работу, как, например, сотни гувернанток, состоявших ранее в услужении у состоятельных семей по всей стране… Проведя нескольких лет за границей, эти несчастные женщины теперь возвращались на свою родину, причем у многих из них не было дома, куда можно было бы вернуться». Это было печальное зрелище; «многие из них приходили все в слезах, поэтому мы называли их классом Б.Б.Б. (беспомощных, безнадежных, бесправных)»{116}.
Дипломатический корпус, в условиях роста объема работы и предсказаний неизбежных социальных потрясений, продолжал свою деятельность. Первый день российского Нового года (в этот день стояла сильная стужа) ознаменовался блистательным приемом восьмидесяти представителей дипломатического корпуса в зале Екатерининского дворца в Царском Селе. В то время как посол США Дэвид Фрэнсис (наряду с другими девятью сотрудниками своего посольства) пренебрег официальной дипломатической атрибутикой: бриджами, обувью с пряжками и шляпой с плюмажем, отдав предпочтение фраку и воротнику-стойке, остальная часть дипломатического сообщества прибыла при полном параде, на «роскошном» поезде специального назначения, который был предоставлен дипломатам{117}. С него они перегрузились в сани с меховой полостью и помчались на них сквозь круживший снег, мимо замерзших деревьев парка, под звон бубенцов. По мнению американского дипломата Нормана Армора, для того чтобы добиться полного сходства с классическим русским сценарием, не хватало лишь «воя волков»{118}. «Перед нами предстала заколдованная страна, полная чудес, – писал французский дипломат Шарль де Шамбрюн. – Изысканно украшенный фасад дворца ждал гостей, подсвеченный тысячью огней в полукружье снежной белизны». Тем не менее он (как и многие его коллеги-дипломаты) задался вопросом: «После всего того, что произошло, и всего того, что говорили, и с учетом всего того, что надвигалось на нас, как мы должны были относиться к хозяину всего этого великолепия?»{119}
«Избавившись от несметного количества верхней одежды», собравшиеся дипломаты дождались, когда двойные двери гостиной в красном цвете с позолотой распахнулись двумя высокими привратниками-эфиопами в чалмах, и их «ввели в самый величественный зал, который я когда-либо видел, с бесконечными золотыми зеркалами и бесчисленными электрическими огнями», как вспоминал Дж. Батлер Райт. Затем они были в порядке старшинства организованы в группы, расположившиеся за своим «дуайеном» сэром Джорджем Бьюкененом и его сотрудниками, и в зал вошел император Николай II, одетый в простую серую казацкую черкеску, чтобы поприветствовать их. В течение двухчасового приема он доброжелательно, с присущей ему улыбкой и рукопожатиями, беседовал на превосходном английском и французском языках. «Он спросил меня, как долго я нахожусь в России, как мне здесь нравится, не страдаю ли я от холода, и пообещал, что летом будет прекрасная погода», – вспоминал Райт{120}. Император Николай был мастером подобных пустых любезностей; он почувствовал себя явно некомфортно, когда сэр Джордж Бьюкенен воспользовался возможностью, чтобы попытаться убедить его в «необходимости решительного наступления на Восточном фронте, чтобы снизить давление немецких войск на Западном». По оценке Нормана Армора, это был неуместный шаг со стороны британского посла в ходе такого чисто светского мероприятия: «Я видел, как император мял свою каракулевую шапку, выдавая раздражение, нарастающее по мере продолжения речи Бьюкенена»{121}.
Во всех остальных случаях реакция императора во время бесед была вполне обыденной, его взгляд – доброжелательным, но пустым. По мнению Шарля де Шамбрюна, было ясно, что он «не проявлял большого интереса к ответам своих собеседников»{122}. Посол Дэвид Фрэнсис, плененный внешним очарованием императора, не смог заметить его изнеможения: «Мы все были поражены радушием Его Величества, его выдержкой и его несомненным отличным физическим состоянием, а также живостью его высказываний», – отметил он в своем дневнике. По его мнению, император «предоставил возможность убедиться, что он вполне уверен в себе», причем до такой степени, что американский посол был рад выйти «покурить» с военно-морским атташе США Ньютоном Маккалли, с которым он предпочел говорить о «свержении Порфирио Диаса[32] в Мексике», а не о ситуации в России{123}. Однако Райт, как его коллега Армор, полагал, что император Николай «казался очень нервным, его руки постоянно ерзали». Французский посол Палеолог был с этим согласен: «бледное тонкое лицо» Николая «выдавало сокровенную суть его тайных мыслей»{124}.
В целом, это было впечатляющее мероприятие, многие участники которого в последующем описывали его в своих воспоминаниях, включая Дэвида Фрэнсиса, который охарактеризовал его как «блеск и великолепие умирающей эпохи»{125}. «Вряд ли кто-либо из нас осознавал, что мы являлись свидетелями последнего публичного появления последнего правителя могущественной династии Романовых», – напишет он позже в своих мемуарах; император, казалось, не имел ни малейшего представления о том, что «он находится на краю вулкана»{126}. У Шарля де Шамбрюна сложилось впечатление, что император Николай «был больше похож на какой-то автомат, требующий подзаводки, чем на самодержца, способного подавить любое сопротивление»{127}. Посол Палеолог также выявил признаки утомления и предчувствия беды: «Во всем блестящем и сверкающем царском зале не было ни одного лица, которое не выражало бы беспокойства». Насладившись хересом и сэндвичами и «щедро, не скупясь» дав на чай прислуге, дипломатический корпус отправился обратно в Петроград{128}. Спустя несколько часов Райт пил водку и объедался икрой и другими деликатесами в квартире Армора на Литейном, празднуя Новый год. В последующие дни Райт наслаждался поездками в переполненный Мариинский театр, где он вместе с Мэриэл Бьюкенен смотрел балет Чайковского «Евгений Онегин», бриджем с княгиней Чавчавадзе («достаточно блестящая компания»), ужином в «Кафе де Пари» и катанием на коньках в элитном частном клубе, где представителям дипломатического корпуса «всегда были открыты все двери»{129}. На краю вулкана стоял не только русский царь – это относилось и к бо́льшей части дипломатического корпуса, и к ослепшему сибаритствующему российскому высшему обществу.
Через восемь дней после приема у царя высокопоставленная делегация союзников (британцев, французов и итальянцев) во главе с лордом Мильнером, видным членом военного кабинета Дэвида Ллойда Джорджа, прибыла в Петроград на крупную конференцию, призванную укрепить продолжавшееся сотрудничество с Россией и предотвратить ее выход из войны. Иностранная диаспора выразила надежду на обязательный банкет за казенный счет, который ожидался в честь такого визита, но в день прибытия делегации в столицу 150 000 рабочих вышли на забастовку и организовали шествие в память о массовом убийстве мирных демонстрантов, произошедшем в этот день двенадцать лет назад. Угнетенный рабочий класс Петрограда никогда не забывал о «Кровавом воскресенье» 1905 года. Напряженность в столице росла.
Царский бюрократический аппарат, однако, был больше озабочен размещением гостей в связи с острой нехваткой жилья в Петрограде, которая только обострилась с приездом делегации. На время забрали номера у постояльцев первого этажа переполненной гостиницы «Европейская», однако обнаружилось, что «их некуда переселять и что невозможно найти мест ни за какую цену»{130}. Помпезные официальные банкеты продолжались три недели, вызвав у уставшей столицы некоторый подъем духа. «На какое-то время можно было представить себя в предвоенном Санкт-Петербурге», – вспоминала Мэриэл Бьюкенен. Она оставила одно из наиболее ярких описаний блистательного светского водоворота: «Внезапно город охватило веселье. По улицам проносились экипажи двора с красивыми ухоженными лошадьми и императорскими ливреями малинового и золотого цветов. Перед гостиницей «Европейская», в которой разместились участники делегации, в любое время суток стояла бесконечная вереница автомобилей. Каждую ночь устраивались ужины и танцы, большая царская ложа во время балета была заполнена французскими, английскими и итальянскими мундирами»{131}.
Николай II в очередной раз показался на торжественном ужине в Царском Селе с официальным любезным лицом, предназначенным для публики; сэр Джордж Бьюкенен сидел по правую руку от него. Собравшиеся делегаты конференции дружно участвовали в этом спектакле, делая «бессмысленные замечания по поводу Антанты, войны и победы». Николай, как всегда, был в беседах «расплывчат» и после череды обязательных и тусклых реплик удалился с улыбкой на лице{132}. Императрица, ведущая затворнический образ жизни, как обычно, отсутствовала. Таким образом, дамам, главенствовавшим в петроградской аристократии (в лице великой княгини Марии Павловны и графини фон Ностиц, американской авантюристки, вышедшей замуж за аристократа[33]), была предоставлена возможность организовать для делегации другие развлечения на широкую ногу. При этом графиня фон Ностиц утверждала, что ей было поручено 6 февраля провести прием в своем доме, поскольку «императрица была слишком больна, чтобы принимать гостей у себя во дворце». Это мероприятие оставит у самой графини непреходящее впечатление: «Вечер этого последнего великолепного приема навсегда остался в моей памяти. Мне достаточно закрыть глаза, чтобы вновь увидеть нашу розовую с позолотой гостиную с ее великолепными старыми семейными портретами и изысканными гобеленами, переполненную этими замечательными гостями. Весь двор, сливки петроградского общества, триста его величайших имен, весь дипломатический корпус со своими женами, члены делегации: лорд Мильнер, один из самых известных министров Англии, лорд Брук, сэр Генри Уилсон, лорд Клайв, лорд Ревелсток, сэр Джордж Клерк, герой Франции генерал [Ноэль] де Кастельно, члены итальянской делегации, Гастон Думерг – все они были там в тот вечер»{133}.
Визит делегации подошел к концу, но никто не тешил себя иллюзиями, не надеялся на какие-либо серьезные политические результаты. Роберта Брюса Локхарта «нескончаемая праздничная круговерть» оставила равнодушным; позже он отметил, что «редко когда в истории великих войн столько важных министров и генералов покидали свои страны ради столь бесполезного поручения». Посол Палеолог придерживался того же мнения: конференция затянулась на три «бессмысленные» недели, «все дипломатическое словоблудие не дало никакого практического результата». Он задавался вопросом: какой был смысл для союзников посылать России огромное количество вооружения – «пушек, пулеметов, снарядов и самолетов», – если у нее не было «ни средств доставить его на фронт, ни желания воспользоваться им?»{134}
По признанию лорда Мильнера, он также считал, что эта поездка была пустой тратой времени, что он лишь осознал «неспособность русских» добиться чего-либо и решил, что Россия была обречена – как дома, так и на фронте. Наряду с этим существовало «общее согласованное и обоснованное мнение союзников и России», что «до окончания войны не будет никакой революции»{135}. Морис Палеолог, однако, видел ситуацию по-другому. Когда французские делегаты уже были готовы вернуться домой, он поручил им передать в Париже президенту страны следующее: «Революционный кризис в России уже близок… Каждый день российский народ все более равнодушно относится к войне, настроения анархии распространяются среди всех классов и даже в армии». Октябрьские забастовки на Выборгской стороне, по мнению Палеолога, были «весьма знаменательны», поскольку, когда начались столкновения между бастующими рабочими и полицией, 181-й запасной пехотный полк, направленный для поддержки полиции, фактически повернул оружие против нее. Власти были вынуждены «срочно прибегнуть к помощи казаков, чтобы обуздать мятежников». Палеолог предупредил, что в случае начала восстания «власти не смогут рассчитывать на армию». Он пошел еще дальше: союзники должны быть также готовы к вероятному «дезертирству нашего союзника» – его выходу из войны, что приведет к изменению его роли в удержании Восточного фронта{136}. Сэр Джордж Бьюкенен был теперь до такой степени охвачен нараставшим чувством неизбежной катастрофы, что сообщил в Лондон в Министерство иностранных дел Великобритании: «Россия, по моему мнению, будет не в состоянии встретить четвертую зимнюю кампанию, если теперешнее положение дел сохранится и дальше». Какие-либо серьезные беспорядки, «если их не удастся избежать, произойдут по причинам скорее экономического, чем политического, характера». И начнутся они «не рабочими на предприятиях, а толпами, стоящими на морозе в очередях у продовольственных лавок»{137}.
В феврале количество муки, ежедневно доставляемой в Петроград, сократилось до двадцати одного вагона, тогда как для нормального обеспечения столицы было необходимо 120 вагонов в день. Так называемый белый хлеб «становился все более серым, пока не превратился в несъедобный» – из-за обилия примесей. Бесхозяйственность властей, коррупция и растрата ресурсов были просто чудовищными, это усугублялось плачевным состоянием железных дорог, неспособных обеспечить доставку продовольствия из провинции (где его пока еще было вполне достаточно) в города, которые остро нуждались в нем. Жители столицы были возмущены, узнав, что из-за резкого повышения цен на овес и сено бо́льшая часть черного хлеба, основного продукта питания бедняков, скармливалась 80 000 лошадям Петрограда, чтобы те не умерли с голода: «каждая лошадь съедала черного хлеба на десятерых»{138}. Сахара теперь было так мало, что многие кондитерские магазины пришлось закрыть. Ходили слухи о том, что большое количество продовольствия пропадает, что «миллионы фунтов дешевой говядины из Сибири» брошены гнить на железной дороге:
«Мало кто из рабочих военных заводов, чьи жены или дети проводили основную часть своего времени в очередях в хлебный магазин, не слышал о «рыбных кладбищах» Астрахани, где были похоронены тысячи тонн испорченного каспийского улова; все слышали о «сахарных реках», которые, как видели проезжавшие, струились из плохо закрытых сахарных складов в крупных свекловодческих районах на юге России и в Подолье[34]»{139}.
«В то время как мы подслащивали чай джемом, а рабочие пили его несладким, – писал американский чиновник Филип Шадборн, инспектировавший лагеря для интернированных немцев в России, – все знали, что в стране было полным-полно зерна, а в провинциальных городах – муки»{140}. Опубликованное 19 января 1917 года официальное заявление о предстоявшем нормировании хлеба (всего лишь по одному фунту[35] на человека в день) привело к тому, что его стали панически раскупать. В очередях в хлебные магазины теперь стояли так долго, что стали нередки случаи переохлаждения. Те, кому повезло хоть что-то получить, спешили прочь, «крепко прижимая к себе теплую буханку купленного хлеба в тщетной попытке хоть немного согреться о нее»{141}.
Испытывали определенные лишения даже иностранцы, хотя зачастую это была фигура речи. «Мы сейчас в такой нужде, что ветчина или бекон нам милее, чем букет орхидей», – жаловался американский дипломат Дж. Батлер Райт. И добавлял: «То же относится и к виски». Он был вне себя от радости, когда из Вашингтона прибыл курьер с двадцатью семью мешками с почтой, а также «беконом, листерином[36], виски, дикислородом[37], мармеладом, газетами и т. п.»{142}. Пытаясь согреться в своем гостиничном номере, фотограф Дональд Томпсон все еще мог заказать себе кофе, «но это был кофе только по названию, а хлеб не был хлебом даже в принципе». Он признавался, что «начинал ощущать муки голода – даже в гостинице “Астория”»{143}.
Голод усиливался с учетом минусовой температуры, которая влияла на поставки в город топлива по железной дороге. Лодки на Неве были изрублены на дрова, предпринимались и более радикальные шаги: «глухой ночью» жители столицы крадучись пробирались на ближайшее кладбище, «чтобы нагрузить мешки деревянными крестами с могил бедняков» и пустить их дома на растопку{144}.
В столице прошла очередная волна забастовок. На этот раз полиция решила действовать наверняка. По приказу министра внутренних дел Протопопова на крышах крупных зданий по всему городу, в частности вдоль главной улицы, Невского проспекта, были тайно установлены пулеметы. Дж. Батлер Райт 9 февраля отмечал усиление напряженности в столице: «Казаки вновь патрулируют город в связи с угрозой забастовок – а также с учетом того, что женщины в очередях за хлебом начинают бунтовать: они стоят с 5 часов утра, магазины открываются в 10 утра, а на улице двадцать пять градусов ниже нуля»{145}.
Дж. Батлер Райт располагал достоверной информацией о том, что «на день открытия Думы был намечен социалистический мятеж». В ожидании этого в Петроград было стянуто 14 000 казаков, которые должны были поддержать армейские запасные части и подразделения{146}[38]. Они патрулировали улицы Петрограда 14 февраля, когда Дума открылась после рождественских каникул, но ожидавшихся волнений не произошло. Заседания Думы в переполненном Таврическом дворце проходили в атмосфере уныния, а не конфронтации. Считая, что кризис на данный момент был преодолен и что теперь обстановка позволяла спокойно «взять короткий отпуск», измученный сэр Джордж Бьюкенен вместе со своей женой отправился в столь необходимый для него десятидневный отдых на дачу своего друга-англичанина, находившуюся на небольшом острове Варпасаари в Финляндии{147}.
Глава 2 «Невинному пареньку из Канзаса здесь не место»
В субботу, 18 февраля 1917 года, увольнения рабочих на крупном Путиловском военном заводе, расположенном в южной части города, привели к забастовке в ремонтном цехе. Вскоре к ним примкнули остальные рабочие, а руководство завода ответило массовыми увольнениями. Десятки тысяч безработных толпились на улицах, а представлявшие печальное зрелище очереди к хлебным магазинам становились все длиннее. Флоренс Харпер и Дональд Томпсон могли видеть из окон своей гостиницы, как люди всю ночь простаивали в очереди. В поисках темы для статьи они вышли на промерзшую улицу. Все доски для объявлений были обклеены обращениями полиции «с настоятельным призывом не организовывать каких-либо демонстраций, не нарушать общественного порядка и не предпринимать каких-либо шагов, способных привести к прекращению производства боеприпасов или парализовать промышленные предприятия города»{148}. Томпсон вспоминал, как «срывали эти обращения в ту же минуту, как они были наклеены, и плевали на них». В некоторых магазинах на Большой Морской улице возле их гостиницы окна уже были заколочены досками. Двое американцев понимали, что скоро начнутся беспорядки. «Я была в этом настолько уверена, – напишет впоследствии Флоренс Харпер, – что бродила по городу, вверх и вниз по Невскому, наблюдая за происходящим и ожидая их, словно циркового парада». Томпсон был в восторге. Он привез с собой свои любимые фотокамеры «Графлекс» производства компании «Истман кампани оф Нью-Йорк»[39] и получил в полиции разрешение «фотографировать в Петрограде любое место». «Если настанет революция…то мне повезет», – ликовал он{149}.
Среди бастующих рабочих Путиловского завода и на других заводах Выборга и Петроградской стороны активно действовали политические агитаторы (эсеры, большевики, меньшевики, анархисты), они «призывали к всеобщей забастовке в знак протеста против политики правительства, нехватки продовольствия и войны»{150}. За обедом с Морисом Палеологом великая княгиня Мария Павловна сообщила ему, что она ожидает «самой ужасной катастрофы», если император Николай продолжит сопротивляться необходимости осуществления политических перемен. «Если спасение не придет сверху, – предупредила она, – то грянет революция снизу»{151}.
Палеолог в последнее время читал «Философские письма» Петра Чаадаева, русского философа, сосланного в 1836 году в Сибирь за признанные крамолой сочинения. Чаадаев заметил: «Русские принадлежат к числу тех наций, которые… существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь страшный урок». Палеолог чувствовал, в России вновь сбывается это предсказание. Краткий «взбадривающий эффект» от посещения делегации союзников уже прошел. «Главное артиллерийское управление, управление военного производства и снабжения и управление военных сообщений вновь стали действовать по-прежнему: небрежно и неторопливо», – с отчаянием отмечал Палеолог. Попытки делегации союзников заставить Российскую империю активнее участвовать в войне были встречены «с тем же мертвящим бездействием и равнодушием, как и ранее»{152}. Его радовала лишь перспектива послушать хорошую музыку и потанцевать «на большом и блестящем приеме» у княгини Радзивилл в ближайшее воскресенье, 26-го числа. Однако при этом он понимал, что это было не только «весьма необычное время для устройства приема», но также и весьма опасное, поскольку император покинул столицу и вернулся в Ставку армии в пятистах милях от Петрограда – после ложных заверений своего министра внутренних дел Протопопова, что ситуация находится под контролем{153}.
В течение трех недель суточная температура держалась на уровне минус 13,44 градуса по Цельсию, шел сильный снег{154} [40]. Прогуливаясь по Литейному проспекту утром 22 февраля, Палеолог был поражен «зловещим выражением на лицах бедняков», которые всю ночь простояли в очереди за хлебом. Настроение в обществе изменилось от стоицизма к гневу. Многие женщины проводили в таких очередях сорок или более часов в неделю, и некоторые из них в этот день в ярости стали бросать камни в окна хлебных магазинов. Другие присоединились к ним, начались грабежи. Власти задействовали казачьи патрули, «ясно намекая, чтобы все утихомирились», на улицах было заметно больше солдат. «По возрасту это были новобранцы, – отмечал Дж. Батлер Райт, – они были моложе, чем когда-либо ранее»{155}.
Тем утром Дональд Томпсон вышел из гостиницы «Астория», чтобы купить новую пару обуви для своего русского переводчика Бориса, молодого раненого солдата, который выписался из госпиталя и которого он попросил сопровождать его, так как Борис очень хорошо говорил по-английски. Один из хлебных магазинов рядом с гостиницей «Астория» находился под охраной полиции после того, как люди из очереди разбили в нем окна, пытаясь добраться до хлеба. В молочном магазине поблизости, рядом с которым толпилась очередь, только что вывесили объявление: «Молока больше нет». «Если бы ты могла видеть эти очереди за хлебом и взгляды этих людей, проходя мимо них, – писал Дональд Томпсон своей жене, – тебе было бы трудно поверить, что это происходит в двадцатом веке»{156}. Он писал ей, что ему было стыдно проходить мимо таких людей, поскольку на нем была «тяжелая шуба», а они в это время стояли на морозе «почти в лохмотьях». В городе появились группы бастующих рабочих с того берега Невы, из-за чего некоторые хозяева закрыли свои магазины на Невском проспекте. Люди на улицах были «нервными, испуганными, они ожидали чего угодно»{157}.
Хотя температура была еще минус 9 градусов, в четверг, 23 февраля, светило яркое солнце. Выйдя этим утром на улицу, Томпсон заметил, что ночью на крышах зданий были установлены «десятки пулеметов». Борис, по поручению Томпсона ночью ходивший на разведку, вернувшись, уверял того, что «в России приближается революция»{158}. Томпсон пошел на телеграф, чтобы отправить своей жене сообщение, но дежурная телеграфистка посоветовала ему не тратить денег: «Не разрешено ничего передавать». Позже, проходя мимо британского посольства вместе с Флоренс Харпер, он увидел толпу женщин, собиравшуюся на Марсовом поле, большом плацу, расположенном за зданием посольства. Вскоре к этим женщинам присоединилась группа рабочих, а затем, «как по волшебству, появились сотни и сотни студентов»{159}.
Это был Международный женский день, важная дата в социалистическом календаре, учрежденная в 1910 году представительницей социал-демократической партии Германии Кларой Цеткин в борьбе за равные права для женщин. В этот день работницы Петрограда желали заявить о себе. Сотни женщин – крестьянки, работницы на заводах, студентки, медицинские сестры, учительницы, жены тех, кто был на фронте, и даже некоторые дамы из высших классов – вышли на улицы. Хотя некоторые несли традиционные суфражистские воззвания, такие как «Да здравствуют женщины – борцы за свободу!» и «Женщин – в Учредительное собрание!», у других в руках были самодельные плакаты, напоминавшие о продовольственном кризисе: «Увеличить пайки солдатским семьям!» – или даже с откровенными революционными призывами покончить с войной – и с монархией. Но в основном в тот день женщины требовали еды. «У нас нет хлеба! – выкрикивали демонстрантки. – У наших мужей нет работы!»{160}
В то время как колонны женщин сходились на Невском и Литейном проспектах, более воинственно настроенные работницы ниточных мануфактур на пяти крупных фабриках Выборгской стороны в то утро объявили забастовку. Они спустились к основным металлопрокатным и военным заводам и принялись кричать, стучать в ворота и бросать снежки в окна, требуя, чтобы рабочие этих предприятий (в том числе и крайне важного государственного предприятия «Арсенал») вышли поддержать их[41]. К середине дня 50 000 рабочих на том берегу Невы уже вышли на улицы. Некоторые направились прямо домой, а другие вышли к Литейному мосту, чтобы, перейдя его, оказаться на Невском проспекте и пополнить ряды демонстрантов в честь Международного женского дня, – но на мосту они натолкнулись на полицейские кордоны, преградившие им путь. Наиболее решительные спустились на замерзшую реку и перешли по льду, другим удалось преодолеть полицейский кордон с Петроградской стороны через Троицкий мост, однако, после того как они пересекли Неву, их оттеснила полиция.
Харпер и Томпсон наблюдали, как на Марсовом поле некоторые мужчины и женщины взбирались другим на плечи и выкрикивали: «Пора прекращать болтать, пора и действовать!» Некоторые женщины стали петь «Марсельезу». «Это была странная русская версия песни, которую сразу трудно было узнать, – вспоминала Харпер. – Я много раз слышала, как пели «Марсельезу», но в тот день я первый раз услышала, как именно ее следовало петь». По ее утверждению, это было потому, что «певшие ее принадлежали тому же классу и пели ее по той же причине, что и французы, которые впервые исполнили ее более ста лет назад»{161}. Когда толпа тронулась, направляясь к Невскому проспекту, «из-за угла, покачиваясь, появился трамвай». Его остановили, схватили вагоновожатого и «выбросили его в сугроб». Так же поступили и со вторым, и с третьим, и с четвертым трамваем, «пока остановившиеся вагоны не заняли всю улицу вдоль Садовой до Невского проспекта»{162}. Пассажиры одного из трамваев, раненые солдаты под присмотром медсестер, даже присоединились к толпе, которая, насчитывая уже около пятисот человек, двинулась вперед, продолжая петь «Марсельезу»; женщины смело шли прямо посередине Невского проспекта, в то время как мужчины шли по тротуару.
Томпсон и Харпер оказались в водовороте этой толпы, и она унесла их с собой. Каждый полицейский, мимо которого проходили демонстранты, пытался остановить их, но женщины просто продолжали идти вперед, кричать, смеяться и петь{163}. Двигаясь в голове колонны, Томпсон увидел, как мужчина рядом с ним привязал к палке красный флаг и принялся размахивать им. Томпсон решил, что в находящихся на виду первых рядах колонны демонстрантов «не место невинному пареньку из Канзаса»{164}. «Пули могут попасть и в случайных прохожих, – сказал он Харпер, – так что давай сматывать удочки, пока еще есть время».
В тот же день в ответ на обострение ситуации в столице комендант Петроградского гарнизона генерал Сергей Хабалов приказал на стенах на каждом углу улиц расклеить объявления, заверявшие общественность: «Недостатка хлеба в продаже не должно быть» – если в некоторых лавках малы запасы хлеба, то потому, что многие покупали его больше, чем им было нужно, и накапливали его. «Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве, – утверждалось в объявлениях. – Подвоз этой муки идет непрерывно»{165}. Было ясно, что правительство уже исчерпало возможные оправдания (отсутствие топлива, сильный снегопад, реквизиция подвижного состава для военных целей, нехватка рабочей силы) и людей больше нельзя водить за нос. Полмиллиона рабочих голодали, в фабричных районах голод не миновал никого, он был жестоким и безжалостным. Корреспондент издания «Таймс» Роберт Уилтон был потрясен медлительностью властей в борьбе с нехваткой продовольствия: «Вот очевидное признание расхлябанности. Кого это могло бы удовлетворить? Социалистов, которые уже приняли решение в отношении революции, или недовольного обывателя, «человека с улицы», который не хочет революции, но желает избавиться от недееспособного правительства?»{166} В тот день в Думе прошло срочное совещание министров, как сообщили, для урегулирования продовольственного кризиса и организации мероприятий по пополнению запасов продовольствия в Петрограде. Но к этому времени жители столицы были уже убеждены в том, что хлеб от них намеренно утаивают.
События продолжали развиваться. Количество женщин, участвовавших в демонстрациях на Невском проспекте и на подходах к нему, возросло где-то до 90 000 человек. «Пение на этот раз превратилось в могучий рев, – вспоминал Томпсон, – вселявший ужас и в то же время зачаровывавший». Все испытывали «страшное возбуждение»{167}. Вновь появились казаки, как заметил Дж. Батлер Райт, «словно по мановению волшебной палочки»; их длинные пики блестели на солнце. Томпсон наблюдал за тем, как они снова и снова пытались рассеять колонны женщин, несясь на них галопом и размахивая нагайками, но женщины только перестраивались и широко улыбались казакам всякий раз, когда те напирали на них{168}. Когда одна из женщин споткнулась и упала перед ними, те перепрыгнули на конях через нее. Все были удивлены: эти казаки не были «свирепыми опричниками царизма, которых видели в действии в 1905 году», когда сотни демонстрантов были убиты во время «Кровавого воскресенья». На этот раз они были вполне «любезными» и даже озорными; они, казалось, были готовы поддаться общему настроению, когда, продвигаясь вместе с толпой, они сняли папахи и «помахали ей ими»{169}. Оказалось, что многие казаки были резервистами, и отсутствие у них навыков в удержании толпы объяснялось их проблемами в обращении с лошадьми, которые не привыкли к большому скоплению людей{170}. Казаки сообщили демонстрантам, что, пока те требуют только хлеба, они не возьмут на себя смелость открывать огонь. В рядах демонстрантов, разумеется, было много агентов-провокаторов, желавших превратить акцию протеста в акт насилия, но толпа в основном, как отметил в тот день Артур Рэнсом в своем сообщении для «Дейли ньюс», осталась «уравновешенной». Он выразил надежду, что не произойдет никаких серьезных конфликтов. «В целом народные волнения, – заключил он, – были стихийными и разрозненными», не имели политической направленности{171}.
Такая ситуация продолжалась до шести вечера. Толпа продолжала требовать хлеба, а казаки напирали на нее и рассеивали в разные стороны, «однако серьезных инцидентов не было». Полиция задерживала всех, кто пытался остановиться и произнести речь, наряду с этим демонстранты весь день ходили по улицам с красными флагами, и, к удивлению Томпсона, по ним не стреляли. Однако он знал, что все еще было впереди: «Я чувствую, что будут беспорядки, – писал он своей жене в тот вечер, – и, слава богу, я нахожусь сейчас здесь, чтобы снять все это на пленку»{172}.
Полиции осталось только окончательно разогнать толпу, которая в большинстве своем к семи вечера, когда стало холодать, разошлась по домам. Однако озлобление народа в отношении полиции усилилось, возросло и число нападений на нее. Особенно это относилось к конным полицейским на конях черной масти, которых презрительно называли «фараонами» – то есть угнетателями и мучителями (намекая на «высокие, похожие на кисточки для бритья киверы из черного конского волоса», которые те носили). «С их появлением у людей с лиц сразу же пропали улыбки, – отметил Арно Дош-Флеро, – и когда они начали расправу, достав свои сабли», он услышал «грозный рык, который может издавать только разъяренная толпа»{173}.
На другом берегу Невы, в фабричных районах, весь день происходили эпизодические стычки. На Петроградской стороне в большом хлебопекарном заведении Филиппова (филиал московской хлебопекарни, которая ежедневно по железной дороге доставляла свою продукцию во многие столичные хлебные магазины) старухи из очереди, отстояв на холоде несколько часов только ради того, чтобы услышать, что сегодня хлеба не будет, потеряли терпение{174}. Они выломали входную дверь и разгромили пекарню. Говорили, что «в дальних кладовых нашли много черного хлеба». В окрестных продуктовых магазинах также разбили окна. В другой разгромленной хлебопекарне старухи обнаружили белые булочки, «предназначенные для ресторанов». Перебив в заведении окна, они взяли эти булочки и продали их за четверть цены тем, кто крайне нуждался в хлебе{175}.
В тот вечер Харпер и Томпсон осмелились перейти Троицкий мост, чтобы выяснить, что происходило в фабричных районах. Они обнаружили, что улицы в ряде мест «были заполнены возбужденными мужчинами и женщинами», и оставались там до одиннадцати часов вечера, пока Томпсон не заметил, что слишком многие присматриваются к дорогому пальто Харпер из котика. Борис, их переводчик, посоветовал поскорее уходить: он услышал, как некоторые женщины говорили, что «ей следует порезать лицо». «Посмотрите, как она одета! Да, у нее есть хлеб, а у нас – нет»{176}. Очевидно, они приняли Харпер за богатую русскую даму. Когда оба журналиста спешили среди ночи назад в «Асторию», их несколько раз останавливала полиция для проверки документов. Они не могли не заметить, что «город патрулировало много войск» – в этот день в Петрограде вырвались на свободу необузданные, стихийные силы. Среди голодающих, организовавших демонстрации на Невском проспекте, и забастовщиков на той стороне Невы был зажжен факел революции. В течение ночи забастовочные комитеты в Петрограде и на Выборгской стороне разрабатывали планы, как воспользоваться благоприятным моментом. Революция – «о которой так долго говорили, которой страшились, против которой боролись, планы которой вынашивали, которую жаждали, за которую погибали», – наконец пришла, «тайком, украдкой, когда ее никто не ожидал, когда ее никто не признал»{177}.
За ночь напряженность в Петрограде существенно усилилась, поскольку появились слухи о введении «карточек на хлеб». Негодование подогревалось также тем, что хлеб продавался в то время, когда все были на работе и не могли стоять в очереди, чтобы купить его. В пятницу, 24 февраля, все это неизбежно переросло в беспорядки: разгромили еще несколько хлебопекарен. В связи с продовольственным кризисом люди были доведены до такого отчаянного состояния, что, как писал Артур Рэнсом в «Дейли ньюс», иногда даже «отбирали хлеб у тех, кто смог купить его»{178}.
Утро следующего дня было ярким и солнечным, и повышение температуры на пять градусов (до минус 4,5 градуса) способствовало тому, что на Невском проспекте вновь собралась огромная толпа{179}. Предвидя эскалацию демонстраций, генерал Хабалов распорядился расклеить ночью новые объявления, в которых подчеркнул, что «все скопления народа на улицах полностью воспрещаются», и предупредил, что он приказал войскам «употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для водворения порядка»{180}. Американец, работавший в консульстве в здании компании «Зингер», слышал разговоры о том, что на улицах видели «бронированные автомобили», которые уже несколько ночей подряд патрулировали город, «с прожекторами и множеством пулеметов, выглядывавших из амбразур». Ему также сказали, что «на полицейских участках было полным-полно пулеметов, они были у солдат, переодетых полицейскими». «Все это вздор! – возразил на это кто-то. – Солдаты-мальчишки не будут стрелять в свой собственный народ»{181}.
Жгучее негодование вымещали на немногочисленных, пока еще работавших переполненных трамваях. Многие из них уже вышли из строя и стояли, мертвые и пустые, «никто не думал ремонтировать их, новых взамен не было»; другие толпа опрокинула с рельсов и даже перевернула{182}. Как отметил Арно Дош-Флеро, все на улице в то утро, похоже, «были уверены в скором зрелище». Он находился в толпе вблизи Казанского собора. Повсюду мелькали приметные зеленые студенческие фуражки, и один из студентов сказал ему, что «университеты вышли на забастовку в знак поддержки хлебных демонстраций»{183}. Магазины, тем не менее, были открыты, и в городе все еще была заметна «некоторая деятельность», хотя большинство жителей передвигались пешком. Прохожие менее охотно, нежели накануне, подчинялись требованиям полиции не останавливаться и продолжать движение{184}.
Все утро рабочие из Выборга и с Петроградской стороны, где состоялись оживленные фабричные митинги, переходили через Неву. Большинство рабочих вышли на забастовку, и их настойчиво подстрекали вооружаться «болтами, гайками, камнями» и даже кусками льда и идти «громить все магазины, которые только им встретятся»{185}. На пути к Литейному мосту забастовщики вновь устроили погром хлебопекарен; вначале завязались драки, которые переросли в грабежи. Путь через мост снова был заблокирован солдатами и казаками, хотя последние отказались разгонять забастовщиков, получив такой приказ. Забастовщики (около пяти тысяч человек) вновь приняли решение перейти по льду, чтобы добраться до центра города{186}. Из окон своих канцелярий французские дипломаты Луи де Робьен и Шарль де Шамбрюн видели, как те проделывали свой путь через Неву, «словно цепочка черных муравьев, «гуськом», как они петляли между «нагромоздившихся глыб льда и толстого снега». Казаки с другой стороны реки наблюдали за ними, передвигаясь галопом вверх-вниз по набережной, «весьма живописные на своих маленьких лошадях», с пиками и карабинами; но они не рискнули спускаться на лед, чтобы остановить манифестантов{187}.
К середине дня уже около 36 800 человек вышли на центральные улицы Петрограда{188}. Все трамваи встали, и, поскольку проехать по улицам было невозможно, извозчики также вернулись со своими дрожками домой. Толпа продолжала напирать и прокладывать дальше свой путь, продираясь мимо казаков (некоторые демонстранты даже проскакивали, ныряя, под их лошадьми), которые пытались преградить ей путь. Жившая в Петрограде француженка Амели де Нери осознала разницу между этими демонстрантами и теми, кто, «находясь в приподнято-мистическом состоянии», в атмосфере религиозного настроя принимал участие в демонстрации 1905 года. В 1917 году толпы состояли из реалистов, отметила она. «Два года войны закалили их гораздо больше, чем это могло бы сделать столетие спокойствия и мира»{189}. По мере того как толпа продвигалась вперед, «полиция и войска преследовали ее и всячески запугивали», но оружие не применяли{190}. Казачьи отряды, гарцевавшие по снегу на своих маленьких жилистых лошадях, продолжали удивлять своей сдержанностью: они ничего не предпринимали, даже когда в колоннах демонстрантов стало появляться все больше и больше красных флагов. Всякий раз, когда казаки останавливались, «вокруг них собирались мужчины и женщины и предлагали им присоединиться к демонстрантам». «Вы наши!» – кричали они им, а казаки улыбались и расступались, чтобы пропустить их. Репортер «Таймс» Роберт Уилтон слышал, как демонстранты обращались к войскам, с которыми они встретились при своем движении: «Вы же не будете стрелять в нас, братья! Мы только хотим хлеба!» «Нет, мы голодны, как и вы», – отвечали им казаки{191}.
Берт Холл, американский военный летчик, прикомандированный к российскому Императорскому военно-воздушному флоту, в этот день находился в Петрограде, и, как и у Томпсона с Харпер, это было его первым боевым крещением в России. Он описал в своем дневнике «бесконечные толпы людей, которые шли по улицам, распевая какие-то безумные песни и швыряя кирпичи в автомобили». Он видел рабочих с плакатами, которые требовали не только хлеба: «Дайте нам землю!», «Спасите наши души!». В конце одной колонны «маленькая девочка несла маленький флажок», на котором было написано: «Накормите своих детей!» Как он вспоминал, это была «самая трогательная сцена, которую я когда-либо видел в своей жизни». Почему русские просто «не пойдут, не сделают революцию и не покончат с этим?» – спросил он у своего русского коллеги. Увы, «Бог все еще любит царя, – ответили ему. – Было бы дурно восставать против правителя, который ладит с Богом». Берт Холл был возмущен: «Простые люди голодны; они уже слишком долго голодали. Боже, почему царь не сделал что-либо для этого! Какая возможность для какого-нибудь толкового американского бизнесмена! Только подумай об этом! Вся Россия может либо потерпеть крах, либо спастись только по воле мелкого толкового бизнесмена»{192}.
В то время как толпа весь день перемещалась вверх-вниз по Невскому проспекту, люди, жившие на нем, распахивали свои окна, чтобы посмотреть на происходящее и посочувствовать. У британского и канадского персонала Англо-русского госпиталя, а также у его пациентов был особый угол обзора событий из окна второго этажа здания. Медсестры получили указание «оставаться в помещениях и не выходить наружу, за исключением территории госпиталя»{193}. В Англо-русском госпитале «было полно солдат, готовых к любым чрезвычайным ситуациям»: тридцать военнослужащих Семеновского гвардейского полка находились там для охраны, трое из них стояли у входной двери с примкнутыми штыками. Персоналу госпиталя было приказано готовиться к эвакуации в самые сжатые сроки. Но все это вскоре оказалось невозможным из-за большого наплыва людей, двигавшихся вниз по Невскому проспекту{194}. «Демонстрантов просто расшвыривали, – вспоминала канадская медсестра Дороти Коттон. – Казаки, ехавшие навстречу, наезжали на них на лошадях и рассеивали их». Некоторые из пострадавших были доставлены в госпиталь – они были ранены полицейскими, переодетыми в солдат (как утверждалось){195}.
Флоренс Харпер и Дональд Томпсон в этот день были на улице с раннего утра, «следя за толпой»; бо́льшую часть времени их «носило в толпе вверх-вниз по Невскому проспекту», они поневоле были вынуждены порой бежать, скользя по снегу, а порой прижиматься к стенам зданий, чтобы их не задавили{196}. В конце концов их вынесло к Казанскому собору, традиционному месту сбора, где несколько колонн демонстрантов уже скопилось на площади. Некоторые демонстранты опустились на колени, обнажили головы и молились, другие собрались небольшими группами вокруг ораторов{197}. Казаки по-прежнему вели себя сдержанно, причем до такой степени, что «префект полиции» (по выражению леди Сибил Грей) подъехал к собору на своем автомобиле и «приказал офицеру патруля казаков атаковать демонстрантов с шашками наголо». Офицер отказался: «Я не могу отдать такой приказ, ведь они лишь просят хлеба». Услышав это, толпа одобрительно загудела, «казаки в ответ также ободряюще приветствовали ее»{198}. Томпсон и Харпер также обратили внимание на такой ответ. Не проявлялось никакой агрессии, «это была очень доброжелательно настроенная толпа». Было лишь одно исключение: американские журналисты видели, как полицейский в штатском «пытался сфотографировать» оратора, обращавшегося к толпе. Его сразу же заметили, напали на него и разбили его камеру. Его могли бы убить, если бы не конный полицейский («фараон»), который спас его. Томпсон тоже фотографировал, «используя свою маленькую камеру», но «старался не привлекать к себе внимания». Он отметил, что некоторые полицейские вели себя «скверно» и что многие из них были переодеты в солдат или в казаков{199}.
В четыре часа дня Харпер и Томпсона на обратном пути чуть не задавили на Невском проспекте рядом с Англо-русским госпиталем. Мимо них проезжали казаки, «смеясь и перешучиваясь с толпой» и «слегка подталкивая ее своими пиками», если она двигалась недостаточно быстро. Они ехали плотным строем, нога к ноге, и американские журналисты были вынуждены спасаться в проеме наружных створок входных дверей госпиталя. Харпер все же получила «ужасный удар пятой пики» от проезжавшего мимо казака. Она заметила, что это был мальчишка лет восемнадцати; он велел ей идти дальше, но она отказалась, и он снова ткнул ее пикой. «Этого было вполне достаточно», – вспоминала она. На пару с Томпсоном она «пролетела по мосту и вниз по Невскому проспекту»{200}.
К восьми часам вечера пятницы большинство демонстрантов, собравшихся в центре Петрограда, разошлись по домам, пообещав вернуться на следующее утро. Это был уже второй день массовых демонстраций, во время которого бастовало больше рабочих, чем когда-либо с начала войны. Демонстранты вели себя все более агрессивно, особенно по отношению к полиции и конным «фараонам». В ответ на это генерал Хабалов распорядился, чтобы на чердаках и крышах домов, гостиниц, магазинов, на колокольнях на Невском проспекте, а также на крышах железнодорожных вокзалов были установлены дополнительные пулеметы. В его распоряжении были также пехотные подразделения и пулеметчики и большое количество винтовок, револьверов и боеприпасов («хранившихся на различных полицейских участках»), которые, хотя и были предназначены для фронта, могли быть использованы в Петрограде, если бы в этом возникла необходимость{201}.
К большому разочарованию иностранных корреспондентов, оказавшихся в Петрограде в круговороте этих событий и теперь осознавших их возраставшее значение, они не могли дать правдивую информацию о ситуации для своих изданий в Великобритании, США и других странах из-за строгой царской цензуры, которая действовала относительно всех телеграфных сообщений, отправлявшихся из российской столицы. Арно Дош-Флеро написал в своем ежедневном сообщении для издания о «хлебных бунтах» и был вынужден «иметь дело с молодым чиновником, ответственным за цензуру». И каждый день ответ ему был одним и тем же: чиновник «предлагал мне чай, но ничего не обещал относительно моего сообщения». И только когда он наконец написал «о восторженном отношении населения к казакам», сообщение Арно Дош-Флеро было разрешено к отправке{202}. У Роберта Уилтона из издания «Таймс» некоторое время также были аналогичные трудности, и он был вынужден лишь смутно намекать на растущее недовольство в столице «из-за дезорганизации продовольственных поставок». В ту пятницу он сообщал о «продолжительных дебатах» в Думе о том, как бороться с продовольственным кризисом, одновременно подтверждая, что поведение демонстрантов в целом «не имело подрывного характера и не было продиктовано желанием отомстить». «Заверения властей о поставках хлеба, – телеграфировал он, ссылаясь на генерала Хабалова, – оказали положительное воздействие на ситуацию» (это было написано специально для того, чтобы обойти цензуру){203}. Слово «революция» журналист не упоминал[42].
В течение всей ночи с 23 на 24 февраля вспыхивали эпизодические перестрелки; несмотря на это, как ни удивительно, общественная жизнь столицы продолжалась. Александринский театр в тот вечер был полон, давали «Ревизора» Гоголя. Публика «весьма живо откликалась на сатиру на политические изъяны середины девятнадцатого века». Мало кто, казалось, был готов поверить, что «в этот момент в столице наяву разворачивалась настоящая драма»{204}. Лейтон Роджерс и несколько его коллег из Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка направлялись на ужин в “Cafe de la Grave”, расположенное на цокольном этаже одного из зданий на Невском проспекте. По пути они впервые встретились с казаками, отряд которых промчался мимо них «по тротуару на полном скаку… Они кричали, как сумасшедшие, карабины подпрыгивали у них на спинах, шашки били по лошадям», «они размахивали стальными пиками». Роджерс со своими друзьями, взглянув на это, побежал сломя голову. После ужина они возвращались домой уже в темноте, атмосфера в городе «была накалена до предела». Отряды конных казаков все еще патрулировали город; они выстроились вдоль всего Невского проспекта, «вынуждая пешеходов идти посередине улицы между двумя рядами лошадей и стальных пик». «Эти ощущения я бы не назвал приятными, – вспоминал Роджерс. – Всю дорогу я представлял, как извиваюсь на одной из этих пик, как червяк на крючке». «Отныне я никогда не буду ловить рыбу на живую приманку», – резюмировал он{205}.
В поисках темы для очередной статьи Арно Дош-Флеро в этот день проделал «длинный путь» по Выборгской стороне и обнаружил, что «на ней было много войск». Некоторые трамваи еще ходили, «но в целом в районе стояла зловещая тишина». На улицах были только уже привычные очереди за хлебом и группы рабочих, чье «тяжелое молчание» показалось Флеро «многозначительным». Томпсон также заметил их, когда после ужина у «Донона» он решился до трех часов ночи прогуляться по окраинам города{206}. В посольстве Франции первый секретарь Шарль де Шамбрюн писал своей жене, обдумывая только что услышанные им новости о том, что на следующий день объявлена всеобщая забастовка. Будут новые демонстрации, будут новые акции протеста. Но что может сделать толпа «без алкоголя, без лидера, без четкой цели?» – задавался он вопросом. Наступила ночь, и Петроград застыл в напряженном ожидании{207}.
Глава 3 «Как в праздничный день, но в воздухе пахнет грозой»
«Ох уж эта нескончаемая русская зима, эти месяцами белые крыши и скользкие дороги», – с грустью писала в своем дневнике француженка Луиза Патуйе, хоть она уже давно привыкла к этому низкому серому небу, которое и хмурым утром 25 февраля, в субботу, приветствовало город новым снегопадом{208}. Лейтон Роджерс, напротив, восторженно восклицал: «Что за день! Всеобщая забастовка началась, это точно, и начались беспорядки». В то утро по дороге в банк он и его коллеги «обнаружили, что на улицах полно полицейских, пеших и конных, заводы не работают, по всему Невскому проспекту закрыты магазины, повсюду заколочены двери или окна». До него дошли слухи, что предыдущей ночью при попытке проникнуть в хлебный магазин впервые был убит человек. Люди на улицах, казалось, ищут развлечений, «как зеваки на большой сельской ярмарке», но Роджерсу «даже думать не хотелось о том, что может начаться после первого же выстрела»{209}.
Знал бы Роджерс, сколько оружия уже было на руках забастовщиков, которые готовились к неизбежным уличным боям с полицией, он был бы более встревожен. Посольства и дипломатические миссии по всему городу получали по телефону уведомления о том, что сотрудникам не рекомендуется покидать свои помещения и выходить на улицу. Тем не менее Роджерс в тот день несколько безрассудно отправился из Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка с «краткосрочными казначейскими облигациями на сумму девять миллионов рублей», чтобы «положить их на хранение» в ячейку сейфа в хранилище Волжско-Камского банка, до того как в воскресенье банк закроется. Банкноты, общей стоимостью примерно 3 миллиона долларов США, он положил во внутренний карман пальто и покинул помещение филиала банка, который находился в здании бывшего посольства Турции на Дворцовой набережной. Однако на улице было полно народа, поэтому ему пришлось сделать крюк, чтобы обойти толпу. У Михайловского театра он ненадолго остановился, чтобы прочитать афишу нового французского сезона. И тут к нему подбежал его коллега из банка и закричал: «Где Вы, черт возьми, пропадаете?! Мы ищем Вас по всему городу, всех уже обзвонили!» Когда они позвонили в Волжско-Камский банк, оказалось, что Роджерс туда еще не приходил, и все были встревожены, подумав, что с ним что-то случилось, поскольку им намекнули, «что началась революция»{210}.
Рабочие из фабричных районов, выходившие тем утром на многотысячную демонстрацию, были настроены решительно и готовы к столкновениям с полицией. На этот раз под ватники они надели несколько слоев одежды, чтобы выдержать удары нагайками со свинцовыми наконечниками, которыми пользовались «фараоны». Некоторые даже смастерили себе металлические пластины, которые можно было надевать под шапку, чтобы защититься от таких ударов, а также набивали карманы любыми металлическими деталями, подходящими для метания, и оружием, которое они могли достать у себя на фабриках{211}. В полдень толпы начали двигаться вниз по Невскому проспекту, но «фараоны» уже ждали их на Литейном мосту. Когда толпа подалась вперед, чтобы попытаться перейти его, «фараоны» набросились на нее. Однако толпа сначала расступилась, чтобы пропустить их, а потом быстро сомкнула свои ряды, как в тиски захватив офицера полиции. Его стянули с лошади. Кто-то из толпы схватил его револьвер и застрелил офицера из его же оружия, другой в это время продолжал яростно бить его деревянной дубиной{212}. Это было первое открытое столкновение с полицией в тот день.
На юге Петрограда к забастовке присоединились рабочие большого предприятия – Путиловского завода, это было огромное количество людей. В течение дня стачка неумолимо распространялась по всему городу. В конце концов на улицу вышли все: приказчики и половые, повара, горничные и извозчики, работники жизненно важных для снабжения города предприятий энерго-, газо- и водоснабжения, а также рабочие трамвайных депо и вагоновожатые. С утра несколько хлебных лавок еще были открыты, но вскоре после полудня и они были вынуждены закрыться, а забастовка работников почтовых отделений и печатников привела к тому, что не доставлялись ни почта, ни свежие газеты. Количество бастующих еще более возросло, когда к ним присоединилось по меньшей мере 15 000 студентов. Они подошли пятнадцатью различными колоннами и объединились на Невском проспекте. Точно не известно, сколько всего человек вышло на демонстрации на улицы Петрограда в тот день; по официальным данным, их было от 240 000 до 305 000{213}.
Стихийные протесты из-за нехватки хлеба, начавшиеся двумя днями ранее, теперь разрослись в политическое движение, в ходе которого все больше и больше стало проявляться насилие, случались акты грабежа. Амели де Нери видела на Литейном проспекте, как молоденький паренек, который помогал грабить небольшую еврейскую лавочку, стоял там и продавал шесть десятков украденных перламутровых пуговиц за рубль. Это, может быть, являлось просто мелким воровством, но Амели де Нери почувствовала, что произошло тревожное изменение общественных отношений, вызванное протестами, стали стираться грани между «своим» и «чужим». А назавтра, задалась она вопросом, быть может, «по моральным ценностям будет нанесен еще более мощный удар»{214}. Однако пока не было еще никаких внешних признаков организованного восстания, протест находился в зачаточном состоянии и не имел лидера. «Это еще бунт? Или уже революция?» – вопрошал Клод Анэ, петроградский корреспондент газеты «Ле пти паризьен», который – как и другие иностранные журналисты в городе, – к несчастью, не имел возможности отправить эти новости по телеграфу своей газете в Париж{215}.
Вновь ударили морозы; на улицах почти не было движения, поскольку трамваи не ходили, а многие магазины были закрыты, так что толпы людей сновали по Невскому проспекту, «двигались вверх и вниз в тревожном любопытстве», собирались на перекрестках. Лейтон Роджерс вспоминал, что «толпа была любопытной, улыбающейся, решительной», но он почувствовал и еще кое-что: она была «опасной»{216}. Войска стояли наготове в обычных точках сбора на основных перекрестках вдоль всего Невского проспекта, на протяжении более двух километров от Зимнего дворца на северной оконечности проспекта, далее вниз мимо Казанского собора на Знаменской площади и вплоть до южного окончания проспекта, у Николаевского вокзала[43]. Как и казаки, солдаты, казалось, не хотели применять силу, и толпе показалось, что они одержали верх.
Однако во второй половине дня, когда войскам и «фараонам» было приказано очистить улицу от толпы, все изменилось. Весь Невский проспект превратился в сплошную бурлящую массу людей, когда полиция, размахивая шашками, начала наступать на них, а казаки обрушили на них град ударов нагайками. Люди, конечно же, стали падать, и их топтали в этой свалке и лошади, и другие люди, поскольку толпа все разрасталась, заняв уже всю улицу вплоть до Знаменской площади, любимого места встречи горожан. Оттуда Дональд Томпсон увидел, как в одиннадцать утра полицейские устанавливали пулемет на балконе дома. Уровень противостояния явно нарастал{217}. После обеда Томпсон и Харпер вернулись туда и увидели, что на Знаменской площади образовалось огромное скопление рабочих, других забастовщиков, студентов и даже некоторых представителей среднего класса, которые стояли, сомкнувшись вокруг уродливого конного памятника Александру III. Многие из них, сняв шапки, выкрикивали: «Дайте нам хлеба, и мы вернемся на работу!» Как и повсюду, солдаты держались поодаль, а казаки даже проявляли интерес к речам выступавших. Женщины из толпы были такими же смелыми, как накануне. Они приблизились к казакам, «умоляюще хватали» их за винтовки. «Уберите их! – упрашивали они. – Подумайте о своих матерях, любимых и женах!» Другие падали на колени и молили: «Мы ваши сестры, такие же рабочие, как и вы. Неужели вы будете колоть нас штыками?»{218}
Выступавшие один за другим вскакивали на постамент памятника и раззадоривали своими речами толпу, которая становилась все более агрессивной. Около двух часов дня Томпсон увидел, как на площадь въехали сани, в которых сидел хорошо одетый мужчина в мехах. Он прокричал толпе, чтобы его пропустили. Вместо этого его «вытащили из саней и избили». Томпсон видел, как тот побежал, чтобы укрыться в заброшенном трамвае поблизости, но несколько рабочих бросились за ним, и один из них, у которого в руках был «небольшой железный прут», все бил и бил в порыве ярости этого человека прутом по голове, пока она не превратилась «в месиво». «Похоже, после этого чернь почувствовала вкус крови», поскольку толпа затем ринулась вперед и принялась разбивать окна тех магазинов, в которых не было железных ставней или жалюзи. Некоторые из протестующих на самом деле были переодетыми полицейскими. Томпсон узнал одного из них. Это был сотрудник царской «охранки», который жил в той же гостинице, что и американец, но сейчас он был переодет в рабочего. Он выталкивал солдат с тротуара, как заправский «анархист худшего толка». Борис, переводчик Томпсона, подтвердил ему, что он прав: это был сотрудник «охранки». Было известно, что эти полицейские, смешиваясь с толпой, пытаются спровоцировать ее на нападения на солдат{219}.
К вечеру Харпер заявила, что, пройдя в тот день уже добрых полдесятка миль по городу, она совершенно измучена и хочет вернуться в гостиницу. Томпсон, однако, убедил ее остаться еще ненадолго. Они отошли в один из переулков и остановились понаблюдать. То и дело через площадь проезжали казаки, чтобы разогнать толпу, но это было бесполезно: «Толпа вновь смыкалась, пропустив их, словно вода за лодкой»{220}. Харпер и Томпсон вели наблюдение вдвоем: она смотрела в направлении Невского проспекта, а он – на площадь. Около четырех часов Томпсон услышал громкий взрыв: кто-то бросил гранату или бомбу с крыши Николаевского вокзала. Американский фоторепортер увидел, что люди в толпе инстинктивно подняли руки, показывая тем самым, что они были безоружны. Вскоре последовал второй взрыв, а казаки в это время ринулись в толпу.
И тут Харпер увидела, как на площади появился отряд «фараонов», «рубя саблями направо и налево». Внезапно один из казаков рванулся вперед, приблизился к офицеру полиции, который вел «фараонов» сквозь толпу, и зарубил его шашкой[44]. Офицер замертво упал с коня. После этого «казаки завопили и набросились на «фараонов», рубя шашками и размахивая плетками», пока полицейские «не дрогнули и не бросились в ужасе прочь»{221}. «Нужно было видеть в тот момент толпу, – писал другой очевидец-американец. – Люди целовали и обнимали казаков, взбираясь на лошадей, чтобы добраться до них. Другие целовали и обнимали их коней, сапоги казаков, стремена, седла. Им дарили сигареты, деньги, портсигары, перчатки – все что угодно». Переводчик Томпсона, Борис, казалось, был этим глубоко тронут. «Это великий день, – сказал он Томпсону, – казаки с народом». «Впервые в истории России казак не подчинился приказу»{222}.
По словам Харпер, человек пятьсот или около того отделились затем от толпы и пошли обратно на Невский проспект, неся «красный флаг, размеры которого превышали все, что мы до этого видели»{223}. Они с Томпсоном последовали за этой группой вверх по Невскому. Пока группа шла по проспекту, их трижды атаковала полиция и им «приходилось поворачиваться и бежать». Харпер ужасно боялась, что ее опрокинет и затопчет бегущая толпа, если она споткнется, но больше всего она боялась сабель полиции. Она решила возвращаться в «Асторию», но поскольку они с Томпсоном как раз приближались к зданию компании «Зингер», то подумали, что сначала они могли бы на некоторое время укрыться там, в консульстве США. За квартал до этого здания они увидели, что толпа собралась у витрин кондитерской «Пекарь», одной из сети кондитерских в гостинице «Европейская», в витринах которой были выставлены изысканные торты и кондитерские изделия (даже Лейтон Роджерс счел это «необдуманной и провокационной демонстрацией в такие трудные времена»). Толпа некоторое время смотрела на еду, «которая была ей не по карману», затем неожиданно один мастеровой разбил зеркальную витрину и схватил коробку печенья{224}. На шум стеклось еще больше людей, а следом за ними тотчас прибыла полиция и открыла огонь.
Артур Рейнке, американский инженер-телефонист из компании «Вестингауз», офис которой находился в здании компании «Зингер», с ужасом смотрел со своего балкона, как конные «фараоны» налетали на собравшихся людей, «избивая их нагайками», и как в ответ на это «народ загудел, взревел и начал бросать в полицию камни и бутылки». Рейнке хотел вернуться в гостиницу «Европейская», где он остановился, но толпа, собравшаяся у «Пекаря», «буквально заполнившая Невский от края до края…понеслась по улице прямо на меня, в то время как вдали поблескивали штыки, а мимо свистели пули». Сделав глубокий вдох, он бросился бежать к гостинице и, как он сам определил, тем самым «установил рекорд инженерного отдела в забеге на сто метров, добежав до дальнего угла гостиницы до того, как толпа отрезала мне путь», – и все лишь для того, чтобы обнаружить, что двери гостиницы были заперты на засов. Он стал громко стучать в дверь, пока портье наконец не впустил его внутрь{225}. Клод Анэ столкнулся с такой же проблемой, когда попал в толпу около гостиницы «Европейская»: он обнаружил, что «все двери, въезды» и другие средства спасения поблизости, «словно по волшебству», оказались плотно закрыты. С большим трудом ему удалось проложить себе путь сквозь толпу и укрыться в доме возле Аничкова моста{226}.
Бориса не удивило нападение на кафе «Пекарь»; как он сказал Томпсону, по слухам, «там было полно немецких агентов и комиссаров продовольствия, которые каждый день встречались там и решали, какую плату они будут взимать за продукты», поэтому толпа им за это и отомстила{227}. Кафе было полностью разгромлено, были убиты пятеро находившихся внутри посетителей, а также тот мастеровой, который разбил окно. Тела погибших быстро вынесли, витрину кондитерской заколотили, а «наметенный внутрь снег» тщательно вымели, но слухи об этом происшествии распространились по Невскому проспекту, «как пожар», и вскоре достигли Николаевского вокзала, где полиции снова пришлось применить свои замаскированные пулеметы, чтобы разогнать разгневанную толпу{228}.
Беспорядки возле кафе «Пекарь» происходили неподалеку от Англо-русского госпиталя, откуда медсестры видели толпы, идущие вниз по Невскому проспекту от здания компании «Зингер». В тот день медсестры постоянно выкраивали время, чтобы посмотреть на толпу и оказать помощь тем раненым, которых приводили с улицы. Канадскую медсестру Эдит Хеган поразила необычность ситуации: на фронте, как правило, медсестры впервые видели раненых только после сражения, когда тех доставляли в полевые госпитали, а здесь, в Петрограде, «нам стоило лишь выглянуть из окон нашего второго этажа – и мы везде видели беспорядки, раненых и умиравших, падавших повсюду, когда полиция время от времени проходила с рейдами по улицам». Она и еще трое ее соотечественников во второй половине дня спустились к Аничкову мосту, чтобы взглянуть на происходящее поближе, за что получили строгий выговор. Возвращаясь к своим наблюдательным пунктам у окна, они слышали «стрекот пулеметов, которые полиция замаскировала в домах»{229}. Их российские пациенты просили медсестер отойти подальше от окон, так как пули уже начали попадать в госпиталь.
Беспорядки продолжались на всем Невском проспекте до наступления темноты. Примерно в шесть часов вечера Арно Дош-Флеро и британский военный советник находились возле здания компании «Зингер». Им срочно пришлось искать себе укрытие, когда отряд «фараонов», с саблями наголо, выскочил из-за угла на тротуар на Невском проспекте и попытался разогнать толпу, нанося удары обратной стороной клинков{230}. Однако все это было бесполезно: на Невском проспекте в это время скопилось две или три тысячи человек (это была «бегущая толпа»), и Флеро видел, как «фараоны» закололи штыками несколько демонстрантов. Британец Берти Стопфорд[45], вращавшийся в светских кругах, из окна своей комнаты в гостинице «Европейская», одеваясь к концерту, увидел, как «толпа с Невского проспекта, все хорошо одетые люди, бежали, спасаясь, вниз по улице Михайловской; в панике неслись легковые автомобили и сани; все они стремились укрыться от непрекращающегося пулеметного огня»{231}. Он был свидетелем того, как автомобиль сбил «хорошо одетую даму», как перевернулись сани, а возницу подбросило в воздух, и он погиб. Люди победнее жались к стенам. Другие, в основном мужчины, остались лежать на снегу. Многих детей затоптали в толпе, много людей погибло под несущимися санями или же под напором толпы.
Томпсону, Харпер и Борису, которые по-прежнему находились на улице, приходилось то и дело искать себе укрытие{232}. Борис был уверен, что иногда солдаты стреляли холостыми или же в воздух, в противном случае жертв было бы гораздо больше. На поражение огонь вели в основном полицейские из пулеметов на крышах зданий{233}. Манифестанты в ответ использовали любое оружие, которое они только могли добыть: револьверы, самодельные бомбы, различные метательные предметы (бутылки, камни, куски железа, даже снежки). У некоторых были ручные гранаты, привезенные с фронта. В течение всего дня манифестанты обращались к солдатам с призывом переходить на их сторону{234}.
Николай II, находившийся в Ставке русских войск в Могилеве, почти за пятьсот миль от Петрограда, получил известие о том, что обстановка в Петрограде изменилась, в городе происходят беспорядки, хотя Протопопов и не решился передать императору, насколько серьезный оборот приняли события. Николай II полагал, что полиции и войскам было необходимо лишь принять более жесткие меры по отношению к нарушителям порядка, поэтому он не видел смысла возвращаться в Петроград. Вместо этого Николай II отправил телеграмму генералу Хабалову, приказав ему «завтра подавить непростительные с учетом трудностей войны с Германией и Австрией беспорядки в столице». Его жена отнеслась к событиям того дня как к «хулиганским выходкам», «выпусканию пара» рабочими; «юноши и девушки бегают и кричат, что у них нет хлеба, лишь для того, чтобы возбуждать толпу». Она полагала, что, если бы на улице было очень холодно, «они, вероятно, остались бы дома»{235}. Кроме того, у Александры были и более серьезные проблемы: трое из пятерых ее детей (Алексей, Татьяна и Ольга) слегли с корью.
Стараясь как-то отвлечься от драматических событий дня, Флоренс Харпер и Дональд Томпсон вместе с вице-консулом США пошли в тот вечер в Михайловский театр на премьеру французской комедии «Выдумка Франсуазы». Томпсону пьеса показалась скучной, и он вместе с Борисом ушел рано, чтобы еще походить по улицам заводских районов, где, по его мнению, «все было более увлекательно»{236}. Атташе французского посольства Луи де Робьен также был на премьере. Он вспоминал, что императорская ложа пустовала, Николая II не было, равно как и великих князей. Одной из актрис труппы, Полетт Пакс[46], показалось, что все представление было раздражающим, особенно публика, «вся в драгоценностях и в роскошных нарядах», с учетом того, что весь день происходило на улице. На ее взгляд, на постановку никто не обращал внимания: все были мыслями далеко, а аплодисменты были неискренними. «То, что мы делали, было просто смехотворно, – записала она в своем дневнике, – представлять комедию в такое время просто не было смысла»{237}.
Однако Артуру Рэнсому ситуация в городе виделась не такой уж и серьезной. В своей депеше в ту ночь он написал, что большинство людей («в том числе и многие женщины») вышли на улицу просто для того, чтобы посмотреть, как другие устраивают беспорядки. «Все ощущали некое смутное волнение, как в праздничный день, но в воздухе пахнет грозой», – писал он дальше, подчеркнув, что «между толпами людей и казаками установились очень хорошие отношения». Цель беспорядков оставалась довольно «неясной». Артур Рейнке был того же мнения: в ту ночь он увидел, что на улицах было полно народу, но люди просто «любопытствовали», несмотря на в высшей степени провокационные действия полиции{238}. Однако он наблюдал, как к 11 часам вечера, к началу введенного комендантского часа, все они поспешили вернуться домой, на улицах остались лишь «длинные ряды уродливо выглядящих казаков на своих невысоких лошадках, стоявших на некотором расстоянии друг от друга на другой стороне улицы», и большие пятна крови, которые виднелись на белом снегу, являясь «немыми свидетелями» того, что произошло в течение дня{239}. Дж. Батлер Райт навсегда запомнил «всепроникающий запах», который стоял тем вечером на Невском проспекте: это был запах «дезинфицирующих средств и медикаментов первой помощи, которую оказывали раненым на улицах»{240}.
Неугомонный Дональд Томпсон, гулявший по Петроградской стороне, продолжал вместе с Борисом свои поиски новых событий до двух часов ночи, когда они наконец лицом к лицу столкнулись с первым проявлением отвратительного насилия толпы. Навстречу им шла шумная группа, человек примерно шестьдесят, «которые на шестах несли две отрубленные головы». Как сказал Борис, это были головы офицеров полиции. Томпсону довелось увидеть много красного за тот день: красные флаги, красные пятна на снегу, а теперь отрубленные головы. На обратном пути в «Асторию» они увидели еще много тел, а позже Томпсон узнал, что «огромное количество полицейских было убито или тяжело ранено» толпами в Выборге и на Петроградской стороне{241}. Весь вечер в субботу в этих районах стояли крики и стоны, слышалась постоянная стрельба – насилие продолжалось. Филип Шадборн, однако, по-другому воспринимал происходящее в тот день: как важную веху и, возможно, обнадеживающий переход от «одной полосы к другой» – от «черной полосы страдания и несправедливости» к «красной полосе восстания и яркой героики»{242}.
Прекрасным, безоблачным, солнечным воскресным утром на следующий день в городе стояла зловещая тишина, однако в течение ночи генерал Хабалов принял решение применить драконовские меры, чтобы удержать ситуацию под контролем. По всему городу были расклеены новые объявления о том, что все рабочие обязаны вернуться на свои рабочие места к 28-му числу, во вторник, а те, кто имел отсрочку от военной службы, должны быть немедленно направлены прямо на фронт. Было запрещено собираться на улице в группы более трех человек. На заседании Совета министров, которое длилось с полуночи до 5 часов утра, генерал Хабалов заверил собравшихся, что на улицы будет выведено 30 000 солдат при поддержке артиллерии и бронемашин и что им будет приказано применять против демонстрантов самые решительные меры{243}.
Ночью все разводные мосты через Неву были подняты, а к остальным приставлена усиленная охрана, имевшая на вооружении бронемашины и пулеметы. Толпы людей снова вышли на лед, и там скопилось так много народа, что переходить Неву приходилось медленно. В то утро казаков на улицах было меньше, но стало больше полицейских патрулей, а все мосты, связывающие Невский проспект с Екатерининским каналом и реками Мойкой и Фонтанкой, находились под охраной армейских подразделений, которые также контролировали территорию вокруг железнодорожных вокзалов. К полудню многие из этих позиций были усилены пулеметными точками. Можно было также видеть повозки Красного Креста, расставленные в переулках в ожидании неизбежного возобновления насилия{244}. На этот раз Хабалов хотел действовать наверняка и проследил за тем, чтобы на Невском проспекте стояли в основном подразделения хорошо подготовленных гвардейских полков, направленные из военных академий. Все они были хорошо вооружены, у них были винтовки со штыками – власти предполагали, что, как и казаки, солдаты будут неохотно выполнять приказ открывать огонь{245}.
Казалось, в то утро весь город вышел на улицу и пошел пешком, поскольку ни конки, ни извозчики не ездили. Складывалось впечатление, что люди были твердо намерены, несмотря ни на что, попасть в храмы, как обычно, или просто прогуляться по хорошей погоде по Невскому. Семейные пары везли детей в колясках так же, как и обычным воскресным днем. Дети катались на катке в Адмиралтейском саду. Когда Дональд Томпсон вышел из «Астории» с Флоренс Харпер, ему показалось, «что все дети в Петрограде отправились на прогулку»{246}.
Тем не менее большинство магазинов и кафе на Невском проспекте были закрыты, на многих из них были закрыты ставни, другие были поспешно забиты досками{247}. Луизе Патуйе город показался «разворошенным», ее тревожили те изменения, которые внесли беспорядки в жизнь столицы. Несмотря на, казалось бы, беззаботно гулявшие семьи, за ночь атмосфера в городе накалилась и переросла в нечто более мрачное, более обостренное. Как отметил один приезжий англичанин, революция «висела в воздухе». Организация выступлений происходила по-прежнему стихийно, «разрозненно, кое-как»{248}. Власти предупредили иностранных граждан о том, чтобы те не выходили на улицу, но Томпсон и Харпер не смогли устоять против искушения еще раз вместе с Борисом смешаться с толпой на Невском, хотя, как вспоминала потом Харпер, «нам всем обстановка показалась весьма опасной». Люди жаждали новостей, и вокруг всякого, кто мог что-нибудь сообщить, сразу же собирались небольшие группы{249}. Помимо обсуждения, сколько уже было убитых и раненых, самой распространенной темой разговоров (и это неоднократно слышали иностранные очевидцы событий) являлось то, что по мирным жителям стреляли в основном переодетые в солдат и казаков «фараоны». Люди были уверены в этом, потому что «фараоны» «ездили на крупных, ухоженных конях», а лошади казаков были «очень невысокими, косматыми и вообще имели неопрятный вид». Люди сразу же видели эту разницу{250}.
К полудню все выходы на Невский проспект были заблокированы плотной толпой. Люди все прибывали и прибывали со всех районов города и пытались попасть на проспект. Томпсон и Харпер направились в «Медведь», самый популярный французский ресторан на Большой Конюшенной возле здания компании «Зингер». Они хотели успеть пообедать до того, как в ресторане закончится ограниченный запас хлеба. Томпсон был хорошо подготовлен к тому, чтобы запечатлеть возможные события: у него при себе была спрятанная в сумке «гироскопическая фотокамера»{251}. Выйдя из ресторана и отправившись вниз по Невскому, за Аничковым мостом они увидели толпу, размахивавшую красными флагами и распевавшую «Марсельезу». «Эти бедолаги сейчас получат свое», – предрек Томпсон. Они с Харпер повернули обратно, пытаясь найти себе укрытие, – и тут позади взревела толпа. Они увидели, как «пятьдесят человек конных полицейских, переодетых солдатами» набросились на манифестантов и оттеснили их в один из переулков.
Но как только они расчистили место от этой толпы, на мосту уже собралась другая. Какой-то студент взобрался на одну из конных статуй и начал размахивать красным флагом и произносить речь. Томпсон остановился, чтобы сделать снимок, и увидел, как масса людей пошла прямо на «смертельный стрекот пулеметов и треск винтовочных выстрелов». Он увидел, как полицейские привезли пулемет и установили его посередине трамвайных путей. «Раздавался залп за залпом, – вспоминала Харпер. – Было множество погибших, кричали раненые, которых топтала толпа». Вскоре все вокруг лежали плашмя на тротуаре или в снегу, в том числе Томпсон и Харпер. Им казалось, что «сам ад разверзся на Невском», огонь над их головами велся буквально «отовсюду», кроме помещений магазинов позади них. По ним вели огонь также те пулеметы, которые были установлены на крышах зданий, их очереди «поливали свинцом все вокруг»{252}.
Томпсону удалось сделать несколько снимков, прежде чем они с Харпер кинулись прочь. Они разбили окно в магазине перчаток и забрались внутрь в поисках укрытия, а следом за ними туда забрались еще человек десять-пятнадцать, многие из которых были ранены. Томпсон и Харпер увидели, как прямо на их глазах была убита маленькая девочка, которой пуля попала в горло, а стоящая рядом с ними хорошо одетая женщина упала с криком – ей пулей раздробило колено. Выбравшись наружу, Томпсон и Харпер снова были вынуждены броситься наземь – от Аничкова моста из винтовок вела огонь полиция. Вокруг на снегу лежали мертвые и умирающие. Томпсон насчитал двенадцать погибших солдат. Харпер заметила, что женщин и детей среди пострадавших было больше, чем мужчин; всего она насчитала тридцать погибших. Оба репортера пролежали в снегу более часа, они онемели от холода, но были слишком напуганы, чтобы двигаться. У Харпер «появилось ощущение, что она замерзнет насмерть», ей захотелось плакать. Но потом появились кареты «Скорой помощи», которые собирали мертвых и раненых, и американцы поняли, что им повезло: они смогли сделать вид, что ранены, и их подобрали и доставили в безопасное место{253}.
Медсестры Англо-русского госпиталя также видели этот обстрел, под который попали Томпсон и Харпер неподалеку от Аничкова моста. Медсестра Дороти Коттон совершенно точно знала, что беспорядки возобновятся к трем часам дня. Примерно без четверти три персонал госпиталя стоял у окон и видел, как рота солдат лейб-гвардии Павловского полка выстроилась на пересечении Садовой и Невского проспекта (западнее Аничкова моста), ей было приказано очистить улицу. Леди Сибил Грей видела, как солдаты «залегли в снегу и дали залп по людям в толпе», которые упали как подкошенные{254}. Затем с крыши открыли огонь из пулемета, пулеметные очереди «поливали всю улицу», в то время как люди пытались отползти по-пластунски. Другие «со всех ног помчались прочь. Они бросались в переулки, прижимались к стенам домов, прятались за сугробами или за трамвайными стойками». Как вспоминала леди Сибил Грей, это была «совершенно ненужная провокация со стороны полиции».
По воспоминаниям Эдит Хеган, многие укрылись на входе в госпиталь{255}. Ее очень впечатлили казаки, которые скакали вверх и вниз по Невскому, как «охристый росчерк», пытаясь расчистить проспект от толпы. Она видела, как один из них устремился к человеку, который, видимо, руководил толпой, и как этот казак «взмахнул своей шашкой. Я видела, как шашка, описав в воздухе дугу, опустилась, и, затаив дыхание от ужаса, наблюдала, как она аккуратно смахнула макушку шляпы этого человека. Человек при этом, казалось, «ничуть не испугался» и «спокойно пошел дальше, а толпа, не делая различий, шумно подбадривала их обоих». Совсем недавно, добавляла она, «тот же самый казак, возможно, уже отрубал людям головы»{256}.
Когда все успокоилось, люди бросились помогать раненым. Филип Шадборн видел, как «два молодых рабочих в высоких сапогах и черных куртках лежали навзничь, и изо рта у них била кровь». «Когда я стоял над ними и смотрел в их уже незрячие глаза, какая-то женщина склонилась над ними, вглядываясь в их лица, и с содроганием сказала: «Какой ужас! Мальчишки ведь, совсем мальчишки!»{257} Рядом прошли «шестеро мужчин в зеленых студенческих фуражках», они «несли по улице над собой тело на щите для объявлений». Кто-то остановил проезжавший мимо лимузин, заставил двух его пассажиров выйти, посадил туда раненых и велел шоферу везти их в больницу. Шадборн видел, как то же самое произошло и «с двумя частными санными повозками». Повсюду люди уносили раненых и убитых; некоторые тела оставались лежать грудами, пока за ними не приехали повозки и машины «Скорой помощи».
В Англо-русском госпитале все 180 коек уже были заняты ранеными с фронта, и госпиталь мог оказать только первую помощь тем полутора десяткам пострадавших в уличных беспорядках, которых тут же привезли к ним. Как вспоминала Эдит Хеган, многие из них умерли почти сразу после того, как их доставили в госпиталь{258}. Она и другие медсестры сделали для раненых все, что могли, «но ночью пришли представители власти и забрали их всех, кроме двух или трех, которые были уже при смерти, и их нельзя было трогать». Еще восемнадцать раненых были доставлены в здание городской Думы неподалеку от Англо-русского госпиталя чуть дальше вниз по Невскому проспекту, которое студенты помогли превратить в импровизированный пункт Красного Креста. Всю вторую половину дня леди Сибил Грей наблюдала за тем, как по проспекту беспрерывно ездили взад-вперед машины «Скорой помощи». В одну из больниц было доставлено триста раненых. Еще шестьдесят раненых привезли в Мариинскую больницу на Литейном проспекте, а в Обуховскую больницу на Фонтанке – больше сотни человек{259}.
Ранним вечером на Знаменской площади произошло «самое кровопролитное событие революции», как позже его назвал Роберт Уилтон. На этой площади плотная толпа народа с Невского проспекта слилась с другой массой людей, пришедших с Лиговской, большой улицы к югу от площади{260}. Как вспоминал преподобный Джозеф Клэр, пастор Американской церкви[47], который был свидетелем этого события, «местные полицейские чины ездили верхом среди толпы и велели ей расходиться. Собравшиеся знали, что солдаты были на их стороне, и отказывались подчиниться». Перед гостиницей лицом к площади были выстроены солдаты 1-го и 2-го учебных рот Волынского полка. Когда их командир отдал приказ стрелять по толпе, чтобы разогнать ее, солдаты стали просить людей расходиться, чтобы им не пришлось применять оружие, но народ не сдвинулся с места. Разгневанный офицер велел арестовать одного из солдат за неподчинение и снова приказал открыть огонь. «Солдаты стали стрелять в воздух, а офицер разозлился и пытался заставить каждого солдата вести огонь по толпе», – вспоминал Клэр. В конце концов он выхватил свой пистолет и сам открыл стрельбу. Потом «вдруг раздался стрекот пулеметных очередей. Люди не верили своим ушам, но сомнений быть не могло, поскольку в подтверждение услышанного они увидели, как падают раненые и убитые»{261}. Роберт Уилтон тоже видел это: пулемет «Максим», установленный на крыше соседнего здания (вероятно, тот самый, который накануне видел Дональд Томпсон), открыл огонь по толпе. В это время произошло нечто из ряда вон выходящее: отряд казаков, стоявший на площади, развернулся и стал стрелять по пулеметчикам на крыше дома. «Это был настоящий ад», – вспоминал Уилтон, толпа «гневно взревела» и начала рассеиваться за зданиями и по внутренним дворикам. Оттуда некоторые из них начали стрелять по солдатам и полиции. Было убито около сорока человек, сотни были ранены{262}.
«Раскаты братоубийственных столкновений» продолжали разноситься эхом по всему Невскому проспекту до самой темноты. Небольшие группы людей постоянно бродили по округе, некоторые из них были вооружены. Как вспоминал Филип Шадборн, толпа «была взбудоражена и возбуждена», но город был так велик, а улицы так широки, что часто столкновения происходили совершенно независимо одно от другого и, чтобы узнать о произошедшем где-либо, требовалось время{263}. Как заметил один американец, в тот день было «в высшей степени странное ощущение», «в какой-то части города все было совершенно тихо и спокойно, но стоило только завернуть за угол, как можно было увидеть там кареты «Скорой помощи», подбиравшие убитых и раненых»{264}. Артур Рэнсом в телеграмме сообщал, что он «юркнул» за угол, спасаясь от пулеметного огня, и обнаружил, как там «мирно соскребали лед с тротуаров четверо мужчин со скребками»{265}. Дело в том, что было много случайной стрельбы, и при этом никто не знал, где свой, а где враг, и следить за событиями в таких условиях журналистам было и трудно, и опасно.
Как ни была Флоренс Харпер измучена, движимая профессиональным инстинктом, она оставалась на улицах до наступления темноты; по ее словам, «на улицах было так захватывающе интересно!». Вернувшись в «Асторию», она случайно услышала, как толстый торговец обувью из Чикаго сокрушался, что ему ни за что не поверят, когда он «будет рассказывать, сидя за кружкой пива в своем любимом кафе в Чикаго, окруженный благосклонными слушателями», «безумные истории о том, как он шесть кварталов бежал от разъяренных толп и пулеметного огня». «Да меня просто назовут лжецом!» – кричал он. Он застрял в «Астории», возвращаться к себе в гостиницу около Николаевского вокзала ему было слишком опасно, и он провел в «Астории» еще три дня, повторяя свой рассказ о чудесном спасении. «Надеюсь, что его друзья в Чикаго поверят ему», – писала позже Харпер, потому что и сама она, и Томпсон, и многие другие иностранцы являлись свидетелями произошедшего в тот день, «и он был одним из них»{266}.
Точного количества убитых в воскресенье не знал никто: Роберт Уилтон полагал, что их было, по крайней мере, человек двести, другие (например, Харпер и Томпсон) старались отмечать, сколько они увидели убитых и раненых в отдельные моменты столкновений. Некоторые погибли под пулеметным огнем на Невском проспекте и в переулках, а также на Знаменской площади, других затоптали насмерть кони «фараонов» или казаков. Жертв столкновений отправляли куда попало: в больницы и госпитали, на временные перевязочные пункты, в морги или просто домой, к друзьям и родственникам. Точных подсчетов никто не вел. Многие из пострадавших умерли, доказательства произошедшего в тот день были видны повсюду. Роберт Уилтон отмечал: «Я видел сотни гильз, валявшихся на залитом кровью снегу»{267}.
После наступления темноты, когда толпы покинули Невский проспект, солдаты, занятые подавлением беспорядков на Знаменской площади и на Невском, возвратились в свои казармы, обозленные и расстроенные тем, что их заставили открыть огонь по толпе. Роберт Уилтон пришел в посольство Великобритании, чтобы повидать потрясенного сэра Джорджа Бьюкенена, которому только что удалось последним поездом добраться обратно в Петроград из Финляндии, где он недолгое время находился на отдыхе. Он вернулся в самый разгар революции. «Я шел по Летнему саду, когда над моей головой засвистели пули», – вспоминал Уилтон{268}. Сотня солдат Павловского полка, казармы которого находились близ Марсова поля, услышав, что ранее в тот день 4-й роте было приказано открыть огонь по толпе недалеко от перекрестка Садовой и Невского, перешла к решительным действиям. Солдаты были уверены, что это полиция «провоцировала кровопролитие»{269}. Они отправились на Невский, прихватив с собой несколько винтовок и боеприпасы и намереваясь отговорить своих товарищей стрелять по демонстрантам, но по пути их перехватили конные полицейские. Завязалась перестрелка, однако у солдат вскоре закончились патроны, и они были вынуждены вернуться в свои казармы, где и сдались властям. Девятнадцать зачинщиков были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость, остальные были заключены под стражу в казарме. На распространение новостей об этом мятеже был сразу же наложен запрет, но информация о нем вскоре все же просочилась{270}.
Актриса Полетт Пакс, возвращаясь в тот вечер обратно в Михайловский театр, гадала, состоится ли представление «Выдумки Франсуазы» или нет. Придя в театр, она обнаружила, что все актеры труппы были взбудоражены и беспрестанно обсуждали сообщения о жестоких событиях этого дня. В тот вечер им совсем не хотелось играть комедию, да и зрительный зал был практически пуст. Однако по правилам спектакль можно было отменить только в том случае, если в зале будет менее семи зрителей. К великому сожалению Пакс, билетов было продано больше. К своей чести, актеры вышли на сцену и исполнили свои роли, «как будто зал был полон»{271}.
Представителями этой небольшой аудитории были сотрудник посольства Великобритании Хью Уолпол и Арно Дош-Флеро, которые превосходно проводили время. Там также была Стелла Арбенина, англичанка, которая вышла замуж за барона Мейендорфа. Когда она приехала в театр, на улицах было «совершенно тихо и спокойно», и она отослала своего кучера и карету домой, чтобы они не мерзли, ожидая ее на холоде в течение двух часов. Войдя в театр, она почувствовала беспокойство и разочарование, обнаружив в зрительном зале всего около пятидесяти человек, хотя французские пьесы обычно собирали аншлаг. Все в тот вечер «выглядели неуместно и как будто извинялись за свое поведение». Пожалуй, худшим моментом того вечера в театре стал антракт, когда всем присутствующим русским офицерам пришлось, по традиции, встать и стоя отдавать честь пустующей императорской ложе, что оказалось «данью пустого уважения» к отсутствующему царю{272}.
Мариинский театр, обычно заполненный до отказа, на представлении балета «Ручей» тоже остался полупустым. Ниже по Фонтанке, во дворце княгини Радзивилл, шел своим чередом долгожданный прием. Каретам гостей, правда, не позволили въехать на Невский проспект, и им пришлось совершить длинный объезд. Шарль де Шамбрюн и Клод Анэ, которые находились среди приглашенных, отмечали, что гости выглядели озабоченными, хотя и «пытались танцевать, невзирая на это». Анэ наблюдал, как танцевать вышел великий князь Борис Владимирович, и спросил себя, не стал ли он свидетелем «последнего танго» этого отпрыска русской аристократии. На приеме был и Берти Стопфорд, жадно вбирая последние капли классического имперского декаданса. Он пробыл там до четырех утра, а затем, когда князь Радзивилл отправил его обратно в гостиницу на личном автомобиле, «случайные пули все еще свистели над головой»{273}.
Морис Палеолог был измотан, поскольку весь день «его буквально осаждали встревоженные представители французской диаспоры», которые мечтали выбраться из Петрограда. Вечером он вышел поужинать с приятелем, не планируя ехать к Радзивиллам. Однако по дороге домой он проходил мимо дворца и увидел стоявшую у ворот длинную вереницу автомобилей и карет. Прием был в самом разгаре, но Морис не стал присоединяться к гостям. Как он отметил тем вечером в своем дневнике, Сенак де Мельян, историк Французской революции, записал, что в ночь на 5 октября 1789 года в Париже также было «много веселья!»{274}.
Когда припозднившиеся гости возвращались с различных вечеринок по домам, они почувствовали, что в городе стало ужасно жутко. Стелла Арбенина заметила это, выйдя из Михайловского театра. Обычно площадь перед театром была полна народу: там сидели в ожидании извозчики, стояли сани и автомобили, чтобы развезти театралов по домам, там же гуляла «веселая толпа закутанных в меха людей». Но в ту ночь площадь была «совершенно пуста», не было ни извозчиков, ни саней, как обычно, и ей пришлось идти домой под лунным светом и при сильной стуже. «То и дело раздавались отдаленные выстрелы, но улицы, по которым мы шли, были совершенно пустынны». Тишина вокруг была зловещей, и «снег под ногами скрипел неестественно громко». Петроград казался вымершим городом.
Клод Анэ тоже заметил этот ложный дух «спокойствия». Петроград был «пустынным, мрачным, почти не освещенным». На каждом перекрестке, охраняя Невский проспект, по-прежнему стояли военные кордоны. То здесь, то там виднелись казачьи патрули, проезжавшие по заснеженным улицам, окутанные клубами белого пара, который валил от спин их лошадей. Как вспоминал Анэ, было такое ощущение, будто идешь сквозь один большой военный лагерь{275}. Норман Армор, допоздна засидевшийся на приеме у Радзивиллов, тоже заметил это, возвращаясь домой на квартиру с видом на Неву: «Я чувствовал себя так, будто я опять оказался во временах Крымской войны», – вспоминал он. Было очень холодно, и «патрули на улицах жгли костры и складывали свои винтовки рядом с ними, так же, как на старинных картинах в Эрмитаже»{276}. Единственным освещением был мощный луч прожектора, установленный на шпиле Адмиралтейства, который скользил вверх и вниз по пустынному Невскому. Проспект в его свете «тянулся вдаль широкой полосой жуткой белизны»{277}.
В Государственной думе в Таврическом дворце весь день шли судорожные заседания. Председатель Думы Родзянко, раздраженный отсутствием ответа от царя, взял инициативу в свои руки и телеграфировал ему в Ставку о серьезности сложившейся ситуации. Он предупредил, что в столице царит анархия, поставки продуктов питания, топлива, а также транспорт находятся в состоянии хаоса. Пытаясь внушить царю ужас перед происходящим, Родзянко утверждал, что правительство «парализовано». Это было, пожалуй, преувеличением и противоречило сообщениям генерала Хабалова, который стремился убедить царя, что ситуация находилась под контролем. Родзянко, однако, настаивал на том, что для разрядки этой опасной обстановки крайне важно незамедлительное формирование нового правительства, к которому народ бы испытывал доверие. Опасаясь переворота в Думе, вмешался премьер-министр Голицын и предвосхитил действия Родзянко по ее роспуску. В ожидании ответа Николая II он приостановил работу Думы. (Николай II, как потом выяснилось, решил, что от него никакого ответа не требуется.) Родзянко был возмущен: он настаивал на том, что Дума является конституционным органом власти в России и приостановка ее деятельности является нарушением российского законодательства. Он призвал своих коллег сплотиться и поддержать его. Как результат, был поспешно организован Временный комитет Государственной думы{278}.
Теперь революция была политически продекларирована как среди представителей власти, так и среди гвардейских полков и истово верных царю казаков. Рабочие, возмущенные безразборчивой стрельбой по толпе, создали свои вооруженные формирования. Весь воскресный вечер они провели, обсуждая планы не только продолжить забастовки и демонстрации, но и захватить оружие, чтобы превратить мирные протесты в вооруженное восстание. «Сегодня с часа дня это воскресенье стало для России кровавым», – написал Дональд Томпсон своей жене, когда он наконец вернулся в тот вечер к себе в «Асторию». Он ходил по улицам по морозу до половины четвертого утра, предъявляя свой американский паспорт, чтобы пройти через баррикады и, время от времени возвращаясь, чтобы согреться. Куда бы он ни пошел в тот вечер, он везде наталкивался на «агрессивного вида толпы». До него дошли слухи о мятеже среди некоторых армейских формирований. «Если это распространится на другие полки, Россия буквально в течение нескольких часов станет республикой», – написал он ей{279}. Теперь все зависело от того, как поведут себя в понедельник настроенные против правительства воинские части, в частности Павловский, Волынский и Преображенский полки. «Мне хотелось бы, чтобы ты отправила мне немного сахара, – добавил Томпсон. – А еще мне нужны таблетки хинина и аспирина». Он чувствовал себя неважно. Но, как оказалось, в течение трех последующих дней у него не будет возможности снова написать ей.
Глава 4 «Случайная революция»
Все воскресенье Лейтон Роджерс и его коллеги из филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка в Петрограде были вынуждены провести в своем офисе на Дворцовой набережной: выходить из здания было слишком опасно. Они сидели там весь день и весь вечер, «прислушиваясь к треску винтовочных выстрелов и к стрекоту пулеметов, гадая, что же все это значит». Им эти звуки казались «хуже, чем это было в действительности», пришел к выводу Роджерс, но они не рисковали без надобности и свет в помещении не включали. Когда стало уже так темно, что они не могли ничего разглядеть, им пришлось прекратить читать и писать письма. К тому времени терпению Честера Свиннертона наступил конец. Коллеги называли его «графом» за вызывающе закрученные усы, которые были под стать браваде этого выпускника Гарварда. Свиннертон вскочил на ноги и заявил с театральным жестом, что они – «замечательная компания американцев» и не должны бояться «небольшой перестрелки». «Что проку сидеть здесь всю ночь? – вопрошал он. – Пуля может влететь в окно и убить любого ровно так же, как и на улице. Я не собираюсь здесь оставаться, я пойду домой, и черт с ней, со стрельбой, и буду спать в нормальной постели. Спокойной ночи!»{280}
С этими словами Свиннертон надел шляпу, пальто и галоши и хлопнул дверью. Но далеко уйти он не успел, так как столкнулся с «каким-то мутным типом», у которого в руках был «довольно большой пистолет, настоящий такой ствол. Не наши курносые револьверчики, а настоящий пистолет, и в его руках эта штуковина мне совсем не понравилась, вот совсем нисколько». Поняв, что он столкнулся с рядовым представителем нового революционного народа, каких много теперь рыскало по улицам с оружием – они с ним и обращаться-то почти не умели, – и видя еще человек пятьдесят или больше поодаль, ведущих беспорядочную стрельбу, Свиннертон решил «дать деру обратно в банк». Его коллеги слышали выстрелы из винтовок и пулеметные очереди, когда Свиннертон ворвался обратно. «Ну, я, пожалуй, пока домой не пойду, – смущенно сказал он. – Там холодно, а здесь тепло»{281}.
В ту ночь, поделив последние сигары и сигареты, они все улеглись как пришлось, накрывшись своими тяжелыми кителями. Но спокойно поспать в такой обстановке – на богато украшенных позолотой диванах под хрустальными люстрами бывшей мавританской гостиной турецкого посольства, располагавшегося в этом здании раньше[48], – было затруднительно, мешало резкое несоответствие пышности этого помещения их нынешней ситуации{282}. Они провели там и весь понедельник, питаясь черным хлебом, щами и чаем. Время от времени кто-нибудь из них выбегал на улицу, чтобы посмотреть, «не видно ли чего», но, обнаружив, что там действительно было на что посмотреть (и даже слишком), снова мчался обратно{283}.
Посол США Дэвид Фрэнсис благоразумно принял к сведению официальные предупреждения об опасности и во время беспорядков в выходные дни не покидал здание посольства. По его просьбе посольству была предоставлена охрана из восемнадцати вооруженных солдат, но посол понимал, что их «надежность» была «весьма относительной»{284}. Его также беспокоило то, что некоторые сотрудники посольства без нужды рисковали, выбегая на тротуар перед посольством, и, вытягивая шеи, пытались разглядеть, что происходит. Он приказал им вернуться в здание и закрыть ворота на засов{285}. И поступил очень правильно, поскольку события принимали такой драматический оборот, что тот день получил впоследствии название «кровавый понедельник». Все происходило так быстро и непредсказуемо, что можно было в любой момент оказаться под перекрестным огнем.
Мэриэл Бьюкенен, гостившая у друзей за городом, в восемь утра приехала обратно в Петроград и была поражена тем, что она увидела. Она обнаружила, что трамваи не ходят, что нет ни одного извозчика и ей с багажом совершенно не на чем доехать до посольства Великобритании. Резко, необратимо изменившийся за время ее отсутствия Петроград ее ужаснул: «В мрачном, сером свете раннего утра город выглядел невыразимо заброшенным и опустевшим, от вокзала тянулись пустынные, голые, отвратительные улицы с покрытыми грязной штукатуркой домами по обе стороны, и после белоснежного сельского простора все это казалось своего рода квинтэссенцией безотрадности»{286}. Но это было еще не все: в самом воздухе города витали страх и напряженное ожидание, отчего ее родители очень тревожились и были несказанно рады вновь увидеть ее дома. Почти все утро Мэриэл провела взаперти, ей «было запрещено выходить на улицу…и она просидела на большой лестнице посольства, собирая любые новости ото всех, кто проходил мимо».
В одиннадцать часов стало ясно, что столица оказалась в гуще революционных событий, поскольку к этому времени беспорядки приняли «угрожающие масштабы» и происходили уже не на Невском проспекте, а на северной оконечности Литейного, возле районного суда, всего в полутора кварталах от посольства США на Фурштатской улице, и еще того ближе к посольству Великобритании на Дворцовой набережной{287}. Несмотря на то что Дэвид Фрэнсис весь день в понедельник просидел за рабочим столом, пытаясь разобраться в бурных событиях прошедших дней и описать их в подробной депеше в Вашингтон, которую, кстати, так и не удалось отправить из-за того, что телефонная линия была перерезана какими-то хулиганами, сэр Джордж Бьюкенен настоял на том, чтобы в 11.30 утра, как обычно, ехать на прием в российское Министерство иностранных дел вместе со своим французским коллегой Морисом Палеологом{288}. Оба дипломата были весьма прямолинейны в разговоре с министром иностранных дел Николаем Покровским, как сообщил Бьюкенен позже в шифрованной телеграмме в Лондон. Бьюкенен заявил, что в такой момент, как сейчас, «прервать работу Думы – сумасшествие», поскольку в этом случае остановить восстание будет невозможно. Покровский заверил, что будет объявлена «военная диктатура», а также сообщил, что Николай II направил с фронта войска для «подавления мятежа», но это лишь еще больше встревожило обоих послов. Им стало совершенно ясно, что Николай II, к сожалению, вновь не пошел на примирение и на какие-либо политические уступки. Бьюкенен был убежден, что подобные драконовские меры и политика репрессий, главным вдохновителем которых был реакционно настроенный Протопопов, не приведут ни к чему хорошему. Они были способны лишь обострить ситуацию, и Россия «окажется лицом к лицу с революцией» в тот самый момент, когда наступил решающий этап в войне{289}. Палеолог разделял опасения Бьюкенена, мрачно размышляя о бурных периодах истории своей страны: «В 1789, 1830 и 1848 годах три династии французских королей были свергнуты, потому что они слишком поздно осознали значимость и мощь тех, кто выступил против них»{290}.
Решающий поворот в событиях фактически наступил уже в первые часы понедельника, 27 февраля, когда армия, как многие и предсказывали, приступила к подавлению мятежа. В три часа утра из своей комнаты в «Отель де Франс» Арно Дош-Флеро услышал «оживленную перестрелку» где-то поблизости. Он оделся и вышел осмотреться, но все дороги были перекрыты, так что он не смог никуда пройти. Однако он утверждал, что звуки выстрелов доносились из казарм Волынского полка неподалеку от места, где река Мойка пересекается с Екатерининским каналом. Ночью, следуя примеру павловцев, некоторые из солдат Волынского полка, получившие приказ стрелять по толпе в воскресенье, приняли решение не подчиняться и подняли мятеж{291}. Во время построения для несения караула некоторые из них повернули оружие против своего командира и застрелили его. Однако им не удалось склонить на свою сторону остальных, поэтому мятежные солдаты направились агитировать другие полки, попутно объединившись со сторонниками из простонародья. Около половины девятого Морис Палеолог услышал, одеваясь, «продолжительный гул», который шел со стороны Литейного моста. Он увидел, как полк солдат приближается к беспорядочной толпе людей, идущих с Выборгской стороны. Палеолог ожидал, что сейчас начнется «вооруженное столкновение», но вместо этого «обе массы людей объединились». «Армия браталась с повстанцами»{292}. Таким образом, уже тем утром был пройден рубеж, после которого не было пути назад.
Объединение армейских частей и революционеров шло нарастающими темпами. Мятежники из Волынского полка направились в расположение батальона Преображенского и Литовского полков, а также 6-го инженерного батальона – все эти части находились неподалеку. Большинство солдат этих полков вскоре присоединились к волынцам, а солдаты 6-го инженерно-саперного батальона даже привели свой полковой оркестр. В тот день командиры Преображенского и Волынского батальонов были убиты своими солдатами; кроме них, погибли также многие другие офицеры. Особенно негативные последствия имело дезертирство солдат легендарного Преображенского полка из казарм неподалеку от Зимнего дворца, потому что они являлись лучшими из старых гвардейских полков, их полк был известен как «главная гордость и защита трона». Он, как и казаки, до этого времени являлся оплотом царской власти{293}. В то утро Дональд Томпсон, проходя через Марсово поле по пути в посольство США, оказался среди ликующих по поводу мятежа солдат: «Солдаты стреляли из винтовок залпами в воздух… Вместо того чтобы относиться ко мне как к врагу, некоторые из них протягивали ко мне руки и целовали меня». У Томпсона при себе был фотоаппарат, и Дональд стал фотографировать. Солдаты с удовольствием позировали, никто и внимания не обратил, когда он остановился, чтобы сфотографировать трупы «двадцати двух офицеров, убитых» во время беспорядков тем утром{294} [49].
В первые часы большинство мятежных солдат, казалось, были дезориентированы и находились словно в ступоре от судьбоносности принятого решения, в течение некоторого времени они не понимали, куда надо идти и что следовало делать, кроме того, чтобы подстрекать к дезертирству солдат других полков. Одна такая группа прорвалась сквозь заграждение, выставленное у места расположения солдат учебного отряда Московского полка, которые охраняли подходы к Литейному мосту, и подошла к казарме Московского полка на Сампсониевском проспекте на Выборгской стороне. Здесь часть полка в конце концов была сагитирована и во второй половине дня присоединилась к ним, захватив полный грузовик винтовок. Единственное сохранившее дисциплину вооруженное подразделение в городе, самокатный батальон, противостоял попыткам агитации и не поддался на провокационные призывы присоединиться к мятежникам{295}. Те же пребывали в такой эйфории, что многие из них просто бесцельно бродили и выкрикивали что-то, подбадривая друг друга и переругиваясь, «как школьники, сбежавшие с уроков». На какое-то время вся инициатива толп, состоявших из солдат и гражданского населения города, сводилась лишь к позерству или к бесцельному столпотворению на перекрестках. Но становилось очевидно, что повстанцам было необходимо вооружаться.
Именно для этого около десяти часов утра группа людей явилась в Старый арсенал в верхней части Литейного проспекта у перекрестка со Шпалерной улицей, где находились Управление артиллерии и небольшой оружейный завод. Эта группа вломилась в ворота Арсенала и убила отвечавшего за охрану помещений пожилого полковника{296}. В это время в здании находился британский военный атташе генерал-майор Альфред Нокс, общавшийся со своими российскими коллегами, он увидел «огромную беспорядочную массу солдатни, заполонившую всю широкую проезжую часть улицы и ее тротуары». Командиров-офицеров среди них не было, вместо этого ими руководил «крошечного роста, но очень горделивый студент»{297}. Нокс и его коллеги сгрудились у окон, им хотелось посмотреть, что будет происходить. Сначала повисла «жуткая тишина», потом раздался грохот – на первом этаже начали крушить окна и двери. Завязалась перестрелка, и толпа хлынула внутрь, убив и ранив несколько человек, охранявших помещение. В безумном неистовстве толпа хватала все подряд – винтовки, револьверы, шпаги, кинжалы, боеприпасы и пулеметы – все, что попадалось под руку. В разграблении увлеченно участвовали и солдаты, и гражданские лица. Перегнувшись через перила лестницы, Нокс наблюдал, как они хватают шпаги офицеров артиллерийского управления, которые спешно покидали здание, а в это время «хулиганы шарили по карманам их кителей, оставленных в гардеробе». Они даже разбивали стекла витрин, чтобы забрать оттуда экспонаты, несмотря на то что эти винтовки были «образцами вооружения других стран, к ним не было боеприпасов, и толку от них никакого не было»{298}.
На Литейном проспекте в это время, около одиннадцати утра, другая толпа нацелилась на ненавистные бастионы царизма – расположенное неподалеку здание Окружного суда и Дворец правосудия, а также прилегающее к нему помещение тюрьмы предварительного заключения. Вскоре ворота тюрьмы были распахнуты, заключенные (в основном ожидавшие суда преступники) были отпущены на свободу, им вручили оружие, и, как только они вышли, здание тюрьмы было подожжено. Окружной суд тоже сожгли, уничтожив все хранившиеся там судебные дела – символический акт, совершенный, несомненно, в интересах всех только что освобожденных заключенных{299}. В большом пожаре погибли не только картотека полиции, но и ценные исторические архивы, относившиеся еще ко временам правления Екатерины Великой. Когда прибыли несколько пожарных расчетов, толпа не позволила им погасить пламя. Французский журналист Клод Анет видел, как «изысканно одетый пожилой человек кричал, заламывая руки при виде горящего здания, из которого вырывались «языки пламени»: «Неужели вы не понимаете, что в огне гибнут все судебные документы, архивы, которым нет цены?» Грубый голос из толпы ответил ему: «Не беспокойся! Мы сможем поделить дома и земли между представителями народа и без помощи ваших драгоценных архивов». Этот ответ был встречен «ревом одобрения»{300}.
Тем временем Дональд Томпсон в посольстве США на встрече с послом Фрэнсисом (показавшимся ему «весьма хладнокровным и собранным») узнал от него о том, что же происходит на Литейном проспекте. Томпсон немедленно отправился туда вместе с Борисом и Флоренс Харпер. Там они увидели «огромное скопище людей, чуть ли не миллион человек, как мне показалось, и эта толпа жаждала крови», вооружившись «самыми разными видами оружия, какие себе только можно вообразить»{301}. Он начал незаметно фотографировать своим потайным фотоаппаратом, опасаясь, что его по ошибке примут за шпиона полиции, но тут он заметил, что английский фотограф, работавший на газету «Дейли мирор»[50], и Клод Анет делают то же самое. Раньше Клод Анет успел сбегать к себе в номер и взять свой фотоаппарат, после чего он начал фотографировать на Литейном проспекте из-за автомобиля, но тут его заметили. Вскоре он стоял прижатый к стене тремя штыками. Солдаты попытались сагитировать Клода, но тут к ним подошла молоденькая студентка и «начала яростно меня обвинять». Он сказал им, что он француз, журналист. Возможно, спросил он, они хотели бы посмотреть документы? «Возьмите пленки, – упрашивал Анет, – но оставьте мне фотоаппарат. Я ваш союзник». События стали принимать неприятный оборот, но в этот момент кто-то подскочил к Клоду, вырвал фотоаппарат из его рук и удрал с ним. Анет был очень огорчен потерей «ценного объектива Герца»{302}.
Томпсону тоже не повезло. Он застрял в круговерти беснующихся толп на Литейном проспекте. Все вокруг него бегали с криками: «Смерть полицейским!» Неожиданно он сам был арестован, и его потащили в полицейский участок. Он показал им пропуск для представителя прессы США, тем не менее их с Борисом заперли в душной маленькой камере, где находилось еще около двадцати других задержанных, а вокруг раздавались звуки выстрелов и пулеметные очереди, крики, и вопли, и «треск ломающихся дверей и звон разбитых стекол». «Стоял такой грохот, какого я в жизни не слышал», – вспоминал он. Там их продержали, пока Борис пытался убедить полицию, что «американец» настоящий. Вскоре после этого в полицейский участок ворвалась толпа и разбила замки на дверях их камеры, они с Борисом и опомниться не успели, как «окружающие стали бросаться к нам с объятиями, стали целовать нас, восклицая, что мы свободны». В приемной участка, выходя наружу, Томпсон «застал невыразимо ужасную сцену»: «на коленях стояли женщины и рвали на куски тела полицейских». Он увидел, как одна из них «пыталась порвать чье-то лицо голыми руками»{303}.
На Литейном проспекте уже творилось «неописуемое столпотворение», полыхали здания Окружного суда и Дворца правосудия, вокруг стоял непрерывный треск перестрелки. С опрокинутого трамвая, как с пьедестала, один за другим ораторы пытались агитировать толпу, но, как вспоминал Луи де Робьен, было «невозможно разобрать ничего вокруг в этом беспорядочном движении охваченных паникой людей, которые бегали туда-сюда»{304}. После давки возле Нового арсенала откуда-то появились три полевых орудия, которыми никто не знал, как управлять; кроме того, с заводов были притащены пушки, траншейные мортиры и большой запас снарядов для них. Все это в спешном порядке было установлено на импровизированные заграждения, сооруженные из груды ящиков, тележек, столов и мебели из кабинетов Окружного суда. С этих заграждений можно было держать под прицелом весь Литейный проспект вплоть до пересечения с Невским. Для обеспечения поддержки на парапете расположенного позади этих заграждений Литейного моста были установлены пулеметы на случай, если с северной стороны подойдут какие-либо верные царскому режиму подразделения{305}. Когда прибыла группа семеновцев, сохранявших пока верность царю, между ними и ротой восставших волынцев начался ожесточенный бой, за ходом которого, группами прячась в переулках и дверных проемах, наблюдали обычные граждане, причем среди зевак было много женщин и детей. Некоторые из них подвергали себя огромному риску, «под сильной перестрелкой спокойно выходя из своих укрытий, чтобы забрать раненых»{306}. Джеймс Хоктелинг видел, что раненых забирали немедленно, стоило им только упасть. После этого на снегу оставались лишь «длинные следы свежей крови». Его поразило и то, что в перерывах между перестрелками штатские заполоняли весь Литейный, чтобы, как обычно, пойти за покупками, и даже выстраивались в очередь возле булочных. Они расходились, лишь заслышав пулеметные очереди. Стремительно развивающиеся вокруг события для многих растерянных граждан были нереальными, «как если бы они смотрели какую-то мелодраму в синематографе»{307}.
Оружия, награбленного из армейских казарм, Арсенала, тюрем и полицейских участков, было так много, что его раздавали всем подряд, так что вскоре толпы штатских разных сословий, рабочих и солдат, ликуя, расхаживали повсюду, потрясая этим оружием и постреливая. Вот как это описал британский инженер-механик Джеймс Стинтон Джонс: «То увидишь, как какой-то хулиган расхаживает с офицерской шпагой, висящей на перевязи, повязанной поверх его тужурки, с винтовкой в одной руке и револьвером в другой, то встретишь мальчонку с большим ножом мясника, привязанным веревкой через плечо. Где-то неподалеку заметишь рабочего, неловко держащего офицерскую шпагу в одной руке, а штык в другой. У кого-то в руках сразу два револьвера, у другого винтовка в одной руке, в другой – ломик. Вот студент с двумя винтовками, перепоясанный пулеметной лентой, а рядом с ним другой, со штыком, примотанным на конце обычной палки. У пьяного солдата в руках остался только ствол винтовки, остальная часть отвалилась, когда он взламывал какой-то магазинчик»{308}.
Артура Рейнке из компании «Вестингауз» очень тревожило, как свободно раздавали оружие и боеприпасы детям: «Было необычно… видеть русского подростка лет пятнадцати, неумело пытавшегося запихнуть магазин в пистолет. Дети расхаживали с огромными кавалерийскими саблями. Часто встречались самозваные гвардейцы-студенты, вооруженные турецкими саблями или японскими мечами с изысканными резными рукоятями». «Даже уличные мальчишки, видимо, подбирали револьверы и палили почем зря в голубей», как заметил другой свидетель{309}.
Офицерам, которые в тот день на улице отказывались сдать оружие по первому требованию, спасения не было. На них нападали даже женщины. Медсестра Эдит Хеган видела, как «толпа женщин преследовала одного заслуженного, увешанного наградами офицера, имевшего поначалу весьма бравый вид. Офицер пытался прогуляться по Невскому проспекту и выглядел очень раздосадованным, когда его преследовательницы отняли у него оружие. Шпага его попала к седой женщине, которая пронзительно выкрикивала, по-видимому, какие-то ругательства в его адрес. Женщина презрительно сломала шпагу о колено пополам, а обломки швырнула в канал»{310}.
К полудню к вооруженным штатским на Литейном проспекте примкнули двадцать пять тысяч солдат Волынского, Преображенского, Литовского, Кексгольмского и саперного полков. Арно Дош-Флеро вспоминал, что на улице собралась плотная толпа, заполонившая все на четверть мили вокруг, «вдохновленная своей верой в себя»{311}. Повсюду среди могучего рева революционного волнения, пения и ободрительных выкриков был виден алый цвет борьбы – наскоро сделанные революционные знамена, розетки и нарукавные повязки, красные ленточки, привязанные к стволам винтовок.
Когда у революционеров появились автомобили, события стали развиваться еще быстрее. Главный военный гараж в Петрограде был взломан, оттуда были вывезены все легковые автомобили и несколько бронированных грузовиков{312}. Были взломаны также частные гаражи состоятельных людей по всему городу, все их легковые машины и роскошные лимузины были конфискованы. Все эти транспортные средства были немедленно обтянуты красными полотнищами знамен, и их стали гонять туда-сюда по Литейному проспекту и по другим улицам. Часто за рулем этих автомобилей сидели неопытные водители, которых бешеная скорость приводила в исступление. В машины битком набивались солдаты, штыки их винтовок торчали из окон. Из разбитых задних стекол некоторых автомобилей высовывались пулеметы. Вооруженные повстанцы лежали даже на автомобильных капотах. Но популярнее всего среди революционеров было разъезжать (и это отчетливо запомнилось многим очевидцам) с оружием наизготовку на широких порожках угнанных легковых автомобилей. Им суждено было стать плакатными образами революции, поскольку в течение ближайших нескольких часов эти бронированные легковые автомобили и грузовики сыграли важную роль в распространении новостей о происходящем. «Громыхая по исполненным сомнения улицам…они несли убежденность в силе». Именно благодаря этим автомобилям и грузовикам «город удалось быстро взять под контроль», по мнению американского журналиста Исаака Маркоссона, репортера журнала “Everybody’s Magazine”. «Пешком этого сделать было бы невозможно»{313}.
В тот день были освобождены не только заключенные тюрьмы предварительного заключения при Окружном суде, но и заключенные многих других тюрем города. Народный гнев был направлен в первую очередь на тюрьмы и полицейские участки. Около полудня генерал-майор Нокс видел, как «солдаты шли нескончаемым потоком… через мост, направляясь освобождать заключенных из Крестовской тюрьмы»{314}. Так называемые «Кресты» (название произошло от формы здания), тюрьма одиночного заключения и прилегающая к нему тюрьма для женщин, были построены в 1893 году на северном берегу Невы у Финляндского вокзала. В «Крестах» могли одновременно содержаться до тысячи заключенных, но к 1917 году тюрьма была переполнена, количество узников превышало две тысячи человек. Удивительно, что относительно небольшой группе людей, около сотни человек, удалось без больших усилий пробиться со стрельбой к коменданту и освободить как политических, так и уголовных заключенных.
Уильяму Дж. Гибсону, канадцу, который жил на Выборгской стороне, довелось увидеть, как вышли на свободу первые из тех, кто был тогда выпущен: «Двое мужчин и одна женщина… ошалело шли по направлению ко мне, держась за руки, как слепые. На них были надеты грубые тюремные одежды, и слезы текли у них по щекам. Они не были старыми, но все трое были практически седыми. Это были политические заключенные, которые сидели в тесных одиночных камерах с 1905 года»{315}. Такое внезапное и нежданное освобождение, когда всякие надежды уже давно были утрачены, было для них шоком, и это ясно читалось на лицах многих других «бледных и дрожащих» политических, когда они выходили на волю после долгого заточения, «очень больные на вид». Их держали в камерах без окон, и дневной свет их слепил. Другие были настолько слабы, что их приходилось выносить или выводить наружу, и они «падали на землю, ползали и целовали ноги своим товарищам, которые их освободили». Некоторые были так потрясены, что просто сидели на снегу и плакали. Пожалуй, самая трогательная сцена освобождения произошла в пересылочной тюрьме за Николаевским вокзалом на Знаменской площади, откуда при царском режиме каждую среду по утрам отправляли приговоренных к сибирской ссылке, в том числе писателя Федора Достоевского в 1849 году. Ссыльных везли в Сибирь по железной дороге, скованных по рукам друг с другом группами по 100–150 человек{316}.
В Крестовской тюрьме, как и в Окружном суде, были конфискованы и сожжены на огромном костре во дворе здания все хранившиеся там дела картотеки полиции, затем подожгли и сами «Кресты». 958 заключенных были освобождены из тюрьмы предварительного заключения на Шпалерной улице, на следующий день были освобождены заключенные из Литовской тюрьмы неподалеку от Мариинского театра. Всех политических заключенных при освобождении радостно приветствовали, тех же, кто был заключен в тюрьму за совершение уголовного преступления, порой «избивали и грозили, что убьют, если их снова поймают за уголовщину»{317}. Однако, как отмечал Босфилд Сван Ломбард, не всем заключенным удалось выйти на свободу, «потому что многие из них содержались в подвальных камерах тюрьмы, от которых в суматохе нельзя было найти ключей». Когда тюрьму подожгли, «большинство из них сгорели заживо, так и не дождавшись освобождения». Спасшиеся выходили на волю «почти раздетыми». Люди в толпе сочувствовали этим «бедолагам» и «отдавали им порой самые невообразимые наборы одежды. Невысокие мужчины были одеты в длинные не по размеру брюки, а высоченный человек изо всех сил пытался втиснуться в слишком маленькие пиджак и жилет»{318}.
Весь этот ужасный день многие свидетели петроградских событий были встревожены растущей анархией и насилием толпы. Позже появились утверждения, что это якобы была «благотворная революция»[51], хоть на самом деле это не более чем миф о февральских событиях, по впечатлениям многих их зарубежных свидетелей. «Было похоже, будто какой-то дикий зверь вырвался из клетки», как вспоминал Нейли Фарсон. Такова была расплата за освобождение ожесточившихся за годы заключения в жестоких условиях тюрьмы закоренелых преступников. Они немедленно бросились подстрекать толпу к эскалации насилия, поджогам и массовым грабежам, что сделало обстановку еще более бурной{319}. Начиная с того понедельника, любому иностранцу стало небезопасно выходить на улицу без какого-нибудь знака сочувствия революции – красной ленточки или повязки. Джеймс Стинтон Джонс в этих целях носил в петлице небольшой флажок Великобритании, а одни супруги-англичане пришили по такому флажку на рукава своих пальто.
Стинтон Джонс также счел разумным подстраиваться под настроение той толпы, с которой доводилось встречаться: «То я наталкивался на толпу, в которой раздавались выкрики: «Боже, царя храни!», то на другую, в которой кричали: «Да здравствует революция!» С какой бы толпой я ни оказывался рядом, я выкрикивал то же самое, что и они»{320}. Неподалеку от здания Государственной думы мимо Исаака Маркоссона проезжал «грузовик, из которого торчали наружу стволы винтовок и штыки». Несмотря на то что он специально ходил в английском плаще и в английском кепи, «в грузовике было столько молоденьких парнишек с револьверами, которые так на меня посмотрели, что я хорошо осознал, что в такое время тебя могут запросто убить». Он был абсолютно уверен, что его «дальнейшее существование зависит от здравого смысла любого из тридцати-сорока взбудораженных мужчин и мальчишек на любом грузовике»{321}. В скором времени на все стало требоваться разрешение или пропуск. «Мне выдали целую пачку бумаг, испещренных печатями и подписями, – вспоминает один британский офицер, – разрешение на ношение шпаги, разрешение на ношение револьвера и удостоверение личности, в котором было сказано, что я всей душой поддерживаю новый режим!»{322}
Как уже довелось испытать на себе Дональду Томпсону тем утром, иностранцев постоянно останавливали по подозрению в том, что они либо полицейские, либо шпионы. Некоторые из тех, кто не сумел достаточно быстро предъявить документ, удостоверяющий личность, были убиты. «Прогуляться пешком от моего дома до посольства было теперь делом нешуточным, – вспоминал сотрудник британского посольства Фрэнсис Линдли. – Бурлящие толпы молодежи, размахивающие ножами, шашками и пистолетами, не становились менее опасными оттого, что я почти не говорил на их языке. Если бы хоть один из них заявил, что я немец, со мной было бы покончено, прежде чем я смог бы что-либо объяснить. Удивительно, что в первые дни революции антигерманские настроения были очень сильны, и некоторые из моих друзей-соотечественников с немецкими фамилиями были убиты»{323}.
В тот день «оружие можно было получить просто так», и было много неопытных и не умеющих обращаться с огнестрельным оружием людей с ружьями и пистолетами. «Их совершенно не заботило, куда было направлено их оружие, когда они пробовали из него пострелять в первый раз». В результате такой неосторожной стрельбы, конечно же, было убито и ранено много случайных прохожих{324}. Некоторые несчастные случаи происходили исключительно из-за глупой бравады: пьяницы и хулиганы устраивали беспричинную пальбу, другие показывали своим подругам, как зарядить оружие и стрелять из него. «Маленькие мальчишки с удовольствием собирали валяющиеся обоймы и бросали их в костры, горевшие у полицейских участков», как вспоминал Джеймс Стинтон Джонс. Подобное развлечение часто заканчивалось взрывом, и дети гибли или получали увечья. Джонсу довелось стать свидетелем одного особенно жуткого инцидента, виновником которого был мальчишка лет двенадцати, который размахивал пистолетом, греясь у жаровни вместе с группой солдат: «Внезапно он нажал на спусковой крючок, и один из солдат упал замертво. Мальчик, не имевший никакого представления о том, как работает механизм этого смертоносного оружия, настолько перепугался, что продолжал жать на спуск, пока не закончились патроны. В его магазине было семь пуль, и он разрядил его весь. В результате трое солдат были убиты, а четверо тяжело ранены»{325}.
Медсестра Дороти Сеймур в час ночи в понедельник записала в своем дневнике, что солдаты Семеновского полка, охранявшие Англо-русский госпиталь, «открыли дверь и ушли к революционерам, не сказав ни слова никому из нас»{326}. Весь день вокруг госпиталя продолжалась перестрелка, как вспоминает Эдит Хеган, «пулеметы беспрерывно стреляли» с крыш всех близлежащих домов и «из самых неожиданных мест», пули «взметали фонтанчики снега, рикошетя по тротуару». Босфилд Сван Ломбард, пробравшись в госпиталь, чтобы посмотреть, как там чувствуют себя его сотрудники, обнаружил, что «все окна разбиты». Он «был очень горд за британских медсестер, которые все остались на своих постах. Они проследили за тем, чтобы их пациенты укрылись под кроватями», а сами стояли, каждая у кровати своего пациента, спокойно относясь к разбитым окнам и завываниям толпы на улице как к незначительным происшествиям»{327}.
Весь день в госпиталь отовсюду с улиц стекались люди, пытаясь спрятаться от стрельбы, и госпиталь непрерывно принимал военных и гражданских жертв перестрелки. Дороти Сеймур и еще четырем медсестрам удалось вернуться к себе домой на Владимирскую улицу, несмотря на то что «полиция палила из револьверов из окон верхних этажей». Но было решено, что другие медсестры не должны так рисковать, и оставшимся пришлось заночевать прямо в госпитале. «Некоторые спали на столах в перевязочных и на носилках», правда, поспать им почти не удалось, поскольку «продолжали приносить много раненых»{328}. Несколько раз за вечер разъяренная толпа врывалась в госпиталь и требовала обыскать здание. Они хотели найти «переодетых полицейских и спрятанные пулеметы», но комендант госпиталя, генерал Лейминг, каждый раз убеждал их, что их тут нет. Он приглашал их осмотреть крышу и напоминал им, что владельцем дворца, где располагался госпиталь, был великий князь Дмитрий Павлович, которого отправили в изгнание за убийство Распутина (и, следовательно, он был на их стороне){329}. Толпа потребовала, чтобы госпиталь вывесил из своих окон флаги Красного Креста, подтверждающие его нейтралитет. Леди Сибил Грей поспешно устроила это следующим образом: «Мы сделали их из старых простыней и шубы Деда Мороза; кроме того, мы вывесили на двери фонарь с красным крестом»{330}. Не успели они все это сделать, как импровизированные флаги были сорваны, ими задрапировали реквизированные автомобили. Многие из медсестер просидели у окна, не желая «что-нибудь пропустить». Для тех медсестер, которые вернулись в свое общежитие, что находилось в двух кварталах вниз по Невскому, на Владимирской улице, как писала Дороти Сеймур, эта ночь была «как в дешевом романе» – они были слишком взбудоражены и не могли заснуть, «полночи простояв у окна», прислушиваясь к «ужасному волнению» на улице{331}.
В понедельник утром французской актрисе Полетт Пакс, к большому ее удивлению, позвонил ее друг из местных и спросил, состоится ли вечером спектакль в Михайловском театре, и если да, то не могла бы она достать билеты. Во время этого разговора Полетт Пакс все время слышала шум толпы и стрельбу на улице неподалеку от ее квартиры в самом центре Петрограда. Она все больше боялась мародеров, поэтому бросилась прятать свои самые ценные вещи. Потом Полетт и две ее русские горничные закрыли все ставни в доме и, как могли, забаррикадировали двери и окна матрацами и грудами подушек. Затем они, перепуганные, укрылись на кухне. Полетт слышала, как по двору приближалась толпа, она слышала их крики и насмешки и приготовилась к худшему. Но они направлялись не в ее квартиру: толпа пришла в поисках двух жандармов, укрывшихся на крыше того многоквартирного жилого дома, где жила Пакс. Оттуда они расстреливали людей из пулемета. Их быстро обнаружили и вытащили на улицу{332}.
Это происшествие было очень характерным – повсюду шла охота на людей. Для полиции настал черный день. Теперь народная ненависть настигла их, и мщение было неукротимым. На улицах почти нигде не было полиции, жандармы как будто испарились. Их теперь везде выискивали, «выкуривали, как крыс», из всех их наблюдательных пунктов и укромных мест{333}. Многие скрывались в частных домах или переодевались в чужую одежду, чтобы их не узнали. Восставшие солдаты были особенно возмущены, когда обнаружилось, что некоторым полицейским было приказано переодеться в форму известных полков, чтобы убедить людей, что армия поддерживает прежнее правительство{334}. Были разграблены полицейские участки и частные дома полицейских и судей по всему городу, все имущество просто выбрасывали из окон: «нижнее белье, дамские шляпки, стулья, книги, цветочные горшки, рисунки, а затем все картотеки и дела, на белой, и желтой, и розовой бумаге – все это летало и трепетало на солнце, как рои бабочек»{335}. Некоторым полицейским удавалось забаррикадироваться на своих участках с запасами продовольствия и боеприпасов, и они держались, пока нападавшие их не одолевали. Немногие продолжали стрелять из пулеметов с крыш домов и с церковных колоколен (они знали, что благочестивые христиане не станут нападать на храмы). Когда же полицейских загоняли в угол, простой люд был к ним беспощаден. Все здания полиции были разграблены, в особенности большой комплекс на Фонтанке, 16, основное помещение Охранки, царской тайной полиции, которое вызывало «ненависть почти фанатичную», поскольку там было собрано много сведений не только о политических, но и о религиозных противниках правящего режима. «Каждый документ, каждая книга, каждый клочок бумаги», какие только можно было здесь найти, были вытащены наружу и торжественно свалены в огромные костры{336}. Всего в тот день было подожжено около двенадцати полицейских участков на Петроградской и Выборгской сторонах, а также в центральной части Петрограда. Обрывки потемневших от времени страниц, с кругами от чашек, с отпечатками пальцев и записями наружного наблюдения, которые так долго составляли основу официальной системы угнетения народа, теперь превратились в груды пепла, оседавшего на снег или летавшего по ветру{337}.
Во время событий Февральской революции множество полицейских погибли при расправах, и установить количество убитых едва ли возможно, об этом не осталось никаких достоверных сведений. Лишь некоторых из них, пойманных самыми сознательными из восставших, доставляли в тюрьмы, хотя «иногда по пути туда толпа прорывалась к ним и забивала их насмерть»{338}. Повсюду можно было видеть, как полицейских хватали на улице и приканчивали на месте – расстреливали, закалывали штыками, забивали дубинками. Их трупы оставались лежать неубранными. «На корм собакам», как говорили некоторые русские. «У них не было шансов спастись, если они не сдавались, – как вспоминал доктор Джозеф Клэр, – и даже в этом случае надежды на спасение почти не было. Мне известно, что в одном месте тридцать или сорок полицейских были просто оглушены ударами по голове и брошены в прорубь – их утопили, как крыс»{339}. Никто в городе не был застрахован от подобной дикости. Мэриэл Бьюкенен вспоминала, что в тот день «несколько английских дам отважились, несмотря на весьма реальную опасность на улицах, прийти, как обычно, на еженедельный вечер шитья» в британском посольстве. Они сидели все вместе «в большой красно-белой бальной зале и разговаривали приглушенными голосами, слушая глухой шум перестрелки, которая шла неподалеку на Литейном проспекте, и обмениваясь впечатлениями от увиденного по пути в посольство. Одна из них повстречала толпу пьяных солдат и рабочих, которые волокли связанного полицейского по замерзшей дороге; другая видела, как на пороге дома застрелили офицера, третья проходила мимо толпы, собравшейся вокруг огромного костра. Ей сказали, что они сжигают сержанта секретной службы»{340}.
Такие сцены безумной жестокости оставили неизгладимое впечатление в душе семилетнего Исайи Берлина, будущего историка, который отчетливо помнил «ужасающее зрелище», когда на прогулке со своими родителями вечером того дня они увидели одного полицейского, «который, очевидно, сохранял верность царскому правительству и, как нам сказали, с крыши стрелял в демонстрантов. Толпа схватила его и тащила куда-то, где его, скорее всего, ожидала ужасная смерть: этот мужчина был бледен, очень напуган и лишь слабо сопротивлялся своим похитителям». «Эта картина, – как много лет спустя писал Берлин, – навсегда сохранилась в моей памяти и внушила мне непреходящий ужас от насилия любого вида»{341}.
Утром того дня, когда на улицах Петрограда творился такой разгул анархии, председатель Государственной думы Родзянко направил срочную телеграмму царю, в которой настоятельно советовал ему немедленно вернуться в город и предупреждал, что «пришел последний час, когда решается судьба страны и династии»{342}. Николай II ответил, что он вернется вместе с войсками для подавления беспорядков. В ожидании его приезда члены Государственной думы пребывали в растерянности: они не знали, что предпринять в связи с происходящими событиями, к которым они оказались совершенно не готовы. В России наступила политическая неопределенность, и питерцев весь день, как магнитом, тянуло к Таврическому дворцу, где заседала Государственная дума. Арно Дош-Флеро дошел туда пешком от «Отель де Франс», следуя за толпой. По дороге он обратил внимание на то, что на улице становится «все больше и больше автомобилей и грузовиков, набитых возбужденными безоружными солдатами и серьезными штатскими с ружьями в руках»{343}. Около часа дня у ворот Думы скопилась многотысячная толпа. Там было множество «одетых в зеленые шинели и зеленые фуражки студентов, многие из них размахивали красными флагами и кумачовыми лентами и слушали революционные выступления», все они стремились выразить свою поддержку формированию нового правительства и ожидали распоряжений, что им делать{344}.
Таврический дворец, изящное здание в классическом стиле с белыми колоннадами, Большим залом для приемов и длинными галереями, бывший дворец любовника Екатерины Великой, князя Григория Потемкина, с 1906 года стал местом заседаний Императорской государственной думы. Но в тот понедельник несколько революционных часов превратили его в некую смесь созданного на скорую руку военного лагеря с политической трибуной предвыборной кампании. Тут в экстренном порядке проводились совещания, посвященные созданию временного правительства, которое должно было взять на себя руководство страной в кризис. Арно Дош-Флеро с большим трудом пробрался в здание Государственной думы и обнаружил, что там полно солдат. «Казалось, что они все были голодны. Они непрерывно передавали друг другу хлеб, сушеную рыбу и чай»{345}. Можно сказать, что «смятение умов во дворце превосходило даже революционную сумятицу за его пределами», весь дворец бурлил от напряжения и волнения, туда прибывали один полк за другим. Здесь, «выстроившись в четыре шеренги во всю длину Екатерининского зала», главного зала и галереи Государственной думы, войска приносили присягу новому правительству. Родзянко обращался к каждому полку, по очереди призывая их «сохранять дисциплину в рядах войск», подчиняться своим командирам и спокойно возвращаться в казармы, оставаясь в готовности на случай, если правительству понадобится их помощь{346}.
Около половины третьего пополудни в полукруглом главном зале собралось огромное количество умеренных и либеральных членов Государственной думы для реорганизации Думы под руководством Родзянко – в надежде, что реформированное, конституционное правительство еще можно спасти от катастрофы. В тот же вечер в конце концов был избран Временный исполнительный комитет в составе двенадцати человек, которые должны были взять ситуацию под контроль. Одним из первых указов было распоряжение об аресте членов Совета министров – Верхней палаты Государственной думы и оплота старого режима, которые проводили совещание в Мариинском дворце. Некоторые из них уже подали в отставку, в том числе премьер-министр Николай Голицын, другие скрывались, и революционные патрули теперь приступили к их поиску и поимке.
Но пока члены Государственной думы создавали свой комитет, в другом помещении Таврического дворца большая группа солдат и рабочих, которые безапелляционно призывали к созданию в России социалистической республики и требовали выхода России из войны с Германией, вели совещание с более умеренными меньшевиками и эсерами (присутствие на этой встрече большевиков еще даст о себе знать), чтобы создать Петроградский Совет, составленный из рабочих и солдатских депутатов{347}. Самый первый указ этого органа власти, однако, был не политического свойства. В своих наскоро напечатанных листовках Петросовет призывал граждан помочь накормить голодных солдат, которые перешли на их сторону, пока их обеспечение не будет налажено должным образом. Питерцы быстро откликнулись на этот призыв, размещая солдат в своих домах, чтобы обогреть и накормить их, в ресторанах им предоставляли бесплатное питание, на улице можно было увидеть стариков «с большими коробками сигарет, которые они раздавали солдатам»{348} [52].
Около девяти часов вечера некий американец[53] вышел прогуляться, чтобы взглянуть на происходящее. Ему навстречу по Каменноостровскому проспекту «к Петроградской стороне» бежал, еле переводя дух, очень хорошо одетый интеллигентного вида человек. На несколько минут он останавливался у каждого перекрестка, чтобы сообщить хорошие новости: «Дума сформировала временное правительство». Такое событие казалось невообразимым для страны, так долго находившейся под пятой единовластия, «это была поразительная, колоссальная новость, которую невозможно было сразу охватить разумом даже наполовину», написал этот очевидец. Позже, в полночь, он снова вышел на улицу и обнаружил, что «на площади на Петроградской стороне собралась огромная масса людей. Они сгрудились вокруг грузовика, набитого солдатами, их подпоручик сообщал толпе новость: «Теперь все в порядке». Американец слышал, как он кричал, что «будет новое правительство. Вы понимаете? Новое правительство, и у всех будет хлеб». Американец был так же поражен этими грандиозными изменениями в российской политической жизни, как были поражены ими и сами русские: «Я думаю, что вряд ли в ту ночь нашелся бы человек, за исключением, разве что, руководителей Думы, чей разум мог бы быстро и глубоко проникнуть в суть случившегося. Пожалуй, большинство с огромным трудом осознавали лишь самые простые и элементарные факты революции – начиная с того простого факта, что революция действительно произошла»{349}.
Послу США Дэвиду Фрэнсису в течение второй половины дня поступали от сотрудников посольства сообщения о количестве убитых и раненых на Литейном проспекте в ходе продолжающихся там столкновений. Многие из недавно получивших вооружение восставших дефилировали по Фурштатской улице перед зданием посольства США, часть – пешком, другие – на машинах{350}. Один из сотрудников посольства, возвращаясь в тот вечер домой, писал, что «никаких признаков верности прежнему режиму не было видно», вместо этого он заметил, как по направлению к Неве спокойно проехала тысяча или более кавалеристов, покидая город, оставляя его мятежникам и революционерам». К этому времени мятеж в войсках распространился на юг города, Семеновский и Измайловский полки перешли на сторону революции. Поздним вечером к мятежникам присоединились 66 700 солдат царской армии в Петрограде. Революционеры теперь контролировали весь город, за исключением Зимнего дворца, Адмиралтейства и Генерального штаба, которые, как и телеграф с телефонной станцией, до сих пор оставались под охраной верных прежнему режиму частей{351}.
С наступлением темноты появились первые сообщения о событиях дня. Они были опубликованы на грубых листовках, озаглавленных «Известия», которые небрежно разбрасывали по улицам из окон автомобилей. Эти листовки расхватывались моментально, их читали, узнавали новости и делились ими с нетерпением голодных – как хлебом, о котором так настойчиво просил народ{352}. По мнению летчика Берта Холла, весь день «революция шла стихийно», не было «никакой организации, не было и какого-либо лидера, был просто город, полный голодных людей, которые достаточно натерпелись и были готовы, если понадобится, умереть, но не мириться больше с царизмом». Лишь за неделю до этого Холл видел в Пскове царя, который вручил ему награду за участие в действиях российских воздушных сил. Сегодня, наблюдая за «толпой кричащих людей», Холл подумал об «усталом, устремленном вдаль взгляде царя», который он заметил при встрече с ним: «Должно быть, он знал, что самые основы государства были разъедены гнилью»{353}.
В появившихся позже аналитических очерках о событиях февраля часто проводятся сравнения с Французской революцией 1789 года. Взятие «Крестов» в особенности напоминало взятие Бастилии. Филипу Шадборну, возвращавшемуся поздним вечером к себе домой на Петроградскую сторону, где его ждала жена, пришла в голову аналогия с «Повестью о двух городах» Чарльза Диккенса. Весь Каменноостровский проспект (главная дорога, ведущая на Петроградскую сторону от Троицкого моста) был «буквально затоплен огромными массами революционеров, которые все прибывали и прибывали. Они прибыли сюда прямо с мест сражений, чтобы провозгласить победу и склонить на свою сторону всех, кто еще не определился, заставить поверить в свою пламенную цель. Это была искренняя и серьезная толпа, чуждая бахвальству и вандализму. Ее нрав был подобен русской музыке – в нем были надрывная мощь и безрадостный оптимизм. Среди толпы сновали серые армейские грузовики, битком набитые солдатами, женщинами и мальчишками с алыми знаменами. На их штыках болтались обрывки красного кумача, костры освещали их бледные лица с жадными глазами. То и дело проезжал автомобиль с открытым верхом, с трудом прокладывая себе путь сквозь толпу, останавливаясь через каждые полсотни метров, чтобы студент прочитал короткую речь, и снова продолжал свое движение, а по пути сестры милосердия разбрасывали пачки бюллетеней. Социалисты издавали свою пропагандистскую литературу с такой скоростью, что казалось, будто за строчками их воззваний бурлили давно сдерживаемая энергия и все, что не было высказано за эти годы. В воздухе витали странные клочки бумаги, такие, каких никогда раньше не видали в этом городе, с заголовком «Мы просили хлеба, а вы накормили нас пулями»»{354}.
В конце концов Шадборн просочился сквозь толпу у Троицкого моста и ему удалось в полной мере оценить «величественный вид, открывшийся ему»: «По правую руку от меня вздымались башни и зубчатые стены Петропавловской крепости, которая служила и тюрьмой, их мрачный силуэт четко просматривался на фоне заходящего солнца, это было подобно закату великой династии. Слева все небо было, как расплавленное золото, на нем виднелись гигантские раздвоенные языки пламени – это горели Верховный суд, другие суды и тюрьмы, орудия несправедливости прежнего режима, который уступал место новому». Когда Шадборн с женой ложились спать в ту ночь, «небо в окнах все еще пламенело от пожаров. То и дело раздавались щелчки винтовочных выстрелов, а вопли ватаг хулиганов доносились и сквозь двойные рамы»{355}.
Честер Свиннертон и его коллеги тоже смотрели на полыхавшие за Невой пожары на Петроградской и Выборгской сторонах со своего удобного пункта наблюдения в банке – «одно большое яркое красное зарево на горизонте и несколько помельче, и постоянно раздающееся прерывистое буханье пушек». Это напомнило ему о праздновании Дня независимости дома, в Америке: «Люди на улице, казалось, пребывали в праздничном настроении», – однако, подумалось ему, это «просто счастье», что им негде было достать вдоволь спиртного{356}.
Вернувшись в свой номер в гостинице «Астория», офицер британского флота Оливер Локер Лэмпсон был совершенно уверен: «В ту ночь правила революция, а поскольку получить точные известия о событиях было невозможно и обо всем ходили самые дикие слухи, я открыл двойные окна моей комнаты и выглянул наружу. Радостные крики множества людей слились в единый мощный гул города, сквозь него слышались непрерывный стрекот выстрелов и трескотня пулеметов. Небо на востоке было ярко освещено, и казалось, что горело много зданий»{357}.
«Петроград полыхал огнями, как будто шел грандиозный фейерверк», – вспоминал Уильям Гибсон. Ночное небо являло собой захватывающее зрелище, а от событий в городе голова шла кругом, но некоторые, например генерал-майор Нокс, уже заглядывали в будущее, за пределы опьяняющего волнения этого момента: «Тюрьмы были открыты, рабочие вооружены, солдаты остались без командиров, создавались рабочие советы в противовес Временному комитету, составленному из числа избранных представителей народа». Все это вызывало серьезную озабоченность. По мнению Нокса, Петроград «полным ходом двигался к анархии»{358}.
Глава 5 Свободный доступ к водке «низверг бы всех в пучину террора»
В понедельник вечером в Петрограде все еще была слышна ожесточенная стрельба; ко вторнику, 28 февраля, восставшие реквизировали значительное количество пулеметов и «весьма успешно» использовали захваченные броневики{359}. Солдаты во множестве бесцельно шатались по улицам, нервируя обывателей. Мэриэл Бьюкенен наблюдала из британского посольства, как группа таких солдат пересекла Неву, направляясь с Петроградской стороны; они, казалось, уже «с трудом держались на ногах, потеряв выправку; они выглядели неопрятными, оборванными и расхлябанными, с расстегнутыми воротниками, шапками набекрень, с патронташами, привязанными веревками, бечевками или красными лентами». У некоторых из них, в нарушение устава, к поясу были пристегнуты офицерские сабли, у других «были засунуты в карманы или висели на шее на веревке по два-три пистолета»{360}.
Неудивительно, что с учетом ситуации на беспокойной Петроградской стороне, откуда приходил весь этот сброд, Филип Шамбрюн стал бояться за свою жену и маленького трехнедельного сына и с благодарностью принял предложение остановиться у друзей на Французской набережной. Однако извозчика невозможно было достать, а Эстер Шамбрюн была еще слаба, и двое его друзей должны были помочь ей проделать необходимый путь по городу со своим мужем, который нес ребенка. Когда они вышли на улицу, его жена увидела толпы народа, баррикады и артиллерийские орудия, – и у нее сдали нервы. «Каждый раз, когда раздавался выстрел, – вспоминал Филип, – она взывала ко мне: «Не дай им убить моего ребенка!» – а прохожие останавливались, смотрели на нее, и их глаза были полны слез. После того как они благополучно добрались до дома своих друзей, супружеская пара «наблюдала за ходом революции из окон», из которых открывался вид на набережную; они видели, как мимо с ревом, громко гудя, проносилась вереница автомобилей. Улицы, как и накануне, были заполнены ликующей толпой, которая громила полицейские участки и «выбрасывала полицейские архивы из окон в полыхавшие костры» с «праведным наслаждением»{361}.
Упорствуя до последнего, сэр Джордж Бьюкенен, выглядевший безупречно, как никогда, с «высоким прямым воротником и высоким строгим лицом» этим утром вновь направился пешком в теперь уже несуществующее Министерство иностранных дел России, намереваясь сделать «прощальный визит месье Покровскому», который пока еще не был арестован{362}. Его сотрудники умоляли его отказаться от этой затеи: между двумя враждовавшими сторонами Павловского полка на Миллионной улице, сразу же за британским посольством, шла перестрелка. Леди Джорджина застала своего мужа, надевавшего пальто в прихожей, «словно непослушного маленького мальчика, пойманного за проказой». Она попыталась уговорить его взять машину, но сэр Джордж был непреклонен: «Я должен много ходить». С этими словами он взял свои перчатки и трость и (поистине в духе британского бульдога) «в своей меховой шапке набекрень, видом которой он всегда поражал всех», отправился прочь. Уже много позже его дочь Мэриэл обнаружила, что ее отец пересек Суворовскую площадь и направился вниз по Миллионной улице; «прохожие передавали друг другу, что вниз по улице идет британский посол, и… солдаты, все как один, опускали свои винтовки и почтительно стояли в ожидании, пока высокая седовласая фигура проходила мимо них, а затем возобновляли стрельбу друг по другу с прежним энтузиазмом»{363}.
Честер Свиннертон и его коллеги из Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка с удивлением наблюдали, как сэр Джордж прошел мимо банка «в окружении восхищенной толпы, большинство из которой было до зубов вооружено, кланяясь и улыбаясь, как если бы он находился в это время при дворе»{364}. Бьюкенен нашел Покровского одного в своем министерстве, без электричества и телеграфной связи. Когда он возвращался вместе с Морисом Палеологом, также посетившим министерство, их на Дворцовой набережной приветствовала группа студентов. Она настояла на том, чтобы Морису Палеологу был предоставлен броневик, доставивший его до французского посольства. Во время поездки шумный студент увещевал посла: «Отдайте должное русской революции! Теперь флаг России – это красный флаг. Окажите ему почтение от имени Франции!»{365}
Игнорируя свой утренний опыт, сэр Джордж вновь рискнул во второй половине дня с тем же непоколебимым хладнокровием в сопровождении начальника своей канцелярии Генри Джеймса Брюса нанести визит русскому дипломату Сергею Сазонову[54] в гостинице на Невском проспекте (позже он признавался в своих воспоминаниях, что «треск пулемета не самый приятный аккомпанемент»). Эта прогулка весьма напугала Генри Джеймса Брюса, который по возвращении в посольство сообщил, что «Старик» «отказался возвращаться назад или взять охрану и оставался совершенно спокойным, смеясь и болтая, как будто не происходило ничего необычного»{366}.
В посольстве США Дэвид Фрэнсис, опасаясь за безопасность своих сотрудников, приказал поднять над зданием звездно-полосатый флаг. Непрекращавшаяся стрельба и частые визиты разных посетителей, интересовавшихся, что это за здание и нельзя ли войти и осмотреть его, настораживали посла. Другие посольства также подняли свои флаги, в то время как в консульстве США в здании компании «Зингер» на Невском проспекте его, наоборот, спустили – с учетом крайне напряженной ситуации из-за стрельбы с крыши этого здания. Консул, Норт Уиншип, подготовил наиболее ценные архивы для немедленной эвакуации и доложил, что консульство находится под постоянной угрозой нападения. Консул, «немец по национальности, был под подозрением с самого начала войны, и все считали компанию «Зингер» немецкой корпорацией». Ему неоднократно приходилось защищать герб США – американского орла – на крыше здания, который толпа порывалась сбросить, посчитав германским гербом{367}.
В тот день иностранцам в гостинице «Астория» на Исаакиевской площади пришлось пережить крайне опасный инцидент. В последние полгода, после того как «Асторию» реквизировали «в качестве роскошной штаб-квартиры для старших офицеров», эту вторую по величине и самую современную гостиницу в Петрограде в народе стали называть «Военной гостиницей»{368}. В каждом номере проживали либо офицеры союзных стран – французы, румыны, сербы, англичане и итальянцы, – либо российские офицеры, приехавшие с фронта в отпуск, причем многие размещались вместе со своими семьями. В гостинице проживали также некоторые иностранные журналисты (например, американцы Флоренс Харпер и Дональд Томпсон){369}.
В те дни все опасались нападения на гостиницу. Британский военно-морской атташе Оливер Локер Лэмпсон настойчиво рекомендовал проживавшим в ней избегать вестибюля, чтобы не стать жертвой случайных выстрелов с улицы, и приказал офицерам союзных стран занять цокольный этаж. Ему было доложено о том, что в гостинице укрылся агент Протопопова и что восставшие «неизбежно придут сюда искать его». Он так же хорошо понимал затруднительное положение российских офицеров: «Если правительство победит и здесь окажутся правительственные силы, то их могут расстрелять за то, что они не оказывали содействия властям; если же победят восставшие и доберутся до нас, то они будут расстреляны за то, что не присоединились к ним». В конце концов было решено перевести всех офицеров союзных стран наверх, а российских – вниз. Как и ожидалось, около четырех часов утра в гостиницу прибыла делегация солдат и гражданских лиц, которая потребовала, чтобы проживавшие здесь русские офицеры присоединились к революции. После заверений этих офицеров, «что они находятся в отпуске, что иностранные граждане будут соблюдать нейтралитет и что никто не начнет стрелять из здания», делегатов удалось уговорить разойтись{370}.
Однако спустя четыре часа ситуация резко обострилась – на Исаакиевской площади собрались провести военный парад. В девять часов утра сотрудник Международного комитета Юношеской христианской ассоциации Эдвард Хилд направлялся в свой офис, когда на углу улицы Гоголя он увидел «выстроившиеся колонны солдат, которых криками приветствовали собравшиеся на площади»; реяли красные флаги, играл оркестр, было «замечательное зрелище». Войска стояли в готовности напротив «Астории», когда «вдруг раздалась оглушительная очередь, все стремительно побежали с тротуаров и с площади», и Эдвард Хилд тоже бросился в безопасное место{371}. Из расположенного по соседству офисного здания он наблюдал с шестого этажа, как некоторые солдаты залегли перед собором, ведя огонь по пулемету на крыше «Астории». Локер Лэмпсон видел из гостиницы, как солдаты безнадежно пытались укрыться в снегу, «и то один, то другой внезапно переставали двигаться и оставались лежать, распростершись черными силуэтами на белом снегу, пока вся площадь не опустела, за исключением этих мертвых тел»{372}.
По словам Дональда Томпсона, который в то время находился в гостинице, кто-то из слишком рьяных и горячих сторонников власти или полицейских, укрывшихся на верхнем этаже гостиницы «Астория», открыл огонь, приведя в ярость толпу, которая собралась посмотреть на парад. Проснувшись от этой стрельбы, Томпсон схватил свою камеру, высунулся из окна и начал снимать толпу, которая в панике бросилась через площадь к гостинице. В ходе последующей перестрелки одна из русских постояльцев гостиницы вбежала в его номер, крича, что полицейские стреляли с крыши. Он предупредил ее, что следует держаться подальше от окна, но «вместо этого она отдернула штору, чтобы посмотреть, – и была ранена в горло». Томпсон «отнес ее в ванную комнату, где она умерла спустя пятнадцать минут». Он был в ярости: «У меня из-за этой глупой женщины пропала масса снимков». Вскоре после этого, услышав выстрелы уже в гостинице, он спешно вывесил на свою дверь американский флаг и остался, надеясь на лучшее{373}.
Локер Лэмпсон тем временем определил было, откуда велась стрельба: «из этого номера не доносилось ни звука, кроме хлопков отстреливавшихся патронов». Он выломал дверь, вломился внутрь – и обнаружил там двух перепуганных женщин в ночных рубашках: княгиню Туманову и ее мать. Повсюду была кровь, и он вывел их из номера, чтобы оказать им помощь{374}. По словам канадца Джорджа Бери, который оказался свидетелем случившегося, восставшие быстро «подогнали пару броневиков с тремя пулеметами на каждом» и открыли «бешеный огонь по пулеметной позиции на крыше “Астории”», пули вместо этого «насквозь прошивали номер генерала князя Туманова, находившийся ниже». Одна из женщин была ранена в шею, и позже ее привезли в Англо-русский госпиталь{375}.
К этому времени в гостиницу вломилась «истошно вопившая, рассвирепевшая, до зубов вооруженная толпа», которая, как вспоминала Сибил Грей, разгромила цокольный этаж, «убив некоторых российских офицеров, и ринулась вверх по лестнице, стреляя по лифту и во все стороны»{376}. В результате стрельбы огромные зеркальные окна гостиницы были разбиты, все было усеяно осколками. Флоренс Харпер пришла в ужас, когда толпа «хлынула по цокольному этажу, словно стая крыс». «Все были охвачены паникой»; по ее воспоминаниям, сохраняли присутствие духа лишь «британские офицеры, прикомандированные к Генеральному штабу». Из шахты лифта и вниз по лестнице валил дым, везде был кромешный ад. «Испуганные женщины метались взад-вперед, моля о спасении, кто-то из них успел одеться, кто-то – только наполовину». Как отмечала Флоренс Харпер, «самой хладнокровной женщиной в гостинице была одна англичанка, которая сидела на своем упакованном дорожном сундуке и курила сигарету…готовая ко всему»{377}.
Опасаясь за безопасность женщин и детей, британские офицеры «встали перед ними стеной, прикрыв их собой», и призвали толпу отступить, предупредив, что в противном случае они «будут защищать женщин и детей до последнего человека»{378}. Двое из англичан, генерал Пул и лейтенант Урмстон, которые хорошо говорили по-русски, пытались удержать ворвавшихся в гостиницу на лестнице, взывая к их рассудку: «если уж те намеревались перебить всех [внутри], то, по крайней мере, они должны были позволить офицерам вначале увести отсюда женщин и детей». По воспоминаниям Харпер, повисла зловещая пауза, после чего «один здоровенный солдат засунул руку в карман, достал пачку отвратительного вида папиросу», протянул ее генералу Пулу и предложил ему закурить. Лейтенант зажег спичку, «дал прикурить вначале генералу, затем солдату – и погасил ее, объяснив, что прикуривать от одной спички троим – плохая примета. Это пришлось по душе солдату, который, как и все русские, был весьма суеверен»[55], что разрядило напряженность{379}. Корреспондент издания «Таймс» Роберт Уилтон был убежден, что «только хладнокровие и мужество британских и французских офицеров позволили в тот день избежать массового убийства российских генералов, женщин и детей» в гостинице «Астория» и что «надлежащее уважение к военной форме союзников сдержало возможное насилие». Как особо отметила Сибил Грей, при виде британской военной формы некоторые из толпы даже «сняли свои шапки и со словами: «Британские офицеры! Простите нас, мы не хотим мешать вам!» – самым галантным (насколько это было для них возможно) образом направились дальше – устраивать погром в остальной части гостиницы и наводить ужас на остальных ее постояльцев»{380}.
Несмотря ни на что, ворвавшаяся в гостиницу толпа была полна решимости схватить находившихся в ней русских офицеров. «Как вы собираетесь делать?» – выкрикнула одна из офицерских жен. «Одних пристрелим на месте, других арестуем, – ответили из толпы. – Они сами напросились на неприятности». Некоторые из русских офицеров (в том числе один генерал в возрасте) оказали сопротивление и были застрелены на месте, другие, подняв руки, сами вышли вперед, крича: «Мы за вас!» Последним было разрешено оставить при себе сабли и оружие. Группу офицеров выволокли наружу на площадь. Джеймс Стинтон Джонс видел, как некоторых из них без долгих рассуждений расстреляли во внутреннем дворе пустовавшего посольства Германии на другой стороне Исаакиевской площади{381}.
Разгромив вестибюль «Астории», толпа переместилась на кухню гостиницы. «Было забавно смотреть, как солдат длинной офицерской саблей нарезал куски сливочного масла и передавал их в толпу», – вспоминал бесстрашный Честер Свиннертон, не устоявший перед искушением покинуть безопасный банк, чтобы посмотреть на происходившее в городе. Лейтон Роджерс, присоединившийся к нему, наблюдал в холле внизу, как «толпа солдат объедалась блюдами, которые ей раньше никогда не доводилось пробовать, распевая «Марсельезу»… под аккомпанемент фортепиано»{382}. Иностранцы опасались за свою личную собственность, когда непрошеные гости, «чуя возможность поживиться в коридорах, устланных коврами, и в роскошных номерах гостиницы», устремлялись вверх по лестнице{383}. Один из мародеров успокоил британского журналиста, который просил не грабить их номера: «Покажи нам, где проживают иностранцы, и мы не будем туда заходить»{384}. Когда один из солдат вошел в номер к иностранке и «та, подойдя к нему, протянула ему деньги», он удивился: «Зачем это? Мы здесь совсем по другому делу»{385}.
Хотя, возможно, этим грабителям и было присуще определенное благородство, тем не менее «гостиница была в их власти», и было решено, что «представление с участием раненой женщины поможет избежать неприятностей». Как вспоминал Локер Лэмпсон, «раненую княгиню Туманову положили в коридоре на матрас и нагромоздили вокруг нее подушки, перепачканные кровью». Вскоре «группы солдат, размахивая руками и препираясь друг с другом, появились на четвертом этаже, чтобы потребовать у нас сдать оружие. Как только они увидели княгиню, они тут же стихли, при этом один подвыпивший в гражданской одежде уронил свое ружье чуть ли ей не на голову». Британские офицеры отдали свои револьверы и сабли и показали восставшим, где находились телефоны, «которые все были сломаны». Ситуация вновь была под контролем, и, хотя отдельные небольшие ценности из номеров иностранцев и пропали, «в целом досмотр прошел без происшествий»{386}.
После того как короткое, но решительное сражение на цокольном этаже гостиницы было завершено, вся мебель и все люстры разбиты, а русские офицеры вышвырнуты вон, толпе осталось лишь найти какое-нибудь спиртное. Предвидя такое развитие событий, несколько британских офицеров спустились в знаменитые винные погреба «Астории», чтобы уничтожить вино и крепкие спиртные напитки, прежде чем мародеры доберутся до них. Хотя некоторые бутылки уже успели стащить, офицеры во главе с капитаном Скейлом, «которым оказывали помощь студенты и кое-кто из солдат (достаточно благоразумных, чтобы осознавать катастрофические последствия» в том случае, если толпа получит доступ к оставшемуся запасу спиртного), принялись «бить бутылки и били их до тех пор, пока», как свидетельствовала Флоренс Харпер, «уже не могли от усталости поднять рук». «Они проломили все бочки с коньяком и виски, под конец они в буквальном смысле этого слова стояли по колено в коктейле, где было все: от шампанского до водки»{387}.
На площади же толпа отбивала горлышки у тех бутылок, которые ей удалось стащить, и принялась пить их содержимое; при этом непрерывный людской поток «вваливался в гостиницу через липкие от крови двери и вываливался обратно, вынося груды бумаг и документов», чтобы бросить в костер на площади{388}. Некоторые из восставших при виде большой груды разбитых бутылок попытались усовестить своих товарищей; кроме того, они отобрали те из оставшихся бутылок, что смогли, и вылили их содержимое, призывая не «осквернять нашу борьбу за свободу употреблением спиртного и мародерством»{389}. Этот дух революционной чистоты еще царил, когда позже в тот же день Флоренс Харпер увидела рядом с «Асторией» человека, размахивавшего бутылкой вина. Когда он поднес ее ко рту, «студент, который шел вместе с ним, вырвал ее у него из рук, разбил и сказал: «Не пей! Если ты это сделаешь, вся наша работа пойдет насмарку». Подобные увещевания, однако, имели мизерный эффект. Джеймс Стинтон Джонс явился свидетелем тому, какие способы изобретали некоторые солдаты, чтобы унести то, что они не смогли выпить на месте, рядом с «Асторией»: они «вылили вино в свои сапоги и затем побрели прочь, чтобы допить его где-нибудь еще»{390}. Все понимали: это было просто счастье, что толпа не смогла добраться до остальных запасов в подвалах гостиницы. «Это был как раз тот случай, когда запрет явился благом для России», – писал Эдвард Хилд; безусловно, обильные запасы «Астории» достались только ее гостям. Эдвард Хилд, как и многие другие очевидцы, был убежден в том, что «если бы было обнаружено много водки, у революции могло бы вполне быть совсем другое, ужасное завершение». Его соотечественник Джеймс Хоктелинг был согласен с этим суждением: свободный доступ к водке, «несомненно, низверг бы всех в пучину террора наподобие Французской революции»{391}.
В разгромленном вестибюле гостиницы, где весьма странно теперь смотрелись пальмы в своих медных кадках, «вращающиеся двери крутились в луже крови». Большие зеркальные окна были «вдребезги разбиты и зияли громадными дырами», из-за чего дорогие шторы превратились в «рваные грязные обрывки, валявшиеся на улице на снегу». «Мебель была опрокинута или разбита на какие-то нелепые куски; везде валялись обгоревшие документы, книги и даже канцелярские принадлежности». В чайной комнате гостиницы и ее большом ресторане также была картина полного разгрома. «В беспорядке лежали тела, жалобно стонали раненые»{392}. Джеймс Хоктелинг пошел со своим американским коллегой посмотреть на масштабы погрома – и был ошеломлен, обнаружив, что «в одном из номеров, где мебель была превращена в кучу дров и даже электрические розетки были вырваны напрочь…большие фотографии царя, царицы и царевича в рамах висели на стенах совершенно нетронутыми»{393}.
Постояльцы верхних этажей, забаррикадировавшись в своих номерах и вздрагивая от малейшего шума, весь день просидели без еды, пока наконец не было разрешено женщин и детей перевезти колонной военных и посольских автомобилей в безопасное место. Некоторые нашли убежище в посольстве Италии на другой стороне Исаакиевской площади, другие – в расположенной рядом гостинице «Англетер». Флоренс Харпер попыталась там перекусить, но обнаружила, что ее обеденный зал уже заполнен – румынами, русскими, сербами, французами, англичанами, японцами, «представителями всех союзных и всех нейтральных стран», и все «старались продраться вперед и дрались за еду». Она вернулась в «Асторию», чтобы попытать счастья там, но увидела ту же самую картину: сотни людей дожидались супа из капусты и какой-то птицы, которую она назвала «жареной вороной». Было небезопасно пробовать любые овощи, даже если таковые находились, из-за риска дизентерии, поэтому она остановила свой выбор на консервированных сардинах и голландском сыре. «Кто-то нашел у себя немного галет», которыми поделился, и «подкупил официанта, чтобы получить немного какао»{394}.
Позже в тот же вечер всем офицерам союзнических стран, желавшим покинуть гостиницу, было разрешено сделать это – и давешняя толпа приветствовала их, когда они уходили. Но многие решили остаться – «не по собственному желанию, а просто по необходимости, поскольку все гостиницы в Петрограде были переполнены». Ситуация с жильем в городе была настолько острой, что с наступлением ночи некоторые из британских офицеров вернулись. «Я мог бы замерзнуть до смерти с таким же успехом, как и быть взорванным», – сказал один из них Харпер, имея в виду настойчиво ходившие весь день слухи о том, что «Астория» будет разрушена, что «ее собирались взорвать динамитом»{395}.
Еще несколько часов после штурма «Астории» «пьяные солдаты валялись на тротуарах». Среди груд битого стекла, разрушенной мебели и сожженных книг из гостиницы бродили женщины, «собирая разбитые тарелки и все, что могло бы им пригодиться». «Охотники за сувенирами были при деле», – отметила Флоренс Харпер, но при этом особо подчеркнула, что «эта толпа была самой добродушной из всех, которые я когда-либо видела». Тем не менее вблизи гостиницы еще в течение «многих дней после этого стояли винные испарения», которые она находила «тошнотворными», а на площади валялись головешки от костров и под ногами везде хрустело битое стекло. Некогда прекрасная Исаакиевская площадь «стала опустошенной и заброшенной»{396}. Разбитые окна в «Астории» заменили ставнями, и постояльцы гостиницы, прошедшие боевое крещение, теперь проживали в номерах, изрешеченных пулями, без электрического освещения и без отопления. «Это было похоже скорее на проживание в монастыре в зоне военных действий», – вспоминал офицер британской разведки Денис Гарстин{397}.
Во вторник по всей столице прокатилась волна грабежей, что было неудивительным после освобождения из городских тюрем восьми тысяч заключенных. Английская гувернантка Луизетт Эндрюс вспоминала, что видела бегущих по улицам людей (в основном солдат и матросов) со связками украденных колбас, которые свешивались у них с шеи, или тащивших окорочка ягненка, или удиравших прочь, сжимая в охапке шубы. Но чаще всего, как она вспоминала, крали дорогие часы: «это была та вещь, которую все предпочитали стащить», – и вскоре во всем Петрограде «ни в одном из ювелирных магазинов не осталось часов»{398}.
Росло число преступлений: случаев разбоя, сексуального насилия, грабежей, актов насилия в нетрезвом состоянии. Медсестра Эдит Хеган писала в своем дневнике: «Похоже, было ужасной ошибкой освобождать осужденных, потому что те совсем сошли с ума от жажды крови и вовлекают толпу в различного рода бесчинства». Как она отмечала с тревогой, «толпа была беспощадна в достижении своих целей, она неукоснительно следовала своей собственной похоти»{399}. Она, как и другие иностранцы, видела уродливое лицо стихии в ее самой разрушительной, первобытной форме. Порыв, долгое время скрываемый под личиной цивилизованного общества, эта стихия время от времени прорывалась в форме крестьянских бунтов, как «первобытная сила угнетенных классов, для которой любые политические формулировки оставались чуждыми», и теперь, в Петрограде, эта ненависть выплеснулась на традиционных классовых врагов{400}.
Эта разношерстная публика, зацикленная на идее возмездия, продолжала патрулировать улицы, вооружившись до зубов. Происходило множество случайных выстрелов – в воздух «или же, что гораздо больше веселило их…по любому предмету и по любому прохожему»{401}. Все это имело место, несмотря на распространявшиеся листовки с призывами не вести «беспорядочную» стрельбу и беречь боеприпасы «про запас»{402}. Самозваные отряды дружинников, в число которых попали и освобожденные из тюрем преступники, нацепив солдатскую форму, устраивали хаотичные и зачастую сопровождавшиеся насилием обыски, прочесывая улицы дом за домом, при этом искали не только скрывавшихся полицейских, но и любые тайники, в первую очередь с оружием, алкоголем и продуктами питания. Дома, покинутые испуганными владельцами (прежде всего это относилось к представителям аристократии), являлись основной целью: толпа, подбадривая сама себя, в неудержимом порыве грабила изящную (и по большей части бесполезную для нее) мебель и предметы обстановки, фарфор и посуду. Запуганные горожане баррикадировались в своих домах, однако в случае любого отказа признать законными действия этих самозваных отрядов двери выламывались, и жильцы, решившиеся оказать сопротивление, безжалостно расстреливались: молодые и старые, женщины и дети.
Генерал-лейтенант, граф Густав Штакельберг, русско-эстонский дворянин и бывший советник Николая II, был убит на глазах своей жены, когда его дом на улице Миллионной был взят штурмом, – но прежде он оказал ожесточенное сопротивление, застрелив нескольких нападавших. Лейтон Роджерс и его коллеги из Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка видели, как Штакельберг (позже они выяснили, что это был именно он) вбежал на Дворцовую набережную и сделал несколько выстрелов, а затем укрылся за фонарным столбом. Однако он не смог долго продержаться: по воспоминаниям Свиннертона, «пуля сразу же снесла верхнюю часть его черепа»{403}. Во время всей этой сцены, как отметил Свиннертон, «где-то в ста ярдах на парапете сидел солдат со своей возлюбленной, которые трепались [болтали], словно им ровным счетом ни до чего не было никакого дела». Тело Штакельберга бросили посередине улицы, где его растоптали проезжавшие конные разъезды. Как и предполагал Роджерс, когда Свиннертон и его коллеги в ту ночь вернулись с работы домой, тело графа было уже по большей части без генеральской формы, которую растащили «на сувениры». Позднее тело выбросили в Неву, вернее, на нее, поскольку оно упало на замерзшую реку и было там оставлено{404}.
При такой ярой ненависти к старому строю, выплеснувшейся на улицы, некоторые представители российской аристократии неизбежно обращались к Бьюкенену и другим послам с просьбой об убежище. Это ставило сэра Джорджа в весьма затруднительное положение, так как он мог обеспечить защиту только британским подданным[56]. Дочери графа Владимира Фредерикса, Министра Императорского Двора (находившегося в это время вместе с царем в Ставке), после того как их дом был разграблен и разгромлен толпой, просили британское посольство укрыть их и их больную мать. Однако им отказали, предположительно из-за «светского тщеславия» леди Бьюкенен, которая жаловалась: «Не знаю, почему я должна принимать графиню Фредерикс, если она никогда не приглашала меня в свой дом или в свою ложу в опере»{405} [57]. Посол США Фрэнсис, напротив, послал своего второго секретаря Нормана Армора, в частности, к подданной США графине Ностиц, которая жила в трех кварталах от посольства, чтобы предложить ей «занять помещения в посольстве, в таком случае [она] может быть под защитой американского флага». Графиня Ностиц была тронута этим предложением, но предпочла остаться со своим русским мужем и довериться удаче{406}.
Хотя вторжения в частные дома зачастую имели грубый, насильственный характер, иногда события развивались не так драматично. Элла Вудхаус, дочь британского консула, вспоминала, как к ним в квартиру явился отряд революционеров с обыском: «Отец пригласил их в столовую, где мы в это время пили чай при свете одной или двух свечей, поскольку электричества не было. Они все сели. Я не помню, был ли им предложен чай, но у меня в памяти осталась картина напряженной группы людей, сидевших за длинным столом в темной комнате, освещенной только мерцавшими свечами. Парнишки чувствовали себя неловко, так как отец очень вежливо объяснил им, что он не может воспретить им произвести обыск, но в этом случае они нарушат дипломатический иммунитет, что (а он уверен, что им это известно) считается в цивилизованных странах серьезным преступлением. Это привело к общему обсуждению целей Великой революции. Постепенно они расслабились и присоединились к обсуждению данной темы. Беседа продолжалась довольно долго. Затем, после взаимного выражения доброжелательности, они покинули нас»{407}.
Однако по отношению к владельцам винных и продовольственных магазинов такого политеса не наблюдалось. Как писал Дж. Батлер Райт, либо они были «принуждены силой открыть свои заведения, либо эти магазины были взломаны», хотя и отмечались определенные попытки обеспечить контроль над ситуацией и «гарантировать, что товары распределяются справедливо, а владельцы магазинов получают плату за эти товары». Джеймс Хоктелинг, например, был рад узнать, что его повар «приобрел у солдат по смехотворно низким ценам разные продукты, отрезы ткани, муку и т. д., которые были взяты в государственных магазинах, не работавших до этого несколько месяцев»{408}. В некоторых домах, подвергшихся обыскам, было обнаружено искомое; так, на складе одной{409} из мясных лавок нашли тайное хранилище тысяч винтовок и боеприпасов (вероятно, это было дело рук полиции). По воспоминаниям английской соседки Джеймса Хоктелинга, когда толпа ворвалась в дом одного офицера полиции, «там был обнаружен целый магазин: мука (которую мы нигде не могли достать), коньяк, сельдь». В лавке крашения и чистки одежды, которая несколько месяцев стояла заколоченной, нашли груды окороков, вкус которых все уже давно забыли. Были обнаружены бесчисленные склады муки и сахара (запасы которых, как утверждало правительство, были исчерпаны, но на самом деле эти продукты были припасены за взятки) – «в основном в частных домах офицеров полиции», причем в таком количестве, что это лишь укрепило широко распространенное в обществе убеждение в том, что полиция «систематически злоупотребляла властью для скупки по спекулятивным ценам продовольствия в своих районах». Артур Рэнсом сообщал, что «некоторые полицейские даже держали в своих домах живых кур»{410}.
Неустанные поиски полицейских продолжались в течение всего вторника. В последней отчаянной попытке спастись некоторые из них, как рассказывал Джеймс Стинтон Джонс, маскировались (неубедительно) под женщин. Крупные по своему телосложению полицейские «с трудом походили на дам», и их «неизменно выдавали их осанка, манера держать себя и рост». Джеймс Стинтон Джонс обратил внимание на одного из них: «человек был ростом никак не менее шести футов[58] и весьма плечист, а его манера держать себя и походка, конечно же, не имели ничего общего с женским полом». Толпа быстро заметила его, кто-то «остановил его и сорвал с него шляпку, которая снялась вместе с длинным париком и толстой вуалью, открыв очень грубое мужское лицо с пышными усами. Он тут же упал на колени и стал молить о пощаде, но толпа без лишних слов расправилась с ним». Ниже по реке Амели де Нери видела двенадцать тел полицейских, которые были раздеты догола{411}. Вскоре после этого ее глазам предстало еще одно зловещее зрелище: «это были сани-волокуши, на которые было брошено обнаженное тело, накрытое белой простыней; ноги немного свисали с саней, и голые ступни волочились по снегу. Над грудью простыня провисала, и можно было предположить, что у несчастного отрезали голову. Весь этот ужасный груз был забрызган пятнами крови. Вероятно, это были останки какого-то полицейского или кого-либо другого, которые везли куда-то в морг»{412}.
Джеймсу Стинтону Джонсу довелось увидеть «ужасное зрелище на снегу», когда полицейский был на улице буквально разорван «на куски» разъяренной толпой. Он рассказывал также о том, что некоторых офицеров полиции, пойманных в своих домах, привязали к диванам или кушеткам, «обливали керосином, а затем поджигали». Дороти Сеймур слышала о начальнике полицейского участка, которого связали и бросили в костер рядом с его полицейским участком. Лейтон Роджерс был потрясен, узнав, что полицейский, который застрелил солдата на углу своего дома, «был тут же заколот штыками и обезглавлен – к ужасу нашей девочки-служанки, случайно проходившей мимо». Обнаружив полицейских, которые вели огонь из пулеметов на крышах домов, с ними расправлялись тут же: «под ликующие крики, одного за другим, их штыками подгоняли к краю крыши и сталкивали вниз, на улицу, где собравшаяся толпа с бранью оплевывала их трупы»{413}.
Глава 6 «Это просто здорово – жить в такое замечательное время»
Докладывая в конце марта 1917 года в Министерство иностранных дел о происходивших в России событиях, Хью Уолпол сделал следующий вывод: «В целом, было бы верным сказать, что, насколько это касалось Петрограда, к вечеру вторника революция совершилась»{414}. С царским правительством было покончено; Арсенал – последняя опора старого режима – сдался к четырем часам дня, после того как восставшие пригрозили направить на него орудия Петропавловской крепости. Все армейские части в Петрограде теперь поддержали революцию, в том числе элитное военно-морское подразделение – Гвардейский экипаж под командованием великого князя Кирилла, а также Кадетский корпус и 350 офицеров Академии Генерального штаба; к восставшим присоединился даже гарнизон, охранявший императорскую семью в Царском Селе{415}.
Однако дипломатический корпус был «серьезно обеспокоен» дальнейшим развитием событий с учетом усиливавшейся борьбы между новым Петроградским Советом рабочих депутатов и Временным комитетом Государственной думы. «Все действительно шло настолько успешно, все настолько превосходило самые смелые надежды, – писал Уолпол, – что никто не мог поверить, что про запас не припасена какая-то каверза». Короче говоря, «все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой». Корреспондент издания «Таймс» Роберт Уилтон был с самого начала убежден, что «создание института Советов было равносильно заблаговременной подготовке к ниспровержению любого коалиционного правительства», и он видел «полную безнадежность» попыток умеренных сил в Государственной думе сформировать в том или ином виде демократическое правительство{416}.
Все иностранные наблюдатели хотели видеть, как будет проходить борьба за власть с участием новой структуры и каков будет результат, поэтому во вторник, 28 февраля, многие из них прибыли в Таврический дворец, чтобы посмотреть, как делается история. Весь день из отдаленных районов туда же прибывали солдаты, чтобы заявить о своей верности революции; бесконечным потоком шли делегации рабочих и гражданских лиц. Шпалерная улица представляла собой «безумное скопление неорганизованных военнослужащих и простонародья, все выглядели счастливыми и были доброжелательно настроены, – вспоминал Джеймс Хоктелинг, – это был людской калейдоскоп из солдат, вооруженных и невооруженных гражданских лиц, конных казаков, автомобилей, заполненных медсестрами из Красного Креста и студентами в военной форме, грузовиков с массой людей, ощетинившихся штыками и красными флагами». Амели де Нери тоже почувствовала общую атмосферу толпы: «лица, похожие на Христа, с белокурыми или темно-рыжими мужицкими бородами, выбритые лица солдат, грязные пальто из овчины, меховые шубы, косматые шапки или студенческие фуражки – все это колыхалось, вздымалось или раскачивалось, словно море!» В этой плотной толпе были «и грузовики, в каждом – по тридцать восторженных солдат, и легковые автомобили, и пулеметы, на которых сидели, балуясь, дети, и конные разъезды»{417}. Некоторые студенты были на лошадях, их называли «черными гусарами». Каждую минуту прибывало все больше грузовиков, заполненных возбужденными от езды солдатами, а также «большегрузных автомобилей, которые разгружали у главного входа в Таврический дворец продукты, словно ожидалась осада национального собрания»{418}.
Для молодого жителя Нью-Йорка Лейтона Роджерса это стало «зрелищем, которое было невозможно забыть»: «движущееся, колеблющееся море лиц – вот оно расступается и вновь смыкается у стен здания, когда очередной открытый грузовик прокладывает свой путь к воротам, вот оно в нетерпеливом беспокойстве перебинтовывает свои повязки, вот оно смолкает, когда кто-то из важных персон забирается на ворота, чтобы дать какие-либо инструкции, вот оно разражается мощным ревом, когда какой-то известный герой протискивается в зал заседаний»{419}. Джеймс Хоктелинг видел, как приволокли группу схваченных полицейских. «Предать этих ненавистных врагов даже военно-полевому суду толпе казалось излишним», – подумал он. На некоторых из них все еще была черная форма, другие были переодеты в солдат, какие-то полицейские были одеты, как дворники (которые в народе имели репутацию полицейских осведомителей). Но «в основном это были плечистые детины, в которых можно было опознать полицейских и без формы». «Некоторые из них были все в бинтах, и их приходилось тащить, – отметил Хоктелинг, – другие беспокойно вертелись и упирались, но большинство вело себя на удивление флегматично». Он ожидал услышать неизбежный в таких случаях залп, но его не последовало. Этих полицейских не расстреляли на месте – их, по всей видимости, отправили «в какую-либо наспех подготовленную тюрьму»{420}.
От тех, кто проходил в здание Государственной думы, требовалось предъявить «причудливые образцы различных документов, которые служили пропусками», – вспоминал Джордж Бери, эти документы «проверялись добровольцами из числа студентов и школьников». «Во внутреннем дворе было еще теснее от массы солдат и различного люда», и Джорджу Бери потребовалось целых двадцать минут на то, чтобы пересечь около тридцати метров территории двора и одолеть несколько ступенек, ведущих к портику Государственной думы. У дверей была такая давка, что он смог с немалым трудом продраться внутрь. Вежливо толкаясь («Могу ли я пройти, уважаемые союзники?», «Пропустите меня, братишки!»), Бери добрался до Екатерининского зала с огромными белыми колоннами, «который был похож на кафедральный неф длиной сто ярдов[59]» и который был заполнен «той же толпой, слушавшей страстные выступления ораторов, вещавших со столов, стульев, с балкона первого яруса или со ступенек, ведущих к следующему ряду мест Законодательной палаты». Происходило генеральное сражение за внеочередное выступление; стояла какофония криков предполагаемых ораторов, желавших быть услышанными в этом гвалте: «солдаты, младшие офицеры, экзальтированные политические ораторы, порой даже и депутаты – все они впервые за последние десятки лет наслаждались сладостной «свободой слова». Бери почувствовал, как высвобождались чувства, сдерживаемые так долго – с революции 1905 года: «это был кусочек Гайд-парка воскресным утром в забытое довоенное время»{421}.
Прекрасный Таврический дворец превратился в огромный пакгауз. «Половина большой ротонды, являвшаяся первым вестибюлем, была заполнена пулеметами и пулеметными лентами, ящиками с боеприпасами и тому подобным военным имуществом, все это громоздилось как попало, словно брошенное, вместе с сотнями кип солдатской формы и кучей сапог, в крайнем беспорядке, напротив трехметровой груды мешков с мукой на другой стороне ротонды», – писал Джордж Бери{422}. Круглый зал Таврического дворца был также завален всевозможными припасами, его прекрасный паркет «был усыпан окурками, пустыми консервными банками, бумагой, мешками, картонными коробками и даже разбитыми бутылками». Хью Уолпол пришел в отчаяние от увиденной им «грязи и запустения». Посреди всего этого «ворочалась огромная масса людей, она сворачивалась и разворачивалась, словно какой-то огромный муравейник», к которому присоединялось все больше и больше солдат, «которые вваливались, словно самодовольные щеголи или дети, с обрывками красной ткани, привязанными к их винтовкам, кто-то пел, кто-то смеялся, кто-то удивленно молчал»{423}.
Суматошный идеализм, царивший в Таврическом дворце в первые дни революции, теперь сменился жесткими переговорами по вопросу очертания будущего правительства России. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в этот день провел свое первое пленарное заседание в атмосфере, которая была далека от буржуйской сдержанности бывших обитателей Государственной думы. Пестрая толпа горластых фабричных рабочих и солдат-крестьян, напоминавшая «гигантский сельский сход», битком набилась в зал, где стало душно и дурно запахло, столы были завалены хлебом и селедкой, все хотели непременно поучаствовать в дебатах{424}. Генерал-майор сэр Альфред Нокс был свидетелем того, как председатель Государственной думы Михаил Родзянко призывал в Екатерининском зале собравшиеся там массы солдат «вернуться в свои казармы и поддерживать порядок, так как в противном случае они рискуют переродиться в бесполезную толпу». Однако генерал Нокс не заметил каких-либо признаков организованности или кого-либо, занимавшегося делом: «Солдаты повсюду бездельничали». В одном из залов он увидел, как депутат Государственной думы Борис Энгельгардт «пытался действовать в качестве военачальника»: тот сидел за столом, «на котором возвышалась огромная, наполовину обглоданная буханка черного хлеба», и тщетно «стремился заставить услышать себя в общем гомоне толпы солдат, которые харкались, курили и выкрикивали свои вопросы»{425}.
Было совершенно очевидно, что любое разделение власти между двумя такими диаметрально противоположными структурами, как Временный комитет Государственной думы и Совет рабочих и солдатских депутатов, будет чревато серьезными последствиями. Для членов Совета бывшие депутаты Госдумы, вошедшие теперь в состав ее Временного комитета, являлись врагами, поскольку представляли прежний режим капиталистов, буржуазии и аристократии. Джорджу Бери было ясно, что Совет рабочих и солдатских депутатов вскоре станет «истинным хозяином ситуации»: у его членов были винтовки и грубая сила. Но в настоящее время именно старая гвардия Государственной думы обладала «самоуверенностью и методами управления», невзирая даже на то, что в течение дня в Таврическом дворце появилась группа арестованных бывших царских министров{426}.
Так, после обеда во дворец был доставлен испуганный, мертвенно-бледный, стучавший зубами от страха Борис Штюрмер, бывший член Государственного Совета, бывший председатель Совета министров. Вместе с ним был митрополит Питирим, архиерей Петрограда. Клод Анэ видел, как появился Борис Штюрмер – в окружении солдат, ощетинившихся револьверами, «старый человек, с шапкой в руке, закутанный в большое, до самых пят, пальто “Nicolas” с меховым воротником. Лицо у него было белым, как его длинная седая борода; бледно-голубые глаза ничего не выражали; он, казалось, ничего не замечал, словно впав в детство, и двигался неверной, дрожащей походкой, судя по его внешнему виду, бессознательно, не обращая внимания на окружающих{427}. Митрополит Питирим (присный Распутина), которого нашли скрывавшимся в Александро-Невской лавре, был в своей черной сутане, на шее у него висел золотой архиерейский крест; он казался «перепуганным до смерти». С полуоткрытым ртом и глазами, в которых светился ужас, он был похож на приговоренного к казни преступника, которого вели на эшафот{428}. Затем появился бывший премьер-министр Иван Горемыкин, «персонаж карнавала» со своими пышными бакенбардами; к его пальто была прикручена звезда царского ордена Святого апостола Андрея Первозванного – демонстративно, словно оберег{429}. Ивана Щегловитова, председателя Государственного Совета Российской империи и бывшего министра юстиции, считавшегося ярым сторонником и опорой прежнего реакционного строя, доставили под стражей в пять часов дня, его руки были связаны.
Однако того, кого искали все восставшие – печально известного министра внутренних дел Александра Протопопова, которого открыто презирали как ставленника императрицы и ее марионетку, – в его пустой квартире (которая ранее была разграблена, а тайно хранившиеся в ней солидные запасы шампанского ликвидированы) не обнаружили. Наконец в четверть двенадцатого ночи бывший министр сам, в потертой шубе, едва переставляя ноги, явился в Таврический дворец с повинной. После того как он два дня «бродил по улицам в поисках убежища у своих друзей, которые – все – отказали ему в нем», он сдался, заявив, что «желал стране лишь благополучия»{430}. После этого заявления он передал большую карту Петрограда, на которой были отмечены все полицейские тайники, – и был препровожден, «бледный и шатающийся», в тюремную камеру в Петропавловской крепости, где уже содержались многие другие представители старого режима{431} [60].
Весь вторник в Таврическом дворце царил хаос. Во дворце стоял «шум и гам: присутствовавшие взволнованно спорили, заявляли свои претензии, создавали группировки». Чтобы удовлетворить политические требования многочисленных соперничавших фракций, были сформированы всякого рода комитеты: «по продовольствию, по паспортам, комитеты журналистов, комитеты студентов, комитеты помощников женщин…по социальным правам, по вопросам справедливого мира, за избирательные права женщин, за независимость Финляндии, по вопросам литературы и искусства, за лучшее обращение с проститутками, по образованию, по справедливому разделу земли». В общем гаме и давке атмосфера в Екатерининском зале накалялась все более; многие делегаты стояли, вытянув шеи, чтобы видеть президиум, где ораторы забирались на стол, чтобы их было видно и слышно. «Шум оглушал все сильнее, в воздухе стояло облако пыли. Делегаты заваривали чай в своих чайниках, присев то там, то здесь. Гвалт и крик нарастали, как лавина»{432}. И во всем дворце, в каждом зале, в каждом комитете можно было снова и снова слышать, как обращались друг к другу: «товарищи»{433}.
В этой вновь обретенной атмосфере суматошного, но товарищеского единения, когда все наслаждались странным и непростым новым ощущением равенства, когда никто никому ничего не приказывал, Александр Керенский, видная фигура во Временном комитете Государственной думы, неоднократно предпринимал попытки призвать собравшихся солдат и рабочих восстановить хоть какое-то подобие воинской дисциплины. По словам посла Палеолога, депутаты Государственной думы были «совершенно ошеломлены масштабами анархии в армии»{434}. «Они никогда не представляли себе революцию в таком виде, – писал он. – Они надеялись направлять ее и удерживать в определенных границах с помощью армии», но это было абсолютно невозможно. Как отметил Палеолог в тот же день в своем дневнике, «войска в настоящее время не признают никаких командиров и распространяют террор по всему городу». Не желая возвращаться в свои казармы к своим прежним командирам, многие из них «отдавали оружие толпе и безучастно шатались по улицам, наблюдая за ходом сражения»{435}.
К концу дня вероятность того, что Временный комитет Государственной думы восстановит контроль над строптивыми остатками армии, еще более уменьшилась, поскольку в борьбе за первенство Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов издал Приказ № 1 по Петроградскому гарнизону, который был призван решить самые наболевшие солдатские вопросы. Было объявлено об отмене в армии всех званий, отменялось отдание чести офицерам и их титулование, к рядовым теперь следовало обращаться на «вы», а не на унизительное для них «ты». Кроме того, отныне все российские воинские подразделения и части подчинялись многочисленным выборным солдатским и матросским комитетам, подотчетным Петроградскому Совету, а не Государственной думе{436}.
В ночь с 28 февраля на 1 марта было очень морозно, температура резко упала до минус 26 градусов по Цельсию, это сопровождалось сильным снегопадом (выпало 10–15 сантиметров снега). Наутро над городом повисло серое и хмурое небо, снег продолжал идти весь день, приглушая отдельные крики и звуки спорадических перестрелок. Сильный мороз преобразил почерневшие остовы сгоревших зданий с «длинными сосульками, свисавшими с карнизов». Повсюду стоял запах гари, «в воздухе носился пепел»{437}.
Флоренс Харпер и Дональд Томпсон шли из гостиницы «Астория» к американскому посольству, чтобы понять ситуацию. «За исключением разбитых окон и лошадиных трупов, лежавших на улицах, не было никаких признаков недавних беспорядков», – отметила Флоренс Харпер{438}.
В самом деле, вставшего достаточно рано встречала «мягкая, безупречная белизна», накрывшая улицы и временно скрывшая от глаз мусор, стреляные гильзы и пятна крови – следы пяти дней кровопролития и насилия. Лейтон Роджерс также вышел взглянуть на обстановку: «Разбитое стекло зеленело на снегу; в окнах, даже если они не были разбиты, виднелись аккуратные отверстия. Двери были расщеплены и изрешечены свинцом. Здания словно переболели оспой: там, где пули попадали в кирпич и штукатурку, от стен отбивались куски размером с тарелку. Огромные часы на торце здания компании «Зингер» (единственного современного присутственного здания в Петрограде) хотя и были по-прежнему ярко освещены, но остановились примерно день назад, получив три пробоины в механизме. Там и сям лежали лошади или стояли брошенные автомобили, поврежденные в ходе перестрелок или в результате столкновения»{439}.
Ночью расклеили объявления, призывавшие всех «сознательных граждан» принять участие в восстановлении порядка. Честер Свиннертон был поражен тем, с каким удивительным присутствием духа россияне пытались вернуться к нормальной жизни. Он и его банковские коллеги «вышли сделать несколько снимков». Их прогулка вверх по Литейному, где два дня назад происходили беспорядки, «вначале была легкой и приятной». Но едва они прошли метров тридцать, «как раздалось: «Тра-та-та-та!» – это за углом дома загрохотал пулемет. Мы вместе со всеми, кто оказался рядом, нырнули в ближайший двор». Их русские спутницы «мертвой хваткой уцепились за наши руки», но уже ровно через минуту «вновь выглядывали наружу». «Совершенно невозможно справиться с русским любопытством, – писал Свиннертон позднее. – [Русские] демонстрируют восхитительную беспечность и пренебрежение опасностью. Маленькие дети будут совершенно спокойно прогуливаться во время перестрелки, смеясь и играя, как обычно». Он спросил двух мальчиков, не опасно ли было идти к Невскому проспекту.
– Нет, вовсе не опасно.
– А там не стреляют?
– Ну да, постреливают.
– И кого-нибудь убили?
– Ну да, кого-то убили, но там все в порядке{440}.
Поздно вечером 1 марта и в ночь на 2 марта Флоренция Харпер все еще слышала стрельбу из пулемета из Исаакиевского собора. Огонь оттуда велся в течение последних нескольких дней, но в эту ночь группа казаков взяла собор штурмом и обнаружила там сорок полицейских, укрывшихся в подвале. Измученные бессонницей и преследованием, которое продолжалось несколько дней, полицейские приняли здесь последний бой. Покончив с ними, казаки нашли на крыше шесть пулеметов и «месячный» запас боеприпасов{441}.
Революция теперь была полностью в руках народа, и к четвергу порядок был наконец-то восстановлен. Для охраны спокойствия создавались отряды милиции – из студентов, которые патрулировали улицы, надев нарукавные повязки и имея под своим началом трех или четырех солдат. Пожары прекратились; выпущенные из тюрем опасные преступники вновь были пойманы и водворены обратно. По приказу думского комитета милиция разоружила многих вооруженных до зубов гражданских лиц. Пьяные арестовывались, на улицах расклеивались многочисленные призывы «с просьбой ко всем товарищам воздержаться от спиртного»{442}. Офицерам, перешедшим на сторону революции, вернули оружие и направили в свои полки с задачей восстановить там дисциплину. Был обеспечен контроль над вооруженными автомобилями, нахождение которых на улицах представляло серьезную опасность. Эти машины останавливала милиция, забаррикадировав дорогу, и им разрешалось продолжать движение только при наличии официальных документов – в противном случае их сразу же конфисковали{443}.
Люди возвращались на работу, кутаясь от холода в пальто и шинели. Вновь открылись магазины, и домохозяйки с сумками в руках отправились на поиски продуктов. Молочники тащили свои санки, нагруженные бидонами. Самое важное – возобновились поставки муки по железной дороге, и вновь стал возможен подвоз свежеиспеченного хлеба. Была восстановлена телеграфная и телефонная связь, вновь доставлялась почта. Рабочие начали расчищать снег, и улицы стали принимать свой прежний вид. Даже лодки на окраинах Петрограда были приведены в исправное состояние. Казалось, все свидетельствовало о неожиданно быстром возвращении в нормальное русло.
Оглядываясь на события прошедших пяти дней, Дэвид Фрэнсис с немалым удивлением сообщал в Государственный департамент США, что «по своей значимости это была наиболее умело организованная революция из всех революций, когда-либо имевших место»{444}. Английская санитарка Элси Боуэрман, которая застряла в российской столице на пути домой с Восточного фронта, отметила в своем дневнике: «Революции, которые осуществляются таким мирным образом, действительно достойны того, чтобы совершаться[61]. Сегодня, кажется, оружие находится в руках только ответственных людей». «Сегодня утром вновь забурлила политическая жизнь, – писал один из американцев, проживавших в Петрограде. – Похоже, что удалось преодолеть своего рода полную изоляцию, когда те, на другой стороне Невы, казались очень далеки, а о том, что происходит на другом конце Петрограда, узнавали только по слухам»{445}. В это время Эдвард Хилд следовал на Невском проспекте за крупной демонстрацией; демонстранты несли плакаты и казались ему «радостными, свободными, одухотворенными, чрезвычайно счастливыми». Увиденные им на улицах Петрограда события, как он записал в своем дневнике, были «захватывающими и непередаваемыми». «Это просто здорово – жить в такое замечательное время»{446}. Атмосфера праздника усилилась, после того как из Москвы пришли новости о том, что борьба там продолжалась недолго и завершилась «легкой победой восставших». В этом российском городе, по словам одного из свидетелей, «нормальная жизнь была нарушена не более чем на один день…а в других городах – и того меньше»{447}.
Некоторые иностранцы обходили молчанием трагические аспекты прошедших событий и во всем искали только позитивные стороны. Так, например, Элси Боуэрман вспоминала, что во время революции все окружающие были с иностранными гражданами (такими, как она) «предельно учтивы и внимательны». Оливер Локер Лэмпсон был согласен с этой точкой зрения: он (так же как и Боуэрман) далеко не в полной мере знал о настоящей жестокости, которая имела место. «Это невероятное социальное потрясение обошлось без каких-либо беспорядков и крайностей, без оскорблений женщин, без какой-либо жестокости», – полагал он. На самом же деле ему просто не довелось увидеть настоящего кровопролития, поэтому он вполне мог позволить себе заявлять: «Тут народ не так шумен, как в Англии во время выборов». В общем, это была «революция благородных, великодушных людей»{448}. Того же мнения придерживался и капитан артиллерии британской армии Озборн Спрингфилд. Его предубеждение о том, что «революция как явление сопровождается массовыми казнями и тысячами жертв», было «полностью опровергнуто» в Петрограде. «Все выглядело относительно спокойно. После первого, вполне естественного, всплеска эмоций все достаточно быстро вернулось в обычное, нормальное русло». «Но было ли это нормальным?» – добавил он. Как и другие иностранные наблюдатели, он впоследствии пришел к выводу, что подобный оптимизм был преждевременным. Попытки выдавать желаемое за действительное, утверждая, что эта революция была относительно бескровной и мирной, что она давала надежду на новый этап в истории России, вскоре провалились. Как вскоре признался сам Спрингфилд, «я должен был понять, что впереди предстояли гораздо худшие времена»{449}.
Многие из тех, кто описывал свою реакцию на Февральскую революцию, неизбежно сравнивали ее с событиями 1789 года в Париже. Для одного из американцев 28 февраля – день великих потрясений – стал прочно ассоциироваться с «романтическим образом», который бросился ему в глаза: «фигура, словно сошедшая со старых гравюр, изображавших Французскую революцию», идущая впереди толпы: «Это была молодая девушка в тонком, потертом пальто, со светлыми короткими волосами, на голове – солдатская фуражка защитного цвета с большим красным бантом. На поясе у нее висела изогнутая жандармская сабля огромных размеров. Она бежала навстречу выстрелам, останавливаясь через несколько шагов и прикрывая глаза от заходящего солнца, чтобы всмотреться в даль»{450}.
Этот образ действительно напоминал Марианну, символ Французской революции. Те же ассоциации у француженки Амели де Нери вызывало употребление слова «гражданин». Она первый раз услышала это слово на улицах Петрограда. Французский посол Палеолог, однако, считал, что французская и русская революции «совершенно непохожи» по духу. Как он писал, то, что произошло в Петрограде, «по своим причинам, принципам и более социальному, чем политическому, характеру» напоминало скорее революционные события в Париже 1848 года. Такой бурный – всего за ночь – расцвет романтического идеализма казался настолько нереальным, что немногие могли в это поверить. Амели де Нери, однако, смогла весьма удачно выразить это следующим образом: «Надо жить здесь, надо постоянно сталкиваться с принуждением и ограничениями во всех сферах общественной жизни, с жестким контролем со стороны полиции, с отсутствием у нее нормального отношения к рядовому человеку, со слежкой, доносительством, с постоянным ощущением лжи, неискренности и жульничества, с рабством под видом свободы – чтобы понять ту радость, которую сейчас здесь испытывает каждый. Этот великий народ наконец смог вздохнуть полной грудью, он сбросил свои оковы, он избавился от того, что угнетало его веками. И теперь все радуются и улыбаются»{451}.
Честер Свиннертон испытывал такие же чувства: «То, что происходит сейчас – это, по существу, падение Бастилии. Далее должен быть марш на Версаль». Он выразил надежду на то, что «ситуация будет продолжать развиваться в русле этой аналогии»{452}. Но Петрограду не было суждено повторить судьбу Версаля. Последний акт царской России подходил к своему печальному финалу в трехстах милях от столицы, в железнодорожном тупике на станции Псков.
Глава 7 «Люди не верят в свое освобождение»
Утром 1 марта, в среду, Филип Шадборн осмотрел «обугленный и дымящийся остов здания» Судебной палаты на Литейном проспекте и обнаружил, что ее внутренний двор был полон народа, который «рылся там в поисках сувениров на память среди того, что стало уже пережитком прошлого»{453}. Парадная лестница была полностью разрушена, «на пьедестале осталась только нижняя треть мраморной статуи императрицы. Ее почерневший торс лежал у моих ног; голова императрицы, ее скипетр, держава, корона превратились в обломки». В конце длинного темного коридора он вышел на один из внутренних двориков и содрогнулся, оказавшись «внутри этой громадной человеческой клетки, где все было из стали и камня, лязгало и обдавало холодом». В некоторых камерах он увидел остатки последней еды – ломти черного хлеба, – брошенные, «когда узников позвали на свободу». В разгромленном кабинете председателя Судебной палаты он «наткнулся на сделанный маслом грудной портрет императора». Богатый инвентарь часовни был «в полном беспорядке; книги, церковное облачение, рясы, мантии – все валялось на полу. Мраморный алтарь был поврежден, и толпа с любопытством копалась в обрядной утвари». Внезапно молодой солдат «схватил богато расшитую рясу и набросил ее себе на плечи, затем нацепил длинный изящно украшенный воротник[62] и, наконец, нахлобучил набекрень конусообразную митру. Вслед за этим он открыл «Завет» и начал ернически распевать басом». Шадборн невольно подумал о том, что буквально неделю назад такое неподобающее поведение было бы «немыслимо». Но здесь сейчас «весь мир перевернулся вверх дном»: «невероятное стало вполне обычным, а обычное просто исчезло»{454}.
Оказавшись посреди всего этого, иностранцы находились в замешательстве и страхе, – прячась в своих квартирах, по словам Клода Анэ, «взволнованные, обеспокоенные, встревоженные, вздрагивавшие от малейшего шума». «Куда нас несет? Что будет назавтра?…Будет ли правительство, назначенное в Петрограде, признано остальной Россией? Будет ли оно в состоянии восстановить порядок в стране?» – спрашивали они друг друга. В домах своих французских друзей Клод Анэ заметил растущую тревогу по поводу ситуации за пределами России: «Важный вопрос, ужасный вопрос заключался в следующем: «А как же война?»{455} У обычных же питерцев революция на какое-то время вытеснила мысли о войне. Они забыли даже про царя, чье возвращение ожидалось в ближайшие дни.
Лишь в три часа ночи 28 февраля Николай II наконец выехал на царском поезде из Ставки в Могилеве – только для того, чтобы в шести часах езды до Петрограда, у Бологого, повернуть назад в результате забастовки железнодорожников, которые вывели из строя полотно. Николай II направился в Псков, куда он прибыл рано утром 1 марта и откуда связался по телеграфу с председателем Временного комитета Государственной думы Родзянко в Петрограде, чтобы неохотно согласиться на политические уступки. Но было уже слишком поздно. Ответ Родзянко был резким и прямым: «Настало время отречься от престола»{456}.
Усталый и подавленный, занятый мыслями о встрече со своей женой и больными детьми и обеспокоенный судьбой русской армии на фронте, Николай II обсудил с командующим Северным фронтом генералом Рузским в его ставке в Пскове сложившуюся ситуацию. Рузский также посоветовал ему отречься от престола. После этого Николай практически не сопротивлялся, когда специальные представители Государственной думы депутаты Александр Гучков и Василий Шульгин прибыли в Псков на поезде из Петрограда, чтобы оказать на него дальнейшее давление и вынудить сдаться. Николай II заявил, что отрекается ради спасения страны; принимая это решение, он не руководствуется чьими-либо политическими требованиями. Он исполнял свой долг, прежде всего, «перед Богом и Россией»{457}. Он также принял решение отречься от престола и от имени своего сына Алексея, больного гемофилией, опасаясь, что в случае наследования Алексеем престола при чьем-либо регентстве их неминуемо разлучат и его, Николая II, отправят в изгнание. Во второй половине дня 2 марта царь согласился с проектом своего манифеста об отречении и подписал его незадолго до полуночи, определив своего младшего брата, великого князя Михаила Александровича, своим наследником. Спустя буквально день великий князь Михаил Александрович также отказался от престола, заявив, что примет верховную власть лишь в том случае, если она будет предложена ему всенародно избранным Учредительным собранием. Однако создание такого органа, как хорошо было известно великому князю, являлось пока еще несбыточной мечтой.
В час ночи 3 марта поезд Николая II направился обратно в Могилев, а оттуда – в Царское Село. Петроградские газеты от 5 марта сообщали о том, что бывший царь «решил взять незаслуженный отпуск в Ливадии в Крыму». Однако 9 марта бледный и измученный Николай II в форме полковника лейб-гвардии казачьего полка наконец воссоединился со своей семьей, которая уже находилась под домашним арестом в Александровском дворце Царского Села{458}. Вообще-то Николай II выразил желание, чтобы ему позволили выехать в Крым и жить там, однако ему было в этом сразу же отказано. Были надежды на то, что удастся убедить короля Георга и британское правительство принять царскую семью, но предварительные консультации по этому вопросу вскоре закончились ничем. В то время как Николай II и его семья ждали решения по своей судьбе, к нему относились так же, как и к любому русскому, обращаясь к нему: «Гражданин Романов». Многие вскоре стали называть его просто «Николай». Что же касается царицы, то газеты вернулись к ее прежнему имени – «Аликс Гессе».
Морис Палеолог был потрясен той скоростью, с которой царь сдался. Он рассуждал в этой связи: «Все произошло так случайно, обыденно, прозаично, а самое главное – с таким равнодушием и самоуничижением со стороны главного героя!» «Царь всея Руси был свергнут с трона с такой же легкостью, с какой провинившегося школяра оставляют в классе после уроков», – писала Эдит Хеган, услышав эту новость. «Династия Романовых исчезла во время бури, – отметил Клод Анэ. – Не нашлось никого, чтобы защитить ее; она обрушилась, словно из нее ушли все жизненные соки». «Николай отрекся. Все испытывают чувство облегчения. Вандеи[63] не будет», – написал еще один иностранец из числа американцев{459}. Большинство американцев в Петрограде были полны энтузиазма, однако Дональд Томпсон невольно мечтал, чтобы царь (еще до своего отречения) вернулся бы в город и проехал бы вниз по Невскому проспекту, «стоя в своем автомобиле с непокрытой головой и обращаясь к народу, как это сделал Тедди Рузвельт, – вот тогда он бы остался царем России». Ему казалось, что все было достаточно просто: надо было лишь дать народу хлеб и согласиться с новым правительством. Томпсон чувствовал жалость к царю: «в глубине души он был настоящим русским, и даже теперь я все еще верю, что, если бы его попросили, он пошел бы на фронт и сражался бы за Россию». Что же касается того «блестящего будущего», которое, как его все пытались убедить, теперь, когда царь ушел, наступит, Томпсон не считал его «многообещающим»{460}.
В это время в Таврическом дворце, при неохотном согласии Петросовета, соперничающего с Временным комитетом Госдумы, а также в постоянной атмосфере «предельного возбуждения» вечером 2 марта было сформировано Временное правительство в составе двенадцати депутатов Государственной думы{461}. «Безусловно респектабельный» и «в высшей степени буржуазный» по своему составу, он, вразрез с позицией Петроградского Совета, выступавшего против войны, подтвердил свою верность союзникам и свои намерения создать конституционное правительство. Князь Георгий Львов, кроткий либерал и помещик, имевший многолетний опыт работы в органах местного самоуправления, был вызван из Москвы и назначен премьер-министром. Его, однако, скоро оттеснят в сторону более властные конкуренты в лице Александра Керенского, назначенного министром юстиции, и энергичного либерального монархиста Павла Милюкова, занявшего пост министра иностранных дел. Военным и морским министром был назначен богатый предприниматель и владелец одной из газет Александр Гучков, сыгравший ключевую роль в отречении царя. Михаил Родзянко, Председатель Государственной думы, возглавивший ее Временный комитет, остался во главе этой структуры, которая продолжала функционировать до сентября 1917 года, но был решительно оттеснен в сторону более энергичными деятелями в новом Временном правительстве{462}.
Все члены Временного правительства, за исключением социалиста Керенского, были представителями прежнего класса промышленников или землевладельцев, и Керенскому было весьма трудно подогнать под них свои политические принципы. Вскоре стало очевидно, что (с учетом его левых взглядов) Керенский был единственным членом нового правительства, который, похоже, пользовался реальным влиянием в Петроградском Совете, где он занимал пост помощника (заместителя) председателя Исполнительного комитета. Керенскому, который в 1905 году вступил в Партию социалистов-революционеров, а в 1912 году был избран в Государственную думу, приходилось прилагать огромные усилия, чтобы удерживаться в обоих противостоящих лагерях.
Он добился поддержки в Петроградском Совете, обладая личным магнетизмом в сочетании с искусным красноречием, которое он приобрел, выступая на судебных процессах в качестве защитника арестованных политических активистов. Ему, однако, приходилось использовать все свое умение, чтобы управлять этим все более обструкционистским и воинственным органом власти – численность Петросовета достаточно быстро увеличилась до трех тысяч неуправляемых человек. Опьяненные новообретенной свободой, политически наивные и неопытные члены Петросовета в лице рабочих и солдат руководствовались радикальными марксистскими теориями, которые были навязаны им агитаторами и которые они впитали, как губка. Эти теории шли вразрез с целью Временного правительства – обеспечить демократическую форму правления до Учредительного собрания, которое, как предполагалось, будет избрано должным образом – всенародно, посредством всеобщего, прямого и тайного голосования{463}. Но этого не могло произойти до окончания войны. Каковы были перспективы того, как в большинстве своем неграмотное крестьянское население отреагирует на ранее немыслимую свободу волеизъявления в ходе возможного голосования, было ясно по тем высказываниям, которые снова и снова, в различных формах, звучали на улицах российских городов: «Республика? Конечно, у нас должна быть республика, но за ней должен присматривать хороший царь»{464}.
Чтобы Петроградский Совет согласился на создание Временного правительства, потребовалось пойти на множество крупных политических уступок, включая «немедленную амнистию по всем политическим и религиозным делам, в том числе амнистию лиц, осужденных за теракты, военные восстания, аграрные преступления…свободу слова, печати, союзов, собраний и стачек…отмену всех сословных, национальных и религиозных ограничений и… организацию вместо полиции народной милиции с подчинением ее местным самоуправлениям, избранным на основах всеобщего, равного и тайного голосования»{465}. Что же касается щекотливой, но становившейся все более насущной проблемы права голоса для женщин, то Керенский сказал Клоду Анэ, что этот вопрос тоже следует отложить до созыва Учредительного собрания: «Не было ни времени, ни средств для обеспечения таких масштабных изменений в столь ограниченный период времени»{466}. На текущий момент Керенский считал своей первой задачей в качестве министра юстиции обеспечить контроль за амнистией всех политических заключенных, которая была объявлена 6 марта; 12 марта была отменена смертная казнь.
Хотя Временное правительство заявляло о готовности России продолжать войну, военные атташе союзных стран в Петрограде выражали серьезные опасения по поводу состояния русской армии и ее дальнейших перспектив. Многие, как генерал Нокс, опасались, что она находилась на грани капитуляции и что немцы могут захватить Петроград. Генерал Нокс полагал, что изданный Петросоветом противоречивый Приказ № 1, который устанавливал, что солдаты и матросы должны выполнять приказы Временного правительства только в том случае, если они санкционированы Петросоветом, являлся «смертельным ударом по русской армии». По мнению Нокса, Петроградский гарнизон превратился в вооруженную толпу, и рядовые солдаты не испытывали никакого энтузиазма по поводу продолжения войны. На встрече в посольстве США преобладали весьма пессимистические настроения; все были согласны с тем, что революция «деморализует войска на фронте» и что Россию не стоит более принимать в расчет «как участника войны». Войска на фронте действительно были глубоко деморализованы и в массовом порядке дезертировали. «Если вскоре не наступит мир, они бросят оружие»{467}. Посол Палеолог получил заверения от Милюкова, что его правительство намерено «решительно продолжать войну до победного конца», но наряду с этим признавал, что «ситуация в России теперь находится во власти новых сил», ссылаясь на «максималистскую пролетарскую доктрину», которая была выдвинута Петроградским Советом{468}.
Боеспособность российской армии была еще больше подорвана массовыми актами неповиновения и матросскими бунтами на Балтийском флоте в Кронштадте, морской крепости в девятнадцати милях к западу от Петрограда, защищавшей город со стороны моря. Вся дисциплина, казалось, полностью исчезла. Вместо этого появилась и набрала силу новая порода полусолдат-полугражданских лиц, считавших, что не было никакой необходимости подчиняться приказам. Взамен у них, как выразился Арно Дош-Флеро, была «пространная, расплывчатая, заразная концепция полной свободы»{469}. Клод Анэ отметил, что солдаты потеряли осанку; теперь они шагали по улицам, «ссутулившись, небрежно, в беспорядке, не в такт, утратив все те строевые навыки, которые им так долго прививались»{470}. Чопорный сэр Джордж Бьюкенен был напуган тем неуважением, которое теперь проявляли рядовые солдаты в поездах. Он видел, как они «набивались толпой в вагоны первого класса и ели в вагонах-ресторанах, в то время как офицеры были вынуждены ждать». Офицеров унижали при каждом удобном случае. «Я видел, – вспоминал Исаак Маркоссон, – как уважаемые генералы, с нашивками на рукавах за ранения на двух войнах, держались в трамваях за ременные петли, в то время как все места были заняты ухмылявшимися, а иногда и откровенно глумившимися солдатами».
Американский военный летчик Берт Холл тоже был уязвлен подобной утратой уважения. Во второй половине дня 3 марта он видел на железнодорожной станции, как один престарелый генерал хотел перекусить. Находившиеся поблизости солдаты начали делать в его адрес оскорбительные замечания, а когда генерал обратился к вооруженной охране, чтобы задержать провинившихся солдат, та вместо этого схватила самого генерала. «Они вывели старика на улицу, вокруг собралась толпа, – вспоминал Холл. – Кто-то спросил: «Что нам с ним делать?» – «Давайте повесим его; он был когда-то за царя!» И они тут же расправились с ним». Берт Холл знал этого генерала: «Он был хорошим стариком, один из немногих специалистов в области артиллерии во всей России»{471}.
С отречением царя во всем городе быстро получила распространение новая форма общественного развлечения: снос и разрушение всех императорских эмблем, символов и других атрибутов прежнего режима{472}. На Невском проспекте и других крупных магистралях города появились группы солдат, которые начали сбрасывать двуглавых орлов и романовские гербы с фронтонов зданий, имевших отношение к императорскому двору, а также с фронтонов различных императорских клубов, таких как Императорский яхт-клуб. Имя Николая, эмблемы и гербы дома Романовых, фотографии, картины, изображения императорской семьи – все это безжалостно уничтожалось. Ходили даже разговоры о возможной переплавке изящной статуи Петра Великого работы Фальконе, возведенной Екатериной Великой на Сенатской площади. Слово «Императорский» было вытравлено на всех вывесках, мемориальных досках, медных дощечках на дверях – везде, где только оно было найдено. Снесли даже императорского орла с фронтона Англо-русского госпиталя. «Наш дворцовый орел встретил свой конец, превратившись в кучу штукатурки на дороге, на которую он гордо взирал на протяжении многих лет», – отметил доктор Джеффри Джефферсон. Сотрудникам госпиталя было также велено снять российский флаг над входной дверью. «Это не флаг нашего народа», – было им сказано{473}.
Со всех сторон граждане, желавшие удалить старые имперские наросты с лица новой социалистической России, несли лестницы. Когда лестниц не находилось, они забирались на здание и делали свое дело с крыши. После того как императорские гербы сбрасывали на улицу, их растаптывали, сжигали в огромных кострах или просто бросали в каналы. Некоторые, в том числе и иностранцы, пытались оставить себе что-нибудь на память. «Мы хотели взять что-то на сувениры, – писал Джеймс Хоктелинг, – но все, что мы встречали, было слишком большим»{474}. К сожалению, в своем стремлении избавиться от всех следов дома Романовых самозваные иконоборцы не могли отличить русского императорского орла, символа угнетения, от американского орла, символа свободы. По этой причине некоторые изображения американского орла были уничтожены, хотя американцам удалось спасти огромного железного орла на вершине здания компании «Зингер» на Невском проспекте, «задрапировав гордую птицу в звездно-полосатый флаг, наружу из красно-бело-синих складок высовывался лишь клюв»{475}.
Одной из наиболее очевидных целей для «новых иконоборцев» был Зимний дворец. Как слышал корреспондент издания «Ассошиэйтед Пресс» Роберт Крозье Лонг, один фанатик даже потребовал «полностью разрушить Зимний дворец, заявив, что на его месте «можно оставить мусор – кучу бесформенных камней и гниющее дерево, – как более прекрасный памятник падения Романовых, чем самый красивый памятник свободе, созданный еще где-либо»{476}. В то же время над дворцом уже был поднят красный флаг, заменивший желтый имперский, а Романовские гербы и орлы на исторических воротах из кованого железа были либо удалены, либо закрыты красной тканью. Спрос на кумач по понятным причинам настолько вырос, по всему городу было столько красных лент, нарукавных повязок и флагов, что, в конце концов, стали поступать очень просто: отрезали от прежнего российского национального флага синие и белые полосы, оставляя лишь красную{477}.
В угаре разрушения имперские символы и аристократические диадемы стали вырывать даже из реквизированных автомобилей, а также демонтировать и уничтожать электрические уличные вывески, образовывавшие большую букву «Н» с короной. Теперь считалось изменой приобрести или выставить портрет царя. «Там, где портреты императора нельзя было удалить – например, в зале Государственного совета Российской империи, – они были накрыты белым крепом»{478}. Даже в Академии художеств «на табличках, прикрепленных к различным картинам, были вырезаны упоминания о том, что эти картины являются подарком членов царской семьи или временно предоставлены ими». Смена режима незамедлительно отразилась и на церковных службах, которые стали значительно короче, поскольку из литургии исчезли все молитвы за здравие императорской семьи – они были заменены молитвой о «Всевышней защите Отечества»{479}.
Мэриэл Бьюкенен осознала, какие произошли глубокие, значимые изменения, побывав на концерте в Мариинском театре. Ей было печально видеть, что императорские гербы и большие позолоченные орлы в зале были сорваны, что на их месте «остались лишь зияющие дыры». Красивый императорский синий падающий занавес также исчез – его заменили на «странно смотревшийся красно-золотой»{480}. Пропало все прежнее царское великолепие: билетеры, которые раньше были одеты в добротную, украшенную золотой тесьмой дворцовую униформу, теперь носили «невзрачные серые куртки, в которых они выглядели крайне убого». Публика в этом новом театре, доступном теперь для всех социальных групп, на ее взгляд, также была явно непритязательной: «везде сидели, развалясь, солдаты в грязной полевой форме, курили вонючие папиросы, харкались и лузгали неизменные семечки из бумажных пакетиков». Поодаль устроилась пестрая толпа рядовых пролетариев в повседневной одежде – кожаные куртки заменяли им общепринятый вечерний туалет, – «в своих грязных сапогах на парчовых креслах». Для Бьюкенен новая социалистическая «доктрина свободы» «проповедовала презрение к красоте». Даже кордебалет, казалось, теперь «стал менее слаженным, с опозданием подчинялся дирижерской палочке, шептался по углам, был небрежен и невнимателен в своих движениях». Этот некогда красивый театр превратился в место для встреч и собраний, в офис. Это было слишком для представителей «старой европейской гвардии» и аристократов дипломатической службы, таких как Бьюкенены. Для них это был вовсе не новый дивный мир, а «ветхий, деморализованный, загнивший мирок»{481}.
В ночь на четверг, 2 марта, поднялась такая снежная буря, что на следующее утро было невозможно выйти на улицу. Зима навалилась с удвоенной силой, мороз свирепствовал. Такая погода, когда напротив магазинов и зданий намело снежные сугробы высотой около пяти-шести метров, конечно же, «остудила революционный пыл» и, как отметил Дэвид Фрэнсис, «вынудила даже ярых социалистов оставаться по домам»{482}. Однако это продолжалось недолго: уже 5 марта наконец вновь после недельного молчания вышли газеты, и их «расхватывали изголодавшиеся по новостям горожане», выскакивавшие на холод, чтобы прочитать о драматических событиях последних дней. Для журналиста Артура Рэнсома это было особенно отрадная картина: «Тон газетных статей и даже их оформление были настолько жизнерадостными, что печатные издания было трудно узнать. Они разительно отличались от находившихся во власти цензоров, скованных немотой, вызывавших жалость изданий еще неделю назад. Каждая газета, казалось, исполняла радостный воинственный танец…словно вся Россия избавилась от кляпа, которым прежний режим, угнетавший ее, затыкал ей рот».
Кроме газет, «на улицах совершенно свободно продавались всевозможные провокационные брошюры и памфлеты», а все стены были «буквально облеплены прокламациями, плакатами и пропагандистскими листовками»{483}. Вернувшись в Россию на второй срок в качестве посла Нидерландов, Виллем Аудендейк[64] был невольно поражен царившей везде свободой слова. Совершая поездку на поезде из Финляндии, он оказался среди «революционных эмигрантов», возвращавшихся в Россию, которые «говорили и говорили, не переставая». «Каждый считал себя апостолом нового мессии, – отметил Аудендейк, – и с горячностью предлагал свои взгляды любому, готовому выслушать его»{484}. Посол Палеолог также упоминал: «Прогуливаясь по городу, на любом углу можно было услышать свободно выраженное мнение». «Везде, сплошь и рядом» проходили стихийные митинги (это английское слово быстро прижилось) под открытым небом. Спонтанно собирались группы из двадцати или тридцати человек, затем «один из них забирался на камень, или скамейку, или сугроб и принимался ораторствовать, оживленно жестикулируя. Аудитория пристально смотрела на оратора, увлеченно слушая его. Как только он останавливался, другой занимал его место – и ему тоже внимали в полной тишине». Палеолог нашел это «бесхитростным и трогательным зрелищем», особенно после того как один из выступавших напомнил, «что русский народ веками ждал права на свободу слова»{485}.
Джеймс Стинтон Джонс задавался вопросом, были ли готовы русские к такому внезапному обилию свободы (и были ли они в состоянии воспринять его). По его мнению, это явление было слишком новым для них, «чтобы понимать, как его использовать, и знать, как избегать злоупотребления им… Для неимущих классов России было непривычно иметь свое собственное мнение… Теперь, когда они стали политическим фактором в жизни страны, они оказались беспомощной, сбитой с толку добычей бессовестных демагогов». «Для России потребуется время, чтобы понять, что она хочет, – добавил он. – Сейчас в ней нет единения, нет общего идеала, вдохновляющего ее народ. Она осознает, что покончила с драконом, – но на этом и все»{486}.
Вслед за газетами на улицу вернулись и трамваи; только теперь задрапированные красными флагами и транспарантами с призывами и лозунгами, такими, например, как «Да здравствует республика!». Джеймс Хоктелинг видел, как первый из таких трамваев переезжал через Троицкий мост с Петроградской стороны, «в нем играл оркестр, а наверху реял большой красный транспарант: «Землю и волю – народу»{487}. Все в Петрограде были рады возобновлению работы городского транспорта, и знакомые трамваи на улицах, казалось, окончательно подтверждали, что жизнь наконец вернулась в нормальное русло. Это, однако, было достигнуто не без труда: Петроградский Совет был вынужден обратиться к населению с призывом: «В связи с захватом жителями во время остановки трамвайного движения в дни восстания ручек для управления вагонами… всем гражданам предлагается… немедленно возвратить дежурным агентам Службы движения указанные ручки». Журналист Клод Анэ, ежедневно в поисках тем для статей проходивший 20–27 километров пешком, вздохнул с облегчением: «Если бы революция продолжилась, у меня бы ноги стали, как у сельского почтальона»{488}.
В то время как большинство иностранцев приветствовали постепенное возобновление работы городских служб с определенным (зачастую насмешливым) скепсисом, были среди них и те, кто остался неисправимым, безнадежным оптимистом, восторгавшимся замечательной новой эрой в России. Так, Гарольд Уильямс, петроградский корреспондент издания «Дейли кроникл», убежденный пацифист и социалист, который раньше был членом методистской церкви, разделял восторженное отношение Артура Рэнсома к происходившим в России событиям, взахлеб рассказывая об «обилии братских чувств» на улицах и о том, как «сильное чувство общей ответственности за обеспечение порядка объединило все классы в одну великую армию свободы». Он утверждал, что жизнь в России «бурлит исцеляющим, очищающим потоком. Никогда еще ни в одной стране в мире не было так интересно, как сейчас в России. Старики говорят: «Ныне отпущаеши»[65], – а молодежь поет на рассвете, и я встречал здесь много мужчин и женщин, испытывавших смиренное чувство благодарения»{489}.
Вновь вернувшиеся в город иностранцы были поражены произошедшими в нем коренными переменами. Так, англо-ирландский журналист Роберт Крозье Лонг, появившийся в Петрограде 7 марта, был удивлен «беспримерными изменениями в социальной и общественной жизни, к которым в течение недели привела революция в самой деспотичной в Европе и жестко разделенной на классы стране»{490}. «Я обнаружил, что столица была опьянена свободой, – вспоминал американский журналист Исаак Маркоссон, который ранее освещал ход боевых действий на Западном фронте. – Люди не верят в свое освобождение»{491}. Маркоссону это продолжавшееся невероятное состояние эйфории напомнило атмосферу «в Нью-Йорке в ночь перед президентскими выборами, но с той разницей, что здесь результаты «выборов» постоянно нарастали, и победителем был, казалось, весь мир».
Рано или поздно праздничное ликование должно было утихнуть, уступив место суровой реальности. Однако жители Петрограда, похоже, были намерены опровергнуть это, словно посчитав само собой разумеющимся, что «революция означала бесплатные и постоянные талоны на обед и четырехчасовой рабочий день»{492}. России следовало возвращаться к трудовым будням, но новообретенное равенство – мир, где все называли друг друга «товарищ» и где воцарилась братская любовь, – как алкоголь, вскружило всем голову. Размечтавшись о невозможном и лелея иррациональные надежды на существенное сокращение рабочего дня и значительное повышение зарплаты, многие работники, начиная самыми высокооплачиваемыми рабочими на военных предприятиях и кончая самыми низкооплачиваемыми горничными, требовали 50-процентного, 100-процентного и даже 150-процентного увеличения заработной платы наряду с резким сокращением их трудового дня (что было совершенно нереально){493}. Путиловский завод по-прежнему стоял (учитывая, что его 35 000 рабочих были на улицах), а фронт испытывал острую нужду в боеприпасах{494}.
«Мне сообщили, как ни трудно в это поверить, – отметил прибывший в Петроград английский профессор лесного хозяйства Эдвард Стеббинг, – что каменщик здесь зарабатывает примерно 30 000 рублей в год, официант в гостинице – 80 рублей в сутки, посыльный в гостинице – 50 рублей, и так далее. Таких зарплат не могут позволить себе ни в одной стране в мире. При этом работают где-то от четырех до шести часов в день, и работу выполняют настолько плохо, что это только вредит делу. Свидетельств некачественного состояния подвижного состава на железных дорогах и несчастных случаев множество. Владельцы заводов и другие работодатели в полном отчаянии, не зная, как обеспечить рабочий процесс и поддержать свое дело»{495}.
Это мнение подтверждал и Негли Фарсон, который в то время был помолвлен с Верой Торнтон, дочерью одного из братьев Торнтонов, владельцев самой большой суконной фабрики в Петрограде. Как и другие заводчики и управляющие из числа иностранцев, они вели безуспешную борьбу за продолжение работы петроградских предприятий. «Рабочие были похожи на овец, выпущенных из своего загона, и управляющие-англичане никак не могли загнать их обратно, – писал Фарсон. – Рабочие понятия не имели, что такое свобода, но большинство из них воспринимали ее как предложение не работать. На фабрике ежедневно случались скандалы, когда управляющие пытались урезонить рабочих, требовавших абсурдно высокую зарплату».
Дональд Томпсон и Флоренс Харпер отметили вполне очевидное изменение отношения персонала гостиницы «Астория» к ее постояльцам. «Слуги начинают задирать нос и куражиться, зациклившись на этой новообретенной свободе», – писал Томпсон. Его коридорный сказал ему, что отныне ему придется самому чистить свою обувь. «Необходимо обращаться к ним «товарищ» или «друг», – сообщил он своей жене (а не «человек», как раньше). Кроме того, слуги, как и рядовые в армии, настаивали на том, чтобы к ним обращались на «вы», а не на «ты»{496}. Один из англичан заметил, что каждый вечер две его домработницы «часами стояли на углах улиц вдоль Невского проспекта, слушая выступления ораторов о равенстве и справедливости». После одной такой прогулки они, вернувшись, сказали ему и его жене, что «они теперь будут каждый вечер ходить в кино», а работать собираются не более «восьми часов в день»{497}. Иногда такое самоуправство имело обратное действие. Русская горничная, работавшая у одного известного американца, «заявила своему хозяину, что она желает увеличения заработной платы на пятьдесят процентов и восьмичасового рабочего дня». «Что ты имеешь в виду под восьмичасовым рабочим днем?» – поинтересовался ее работодатель. «Я собираюсь работать лишь с восьми до восьми», – был ответ. Ее требование было «немедленно удовлетворено»{498}.
Насаждение равных прав и участия в управлении породило новую, уродливую форму бюрократии – самонадеянные, всеведающие и вездесущие комитеты учета и контроля (позже, во времена Советского Союза, этот вид управления будет возведен в ранг искусства). Однажды в начале марта Клод Анэ хотел сделать телефонный звонок в Государственную думу:
«Телефон охраняли три женщины.
– Вы не можете позвонить по телефону, – заявили они.
– Но почему же? – спросил я.
– Мы обеспечиваем этот телефон для общественных нужд.
– Но кто вы?
– Телефонный комитет.
– А кто вас назначил?
– Мы сами себя назначили.
После этого я аккуратно отодвинул их в сторону, прошел мимо них к охраняемому ими телефону и позвонил»{499}.
Был и гораздо более тревожный аспект этого необузданного, самодовольного чувство равенства – то, что принимало форму немедленной расправы, по существу, самосуда на месте. Британский литограф Генри Килинг был крайне встревожен, обнаружив, что «в России, где мало кто рассчитывал на справедливость и где полиция имела такие широкие полномочия, отмена смертной казни, оказывается, означала прекращение расследования социально-бытовых преступлений», особенно случаев воровства. Многие действовали как самозваные линчеватели, защищая доброе имя революции тем, что на месте наказывали совершивших преступление.
Вскоре после революции Килинг был свидетелем следующего случая: «В переполненном трамвае в Петрограде одна из дам… вдруг закричала, что у нее украли кошелек. Она заявила, что там лежало пятьдесят рублей, и обвинила в краже хорошо одетого молодого человек, который случайно оказался позади нее. Молодой человек горячо уверял, что он невиновен, и заявил, что, чтобы его не называли вором, он готов дать женщине пятьдесят рублей из своего собственного кармана. Но никто не пришел ему на помощь; возможно, всех смутила та горячность, с которой он протестовал против обвинений в свой адрес. Его вывели наружу и тут же расстреляли. Тело бедняги обыскали, но никакого кошелька не нашли. Сторонники верности принципам Российской республики вернулись в вагон и попросили женщину более тщательно осмотреть свои вещи. Она так и поступила – и обнаружила, что пропавший кошелек провалился через дыру в кармане за подкладку. Для несчастной жертвы «правосудия» уже ничего нельзя было сделать, поэтому прибегли к единственному (как казалось) способу закрыть этот вопрос: женщину вывели наружу и тоже расстреляли»{500}.
В субботу, 4 марта, Джеймс Хоктелинг и некоторые из его коллег в посольстве США, решив, что настало время увидеть новую политику в действии, направились в Таврический дворец. У них не возникло никаких проблем с тем, чтобы попасть внутрь, поскольку они были ошибочно приняты за официальную делегацию США, прибывшую, как надеялись, для признания нового правительства. О них доложили в приемную председателя Государственной думы, и их встретил Гучков, который был слегка огорчен, когда ситуация прояснилась{501}. Было ясно, что Временное правительство было озабочено тем, будет ли оно официально признано законным иностранными державами, и посольство было извещено об этом с просьбой довести данную информацию до посла.
Как бы причудливо ни выглядело наскоро сформированное правительство, заседавшее в Таврическом дворце, Дэвид Фрэнсис усматривал в его создании, по большому счету, блестящие возможности. Он решил, что республиканской Америке следовало сделать великий, определяющий шаг и «первой признать республиканскую Россию»{502}. Во второй половине дня 5 марта он составил телеграмму Роберту Лансингу, госсекретарю США, в которой утверждал: «Эта революция является практической реализацией выдвинутого и отстаиваемого нами принципа правления, я имею в виду правление посредством согласия управляемых. Наше признание возымеет огромное моральное воздействие, особенно если оно окажется первым»{503}. Более того, предпринимая этот упреждающий шаг (до правительств союзников: Франции, Великобритании и Италии), Фрэнсис надеялся, что США за счет этого смогут увеличить объем своей торговли с Россией и, таким образом, потеснят в этом вопросе англичан. Ожидая, что США в ближайшее время вступят в войну, Фрэнсис также полагал, что данный шаг был в интересах Америки в стратегическом плане. После того как он составил эту телеграмму, не посоветовавшись ни с кем из сотрудников посольства (чем удивил их и даже обидел), Фрэнсис попросил Фила Джордана принести ему пальто, шляпу и калоши и, без дальнейших церемоний, отправился на санях к министру иностранных дел Милюкову, который заверил его, что телеграмма будет благополучно передана в США. Менее чем через два дня Фрэнсис получил согласие Ленсинга. Фрэнсис был вне себя от радости. «Это большая удача, что мы опередили союзников России, – заявил он Джеймсу Хоктелингу. – В результате Соединенные Штаты становятся лучшим другом нового правительства»{504}.
По этому случаю Фрэнсис и «все штатные сотрудники американского посольства, десять секретарей и атташе», 9 марта приехали на Невский проспект к залу Государственного совета Российской империи в Мариинском дворце на посольских санях с лошадьми, хомуты которых были украшены флагами (по выражению Нормана Армора, вся процессия была похожа на «детскую карусель»){505}. Фрэнсис был «полностью в парадном вечернем костюме, как метрдотель», отказавшись от официальной дипломатической униформы. Временное правительство в полном составе ожидало их, хотя у его членов не было времени одеться соответствующим данному случаю образом. Все они были вынуждены «подойти непосредственно из своих кабинетов и были одеты в повседневные пиджачные пары». По оценке Джеймса Хоктелинга, они «выглядели озабоченными, но заметно приободренными в связи с тем, что после нескольких дней кабинетной работы им удалось обеспечить себе международное признание»{506}. Последовавшая за этим короткая церемония, как отметил в своем дневнике Дж. Батлер Райт, была «впечатляющей», при этом она не вылилась в «пустую болтовню и формальность». Этот шаг стал предметом гордости для американцев, чье посольство в глазах «некоторых наших дипломатических коллег», насколько было известно Дж. Батлеру Райту, «котировалось не слишком высоко»{507}.
Спустя два дня сэр Джордж Бьюкенен, который только что поправился после болезни, предпринял аналогичную поездку во дворец вместе с послами Франции и Италии, чтобы сообщить об официальном признании Временного правительства. Но, в отличие от восторженных американцев, они ужаснулись тому, что их приняли в «зале с грязным полом и разбитыми окнами». Морис Палеолог был потрясен изменениями, произошедшими с дворцом: он отметил, что большие мраморные лестницы после революции не подметали, лепнина зияла пулевыми отверстиями. Генерал Нокс записал, что среди дипломатов, собравшихся там в тот день после обеда, «царила общая атмосфера депрессии»; все они опасались, что теперь, после революции в России, союзникам будет сложнее выиграть войну{508}. Сэр Джордж, который не владел русским языком, выступил с краткой речью на беглом французском (ранее бывшем языком дипломатического общения в царской России), «весьма простом, но пришедшемся очень кстати». В своей речи он «настоятельно призвал восстановить дисциплину в армии и энергично продолжить военные усилия»{509}. В то время как Милюков выступал с ответной благодарственной речью, Палеолог рассматривал собравшихся вокруг того членов Временного правительства: «По их лицам можно было понять, что это одаренные и честные патриоты; но они казались совершенно изможденными от физической усталости и тревоги. Задача, за которую они взялись, была им явно не по силам. Да будет воля неба на то, чтобы они не надломились слишком рано!»
Лишь один из членов Временного правительства показался Палеологу «человеком действия» – Александр Керенский. Изворотливый и малодоступный, он всегда старался держаться в стороне от остальных. На людях он выглядел восково-бледным и больным (он страдал туберкулезом почек). У Палеолога, однако, не было сомнений в том, что Керенский являлся «самой незаурядной фигурой во Временном правительстве». Керенский был человеком, которому «суждено было стать его основной движущей силой»{510}.
Глава 8 Марсово поле
Хотя жизнь в Петрограде, казалось, вернулась в нормальное русло, его жителям еще предстояло подсчитать истинную цену революции – мертвых. Во время беспорядков их в спешке уносили куда попало, и вот уже несколько дней окоченевшие (и во многих случаях неопознанные) трупы, как немые свидетели прошедших событий, покоились, сложенные штабелями, словно поленницы дров, в городских больницах и импровизированных моргах в ожидании захоронения, в то время как обезумевшие от горя родственники пытались найти их.
Стремясь собрать материал на эту безусловно значимую, представлявшую общественный и человеческий интерес тему, Флоренс Харпер стала искать больницы, где могли принимать погибших. Вначале она направилась к больнице, находившейся поблизости от ее гостиницы, – большой городской больнице на Фонтанке. Не зная, где найти морг, она проследовала за двумя плачущими женщинами через двор «к группе отдельно стоявших строений, которые представляли собой обыкновенные сараи». Она поняла, что это морг, увидев крест на дверях. «Внутрь тек непрерывный поток людей», и она присоединилась к ним. «В молельне так высоко, насколько только это было возможно, были сложены гробы, они заполняли все помещение; некоторые гробы были окрашены в белый цвет, другие были сколочены из неокрашенной сосны». Она даже не пыталась сосчитать их, поскольку «это было слишком мучительно». Когда она посмотрела через окно в соседний сарай, ее глазам предстала еще более тяжелая картина: «прямо рядом с оконным стеклом, с другой стороны, лежало то, от вида чего я просто вздрогнула и отшатнулась». Это было полностью одетое тело крестьянина, «вся грудь которого была разворочена». Его руки были подняты, «словно он защищался». Труп был весь в крови, от шеи до пояса. Его тело не обмывали, и «оно, окоченевшее, лежало там в таком виде, в каком было подобрано»{511}.
К счастью, в результате холода многие непогребенные тела, которые видела Флоренс Харпер, сохранились, однако они застыли в гротескных, неудобных позах. Вдоль трех сторон сарая взору Харпер предстали груды неподвижных, грязных, окровавленных тел, мужских, женских, детских; они были свалены в том виде, «в котором были подобраны»: скрюченные, вытянувшиеся, всякие. Рядом с этим сараем находился другой, а затем еще один, в котором лежало еще больше тел. В большом подсобном помещении напротив она насчитала 150 сваленных тел. Пришедшие переворачивали их, ища своих близких, пытаясь узнать их. «Одно тело в полицейской форме было изуродовано до неузнаваемости, – вспоминала Харпер. – Этого человека забили до смерти». Лишь на немногих была какая-либо обувь: во время войны она представляла собой большую ценность, и ее стаскивали с мертвых в первую очередь. Поскольку похоронить предстояло слишком многих, гробов не хватало, и когда люди опознавали мертвых, они обычно прикрепляли к ним записку с именем и просьбой пожертвовать денег на похороны. Тот, кто бывал в этих импровизированных моргах, оставлял на трупах несколько копеек. Только позже, посетив еще один больничный морг, где все тела были должным образом обмыты и уложены, как восковые фигуры, Харпер наконец осознала весь мрачный ужас такого количества погибших{512}.
Планировались большие общественные похороны жертв революции (вернее, тех, чьи тела еще не забрали и не похоронили родственники), но эти планы трижды переносились, поскольку Временное правительство и Петросовет опасались, что в отсутствие полиции, способной обеспечить порядок на таком крупном мероприятии, оно может спровоцировать контрреволюционные выступления{513}. Ожидалось, что на улицы выйдет миллион (или даже больше) человек, что может привести к серьезным беспорядкам, учитывая то «возбужденное состояние», в котором находились массы{514}. В конце концов дата была определена: четверг, 23 марта. Многие предлагали захоронить погибших перед Зимним дворцом, однако в итоге было решено сделать это посередине старого исторического плаца, известного как Марсово поле. С одной его стороны располагались казармы Павловского полка, фасад здания которых был украшен многочисленными колоннами, а также британское посольство и Мраморный дворец, с другой стороны – Летний сад{515}.
Стояла такая стужа, что оказалось невозможным копать землю вручную, и для подготовки достаточно большой братской могилы, располагавшейся поперек плаца, использовали динамит. Клод Анэ побывал на этом месте, когда оно было подготовлено к захоронению{516}. Напротив возвышались деревья Летнего сада, «чернея длинными и тонкими ветвями»; над головой было серое небо с тяжелыми тучами. Бросалось в глаза «большое желтое пятно» – выкопанная для братской могилы земля. «Вокруг могилы развевались на ветру черно-белые флаги, некоторые из них были украшены зелеными гирляндами и цветами. По периметру на выделенном пространстве были установлены большие красные плакаты». В центре для членов правительства и почетных гостей (чтобы им было удобно наблюдать за церемонией) был воздвигнут помост, задрапированный в красную ткань{517}.
Незадолго до начала похорон внезапно началась весенняя оттепель, и улицы Петрограда превратились в реки грязи и слякоти; накануне траурного мероприятия часть Невского проспекта представляла собой «просто озеро». Наступило 23 марта (этот день был объявлен национальным праздником, «праздником Великой Русской Революции»), промозглое и мрачное{518}. Дул ледяной ветер, грозя нанести много снега, низко висело тяжелое от туч небо. Около десяти часов утра из разных районов города медленно начали двигаться шесть траурных колонн, которые должны были сойтись на месте захоронения на Марсовом поле. Однако посмотреть на траурное мероприятие вышло так много народа, а сама церемония была такой громоздкой, что некоторым процессиям с гробами иногда приходилось на несколько часов останавливаться, чтобы позволить двигаться другим{519}. Городское движение прекратилось, весь Невский проспект «от одного конца до другого был запружен зеваками», стоял лес флагов и черно-красных транспарантов с лозунгами: «Вечная память павшим борцам за свободу», «Павшие за свободу – герои», «Да здравствует Демократическая Республика». Всем участникам траурных процессий были выданы специальные билеты, чтобы они смогли попасть в свои похоронные колонны и пройти к месту захоронения на Марсовом поле. В каждой колонне было шестнадцать рядов по восемь человек, во главе колонн шли студенты с белыми жезлами, поднимая и опуская их, чтобы показать, что необходимо остановиться или двигаться дальше. «Порядок и дисциплина были, как у войск на марше, и даже подготовленные солдаты не могли промаршировать лучше», – отмечал один из французов, ставший очевидцем траурного мероприятия{520}. Эмоциональный подъем был весьма высок. «Длинные колонны были охвачены скорбью», – отмечал один из англичан; весь город в тот день, казалось, «превратился в огромный собор»{521}.
Хью Уолпол заметил среди зрителей много крестьян: «Они стояли там, в этой промерзшей толпе, как мне рассказали, нескольких часов – и были готовы простоять еще больше, если бы им велели сделать это». По оценкам Эдварда Хилда, «на Невском проспекте одновременно находилось сто пятьдесят тысяч человек», и это, «судя по всему, составляло не более пятой части от общего числа демонстрантов». «Там в строю, должно быть, находилось полмиллиона демонстрантов», – считал он. «И какое же сильное это производило впечатление! Там были лица и фигуры, по которым становилось ясно, что эти люди всю жизнь страдали и что для них выражение «свободная Россия» было наполнено истинным смыслом»{522}.
Американец Фрэнк Голдер наблюдал за теми, кто нес гробы в колонне, спускавшейся вниз по Невскому проспекту: через плечо у них висели красные ленты, на рукава были повязаны красные повязки. Гробы были покрыты красной тканью, за каждым гробом следовала «группа, достаточно слаженно певшая панихиду». За ними шли «многочисленные организации с флагами и транспарантами, одни пели церковные песни, другие – революционные и «про свободу»{523}. Многие колонны шли в сопровождении оркестров, которые чередовали медленное исполнение «Марсельезы» (она теперь неофициально стала национальным гимном) с утомительно монотонным «Похоронным маршем» Шопена. Эдвард Хилд отметил, что участники траурных процессий эпизодически «начинали церковное песнопение, или молитвы, или псалмы, а зрители присоединялись к ним, склонив головы и сняв головные уборы». Однако, несмотря на то что «Вечная память», русская православная молитва за умерших, была в тот день на устах у многих, представителям церкви не было разрешено проводить церковные обряды. У братской могилы не было ни священников, ни ладанок, ни крестов, ни погребальных обрядов, ни икон. Сопровождением этого скорбного зрелища были лишь залпы пушек Петропавловской крепости, которые салютовали каждый раз, когда очередной гроб опускали в могилу{524}.
Весь день и далеко за полночь траурные процессии продолжали двигаться по основным улицам города, объединив, как вспоминал Лейтон Роджерс, «в единый могучий человеческий вал старух и детей, рабочих и служащих, солдат и моряков, священников, людей из всех слоев общества». «Поток траурных колонн был настолько непрерывным, а ряды колонн настолько плотными, что тем, кто не участвовал в процессии, оказалось невозможным пересечь Невский проспект»{525}. Поздно ночью братская могила на Марсовом поле оставалась освещенной «ярким светом огромных военных прожекторов, чьи лучи, перекатываясь над головами демонстрантов, пришедших на место захоронения, выхватывали из темноты их транспаранты и развевавшиеся флаги, самих демонстрантов, певших панихиду и совершенно не обращавших внимания на грязь и слякоть. Эти картины внезапно появлялись в ярком свете и вновь исчезали в темноте». Как отметил Лейтон Роджерс, это «врезалось в память навсегда»{526}. Многие очевидцы из числа иностранцев сошлись во мнении о том, что огромная масса народа, принимавшая участие в траурном мероприятии, проявила чрезвычайное спокойствие и дисциплину, не было необходимости в каком-либо присутствии полиции. В тот день «участвовал в процессии и плакал» миллион человек. Исаак Маркоссон отметил: «Город, живший при полицейском государстве и до сих пор приходящий в ярость от непрестанных несправедливостей, сохранил спокойствие практически без соответствующих усилий со стороны властей… Коммуна, которой запугивали [обывателя], превратилась в общенародную конфессию, исполненную благостной скорби. Петроград был опасен не более, чем собрание церковно-приходской воскресной школы»{527}.
Вся торжественная, длительная церемония, организованная 23 марта 1917 года, стала, по существу, символическим жестом. Многие из жертв революции уже были похоронены в других местах родственниками, а среди тех, кого хоронили в этот день, конечно же, не было многочисленных погибших полицейских. Мэриэл Бьюкенен слышала даже, что некоторые гробы были заполнены просто камнями[66]. Берти Стопфорд заметил, что во время траурной церемонии «порой вместе с гробами несли просто деревянные дощечки с именами жертв, которые уже были похоронены». Всего он насчитал около 150 гробов, но слышал, что их было 168. Клоду Анэ сообщили, что власти подготовили место для 160 гробов. До Шарля де Шамбрюна дошли слухи о том, что число тех, кого торжественно хоронили в тот день, было увеличено за счет нескольких китайцев, умерших от гриппа{528}.
Одно можно сказать наверняка: никто из тех, кто писал о Февральской революции 1917 года или стал свидетелем тех событий, не смог представить точных цифр о числе погибших и раненых{529}. Согласно официальным данным, опубликованным в то время в газете «Правда» (они были закреплены в официальной советской историографии), всего было убито и ранено 1382 человека[67]. В то время появилось много оценок, касавшихся числа погибших и раненых, но они очень сильно разнились. Клоду Анэ сообщили достоверные сведения от человека из близкого окружения князя Львова, согласно которым «общее число жертв революции… в Петрограде составило до 7000 человек, включая всех раненых, доставленных в больницы и полевые госпитали, и мертвых. К этому следует добавить 1000 раненых, которых выхаживали в частных домах». Он сам считал, что погибло около 1500 человек{530}. Француженка Луиза Патуйе слышала разговоры о «7000 убитых», но многие из похороненных в тот день не относились к числу «погибших за свободу», и эти жертвы были благочестиво, «без суеты», погребены на городских кладбищах, а не в ходе «показной» церемонии на Марсовом поле{531}.
Хью Уолпол сообщил британскому правительству согласованное мнение о том, что «в целом погибших было около 4000 человек». Артур Рейнке из компании «Вестингауз» писал, что по наиболее взвешенной оценке из всех, которые были ему известны, «число убитых колебалось от 3000 до 5000 человек, число раненых достигало десяти тысяч». «Согласно самой заниженной оценке», которую слышал Исаак Маркоссон, погибло пятьсот мирных жителей, однако эта цифра не включала погибших солдат и полицейских. Джеймсу Хоктелингу сообщили, что «всего погибло, вероятно, около 1000 человек», но «в городе с двумя миллионами жителей тысяча погибших – это вполне допустимо для такой революции». Флоренс Харпер, которая вместе с Дональдом Томпсоном собственными глазами видела множество случаев насилия на улицах, сообщала, что по самой низкой оценке количество погибших составляло две тысячи человек, по самой высокой – десять тысяч. Томпсон считал, что всего погибших было «около 5000 человек или немного больше»{532}. Чаще всего говорили о числе в 4000 погибших или близком к тому. Оказавшийся очевидцем этих событий британец Джеймс Поллок резюмировал так: «Наиболее вероятная оценка составляет где-то между четырьмя и пятью тысячами убитых. За два дня, предшествовавших революции, в центре города было убито около пятисот человек. В течение трех дней боев погибли еще многие, не считая жертв на Петроградской и Выборгской сторонах». В одном у Поллока не было сомнений: «удобные для некоторых заявления о том, что революция была бескровной, являются большим преувеличением»{533}.
Для жертв Февральской революции была организована лишь общественная, гражданская панихида. «Со времен святой Ольги и святого Владимира, более того, с момента упоминания в истории русского народа впервые церковь не участвовала в этом древнем национальном традиционном обряде», – записал посол Палеолог в своем дневнике{534}. Он был поражен этим резким контрастом: «Буквально несколько дней назад все эти тысячи солдат и рабочих, проходившие сейчас мимо меня, едва увидев на улице небольшую икону, обязательно останавливались, снимали шапки и истово крестились».
Было уже десять часов вечера, когда последний гроб был предан земле. С наступлением темноты, опустившейся над братской могилой, массы народа начали растворяться в студеной ночи. На следующий день рабочие стали заполнять могилу бетоном. Марсово поле приняло «безлюдный и зловещий» вид. Морис Палеолог обдумывал последствия этого знаменательного дня в истории России: «Вернувшись в посольство по глухим дорожкам Летнего сада, я подумал, что, возможно, мне довелось стать свидетелем одного из самых значительных событий в современной истории. Захоронение в красных гробах – это соблюдение русским народом византийского и московского обрядов, и это ставит крест на всем прошлом православной Святой Руси»{535}.
В действительности, то, чему он был свидетелем, стало первым крупным общественным проявлением будущей официальной идеологии страны – атеизма{536} [68]. Четверг, 23 марта 1917 года, стал той исторической чертой, перешагнув через которую и оказавшись в новом религиозном и культурном состоянии, Россия не будет оглядываться назад, на свое прошлое, целых семьдесят три года.
Глава 9 Большевики! «Именно то, чего все и боялись»
«Послушайте! На той стороне Невы, как перейти по Троицкому мосту, есть один потрясающий парень, – взволнованно сообщил Негли Фарсону в начале апреля один из англичан. – То, к чему он призывает, – это полная анархия! Немедленный мир без аннексий и контрибуций, диктатура пролетариата, мировая революция! Никогда в своей жизни не слышал ничего подобного!…Он призывает солдат вернуться с фронта и свергнуть Временное правительство… прямо сейчас! Разве он не знает, что идет война?»{537}
Через несколько недель после объявления 6 марта политической амнистии в Петроград после долгих лет изгнания начали возвращаться тысячи русских эмигрантов и ссыльных, первые – из Европы, вторые – из Сибири. В ряде случаев правительство оплачивало необходимые для возвращения издержки; порой же эмигранты, чтобы обеспечить себе возможность вернуться, организовывали благотворительные акции. Возвращавшиеся из Сибири ежедневно прибывали на Николаевский вокзал, с которого многие из них и уезжали. Только 15 марта, как отметил Дж. Батлер Райт, на этот вокзал прибыло пять поездов{538}. Однако 3 апреля (согласно церковному календарю Русской православной церкви, это был пасхальный понедельник) основное внимание было приковано к другому вокзалу, Финляндскому, куда должен был вернуться тот, кто стал самой важной фигурой в революционном движении в эмиграции и чье возвращение ожидалось с большим нетерпением.
Слухи о возвращении в Петроград главного «социалистического фанатика» ходили уже несколько дней. Исаак Маркоссон наткнулся на улице рядом с вокзалом на возбужденную толпу, и когда он поинтересовался, что здесь происходит, ему ответили: «Сегодня приезжает Ленин!»{539} Для большинства русских имя Ленина мало что говорило, немногие знали также и то, какую именно организацию или структуру он представлял, но не было никаких сомнений в том, что этот революционный лидер после шестнадцати долгих, трудных лет изгнания в Европе привез с собой идеи, способные возбудить массы.
Его настоящее имя было Владимир Ильич Ульянов, а «Ленин» – последним псевдонимом, под которым он в течение нескольких лет вел политическую деятельность, негласно разъезжая по Европе. Как теоретик марксизма и глава большевистской фракции Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), Ленин, проживая в эмиграции, через сеть подпольных активистов в России, которые нелегально распространяли его крамольные политические памфлеты, сеял в стране семена недовольства. Подпольщики, в частности, распространяли его теперь хорошо известную работу «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения», а также его нелегальную газету «Искра», которые призывали к народной революции под руководством преданной делу революции элиты интеллигенции{540}.
Иностранцы, проживавшие в Петрограде, были мало знакомы с идеями Ленина, в равной степени они плохо понимали его политическую платформу большевика. Сведения о нем на самом деле были настолько противоречивы, что иностранцы и иностранные журналисты зачастую называли его «анархистом» – этот ярлык они лепили на очень многих политических деятелей[69]. Для сэра Джорджа Бьюкенена Ленин был всего лишь одним из «свежей банды анархистов-эмигрантов», которые вернулись в город в последнее время. Многие подозревали Ленина в связях с немцами: «Этот ужасный немецкий агент Ленин» вернулся в город и работает «денно и нощно над тем, чтобы наделать бед», – писала леди Джорджина домой, убежденная в том, что Ленин привез с собой опасные «немецкие козни»{541}. Американцы также не знали, как к нему следовало относиться. «Ультра-социалист по имени Ленин вел много глупых разговоров и советовал своим слушателям убивать всех, у кого есть собственность и кто отказывается поделиться ею», – отмечал посол Фрэнсис, который уже озаботился тем, что у Керенского недостаточно сильные позиции, чтобы иметь с ним дело. «Мы живем в слегка подвешенном состоянии, – добавлял он в письме к своему сыну Перри. – Сколько у Ленина последователей, неизвестно»{542}.
С того момента как Ленин прибыл в Петроград, он поставил себе совершенно очевидной целью подорвать позиции Временного правительства, скомпрометировать его и сместить. Один из американцев, который был на том же поезде, который привез Ленина в Петроград из пограничного городка Торнио, сказал сотруднику Международного комитета Юношеской христианской ассоциации Эдварду Хилду, что первое, что произнес Ленин, сойдя с поезда, было: «Да здравствует гражданская война!» «Перед Временным правительством сейчас стоят бог знает какие задачи, требующие решения, а подобные смутьяны еще будут создавать ему дополнительные проблемы», – написал Эдвард Хилд в своем дневнике{543}. Продолжились, само собой разумеется, обвинения в адрес Ленина в том, что он финансировался немцами, поскольку именно немецкая сторона обеспечила возвращение Ленина с узким кругом его последователей, выделив им поезд со специальным «пломбированным» вагоном, которому был разрешен проезд через территорию воевавшей Германии до находившейся на побережье станции Засниц, откуда группа революционеров во главе с Лениным на пароходе добралась до Треллеборга (Швеция), а затем на поезде через Швецию и Финляндию – в Петроград, на Финляндский вокзал{544}. Как только стало известно о скором прибытии Ленина, вечером 3 марта для его встречи на вокзале собралась большая толпа из числа его сторонников, фабричных рабочих и любопытных зевак. Арно Дош-Флеро также пошел туда вместе со «старым революционным писателем, автором памфлетов и листовок», который последние шестнадцать лет замещал в революционном движении отсутствовавшего Ленина и который давно уже пользовался поддержкой рабочих масс в фабричном квартале Выборгской стороны, где он был политическим агитатором до своего ареста в 1898 году.
Когда пассажиры сошли со спецпоезда, Флеро принялся искать эту полумифическую фигуру – человека, которого никто не видел в столице после его краткого появления там в 1905–1906 годах (затем его видели лишь ближайшие коллеги по партии). Однако тот, кого Флеро увидел, был «небольшого роста человеком с азиатскими чертами лица» с «ничем не примечательной фигурой волжского татарина, у которого, однако, были тяжелые, широкие скулы и более узкие, скорее монгольского типа, глаза»{545}.
Личный магнетизм Ленина, однако, не вызывал никаких сомнений. Его пронзительный голос с дерзкими интонациями и полные загадки калмыцкие глаза, безусловно, приводили в возбуждение толпу его сторонников и группу представителей Петросовета, прибывших встречать его на Финляндском вокзале, увешанном гирляндами и красными флагами. Большие толпы народа стояли в его ожидании даже в темноте у вокзала, оркестры играли «Марсельезу» и «Интернационал», «темнота разрезалась ослеплявшими лучами прожекторов на броневиках»{546}. Отсюда Ленина эскортировали к его новой политической резиденции – особняку, принадлежащему бывшей любовнице Николая II.
После Троицкого моста напротив посольства Великобритании, в пределах видимости голубых минаретов единственной в городе мечети, стоял выстроенный в стиле модерн дом Кшесинской, примы-балерины Императорского балета. Этот особняк был построен специально для нее в 1904–1906 годах. Незадолго до Февральской революции, предупрежденная об опасности, она оставила его и бежала во Францию{547}. 4 апреля, когда Мэриэл Бьюкенен выглянула из своего окна, она увидела, что на другой стороне Невы «над стенами развевается огромный алый флаг». Она обнаружила, что здание «было захвачено группой политических ссыльных, которые только что приехали из Швейцарии». Вскоре после своего прибытия сюда Ленин вышел на балкон, чтобы обратиться к ожидавшей его толпе. После этого он стал «публично выступать с исключительно провокационными речами», обрушиваясь с бранью на Временное правительство, а его новый политический орган, газета «Правда», издание которой также было организовано в особняке Кшесинской, активно пропагандировало его лозунги: «Мира, хлеба, земли!»{548}
Недалеко оттуда, через Неву, в посольстве Великобритании Негли Фарсон пытался «вместе с остальными сотрудниками лучшего дипкорпуса в России предугадать, куда же подует ветер» теперь, когда Ленин прибыл, чтобы разворошить осиное гнездо политического соперничества. Несколько поодаль, на улице Фурштатской, «тем же самым занимались» американцы, «а также итальянцы и французы, и вообще весь мир – все гадали, строили предположения»{549}. На первый взгляд Ленин был похож на любого другого политического фанатика – их было множество на улицах Петрограда, страстно ораторствовавших на каждом углу. Однако сэр Джордж Бьюкенен был серьезно обеспокоен: Временному правительству следовало действовать быстро и остановить Ленина, «подстрекавшего солдат к дезертирству, захватам земли и убийствам». Те простые и безжалостные лозунги, с которыми приехал Ленин, были частью его общей кампании, реализация которой, по мнению сэра Джорджа, привела бы к «деморализации» Временного правительства и выходу России из войны{550}.
«Он самый «красный» из всех «красных», – писал Клод Анэ. – Этот Ленин является тем, кого на ужасном социалистическом жаргоне называют «пораженцем», то есть одним из тех, кто войне предпочитает поражение». Негли Фарсон не был согласен с утверждениями о появлении нового легендарного «гения». «В то время он был «великим» и «гениальным» лишь для нескольких людей. Он был просто новым низкорослым агитатором в старом двубортном синем костюме, с руками в карманах, выступавшим без истеричной жестикуляции, так характерной для всех его коллег-соотечественников»{551}. Оценка Артуром Рэнсомом смехотворных методов ленинской политической агитации, организуемой из особняка Кшесинской, была и того ниже: «Его выступления так театральны, что начинают напоминать оперетту».
Однако Эдвард Хилд, который вскоре стал свидетелем организованной Лениным уличной демонстрации с осуждением войны и Временного правительства, осознал всю силу подрывного влияния этого революционного лидера. «Это тот яд, который отравит и погубит демократическую революцию», – прозорливо отметил он{552}. Подстрекательство к насилию и анархии услышали все в городе. Луи де Робьен слышал, как Ленин обращался к толпе: «Хотите стать богатыми – в банках есть деньги. Хотите жить во дворцах – пожалуйста, идите туда… Не хотите ходить по грязи – останавливайте автомобили!…Все это принадлежит вам, теперь ваш черед, теперь у вас власть». Де Робьен обнаружил всю силу подстрекательского влияния идей Ленина, когда он услышал, как огромная женская демонстрация на Невском проспекте пела «под мелодию гимна весьма кровожадный текст: «Мы будем грабить! Мы будем резать глотки! Мы будем потрошить их!»{553}
С приходом Ленина мир за пределами России наконец обратил внимание на эту новую и грозную породу – «большевики». Это слово вскоре стало известно всем. По словам корреспондента издания “Everybody’s Magazine” Уильяма Г. Шепхерда, «перед этим словом трепетал весь мир». ««Большевики!»…Вы видите это слово в заголовках газет? – обращался он к своим американским читателям. – Оно останется там надолго. Оно будет хрустеть у каждого во рту, звучать у каждого в ушах, пульсировать у каждого в голове: большевики!»{554}
После возвращения Ленина в Петроград и с началом его работы в особняке Кшесинской это здание, где разместились большевистские агитаторы, превратилось в бурлящий центр пропагандистской деятельности. «День и ночь стучали сотни пишущих машинок, гремели копировальные аппараты, вскоре были установлены печатные станки», которые тысячами выдавали антиправительственные прокламации. Ленин был теперь слишком занят различными рабочими встречами и обсуждением политических вопросов, чтобы выступать перед огромными толпами, ежедневно собиравшимися под балконом на Кронверкском проспекте в надежде «услышать львиный рык»{555}. В отличие от яркого оратора Льва Троцкого[70], который в следующем месяце вернулся из эмиграции в Нью-Йорке, Ленин не любил находиться в центре всеобщего внимания. Он «скрывался ото всех, позволяя своим помощникам делать необходимую публичную работу», и лишь изредка появлялся на публике. Он также не тратил времени на то, чтобы пытаться склонить на свою сторону тех, кто был настроен по отношению к нему враждебно{556}.
Тогдашний корреспондент издания «Ассошиэйтед Пресс» Роберт Крозье Лонг оказался одним из немногих, кто получил возможность попасть в особняк Кшесинской. Мимо этого здания испуганные местные жители теперь проходили с некоторой опаской, поскольку за ним закрепилась репутация тайного арсенала с пулеметами и мастерской по производству бомб. Интерьер особняка, с учетом удручающей тенденции к «демократизации» (а скорее к деградации) Таврического дворца, представлял собой печальное зрелище: «В красивом белом вестибюле с мраморными статуями расположились грязные, плевавшиеся солдаты, которые сидели, развалившись, за столами, заваленными какими-то бумагами… Прекрасный зимний сад стал штаб-квартирой пропагандистского центра и был до самого потолка завален брошюрами и листовками. Спальня Кшесинской, оформленная с восточной роскошью, о которой судачил весь Петроград, была захламлена копиями подстрекательской газеты «Правда». А что постыднее всего – ее облицованная плиткой мраморная ванна размером с небольшую комнату была наполовину полна окурков, грязных бумаг, обрывков и тряпья»{557}.
В этом бывшем великолепии поздней имперской эпохи Ленин собирал вокруг себя, как записал Морис Палеолог в своем дневнике, «все «горячие головы» революции». По мнению французского посла, большевистский вождь совмещал в себе «утопического мечтателя и фанатика, пророка и метафизика, человека, глухого к любой нереальной или абсурдной идее, чуждого любому проявлению справедливости и милосердия, склонного к насилию, Макиавелли и тщеславного безумца». Палеолог считал его «все более опасным, потому что, говорят, он чистосердечен, умерен и аскетичен. Насколько я представляю его себе, он сочетает черты Савонаролы[71] и Марата, бланкистов и Бакунина». Дональд Томпсон разделял это полное тревоги мнение о Ленине и видел только одно практическое решение этой проблемы. «Для России было бы лучше всего, – писал он своей жене, – если бы Ленина убили», или же, по крайней мере, «арестовали и посадили его в тюрьму». «Если этого не случится, то, боюсь, когда-нибудь мне придется написать тебе о том, что здесь все в полной власти этого вульгарного выскочки».
«Невинный американский паренек» из Канзаса смог ухватить суть происходившего{558}.
В начале апреля на время празднования русской православной Пасхи новый (крамольный для православных верующих) революционный язык был забыт. Прежние времена царской России ненадолго вернулись: в церквях провели литургию со всей присущей православию пышностью и торжественностью. Во всем городе в субботу в полночь начали звонить колокола, в церквях при большом стечении народа было проведено всенощное бдение, продолжавшееся до половины четвертого утра пасхального воскресенья. На четырех углах крыши Исаакиевского собора были зажжены большие факелы, весь город был освещен на многие километры. Луи де Робьен отметил: «В небе сияли громадные купола Собора Воскресения Христова на Крови, золотые в отражении света от расположенных ниже витражей… Звонили все колокола. Залпами стреляли пушки Петропавловской крепости». На какое-то время показалось, что события последних нескольких недель «были лишь дурным сном». Как писал Луи де Робьен, «это была прежняя Россия, воскресшая вместе с Христом»{559}.
Молившиеся в церкви казались, как всегда, преисполненными благоговейности. По впечатлениям Эдварда Хилда, «везде ощущалась новая атмосфера исполненных надежд и трогательного проявления братства»{560}. В Казанском соборе Морис Палеолог видел «те же сцены, что и при царизме, те же величественность и великолепие, ту же пышность церковной службы». Во всяком случае, набожность проявлялась еще сильнее, что выразилось во всплеске эмоций у прихожан, когда священник провозгласил: «Христос воскресе!»{561} Вскоре после этого наступила настоящая весна, и это усилило ощущение обновления. Зацвели каштаны, на Неве начал ломаться лед, золотые купола сверкали в лучах весеннего солнца, прохожие и уличные торговцы наслаждались оттепелью – у всех стали возрождаться надежды на лучшее. Пришли долгожданные известия из Америки.
Дж. Батлеру Райту и его коллегам в американском посольстве потребовалось два часа работы с четырьмя кодовыми книгами, чтобы расшифровать переданное из Вашингтона официальное заявление о том, что президент США Вильсон 6 апреля объявил войну Германии (24 марта по старому стилю; до посольства новости доходили с опозданием на два дня). Тем временем сотрудникам посольства названивали встревоженные журналисты, сотрудники диппредставительств союзных стран, а также «жаждавшие новостей американцы». Все завершилось тем, что их наконец вызвали в посольство, где посол сразу же после полуночи официально объявил, что Америка вступила в войну. Все в посольстве испытали огромное облегчение, поскольку последние несколько дней чувствовали огромное напряжение. Как вспоминал Дж. Батлер Райт, российская пресса отреагировала на эту новость «с несомненным воодушевлением»{562}. Некоторые проживавшие в Петрограде американские офицеры, в том числе офицеры ВМС, незамедлительно прибыли в посольство с просьбой позволить им вернуться домой, чтобы их зачислили в состав действующих частей. Продемонстрировали свою готовность оказать поддержку и бывшие российские офицеры, которые потеряли службу (некоторые из них скрывались после революции). Они «осаждали» офис военного атташе Уильяма Дж. Джадсона, «изъявляя желание поехать в Америку». «Таких было очень много, – признавался Джадсон. – Если их, в конечном итоге, не убьют свои же или большевики» и если Америка не предложит им убежища, то «единственным выходом для них, похоже, будет самоубийство»{563}.
На правительство США и американское посольство в Петрограде оказывалось громадное давление, чтобы чудодейственным образом гальванизировать военные усилия России. Дж. Батлер Райт писал в своем дневнике: «Все рассчитывают на то, что мы одолжим денег, заткнем рот социалистам, приведем в порядок Транссиб и вообще «встряхнем» это правительство, что требует колоссальной работы»{564}. Одних только проблем материально-технического обеспечения была масса, главная из них – плохая работа Транссибирской магистрали. Во Владивостоке возник чудовищный затор – в беспорядочном скоплении вагонов и подвижного состава застряли эшелоны продовольствия и военного снаряжения. Чтобы попытаться навести порядок, в Россию направлялась группа американских и канадских специалистов в области железных дорог во главе с Джоном Ф. Стивенсом, одним из строителей Панамского канала.
Начиная с середины марта, в Россию стали прибывать и другие иностранные визитеры, в основном британские и французские социалисты и профсоюзные лидеры, желавшие увидеть те изменения, которые принесла в страну революция. Одними из первых приехали представители Лейбористской партии Великобритании Джеймс О’Грейди и Уилл Торн. Как признался сотрудник посольства Фрэнсис Линдли, это были «честные, достойные рабочие», но «у них не было ничего общего с теми интеллектуальными теоретиками, с которыми они спорили час за часом. После одного из таких поединков они пришли ко мне в кабинет, чтобы освежить себя виски с содовой, – и дали выход своим чувствам, в оскорбительном виде живописав своих оппонентов. «Это просто куча г…нюков, старина!» – высказался Торн о принимавших их хозяевах-революционерах. В то же время российская социалистическая пресса осудила британских делегатов как «наймитов империалистического правительства, которые вообще не представляют рабочий класс»{565}.
Самым видным западным социалистом, посетившим Петроград, был Альбер Тома, член военного кабинета министров Франции. Он прибыл 9 апреля на одном поезде вместе с группой эмигрантов, возвращавшихся из Франции, Англии и Швейцарии. Встретить его собралось много народа во главе с педантичным Морисом Палеологом, который надел посольский фрак и цилиндр (затмив тем самым довольно убогий революционный почетный караул). «Теперь мы видим революцию во всей ее величии и красоте!» – с энтузиазмом воскликнул Альбер Тома, обращаясь к Палеологу, едва сойдя с поезда{566}. Жизнерадостного француза (по внешнему виду и по манерам скорее похожего на коммивояжера, чем на серьезного политика) разместили в гостинице «Европейская», где он «пытался безуспешно показать себя бескомпромиссным социалистом, поедая куриное крылышко с конца ножа», в то время как Палеолог сожалел о том, что он был вынужден развлекать гостя во французском посольстве одной из своих последних приличных бутылок бургундского. Несмотря на то что Альбер Тома вслух громко одобрял революцию, русских он не слишком впечатлил. Они подозревали, что он был обманщиком, «социалист-предателем», «буржуа», прибывшим для того, чтобы действовать от имени «капитализма, желавшего продолжения войны», и защищать его интересы{567}.
В свою очередь, Альбер Тома по секрету сообщил своей старой приятельнице Джулии Грант (которая вышла замуж за русского князя и стала зваться княгиней Кантакузиной-Сперанской), что русские социалисты «вообще не были социалистами, таких во Франции называют анархистами и коммунарами»{568}. Однако у визита французского министра была и другая цель, и Палеолог был готов к этому. Альбер Тома привез с собой письмо французского правительства об освобождении Палеолога с должности посла и вызове его в Париж. Как объяснил Палеологу сам Альбер Тома, «Ваша позиция в поддержку императора осложнит для Вас исполнение своих обязанностей при настоящем правительстве»{569}. Палеолог принял эту новость со свойственной ему невозмутимостью, хотя он и был возмущен тем, что ему пришлось услышать ее от такого выскочки, как Тома. Он был глубоко обеспокоен тем, как удержать Россию в войне, и был убежден в том, что необходимо усилить поддержку Милюкова и других умеренных членов Временного правительства. Альбер Тома, однако, поставил на Керенского как на единственного человека, способного «создать, с помощью Петросовета, правительство, достойное нашего [имелись в виду союзники] доверия». Прекрасно зная, что Петроградский Совет выступал за выход России из войны, Палеолог телеграфировал в Париж, предупреждая, что более чем вероятно, что Россия в ближайшее время откажется от продолжения военной кампании{570}.
До последнего времени посол США Фрэнсис и его помощник Дж. Батлер Райт достаточно оптимистично расценивали политическое будущее России после революции, однако инцидент, произошедший в ночь на 9 апреля, подтвердил, насколько переменчиво было настроение петроградской толпы. В тот воскресный вечер Фрэнсис развлекал гостей, когда появился запыхавшийся Фил Джордан с известием о том, что к посольству США направляется толпа с черными анархистскими флагами, намеревавшаяся напасть на «американских империалистов». Судя по всему, анархисты хотели сделать это в знак протеста против недавнего признания виновным и осуждения к смертной казни американского профсоюзного лидера и политического активиста Томаса Дж. Муни, который в ходе небеспристрастного судебного процесса был обвинен в причастности к организации взрыва во время митинга рабочих в Сан-Франциско[72]. Фрэнсис велел Джордану немедленно принести ему заряженный револьвер: он приготовился стоять насмерть, пока не подоспеет отряд милиции, который должен был защитить их. Фрэнсис поклялся застрелить любого, кто попытается проникнуть в посольство, но, как оказалось, до этого дело не дошло: толпа была разогнана вскоре после того, как она двинулась к посольству. (Позже появилась сильно преувеличенная история о том, как Фрэнсис в одиночку выпроводил из посольства всех нападавших, что сильно позабавило его; он, в частности, писал: «Похоже, все предпочитают ту самую нашумевшую историю, так что я, очевидно, буду вынужден смириться с этой героической ролью».) Фил смог вздохнуть с большим облегчением: посол, «насколько я знаю, никогда в жизни не стрелял, и я был уверен, что если он выстрелит в толпу, то это будет означать конец для нас обоих»{571}.
Арно Дош-Флеро видел, как политический агитатор подстрекал толпу рядом с Казанским собором напасть на посольство США: «Идемте со мной, мы возьмем американского посла в плен и будем держать его, пока не освободят Муни!» Флеро поспешил в посольство, где его встретил встревоженный Фил Джордан. «Хвала Господу! – сказал ему Фил. – И каждым вечером мистер посол ходит со мной только, один он не ходит: я сказал ему делать так. Этим вечером тут было еще немного гостей, когда милиция позвонила. С ума сойти, что могло случиться: мы бы шли, а тут эти парняги с черным флагом. Мистер посол Фрэнсис только два русских слова знает: «Amerikanski posol». Вот спросили бы они его что-нибудь, а он говорит: «Amerikanski posol». И они бы только руки стали потирать, что господь им ниспослал такую добычу»{572}.
Само собой разумеется, в последующих воспоминаниях Фрэнсиса и в других изложениях данного инцидента живописный простонародный рассказ Джордана был облагорожен[73]. Сам протест окончился фиаско. Вину за подстрекательство вскоре возложили на сторонников Ленина, однако Фрэнсис очень переживал по этому поводу, сотрудники посольства также были обеспокоены угрозой своей безопасности и безопасности американских граждан, проживавших в городе, в обстановке усиливавшейся анархии{573}.
18 апреля (по старому стилю; по новому – 1 мая) Петроградский Совет решил отметить праздник 1 мая по западному календарю, «чтобы по времени он совпал с праздником пролетариев всех стран и, таким образом, продемонстрировал международную солидарность рабочего класса, несмотря на войну и ложные надежды буржуазии». Если погребение на Марсовом поле явилось первым публичным актом революционного траура, то «массовая демонстрация», запланированная в Первомай в том же месте, должна была стать первым публичным революционным праздником{574}. Проживавшие в гостиницах города были предупреждены о том, что им предстояло самим позаботиться о себе, поскольку у обслуживающего персонала был выходной день, в связи с чем номера не обслуживались, питание не подавалось. Все рестораны, предприятия, учреждения, магазины были закрыты. Не ходили трамваи, не ездили извозчики. «Никто ничего не делал весь этот день, – вспоминал позже Лейтон Роджерс, – все лишь участвовали в демонстрации, пели и произносили речи»{575}.
С пяти часов утра все начали собираться в центре Петрограда. Дональд Томпсон, делая все, что было в его силах в том хаосе, который все еще царил в «Астории», выскочил из постели в своем номере, продырявленном пулями, как только он услышал за окном звуки оркестров, – и увидел тысячи людей, шедших мимо гостиницы к Невскому проспекту. Все мосты были запружены толпами с красными знаменами, направлявшимися с Выборгской и Петроградской сторон. Было солнечно, однако дул холодный резкий ветер, и подтаявший лед на Неве смерзся в большие выщербленные льдины. Длинные организованные колонны демонстрантов, отмечавших праздник, шли весь день, это произвело большой эффект: некоторые иностранцы позже вспоминали, что для них это шествие явилось кульминацией общественного празднования свершившейся революции.
Член британского парламента от лейбористской партии Морган Филипс Прайс, который находился в это время в Петрограде, воспринял это празднование как зарю социализма. «Не думаю, что мне доводилось когда-либо видеть более впечатляющее зрелище, – писал он позже. – Это была не просто демонстрация трудящихся, хотя в ней приняли участие все социалистические партии, профсоюзы и объединения рабочих в России, от анархо-синдикалистов до самых умеренных демократов из среднего класса. Это была не просто международная демонстрация, хотя там были представлены все национальности бывшей Российской империи… [Это был] действительно большой духовный праздник, куда все человечество было приглашено отметить всеобщее братство»{576}.
По его мнению, эта масштабная демонстрация явилась «посланием миру» революционной России, которое нашло свое отражение в «непрерывном потоке красноречия… сотен ораторов, которые выступали на каждом свободном пятачке в городских парках и на площадях»{577}. Находившийся там Эдвард Хилд видел все это: на площади перед гостиницей «Астория» воздвигли так много трибун для выступавших, что он и его коллеги из Международного комитета Юношеской христианской ассоциации «могли, стоя на одном месте, слышать шестерых ораторов, одновременно выступавших с разных трибун». «Поток красноречия, решительный, пламенный, неистовый, тек час за часом. Как только один оратор уставал, что бывало примерно через полчаса, другой оратор тут же бросался к трибуне и продолжал выступление без малейшего перерыва». То же самое происходило и на площади перед Зимним дворцом, который был украшен громадным плакатом «Да здравствует Интернационал!» – там, казалось, была бесконечная череда выступавших, которые «под одобрительные возгласы и аплодисменты» по очереди высказывались то за правительство, то против него{578}.
Клод Анэ находился как раз у Зимнего дворца, собирая материал для издания «Ле пти паризьен». «Огромная площадь была похожа на людское море, а движения толпы напоминали волны, – вспоминал он. – На ветру развевались тысячи красных флагов с различными лозунгами золотого цвета». Все на площади выглядели добродушными и благожелательно настроенными. «Я сделал несколько снимков. Я был одет как буржуа, и было очевидно, что я не из народа», однако толпа «немного отступила назад, чтобы мне было удобно, и с интересом смотрела, как я работаю». Он отметил, с каким вниманием и уважением все слушали ораторов и «терпеливо выносили нескончаемую велеречивость»{579}. На площади были представлены все слои российских трудящихся: там были «служащие почты и телеграфа, студенты, матросы, солдаты, рабочие и работницы, повязавшие свои головы яркими шарфами…школьники, беспризорники восьми-десяти лет, девушки и юноши, державшиеся за руки, домашняя прислуга с транспарантом, призывавшим к эмансипации горничных, повара и лакеи, официанты из различных ресторанов»{580}. Кроме того, на площади были десятки военных оркестров, игравших неизбежную «Марсельезу», популярные мелодии из русской оперы, танцевальные мелодии. Везде были транспаранты, призывавшие: «Землю, свободу, мир, долой войну!»
Морис Палеолог стал свидетелем «великолепного спектакля» на Марсовом поле накануне своего отъезда из России. После трех лет работы на посту посла Франции он предавался болезненным размышлениям, испытывая чувство большой потери: для него Первомай 1917 года означал «конец общественного порядка и крах всего мира». Его опыт пребывания в России не внушал ему оптимизма насчет дальнейшего развития ситуации в стране: русская революция «была осуществлена элементами слишком разношерстными, несознательными и невежественными, поступавшими слишком нелогично, чтобы кто-либо мог на данном этапе осознать ее историческую значимость или же ее способность к самостоятельному распространению»{581}.
Столкнувшись с самыми серьезными за последние полгода в Петрограде трудностями, Лейтон Роджерс впал в полное отчаяние. В тот день он был настолько голоден и так не хотел возвращаться в свое холодное, сырое жилище, что проводил время, бродя по Эрмитажу и созерцая натюрморты старых мастеров с «ощипанными гусями, свежевыловленной рыбой, овощами и фруктами» (он предпочел их превосходной музейной коллекции Рембрандта). Позже он вместе со своим коллегой отправился на поиски ужина, но везде было закрыто, и через несколько часов они, сдавшись, вернулись в свою квартиру, где были вынуждены довольствоваться черным хлебом с чаем («это было все, что осталось в кухонном шкафу»), а затем легли в постель, чтобы согреться. Роджерсу все это уже порядком надоело: «Демонстрации, демонстрации, сплошные демонстрации! Когда они уже закончатся, мне больше никогда не захочется новых. Каждый день после обеда улицы из-за них перекрыты, никто больше, похоже, уже по-настоящему не работает, поскольку работой считается участие в демонстрации»{582}.
Через два дня после всплеска оптимизма, вызванного празднованием Первомая, в правительстве разразился первый серьезный кризис, связанный с разным отношением политических сил к целям участия России в войне, определенным еще в 1914 году. Факт вступления Америки в войну стал одной из причин крупного конфликта между правительством Милюкова и Петроградским Советом. Желая отметить заявление руководства США о вступлении в войну, Милюков дал интервью о целях Временного правительства в войне, в котором вновь подтвердил его верность союзническим обязательствам царского правительства: довести войну до решительной победы и поддержать послевоенные аннексии союзными странами (в частности, аннексию Константинополя Россией), а также наложение на Германию карательных военных репараций. Опубликованная в печати «Нота Милюкова», как стали называть этот документ, немедленно вызвала враждебную реакцию Петросовета, который выступал за безоговорочный выход России из войны без каких-либо условий.
Четыре дня спустя Временное правительство было вынуждено опубликовать опровержение, но было уже слишком поздно, чтобы предотвратить ожесточенные протесты революционных элементов, которые осуждали Милюкова, настаивая на том, что задачи войны должны заключаться в обеспечении демократических идеалов, и требовали отмены всех договоренностей с союзниками{583}. Ленин и его сторонники использовали этот конфликт в качестве повода для организации решительного сражения с Временным правительством, подстрекая рабочих и солдат на протестные акции, чтобы заставить правительство капитулировать или уйти в отставку. 20 апреля во второй половине дня, когда в Мариинском дворце Временное правительство вело срочные переговоры с Исполнительным комитетом Петросовета, в районе дворца собрались (с примкнутыми штыками) от 25 000 до 30 000 солдат Павловского, 180-го, Финского и Московского полков, а также некоторые матросы – и убедить их разойтись смог лишь генерал Лавр Корнилов, новый командующий Петроградским гарнизоном{584}.
На Невском проспекте Дональд Томпсон увидел две демонстрации (одну – анархистскую, другую – в поддержку Временного правительства), двигавшиеся вниз от Морской улицы и от Садовой. «Кто-то выстрелил из револьвера, и через несколько минут на этом углу наступил просто ад, все лежали плашмя на тротуаре», – вспоминал он. Уже спустя четверть часа в результате этого светопреставления было убито шесть человек и ранено от двенадцати до пятнадцати. Немного погодя началась также стрельба перед Казанским собором и недалеко от консульства США. «На Невском проспекте в тот день где-то до 10.30 вечера продолжался хаос, – писал Томпсон своей жене. – Тысячи демонстрантов выступали за правительство, другие – против, пока наконец не началась полная неразбериха. Мы с Борисом сочли за лучшее снимать шляпы и приветствовать каждую проходившую мимо демонстрацию». Однако после того, как они были вовлечены в группу угрожающего вида вооруженных анархистов с развевавшимися черными флагами, им вновь пришлось лежать лицом вниз на тротуаре, опасаясь за свою жизнь во время очередной перестрелки{585}.
На следующее утро Томпсон постарался «пораньше оказаться на месте событий», чтобы отследить их развитие. Он увидел, что повсюду были расклеены объявления «с обращением к горожанам больше не митинговать на улице»{586}. Митинги теперь были разрешены только «в залах, театрах и общественных зданиях» – в тщетной попытке предотвратить дальнейшее обострение ситуации. В течение следующих нескольких дней на улицах Петрограда продолжали происходить беспорядочные перестрелки и произноситься бесконечные речи. Арно Дош-Флеро был свидетелем настоящей «бури красноречия», когда «десятки тысяч людей собрались, чтобы поддержать требование мира – без аннексий и контрибуций». Он с изумлением отметил, что эта фраза (с использованием приспособленных для этих целей для русского языка соответствующих английских терминов, которые не имели на русском языке точных эквивалентов) получила самое горячее одобрение. К сожалению, некоторые ораторы считали, что эти слова являлись названиями городов, и призывали своих слушателей «не дать России захватывать Константинополь, Аннексию и Контрибуцию». Элла Вудхаус вспоминала, как ее горничная с жаром провозглашала: «Мы хотим мира. Нам не нужны какие-то два румынских города, Аннексия и Контрибуция. Мы устали от войны!»{587}
В результате этих беспорядков, сопровождавшихся актами насилия, Временное правительство было вынуждено пересмотреть свою позицию и направило союзникам новую ноту, в которой выступило уже против любых военных контрибуций или аннексий как части будущего мирного договора с Германией. Все, кроме большевиков в составе Исполнительного комитета Петроградского Совета, приняли эту уступку, и солдатам, участвовавшим в акциях протеста, было приказано вернуться в свои казармы. Ситуация на данный момент была нормализована, однако, по выражению Мориса Палеолога, «дни Милюкова, Гучкова и князя Львова были сочтены»{588}. Князь Львов выглядел усталым и болезненным; по мнению дипломата Роберта Брюса Локхарта, приехавшего из Москвы посетить князя, тот переутомился и очень постарел после революции. Локхарт с сожалением отметил, что князь «не был сделан из того материала, из которого формировались революционные премьер-министры». Локхарт почувствовал «такую же беспомощность, такие же мрачные предчувствия» и у других членов правительства. Революция смела всех прежних друзей князя Львова из числа либералов. Единственным человеком, обладавшим хоть какой-то властью, был Керенский, потому что только он пользовался поддержкой Петроградского Совета{589}.
«Сейчас вы видите то, чему мы были свидетелями в течение семи дней», – сказали одному гостю американцы, проживавшие в Петрограде, по завершении «самой насыщенной событиями и самой захватывающей недели в столице после произошедшей революции»{590}. Черные флаги анархистов, три дня подряд организовывавших на Невском проспекте демонстрации протеста, заставили Эдвард Хилда содрогнуться; они вышли, чтобы «погрузить все в хаос». Как он выразился в разговоре с Дж. Батлером Райтом, Россия «сидит на пороховой бочке». Негли Фарсон отметил царившую атмосферу полной неопределенности. Все были озабочены проблемой самосохранения, поскольку жизнь в Петрограде «превратилась в какую-то большую азартную игру на выживание»{591}.
Идя по Невскому проспекту вместе с американским консулом Нортом Уиншипом, Фарсон встретил громадную толпу демонстрантов, выкрикивавших: «Земля и воля!» Наряду с этим он почувствовал что-то новое, на этот раз весьма зловещее: «Держась за руки, шли фабричные работницы; их головы в платках были подняты; их безмятежные славянские лица были полны восторга; они пели, воодушевленные революцией… А затем я увидел это… Огромный черный транспарант с белым черепом и перекрещенными костями, который, казалось, ухмылялся над словами: «Да здравствует Анархия!»… В этом было что-то отвратительное, словно вызывающее приглашение заняться всевозможным скотством и всяческими непристойностями»{592}.
По мнению Арно Дош-Флеро, было ясно, что последнее поражение правительства «играло на руку Ленину». «Прошло всего лишь три недели, как он вернулся в страну, а результаты его деятельности видны везде… Он предписывал, как следует действовать, наиболее воинственным и агрессивным революционерам, которые хотели сами захватить власть; он являлся для них ориентирующей силой». Ленин привез с собой то, чего до сих пор не хватало революции: он «обеспечил насилие необходимой доктриной»{593}.
Незадолго до своего отъезда из Петрограда Морис Палеолог признался, что, по его мнению, Россия «вступила в весьма длительный период анархии, нищеты и разрухи». Уже отправляясь на железнодорожную станцию, он размышлял об «окончательном крахе русского либерализма и скором триумфе Советов». «Плачь, святая Русь православная, плачь, – писал он, вспоминая слова юродивого в опере «Борис Годунов», – ибо во мрак ты вступаешь». Его коллега де Робьен отмечал с большим сожалением: «Палеолога отзывают в тот самый момент, когда он мог бы, действуя в свойственной ему «жесткой манере», добиться каких-то результатов»{594}.
Когда поезд с послом, оставляя после себя шлейф дыма, отбыл с Финляндского вокзала, Шарль де Шамбрюн подумал о том, что с отъездом Палеолога в прошлое навсегда канула большая дипломатическая эра: «Прощай, весь этот плюмаж, блеск золотых украшений, дипломатические приемы, роскошные блюда, ливреи в цветах триколора, напудренные лакеи в белых чулках! Прощай, изящная словесность, все эти «высокоумные» депеши и помпезные, мелодичные фразы! Мы возвращаемся к простоте и бесхитростности! Нам больше никогда не доведется вновь увидеть, как посольский автомобиль останавливается у дворца очаровательной княгини Палей, как кучер месье де Шатобриана дремлет на облучке у дверей мадам Рекамье. Нам никогда не забыть, что мы там были, что мы явились очевидцами величайших в истории потрясений!»{595}
В то время как Морис Палеолог уже был отозван в Париж, правительство Ллойда Джорджа в Лондоне обсуждало будущее его столь же уважаемого коллеги, сэра Джорджа Бьюкенена, и то, мог ли он «по-прежнему [быть] наиболее подходящим британским представителем в Петрограде», несмотря на его столь же образцовый послужной список. Считалось, что Бьюкенен, как и его французский коллега, был слишком тесно связан с прежним царским режимом, чтобы пользоваться уважением нового поколения социалистов в правительстве. Было негласно решено, что в Петроград следует направить нового посланника, который имел бы больше шансов оказывать влияние на «демократические элементы, преобладавшие сейчас в России, чтобы обеспечить энергичное продолжение войны»{596}.
На замену сэру Джорджу (которому будет предложено вернуться домой, якобы в отпуск) британским военным кабинетом министров был выбран член парламента от лейбористской партии и министр Артур Хендерсон, человек, который разделял с Советами симпатии к социализму, но при этом во всех других отношениях не имел ни малейшего опыта для решения поставленной перед ним задачи. Когда сотрудникам «канцелярии» британского посольства в Петрограде стало об этом известно, они были напуганы, и некоторые из них даже грозились подать в отставку, если это произойдет. Когда слухи об этом дошли до генерала Нокса, тот незамедлительно направил в Великобританию секретную телеграмму, в которой предупредил, что отзыв Бьюкенена нанесет существенный вред. «Ни один посол Великобритании в Петрограде еще не пользовался у российской стороны таким доверием», – утверждал он. Предстояло ли сэру Джорджу, который, как и Палеолог, пользовался доверием умеренных кругов, убедиться в том, что с ним поступят так же, как и с французским послом?{597}
После прибытия 20 мая Артура Хендерсона подавленный сэр Джордж обнаружил, что этому новичку были даны полномочия руководить британским посольством. Сэр Джордж пригласил его на ужин, на котором царила напряженная обстановка. Леди Бьюкенен едва могла сдержать свое бурное негодование. Сам сэр Бьюкенен предпочел за лучшее скрыть «определенную неприязнь и вызванное повышенной требовательностью осуждение». Эти чувства обострились тем фактом, что Хендерсон не владел французским или каким-либо другим языком, на которых общались более образованные лингвистически дипломаты и политики, сидевшие за столом. Предоставив Хендерсону возможность самому разбираться с этим и не предложив ему какой-либо помощи со стороны британского посольства, достопочтенный сэр Джордж отправился на отдых в Финляндию.
Хендерсон вскоре в полной мере осознал свои собственные недостатки – его напыщенные, нравоучительные манеры встретили открытую враждебность сотрудников посольства{598}. Он был потрясен анархией, царившей в Петрограде, и встревожен тем, что стал жертвой бессмысленного ограбления, характерного для всех петроградских гостиниц. «Из его номера таинственным образом исчезли смокинг и брюки от вечернего костюма», и никто не выказал ни малейшего желания помочь ему найти их. Вынужденный признать, что он был плохо подготовлен к тому, чтобы иметь дело с коварными русскими, не говоря уже о том, чтобы строить диалог с ними, он сообщил Ллойду Джорджу (а также сэру Джорджу Бьюкенену), что «пришел к выводу: если сэр Бьюкенен уедет, то после его отъезда здесь не останется ни одного человека, который бы разбирался в ситуации» в России{599}. В ходе своего визита Хендерсон продемонстрировал весьма малую заинтересованность (и еще меньшие восприимчивость и компетентность). На русских социалистов, принимавших его, он также не произвел впечатления. «Ваш Хендерсон буржуазен до самых кончиков ногтей, – сообщил сотруднику посольства один из них. – Он похож на всех вас. Каждое воскресенье он будет вместе с женой к одиннадцати ходить в церковь»{600}.
На следующий день после отъезда Мориса Палеолога очередной кризис во Временном правительстве вновь привел весь дипкорпус в уныние. 3 мая министр иностранных дел Милюков и военный и морской министр Гучков (их положение в результате апрельских демонстраций протеста было весьма непрочно) подали в отставку. С их уходом какое бы то ни было влияние либералов во Временном правительстве сошло на нет. Петроградский Совет, с его безусловным контролем над армией, был слишком силен, чтобы игнорировать его. Было очевидно, что такое разобщенное, разношерстное двоевластие, когда политическое руководство осуществлялось одновременно социалистическим Петросоветом и буржуазным Временным правительством, не могло продолжаться. Единственным решением было формирование 5 мая нового коалиционного Временного правительства, вновь под председательством князя Львова, в которое на этот раз вошли шесть социалистов. Трое из них (Ираклий Церетели, Виктор Чернов и Матвей Скобелев) являлись членами Петроградского Совета{601}. Перед Александром Керенским (его влияние усилилось, он теперь занял пост военного и морского министра) стояла актуальная задача возобновить наступление русской армии на Восточном фронте.
Между тем в столице царили насилие и анархия. «Анархия все выше поднимала свою голову, – писал Эдвард Хилд, – поскольку она была слишком привлекательна для русской души»{602}. В начале мая был объявлен восьмичасовой рабочий день, однако, несмотря на это, промышленное производство находилось в кризисном состоянии, сокращение поставок угля и сырья вынуждало многие предприятия закрываться. Положение на рынке труда усугублялось продолжавшимися забастовками, прежде всего на важнейших угольных месторождениях России. Нарастало общественное разочарование, а первоначальная революционная эйфория сходила на нет. Все уже устали от парадов и демонстраций, от речей и бесконечных очередей. На улицах было «полным-полно нищих, газетчиков и дешевых проституток»{603}. Полин Кросли, супруга недавно прибывшего в Петроград военно-морского атташе США, была вынуждена пользоваться услугами четырех горничных с учетом того количества времени, которое они ежедневно проводили в очередях «за хлебом, мясом, рыбой, молоком, маслом, яйцами, керосином, свечами». Было очень трудно достать дрова, приходилось также выстаивать бесконечные очереди за одеждой и сигаретами. «Никогда не думала, что мне придется увидеть так много бездельничающих мужчин! – писала она домой в конце мая. – Тысячи людей в форме ничем не занимаются, а лишь сидят на скамейках в парках и лузгают семечки!» Она повсюду слышала разговоры о том, как можно «спасти» Россию. «Почему же союзники не спасают Россию? Почему Соединенные Штаты не делают ничего, чтобы спасти Россию?» – снова и снова задавалась она вопросом{604}.
К концу мая диаспора иностранцев в Петрограде существенно обновилась: многие уехали, были и вновь прибывшие. Джеймс Стинтон Джонс вернулся в Лондон, где его рассказ о Февральской революции был опубликован в газете «Дейли мейл». «Всю первую страницу занимали мои фотографии, а на обратной стороне были рассказанные мной истории», – вспоминал он. В июле он опубликовал свою книгу “Russia in Revolution, Being the Experiences of an Englishman in Petrograd during the Upheaval” («Россия в революции, опыт англичанина в Петрограде во время переворота»), это было одно из первых свидетельств о событиях в России из уст очевидцев из числа иностранцев, опубликованных на Западе{605}. Исаак Маркоссон также уехал на пароходе в Абердин, откуда затем перебрался в Лондон. Там он остановился в отеле «Савой», в котором написал свою книгу “Rebirth of Russia” («Возрождение России»), опубликованную в августе. Он не жалел о том, что ему так и не довелось узнать, как решилась постоянная проблема с жильем. «Как и большинство петроградских гостиниц в это неспокойное время», вспоминал он позже, та гостиница, в которой он жил, «являлась своего рода сумасшедшим домом, давшим приют странному смешению национальностей, которое обходилось без лифтов, без сигарет, без душа и практически без хлеба. Единственное, что у нас было в избытке, так это тошнотворный запах, перенасытивший «атмосферу» Петрограда». Он был рад вновь насладиться удобствами настоящей, нормально действующей ванной комнаты{606}.
Некоторые иностранные журналисты также покинули Петроград после бурных событий февраля 1917 года, посчитав, что обстановка стала слишком спокойной, чтобы об этом стоило писать. «Многие не скрывали своего разочарования. Они надеялись, что революция предоставит им уникальную возможность получать интересный материал, а вместо этого им приходилось каждый вечер озадачиваться тем, как набрать хотя бы сотню строк для своих газет, – вспоминал один из иностранцев. – Иными словами, у улиц, если не считать красных флагов, массы грязи и трамваев, забитых солдатами, был вполне обычный вид. Правительственные кризисы происходили не чаще и не реже, чем в Париже. Общественные митинги из-за их обилия, в конце концов, стали скучными. Внешне повседневная жизнь в России начала походить на дореволюционную: чиновники в министерствах оставались на своих должностях, и в этой стране, отныне свободной настолько, насколько никогда не была свободна ни одна страна в мире, теперь при бесплатном посещении Эрмитажа служащие на входе напоминают о необходимости снять головные уборы»{607}.
К середине мая, после почти четырех лет, проведенных вдали от дома, чтобы обеспечивать свою газету статьями о событиях в России и на Восточном фронте, Артур Рэнсом чувствовал себя крайне уставшим и отчаянно хотел вернуться. «Невозможно избавиться от политики, и это моя работа – как можно внимательней следить за ней, догадываться, что происходит, и угадывать, что произойдет, – писал он своей матери, сообщая ей о своих планах вернуться на месяц домой, – но… ты даже не можешь себе представить, как я устал от всего этого. Наряду с этим события здесь происходят так быстро, что у меня есть возможность, оказавшись в их гуще, сразу же освещать их… Я не решаюсь оставить Петроград более чем на сутки, чтобы не пропустить какой-нибудь новый политический кризис или, вернее, новое проявление практически постоянного кризиса». Бесконечные трудности и лишения, с которыми приходилось сталкиваться многим иностранным журналистам последние несколько месяцев, крайне измучили их; Артур Рэнсом так писал об этом: «Мы теперь больше не человеческие существа – мы колесики в машине, и мы должны точно так же, как они, исправно крутиться и не отвлекаться на посторонние вещи, чтобы вся машина могла исправно работать». У его коллеги Гарольда Уильямса из издания «Дейли кроникл» произошел нервный срыв, и он был вынужден отправиться на Кавказ, чтобы отдохнуть. «Я готов пожертвовать чем угодно…только чтобы вырваться из Петрограда, – писал Рэнсом. – Если достаточно часто перемежать новости о событиях в Петрограде новостями с фронта, то в этом случае все будет в порядке. Но новости лишь о событиях в Петрограде, в неразбавленном виде, способны свести с ума самого здравомыслящего человека»{608}.
24 мая бесстрашная Флоренс Харпер, оставив в Петрограде своего коллегу Дональда Томпсона, выехала на Восточный фронт в Двинск в качестве сестры милосердия американского полевого госпиталя[74]. После того как она уехала, место единственной американской журналистки в Петрограде заняла жительница Нью-Йорка Рета Чайльд Дорр, опытный репортер с левыми взглядами, борец за права женщин и реформы в сфере труда. Она была направлена в Россию изданием «Нью-Йорк ивнинг мэйл». Перед поездкой ее пригласил к себе в кабинет главный редактор. «Ради бога, миссис Дорр, – решил предостеречь он ее, – не посылайте нам очерков о русской душе. Все остальные уже сделали это. Вы едете в Россию, чтобы делать свою работу: писать репортажи о событиях»{609}. В последующие три месяца Дорр будет неукоснительно выполнять это указание. Кроме того, в Петрограде ее пути пересекутся с ее старой подругой-суфражисткой Эммелин Панкхерст, основательницей Женского социально-политического союза (ЖСПС). Рета Чайльд Дорр была с ней вместе в Париже зимой 1912/13 годов, работая над ее автобиографией “My Own Story” («Моя собственная история»).
В то время как союзники были уверены в том, что Россия скоро выйдет из войны, неукротимая Панкхерст (избавившись от «черной метки» британского правительства – на время войны она оставила свою деятельность по защите прав женщин) прибыла в неспокойную российскую столицу, чтобы попытаться выполнить свою миссию: придать русскому народу новые силы. Чтобы выступить в защиту войны, она, однако, избрала не армию. Она сделала ставку на того, кого армия бросила: на женщин Петрограда.
Часть II Июльский кризис
Глава 10 «Величайшее событие в истории со времен Жанны д’Арк»
Эммелин Панкхерст прибыла в Петроград в начале июня 1917 года «с молитвой английского народа русскому народу о том, чтобы вы смогли продолжить войну, от которой зависит будущее цивилизации и свободы». Она искренне верила «в доброту сердца и души России», она настаивала на этом в своем обращении, опубликованном в издававшейся в Петрограде русской газете «Новое время»{610}. Она путешествовала с одной из своих самых преданных соратниц, Джесси Кенни, бывшей работницей текстильной фабрики английского графства Ланкашир, которая вместе со своей сестрой Энни являлась убежденным активистом Женского социально-политического союза (ЖСПС). Кенни была самым молодым английским активистом ЖСПС и сейчас, в возрасте тридцати лет, стала существенной опорой для усталой Панкхерст, отличавшейся хрупким телосложением. Это было не лучшее время для пятидесятидевятилетней Панкхерст, с учетом состояния ее здоровья, оказаться в Петрограде, но она была полна решимости в этот критический период войны «приложить невероятные усилия во имя России»{611}.
Будучи всю свою сознательную жизнь радикальной политической активисткой, Панкхерст всегда симпатизировала революционному делу и в 1890-е годы приглашала известных российских политических эмигрантов к себе домой (площадь Рассел-сквер, Лондон) на чай. В 1914 году, с началом войны, она немедленно отказалась от своей воинственной кампании в защиту избирательного права женщин с тем, чтобы поддержать национальные военные усилия, и с этого времени стала разъезжать по Великобритании, стремясь сплотить женщин в этом деле. В феврале 1917 года она приветствовала свержение деспотичного царского режима в России, однако в начале лета западным союзникам стало казаться, что позиции Временного правительства в России все более ослабевают. Возможность того, что Россия выйдет из войны, крайне встревожила Панкхерст; она утверждала, что это «лишит русский народ свободы, ради которой он совершил свою революцию, и приведет его к еще худшему рабству, чем прежде». Именно поэтому она решила поехать в Россию вместе с Кенни (как «патриотичные британские женщины, верные делу своей нации и делу союзников»), чтобы сплотить русское общество и укрепить его слабеющий дух. Это решение крайне встревожило ее пацифистски настроенную дочь Сильвию, которая негласно вела агитацию за выход Великобритании и России из войны{612}.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж встретил инициативу Панкхерст с распростертыми объятиями. Хотя миссия, мысль о которой пришла в голову Эммелин (и которая финансировалась прежде всего за счет денежных средств, собранных суфражистской газетой «Британия»), должна была охватить все классы и слои российского общества, личная цель Панкхерст заключалась в том, «чтобы помочь женщинам России, организоваться и научить их пользоваться своим правом голоса»{613}. Таким образом, она исходила из достаточно нелепого предположения, что у русских работающих женщин не было никакого представления о сути голосования или о той власти, которой они обладают в этой связи, и она была намерена «поделиться с ними своим позитивным опытом»[75]. Однако в первую очередь ее беспокоил вопрос поддержки русскими женщинами военной кампании. В конце концов, именно женщинам принадлежала ключевая роль в Февральской революции, ведь это их протесты в связи с нехваткой хлеба привели к массовым волнениям; они знали, чего хотят, «даже лучше, чем мужчины»{614}.
До отъезда в Россию Джесси Кенни прибыла в Париж, чтобы проконсультироваться со старшей дочерью Эммелин Панкхерст, Кристабель, соучредительницей (со своей матерью) ЖСПС: «мой гардероб совсем износился, и хотя на магазины совершенно не оставалось времени, для меня было крайне важно обеспечить себя в дорогу необходимой одеждой»{615}. У нее не было подходящей одежды ни для жаркого лета в России, ни для холодной зимы (если бы им пришлось остаться в стране до этого времени), поэтому Кристабель отобрала для Джесси кое-что из собственного гардероба. Она также посоветовала ей приобрести «большой солидный дневник» и делать в нем ежедневные записи. Самое главное, что она хотела бы узнать, было мнение Джесси о Керенском, поскольку «его характер мог повлиять на судьбу России». Прощаясь, Кристабель дала Джесси небольшой кошелек с пятью фунтами, чтобы носить его на шее. «Деньги решают все, даже во время революций, – сказала она, – и если в силу разных причин вас разлучат с матерью, благодаря им вы сможете рассчитывать на какую-то помощь»{616}.
Отправляясь в свое путешествие из портового города Абердин, две женщины сели на единственное пассажирское судно, регулярно курсировавшее в военное время между Великобританией и Норвегией (его защиту обеспечивал конвой союзников). Судно было переполнено эмигрантами, возвращавшимися в Россию, среди которых было много женщин и детей. Из Осло в Петроград они ехали на том же поезде, на котором леди Мюриэл Пэджет с группой врачей и медсестер возвращалась в Англо-русский госпиталь. В полтретьего ночи они прибыли в российскую столицу, «которая казалась вся укутанной тишиной» и волшебной из-за «таинственного света белых ночей на севере России»{617}. Проведя несколько дней в гостинице «Англетер», они переехали в находившуюся по соседству «Асторию» в номера, которые подготовил для них чешский посланник Томаш Масарик. Он сразу же «особо предупредил их»: первое – «никогда не выходить на улицу, если есть хотя бы малейшие признаки оказаться там в момент выяснения отношений между противоборствующими толпами», так как приехавшие женщины «не имели ни малейшего представления о силе и агрессивности русской толпы»; и второе – быть готовыми либо голодать, либо рисковать отравиться, поскольку еда в гостинице в настоящее время «всерьез испорчена»{618}.
Эммелин Панкхерст в России принимала активистка за права женщин и практикующий врач Анна Шабанова, основательница «Русского женского взаимного благотворительного общества», умеренной организации среднего класса, которая, в отличие от ЖСПС, стремилась обеспечить социальную реформу исключительно законными методами{619}. Эммелин Панкхерст выделили трех переводчиков, которые ежедневно просматривали для нее русские газеты. Одним из них была Эдит Керби, которая, работая в британском посольстве, составляла аналогичные отчеты о ежедневной прессе для Англо-русского бюро пропаганды[76]. Она обратилась к сэру Джорджу Бьюкенену с просьбой на десять дней освободить ее от посольской службы, чтобы она могла поработать у гостей переводчиком. Керби нашла легендарную суфражистку «старой, тихой и весьма элегантно одетой, в кружевах и оборках, шляпках и перчатках, с вычурной сеткой поверх завитых волос, и так далее». Такой старомодный английский аристократизм в революционном Петрограде выглядел нелепо{620}.
За несколько дней до появления Панкхерст в Петроград из Владивостока прибыла более престижная американская миссия – была дипломатическая делегация США в составе девяти человек во главе с бывшим государственным секретарем Элиу Рутом. Она прибыла на бывшем царском поезде с миссией доброй воли от президента США Вудро Вильсона. Практически ее задача заключалась в том, чтобы приветствовать вступление России в демократическое сообщество и оценить ее готовность к продолжению участия в войне, но, по словам Лейтона Роджерса (который встретил некоторых «внештатных сотрудников» делегации в гостинице «Европейская»), ее деятельность сопровождалась «атмосферой неопределенности и домыслов». Как он понял, члены делегации не знали, на что им можно твердо рассчитывать, но (в отличие от Эммелин Панкхерст, имевшей ограниченные финансовые возможности) в их распоряжении было «шестьсот тысяч долларов, и они намеревались израсходовать эту сумму, как минимум»{621}. Не было ничего удивительного в том, что основные члены делегации были размещены в роскошных апартаментах бывшей царской семьи в Зимнем дворце и что «их кормили лучше, чем кого-либо в России». У них на столе были и белый хлеб, и сахар, и мясо; более того, «весь винный погреб бывшего царя находился в их полном распоряжении». (Сотрудник американского посольства Норман Армор слышал историю о том, что, порывшись в подвалах дворца, их российские хозяева нашли солодовое виски, «которое было приготовлено к визиту генерала Гранта в 1878 году»{622} [77].)
Щедрое по меркам революционного Петрограда гостеприимство, оказанное визитерам, не значило, что члены американской делегации имели какое-либо влияние на рядовых российских граждан, и меньше всего такое влияние имел неизвестный им Элиу Рут, республиканец, корпоративный юрист и бывший госсекретарь. «Кто такой господин Рут?…Он был одним из ваших президентов?» – задавали русские вопрос Лейтону Роджерсу. «Эта делегация до такой степени представляет истинный дух Америки, что она могла бы с таким же успехом приехать и из Абиссинии, – думал в ответ Роджерс. – Есть только один человек в Соединенных Штатах, которому следовало бы возглавить эту делегацию, – это Тедди Рузвельт. Его здесь знают, им здесь восхищаются»{623}. Смысл визита ускользал от Лейтона Роджерса, как он ускользал и от недавно приехавшей в Петроград калифорнийской журналистки Бесси Битти, работавшей на «Вестник Сан-Франциско». Она отметила, что на пресс-конференциях, которые дал Элиу Рут, он вновь и вновь приводил «простые, заранее заготовленные, незамысловатые пояснения»; он пару раз выступил на английском языке, и его мало кто понял, и активно обменивался рукопожатиями с различными российскими представителями{624}. Однако реакция российской стороны была «весьма сдержанной», ее тон был «далек от искренней сердечности». Элиу Рут в глазах русских оставался «капиталистом» и «скрытым реакционером», приехавшим в Россию по заданию группы американских бизнесменов с оппортунистической целью «получить информацию о стране, чтобы помочь эксплуатировать ее»{625}. Рут очень мало знал о России и признавал, что его поездка была организована лишь для вида, что она являлась «спектаклем для зрителей». «У нас здесь класс дошкольников численностью сто семьдесят миллионов человек, который только что начал изучать искусство быть свободным, – телеграфировал он президенту Вильсону, – и его надо обеспечить игрушками и материалами детсадовского уровня». Он пришел к выводу, что русские были «искренними, любезными, хорошими, однако бестолковыми и заторможенными»{626}.
В то время как делегация Элиу Рута погрязла в череде формальных и бессодержательных дипломатических мероприятий, Эммелин Панкхерст оказалась в центре внимания общественности, устраивая в гостинице «Астория» встречи с «представителями всего спектра иностранной колонии, существовавшей в то время в Петрограде». Она вместе с Джесси Кенни «неустанно» организовывала утомительные приемы, проводила заседания различных комитетов, давала интервью. «Казалось, они вдвоем работали днем и ночью», – отметила Флоренс Харпер, которая завершила работу в полевом госпитале и вернулась в Петроград{627}. Каждый их день был наполнен встречами с различными российскими женщинами-активистками и реформаторами, членами Временного правительства, представителями Красного Креста и Международного комитета Юношеской христианской ассоциации. Кроме того, они посетили Англо-русский госпиталь. Эммелин Панкхерст раздавала интервью российским и иностранным журналистам, в том числе Роберту Уилтону из издания «Таймс», а также встретилась со своей давней подругой Ретой Чайльд Дорр, которая тоже остановилась в «Астории». Выступая в качестве личного секретаря, Джесси Кенни держала при себе коробку с визитками посетителей, которая быстро заполнилась приглашениями на чай с представителями диаспоры, и Эммелин Панкхерст уже не могла упомнить всего того множества людей, которые желали встретиться с ней. Они с Джесси Кенни все сильнее уставали, им было трудно спать из-за белых ночей, а также из-за «пения и разговоров на улице, которые продолжались до самого утра»{628}. Они чувствовали также рост политической нестабильности. Джесси Кенни пометила в своем дневнике: «Каждый день появляются разные слухи и революционные новости, удары и контрудары наносятся противоборствующими сторонами так быстро, что мы никогда не знаем, что может случиться буквально через час». Они опасались за Временное правительство – несмотря на то что все русские женщины, с которыми они встречались, заверяли их в том, что поддерживают его. Джесси Кенни продолжала в своем дневнике: «Они не хотят победы большевиков, они не хотят анархии, они хотят какого-либо демократического правительства»{629}.
Панкхерст вынашивала идею провести в ходе своей поездки целый ряд массовых митингов на открытом воздухе, однако Временное правительство было обеспокоено тем, что она слишком открыто выступала за продолжение войны, поэтому такие митинги могли спровоцировать большевиков и их сторонников. Имея за плечами опыт нескольких десятилетий открытого неповиновения британскому правительству, Панкхерст была готова, не колеблясь, встретить враждебную реакцию русской аудитории, но правительство категорически отказалось предоставить ей возможность обратиться к общественности на митингах. Тем не менее это не помешало ей выступить на небольших собраниях в частных домах и в своей гостинице, а Кенни, по крайней мере, было разрешено выступить на большом митинге с участием фабричных работниц, проведенном «рядом со штаб-квартирой анархистов, над которой развевался черный флаг». Это мероприятие было организовано 18 июня, стоял теплый солнечный день, собравшиеся женщины и девушки были в «легких хлопковых платьях, на головах у них были повязаны небольшие цветные косынки»{630}. Несмотря на то что говорить пришлось через переводчика, Кенни чувствовала, что она «полностью владела их вниманием», и ее «согревало множество обращенных к ней улыбавшихся лиц». Она рассказала об этом во время организованной в Великобритании кампании в защиту избирательных прав женщин и в поддержку ее страной российского правительства. «Как бы мне хотелось, чтобы миссис Панкхерст и я смогли увидеть еще больше русских людей! – напишет Кенни позже. – Мы начинали любить их все больше и больше!»{631}
Из всех женщин, с которыми Эммелин Панкхерст и Джесси Кенни надеялись встретиться в Петрограде, первой в их списке стояла Мария Бочкарева – командир недавно сформированного «женского батальона смерти» и, вероятно, самая известная женщина во всей России. Буквально за год Мария Бочкарева из полуграмотной крестьянской девушки с Волги, про которую никто не слышал, превратилась в национальную героиню. Ее отец-пьяница бросил семью, когда она была еще маленькой, и она в возрасте восьми лет, чтобы помочь матери сводить концы с концами, начала работать нянькой. Выйдя замуж в пятнадцать лет, она вскоре рассталась со своим жестоким мужем и последовала за любовником в Якутск, в Восточную Сибирь, куда тот был направлен отбывать наказание за разбой. Когда в 1914 году началась Первая мировая война, она, преисполненная чувством патриотизма, преодолела три тысячи миль и добралась до Томска, где обратилась к командиру 25-го резервного батальона с просьбой записать ее добровольцем в ряды действующей армии. Тот ответил ей, что она может идти на фронт только в качестве сестры милосердия, однако Мария Бочкарева хотела воевать. Добиваясь поставленной цели, она направила телеграмму непосредственно Николаю II, на которую тот ответил положительно, что было подтверждено командующим армией генералом Брусиловым{632}.
Бочкарева обладала всеми качествами настоящего солдата: она была коренастой, крепкой, сильной. Она нисколько не сожалела о том, что, когда ее записывали в армию, ей пришлось отрезать свои косички; как и любой другой новобранец, она очень коротко стриглась. Надев солдатские галифе и обув сапоги, после стрелковой подготовки она была зачислена в 28-й Полоцкий полк и попала на фронт. Она называла себя «Яшкой», и ее мужеподобные черты многих вводили в заблуждение. «У нее были сила, основательность и глубокий, звучный голос мужчины. Проходя мимо нее на улице, вам приходилось раза три оглянуться, чтобы убедиться, что это вовсе не мужчина, – вспоминала Бесси Битти, встретив Бочкареву в июне 1917 года. – Протестующе поворчав первые несколько дней, затем ее товарищи уже редко вспоминали, что она была женщиной»{633}.
Во время своей службы на фронте в 1915–1916 годах Бочкарева продемонстрировала в бою большую силу духа и мужество и была четыре раза ранена. В результате последнего ранения она провела в госпитале несколько месяцев и была награждена двумя Георгиевскими крестами. Искренний патриот, она стала ярым сторонником революции, когда та разразилась в феврале 1917 года, а весной того же года она была крайне встревожена тем, как плохо ее народ оказался подготовлен к завоеванной свободе. Более всего ее удручало последовавшие за революцией падение дисциплины и нараставшая дезорганизация в войсках. К маю 1917 года российская армия, потеряв более 5,5 миллиона человек, была серьезно ослаблена войной. Моральное состояние было рекордно низким, а уровень дезертирства – угрожающе высоким. Призывники на фронте больше не желали воевать с немцами, они хотели просто вернуться по домам. Однако Бочкарева была готова продолжать сражаться до победного конца.
Для борьбы с падением морального духа были сформированы специальные боевые подразделения (названные «ударными батальонами»), их цель состояла в том, чтобы подтвердить решимость народа, если будет необходимо, умереть ради спасения России. Бочкарева считала, что честь и даже само существование ее страны были поставлены на карту, и она хотела, чтобы русские женщины подали пример. «Мужчинам дают оружие, чтобы они сражались со смертью, – жаловалась она, – а женщинам остается просто сидеть и ждать своей смерти»{634}. Она настаивала на том, что она (и остальные женщины) предпочла бы умереть в бою. Именно об этом Бочкарева и думала, когда во время посещения фронта в мае 1917 года председателем Государственной думы Родзянко она попросила его поддержать ее просьбу к Керенскому, военному и морскому министру, разрешить ей сформировать «женский батальон смерти», первый в своем роде в мировой практике. «Мы пойдем туда, куда мужчины отказываются идти, – заявила она. – Мы будем сражаться, когда они побегут. Женщины вернут мужчин в окопы». Приехав в Петроград, Бочкарева 21 мая выступила на массовом митинге в Мариинском театре, на котором она обратилась с воззванием: «Граждане и гражданки!…Наша мать погибает. Наша мать-Россия. Я хочу помочь спасти ее. Я обращаюсь к женщинам, чьи сердца кристально честны, чьи души чисты, чьи помыслы благородны. С такими женщинами мы покажем пример самопожертвования, чтобы мужчины осознали свой долг и исполнили его в этот тяжкий час испытаний»{635}.
На призыв Бочкаревой в тот вечер встать под ружье откликнулись полторы тысячи женщин, их число увеличилось еще на пятьсот человек, которые пожелали вступить в «батальон смерти», прочитав на следующий день статьи в газетах. Их разместили в четырех больших общежитиях Коломенского женского института на Торговой улице, специально предоставленных Бочкаревой{636}. Многие из них вскоре были уволены, и число оставшихся сократилось до пятисот человек, в основном в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет (главной причиной были строгие моральные требования Бочкаревой: она ненавидела «фривольное поведение», например, флирт с мужчинами-инструкторами); другие ушли, поскольку не смогли воспринимать ее приказы «в истинно военном духе»{637}. Некоторые наиболее политизированные женщины изменили свое решение, когда Бочкарева в категоричном тоне запретила им создавать солдатские комитеты по образцу Советов. Она за все несла единоличную ответственность, и в этом заключалось все дело.
Конфисковав все личное имущество новобранцев (за исключением их бюстгальтеров), Бочкарева строем направила их в четыре ближайшие парикмахерские, где их остригли почти наголо. У дверей парикмахерских собралась целая толпа (в основном это были солдаты), которая смеялась над женщинами, когда они выходили обритыми. Затем добровольцы прошли строгий курс начальной военной подготовки, поднимаясь в пять утра и проводя ежедневно десять часов на занятиях по стрелковой подготовке и другим дисциплинам, как и любой новобранец-мужчина. Бочкарева лично контролировала процесс обучения, выкрикивая приказы, словно фельдфебель, и раздавая пощечины недисциплинированным. Вскоре батальон сократился до 250–300 человек; многие женщины ушли сами, не в силах терпеть суровый режим, организованный Бочкаревой{638}. Единственная уступка с ее стороны заключалась в том, что на вооружении у батальона состояли кавалерийские карабины, которые были на два с половиной килограмма легче, чем штатная пехотная винтовка.
Те из женщин, кто прошел суровый отбор, по словам одного американского журналиста, наблюдавшего за ними на занятиях, «были похожи на самых обычных солдат, которых я видел;…они относились к самим себе и к тому, что они делали, со всей серьезностью и без какого-либо смущения»{639}. После завершения курса подготовки женщины надели обычную армейскую форму, единственным отличительным знаком которой были специальные белые погоны с красными и черными полосами и красно-черная нарукавная стрела – такие же знаки отличия носили аналогичные мужские батальоны, подтверждая тем самым, что они поклялись, не жалея жизни, сражаться за Святую Русь и за союзников{640}.
В состав Петроградского «женского батальона смерти» входили представители совершенно различных социальных слоев. Некоторые раньше были медсестрами Красного Креста, самой старшей среди них была сорокавосьмилетняя врач. Кроме того, добровольцами в батальон записались «стенографистки и портнихи…секретарши, служанки и фабричные работницы, студентки и крестьянки, конторские служащие и те, кто до войны был просто тунеядцем», как отмечала Бесси Битти{641}. Как опытный репортер, который в своем издании вел постоянную рубрику «Вокруг света во время войны», Бесси Битти прибыла в Петроград вскоре после Реты Чайльд Дорр и, подобно ей, сразу же отправилась к Бочкаревой, поскольку «женский батальон смерти» представлял для журналистов значительный интерес. Вскоре статьи о нем появились на первых полосах газет во всем мире. Обе журналистки выяснили, что у женщин, добровольно записавшихся в «батальон смерти», были разные (и зачастую весьма драматичные) причины для этого.
Одним из новобранцев была двадцатиоднолетняя Мария Скрыдлова, высокая, аристократичная дочь адмирала, отличившегося в Русско-японской войне. До поступления в батальон она (как и пятеро ее новых сослуживиц) работала медсестрой Красного Креста. Мария Скрыдлова получила образование в монастырской школе в Бельгии, была талантливым музыкантом и лингвистом, позже за отвагу была награждена Георгиевским крестом, но потом получила контузию и захромала. Во время Февральской революции, до того как записаться в батальон, ей пришлось в полной мере столкнуться с яростью и ненавистью народных масс в отношении бывшей аристократии, когда толпа ворвалась в военно-морской госпиталь, где она работала медсестрой, и расправилась с ранеными офицерами прямо в их койках. Как она рассказала Флоренс Харпер, другие раненые, за которыми она ухаживала по ночам, «теперь, когда Россия [стала] свободна, набросились на нее с ругательствами, которых она раньше никогда в своей жизни ни от кого не слышала»{642}. После того как она увидела, что других медсестер в том многоквартирном доме, где она жила, убили, а молодых девушек изнасиловали, она «сняла форму Красного Креста и поклялась, что больше не пошевелит и пальцем, пока у власти будут такие люди». Когда же она услышала о формировании батальона Бочкаревой, она пошла записываться туда добровольцем, «даже не захватив с собой шляпы и пальто, и почти всю дорогу бежала». Как и ее командир, она хотела только одного – служить России.
Несмотря на очевидную самоотверженность женщин «батальона смерти», не все русские восхищались ими. На улице, когда они шли строем, мужчины нередко свистели и улюлюкали им вслед. Но в ответ эти злопыхатели получали по заслугам: «Проваливайте отсюда, вы, жалкие трусы! Как вам не стыдно! Эти женщины оставили свои дома и идут на фронт за Святую Русь!» Бесси Битти восхищалась той «мрачной уверенностью», с которой они воспринимали перспективу погибнуть под командованием Марии Бочкаревой, к которой они обращались: «Господин начальник!» «Что нам еще остается? – говорили они. – Душа армия больна, и мы должны вылечить ее»{643}.
В июне 1917 года Эммелин Панкхерст и Джесси Кенни регулярно встречались с Бочкаревой и ее солдатами в казармах и фотографировались вместе с ней. Панкхерст с гордостью смотрела на женщин-новобранцев и наблюдала за их занятиями и тренировками. Она считала для себя крайне важным постараться побеседовать лично (через своего переводчика) с как можно бо́льшим числом этих женщин. Ее переполняло чувство гордости при виде их командира – бесстрашной Марии Бочкаревой, «этой замечательной, великолепной женщины». Как она выразилась позже, это «величайшее событие в истории со времен Жанны д’Арк». Она с Бочкаревой, по воспоминаниям последней, «очень привязались друг к другу», и Панкхерст пригласила ее на званый ужин в «Асторию»{644}. Ощущая упадок физических сил после многих лет неоднократных голодовок и принудительных кормлений в тюрьме, которые нанесли вред ее пищеварительной системе, Панкхерст своей фигурой резко контрастировала с крепким телосложением своей новой русской подруги и казалась преждевременно постаревшей. Тем не менее во время посещений «женского батальона смерти» она старалась держаться прямо и выглядела безукоризненно в белом льняном костюме с черным капотом и в перчатках такого же цвета, подняв правую руку в знак женской солидарности (Дональду Томпсону удалось сфотографировать этот момент; тем летом, вернувшись из поездки на фронт, он сделал много снимков «женского батальона смерти»){645} [78].
В своей речи, с которой ей было разрешено выступить на концерте по сбору средств для «батальона смерти» (14 июня 1917 года в зале армии и Военно-морского флота в Петрограде), Эммелин Панкхерст воспользовалась возможностью похвалить добровольцев батальона: «Я испытываю чувство глубокого уважения к этим женщинам, которые показывают своей стране такой пример. Когда я смотрю на них, нежных и хрупких, на их тела, я думаю: как ужасно то, что они вынуждены идти сражаться вместо того, чтобы рожать детей». «Мужчины России! – обратилась она к залу. – Неужели женщины должны идти в бой, а мужчины останутся дома и позволят им сражаться одним?»{646}
21 июня на церемонии, состоявшейся на большой площади перед Исаакиевским собором, в которой приняли участие Керенский, Милюков, Родзянко и другие члены Временного правительства, Мария Бочкарева с гордостью получила бело-золотой боевой штандарт, на котором черным было вышито: «1-й женский батальон смерти Марии Бочкаревой». В тот же день она была произведена в прапорщики, и генерал Корнилов вручил ей офицерский ремень, а также, как символ высокой оценки народа, револьвер и саблю с золотыми планками на рукоятке и эфесе{647}. Рета Чайльд Дорр заметила, однако, что форма защитного цвета у добровольцев батальона была «довольно потрепанной» и что «около половины девушек были обуты не в армейские сапоги, а в женские ботиночки, в которых они записывались в батальон». (Позже она узнала, что причиной была нехватка армейских сапог, которые женщины смогли получить лишь за день до отправки на фронт или же буквально в день отправки.) Эммелин Панкхерст и Джесси Кенни также присутствовали на церемонии и были тронуты тем, как торжественно она была организована, в частности, пением служителей церкви. «Как Этель Смит понравилась бы эта музыка!» – воскликнула Панкхерст, обращаясь к Джесси Кенни; она с нежностью подумала о своей подруге, суфражистке-композиторе{648}.
Спустя два дня, накануне убытия «женского батальона смерти» на фронт, перед алтарем, возведенным на ступенях Казанского собора, для добровольцев батальона был проведен благодарственный молебен. Бочкарева с женщинами появилась лишь после пяти часов вечера, что дало повод солдатам в толпе ожидавших у собора с издевкой интересоваться: «Если они перед атакой тоже будут полтора часа пудрить свои носики, представляете, что устроят им немцы?»{649} Однако остальная толпа не поддержала сарказма; «женщин со слезами на глазах, мужчин, которые смущенно переминались, чувствуя себя неловко», было значительно больше тех немногих солдат, которые вели себя «враждебно, грубо, вызывающе». Джесси Кенни тоже была там (представляя занемогшую Панкхерст), равно как и леди Джорджина Бьюкенен, а также другие известные горожане, гости, иностранные журналисты. По мнению Флоренс Харпер, женщины батальона выглядели несколько нелепо в своей плохо подходившей им полевой форме и фуражках не по размеру; она слышала, как кто-то в толпе обмолвился, что они были похожи на «дешевый кордебалет»{650}. Тем не менее они вызвали восхищение (наряду с некоторой жалостью) у большинства тех, кто в тот день собрался посмотреть на них. Добровольцы батальона гордо стояли, держа в руках транспаранты: «Лучше смерть, чем стыд!» и «Женщины, не подавайте руки предателям!»{651}.
Сообщали, что тысячи людей вышли на улицы города, чтобы проводить добрыми напутствиями «женский батальон смерти», когда тот после благодарственного молебна направлялся на Варшавский вокзал Петрограда. Каждая женщина несла две сотни патронов, а кастрюли и сковородки в их вещмешках, по выражению Дональда Томпсона, вполне походили «на теннисные ракетки»{652}. У многих к прикладам винтовок были прикреплены цветы – это сделала восторженная толпа, когда батальон следовал мимо нее. «Так много строгих, серьезных молодых лиц – хотелось плакать, когда они проходили мимо… в полном солдатском снаряжении, не страшась трудностей и невзгод, которые им предстояло вынести, и тех насмешек, с которыми им придется столкнуться, насмешек от своих соотечественников, которые, вероятно, перенести будет сложнее, чем немецкие пули, – написала одна из медсестер Англо-русского госпиталя. – Они собирались делать мужскую работу и показать пример малодушным. Когда мы шли вместе с толпой, сопровождавшей их вдоль Невского, один старый генерал вышел вперед и крикнул: «Да благословит вас Бог! Вы добьетесь своего, вы не как те, вы другие!»{653}
Однако без неприятных инцидентов все же не обошлось. Когда батальон вышел на Измайловский проспект, оркестр, сопровождавший его, вдруг перестал играть и путь женщинам преградила группа солдат из находившихся поблизости Измайловских казарм. Выхватив из ножен саблю, которую ей недавно вручили, Бочкарева выступила вперед, приказала оркестру продолжать играть и с высоко поднятой головой, с саблей наголо под восторженные аплодисменты толпы повела свой батальон дальше – тогда как солдаты вернулись в казармы{654}.
На вокзале большевики – сторонники Ленина сделали все, что было в их силах, чтобы спровоцировать враждебное отношение к женщинам-добровольцам, пока те прокладывали путь к поезду (в котором им, воздавая им должное, были предоставлены места в вагонах второго класса, а не в неудобных вагонах третьего класса, обычно выделявшихся для войск). Большие группы стоявших на вокзале солдат освистывали их и отпускали в их адрес оскорбления. Журналист Уильям Г. Шеперд слышал их высказывания: «Этим женщинам не следует разрешать идти на войну. Это, блин, оскорбление России и русских мужиков… Известно, не воевать они там собираются. Они идут на фронт только для того, чтобы оскорбить русских солдат и для дурных целей»{655}. «Дурные цели» были более четко сформулированы одним из солдат в этой толпе: «Они зачислены, чтобы работать проститутками». Флоренс Харпер, которая также пробиралась к вокзалу, услышала эту реплику – и стала свидетельницей того, какую реакцию она незамедлительно вызвала: разъяренные женщины в толпе «ринулись на него, как псы на дикое животное, принялись расцарапывать ему лицо, бить его и рвать ему волосы». Она опасалась, что толпа может забить солдата до смерти, и попыталась заслонить его. К счастью, вскоре появились милиционеры, которые отвели виновника беспорядка в участок, при этом толпа проследовала за ними{656}.
Из Петрограда поезд с «женским батальоном смерти» проследовал на фронт до станции Молодечно, где располагался штаб 10-й армии, к которой был приписан батальон. 7 июля женщины под командованием Бочкаревой приняли участие в атаке против немцев в ходе пятидневного сражения под Сморгонью (в настоящее время – территория Беларуси){657}. К концу дня пятьдесят женщин из батальона были убиты или ранены. Вскоре после этого Бочкарева сама была контужена и потеряла сознание, когда рядом с ней разорвался снаряд. Ее доставили в полевой госпиталь в тыл, а затем, учитывая ее тяжелую контузию, отправили на поправку в петроградский госпиталь, присвоив звание подпоручика. Бочкарева очень гордилась тем, что ни одна из женщин ее батальона не дрогнула в бою. Панкхерст также была рада этому и с гордостью телеграфировала домой в Англию: «Первый женский батальон номер двести пятьдесят. Занял место отступающих войск. Контратаке захватил плен сто человек том числе двух офицеров. Лишь после пяти недель обучения. Его командир ранен. Стяжал бессмертную славу. Психологический эффект весьма велик. Готовятся новые солдаты-добровольцы матросы числа женщин. Панкхерст»{658}.
Перед тем как посетить Москву, Панкхерст и Кенни продолжили встречи с представителями петроградского общества и диаспоры. Панкхерст снова встретилась с леди Мюриэл Пэджет в британо-российском ланч-клубе (подобные модные местечки все еще существовали, несмотря на войну и нормирование продуктов питания). Она также встретилась с радушным премьер-министром князем Львовым и печально известным Феликсом Юсуповым, которого она нашла совершенно очаровательным. «Изысканная любезность» Юсупова и его «хорошее произношение», проявившиеся, когда он, изъясняясь на английском, провел Панкхерст и Кенни по своему дворцу на Мойке, показывая им комнату, где был убит Распутин, и излагая полную жутких подробностей историю, произошедшую в этом дворце, пришлись по вкусу Панкхерст{659}.
Хотя Панкхерст не разрешили встретиться с бывшим царем и его супругой, находившимися в то время под домашним арестом в Александровском дворце, Панкхерст вместе с Кенни смогли в частном порядке побывать в Царском Селе, где теперь (после тридцати лет эмиграции в Швейцарии) проживал бывший коллега Ленина по политической деятельности и один из основателей РСДРП Георгий Плеханов. Плеханов казался «бледным и больным», однако его умение держать себя, когда он угощал своих гостей русским ужином, было безупречно. Эммелин Панкхерст, которая мучилась болями в желудке, был предложен и чай из гудевшего самовара, и «вкусный белый хлеб, и сливочное масло, и икра, и множество других лакомств». «Какое это удовольствие – питаться чистыми, красивыми, здоровыми, полезными продуктами!» – заметила она. Плеханов был весьма вежлив. По оценке Кенни, «он совершенно не был похож на демагога…и хотя он пострадал за свою политическую деятельность гораздо больше, чем Ленин, в нем не чувствовалось злобной ожесточенности последнего». Он сказал Панкхерст, что восхищается Бочкаревой. Наряду с этим он выразил обеспокоенность тем, что необходимо удержать Россию от разгула анархии и сохранить ее верность делу союзников. Кенни никогда не забудет грустные, печальные слова, сказанные им напоследок: «Есть две вещи, которые люди ценят, только потеряв их: это их здоровье и их страна»{660}.
Здоровье – это была та вещь, которую Эммелин Панкхерст, как и хрупкий Плеханов (который умрет от туберкулеза в мае следующего года), к тому времени уже потеряла. Она не могла есть грубый черный хлеб, который предлагали в гостинице, и ее российские поклонники (главным образом, медсестры и учителя), меняясь друг с другом, стояли в очередях за драгоценным белым хлебом для нее{661}. Кроме того, эти добровольцы из числа женщин, учитывая ситуацию в «Астории», в которой, как и в других гостиницах Петрограда, происходили бесконечные забастовки официантов, горничных и поваров (одна из них, например, была объявлена 30 июня), приходили в гостиницу, чтобы навести порядок в номере Панкхерст, обеспечить ее чаем и продуктами питания. Невзирая на все превратности жизни в революционном Петрограде, Панкхерст сохранила свою неподражаемую манеру держаться по-королевски. По выражению Флоренс Харпер, на митинге, посвященном вопросу «как лучше всего добиться внимания русских работающих женщин и объяснить им смысл политики», который Эммелин Панкхерст организовала в «Астории», она выглядела «с головы до ног как вдовствующая королева воюющей стороны».
Флоренс Харпер не относилась к числу суфражисток, и хотя она не могла оказать содействия миссис Панкхерст, тем не менее она восхищалась ее несгибаемой решимостью, а также ее безусловно благими намерениями. Наряду с этим Харпер была уверена, что миссия Панкхерст была обречена на провал. Она совершенно не знала и не понимала жизни и менталитета русского рабочего класса, и особенно женщин. «Мы здесь годами вынуждены терпеть то, что англичанкам даже никогда и не снилось, – сказала как-то Харпер одна из русских женщин. – Так какое же право имеет миссис Панкхерст думать, что она может нас чему-то учить? Мы принимаем и ценим ее сочувствие, но на этом и точка. Пусть она едет домой и продолжает там агитировать за войну»{662}. Оставшееся в Петрограде время Эммелин Панкхерст провела, в основном обращаясь с поучениями к немногочисленным новообращенным в ее веру (то есть, по существу, ломилась в открытую дверь), а не воспламеняла революционными призывами широкие народные массы, как она на то надеялась.
К концу июня в Петрограде в результате летней жары появился неистребимый запах забитой канализации, усугублявшийся зловонием застойной воды в каналах города. Появилась масса мух, распространявших дизентерию и холеру. Во все общественные учреждения, в консульства и посольства были направлены предупреждения о том, что перед приемом в пищу свежих фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть в продезинфицированной воде. Флоренс Харпер, которая обожала свежую клубнику, было крайне трудно соблюдать эти правила, и она не могла устоять перед соблазном. Эммелин Панкхерст и Джесси Кенни пришли в ужас, увидев в один прекрасный день, как она ест немытую клубнику, но Флоренс в качестве защитной меры после этого приняла ударную дозу касторки. «У каждого из нас есть та или иная желудочная болезнь», – отмахнулась она{663}.
Продовольствия по-прежнему не хватало, что-либо безопасное для еды найти было все труднее, поэтому Флоренс Харпер ограничилась выбором «сухарей, икры и сардин» – это были дорогие, но необходимые излишества, чтобы чувствовать себя нормально. Продукты еще оставались в провинции, и ей удавалось получать мед и драгоценный сыр, которые контрабандным путем добывал один из ее английских приятелей. Но в самой «Астории» по утрам на вопросы Харпер о хлебе, молоке и масле чаще всего звучало угрюмое: «Нет!» Как правило, могли предложить лишь черный кофе, который Харпер пила с куском сахара из своих драгоценных запасов: «Я ревниво охраняла этот сахар, я очень тщательно его запрятала, это была единственная в моем номере вещь, всегда находившаяся под замком». Однажды вечером к ней приехал ее приятель, с мукой, сахаром – и беконом, то есть с тем самым, от чего сходят с ума все американцы. «Если бы он принес мне миллион рублей, я бы не встретила его с таким восторгом, – вспоминала она. – При одном только виде настоящего американского бекона я пришла в такое восхищение, что мы тут же решили устроить званый завтрак исключительно для того, чтобы съесть его»{664}.
Из-за нехватки продовольствия поесть где-нибудь вне гостиницы также было большой проблемой; поскольку продуктов в свободной торговле было совсем немного, кормить в ресторанах стали хуже, а цены при этом выросли. Даже ресторан «Донон», некогда любимое место старой элиты Российской империи и многих представителей диаспоры, теперь мог предложить лишь щи, или «рыбу, порция которой, как правило, была совершенно микроскопической, или иногда немного мяса, а также два листика салата (которые никто не брал, опасаясь дизентерии) и кубики льда». Такой царский обед стоил журналистам (таким, как Харпер) девять рублей (что по официальному курсу составляло 27 долларов). Можно было также заказать шампанское, но его бутылка обходилась в 100 рублей (то есть 300 долларов){665}.
Каждый, с кем довелось разговаривать Флоренс Харпер, был одержим темой еды. Иностранцы, застрявшие в Петрограде, скучали по своим любимым деликатесам тем сильнее, чем дольше они были вынуждены оставаться в российской столице, и подарок в виде какого-нибудь кулинарного лакомства был для них крупным событием. Единственная реальная возможность полакомиться чем-нибудь сто́ящим появлялась у них на каком-нибудь посольском приеме или званом вечере. Флоренс Харпер отметила, что в ходе визита в Петроград делегации Элиу Рута «представители американской колонии… совершенно бесстыдным образом напрашивались на обед или ужин к своим друзьям из состава делегации». «Не могу понять, на что вы, братцы, жалуетесь, – воскликнул как-то один из членов делегации Рута. – Мне уже несколько лет не доводилось так хорошо есть». Флоренс Харпер вспоминает, что за все девять месяцев ее пребывания в России она единственный раз смогла прилично поесть, когда была приглашена на прием в американское посольство на Фурштатской улице: «Только тогда у меня был настоящий белый хлеб и настоящее мороженое» (не подлежит сомнению то, что оба эти лакомства она получила благодаря настойчивости и изворотливости пронырливого Фила Джордана). Дэвид Фрэнсис, безусловно, делал все возможное, чтобы обеспечить граждан США различными вкусными продуктами, но даже он был вынужден в июле 1917 года написать своим коллегам по дипломатической работе: «Если вам вдруг доведется встретить того, кто доставит мне пятьдесят фунтов закусочного бекона, я был бы вам крайне признателен»{666}.
Некоторые небольшие чудеса, однако, все же еще случались на фоне общей тоски по вожделенным продуктам. Каждый день кондитер ресторана гостиницы «Астория» делал французское тесто (бог знает, где он исхитрялся доставать для этого муку), и «каждому постояльцу было разрешено приобретать два пирожных по сорок копеек каждое»; если Флоренс Харпер удавалось подкупить официанта, то она могла приобрести больше. Кроме того, вся американская диаспора знала, что около четырех часов дня в “Cafe Empire” можно было, если повезет, купить свежеиспеченные белые булочки и кофе с молоком. Это было не то место, где следовало появляться почтенным женщинам, но Флоренс Харпер все равно туда ходила, особенно тогда, когда накануне вечером у нее не было ничего поесть (что случалось достаточно часто). Однажды тем летом ей пришлось провести без еды тридцать часов{667}.
Многие мужчины-американцы скучали не только по своей любимой еде, но и по национальным видам спорта, причем настолько сильно, что, например, молодые клерки из Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка обратились в головное отделение банка в Нью-Йорке с просьбой прислать им «коробку с бейсбольными принадлежностями». Они организовали импровизированный матч в переулке между зданием своего банка и Мраморным дворцом, бывшим домом великого князя Константина. Полиция вскоре прогнала их оттуда, и они использовали для игры находившееся неподалеку Марсово поле. «Наши перебежки, броски и удары привлекли большую толпу солдат и гражданских лиц, – вспоминал Лейтон Роджерс. – Они подошли к нам так близко, что мы рисковали попасть в них, но они даже не подозревали об этом, пока одному мальчишке мяч, отбитый за лицевую линию, не угодил прямо между глаз». Роджерс был удивлен, услышав, как из толпы выкрикнули с американским акцентом: «Эй, парни, вы откуда?» Как оказалось, вопрос задал один русский, проживший пять лет в Бостоне, где он стал «фанатом «Ред Сокс»»{668}.
У сотрудников посольства США, однако, оставалось мало времени для отдыха. Дж. Батлер Райт и посол Фрэнсис были настолько заняты, что обсуждать различные посольские проблемы им удавалось лишь по дороге в Мурино (куда они иногда выезжали играть в гольф) и обратно{669}. На посольство навалилось столько работы, что его сотрудники просто физически не могли справиться с таким ее объемом. Райт писал в этой связи: «Комиссары, посетители, коммерческая реклама, железные дороги, выдача преступников, стоимость земельной собственности, военные приготовления, военно-морская статистика, финансы, паспорта, смягчение условий содержания заключенных, реклама кинематографии, мощность печатных станков, меблирование квартир и их ремонт, утраченные паспорта, цензура, перлюстрация почты, мощности причалов и портов, портовая пошлина, маячные суда, снабжение продовольствием, забастовки, деятельность угольной промышленности, курьеры для почтовых отправлений, трансокеанские кабели и т. д. и т. п. – вот из чего складывалась ежедневная работа нашего посольства в эти дни»{670}.
Необходимо также упомянуть о необходимости организации завтраков, обедов и ужинов для находившихся с визитом официальных представителей США, которые продолжали приезжать в Петроград после того, как железнодорожная делегация во главе с Джоном Ф. Стивенсом и делегация госдепартамента США во главе с Элиу Рутом ввели их в заблуждение относительно реальной ситуации в городе, вновь оказавшегося накануне возобновления беспорядков. «Даже самые безудержные оптимисты были вынуждены признать, что у Временного правительства весьма слабые позиции», – писала Флоренс Харпер в июне 1917 года. Большевики, находясь по-прежнему в меньшинстве и уступая по влиянию эсерам и меньшевикам, недавно, на Первом Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, устроили демонстрацию силы. На этом съезде Ленин выступил против продолжения войны, заявив, что она является «продолжением буржуазной политики», укоренившейся в империализме, и ничем больше{671} [79]. Однако его попытка поставить Керенского в безвыходное положение, после того как тот призвал предоставить ему полномочия начать новое наступление на фронте, не увенчалась успехом. Стремясь активизировать патриотические чувства, Керенский в мае совершил поездку по Юго-Западному фронту, где, используя свой ораторский дар, неоднократно выступал перед войсками с зажигательными речами. 16 июня он приказал начать массированный артиллерийский обстрел переднего края противника, а спустя два дня – наступление в Галиции. Это июньское наступление, получившее название «наступления Керенского», стало последним усилием Временного правительства добиться чего-либо.
В это время Лениным и большевиками в столице были организованы крупные антивоенные демонстрации. В конце июня членам делегации Элиу Рута посоветовали в интересах их собственной безопасности переехать в Финляндию. «Диаспора союзников в Петрограде была разочарована и крайне недовольна, – писала Флоренс Харпер. – Иностранцы, проживавшие в российской столице, знали, что, если бы только делегация пробыла здесь еще немного, она стала бы свидетелем массовых беспорядков, которые убедили бы ее в том, насколько слабым в действительности было Временное правительство»{672}.
Глава 11 «Что скажет диаспора, если мы сбежим отсюда?»
Во время Февральской революции Кронштадт, крепость на мрачном острове и военно-морская база в устье реки Невы в тридцати километрах от Петрограда, стал местом одной из самых кровавых и жутких расправ, когда 30 000 матросов, взбунтовавшись, убили адмирала и шестьдесят восемь офицеров, элиту Императорского флота. Считается, что эта жестокая оргия убийства стала местью за суровую дисциплину, принятую на царском флоте. С тех пор вооруженный захваченным во время беспорядков оружием Кронштадт стал военным оплотом революции, чем умело воспользовались большевики. Не считаясь с властью Временного правительства, революционные элементы захватили в Кронштадте корабли в доке и арсенал и создали свой собственный Совет, в котором преобладали большевики и который действовал совершенно самостоятельно, пока, наконец, в конце мая не перешел под контроль Петроградского Совета{673}. Кронштадт был опасным, беспокойным местом, из которого большевики рассчитывали в ближайшие дни получить основную поддержку; именно его Флоренс Харпер и Дональд Томпсон хотели как следует изучить.
В конце июня, когда они прибыли к этой запретной (по общему мнению) «крепости», их взору предстал лишь «остров весь в зеленом и белом», с красивым куполом собора, возвышавшегося над остальными строениями. Их предупредили, что, возможно, им не разрешат сойти на берег, однако «Томпсон просто улыбнулся» и сгрузился со своими камерами. Когда их остановили и поинтересовались, с какой целью они прибыли, он объяснил, что хотел бы «увидеть тех, кто делал в Кронштадте историю»{674}. Вместе с Харпер он прошел по мощеным улицам в штаб Совета, где они встретились с «товарищем Парчевским», большевистским комиссаром местной милиции. Польщенный тем, что Томпсон собирался «сделать кинокадры» Кронштадта, тот предоставил в их распоряжение два автомобиля и организовал им экскурсию в сопровождении нескольких большевиков-телохранителей сурового вида. «Они все выглядели, как настоящие бандиты, – вспоминала Харпер. – Они были грязными, небритыми, большинство – без воротничков». Как оказалось, воротничок считался признаком буржуа, «а в Кронштадте быть буржуа означало подписать себе смертный приговор»{675} [80].
В течение того дня, который Томпсон и Харпер провели в Кронштадте, их телохранители-революционеры позаботились о том, чтобы на каждом снимке оказываться в кадре. «О каждом доме с гордостью рассказывали как о месте какого-либо убийства», – вспоминала Харпер; их сопровождавшие излагали им отвратительные истории о «славной борьбе жителей Кронштадта за свободу»{676}. Она чувствовала себя крайне неуютно в компании «товарищей»: «Это весьма дискомфортно – быть империалистом в рассаднике социализма».
Томпсона, однако, этот опыт ничуть не испугал, и спустя пару дней он направился к особняку Кшесинской, чтобы попытаться увидеть Ленина. Он ждал два часа, и когда Ленин наконец появился, то попросил его «попозировать для фотографии». Когда Борис в качестве переводчика объяснил, что Томпсон из Америки, Ленин ответил, что «он не желает иметь ничего общего со мной и что нам лучше уехать из Петрограда»{677}. Был смысл прислушаться к этому предупреждению: Борис слышал разговоры о том, что на следующий день, 3 июля, могут возникнуть «проблемы с Лениным и бандой его головорезов». Активнее, чем когда-либо после возвращения большевистского лидера из эмиграции, ходили слухи о возможности второй революции или переворота. «Чувствуется что-то тревожное, затаенное, подспудно происходящее; это вроде бы и достаточно очевидно, однако для постороннего невозможно понять и описать это, что говорит о том, что весьма скоро нам следует ожидать каких-либо потрясений, – писала жена военно-морского атташе США Полин Кросли. – Мне известно о митингах, военной подготовке, агитации и создании запасов оружия, а это может означать только одно. И нигде «на митингах» ты не услышишь, когда же это случится». Она была уверена, что рано или поздно русские вновь начнут убивать друг друга{678}.
Она оказалась права: в начале июля, когда Ленин решил, что пришло время воспользоваться гибельной для Временного правительства слабостью, беспорядки возобновились. Используя в своих интересах недавний провал наступления русских войск в Галиции, в результате которого они понесли громадные потери, Ленин и большевики резко усилили антивоенную агитацию. Все началось 18 июня с организации массовой демонстрации, якобы в поддержку общественного единства. Хотя эта демонстрация носила мирный характер, она прошла под антиправительственными лозунгами. При попустительстве большевиков другие шествия и демонстрации, последовавшие за первой, быстро переросли в беспорядки и акты насилия, которые правительство, похоже, уже не могло контролировать. К началу июля позиции правительства еще больше ослабли после внезапной отставки четырех министров-кадетов (представителей Конституционно-демократической партии). Решение об этой отставке, объявленной в ночь со 2 на 3 июля, было принято в знак протеста против уступки правительства требованиям министров из числа меньшевиков и эсеров Центральной рады Украины по вопросу украинской автономии. Патриотически настроенные «кадеты» не могли согласиться с этим шагом, опасаясь, что это поощрит сепаратистские настроения других национальностей и приведет к расчленению России.
Большевики и анархисты воспользовались этим кризисом, спровоцировав акции протеста своих сторонников в Петроградском гарнизоне, на базе военно-морского флота в Кронштадте и среди агрессивно настроенных рабочих фабричных районов. Кроме того, в 10-тысячном 1-м пулеметном полку, который был размещен на Выборгской стороне, был пущен слух о том, что его должны были отправить на фронт, чтобы избавить столицу от воинской части, находившейся под сильным влиянием большевиков и распространявшей «смуту» в Петроградском гарнизоне (Ленин был намерен опереться на этот полк для выступлений против правительства). После двух дней активных митингов, воодушевляемых речами Троцкого и других революционных ораторов, солдаты пулеметного полка проголосовали за проведение в Петрограде вооруженной демонстрации, к которой присоединились и другие части гарнизона, в том числе Павловский полк{679}. Однако Центральный комитет большевиков недооценил, насколько трудно, однажды возбудив, удержать в дальнейшем под контролем эту неистовую толпу. Вспыхнувшие протесты вскоре превратились в огненный смерч, полыхавший по стране.
2 июля Рета Чайльд Дорр вернулась в Петроград, после того как две недели провела на Восточном фронте, – и узнала, что «большевики опять мутят народ». Выйдя на следующее утро за газетами и прогуливаясь по Невскому, она услышала ружейную пальбу, а затем и пулеметные очереди, после чего вниз по проспекту проехала колонна грузовиков с вооруженными людьми. Дональд Томпсон находился недалеко от пересечения Невского и Фонтанки, когда он попал под перекрестный огонь и бросился плашмя на землю. Он пролежал так некоторое время, как и многие другие гражданские, пока наконец не унес оттуда ноги, быстро, как «канзасский заяц»{680}. Периодические перестрелки происходили весь день, на улицах появлялись все новые грузовики, набитые вооруженными людьми, однако настоящие беды начались вечером 3 июля.
Мэриэл Бьюкенен переодевалась к обеду, когда она увидела, как несколько автомобилей и грузовиков, заполненных вооруженными солдатами с красными флагами, пронеслось мимо посольства. После обеда по мосту в город с грохотом проехало еще несколько машин, а за ними под руководством большевиков проследовала огромная толпа демонстрантов с заводских районов. Сэр Джордж и леди Джорджина намеревались вечером подышать свежим воздухом, прогуливаясь вдоль реки в открытой коляске, но заколебались. «Что-то должно случиться!» – предостерег сэр Джордж{681}. Тем не менее, верные своим размеренным английским привычкам, они решились поехать – и были вынуждены повернуть назад, поскольку весь Троицкий мост был запружен машинами. Вернувшись на набережную, они встретили на Суворовской площади напротив посольства плотные толпы рабочих с транспарантами, в которых прославлялась анархия и осуждались война, буржуазия и правящие классы. С Петроградской стороны продолжало прибывать все больше машин и рабочих.
К этому времени трамваи уже перестали ходить и по всему городу вооруженные солдаты останавливали частные автомобили, «выпроваживали из них владельцев и облепляли машины, словно саранча, втаскивая за собой пулеметы»{682}. Не избежали этой участи и дипломаты с иностранцами: большевики остановили на улице бельгийского посла Конрада де Бюиссерэ и конфисковали у него «Роллс-Ройс», был также конфискован и автомобиль, арендованный Дональдом Томпсоном (его шофер позже был убит){683}. У Нэлли Торнтон, жены одного из братьев-фабрикантов Торнтонов, был гораздо более печальный опыт общения с большевиками. Она отправилась в Петроград в кино с тремя маленькими девочками, когда «Роллс-Ройсу», на котором их везли, преградили дорогу «шесть грузовиков с пулеметами «Максим». Четверо мужчин запрыгнули в машину и заставили водителя приехать на заброшенный двор, где их окружили вооруженные люди. Нэлли решила, что они собирались изнасиловать или убить их. Она стала умолять мужчин не забирать машину, так как ей с перепуганными детьми пришлось бы добираться до дома двадцать километров. В конце концов солдаты отпустили их. «Зачем же вы сделали это?» – спросила у них Нэлли. «Чтобы показать вам, что у нас власть», – ответили они{684}.
В тот вечер на центральных улицах Петрограда было многолюдно. Многие собрались возле Таврического дворца, и офицер британской разведки Денис Гарстин, вышедший на улицу, «переходя от группы к группе, интересовался, чего же они хотят». Однако никто не смог дать ему четкого и ясного ответа, ему лишь выкрикивали массу лозунгов. «Никто ничего не знал. Напротив, все они сами хотели знать, зачем их собрали здесь с оружием и транспарантами и настроили их непонятно против чего». Гарстин заметил в толпе анархистских агитаторов, «мрачных людей в черных шляпах», которые пытались подстрекать собравшихся к насилию, а затем скрылись{685}. Учитывая тот факт, что на Невском проспекте собралось 10 000 человек или даже больше, неизбежно возникли перестрелки, за которыми последовали беспорядки и грабежи; особенно активно искали спиртное{686} [81]. Везде царил хаос; улицы «бурлили», переполненные людьми, которые вышли посмотреть, что происходит, – а их застала беспорядочная стрельба со всех сторон. «Все спрашивали друг у друга, что же случилось», – вспоминал Берти Стопфорд. «Была атмосфера паники», – писал американский журналист издания «Нью рипаблик» Эрнест Пул, который только что приехал в Петроград и оказался в гуще происходивших событий{687}.
Военно-морской атташе США Вальтер Кросли и его жена Полин сидели в гостиной своей квартиры на улице Кирочной, недалеко от Таврического дворца, когда раздался звонок в дверь и появился курьер, передавший им, что им необходимо «положить самые ценные вещи в небольшой пакет и быть готовыми через пять минут выехать в посольство». Когда Полин спросила почему, он попросил ее выглянуть в окно: «Там были они!!! Сотни вооруженных людей, выглядевших так ужасно, что мне трудно было себе и представить, шли по нашей улице! Слухи подтвердились: беда пришла к нам». Она бросилась упаковывать вещи, в то время как топот ног толпы «анархистов или ленинцев» (она не была уверена, кто именно это был) приближался. Угол, на котором располагался их дом, как она вспоминала, во время Февральской революции стал «кровавым местом». Когда они с мужем поспешно выходили из парадных дверей, улица «заполнилась опасного вида типами, и мы, уходя, были вынуждены столкнуться с ними лицом к лицу». Когда чета Кросли добралась до американского посольства, стали прибывать его сотрудники с сообщениями о боях в различных районах города. По их оценке, около 70 000 вооруженных рабочих и солдат «той ночью захватили город», используя в этих целях, в частности, войска на угнанных грузовиках и в частных автомобилях{688}.
Леди Мюриэл Пэджет из Англо-русского госпиталя в тот вечер ужинала во дворце князя Юсупова на Мойке, как «вдруг мы услышали стрельбу, крики и топот мчавшихся без седоков лошадей». В стены дворца стали попадать пули, и его хозяин для безопасности отвел своих гостей в столовую, находившуюся в подвале. Кто-то из Англо-русского госпиталя позвонил по телефону леди Мюриэл предупредить ее, чтобы она не пыталась вернуться сегодня, но она упорствовала. Берти Стопфорд, ужинавший с ними, вызвался проводить ее при условии, что она «будет помнить правила революции: во-первых, бросаться наземь, когда начинается перестрелка, и, во-вторых, прижиматься к стене, когда по улице идет толпа»{689}. Рискнув пробраться по переулкам, они увидели на Невском толпы людей, которые «спускались по проспекту под огнем солдат, переступая через тела погибших». Леди Мюриэл повернула за угол и обнаружила, что «прямо на нее смотрело дуло револьвера в руках у русского весьма свирепого вида. Я оттолкнула револьвер и, смеясь, прошла мимо солдата».
Однако вскоре после этого они попали в толпу, и их несло вместе с ней несколько кварталов. Наконец в четверть второго ночи они добрались до госпиталя и узнали, что сюда доставили много людей, раненных в перестрелках на Невском проспекте{690}. Возвращаясь по Невскому в свою гостиницу, Стопфорд видел еще раненых, которых уносили на носилках. Именно здесь Арно Дош-Флеро случайно оказался в гуще «самой ожесточенной стрельбы, которую я когда-либо видел», и, чтобы укрыться, бросился в канаву. Он обнаружил, что рядом с ним лежал русский офицер. «Я спросил у него, что происходит», – написал Арно Дош-Флеро в своей статье, отправленной в Нью-Йоркское издание «Уорлд» спустя три дня, на что этот человек ответил: «Русские, земеля, – это полные идиоты. Это белая ночь идиотизма»{691}.
Идиотизм и безумие действительно в тот день достигли такого уровня, что к позднему вечеру на улицах Петрограда, по словам новозеландского журналиста Гарольда Уильямса, начался «полный и бессмысленный хаос». Даже в это позднее время было жарко и душно, и по улицам «бесцельно бродили возбужденные толпы», разъезжали грузовики и автомобили, «заполненные оравшими солдатами»{692}. Толпы людей торчали на углу Литейного и Невского до поздней ночи. Власти пытались разогнать их: «Идите по домам. Товарищи, идите по домам. Уже есть пострадавшие». Но толпа оставалась на прежнем месте. «Это было странное зрелище, – писал Уильямс. – В сумерках на фоне бледного неба бесшумно двигалась масса людей; над бортами грузовиков мелькали силуэты ружей, штыков, фуражек и кепи; темнели фигуры солдат, пригнувшихся к гривам коней»{693}.
Эрнест Пул также оставался на улице до позднего вечера: «Толпы продолжали бродить, продолжались произноситься речи, продолжались низкий, нескончаемый гул и топот бесчисленных ног». Но было во всем этом и что-то новое. «Я не почувствовал энергии большой массы людей», – вспоминал он. Один из русских обратил его внимание на то, что ситуация сильно отличалась от Февральской революции: не было, как тогда, атмосферы волнения, аплодисментов, песен, рукопожатий. «Посмотри на эти толпы. Они вышли только для того, чтобы посмотреть, что произойдет. Теперь они уже нагулялись и собираются разойтись по домам»{694}. Когда Невский проспект опустел, остались лишь кареты «Скорой помощи», забиравшие последних убитых и раненых, да еще слонялись солдаты – некоторые жадно пили прямо из водных гидрантов, «другие же сидели рядами на бордюрах и разговаривали низкими голосами, многие курили папиросы»{695}.
Вторник, 4 июля, выдался серым и тяжелым. По мере наступления дня воздух стал удушливо горячим, жара – томительной. Вновь стали собираться толпы «в ожидании событий». Как записал Луи де Робьен, атмосфера на улице «напоминала первые дни революции»{696}.
Бесси Битти, вернувшись в то утро из поездки на фронт и выйдя из Николаевского вокзала, также почувствовала резкое изменение общей атмосферы. «Обстановка накалялась, и Невский проспект в этот час странно отличался от того, с которым я рассталась. Оказаться на Невском в это утро было все равно что открыть телеграмму, – вспоминала она. – Я никогда не могла быть совершенно уверена в том, что меня могло ожидать, но первое ощущение всегда было правдивым. Невский был барометром революции. Когда город Петра жил спокойной, нормальной жизнью, вымощенный деревянными торцами проспект подтверждал это. Когда же революционные страсти накалялись, это отчетливо ощущалось по настроению жителей столицы»{697}.
На этот раз атмосфера была зловещей. Ни трамваев, ни извозчиков, ставни на магазинах плотно закрыты. «В Гостином Дворе зеркальные витрины заколачивали досками», Бесси Битти заметила в этих витринах свежие отверстия от пуль. Это был верный признак того, что «власть в свои руки в городе брали большевики»{698}. И действительно, тем утром, когда в столицу из Кронштадта на баржах, буксирах и пароходах прибыло несколько тысяч «зловеще выглядевших» матросов, количество демонстрантов, протестовавших под руководством большевиков, существенно увеличилось. С появлением воинственно настроенных, до зубов вооруженных кронштадтцев с «перевернутыми ленточками бескозырок, чтобы [нельзя было] определить, с какого они корабля», уличные демонстрации стали еще более агрессивными. На грузовиках теперь были установлены пулеметы, из которых открывали огонь по толпе и по людям (которые в страхе «разбегались» при одном только виде матросов) без всякого разбора, хаотично, во все стороны{699} [82]. Однако, как и накануне, чувствовалось недостаточное взаимодействие и слабое руководство. Как отметил Гарольд Уильямс, складывалось впечатление, что никто не знал, кто на чьей стороне, «и сами демонстранты – меньше всего»{700}. Беспорядки были сумбурными, стихийными, среди неуправляемой толпы бегали вооруженные люди, которые палили в разные стороны зачастую просто от испуга, а затем, просто из мести, избивали тех, кто пытался убежать.
По словам Луи де Робьена, к обеду на Литейном проспекте обстановка стала «очень напряженной», такая была «в скверные дни» февраля; атмосфера еще больше накалилась с появлением матросов из Кронштадта. «На улице среди обломков штукатурки, отвалившейся от стен в результате стрельбы, валялись бескозырки и гильзы», – вспоминал Луи де Робьен. Везде, где он был в тот день после обеда, он видел группы «мрачных расхристанных мужчин с винтовками за спиной, в руках или же под мышкой, словно они были на стрельбище». Этот сброд был совершенно неорганизованным: «они лениво волочили ноги», «приставали к женщинам» и не желали подчиняться какой-либо дисциплине.
Гарольд Уильямс наблюдал «бесконечные колонны», проходившие по Троицкому мосту. «Я не заметил особого энтузиазма, – вспоминал он. – Большинство солдат выглядели довольно уставшими и вялыми, и ни один из них не мог вразумительно объяснить, зачем они идут на демонстрацию»{701}. Когда эта толпа проходила мимо британского посольства, как вспоминала леди Джорджина Бьюкенен, «грубо выглядевшие мужики с винтовками подошли к окнам и велели нам закрыть их». Таким образом, семья Бьюкененов была вынуждена весь день «сидеть в закрытых помещениях, умирая от жары», при этом сэр Бьюкенен отклонил предложение Временного правительства предоставить им безопасное убежище{702}. Мэриэл Бьюкенен видела, как «три тысячи ужасных Кронштадтских матросов» шли к Марсовому полю, направляясь на Невский. «Глядя на них, каждый невольно задавался вопросом, какой была бы судьба Петрограда, если бы город отдали на милость этим жестоким негодяям с небритыми лицами и небрежной походкой»{703}.
Около двух часов дня на Невском начались ожесточенные перестрелки, после того как матросы «захватили пулеметы и прошили очередями весь проспект, убив и ранив более ста совершенно невинных гражданских лиц». К этому времени Невский весь «почернел от заполнивших его людей», низкий несмолкавший гул тысяч тяжелых шагов переплетался с ружейными выстрелами и пулеметными очередями{704}. Бесси Битти тоже находилась там, в ужасе наблюдая за происходившим и задаваясь вопросом, неужели сбывается то самое, передававшееся лихорадочным шепотом пророчество, которое она не раз уже слышала здесь: «Улицы Петрограда наполнятся реками крови»{705}. К вечеру ситуация еще больше обострилась. Как записал в своем дневнике Дж. Батлер Райт, около американского посольства на Фурштатской улице «бродила крайне опасная толпа, какую мне когда-либо доводилось видеть: полупьяные матросы, взбунтовавшиеся солдаты и гражданские с оружием; они шатались по нашей улице, угрожая людям в окна, и, не скрываясь, пили прямо из бутылок»{706}.
Лейтон Роджерс и его коллега, выпускник Принстонского университета Фред Сайкс, допоздна засиделись за работой в Петроградском филиале Государственного муниципального банка Нью-Йорка, когда внезапно снаружи раздался грохот лошадиных копыт. Они «выглянули с балкона и увидели проскакавший мимо галопом отряд казаков численностью около двухсот человек с тремя легкими полевыми пушками; их возглавляли офицеры, выкрикивавшие команды и размахивающие шашками»{707}. Это было захватывающее зрелище, однако американцы понимали, что уж если правительство вызвало на помощь казаков[83], значит, проблема была серьезной. Они решили отправиться домой, «пока еще можно было добраться». Над головой сгустились темные грозовые тучи, собирался дождь. Они забеспокоились за судьбу драгоценных трех килограммов сахара, которые им только что удалось получить в банке от русского повара: сахар был в бумажном пакете и мог размокнуть под дождем. Ради безопасности они решили направиться домой через открытое Марсово поле, «где мы могли видеть все, что происходит». Однако едва они прошли пятьдесят метров, как вдруг услышали треск ружейных выстрелов, и «несколько пуль прожужжали над нашими головами; затем в воздухе раздался залп, и нас обдало пылью».
Там, где они оказались, вместе со своим драгоценным пакетом сахара, укрыться можно было лишь «за временной оградой вокруг братской могилы героев революции». После очередного залпа они стремглав бросились туда, причем «Фред держал пакет сахара перед собой, словно мы гнались за ним». «Бах!» – раздался выстрел одного из полевых орудий за Летним садом, и мы плюхнулись в пыль за оградой. Фред по-прежнему берег сахар, как бриллианты. В конце концов им удалось выбраться из своего убежища рядом с могилой, после того как над их головой прогремел гром и начался дождь. Они благополучно добрались домой (вместе с сахаром), отметив, насколько быстро дождь очищал улицы от людей. «Интересно, может быть, один или два шланга с водой в этих уличных стычках будут более эффективными, чем потоки свинца», – размышлял Роджерс немного погодя в своем дневнике{708}.
В британском посольстве все были на ужине, когда вбежавший привратник сообщил им, что через близлежащую площадь Суворова на Дворцовой набережной скачут казаки. Сотрудники посольства бросились к большим окнам в кабинете сэра Джорджа, выходившим на площадь, и увидели, как через площадь и по набережной, по обеим ее сторонам, бежала толпа кронштадтских матросов, а «за ними, взметая облако пыли на Марсовом поле, мчались казаки; некоторые из них стояли в стременах, стреляя по бегущим, другие размахивали шашками или пригнулись в седлах, держа наизготовку длинные пики»{709}. Как только они скрылись с глаз, раздался оглушительный залп, а затем громкий звук выстрела пушки, и «спустя мгновение мимо промчались три или четыре лошади без всадников». Судя по всему, отряд казаков, который Роджерс и Сайкс видели на набережной, наткнулся на засаду демонстрантов возле Литейного моста и «галопом проследовал на Литейный проспект», где был встречен большевиками на импровизированной баррикаде. На ней были установлены пулеметы, и казаков стали поливать свинцом. Бесси Битти, оказавшаяся там, в ужасе наблюдала, как казаки «резко повернули лошадей в попытке ускакать, но полдюжины из них были скошены пулеметными очередями»{710}. Перепуганные лошади без всадников галопом понеслись вниз по улице.
Фил Джордан в это время спешил с соседней Фурштатской улицы и тоже видел эту сцену, после чего он взволнованно написал госпоже Фрэнсис в Сент-Луис: «Ужасный бой между казаками и солдатами буквально в квартале от посольства. Казаки, как вы знаете, всегда сражаются верхом. Они атаковали солдат, стоявших посреди улицы с пулеметами и пушками. Это была бойня! Через 30 минут боя [я] насчитал в половине квартала 28 мертвых лошадей. Когда казаки пошли вперед, солдаты стали стрелять из пулеметов, и вы бы только видели, как повсюду падали люди и лошади!»{711}
Через полчаса, когда американский посол Дэвид Фрэнсис под проливным дождем посетил место боя, «вся улица была, в буквальном смысле этого слова, обагрена кровью», «тела были разбросаны по четырем кварталам». Луи де Робьен позже тем вечером также отважился выйти из своего посольства – и увидел «душераздирающую сцену»: «мертвые лошади, тугие шкуры которых блестели от только что прошедшего ливня, лежали на мокрой мостовой между лужами, окрашенными в красный цвет». Луи де Робьен на отрезке между Шпалерной и Сергиевской улицами насчитал двенадцать лошадей, но ниже к Невскому проспекту лежали еще и другие. Вокруг них уже толпился народ, торопясь снять с них уздечки и седла{712}. В тот же день было убито около тридцати лошадей и десять казаков. Один казак угрюмого вида сказал Лейтону Роджерсу: «Люди будут еще, но такие лошади – больше уже нет». Другой журналист видел, как крупный, крепкий извозчик плакал над мертвыми лошадьми: «Он не мог вынести вида 12 погибших хороших лошадей, это было слишком для его сердца»{713}. Официальные данные, опубликованные Центральным исполнительным комитетом Советов, говорили о четырехстах жертвах тех июльских дней, однако, по сведениям Центрального пункта первой медицинской помощи, в Петрограде пострадало свыше семисот человек, газета «Новое время» от 6 июля утверждала, что только 2 и 3 июля в ходе беспорядков было убито более тысячи{714} [84].
Как написала леди Джорджина Бьюкенен своей семье в Англии, в тот вечер «мы пошли спать, задаваясь вопросом, что произойдет в следующий раз… Всю ночь стреляли, поэтому уснуть было почти невозможно»{715}. Она была рада, что могла спокойно лежать, укрывшись, в своей постели, однако когда рядом с американским посольством около полуночи вновь принялись стрелять пулеметы и грохотать пушки, неугомонный Фил Джордан «выскочил из постели и бросился к [Дворцовому] мосту у Зимнего дворца», чтобы посмотреть, что происходит.
Он увидел (по его словам) следующее: «Большевики стали перебираться на эту Сторону города, а Солдаты ждали их у опоры моста. И как те были где-то посреди моста, солдаты запалили из Пулеметов и пушек. Это было то еще Зрелище! НЕБО все было просто как фейерверк, какого еще никто Никогда не видал. Тут как, как Революция или какой-там бой, надо сразу на Живот ложиться. И я так и лежал за парнем, а тот все палил из Пулемета»{716}.
Позже, надиктовывая свою собственную версию событий для письма Джейн и размышляя о том, когда он сможет вернуться домой, Фрэнсис отметил, что Фил надеялся на то, что они задержатся подольше; Фил выразился на эту тему следующим образом: «У нас сейчас здесь так много революций, что это для нас слишком интересно, чтобы думать об отъезде»{717}.
Яростный ливень, хлеставший всю ночь, не позволял выйти на улицу, та же картина была и всю среду, 5 июля. Магазины были закрыты, трамваи не ходили, на улице маячили лишь отдельные извозчики. Берти Стопфорд слышал, что все мосты должны были развести, чтобы изолировать очаги революционных волнений на Выборгской и Петроградской сторонах. Он получил достоверную информацию о том, что с большевиками сегодня ночью должны были «разделаться»: правительство было полно решимости взять ситуацию под контроль с помощью войск, вызванных с фронта Керенским, который также должен был вернуться в Петроград{718}. Все надеялись, что он сможет спасти город от катастрофы. В то же время большевики удерживали в своих руках Петропавловскую крепость и руководили действиями (если только у них был какой-либо единый план действий) из своего штаба в особняке Кшесинской.
Площадь перед Зимним дворцом превратилась в военный лагерь с броневиками, артиллерией и машинами «Скорой помощи» Красного Креста, выстроившимися перед расположенным неподалеку Военным министерством. На каждом углу были выставлены посты, которые останавливали автомобили и опрашивали водителей. Мэриэл Бьюкенен слышала, как на Суворовской площади весь день размещались войска и устанавливались пулеметы. Бьюкененов продолжали убеждать в интересах их собственной безопасности покинуть столицу, но, как писала леди Джорджина, «естественно, мы не могли и не должны были этого делать», поскольку это послужило бы плохим примером; и, наконец, «что скажет диаспора, что если сбежим отсюда?»{719} Однако в шесть утра 6 июля их разбудили и попросили спуститься во флигель в том, в чем есть (в тапочках и халатах), в готовности в любой момент покинуть дом. Правительственным войскам было приказано захватить как крепость, так и особняк Кшесинской, находившийся на другом берегу реки. Британское посольство располагалось на линии огня, поэтому боялись, что большевики могут направить крупнокалиберные орудия крепости прямо на него. Сэр Джордж, однако, не стал спешить. «Я бы хотел, – устало вздохнул «Старик», – чтобы они это не-а-много отложили», – после чего он «повернулся на другой бок и снова погрузился в сон»{720}.
Когда сэр Джордж наконец вышел из спальни, он отказался покидать посольство. «Весьма вам признателен, но моя жена и дочь хотели бы посмотреть на это», – настаивал он. Когда встревоженный Берти Стопфорд, услышав о предстоящем штурме крепости, примчался в посольство, он обнаружил посла «на балконе в окружении своих секретарей (вместо того чтобы сидеть в подвале, как всем было велено), с жадным интересом наблюдавшего за тем, как солдаты по-пластунски преодолевали Троицкий мост». Сэр Джордж позже записал, что он провел «восхитительное утро», следя за происходившим где-то до часа дня. Леди Джорджина, избравшая в качестве наблюдательного пункта угол гостиной, также нашла все это довольно захватывающим: «Можно было и в самом деле представить себе, будто находишься в окопе на переднем крае»{721}.
Лейтон Роджерс видел, как прибыло первое подкрепление, «самокатный полк» с фронта (его вызвали с Двинска), который должен был принять участие в штурме Петропавловской крепости. Лейтон Роджерс отметил, что эти войска разительно отличались от утративших дисциплину и распущенных войск городского гарнизона:
«То, что это были опытные, закаленные бойцы, сразу было видно по их суровым загорелым лицам, по их бывшему в деле вооружению и снаряжению, полностью готовому к использованию, вплоть до полевых кухонь и повозок с сеном для везущих их лошадей. Медленно, удерживая передние колеса своих повозок на одной линии, они проехали по набережной и свернули на [Литейный] мост. Они готовились к штурму методично, деловито. Это была странная картина: солдаты, совершенно спокойно готовившиеся к убийству, мрачная крепость, над которой в теплых летних струях слегка покачивалось красное полотнище флага, ряды пушек, нацеленных через невозмутимую Неву»{722}.
Как оказалось, кроме демонстрации силы, от правительства больше ничего не потребовалось: примерно в 11.30 особняк Кшесинской сдался без боя, и около тридцати сторонников Ленина были арестованы (сам Ленин укрылся на конспиративной квартире). Вскоре после часа дня сдалась и Петропавловская крепость. Дональд Томпсон находился вместе с правительственными войсками, когда они вошли в особняк Кшесинской. Было обнаружено, что на его территории хранились, в частности, запасы оружия и транспортные средства: «семьдесят совершенно новых пулеметов, большое количество продовольствия и вооружения, во дворе стояло много реквизированных автомобилей». Позже в тот день Дональду Томпсону показали «много документов, которые назвали важными», поскольку «они неопровержимо свидетельствовали о связях Ленина с немцами»{723}. Именно теперь Временное правительство достало свой единственный козырь. Документы, найденные в штабе Ленина, подтверждали, что большевики финансировались германским генштабом. В то время, когда российское общество испытывало острую ненависть к немцам как к своему врагу, такие доказательства стали политическим динамитом. Это заявление было тут же опубликовано в вечерней газете «Живое слово», а об отдельных конкретных деталях было сообщено во взбунтовавшиеся полки Петроградского гарнизона. Эта новость изменила расстановку политических сил не в пользу большевиков и заставила колеблющихся перейти на сторону Временного правительства.
В дни «июльского кризиса», как стал называться этот период, Дональд Томпсон был на улицах города со своей камерой и штативом. Иногда он ходил пешком, но чаще разъезжал в арендованном автомобиле с «камерой, пугающе высовывавшейся сзади» и, по выражению Флоренс Харпер, «весьма смахивавшей на новый вид какого-то оружия». «Это смотрелось так устрашающе, что позволяло нам совершенно свободно разъезжать по Невскому проспекту». С безрассудной легкостью Томпсон при любой возможности устанавливал камеру «и принимался крутить ручку аппарата»[85]. Позже в тот вечер он стал свидетелем сцены, которая невольно напомнила дикое варварство толпы во время Февральской революции (она не попала на пленку). Около Таврического дворца он увидел, как три революционера, одетые, как матросы, открыли из автомобиля стрельбу по группе офицеров, стоявших на ступеньках здания, после чего набрали скорость и поехали прочь, однако вскоре были остановлены грузовиком, перекрывшим дорогу. Собравшаяся толпа вытащила их из машины и тут же расправилась с ними. Томпсон еще никогда не видел такой жестокости: «их подвесили к поперечине телеграфного столба, не связывая им рук, на расстоянии около метра от земли. Трое несчастных, вися, пытались ухватиться друг за друга, но толпа била им по рукам, и они медленно задохнулись». Вряд ли это была самая отрадная история, которой Томпсон мог завершить письмо своей жене Дот, ждавшей его дома, в Канзасе{724}.
Когда напряженность несколько спала, Артур Рэнсом в вечерней телеграмме своей газете кратко и драматично подвел итог недавнему хаосу: «Ничто не может быть печальнее событий последних нескольких дней тчк солдаты выведенные на улицы агитаторами под различными предлогами совершенно не понимали что происходит тчк… весь город включая солдат был крайне возбужден тчк любой выстрел где-либо провоцировал стрельбу в результате чего страдали невинные люди которые становились жертвами паники других людей тчк… у демонстрантов не было никакой четкой цели и они ничего не добились тчк целые сутки город практически находился в их распоряжении и абсолютно ничего не было сделано… было множество убитых раненых и все совершенно зря тчк многим демонстрантам это становится ясно тчк… не может быть и речи о каком-либо революционном порыве тчк растерянный простой народ движимый противоречивой агитацией»{725}.
«Петроград сейчас стих, – писал Гарольд Уильямс в своем сообщении изданию «Нью-Йорк таймс», – но после этой безумной и нелепой авантюры осталось тяжелое и горькое чувство унижения и позора. Как такое можно было допустить? Почему этого нельзя было пресечь в самом начале?» Он был потрясен бесчестным и трусливым поведением «ленинских злодеев», которые «преступной агитацией» спровоцировали «эти невежественные массы» на насилие{726}.
Керенский был в ярости оттого, что правительство оказалось не в состоянии взять ситуацию под контроль, в то время как он выезжал на фронт. Он твердо рассчитывал на то, что правительственная реформа 7 июля, в результате которой Керенский сменил деморализованного князя Львова на посту министра-председателя, обеспечит ему «диктаторские полномочия для того, чтобы вернуть в армию дисциплину». Он потребовал создания новой системы военного управления, которая бы исключила «всякое вмешательство со стороны солдатских комитетов»{727}. Сохранив за собой пост военного и морского министра, Керенский назначил новым Верховным главнокомандующим генерала Корнилова, который сразу же призвал к восстановлению военно-полевых судов и смертной казни за дезертирство. Мятежные части Петроградского гарнизона были расформированы и в качестве наказания направлены на фронт. Кронштадтские матросы были разоружены и возвращены на свою базу; правительству, к сожалению, не хватило воли или власти наказать их.
Проснувшись 7 июля, питерцы обнаружили, что, «по крайней мере, на какое-то время власть большевиков была низвергнута»{728}. Были выданы ордеры на арест Ленина, Троцкого и других большевистских руководителей. Троцкого схватили довольно быстро, но Ленин смог ускользнуть от облавы. Проведя несколько дней на конспиративной квартире в Петрограде, он перебрался на север, к озеру Разлив, где прятался в шалаше, после чего спустя некоторое время, сбрив бороду и надев парик и одежду рабочего, бежал в Хельсинки. «Этот Ленин, который бежал…и его единомышленник, Троцкий, который несколько месяцев назад работал в Нью-Йорке официантом в забегаловке, сделали больше, чтобы погубить Россию, чем любые другие два человека, которых я знаю в истории, – писал своей жене Дональд Томпсон. – Думаю, что Керенскому остается только поймать этих двух и посадить их. Если бы у меня была такая возможность, я бы очень гордился, пристрелив их обоих». Посол Фрэнсис, редко позволявший себе резкие высказывания, на сей раз не сомневался в том, что правительство продемонстрировало свою несостоятельность и провалилось, не сумев, проявив власть, арестовать Ленина, Троцкого и других большевистских лидеров, судить их за измену и казнить. Позже он писал, что если бы оно сделало это в июле, то «Россия, вероятно, была бы избавлена от еще одной революции»{729}.
Через десять дней после боя на Литейном проспекте была организована торжественная панихида по семи из двадцати казаков, погибших в уличных беспорядках{730}. В отличие от светских похорон жертв Февральской революции, церемония, состоявшаяся 15 июля, была организована в полном соответствии с православными традициями, что, как выразился один из англичан, явилось своего рода «упреком» в адрес социалистов, которые провели захоронение на Марсовом поле без религиозных обрядов. Судя по всему, некоторые родственники жертв, похороненных там, впоследствии в частном порядке заплатили за то, чтобы над могилами был проведен обряд. По мнению Эрнеста Пула, Керенский, любивший драматизм и охотно эксплуатирующий общественные настроения, хотел превратить эти похороны в коллективное театрализованное представление, торжественно заявив, что казаки-герои должны быть «похоронены там, где покоятся великие русские князья»{731}.
14 июля в пять часов дня погибших в сопровождении почетного казачьего караула, несшего на своих пиках черные знамена, доставили в Исаакиевский собор, где они торжественно лежали в гробах, покрытых серебряным саваном. Все в цветах, в окружении горящих свеч, гробы стояли в окружении «лазуритовых и малахитовых колонн» на катафалках, которые в знак уважения к погибшим были высоко подняты перед «царскими вратами» иконостаса. Всю ночь в собор приходил бесконечный поток скорбящих: «казаков, солдат, матросов, медицинских сестер Красного Креста, священников, татар, грузин, черкесов, мелькали одежды и мундиры сотен видов и расцветок»{732}. Как вспоминал Эрнест Пул, в соборе было настолько темно, что «были видны лишь двигавшиеся вокруг вас человеческие тени…однако вы отчетливо слышали медленные шаги тысяч ног по мощеному полу».
На следующий день после долгой и пышной панихиды – множество переливавшихся на свету икон и крестов, ладан и двести певчих («триумфальная симфония горя», как выразилась Рета Чайльд Дорр) – похоронная процессия покинула собор{733}. Снаружи ее ожидала громадная толпа, собравшаяся на площади и на прилегающих улицах; многие плакали и несли черные траурные флаги. На этот раз не было видно никаких красных революционных стягов. Пока гробы везли для захоронения «на богато украшенных балдахинами катафалках, запряженных вороными лошадьми», в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру на дальней оконечности Невского проспекта, играли многочисленные оркестры, на пути похоронной процессии выстроились ряды конных казаков, их лошади «стояли, не шелохнувшись»{734}.
«Что ж, по крайней мере, их похоронили не как собак, не как наших», – заметила одна из женщин в толпе, сожалея о том, что для жертв Февральской революции не было проведено религиозного обряда{735}. Луи де Робьен увидел в процессии родителей некоторых погибших казаков, простых крестьян с Урала или Кавказа. Они проделали весь этот путь, чтобы пройти за гробами своих сыновей. По казачьей традиции, за кортежем следовали лошади погибших, без седоков, со стременами, переброшенными через пустые седла. Луи де Робьен заметил, что одна из лошадей была серьезно ранена; она шла, «горестно прихрамывая, позади гроба своего хозяина». На другой лошади «в седло был посажен сын убитого, маленький казак лет десяти»{736}.
Фил Джордан, никогда не пропускавший подобных зрелищ, был охвачен благоговением. «Пресса Сказала более Миллиона человек… думаю такая толпа и все напуганы до полусмерти. Кажый раз когда бил большой барабан все Дрожали», – рассказывал он Джейн Фрэнсис{737}. Рета Чайльд Дорр усмотрела в этой церемонии «лучик надежды», поскольку, по ее мнению, она была организована для того, чтобы продемонстрировать намерение правительства Керенского приструнить Советы и предостеречь радикалов. «Случайный наблюдатель в Петрограде сказал бы, что революционные волнения ушли в прошлое, – писала Бесси Битти после похорон казаков, – что наступило время порядка. Однако случайному наблюдателю не дано было понять истинной глубины течений происходивших событий». Для тридцатилетней Бесси Битти, убежденной социалистки, которая освещала забастовки шахтеров в Неваде, «июльский кризис» был «только началом классовой борьбы в ходе революции»{738}.
В день похорон казаков Александр Керенский впервые появился на публике в качестве министра-председателя правительства. Когда последний гроб вынесли из Исаакиевского собора, он примчался на «лимузине», во френче цвета хаки и обмотках. Его встретили «мощным ревом», все ринулись вперед, выкрикивая его имя. Он выступил с короткой речью на ступенях собора, затем «сделал знак толпе, чтобы та замолчала и успокоилась», и, опустив непокрытую голову, пошел за похоронной процессией. «Если он не почувствовал настоящего триумфа от такого приема, он не человек», – отметила Рета Чайльд Дорр. Эрнест Пул обратил внимание на харизматическую власть Керенского над окружающими: «В тот день правительство, казалось, воплотилось в нем одном». В первые недели после «июльского кризиса» все иностранные визитеры, приезжавшие в Петроград, желали непременно встретиться именно с новым министром-председателем{739}.
Однако встретиться с ним было чрезвычайно трудно, поскольку, по словам Джесси Кенни, «он позволил себе быть доступным для любого». Джесси слышала, что министры Керенского пытались «уберечь его, чтобы он не разбрасывался». 21 июля она и Эммелин Панкхерст были наконец приглашены в Зимний дворец для встречи с ним. «Говорят, он хочет стать вторым Наполеоном», – отметила Кенни в своем дневнике за несколько дней до этого. Когда они в то утро прибыли во дворец, Керенский, казалось, полностью вошел в эту роль: он, словно по команде, принимал соответствующие позы, сидел за столом бывшего царя, «заложив большой палец одной руки за отворот». «Я задалась вопросом, не было ли это подражанием наполеоновскому жесту»{740}. Керенский усадил Эммелин Панкхерст у камина, где они беседовали на французском языке (переводчик иногда по просьбе Керенского повторял отдельные фразы на русском). Кенни отметила воодушевление, с которым он говорил, однако, по ее словам, «у меня не сложилось впечатления о нем как о человеке, который полностью посвятил себя служению только одной идее и был ей безоговорочно предан, как, например, Ленин…или Плеханов, или госпожа Панкхерст. Он был прекрасным адвокатом, энтузиастом, великолепным оратором, но он не замкнулся только в этом, у него не было той сдержанности и самоограничения, которые были у других. В нем чувствовалась некоторая неуверенность, «гамлетизм», он мог поддаться страсти, каким-то настроениям… Совершенно очевидно, что он не был соперником Ленину, не знающему усталости явному лидеру, который на своем пути был готов без всякой жалости смести всех и вся».
В целом, Джесси Кенни нашла Керенского достаточно властным руководителем и отметила его антипатию по отношению к Эммелин Панкхерст. Она предположила, что ему было завидно, что так много людей хотели встретиться с ней. Перед тем как они расстались, он указал на богато украшенную серебряную чернильницу и гусиное перо на своем столе и зловеще произнес: «Царь подписывал документы этим пером»{741}.
Джесси Кенни пришла к выводу, что Керенский оказался в ловушке между многочисленными противоборствующими политическими силами и лавировать между ними оказалось непосильной задачей для него. Как считала Рета Чайльд Дорр, его личного обаяния, безусловно, было вполне достаточно для того, чтобы занимать пост премьер-министра, однако даже он не был в состоянии «взять за шкирку эту огромную, неорганизованную, необразованную, разболтанную, мятущуюся русскую толпу и заставить ее внять доводам рассудка»{742}. Соотечественница Реты Чайльд Дорр, княгиня Кантакузина-Сперанская, придерживалась той же точки зрения. По ее мнению, после «июльского кризиса» Керенский, «похоже, утратил контроль над ситуацией» – то ли из-за плохого состояния здоровья, то ли из-за чрезмерного напряжения сил в результате навалившихся на него многочисленных обязанностей. Она заметила, что его прежний образ «человека из народа», который был создан в первые дни революции, образ человека, которому доверяли за его честность и патриотизм, исчез. Теперь, когда он жил в Зимнем дворце в покоях Александра III, «спал в постели императора, пользовался его столом и его автомобилями, давал аудиенции со всеми формальностями и церемониалом», он, похоже, утратил связь с народом, стал напыщенным и велеречивым. Как и Джесси Кенни, она увидела в нем «человека, который изо всех сил стремился сохранить свою популярность, идя при этом на нелегкие компромиссы»{743}.
Полин Кросли 13 июля написала, что Керенский «стремительно носится с тыла на фронт, с одного фронта на другой, выступает со страстными речами – однако все продолжает рушиться». Она сомневалась, что он сумеет все восстановить: «Мои русские друзья уверяют, что на какое-то время все «нормализуется» (то есть придет в обычное хаотическое состояние) – но лишь до момента, пока анархисты не предпримут еще одной серьезной попытки завершить начатое дело; что теперь им известно, как легко захватить город, и что в следующий раз, захватив его, они уже смогут его удержать»{744}.
Находясь в этом состоянии, в состоянии предчувствия беды, Петроград в конце июля 1917 года был в постоянном движении и напоминал вооруженный лагерь. С падением старого режима в феврале 1917 года этот город (который по своим размерам составлял половину Нью-Йорка) остался без какой-либо организованной защиты в виде полиции, взамен которой была поспешно создана милиция{745} [86]. Несмотря на то что беспорядки на время были подавлены, Петроград не чувствовал себя безопаснее, чем ранее, и слухи о предстоящих бедах, «упорные и многообразные», продолжали циркулировать по городу. «Российским обществом овладело любопытное умонастроение, – вспоминал в конце лета 1917 года Виллем Аудендейк, – а именно: не ожидать больше ничего хорошего, ни на что не надеяться, молчаливо и покорно соглашаться с тем, что следующий день может откуда угодно принести всевозможные несчастья». Как писала Рета Чайльд Дорр, правительство (в том виде, в каком оно было) продолжало существовать «лишь по воле толпы»{746}.
Однако большевистское руководство также было в смятении, обнаружив, что в июле оно оказалось не в состоянии реагировать на быстро менявшуюся обстановку. В этой ситуации Ленин не смог решить, следовало ли возглавить массы для организации второй революции, сочтя за лучшее занять выжидательную позицию (по существу, он предпочел тактику «поживем – увидим»), точно так же поступил и Центральный комитет Петроградского Совета. Революционные лидеры в Петрограде (равно как и все остальные) не были уверены, чем именно могли завершиться массовые демонстрации: пролетарской революцией или же государственным переворотом. А после того как по большевикам был нанесен сокрушительный удар обнародованием сведений о том, что они финансировались немцами, они были вынуждены отступить. Но надолго ли?
В том месяце обострилась ситуация и на фронте: русская армия продолжала терпеть серьезные неудачи, в числе которых были сдача двух армейских корпусов и крупное поражение в Тернополе; были также потеряны большие территории в Галиции и на Буковине. По состоянию на 22 июля русские войска численностью до миллиона человек отступали; многие тысячи были взяты в плен, еще больше дезертировали. Возникла реальная угроза немецкого наступления на столицу. Артур Рэнсом, доведенный до отчаяния, был готов уехать. У него случился очередной приступ дизентерии (уже четвертый в этом году), он ослабел, изголодался и тосковал по дому. Он не рассчитывал на то, что его семья (даже столкнувшись в Англии с нормированием продуктов с учетом военного времени) сможет хоть в какой-то степени понять, как трудно сейчас приходится в России: «Вам не пришлось видеть, как выпирают через кожу кости у лошадей на улице. Вам не пришлось встречаться с тем, что жена вашего привратника умоляет дать кусочек вашей порции хлеба, потому что она не может накормить своих детей. Вам не доводилось пить чай без пирожных, без хлеба, без масла, без молока, без сахара – потому что их просто нет. Вам не пришлось платить семь шиллингов девять пенсов за фунт второсортного мяса. Вам не пришлось платить сорок восемь шиллингов за фунт табака»[87].
«Если мне доведется когда-нибудь вернуться домой, – заключил он, – я буду заниматься только обжорством»{747}.
Дональд Томпсон также находился в подавленном состоянии. Он тоже много потерял в весе. «Мой желудок имеет полное право обижаться на меня, – писал он своей жене, – поскольку я так редко радую его даже вкусом нормальной еды». Он так изголодался и вымотался, что пообещал ей, что это будет его последняя командировка за границу: «Сегодня [8 июля] я чувствую себя тем, кем вы всегда хотели, чтобы я себя почувствовал, – больным военным фотокорреспондентом, уставшим от своей работы»{748}. 15 июля он начал готовиться к возвращению домой. Однако он мог уехать, только получив разрешение, подписанное лично Керенским, на вывоз из страны своих драгоценных кинопленок и фотографий. 1 августа он наконец сел на поезд, который по Транссибирской магистрали доставил его во Владивосток. Там он сел на пароход до Японии, откуда отправился через Тихий океан в Калифорнию.
Томпсон не жалел о своем отъезде. Пятью месяцами раньше он видел жителей Петрограда, выходивших на демонстрации с ясными целями и высокими стремлениями – во имя идеалистических революционных идей Свободы, Равенства и Братства. Но теперь ничто не могло вдохнуть в него надежду: «Я вижу, как Россия погружается в такой ад, в который еще не погружалась ни одна страна»{749}.
Глава 12 «Это очаг заразы в столице»
Ранним утром 1 августа, во вторник, Николай Александрович, бывший Самодержец Всероссийский, а теперь просто полковник Романов, был вместе со своей семьей отправлен по железной дороге из Царского Села в Западную Сибирь. Следующие девять месяцев они проведут, томясь неизвестностью, в доме губернатора в Тобольске, в то время как правительство будет обсуждать их судьбу[88]. Их бывший дом, Александровский дворец, пустовал, а предназначенная для царской семьи железнодорожная линия, связывавшая Царское Село со столицей, была разобрана: ее рельсы и шпалы были отправлены на другие железнодорожные участки. Проживавшие в Петрограде иностранцы практически не обсуждали гибель трехсотлетней династии Романовых. Большинство из них с безразличием отнеслись к отрешению царя (детали которого были неизвестны так же, как и его дальнейшая судьба), поскольку жители столицы по-прежнему страдали от других актуальных проблем: острой нехватки продовольствия, нестабильности правительства, общественных беспорядков. Царская Россия осталась уже далеко в прошлом.
25 июля группа сотрудников миссии Американского Красного Креста (всего миссия насчитывала сорок человек) прибыла в Петроград, однако осмотреть безлюдный дворец (до его открытия для всех желающих в качестве музея) ей позволили только после отъезда царской семьи. Сотрудники Красного Креста увидели множество трогательных деталей, напоминавших о царской семье: открытые книги на столах, поставленные на пианино ноты. «Очевидно, дворец был оставлен в большой спешке: вокруг лежали личные вещи, на полу – детские игрушки, на столе императрицы – незаконченное письмо», – прокомментировал увиденное Джордж Чандлер Уиппл{750}. «Повсюду: на столе, на камине – лежали снимки, сделанные, очевидно, детьми с помощью аппарата «Кодак», – вспоминал его коллега, Оррин Сэйдж Уайтман. Возможно, самым горьким было видеть одну из брошенных тетрадей по французскому языку царевича Алексея. На верхней части страницы он поставил свое имя, а затем «своим детским почерком написал по-французски: «Французский урок сегодня был очень трудным»». Уайтман отметил, что этот краткий, частный проблеск ныне исчезнувшей эпохи «произвел просто ошеломляющее впечатление… Оказаться свидетелем повседневной жизни свергнутого царя вскоре после того, как народ превратил ее в музей, но пока следы его живого присутствия еще свежи, было редкой привилегией, память о которой никогда не покинет меня»{751}.
Члены миссии Красного Креста приехали в Петроград из Владивостока по Транссибирской железной дороге, в царском поезде, в котором Николай II подписал документ о своем отречении. Разместившись в девяти роскошных вагонах, они наслаждались «никелированно-серебряными туалетами, красивыми кожаными сиденьями в русском стиле, обтянутыми шелком подушками», спали «в кроватях с льняным камчатным полотном и шелковыми наволочками; на белье были вышиты двуглавый орел и герб»{752}. Бесси Битти засвидетельствовала их приезд на Николаевском вокзале. Членов американской миссии встречали посол Фрэнсис и его сотрудники. Бесси обрадовало, что прибывшая группа американцев явилась символом «большого человеческого сочувствия». Наряду с этим, увидев целую команду врачей, в том числе санитарных, и семьдесят тонн крайне необходимых хирургических инструментов и материалов, которые американцы привезли с собой, она задалась вопросом, «какую пользу» они могли бы принести в России, прибыв так поздно{753} [89].
Как только миссия покинула вокзал, Оррин Сэйдж Уайтман сразу же заметил, как «убийственно» выглядят пыльные, переполненные улицы Петрограда. Полиции не было видно, никто не регулировал движение, и переход улицы был сопряжен с серьезным риском для жизни{754}. Все здания были «тусклыми, ветхими, обклеенными афишами и плакатами революционной тематики». Афиши и плакаты были «на магазинах, церквях, дворцах, основаниях статуй, на телеграфных столбах и заборах. Везде, где только можно было наклеить плакат, его наклеивали. В результате город выглядел весьма неопрятно». Все знаки имперского великолепия были изуродованы, соскоблены или сбиты, им на смену пришли красные флаги, один из которых «был вставлен в руки бронзовой статуи Екатерины Великой в парке на Невском проспекте». Небольшая передышка наступила, когда правительство провело «Заем Свободы», в связи с чем на три дня во всем городе появились небольшие киоски по продаже облигаций, празднично украшенные цветами, веточками тиса и ели, а также материей для флагов{755} [90].
Некоторые сотрудники миссии были размещены в гостинице “Hotel de France” на Морской улице. «Жалкое место, но лучше было не достать», – вспоминал инженер-строитель и пионер реформ в области общественного здравоохранения Джордж Чандлер Уиппл. Номера «были не слишком чистыми», на завтрак подавали черный хлеб, который требовалось долго разжевывать, и слабый чай; это невольно напоминало о том, что «мы были в городе, который вел войну». Действительно, нехватка продовольствия была настолько острой, что менеджер отеля предупредил их, «что иногда он сможет обеспечить нас хорошей едой, а иногда – нет»{756}. Уиппл и некоторые из его коллег вскоре переехали из грязного и дурно пахнущего «дома скотоложества» (как они называли кишевшую паразитами гостиницу) в заметно более чистую и приветливую «Европейскую», где они были счастливы выпить на завтрак кофе с кипяченым молоком. Спустя несколько дней диеты на петроградском рационе американцы воспользовались гостеприимством своего посольства и побывали на приеме, устроенном в их честь, на котором Дж. Батлер Райт отметил, что миссия Красного Креста «набросилась на чай, сахар и белый хлеб так, что это не могло не насторожить»{757}.
Что касается гостиницы «Астория» (или «Петроградской военной гостиницы», как она теперь называлась, и в какой-то степени соответствовала этому названию, поскольку внешне все еще выглядела так, словно побывала в зоне боевых действий), то Бесси Битти с радостью отметила произошедшие в ней заметные перемены к лучшему благодаря недавно проведенным ремонтно-восстановительным работам. «Прожив все лето каждый сам по себе, завтракая, обедая, устраивая чаепития и ужиная в своих собственных номерах, мы вдруг перестали прятаться, вышли наружу, осмотрелись, и нашим глазам предстала следующая картина. С розового ковра в гостиной отчистили пятна крови, остававшиеся после революционных событий. С разбитых окон убрали ставни, вставили новые стекла, повесили великолепные жатые шторы темно-красного цвета. Столовая, несколько недель назад бывшая складом безруких кресел и безногих столов, бессловесных жертв мести разъяренной толпы, теперь облачилась в белоснежные скатерти»{758}.
Случайный наблюдатель мог бы вообразить, что постояльцы «Астории» купались в роскоши, «однако это было совсем не так». Питание было, как всегда, отвратительным: в обед на первое подавали «рубленое мясо и кашу в капустных листьях, на второе – то же самое рубленое мясо и кашу, неуклюже прикрытые половинкой огурца»{759}.
После того как миссия Красного Креста под охраной правительства выгрузила и складировала свои драгоценные лекарства и запасы продовольствия, она принялась планировать их распределение по России, а также создание мобильных дезинфекционных станций для борьбы с вызывавшей большую тревогу эпидемией тифа. Джордж Чандлер Уиппл предполагал, что это будет весьма нелегким делом. «Будет совершенно бесполезно рассказывать тем, кто умирает от голода, как соблюдать чистоту», – записал он в своем дневнике{760}. Очереди за хлебом были пугающе длинными, и он был поражен тем, какие грубые способы использовались для нарезания и взвешивания хлебных порций – они только замедляли этот процесс и заставляли ждать еще дольше тех, кто и так уже отстоял в очереди несколько часов. Ему было ясно, что продовольственный кризис «обострился вдвое в связи с притоком солдат, беженцев и других» – в результате войны население города увеличилось с двух до трех миллионов человек. «Власти с полным на то основанием ожидают этой зимой голода в Петрограде; если только не будут предприняты решительные шаги, то голодать, возможно, будут несколько сотен тысяч человек». Уиппл заметил, как везде появлялись огромные запасы дров, дрова свозились к набережным большими плоскодонными баржами. Петроград жил на дровяном отоплении (уголь его жителями мало использовался или же не использовался вообще), и дрова взлетели в цене. Уиппл также не мог не заметить, что полки в магазинах были пусты, совершенно нигде не было обуви, одежда тоже стала дефицитом накануне зимы. В разгар августа, возможно, было и жарко, но с приходом сентября польют дожди, и все драматическим образом изменится{761}.
Его сограждане американцы, те, с которыми встречался Уиппл и кто работал в различных благотворительных городских проектах, оказались вовлечены в безнадежную борьбу за выживание. Франклин Гейлорд, который жил в Петрограде восемнадцать лет и посвятил себя работе с «Маяком» (российский филиал Международного комитета Юношеской христианской ассоциации), пришел к мрачному выводу о том, что Петроград был «худшим, самым безнравственным, самым отвратительным городом в Европе, чьи улицы ужасны, труд безнадежен, канализации нет, пить воду нельзя, еды нет, в номерах полно клопов, всю зиму не видно солнца, холодно и мрачно, совершенно невозможно дышать»{762}. Это было обескураживающим началом, однако миссия Красного Креста, несмотря ни на что, начала сбор информации, навещая продовольственные магазины, склады Красного Креста и других благотворительных организаций, больницы и медицинские участки по уходу за больными в городе и пригородах, осматривая гидротехнические и очистные сооружения. Главной заботой миссии были лечение и профилактика тифа, туберкулеза и цинги, и ее сотрудники стремились тесно взаимодействовать с российской стороной. Доктор Оррин Сэйдж Уайтман сравнивал русских «с детьми, которые после длительного периода угнетения внезапно обрели свободу, которая превратилась во вседозволенность». Он был шокирован «ленью и безразличием», с которыми он сталкивался повсюду: «заветной целью жителей» Петрограда было ничего не делать. «Дух праздности, который они интерпретируют как свободу, настолько умалил их, что образумить их могут только сильные страдания»{763}.
«Здесь полный хаос!» – писал, вернувшись домой, Раймонд Робинс, самый высокопоставленный сотрудник миссии, известный экономист и прогрессивный политик[91]. Являясь приверженцем Евангелической церкви, он отправился в Петроград с рвением участника крестового похода, готовый преодолеть все трудности и проблемы, с которыми ему предстояло встретиться. Однако он вынужден был признать, что жизнь в российской столице «превратилась в задачу каждодневного выживания… Везде царила неопределенность… Будущее выглядит грозным»{764}. Это чувство неопределенности у него окрепло после его встречи 1 августа с Керенским, которого он нашел совершенно измотанным, «настолько занятым изо дня в день единственной задачей сохранить и спасти имевшееся, что его можно было увидеть лишь на официальных мероприятиях. Он так перегружен работой и у него так напряжены нервы, что невольно возникает вопрос, сможет ли он продержаться еще полгода» – к моменту, когда всенародно избранное Учредительное собрание должно сформировать постоянное правительство.
Как и его коллеги, Раймонд Робинс видел, что будущее России находится под угрозой из-за экономической ситуации и катастрофической нехватки продовольствия. Он был весьма обеспокоен длинными очередями за хлебом, мясом, молоком и сахаром: «Судьба Временного правительства находится в полной зависимости от этих очередей. Если они сократятся, то правительство выживет; если же они удлинятся, то оно погибнет»{765}. Однако Временное правительство казалось ему состоявшим из «мечтателей, на которых была возложена ответственность, но неспособных сейчас, получив власть, воплотить в жизнь свою мечту». По мнению Раймонда Робинса, слишком многое зависело от одного человека, Керенского, «который мог хоть как-то контролировать ситуацию со своей стороны или же осуществлять военную диктатуру». Однако сейчас Раймонд Робинс все еще лелеял романтические надежды на будущее России. «Русский народ сохранит духовную стойкость и вскоре вернет миру почитание и преклонение, – писал он 6 августа о своих надеждах жене Маргарет. – Он добьется великой социальной демократии и обеспечит себе путь к равным возможностям для всех, свободе и братству»{766}.
21 августа Россия потерпела еще одно военное поражение: пришли новости о захвате немцами стратегически важного балтийского порта Риги, находящегося в 490 километрах юго-западнее Петрограда. Если говорить точнее, то русские войска просто сдали его немцам без боя. Несмотря на это, в российской столице по-прежнему отказывались признаваться в развале российской армии. В тот вечер Виллем Аудендейк вместе со своей женой пошел в оперу послушать Шаляпина в «Майской ночи» Римского-Корсакова. Публика была в полном восторге, она вскакивала со своих мест и бросалась к сцене, «вновь и вновь вызывала Шаляпина в конце каждого акта. Казалось, в тот вечер никто не думал ни о революции, ни о немцах, ни о войне. Петроград находился в зоне боевых действий, но какое это имело значение? Ведь здесь сейчас пел Шаляпин! Радуйтесь! И аплодируйте! Браво, Шаляпин!»{767}
Падение Риги произошло вскоре после последней отчаянной попытки преодолеть на состоявшемся в Москве Государственном совещании разногласия между противоборствующими буржуазными и социалистическими политическими группировками и обеспечить их поддержку правительству Керенского. Он сам появился на Государственном совещании в военном френче, в сопровождении двух адъютантов, и, приняв свою характерную наполеоновскую позу (за которую его стали называть «Наполеончиком»), выступил с эмоциональным призывом поддержать правительство. Однако, как отметил Луи де Робьен, даже «блестящей, пламенной импровизации» Керенского было уже недостаточно. Как правило, русских можно было «еще сильнее, чем даже французов, опьянить потоком красноречия и громкими фразами», но пустых слов было уже «недостаточно, чтобы накормить людей или положить конец анархии»{768}. Серьезным соперником Керенскому стал назначенный им в июле Верховным главнокомандующим генерал Лавр Корнилов. Генерал выступил на Государственном совещании с бескомпромиссным докладом, в котором предложил жесткие меры, необходимые, по его мнению, для спасения России от поражения в войне с Германией; этот доклад открыл участникам Государственного совещания глаза на обстановку на фронте и отрезвил их{769}.
Бесси Битти несколько недель наблюдала в Петрограде за тем, как Керенский изо всех сил старался «придерживаться компромиссного курса», который бы удовлетворял и реакционно настроенных «правых», и большевистски радикальных «левых», и как он противостоял призывам Корнилова прибегнуть для наведения порядка в армии к силовым методам. Она чувствовала, что он был прав и что «массы будут рассматривать любую попытку установить диктатуру как посягательство на их революцию и отвернутся от того, кто решится на это». Эммелин Панкхерст посмеялась над ней, когда она отважилась высказать это мнение за ужином. Панкхерст заявила, что Россией должен править сильный человек, а Керенский был слабаком. Единственным человеком, который мог «спасти ситуацию», был Корнилов, способный «править железной рукой»{770}. Назначение Корнилова, известного своими «правыми» взглядами, на должность Верховного главнокомандующего после «июльского кризиса», несмотря на протесты со стороны меньшевиков и эсеров в правительстве, расценивалось как ужесточение Керенским своей политики в попытке укрепить Временное правительство (судьба которого виделась весьма смутно) в условиях усиления большевиков. Корнилов был родом из скромной казацкой семьи, он сделал блестящую военную карьеру, был патриотом и, в глазах своего окружения, «настоящим атаманом»{771}. Но у него не было навыков и опыта ни посредника, ни политика. По мнению генерала Нокса, который имел возможность близко наблюдать Корнилова на фронте, это был «здравомыслящий солдат сильной воли и большого мужества», который завоевал уважение делами, а не словами{772}. Решительно выступая против Советов и их солдатских комитетов, Корнилов потребовал предоставить ему абсолютный контроль над армией как на фронте, так и в тылу.
Сэр Джордж Бьюкенен отчетливо видел, что, начиная с «июльского кризиса», позиции Керенского слабли и что Корнилов, «если ему удастся утвердить свое влияние в армии и последняя станет могучей боевой силой…будет хозяином положения». Но сейчас эти двое лидеров нуждались друг в друге: «Керенский не может исправить военную ситуацию без Корнилова, поскольку тот единственный способен контролировать армию. Корнилов, в свою очередь, не может обойтись без Керенского, поскольку, несмотря на падающую популярность, он лучше других подходит для того, чтобы обратиться к массам и убедить их согласиться на решительные меры, которые нужно принять в тылу, если армии предстоит четвертая зимняя кампания»{773}.
Московское совещание, которое закончилось безрезультатно, показало, что между этими двумя руководителями существует непримиримый антагонизм. Раздраженный нежеланием Керенского предоставить ему диктаторские полномочия, необходимые для восстановления контроля над армией, 27 августа Корнилов направил Керенскому ультиматум: тот должен был уйти с поста министра-председателя правительства и передать Корнилову всю полноту военной власти. Чтобы подкрепить свое требование, Корнилов начал переброску к Петрограду войск с Северо-Западного фронта под командованием генерала Александра Крымова, намереваясь арестовать анархистских и большевистских смутьянов, усмирить Петроградский гарнизон и не дать большевикам свергуть Временное правительство – такой попытки, как он понимал, следует ожидать рано или поздно. «Пришла пора немецких ставленников и шпионов во главе с Лениным повесить, – сказал Корнилов, – а Совет рабочих и солдатских депутатов разогнать, да разогнать так, чтобы он нигде и не собрался»{774}. Это был единственный путь для спасения армии от разложения, а страны – от хаоса.
Ультиматум Корнилова «поверг Петроград в смятение». Все опасались, что город в очередной раз станет полем боя{775}. Потеря Риги уже вызвала панику, толпы осаждали железнодорожные станции, чтобы попытаться любым поездом уехать в безопасную сельскую местность. «В Петроградской военной гостинице, ставшей средоточием всех штормов, мы сидели и ждали неизбежного», – писала Бесси Битти. Арно Дош-Флеро посоветовал ей уезжать еще до того, как начнутся неприятности. «Гостиница, может быть, еще будет здесь утром, а может быть, ее уже и не будет, и нет смысла рисковать», – сказал он ей. Военные, с которыми Бесси Битти переговорила в «Астории», согласились с тем, что и Корнилов, и Керенский были решительными людьми, «поэтому это будет борьба до победного конца». Большинство военных с нетерпением ожидали прибытия Корнилова: «Для них это было делом решенным. Керенский будет свергнут, Корнилов захватит город. Будет восстановлена смертная казнь, руководители Петросовета будут повешены. Все беды России останутся позади»{776}.
Воскресенье, 27 августа, выдалось теплым, безоблачным и солнечным. Невский «был переполнен прохожими, которые, как обычно, толпами гуляли по проспекту, сталкивались друг с другом, останавливались, спешили, слонялись без дела, ненавидели друг друга и любили, жили, несмотря на войну и революцию», – вспоминал Лейтон Роджерс{777}. Сэр Джордж Бьюкенен отправился в Мурино поиграть в гольф, и лишь когда вечером он вернулся и его вместе с новым послом Франции Жозефом Нулансом вызвали в МИД России, он узнал о том, что Корнилов пошел на Петроград и что Керенский объявил его предателем. В городе принимались срочные меры, чтобы организовать сопротивление. Но для этого Керенский был вынужден пойти на компромисс и обратиться за помощью к большевикам Петроградского Совета. Ленин скрывался в Финляндии; находившийся в тюрьме Троцкий выступил за то, чтобы в данный момент поддержать Керенского и отразить угрозу со стороны Корнилова. Руководя из своего штаба в Смольном институте, куда он перебрался в июле из Таврического дворца, Петросовет мобилизовал руководителей гарнизона и нового добровольного ополчения рабочих, Красной гвардии (созданной после Февральской революции), на организацию обороны города силами рабочих, матросов Кронштадта и просто гражданских лиц.
Тысячам рабочих было возвращено конфискованное у них после «июльского кризиса» оружие, кроме того (что казалось актом безумия), им были дополнительно выданы винтовки и боеприпасы. На улицах Петрограда началась подготовка ополченцев. Бесси Битти видела, как рабочие военных заводов при содействии инженеров и саперов рыли окопы и возводили баррикады, стремясь «опоясать траншеями весь город». Фил Джордан описывал, как «тысячи и тысячи солдат», только что прибывших с фронта на Николаевский вокзал, направлялись прямо на Невский проспект рыть там окопы. «Только подумай, окопы в самом центре города», – причитал он, предвидя новые беспорядки на улицах{778}.
На следующий день появились слухи о том, что «Дикая дивизия» генерала Крымова была всего в двух днях пути от города. Как вспоминала Мэриэл Бьюкенен, все боялись этого (авангард Корнилова насчитывал четыре тысячи человек и состоял в основном из конных формирований мусульман – уроженцев Северного Кавказа, известных своей жестокостью) так же, как и кронштадтских матросов{779}. Членам дипломатического корпуса советовали уехать в Москву или Финляндию, но сэр Джордж Бьюкенен в очередной раз отказался оставлять британскую колонию без дипломатической защиты, его жена и дочь также высказались против эвакуации. Взамен этого госпиталь британской колонии, курируемый леди Джорджиной, который недавно закрылся, был подготовлен к тому, чтобы, если в этом возникнет необходимость, предоставить убежище женщинам и детям диаспоры. Хотя посол США Дэвид Фрэнсис считал, что ему лично ничто не угрожает и что у него нет причин беспокоиться о своей собственной безопасности, он признал, что у многих его соотечественников они были, и поручил Дж. Батлеру Райту зафрахтовать небольшой пароход, «на котором американцы, если пожелают, могли бы укрыться в случае каких-либо беспорядков». Между тем, как отметил Дж. Батлер Райт в своем дневнике, дипкорпус оказался в «неприемлемой ситуации, при которой он должен был, соблюдая формальности, поддерживать правительство, втайне страстно желая победы Корнилова»{780}.
В Петрограде было введено военное положение. «Везде полно слухов, – писал Раймонд Робинс, – это просто безумное время»{781}. Этим утром около пяти часов Флоренс Харпер была разбужена звуками стрельбы на площади перед гостиницей «Астория» и услышала, что внизу в лобби заходит толпа людей. Выглянув из своей комнаты, она увидела, как матросы, громко хлопая дверьми, выводили из некоторых номеров под конвоем русских офицеров. Бесси Битти тоже была потревожена шумом, и, выйдя из своего номера, она увидела в холле «море штыков». Везде были «русские матросы, возможно, их было несколько сотен, рослых парней с винтовками в руках, и на конце каждой винтовки было кровожадно выглядевшее лезвие, ужаснее которого я никогда еще не видела». «Жизнь больше уже не способна ужаснуть мужчину или женщину, которым довелось встретиться с двумястами штыками, собравшимися в одном месте», – заметила она. По ее мнению, в сравнении с этим «подводная лодка в Атлантическом океане похожа на дружелюбного соседа, зашедшего в гости»{782}.
Сначала она решила, что это матросы из Кронштадта; они захватили гостиницу и теперь проверяли паспорта и осматривали номера. Затем оказалось, что это были матросы из Петроградского Совета, «решившие взять инициативу в свои руки и арестовать всех офицеров, которых они подозревали в контрреволюционных намерениях» и которые могли быть на стороне Корнилова. В ходе осмотра номеров они терроризировали женщин, которые сбились в группки на лестничных пролетах. Группа матросов вломилась в номер к Флоренс Харпер, обыскала его и унесла с собой ее камеру. Во время обеда весь зал гудел от волнения и страха. Сорок русских офицеров арестовали и увезли из гостиницы, еще семерых задержали позже. Всех их доставили в Петропавловскую крепость, обвинив в «заговоре против революции»{783}.
Затем угроза со стороны Корнилова исчезла так же внезапно, как и появилась. В среду, 30 августа, в газетах было опубликовано заявление правительства Керенского о том, что «мятеж» (если то, что было на самом деле, действительно являлось мятежом) провалился. Поход Корнилова на Петроград был сорван еще до того, как он начался, и не военной силой, а благодаря действиям большевистски настроенных железнодорожных рабочих, которые отказались перевозить эшелоны с его войсками и вывели из строя железнодорожную магистраль, по которой эти эшелоны следовали в Петроград (они блокировали стрелки, повреждали мосты, разрушали или баррикадировали железнодорожные пути)[92]. Эшелоны с войсками генерала Крымова загоняли в тупик. А когда авангард войск Крымова наткнулся на силы, выставленные Петроградским Советом, то он отказался выступать против Керенского и Петросовета; он просто открыто побратался с этими силами и прислушался к их совету ни во что не вмешиваться{784}.
После этого Керенский издал приказ об аресте Корнилова. Его побуждения в сложившихся обстоятельствах были весьма противоречивыми. Советник британского посольства Фрэнсис Линдли считал, что Керенский, «разрывавшийся между страхом оказать содействие контрреволюционному движению и честным стремлением упрочить авторитет правительства», в конечном итоге принял неверное решение. «Как и все социалисты в подобной ситуации, он предпочел сохранить верность своей партии, а не своей стране. И для него это было крахом»{785}. Остается неясным, действительно ли Керенский искренне верил в то, что Корнилов собирался организовать переворот против него вместо разгрома большевиков, руководимых Петросоветом. Виллем Аудендейк считал, что Керенский, несомненно, «панически боялся одной мысли о том, что Корнилов мог сместить его, и это заставило его действовать с безрассудной и роковой горячностью»{786}.
По сведениям супруги военно-морского атташе США Полин Кросли, в дипломатических кругах активно ходили слухи о том, что намерения Корнилова сформировать военное правительство («с опорой на опыт Керенского и с его одобрения») были «всем понятны». Он желал защитить Россию от большевистского переворота, планировал зрелищное и триумфальное вступление войск в Петроград, однако «ночью… кто-то нашептал Керенскому (либо ему самому пришла в голову такая мысль), что тот потеряет власть и авторитет с усилением позиций Корнилова». В итоге Керенский «поддался» своим амбициям и «сорвал честную попытку спасти Россию», в результате чего страна оказалась «в более плачевной ситуации, чем когда-либо ранее»{787}.
В любом случае подавление корниловского «мятежа» неизбежно привело к усилению большевиков, которые быстро восстановили позиции, утраченные после своего поражения в ходе июльского кризиса. 1 сентября Корнилов был арестован и доставлен в тюрьму. 4 сентября Троцкий и многие другие большевистские руководители по указанию Керенского были освобождены. Керенский провозгласил Россию демократической республикой, однако никто из Петроградского Совета или бывшего правительства не желал работать с ним в очередном коалиционном правительстве, которое было обречено. Решив прибегнуть к последней отчаянной мере (которая, безусловно, еще больше настроила против него общественное мнение), Керенский принял на себя командование армией и создал свою собственную временную Директорию (по образцу Франции революционных времен) в составе пяти министров, став фактическим диктатором.
Флоренс Харпер наткнулась на Арно Дош-Флеро в лобби гостиницы «Астория» после того, как пришло известие об аресте Корнилова. «Мы оба высказывались не совсем цивильно, – вспоминала она. – Меня переполняла слепая ярость. Мы все знали, что это был последний шанс. Теперь большевики были вооружены, Красная гвардия сформирована. Политический раскол был неизбежен, Керенский был обречен»{788}. Все в дипломатических кругах были согласны с тем, что правительство Керенского получило смертельный удар. Дэвид Фрэнсис симпатизировал Корнилову, хотя на публике должен был выражать беспристрастное мнение. Он считал, что Корнилов был «храбрым солдатом и патриотом, чья ошибка состояла в том, что он выдвигал свои требования до того, как общественное мнение было готово принять их»{789}. Фрэнсис понимал, что Временное правительство может спасти ситуацию, только если предпримет «быстрые и решительные шаги по восстановлению дисциплины в армии и на флоте». Но в американском посольстве он был единственным, кто все еще надеялся, что это действительно может произойти. «Все, кроме Д. Р. Ф., считают, что в ближайшее время неизбежно произойдет столкновение, причем серьезное», – писал Дж. Батлер Райт. Он и его коллеги были крайне раздосадованы, поскольку видели в Корнилове последнюю надежду России. И они уже начали сомневаться в способности шестидесятисемилетнего посла контролировать ситуацию: он выглядел уставшим, старым и оторванным от реальной жизни{790}.
Провал Корниловского похода на Петроград в конце августа 1917 года спровоцировал, по сути, исход иностранных граждан из Петрограда (начавшийся, правда, уже после «июльского кризиса»). Все посольства в городе, наряду с американским, начали теперь разрабатывать планы по срочной эвакуации своих сотрудников и граждан. «Все те, чьи обязанности позволяют им уехать, должны будут сделать это, – сказала Полина Кросли своей семье. – Все посольства готовят меры по спасению тех, кто должен остаться. Опасений, что скоро придут немцы, нет, но ожидается серьезное восстание большевиков, и его успех означает анархию»{791}. В конце августа Дэвид Фрэнсис поручил Дж. Батлеру Райту «подыскать возможные пути спасения из этого очага заразы, в который превратится столица, если правительство будет низложено или же мы будем вынуждены внезапно эвакуироваться»{792}. Не желая рисковать, 9 сентября Дж. Батлер Райт отправил своих жену и сына в Москву, подальше от фронта, туда, где обстановка была менее напряженной.
Тем временем военно-морской атташе США Вальтер Кросли по поручению посла зафрахтовал «пароход, достаточно большой, чтобы вместить всю американскую колонию», который стоял на якоре на Неве. Предусматривалось к 3 сентября эвакуировать 266 человек: всю американскую диаспору, всех сотрудников посольства, консульства и миссии Красного Креста, однако это предполагалось в качестве последней меры, если окажется невозможной их безопасная и организованная эвакуация в Москву по железной дороге. Консульство США заблаговременно эвакуировало специальным курьером в Москву в находившееся там американское консульство бо́льшую часть своих архивов; другие важные документы были отправлены из посольства с миссией Красного Креста{793}.
Британцы также строили подобные планы на случай непредвиденных обстоятельств и даже обсуждали возможность швартовки «двух наших подводных лодок» в Неве напротив посольства для обеспечения экстренной эвакуации британских подданных. Британский консул Артур Вудхаус отмечал в письме, что «обстановку можно оценить, посчитав количество британцев, покидающих страну. Одним словом, это не подходящее место для английских дам и детей». Наряду с этим он ответил своей жене на ее просьбу, чтобы он сам уехал, что его долг «явно требует моего присутствия здесь… Я должен оставаться здесь до конца… Офис практически превратился в круглосуточное турбюро. Обычная консульская работа уже ушла в прошлое»{794}.
Некоторые британские семьи, в течение нескольких поколений жившие в Петрограде, построившие здесь себе дома и основавшие предприятия, теперь готовились вернуться в Англию. Они были вынуждены бросить здесь свое дело, имущество, дорогую своему сердцу собственность и отправиться в путь в чем есть. «Я надела на себя всю свою одежду, я не могла во всем этом согнуть рук. В подкладку моего пальто были вшиты золотые соверены. Мама несла свой драгоценный чайник, подаренный ей на серебряную свадьбу», – вспоминала Дороти Шоу, которой в то время было тринадцать лет. Ее отец служил управляющим на суконной фабрике Торнтона в Петрограде, они были одной из тридцати шести английских семей, которые работали на ней и обосновались вблизи нее. Она вместе с матерью отправилась в Берген, где после трех недель ожидания сели на борт пакетбота ВМС Великобритании “Vulture”, который в сопровождении двух миноносцев ходил между Англией и Норвегией. Он доставил их и других британских беженцев через Северное море, кишевшее немецкими подводными лодками, обратно на родину{795}.
Это было крайне тяжелое время для подобных британских семей. Они были вынуждены беспомощно наблюдать, как их заводы простаивают, неся непоправимые убытки в результате забастовок, или же закрываются, не имея возможности выполнить завышенные требования относительно заработной платы. В течение всего 1917 года британские граждане видели, как наследие, созданное их предками в имперском Санкт-Петербурге (зачастую еще с восемнадцатого века), необратимо разрушается в хаосе революционного Петрограда. «Каждое воскресенье англиканская церковь на набережной пустела, – вспоминал Эдвард Стеббинг. – С еженедельных рабочих встреч, организуемых в посольстве, бесследно исчезали знакомые лица. Везде царили печаль, разлука, расставание». Необходимость постоянно держать ситуацию под контролем сильно сказалась на сэре Джордже Бьюкенене. Эдвард Стеббинг был поражен, увидев, «каким больным он выглядел». Угроза революции нарастала, и Бьюкенен направил всем британским подданным уведомление о необходимости представить в консульство свой адрес, номер телефона и полную информацию о всех членах своей семьи. Он хотел быть уверенным в том, что, когда придет время, британские граждане смогут безопасно и с чувством собственного достоинства покинуть Россию{796}.
Представители российской аристократии, напуганные обрушившейся на них злобной ненавистью, также распродавали все, что было возможно, и уезжали из России. «Многие хотели бы эмигрировать, однако это было трудно, поскольку провезти с собой деньги или переслать их из России было нельзя», – отмечал Луи де Робьен. Его посольство ежедневно осаждали русские, желавшие выехать во Францию{797}. Даже Елизавета Нарышкина, бывшая обер-гофмейстерина (высшее придворное дамское звание) двора, теперь распродавала свои драгоценности. У нее был бюст Марии-Антуанетты из севрского фарфора, подаренный самой королевой ее деду, который, чтобы выжить, она была вынуждена предложить Лувру{798}. Этот вариант показался ей гораздо предпочтительнее, чем если бы он «в один прекрасный день украсил гостиную продавца свинины, живущего по другую сторону Атлантического океана». На улице прежним аристократам все чаще приходилось бежать, спасаясь от толпы. Они старались не бросаться в глаза, не привлекать к себе внимания, учитывая, что теперь любой, будь то русский или иностранец, вызывал неприязнь, если его воспринимали как представителя буржуазии. «Все, кто был хорошо одет, выглядел встревоженным, – отмечала княгиня Кантакузина-Сперанская. – Никто не носил элегантной одежды». «Выходя на улицу, я осторожно прятала любую одежду, которая могла бы вызвать их ярость, под что-нибудь убогое», – писала Полин Кросли{799}.
Французская актриса Полетт Пакс, всякий раз выходя на улицу, удостоверялась в том, что ее меховой воротник подвернут и не виден. Кроме того, она обратилась к своей горничной с просьбой вернуть изношенные сапоги, которые она дала ей некоторое время назад{800}. Фил Джордан постоянно волновался, когда посол выходил прогуляться по Петрограду. «Босс, вы должны перестать щеголять в этой меховой шапке, этом меховом воротнике на пальто, в этих гамашах и с тростью», – увещевал он его. И он был прав, поскольку иностранцам могли устроить нахлобучку за самый скромный вариант нарядной и элегантной одежды{801}. Клоду Анэ сделали нагоняй за то, что он выглядел буржуазно на Невском проспекте. «Ты не из наших, – сказали ему. – Ты носишь перчатки». Элла Вудхаус вспоминала, как она, выйдя на улицу в совершенно обычном пальто и соответствующей шляпке, села в переполненный трамвай: «Трамвай тряхнуло, и меня прижало к пассажиру, державшемуся за поручень. Он сердито набросился на меня, а одна женщина-пассажир закричала: «Долой шляпку!» Шляпку восприняли как признак буржуазности. «Нужно добавить, – продолжила она, – что я сошла на следующей остановке. После этого я ходила в старом пальто, у которого на видном месте была оторвана пуговица, и в платке на голове»{802}. «Подумайте только, что же это за страна, что за столица, в которой неразумно появляться на улице «хорошо одетым»!» – подвела итог раздосадованная Полин Кросли. Она была обеспокоена тем, что за все то время, когда она была в Петрограде, она не видела ни одного человека, который «в большой столице большой страны» «носил бы цилиндр»{803}.
С распространением паники перед возможным наступлением немцев многие обыватели Петрограда теперь пытались покинуть город. Тысячи людей, «побуждаемые безрассудным страхом» перед надвигавшимся бедствием, изо всех сил стремились вернуться в свои деревни, где, как они считали, все будет хорошо. Полин Кросли не видела смысла в этом исходе, «поскольку, как мы слышали, везде в России были волнения, и я не знала места, где, действительно, было бы безопасно»{804}. Луи де Робьен видел длинные очереди за билетами на поезд, зачастую стоять приходилось двое суток. На Николаевском вокзале Петрограда «кассовый зал, платформы и пути были переполнены людьми, расположившимися на своих вещах и ожидавшими любого поезда, чтобы уехать… Солдаты, «товарищи», женщины с детьми сидели на платформах либо на корточках, либо на своих узлах в окружении мешков, перевязанных веревками чемоданов, которые распирало от вещей, деревянных дорожных сундуков, раскрашенных в яркие цвета, бесформенных сумок, самоваров, свернутых матрасов, домашней утвари, граммофонных рожков»{805}.
Когда поезд наконец подавали (ждать порой приходилось дня два и больше), толпа штурмом брала его. Те, у кого были деньги, предлагали за вожделенное место огромные суммы. Многих из тех, кто пытался с боем сесть на поезд, затаптывали или калечили.
Для иностранцев, оставшихся в городе, к сентябрю жизнь стала еще более опасной: на улицах вновь появились агрессивные толпы протестующих. Из окна своей спальни в гостинице «Астория» Эммелин Панкхерст видела бряцавших оружием большевиков, расхаживавших взад-вперед{806}. Беспокоясь за ее безопасность, российские офицеры, проживавшие в гостинице, предложили охранять ее во время ее выхода на улицу, но она отказалась. Они с Джесси Кенни отказались также переодеваться под пролетариев, чтобы (как ненавидимые толпой буржуа) избежать на улице угрозы нападения. Из британского посольства им доставили драгоценный подарок – английские блюда, которыми они с благодарностью насладились. Однако в то время, как они в августе отъезжали в Москву, многие из вещей, оставленных ими в гостинице, были украдены. «Бессонные ночи, плохое питание, эмоциональное напряжение» – все это сказывалось, как писала Джесси Кенни; кроме того, обслуживание в гостинице становилось все хуже и хуже{807}.
Таким образом, несмотря на самые хорошие намерения и их серьезность, миссия Эммелин Панкхерст в России провалилась. Эммелин Панкхерст плохо понимала русских женщин (либо вообще их не понимала), и многие из тех, кого она стремилась вовлечь в свое дело, находили ее манеру общаться с людьми снисходительной. Зачем ей, англичанке, имевшей относительные комфорт и привилегии, надо было читать проповеди тем женщинам, которые провели всю свою жизнь в борьбе за выживание в условиях такого политического и социального угнетения, что был далеко за пределами ее понимания и ее опыта? Как заметила Флоренс Харпер, когда дело дошло до этого, «русские женщины оказались слишком заняты процессом революционизации, чтобы беспокоиться о своей самоорганизации»{808}. Со своей стороны, Джесси Кенни нравилось думать, что, по крайней мере, «мы действительно подавали людям надежду, и мы делали для этого все, что могли»{809}. Более того, Эммелин Панкхерст делала это, испытывая сильную физическую боль и истощение. «Сейчас она выглядит старше своих лет и измотана постоянными проблемами, ее истощили продолжающиеся неприятности с желудком», – вспоминала Кенни. В конце концов они решили возвратиться в Англию. Однако у Эммелин Панкхерст остались яркие воспоминания о Петрограде, и особенно о Марии Бочкаревой. Кроме того, она вынесла из этой поездки впечатление, что ситуация в России была «хуже некуда». Всеми критикуемое и всем привычное правительство в России противостояло политикам-революционерам (которых Панкхерст находила деспотичными и жестокими) и тем самым, по ее мнению, преподносило «наглядный урок демократиям всего мира», причем это был «весьма жестокий наглядный урок»{810}.
Перед тем как вместе с Панкхерст покинуть Петроград, Джесси Кенни договорилась о том, чтобы ее дневник с описанием их поездки нелегальным образом вывезли из России (она знала, что все не прошедшие цензуру письменные материалы на границе со Швецией, в Торнио, обычно конфискуются). Добираясь до судна в Бергене, они пересекли Финляндию и Швецию – и вновь на том же самом поезде, что и леди Мюриэл Пэджет[93]. Флоренс Харпер также проделала этот путь на поезде и судне, к этому времени «ей так надоели Россия, черный хлеб, пулеметы, мятежи, убийства и общий хаос», что она «с гораздо бо́льшим удовольствием, чем [она сама] ожидала этого, отрясла свою обувь от петроградской грязи». По прибытии в Лондон Харпер направилась прямо туда, где она смогла насладиться своим первым за семь месяцев приличным завтраком: «это были каша, палтус, копченая сельдь, бекон с яйцами, тосты, джем и чай»; однако в ту ночь на город был совершен немецкий налет{811}. Если от революционного Петрограда она избавилась, то зона боевых действий не отпускала ее.
Некоторые упрямые иностранные журналисты, однако, остались в Петрограде в ожидании горячих новостей о захвате власти большевиками. Они отсиживались в гостиницах, становившихся все более захудалыми. В гостинице “Hotel de France” американцы Эрнест Пул, Уильям Г. Шеферд и Арно Дош-Флеро учились выживать. Официанты, повара и горничные постоянно бастовали, в результате везде были грязь, мусор, пыль, простыни не стирались, кровати не заправлялись. Однажды, отчаявшись что-либо поесть, они спустились в огромную кладовую гостиницы, «где от пола до потолка были навалены грязные чашки, тарелки, кофейники». Они взяли себе посуду, помыли ее и направились на кухню, где «нашли одного старого повара, который не бастовал с остальными, и он дал нам отвратительный черный кофе и большие ломти сырого ржаного хлеба», которые они отнесли в свой номер{812}. Мрачно усмехаясь, они согласились с тем, что такова была жизнь иностранного корреспондента в Петрограде. Большинство из них не находило сил, чтобы дождаться, когда что-либо произойдет, и уезжали; наряду с этим другие приезжали в российскую столицу даже сейчас.
Проделав в августе длительный путь по морю от Сан-Франциско до Иокогамы, а затем совершив одиннадцатидневное путешествие в поезде из Владивостока, в Петроград с весьма амбициозной (и тайной) миссией прибыл некий английский писатель. Он был направлен в Россию Секретной разведывательной службой Великобритании (сейчас она называется МИ-6) с целью, как он сам позже выразился достаточно напыщенно, «предотвратить большевистскую революцию… и сохранить участие России в войне». Это было весьма ответственным заданием для действовавшего в одиночку, больного туберкулезом, неопытного британского шпиона, взятого на эту работу с учетом того, что он немного знал русский язык (читая рассказы Чехова) и приходился по линии жены родственником сэру Уильяму Вайсману, резиденту британской разведслужбы в Нью-Йорке. Его псевдоним был «Сомервилль», его прикрытием – журналистская деятельность (в интересах британской прессы). Его настоящее имя было Сомерсет Моэм.
Сомерсет Моэм уже работал агентом британской разведки под прикрытием в Швейцарии в 1915–1916 годах и проживал в Нью-Йорке, когда Вайсман завербовал его для работы в Петрограде: ему предстояло оказать противодействие немецкой агитации за выход России из войны и поддержать Керенского. Моэм прибыл в Петроград 19 августа, имея на руках 21 000 долларов США на расходы. Ожидалось, что «он будет занят там, предположительно, до конца войны»{813}. Как эстет и представитель английских литературных кругов, он начал свое знакомство с городом с прогулки по Невскому проспекту. После «экспансивности» улицы Мира в центре Парижа и «великолепия» Пятой авеню в центре Нью-Йорка Невский произвел на него угнетающее впечатление. Сомерсет Моэм нашел его «грязным, унылым, запущенным», стенды в витринах магазинов «вульгарными». Однако разнообразие густой толпы было для него чем-то совершенно новым, и он нашел это весьма увлекательным. Как он вспоминал, «когда гуляешь по Невскому, перед тобой проходит галерея персонажей великих русских романов, и можно назвать их одного за другим»{814}.
Вскоре состоялось личное знакомство Моэма с Керенским – благодаря дружбе Моэма с Александрой Кропоткиной, дочерью легендарного революционера, князя Петра Кропоткина. «Думаю, Керенский должен был предположить, что я являлся более важной персоной, чем я был на самом деле, – писал Моэм позднее, – поскольку он несколько раз заходил в квартиру к Саше и, расхаживая по ее комнате, обращался ко мне со страстной речью, словно я был на общественном митинге, два часа подряд»{815}. Моэм быстро стал своим в диаспоре, встречаясь с Хью Уолполом, главой Англо-русского бюро пропаганды, и ужинал с ним и другими знакомыми (в том числе и Керенским), с икрой и водкой, «за счет двух правительств», в популярном ресторане «Медведь»{816}. «Не думаю, что Моэм много знал о России, – вспоминал Хью Уолпол в своих мемуарах, – однако его отказ поспешно строить сентиментальные гипотезы, его циничный девиз: «Что ни делается, все к худшему» (во что он сам ни минуту не верил) – давали ему спокойствие, выдержку и самообладание, в чем крайне нуждались некоторые из нас».
У Моэма, литератора и шпиона-джентльмена, было одно качество, которого не было у профессиональных разведчиков. По выражению Хью Уолпола, «он следил за Россией, как мы следим за действием пьесы, искренне восхищаясь тем, как мастеровито она выстроена»{817}. Он не жалел времени, чтобы впитывать русскую культуру: ходил на балет и в театры, дополняя это знакомством с русской классической литературой. Он стремился раствориться среди агентов стран-союзниц, проживавших в «Европейской» и «Астории», возвращаясь в свой номер по вечерам для того, чтобы тщательно зашифровать донесения своему куратору в Нью-Йорке, Вайсману. В этих донесениях Керенский фигурировал под именем «Лейн», Ленин был «Дэвисом», Троцкий – «Коулом», а британское правительство называлось «Эйр и компания»{818} [94].
Через восемнадцать дней, после того как Сомерсет Моэм весьма осторожно поселился в Петрограде в гостинице «Европейская», в город прибыла новая пара американских журналистов. В отличие от своих прагматичных, опытных соотечественников Флоренс Харпер и Дональда Томпсона, которые приехали в феврале без всякой шумихи, харизматичный социалист и профессиональный бунтовщик Джон Рид и его жена, журналистка-феминистка Луиза Брайант, появились в Петрограде в ореоле своих «левых» взглядов, преисполненные возвышенных социалистических идеалов, что, безусловно, привлекло к ним всеобщее внимание.
Тридцатилетний Джон Рид родился в обеспеченной средней семье в Портленде (штат Орегон), во время учебы в Гарвардском университете участвовал в заседаниях Драматического клуба, был шутником и балагуром. Переехав после окончания учебы в нью-йоркский Гринвич-Виллидж, он стал заметной фигурой в среде богемного авангарда, работая репортером в радикальном нью-йоркском журнале “The Masses” («Массы»), где заслужил высокую репутацию за свои бескомпромиссные политические убеждения, освещение острых социальных проблем и защиту прав бедных слоев рабочего класса, а также за то, что являлся активным сторонником воинственного синдикалистского профсоюза «Индустриальные рабочие мира». В 1913 году во время Мексиканской революции он, находясь в лагере мятежного Панчо Вильи, публиковал оттуда яркие статьи, которые еще больше укрепили его репутацию. В 1914 году либеральный журнал “Metropolitan Magazine” направил Джона Рида репортером в Европу. Рид хотел попасть на Восточный фронт, но вместо этого летом 1915 года ему удалось приехать в Петроград, где он был на какое-то время задержан властями, и ему запретили работать в России в военной зоне. Вернувшись в Нью-Йорк, он продолжал публиковать пламенные статьи с критикой войны и участия в ней Америки{819}.
В декабре 1915 года Джон Рид встретил в Портленде Луизу Брайант, привлекательную журналистку с золотисто-каштановыми волосами, художницу-оформителя журнала мод из штата Невада, активистку движения за женские избирательные права. Вскоре после этого она оставила своего мужа-стоматолога и последовала за Джоном Ридом в Нью-Йорк, где они в ноябре следующего года, после ее развода, поженились. После начала Февральской революции Джон Рид был готов поехать в Россию, чтобы следить там за событиями, однако лишь в августе 1917 года ему удалось собрать деньги на эту поездку в качестве репортера журнала “The Masses” и другого социалистического еженедельника, “New York Call”. Брайант поехала вместе с ним: Джону удалось добиться для нее аккредитации в качестве репортера журнала “Metropolitan Magazine” и корпорации «Белл». В 1917 году основные средства массовой информации еще не были готовы признать за женщинами право быть военными корреспондентами, поэтому формально задача Брайант заключалась в том, чтобы писать о России «с женской точки зрения»{820}.
Скудный бюджет не позволял чете Ридов рассчитывать на петроградские гостиницы. Они поселились в насквозь промерзшей съемной квартире по адресу: улица Троицкая, дом 23 (спать там приходилось в пальто). Джон Рид и Луиза Брайант очень хотели повстречаться с Арно Дош-Флеро, за сообщениями которого из Петрограда они следили с 1916 года, и вскоре они смогли пообщаться с ним и с его коллегами, американскими социалистами и журналистами Бесси Битти и Альбертом Рисом Вильямсом (бывшим священником Конгрегационалистской церкви, которого Джон Рид знал по Гринвич-Виллидж), находившимися в Петрограде с июня 1917 года и обеспечившими их полезными знакомствами (не говоря уже о переводчике), в том числе с Александром Гомбергом[95].
Позже статьи Джона Рида об Октябрьской революции станут эталоном репортажа очевидца событий о революционной России, но в сентябре 1917 года Джон оказался в этом кипящем политическом котле без знания языка, без знания культуры и политики страны, без каких-либо личных контактов в правительстве, обществе или революционном движении. Эти недостатки он в полной мере искупал нахальством, напористостью, обаянием, писательским мастерством и журналистским чутьем. Этого вполне хватало для написания захватывающих репортажей. Он почувствовал, что надвигающиеся исторические события позволят ему построить прекрасную журналистскую карьеру. Единомышленники Джона Рида – Луиза Брайант, Бесси Битти и Альберт Рис Вильямс – объединили свои усилия, чтобы рассказать о России со своей точки зрения, с позиции социалистов, как бунтовщики и «товарищи», полные решимости «почувствовать свою силу, с которой сняли кандалы», и надеявшиеся стать свидетелями «зари нового мира»{821}.
Часть III Октябрьская революция
Глава 13 «Террор в Мексике бледнеет перед событиями здесь»
Задержавшись на целую неделю в Галифаксе (Канада) и в Стокгольме, Джон Рид и Луиза Брайант провели в пути почти месяц, прежде чем прибыли наконец, запыленные и измученные, в Петроград. Они отплыли из города Хобокен (штат Нью-Джерси) в столицу Норвегии Кристианию[96] на датском пароходе «Соединенные Штаты» 17 августа 1917 года (по новому стилю). Большинство из находившихся на борту были скандинавами, но было и несколько американских бизнесменов, а также группа еврейских эмигрантов, возвращавшихся в Россию, чтобы жить (как они надеялись) наконец-то свободными людьми. Со своей палубы первого класса Луиза могла слышать, как они в каютах на палубе ниже распевали революционные песни{822}.
Среди американских пассажиров была группа из семи молодых выпускников университетов, которые недавно были приняты на работу в Государственный муниципальный банк Нью-Йорка и должны были присоединиться к Лейтону Роджерсу, Честеру Свиннертону и другим служащим в Петроградском филиале этого банка, чтобы обеспечить возможность перевода некоторых сотрудников в Москву. Двадцатитрехлетний стажер Джон Луи Фуллер из города Индианаполиса был одним из них. Он никогда раньше не был за границей и наслаждался приятной компанией с Джоном Ридом и Луизой Брайант в поезде, следовавшем из Кристиании в Петроград. В ходе поездки они «постоянно вели» политические споры{823}. Всех встревожила масштабная кража багажа, случившаяся после того, как солдаты ссадили их с поезда на станции Белоостров, последней остановке перед Финляндским вокзалом в Петрограде. Пассажиры горевали по поводу потери «предметов туалета, рубашек, носков, воротничков, бритв», которые были конфискованы как предполагаемая «контрабанда». Хуже того, «у Джона Рида пропала бо́льшая часть его вещей, в том числе его письма-аккредитивы», которые находились в бумажнике (он также был украден). Луиза Брайант чувствовала себя униженной, когда «была вынуждена раздеться в ходе обыска»{824}.
Посол США Дэвид Фрэнсис, когда Джон Рид вместе с Луизой Брайант впервые появился в посольстве, был весьма осторожен при общении с ним. Они предъявили письмо федерального представителя из Нью-Йорка с просьбой оказать им необходимую помощь для ознакомления с социально-бытовыми условиями в Петрограде. У Фрэнсиса была хорошая возможность изучить содержимое украденного кошелька Джона Рида, который вскоре, словно по волшебству, «был возвращен» в консульство США (за минусом 500 рублей наличными), – возможно, это была кража «по заказу», чтобы проверить документы Джона Рида{825}. В любом случае, как только Дэвид Фрэнсис выяснил, что Рида «радушно принимают большевики, которым он, по всей видимости, сообщил о своем приезде», он стал держаться с ним настороже. «Естественно, я рассматривал господина Рида как подозрительную личность, я внимательно изучил его прошлое и следил за всеми его шагами», – вспоминал Дэвид Фрэнсис. Эти подозрения, похоже, подтвердились, когда несколько дней спустя Джон Рид оказался на массовом митинге, организованном в знак протеста против ареста в США русско-американского анархиста Александра Беркмана и предстоящего суда над ним по обвинению в заговоре{826} [97]. Лейтон Роджерс видел расклеенные по всему городу на рекламных щитах плакаты с призывами к митингам протеста против этого наказания «брата Беркмана капиталистической олигархией Соединенных Штатов». Джон Рид поддержал эти призывы к противоправным действиям, и этого было более чем достаточно, чтобы Дэвид Фрэнсис и его сотрудники серьезно обеспокоились{827}.
Вскоре после прибытия в Петроград Джон Рид сообщил своему старому другу, что у него «материала больше, чем можно обработать… Мы находимся в гуще событий, и, поверь мне, это просто захватывающе. Так много волнующих вещей, о чем можно было бы написать, что я даже не знаю, с чего начать». Петроград уже захватил его воображение, и Джон Рид писал своему другу: «Террор в Мексике бледнеет перед событиями здесь, масштабными, насыщенными, красочными». Как вспоминал его приятель Альберт Рис Вильямс, у Джона Рида была масса вопросов, он желал «увидеть и узнать все сразу», но был ограничен языковым барьером. Спустя какое-то время он решил эту проблему; с помощью своего переводчика (в этом качестве выступил Александр Гомберг) он освоил язык достаточно, чтобы понимать самое необходимое{828}. Альберт Рис Вильямс помог Джону Риду узнать город и познакомил его и Луизу Брайант со многими русскими – выводя их на прогулки по основным местам, связанным с недавними революционными событиями, описывая им демонстрации и беспорядки, свидетелем которых он сам стал в начале года, и обсуждая вместе с ними, чем теперь могла бы завершиться революция.
Джон Рид хотел знать, кто производил на массы более сильное впечатление: Ленин или Троцкий? Хотя он был убежденным и знающим социалистом, он ничего не знал о неуловимом лидере большевиков до того момента, пока американская пресса наконец не начала писать о Ленине после «июльского кризиса». Джон Рид, естественно, хотел встретиться с ним{829}. Альберт Рис Вильямс был уверен, что революционная Россия поможет Джону Риду достичь зрелости, как она помогла и ему самому: «Революция – это не то, с чем можно играться. Нельзя принять ее, а затем бросить. Это хватало тебя, встряхивало – и навсегда овладевало тобой». Большевики стремились добиться такой социальной справедливости, в которую верили оба американца, и они «были увлечены этой идеей больше, чем кто-либо другой». Они расценивали предстоявшую схватку как открытую классовую борьбу. «Никто не должен есть торт, когда все остальные едят хлеб», – призывал Альберт Рис Вильямс. Эти высокие идеалы были прекрасны – теоретически, на расстоянии; как вскоре окажется, революционная практика в Петрограде была совсем иной{830}.
Информация о подстрекательских высказываниях Джона Рида, предположившего, что если большевики захватят власть, то «первое, что они сделают, это выгонят все посольства и всех тех, кто связан с ними», позволила послу Дэвиду Фрэнсису заключить, что Джон Рид открыто поддерживал свержение правительства Керенского{831}. Как отмечал Джон Луи Фуллер, Джон Рид и Луиза Брайант уже предсказывали, «что через пару недель возникнут проблемы, когда Советы организуют здесь совместный митинг». На пути из Америки Джон Луи Фуллер «уже слышал, как они пророчествовали о многом, чего так и не случилось, так что, возможно, это также являлось их очередным ложным предостережением»{832}. Для большинства американцев, которые встречались в Петрограде с Джоном Ридом, поведение этого упрямого и откровенного соотечественника казалось провокационным. При этом они считали его политически зашоренным и даже глуповатым{833} [98]. Тем, кто уже много лет прожил в Петрограде, его политические взгляды казались весьма ограниченными и наивными. Для впечатлительных Джона Рида и Луизы Брайант поездка в Россию в значительной степени была политической авантюрой, возможностью стать свидетелями социалистического эксперимента в процессе его становления, но, приехав «на гребне контрреволюции», на завершающем этапе «мятежа» Корнилова, они вскоре в полной мере почувствовали, что российская столица находилась в политической и экономической блокаде{834}.
Луиза Брайант была поражена видом длинных очередей, «полураздетых людей, стоявших в пронизывающий холод», и «горестно пустых» магазинов. К своему ужасу, она обнаружила, что небольшая пятицентовая плитка американского шоколада стоила семь рублей – то есть около семидесяти пяти центов[99]. Она была удивлена нелепым видом «бесконечных витрин с цветами, корсетами, собачьими ошейниками и париками», в то время как (насколько ей было известно) продовольствия в городе оставалось лишь на три дня, и невозможно было где-либо купить теплую одежду{835}. Верхом абсурда было то, что эти корсеты – «самые дорогие, с осиной талией, да к тому же уже вышедшие из моды» – пользовались популярностью прежде всего среди старой аристократии, которая «в основном уже покинула столицу». Однако «Красный Петроград» сам по себе весьма сильно впечатлил ее своим масштабом, фундаментальностью, ощущением того, «что его воздвиг гигант, никак не считавшийся с человеческими жизнями». Он сохранил «суровую мощь» Петра Великого, который построил его двести лет назад с решительностью деспота, и все тяготы войны, обрушившиеся на него, не смогли подавить его духа или его культурной жизни.
«Невский после полуночи был так же занятен и интересен, как и Пятая авеню вечером, – отмечала Луиза Брайант. – В кафетериях подавали лишь слабый чай и бутерброды, но они всегда бывали полны… Шампанское по-прежнему искрилось в кабаре и ночных клубах при свечах еще долгое время, после того как отключали электричество»{836}. Кинотеатры, в которых можно было посмотреть последние американские фильмы с участием Чарли Чаплина, Дугласа Фэрбенкса, Мэри Пикфорд и других звезд, «сияли огнями до позднего вечера и были переполнены до самых дверей». Все еще можно было сходить в оперу в Мариинском театре, посмотреть «Князя Игоря» или «Бориса Годунова», послушать Шаляпина или же присоединиться к публике, наслаждавшейся изысканными танцами Тамары Карсавиной в аншлаговом балете «Пахита»{837}. После нескольких месяцев отсутствия в Михайловский театр вернулась французская труппа с репертуаром беззаботных комедий, компенсировавших драматическую мрачность постановки Мейерхольда «Смерть Иоанна Грозного» по трагедии Алексея Толстого в Александринском театре{838}. «Единственное отличие заключалось в публике», которая теперь представляла собой «пеструю толпу, пахнущую сапогами и потом» и, вероятно, «оставшуюся без хлеба, чтобы купить себе дешевые билеты»{839}.
Джон Рид был также крайне удивлен, обнаружив, что «игорные клубы лихорадочно работали от зари до зари; шампанское текло рекой, ставки доходили до двухсот тысяч рублей. По ночам в центре города бродили по улицам и заполняли кофейни публичные женщины в бриллиантах и драгоценных мехах»{840}. Один из очевидцев отмечал, что, «словно в погибавших Помпеях, город пировал и веселился», в то время как вулкан уже грохотал{841}. Жители российской столицы, тем не менее, были весьма взволнованы слухами о немецком наступлении, сохранялась угроза налетов «Цеппелинов» и даже аэропланов. Часто проводились тренировки «на случай нападения, с сиренами, мобилизацией пожарных команд, затемнением», но эти меры казались бесполезными в городе, где лишь в нескольких зданиях были подвалы для укрытия людей. В российской столице ощущалось такое отчаяние, что некоторые открыто высказывали пожелание, «чтобы немецкая армия пришла и взяла город (и чем быстрее, тем лучше), чтобы завершились все бедствия, пускай даже путем оккупации»{842}. Считалось лучше все что угодно, только не это затянувшееся состояние неопределенности. «Каждый день дух у русских падал все ниже, и вскоре он вполне мог достичь той отметки, когда Германия могла делать все, что только пожелает, – писал Лейтон Роджерс. – Мне кажется, что активная пропагандистская кампания союзников стоимостью в несколько миллионов долларов, организованная знающими людьми, хорошо понимающими ситуацию, смогла бы что-то противопоставить немцам и спасти этот великий, щедрый к нам народ. Но мы не ведем такой пропагандистской кампании – и мы проигрываем, поскольку иного не дано»{843}.
По мере того как изломанная политическая жизнь города двигалась от одного кризиса к другому, в период с 14 по 22 сентября 1917 года в Александринском театре Петрограда состоялось Всероссийское демократическое совещание, на котором присутствовало около 1600 делегатов. На этом форуме национальному руководству предстояло разработать программу революционной демократии для нового правительства и представить ее на утверждение Учредительному собранию. Как и Московское государственное совещание, проведенное в августе 1917 года, это была последняя попытка в условиях продолжавшегося политического хаоса создать хоть какой-то союз между «правыми» силами, либеральными кадетами и «левыми» из числа социалистов. Однако мало кто надеялся на успех этого форума. «Демократическое совещание похоже на грубо и поспешно построенный сарай, в котором полно дыр и щелей, – писал Гарольд Уильямс. – Люди собрались в нем, чтобы согреться и укрыться от холода и злых ветров, которые дуют над Россией этой осенью революции, но там сложно найти уют»{844}. Американский квартет в составе Бесси Битти, Луизы Брайант, Джона Рида и Альберта Риса Вильямса также был там, как и другие иностранные журналисты и дипломаты союзных стран, которым позволили наблюдать за ходом работы совещания из бывших царских лож (сколотые символы дома Романовых на них были заменены красными флагами и революционными плакатами).
Для утонченного и умудренного Сомерсета Моэма, занимавшего видное положение в обществе, организация чреватого непредсказуемыми последствиями и воинственно настроенного совещания социалистов с участием плебеев такого рода, с которыми он никогда бы не связался, была достаточно большим откровением. Он с явным пренебрежением изучал «крестьянские» типы в зале, а его общее впечатление о них сложилось как о «неразвитых и грубых людях» с «лицами, свидетельствующими о невежестве, на которых написаны отсутствие мысли, ограниченность, упрямство». Несмотря на отсутствие образования у многих участников этого собрания, они радостно выслушивали пространные речи, которые произносились «весьма бойко, но с однообразным пафосом». По мнению Моэма, ораторы были из того типа людей, которых можно было бы встретить «обращавшимися к участникам митинга в поддержку какого-либо радикального кандидата в избирательном округе на юге Лондона». Он нашел их, со всей их бойкостью и привычкой колотить по трибуне, весьма заурядными и подумал, что это «удивительно», что такие люди претендуют на то, чтобы «править такой огромной империей»{845}.
Артур Рэнсом тоже был там (это была одна из его последних командировок перед возвращением в Англию); он отметил, что «настоящий энтузиазм на совещании вызвала лишь речь Керенского», который вышел на трибуну, одетый в солдатскую защитную гимнастерку. Сомерсет Моэм был поражен тем, что в Керенском не чувствовалось физической силы. Он казался «зеленым, с лица у него не сходило выражение тревоги»; когда он выступал с энергичной пламенной речью (более часа без остановок), в которой он просил вотум доверия, настаивая на том, что только коалиционное правительство может спасти страну, «вид у него был странным, загнанным»{846}. Артур Рэнсом, который находился «буквально в метре» от Керенского, заметил, что тот был в крайне напряженном состоянии. «Я видел, как на лбу у него выступил пот, я наблюдал, как кривился его рот, когда он сталкивался то с одной, то с другой группой своих противников», – писал Рэнсом в своей телеграмме в «Дейли ньюс», находясь под впечатлением от тех «огромных усилий», которые приходилось прилагать Керенскому, чтобы справляться с «постоянными нападками со стороны «левых»»{847}.
Направляя статью для «Дейли кроникл», Гарольд Уильямс никак не мог одобрительно отозваться о раздражающем помпезном стиле, которого постоянно придерживался Керенский, его покоробил также откровенный наигрыш, вплоть до «болезненной эмоциональности». Наряду с этим он должен был признать, что «[был] ли Керенский великим человеком или нет», в то время «в России больше никто другой» не мог бы занять его места; во всяком случае, не глумившиеся над ним большевистские злопыхатели{848}. Рэнсом был встревожен их поведением: «Только они в момент ужасных затруднений продемонстрировали на совещании безответственную беспечность дискуссионного клуба», «улыбаясь в зале и проявляя полное равнодушие к заявлениям своих ораторов о крови и слезах»{849}.
Во время своего выступления Керенский «стоял практически среди участников совещания, как будто он пытался обратиться к каждому лично». Сомерсет Моэм смог увидеть, что тот «взывал к чувствам, не к разуму». Для него это было «искреннее, прямодушное выражение чувств», и, как сдержанный англичанин, он посчитал, что в этом «проступило нечто жалкое». Однако Керенский искусно манипулировал этим, поскольку такое проявление чувств явно оказывало «подавляющее влияние» на более восприимчивых русских, которых, как казалось, было легко завоевать силой слова. В конце этого выступления Керенскому устроили овацию, но это произошло последний раз. Сомерсет Моэм вспоминал: «Он произвел на меня впечатление человека на пределе сил»{850}. Состояние Керенского было неудивительным для совещания, участники которого были крайне разобщены. Голосование проходило сумбурно, а весь ход совещания сопровождался бесконечными, мучительными задержками. Большевики встречали в штыки любые компромиссные предложения и в конце концов в знак протеста покинули зал заседаний; после этого появилась возможность принять (незначительным большинством голосов) резолюцию, позволявшую Керенскому до выборов в Учредительное собрание сформировать в качестве представительного органа Предпарламент (Всероссийский демократический совет){851}.
26 сентября Артур Рэнсом морем отправился домой с четким ощущением приближающейся опасности. То, что он увидел на Всероссийском демократическом совещании, убедило его, что большевики готовили захват власти. Он надеялся, что краткая передышка в Англии, рыбалка позволят ему отдохнуть и восстановить свои силы, прежде чем он вернется в Петроград для того, чтобы проследить за развязкой. Однако он ошибся: события не стали дожидаться его[100]. В Петрограде в ожидании неизбежного остался его друг и коллега-журналист Гарольд Уильямс, который испытывал весьма дурные предчувствия относительно того, что должно было произойти: «Не имеет особого значения, какие принимаются решения, – написал он вскоре после Всероссийского демократического совещания. – Судьба России решается не здесь. Тут действуют совсем другие силы, настоящие, суровые, неумолимые, именно они управляют Россией; кто же может предвидеть либо предсказать какую-либо судьбу в это горькое и трагическое время?»{852} Сэр Джордж Бьюкенен, также присутствовавший на некоторых заседаниях Всероссийского демократического совещания, достаточно выразительно описал его. Направив соответствующий отчет в Министерство иностранных дел, он заявил, что «единственным его результатом стало расщепление демократии на бесчисленное множество маленьких групп и подрыв авторитета ее признанных лидеров». Он продолжил следующим предостережением: «Одни только большевики, составляющие компактное меньшинство, имеют определенную политическую программу. Они активнее и лучше организованы, чем все остальные группы, и, пока они и пропагандируемые ими идеи не будут полностью подавлены, страна по-прежнему будет оставаться во власти анархии и беспорядка… Если правительство не окажется достаточно сильным, чтобы подавить большевиков, даже рискуя разрывом с Советом, останется единственная возможность – большевистское правительство»{853}.
На фоне этих грустных и мрачных оценок энергичный представитель Американского Красного Креста Раймонд Робинс оставался вызывающе оптимистичен. Он присутствовал на всех заседаниях Всероссийского демократического совещания, несмотря на то что это оказалось «непрерывной работой самого требовательного характера» (дважды сессии затягивались до четырех часов утра). Он был взволнован проведением этой «Социал-демократической конференции, на которой власть правительства была впервые в мировой истории представлена в рамках социалистического руководства»{854}. Отметив несомненный ораторский талант Керенского, Раймонд Робинс наряду с этим обратил внимание на то, как харизматичный Троцкий в ходе совещания мобилизовал сторонников большевиков. Он покинул форум с ощущением того, что «Троцкий являлся самым умелым и опасным лидером крайне левых сил». Кроме того, у него сложилось впечатление, что Всероссийское демократическое совещание приблизило неизбежное столкновение между большевиками («партией, провозглашавшей разрушительный сепаратный мир») и умеренными силами. Многие уже покинули Петроград, «полагая, что буквально через день или два начнутся столкновения между группировками и гражданская война с убийствами и грабежами». 24 сентября Раймонд Робинс именно это сказал своей жене; и все же он был по-прежнему убежден, что новое коалиционное правительство «еще овладеет ситуацией». Несмотря на всю неопределенность, он был уверен в успехе своей миссии: «Тот факт, что мы живем на краю вулкана и что в любой день мы можем погибнуть, просто придает остроты нашей работе… Я доволен тем, что революция никогда не повернет вспять и что Россия добьется многого в достижении свободы и социального прогресса»{855}.
Изможденный сэр Джордж Бьюкенен, после многих лет пребывания в России, не был так оптимистичен. Вскоре после Всероссийского демократического совещания он предложил своим коллегам из Франции, Италии и США сделать правительству Керенского «коллективное представление касательно военного и внутреннего положения»{856}. Дэвид Фрэнсис отказался принимать в этом участие, и его помощник Дж. Батлер Райт прокомментировал данный факт с тревогой: «Все, кроме одного [Фрэнсиса], считают, что в ближайшее время неизбежно произойдет конфликт – и весьма серьезный. Мы горячо желаем, чтобы он состоялся – и чтобы с этим было покончено»{857}. 25 сентября сэр Бьюкенен и другие его коллеги встретились с Керенским, чтобы призвать правительство «сконцентрировать свои усилия на ведении военных действий» и поддержании внутреннего порядка, увеличении производительности предприятий и восстановлении строгой дисциплины в армии. Однако, как только сэр Джордж зачитал их вполне сдержанную по тону совместную ноту, Керенский «мановением руки» прервал встречу и «вышел, воскликнув: “Вы забыли, что Россия по-прежнему великая держава!”». Сэр Джордж нашел такой раздражительный «наполеоновский жест» недостойным его. Коллега сэра Джорджа, Луи де Робьен, метко заметил в этой связи: «Царь также отказался слушать сэра Джорджа в подобных обстоятельствах – и спустя несколько недель он потерял корону!»{858}
Сентябрь сменился октябрем, а жизнь в Петрограде по-прежнему состояла из тех же самых утомительных фракционных распрей, лозунгов, бессмысленных митингов, стихийных забастовок, слухов и их опровержений. «Бесконечная болтовня там, где требовались действия, колебания, апатия, когда апатия могла привести только к разрушению, высокопарные декларации, неискренность и формальное отношение к делу – везде я встречаю то, что вызывает у меня отвращение», – устало писал Сомерсет Моэм{859}. «Агитаторы крайне настойчивы, – отмечал Лейтон Роджерс. – Каждый день в различных районах города проходят митинги против того и против этого, против всего, чего только можно протестовать… Как только вы начинаете питать хотя бы малую надежду на что-либо, распространяется обескураживающий слух – и ваша надежда исчезает. Настроение в городе падает медленно, но неуклонно»[101]. «Всегда и везде все тот же хаос, все та же неопределенность, – писала француженка Луиза Патуйе. – Революция – это и правда дорога на Голгофу»{860}.
Чувствовалось приближение зимы, в голодающий город вернулись пронизывающие туманы, пробирающие до костей ветры, затяжные дожди, совсем не стало солнца. Улицы приобрели жалкий вид, так как из мостовой крали деревянные бруски, и в ней оставались зияющие дыры. На некогда величавой площади перед Зимним дворцом булыжники заросли травой. Если летом людской поток на переполненных улицах Петрограда окрашивался в яркие цвета, то осенью он становился однообразно серым и «смертельно угнетал своей грязью, шумом и хаотичным движением»{861}. Под полным дождя свинцовым небом город казался еще более тоскливым.
«Бедность и грязь. Таковы мои впечатления по прибытии сюда, – мрачно писал новый посол Бельгии Жюль Дестре, сойдя с поезда в середине октября 1917 года. – В это время года, поздней осенью, Петроград являет собой отвратительную сточную яму. Жидкая, липкая грязь покрывает проезжую часть и мостовую. Она забрызгивает окна нижних этажей у зданий, растекается по колеям на дороге, предательски хлюпает под ногами, из-за нее вы рискуете поскользнуться на шатких булыжниках. Такую жуткую картину я мог наблюдать лишь на некоторых глинистых улицах в Константинополе. Местные улыбаются, видя мою брезгливость, сами они барахтаются в этой трясине с привычной безропотностью. Это один из пороков войны – есть и другие, гораздо хуже. В прежние времена мостовые содержались в хорошем состоянии, но армия забрала все людские ресурсы, и грязь взяла верх над беззащитной столицей»{862}.
Как и каждого вновь прибывшего, бельгийского посла глубоко встревожили картины голодающих, оборванных жителей, стоявших в очередях: они казались «смирившимися, покорными, без всяких указаний со стороны полиции они просто становились в очередь, один за другим…они просто ждали, в дождь и ледяной ветер, дрожа от холода». Он пришел к выводу, что у них «менталитет фаталистических рабов», и не имело значения, какое правительство стояло над ними{863}.
В то время как Петроград находился в некотором отупении, вызванном голодом и истощением, на улицах города появилась новая опасность. Поскольку электроэнергию для бытовых нужд теперь стали подавать лишь с шести часов вечера до полуночи, а уличные фонари не зажигали из опасения налетов «Цеппелинов», число грабежей, изнасилований и убийств в ночное время резко возросло. Лишь немногие отваживались появляться на улице после одиннадцати часов вечера, а те иностранцы, которые вынуждены были делать это, старались держаться середины улицы, сторонились темных закоулков и, если у них был револьвер, носили его в кармане{864} [102].
Артур Рейнке отмечал, что его друзья выкладывали за револьверы по 125 долларов за штуку. «Я понял, что если оказываешься ночью на улице, то желательно иметь при себе 30 рублей, – указал он, – чтобы спокойно отдать их бандиту и тем самым избежать болезненного и неприятного допроса». В то время иностранцев подстерегало на улице множество опасностей: «С женщин на улице прямо с ног снимали обувь, с мужчин – одежду. В меховой магазин напротив гостиницы вошли трое мужчин, один из них начал стаскивать в кучу дорогие меха, не заплатив за них. Хозяин позвал на помощь, тут же появилась рассерженная толпа, окружила этих троих и забила их до смерти. Впоследствии выяснилось, что двое других были обыкновенными покупателями. У одного моего друга средь бела дня солдат вытащил из галстука булавку прямо на Невском проспекте… У его матери солдат стащил с колен кожаную сумочку, когда она сидела в трамвае; у дверей он повернулся, игриво погрозил ей пальцем, как ребенку, и спрыгнул… В нашей гостинице пропал один из постояльцев, через неделю его тело было найдено в реке; при нем была крупная сумма денег – их, естественно, не нашли»{865}.
Людей часто резали и убивали просто потому, что при ограблении они не отдавали свои ценные вещи достаточно быстро. Как вспоминал Артур Рейнке, воры всегда носили солдатскую форму и винтовку; они останавливали прохожих под предлогом проверки документов, а затем «обчищали» своих жертв. Многое из ворованного в конечном итоге оказывалось в центре города на так называемом «Солдатском рынке», где можно было встретить сотни солдат, «продававших добычу»; «там было все, что угодно: военная форма, сапоги, оружие, ювелирные изделия, картины, скульптуры и другие вещи, по всей видимости, украденные ими»{866}. Воровство приобрело масштабы эпидемии, и не только в Петрограде. Поставки продовольствия постоянно срывались, потому что поезда, доставлявшие его в Петроград, разграблялись задолго до того, как они прибывали в город. Такая картина была теперь характерна для всех сельских районов России, где давно сдерживаемый джинн анархии вырвался на свободу и обратился к ужасной, жестокой мести. Крестьяне (в первую очередь на юге России) устраивали бунты в поместьях, убивали своих помещиков, грабили и уничтожали их усадьбы, сжигали их, забивали скот, сжигали в амбарах зерно.
В отсутствие «главного революционера Ленина», который все еще скрывался в Финляндии, наиболее яркой фигурой на политической сцене в Петрограде осенью 1917 года, несомненно, являлся Лев Троцкий{867}. Несмотря на то что вначале он был меньшевиком и какое-то время в определенной степени политическим дилетантом, организация им забастовок и митингов после «Кровавого воскресенья» 1905 года положила начало его политической популярности. Совершив в 1907 году побег из ссылки в Сибири, он поселился сначала во Франции и Испании, а затем, после депортации, в Нью-Йорке. Когда разразилась Февральская революция, он поспешно покинул свою квартиру в Бронксе, чтобы вернуться в Россию и связать свою судьбу с большевиками. В то время как неврастенический Ленин все еще боялся выходить из подполья, Троцкий постепенно начинал олицетворять собой большевистское руководство. Луиза Брайант, увидев его выступление на Всероссийском демократическом совещании, нашла его «похожим на Марата». Он выступал желчно, «дьявольски страстно», он «всколыхнул участников совещания, словно сильный ветер – высокую траву». Ни один другой оратор не создавал «такого ажиотажа» и не провоцировал «такой ненависти одними только своими репликами»; он умел подбирать страстные, «язвительные выражения», сохраняя при этом холодную голову{868}.
25 сентября Троцкий подтвердил свою популярность, избравшись председателем Петроградского Совета, в котором у большевиков теперь было большинство. Арно Дош-Флеро находился в Смольном институте и стал свидетелем митинга, организованного в большом актовом зале этого бывшего учебного заведения для барышень: «За исключением небольшой группы рабочих, зал был заполнен солдатами – крупными, бородатыми, белокурыми крестьянами с севера России, которые дезертировали с Рижского фронта. На сцене была дюжина чернявых людей с лицами фанатиков, облаченных в черные кожаные галифе и куртки, какие носят курьеры-мотоциклисты в армии. Возвышаясь над залом, они явно контрастировали своими черными волосами и черной одеждой с тысячью светлых, цвета соломы, голов»{869}.
Как отметил Арно Дош-Флеро, черные кожанки стали повсеместной формой одежды у большевиков. Троцкий тоже носил такую – она превратилась в его отличительный знак, его визитную карточку. Как и Луиза Брайант, Арно Дош-Флеро слышал полную агрессии, резкую речь Троцкого, когда тот заявил на митинге в Смольном, что русская революция приближается к тому моменту, где была Французская революция, «когда якобинцы поставили гильотину». Узнав, что Троцкого в тот день избрали председателем Петросовета, Арно Дош-Флеро, согласно его воспоминаниям, в тот момент почувствовал «уверенность в том, что большевистская революция победит»{870}. Лейтон Роджерс также отметил силу риторики Троцкого: «Этот человек, Троцкий, он просто король агитаторов: он способен вызвать волнения даже на кладбище». Лейтон Роджерс стал свидетелем выступления Троцкого рядом с особняком Кшесинской и был взволнован «диким взглядом его кошачьих глаз с нервным тиком». Троцкий говорил с «энтузиазмом и напором фанатика, не способного поспевать за своими идеями и не стремящегося к достоверности»{871}.
Лейтон Роджерс достаточно хорошо знал русский язык, и он мог без проблем понимать уже знакомую ему напыщенную большевистскую риторику Троцкого. По мнению Роджерса, речь Троцкого сводилась к тем крикливым, демагогическим фразам, которые он иронически перефразировал в своем дневнике следующим образом: «Товарищи, через несколько недель, через неделю, через несколько дней мы избавимся от нашего рабства, навязанного нам капиталистическим правительством Керенского, инструмента английских и французских империалистов, и вырвем власть из его рук. Мы сделаем это для вас, чтобы вы смогли стать свободными людьми, для чего и была необходима революция. Вы должны поддержать Совет, потому что мы дадим вам: во-первых, мир, во-вторых, хлеб, в-третьих, землю. Да, мы заберем всю землю у богатых и разделим ее между крестьянами; мои друзья на заводах, мы сократим часы работы до четырех и удвоим ту зарплату, которую вы теперь получаете. И вы увидите, что преступники старого режима и самодержавного правительства Керенского будут наказаны, наряду с имущими капиталистами, которые поработили вас и крестьян. Поддержите нас, товарищи, присоедините свои голоса к нашей борьбе лозунгами: «Да здравствует международный пролетариат и русская революция!», «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», «Вам нечего терять, кроме своих цепей!».
Роджерс знал, что это был «полный вздор», и признавался в своем дневнике, что у него «возникло чувство определенной неловкости… Многие были готовы последовать за Троцким, и это было опасно. Они на самом деле были просто загипнотизированы его речами». Троцкий смог увлечь весь Петроград, утверждая, что русский народ проиграет революцию, если будет продолжать войну. Ему нужен мир, чтобы быть свободным и «начать войну против буржуазии»{872}.
В отличие от полного энергии Троцкого, Керенский был очень больным человеком. Последнее время у него были проблемы с желудком, легкими и почками[103], и он все более зависел от морфина и бренди, к которым прибегал, чтобы справляться с физической болью и хронической усталостью{873}. Когда Луиза Брайант и Джон Рид наконец получили возможность встретиться с ним в Зимнем дворце, он казался окончательно сломленным. Они нашли его в частной библиотеке Николая II, «[лежащим] на кушетке, уткнувшись лицом в свои руки, как если бы он внезапно заболел или же был совершенно измучен». Луиза Брайант списывала на эту усталость тот факт, что Керенский считал, что «надвигающаяся классовая борьба» продлится долгое время, для чего у него, возможно, не хватало здоровья или энергии. «Помните: это не политическая революция, – сказал он ей. – Это не похоже на Французскую революцию. Это экономическая революция». Она потребует «полной переоценки классов» и перетасовки многих национальностей в России. «Помните, что у Французской революции на это ушло пять лет и что во Франции был один народ, – сказал он ей, а затем добавил: – Франция занимает по площади одну из наших провинций. Нет, русская революция еще не закончена – она только начинается»{874}.
Не в силах более выносить этого, Керенский в отчаянии обратился к британскому агенту Сомерсету Моэму, вызвав того в Зимний дворец. К этому моменту Моэм уже послал в Нью-Йорк своему куратору Уильяму Вайсману шифровку о том, что популярность Керенского быстро падает. По его мнению, британскому правительству надо посоветовать поддержать меньшевиков в борьбе с большевиками и для этого выделить деньги на программу шпионажа и политической агитации через секретных чешских агентов, которых он знал в городе. На встрече в Зимнем дворце Керенский попросил Моэма запомнить для британского премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа тайное послание и отправиться с ним в Англию. В нем он просил срочно прислать оружие и боеприпасы и отозвать сэра Джорджа Бьюкенена, которого Керенский не любил. «Я не понимаю, как мы можем действовать дальше», – сказал он Моэму. Ему требовалось сообщить армии что-то положительное, чтобы та продолжала воевать{875}.
Сомерсет Моэм в тот же вечер покинул Петроград на британском эсминце, направлявшемся в Осло. Когда Моэм передал Ллойду Джорджу просьбы Керенского, все они были отклонены, но Моэм не смог вернуться в Петроград и сообщить об этом. В то же время сэр Джордж Бьюкенен, который продолжал упорно убеждать Керенского занять активную позицию и, пока не поздно, уничтожить большевизм, в очередной раз встретил отказ. Керенский сказал ему, что он не мог ничего предпринять против большевиков, «пока те сами не поднимут вооруженное восстание, спровоцировав тем самым вмешательство правительства», поскольку это может вызвать контрреволюцию{876}. Сомерсет Моэм понял, почему Керенский оказался неспособен предпринять необходимые решительные шаги. Как Моэм писал позже в своих мемуарах, Керенский «больше боялся сделать что-то неправильное, чем стремился сделать что-либо верное, поэтому он ничего не предпринимал, пока его не вынуждали к этому другие»{877} [104]. Керенскому-миротворцу оставалось дожидаться попытки большевистского переворота, чтобы начать решительно действовать в ответ на него. Даже на этом заключительном этапе он все еще верил, что сможет одержать верх. «Я хочу, чтобы они проявили себя, – сказал он сэру Джорджу, – и тогда я смогу подавить их»{878}.
К середине октября вновь появились сообщения о росте враждебности по отношению к иностранцам в Петрограде. С начала месяца ходили слухи о том, что большевики планируют устроить «бойню американцев» или даже готовы в любое время организовать «массовое убийство иностранцев»{879}. «Должно быть, возникла какая-то угроза, – писал Лейтон Роджерс в своем дневнике, – потому что посольство негласно сообщило всем американцам, что у набережной выше Литейного моста будет стоять речное судно, готовое взять их на борт в случае беспорядков…пройти вверх по реке до Ладожского озера и высадить их на берегу рядом с Мурманской железной дорогой, где они смогут сесть на поезд». Пароход, арендованный военно-морским атташе США Вальтером Кросли, находился в полной готовности и был обеспечен необходимыми навигационными картами. На его борту круглосуточно дежурили два добровольца-охранника из американской колонии{880}. Лейтон Роджерс и его коллега Фред Сайкс как раз заступили на это дежурство, прихватив с собой «банку бобов, спиртовку и термос кофе». Для самозащиты их обеспечили старинным кольтом 38-го калибра и инструкцией, в которой сообщалось, как «стрелять на поражение», если в этом возникнет необходимость. Они были поражены, обнаружив, что находившееся в исправном состоянии судно «Гетэуэй»[105] (так назвал его их банковский коллега Джон Луи Фуллер) было недостаточно велико, «чтобы вместить хотя бы половину американцев, проживавших в Петрограде», и на его борту не было никаких продуктов питания. В лучшем случае на нем могло разместиться 150–200 человек. Наряду с этим неподалеку Роджерс и Сайкс смогли различить в темноте «один из самых крупных и роскошных речных пароходов, на котором при необходимости могли бы поместиться несколько сотен человек»; как оказалось, он был «зафрахтован французским посольством»{881}.
«Дела здесь принимают скверный оборот, – писал домой 11 октября британский консул Артур Вудхауз, услышав заявление большевиков о том, что они скоро начнут «подавлять» буржуазию. – Признаюсь, я бы не хотел тут быть, но сейчас не время проявлять трусость. Я не могу сейчас просить позволить мне уехать, вне зависимости от того, насколько велика опасность. Ведь здесь все еще находятся более 1000 британцев, и я вместе со своими коллегами должен буду оказать им помощь, если возникнут чрезвычайные обстоятельства. Судя по той информации, которая поступает в консульство, наше присутствие сейчас здесь необходимо»{882}. До Дэвида Фрэнсиса также доходили слухи о том, что «большевики составили список людей, которых они намерены убить, британский посол возглавляет этот список, я тоже вписан в верхние его строчки». «Я не верю этому, – успокаивал он своего сына в письме домой, – и, следовательно, не намерен предпринимать каких-либо шагов в этой связи»{883}.
Прагматичный Фил, однако, готовился к худшему: «Дай несколько дней и ночей – и увидишь на Невском проспекте десять или двадцать тысяч человек с черными флагами и плакатами на них написано мы идем убивать всех американцев и всех богачей – значит и меня и [всех] кто в Белой рубашке. Я говорю Губернатору что они опять хотят убить нас. Губ говорит все в порядке будь готов. Я говорю да я совсем готов и Губ говорит мне зарядить Пистолет и посмотреть что Она работает. Он говорит он прихлопнет двух или трех прежде чем уйдет»{884}.
Несмотря на обстановку полной неопределенности, 19 октября Лейтон Роджерс и его коллега Фред Сайкс с радостным нетерпением ожидали переезда из своего нынешнего холодного и продуваемого сквозняками помещения в новую замечательную квартиру, которую бесплатно предоставила им на шесть месяцев американская чета из «Американской международной корпорации», возвращавшаяся на это время в США. В квартире были «прекрасные ковры, красивая мебель, гобелены и картины, которые радовали глаз». Там были также книги и «полногабаритный фонограф с полной коллекцией записей “Gold Seal”», не говоря уже о современной ванной комнате, поваре и двух горничных, которые поддерживали в квартире порядок. Лейтон Роджерс и Фред Сайкс были рады избавиться от нынешнего шумного соседства: «нам больше не доведется слышать, как девушка наверху двадцать раз подряд играет песню “Get Out and Get Under”, а члены Всесибирских соляных шахт или какие-либо еще постояльцы в тяжелой обуви устраивают танцы, от которых на наши ковры с потолка осыпается штукатурка». Они решили переезжать в воскресенье, 22 октября{885}.
Роджерс, конечно, вряд ли знал о том, что двенадцать дней тому назад Ленин тайно вернулся в Петроград, сбрив бороду и надев парик и очки, и теперь скрывался на конспиративной квартире на Выборгской стороне, разрабатывая планы окончательного свержения правительства Керенского. В ночь на 10 октября двенадцать членов Центрального комитета большевиков провели 10-часовое изнурительное совещание, на котором проголосовали (10 человек – «за», умеренные Каменев и Зиновьев – «против») за немедленное вооруженное восстание. Ленин весь горел от нетерпения; он уже несколько недель настаивал на том, что власть надо захватывать сейчас, однако некоторые в большевистском руководстве опасались наносить удар слишком рано. Все были измучены; как отнесется народ, озабоченный каждодневным выживанием к новым выступлениям? Под руководством Троцкого, который в отсутствие Ленина играл решающую роль в подготовке восстания, была достигнута договоренность о том, что необходимо проявить осторожность и дождаться Второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, который должен был открыться 25 октября и который придал бы восстанию бо́льшую законную силу.
Это решение не было секретом, и многие в городе хотели, чтобы большевики захватили власть и закрыли этот вопрос, «чтобы разрядить эту крайне напряженную обстановку»{886}. Среди них был и Джон Рид, который вместе с Альбертом Рисом Вильямсом после завершения работы Демократического совещания вновь занимался «неустанным поиском» нового материала, «перемещаясь от Зимнего дворца к Смольному институту, из посольства США на Выборгскую сторону, пытаясь оказаться одновременно везде, выискивая переводчиков для читки газет, перебирая и оценивая самые противоречивые заявления». Как вспоминал Альберт Рис Вильямс, они находились, «как и все остальные в российской столице, в утомительном, но упорном ожидании того, что должно было произойти. Это напряженное ожидание было, как лихорадка»{887}.
Глава 14 «К утру город был в руках большевиков»
«Большевики вновь обещают устроить неприятности, на этот раз 21 или 22 числа этого месяца, по русскому стилю», – записал банковский служащий Джон Луи Фуллер в своем дневнике 11 октября; однако, как и его коллеги, Роджерс, Сайкс и Свиннертон, он не принял этого всерьез. Они уже слышали это раньше: «каждый раз, когда большевики громко заявляют о своих намерениях, ничего так и не происходит». На этот раз, однако, он признал, что атмосфера в городе была зловещей, а спустя несколько дней большевики подтвердили свое обещание. «Беда порой приходит без большого шума, – был убежден Фуллер, – и тогда это настоящая беда»{888}.
После недавнего перевода двенадцати сотрудников филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка в Петрограде в московский филиал оставшимся приходилось работать за четверых, на пределе сил. В субботу вечером, 21 октября, Фуллер работал допоздна и покинул банк одним из последних. Если не считать света его настольной лампы, везде стояла кромешная тьма: «Если бы я не знал, что перед банком стоит на страже несколько солдат, я бы подумал, что я остался здесь единственной живой душой»{889}. Заканчивался керосин, а это означало, что при дневных отключениях электричества им придется напрягать глаза, чтобы рассмотреть документы; но когда солнце садилось, после четырех часов, работать становилось уже слишком трудно. В конце концов 21 октября завершалось; Фуллер сходил на очередное занятие по русскому языку, а затем занялся поисками вишневого варенья, чтобы утолить свой голод по сладкому. Проделав достаточно большой путь, он вернулся домой с семью килограммами этого варенья и драгоценным, но ужасно дорогим английским молочным шоколадом. Однако запасы варенья следовало растянуть, учитывая предстоящее сокращение норм хлеба и чая, с которыми можно было наслаждаться этим вареньем. Все пытались достать яйца: по своей продуктовой карточке они могли получить только одно яйцо в неделю. Лейтон Роджерс шутил в этой связи, что дефицит яиц образовался, возможно, из-за того, что даже куры объявили забастовку. «В ближайшее время мы сможем получить ответ на вопрос, который на протяжении многих веков не давал покоя философам: «Что появилось раньше: яйцо или курица?» – поскольку узнаем, что из них останется последним»{890}.
Как и все остальные сотрудники банка, Роджерс внимательно следил за тем, не появятся ли на улице какие-либо настораживающие признаки, и наряду с этим надеялся на то, что Временное правительство просто выжидает и сможет пресечь большевистскую угрозу в зародыше. В то время как его друг Фуллер в эту субботу был озабочен поисками варенья, Роджерс наблюдал на улице военные шествия, символическую демонстрацию силы. Вначале прошли юнкера офицерского училища, затем – один из Петроградских женских батальонов: «В новой российской форме, в длинных шинелях, подпоясанных ремнями, серых каракулевых шапках, сдвинутых чуть набок, и винтовками со штыками за левым плечом, они шли по улице полным походным шагом русской пехоты». Роджерс был впечатлен, особенно когда женщины запели: они напомнили ему валькирий, воинственных дев-богинь{891}.
На следующий день в городе сохранялись напряженность и тишина. В цирке «Модерн», огромном концертном зале севернее Невы, который стал популярным местом для проведения политических собраний, состоялся очередной митинг с участием около 10 000 человек. В Народном доме, еще одном популярном публичном месте, Троцкий выступал со своей обычной пылкой речью, и толпа слушала его с почти религиозным жаром. Некоторые любопытствующие отважились в это воскресенье выйти на улицу, чтобы посмотреть, что может произойти, но в целом день прошел спокойно, несмотря на то, что на каждом углу, как заметил Лейтон Роджерс, суетились политические агитаторы, которые «высказывались с исступленной торопливостью и шли дальше»{892}. Отложив переезд на новую квартиру на три дня, чтобы переждать этот новый обещанный всплеск революционного насилия, Роджерс и Сайкс в конце концов наметили новоселье на среду, 25 октября. Очень скоро они пожалели об этом решении.
«Они начали! Они делают это прямо сейчас, когда я пишу, – возбужденно нацарапал Роджерс в своем журнале 25 октября. – Пулеметные очереди и залпы винтовок слышны по всему городу. Похоже на то, словно готовят огромный попкорн. А мы хотели переезжать в этот день!»
Уйдя с работы рано утром, чтобы собрать последние вещи перед переездом, двое американцев из банка почувствовали «в воздухе всеобщее напряжение, нервозность полутора миллионов людей». Однако, после того как в течение трех предыдущих дней ничего так и не произошло, они «не обратили на это внимания», пока не вышли на улицу, чтобы найти три пролетки и отвезти свои вещи по новому адресу. Они вдруг увидели, что улицы были полны людей, спешивших, «почти бегом, к реке, в частности, к Дворцовому мосту». Поначалу они предположили, что бегущие спешат к мосту, чтобы успеть перебраться через Неву до того, как его разведут, как это уже случалось последние дни, чтобы отсечь поддерживавших большевиков рабочих и солдат Выборгской и Петроградской сторон от центра города. Однако им тоже надо было пересечь этот мост, чтобы добраться до своей новой квартиры, и к тому времени, как им удалось поймать три пролетки и после отчаянной торговли с извозчиками договориться о грабительской цене в десять рублей за каждую[106] для перевозки багажа, «улицы были уже черны от людей, толпами двигавшихся к Дворцовому мосту»{893}.
Толпа практически тащила пролетки в ту сторону. Стремясь спасти свои повозки, на которых находились все их пожитки (что осложнялось еще и тем, что один из извозчиков был мертвецки пьян), Роджерс и Сайкс не смогли прорваться к мосту: солдаты на улице прикладами винтовок заставили лошадей повернуть назад{894}. Площадь перед мостом уже вся бурлила: «Мужчины и женщины бежали в разные стороны, крича и жестикулируя; на углах собирались толпы. Люди скапливались на ступенях соседних зданий, набивались в оконные и дверные проемы, толпились на площадке Фондовой биржи и за ее колоннами, прижимались к стенам зданий, с ужасом ожидая чего-то страшного; так ждут, когда растягивается под приложенным весом огромная резиновая лента – вот-вот она сорвется и хлестнет, и ты с трепетом ждешь, насколько больно она ударит»{895}.
Потом кто-то открыл огонь, и в ответ со всех сторон раздались выстрелы. Начался кромешный ад: гудели автомобили, звенели трамваи, толпу охватила паника. Извозчики из трех пролеток, оказавшись в гуще всего этого, «встали в полный рост, принялись дергать за поводья и нахлестывать лошадей, истошно крича; при этом с каждым криком они не забывали требовать все больше и больше рублей»{896}. В отчаянии Роджерс и Сайкс убедили их направляться дальше по набережной к Троицкому мосту напротив посольства Великобритании, который пока еще не был поднят. В этот момент пьяный извозчик стал угрожать выбросить их дорожные сундуки и чемоданы на улицу и уехать, «заявив, что он большевик и может делать все, что ему заблагорассудится». Как вспоминал Роджерс, в ответ на это «мы с Фредом, придя в ярость, вскочили, помахали кулаками перед его лицом и сказали, что мы закусывали большевиками на завтрак и что, если он попытается жульничать, мы намнем ему бока». Похоже, это привело к желаемому результату: три пролетки, «с одним вменяемым извозчиком, вторым до смерти напуганным и третьим пьяным», удалось высвободить из толпы и направить к Троицкому мосту и через Петроградскую сторону. Однако не обошлось без остановки рядом с их банком, находившимся прямо напротив моста, куда Фред зашел, чтобы взять еще денег для уплаты жадным извозчикам. Когда они прибыли на место, извозчикам щедро заплатили, дав каждому по двадцать пять рублей – за пережитые ими неприятности; «полагаю, я находился под влиянием того религиозного чувства, которое охватило нас, когда началась стрельба». Только Роджерс и Сайкс успели занести свои вещи наверх в свою прекрасную новую квартиру, как «по всему городу началась гражданская война, заработали пулеметы, и все вновь погрузилось в хаос»{897}.
Лишь на следующее утро, идя на работу в банк, Лейтон Роджерс наконец понял, что правительство фактически пало «и что моя судьба в этой стране отныне будет управляться анархистами»{898}. Эти же чувства испытали и другие иностранцы, которые 26 октября обнаружили, что, пока они мирно спали в своих постелях, состоялась вторая революция. Советник британского посольства Фрэнсис Линдли отмечал, что по сравнению с февральскими событиями все произошло с гораздо меньшим драматизмом. «Этим утром мы проснулись и узнали, что город был в руках[большевиков]» и что переворот оказался в меру спокойным. «Рад сказать, что на сей раз нет никаких дьявольских скачек по городу и стрельбы в воздух». Временное правительство, «похоже, исчезло, – добавил он. – Мы не знаем куда»{899}.
После нескольких месяцев тревог и прогнозов ожидаемый большевистский переворот в Петрограде, когда он произошел, явился результатом скорее не героической борьбы рабочих, как это представлено в советской историографии, а капитуляции изможденного и угасавшего Керенского и практически беззащитного правительства. Нет никаких сомнений в том, что к середине октября большевики доминировали в Петрограде, в рядах их партии состояло около 50 000 человек, они контролировали Петроградский Совет. Они были хорошо вооружены, а солдаты и матросы, которые перешли на их сторону, отличались агрессивностью и воинственностью. Бесси Битти в этот раз нашла город, который она полюбила, «опустошенным, уродливым, отталкивающим». «В воздухе стоял запах смерти», и время от времени она пыталась отрешиться от дурных предчувствий, укрывшись в своей гостинице с книгой стихов. В течение нескольких недель все выискивали признаки дальнейших потрясений. «Это уже настало?» – постоянно спрашивали все друг у друга. «Каждый раз, когда гас свет, или отключалась вода, или громко хлопали дверью, или падало полено, Петроград сразу же решал: “Началось!”»{900}
«День за нем члены британской колонии приходили к моему отцу, чтобы спросить у него, что им делать, – вспоминала Мэриэл Бьюкенен. – Была ли надежда, что ситуация улучшится? Будут ли их жены и семьи в безопасности, если они останутся?» Это было огромным бременем ответственности для сэра Джорджа, но он мог «посоветовать им лишь обойтись малой кровью и уехать»{901}. Бьюкенены сами уже упаковывали вещи, поскольку сэр Джордж должен был поехать в Париж вместе с министром иностранных дел России Михаилом Терещенко, чтобы принять участие в конференции союзников, и Мэриэл собиралась со своей матерью поехать с ним и провести шесть недель в Англии.
Первые признаки «приближавшегося шторма», как назвал это сэр Джордж, появились, когда во второй половине дня 22 октября посольство было обеспечено вооруженной охраной юнкеров. Сотрудникам посольства объяснили, что большевики собираются в тот день «что-то предпринять»{902}. В ответ на рост напряженности в городе Керенский распорядился закрыть две основные большевистские газеты, «Солдат» и «Рабочий путь», которые открыто подстрекали к беспорядкам. Временное правительство также приняло решение об аресте Троцкого и членов недавно созданного им Петроградского военно-революционного комитета (который теперь контролировал армию и гарнизон в Петрограде) вместе с руководителями Петроградского Совета. Однако, не желая провоцировать большевиков на какие-либо действия, Керенский продолжал хитрить и изворачиваться.
На охрану (по существу, символическую) резиденции Временного правительства, располагавшейся в Зимнем дворце, были выделены молодые и неопытные юнкера, отряд самокатчиков, несколько казацких рот и около 135 женщин из Петроградского женского батальона, который буквально накануне был проинспектирован Керенским. Всего дворец охраняло около восьмисот человек[107], в их распоряжении было шесть полевых орудий, несколько броневиков и пулеметов{903}. Женщины, некоторые из которых были ветеранами «батальона смерти», сформированного Марией Бочкаревой[108], ожидали отправки на фронт для войны с немцами и не имели никакого желания защищать правительство Керенского. Графиня фон Ностиц видела, как они в тот день занимали свои позиции. Проходя по Дворцовой площади, она «с любопытством смотрела на этих девочек-солдат, как они слонялись у въездов во дворец с винтовками в руках. Они представляли собой достаточно пеструю толпу. Среди них были и рослые, здоровые, молодые крестьянки, и фабричные работницы, и гулены, набранные с улиц, иногда встречались женщины постарше другого типа – из интеллигенции, бледнолицые, с огнем в глазах»{904}. Некоторые из женщин были заняты тем, что сооружали из дров баррикаду на главных воротах.
Во второй половине дня 24 октября Луиза Брайант, Джон Рид и Альберт Рис Вильямс без каких-либо проблем миновали юнкеров, охранявших Зимний дворец, показав им свои американские паспорта и сообщив, что они идут «по официальному делу». Внутри их встретили весьма необычные швейцары, все еще блиставшие в своих прежних императорских «синих ливреях с медными пуговицами и красными воротниками с золотым позументом», которые «вежливо приняли у нас пальто и шляпы»{905}. Американские журналисты отметили, что юнкера, которые разостлали для себя на полу соломенные тюфяки и кутались в одеяла, пытаясь немного отдохнуть, пребывали в нервном ожидании; на американцев те смотрели с изумлением. «Все они были молоды и дружелюбны и сказали, что они не против нашего участия в сражении; на самом деле эта идея весьма позабавила их». Луиза Брайант почувствовала к ним жалость. Они казались такими интеллигентными, некоторые даже говорили по-французски. Но у них было очень мало еды и боеприпасов, и они выглядели деморализованными. Убедившись в том, что в Зимнем дворце пока еще не было признаков каких-либо активных действий, американцы направились туда, где, по их мнению, находился истинный эпицентр социалистической революции – Смольный институт.
Смольный, представлявший собой благородное здание в стиле Палладио с колоннами перед фасадом и величественным портиком, был расположен на восточной окраине Петрограда, к нему вела широкая дорога, окруженная в это время года заснеженными газонами. Самобытная группа из пяти изящных синих куполов была частью монастыря, который был построен императрицей Елизаветой в середине восемнадцатого века. Неподалеку в начале 1800-х годов было добавлено более строгое трехэтажное строение длиной 200 метров в качестве пансиона благородных девиц для дочерей русского дворянства. Именно сюда переехал Петроградский Совет, после того как его члены окончательно замусорили свой прежний штаб в Таврическом дворце, который теперь восстанавливался. Появление сотен политических активистов в грязных сапогах, застоявшийся запах немытых тел и дым папирос вскоре превратили Смольный в такой же шумный, запруженный толпами людей пересыльный пункт, «покрытый толстым слоем революционной грязи», каким ранее стал и Таврический дворец{906}. К утру 24 октября Смольный стал неофициальным «генеральным штабом» большевиков: подходы к нему были прикрыты усиленной охраной в виде двойной цепочки часовых у внешних ворот и большой баррикадой из бревен. Снаружи были расположены также два корабельных орудия и несколько десятков пулеметов, не считая солдат с примкнутыми штыками, которые стояли на охране в дверях.
Внутри, где у ста помещений по-прежнему сохранились черты классных комнат, Смольный был спешно переделан для нужд политических агитаторов. Комнаты, где изысканно одетые девушки когда-то изучали французский язык и литературу, а также обучались рукоделию и фортепиано, и общежития, где они спали в кроватях, выстроенных в аккуратные ряды, теперь оказались в распоряжении разнообразных политических комитетов. На втором этаже в элегантном бальном зале с колоннами и богато украшенными хрустальными люстрами, где совсем недавно учились танцевать молодые воспитанницы Смольного института в своих хрустящих белых платьях, заседал Петросовет, составляя военные планы.
Для Джона Рида Смольный был местом, где билось сердце революции. Он был похож, по его словам, на активный, взбудораженный, полный жизни и «жужжащий гигантский улей»{907}. Альберт Рис Вильямс написал более идеалистичную картину: он видел во всем этом убежище бастион нового дивного мира. «Ночью светящиеся в сто ламп окна похожи на большой храм, храм революции», – писал он, сравнивая два костра у дома с «алтарными огнями». По его словам, этот новый великий форум, «ревущий, как гигантская кузница с ораторами, призывавшими к оружию», являлся местом, где все «вопросы жизни и смерти» в новом органе власти – Советах – будут решаться новой породой людей: «безумно энергичными, не нуждавшимися во сне, неутомимыми, не знающими, что такое нервы, замечательными мужчинами, решавшими все вопросы исключительной важности»{908}.
Эти «безумно энергичные» личности прибывали днем и ночью с грузовиками, полными запасами продовольствия, оружия и боеприпасов. Полчища солдат и рабочих входили и выходили, внося и вынося огромные кипы плакатов и листовок, которые распространялись по всему городу, и укладывали их на козлы до потолка вдоль длинных белых коридоров Смольного института, который уже был завален окурками и прочим мусором. Как обнаружил квартет американских журналистов, не было никаких формальностей, нигде не указывалась никакая организация, никакое юридическое обоснование; на стенах либо на дверях спешно приклеивались названия комитетов, набросанные от руки на листке бумаги; митинги организовывались с ходу, они были бурными и часто утомительно длительными. Как только напряжение достигало предела, уставшие добровольцы ложились, где могли, или наскоро перекусывали – щами, куском черного хлеба, миской каши или, возможно даже, мясом сомнительного происхождения в огромной кухне в подвале и отсыпались – перед тем как пойти на очередной митинг{909}.
В ночь с 24 на 25 октября, в то время как Смольный приветствовал сотни делегатов Второго Всероссийского съезда Советов, большевики спокойно – и почти незаметно – захватили инициативу. Ленин наконец-то вновь вышел из подполья и появился в Смольном, пока еще маскируясь и надев на лицо повязку, словно у него была сильная зубная боль. Здесь он заперся в одном из служебных помещений и взял в свои руки контроль за развитием событий, настаивая на том, что большевики должны выступить на следующий день, 25 октября, в день открытия съезда, «чтобы мы могли сказать ему: “Вот власть! Что вы с ней сделаете?”»{910} Ряды большевиков пополнились перешедшими на их сторону в понедельник восемью тысячами солдат Петроградского гарнизона. Пользуясь тем, что правительству не хватало людей для обеспечения надежной охраны основных зданий, той ночью сформированный Троцким Военно-революционный комитет направил вооруженные отряды красногвардейцев, солдат и матросов для создания блок-постов из броневиков и захвата Центрального телеграфа, Главпочтамта и Центральной телефонной станции. Мариинский дворец был окружен; Государственный банк, Николаевский и Балтийский железнодорожные вокзалы, Центральная электростанция вскоре также перешли под контроль большевиков{911}. Наконец в 3.30 утра 25 октября крейсер «Аврора» в сопровождении трех эсминцев вышел из Кронштадта и бросил якорь вблизи Зимнего дворца, направив орудия в его сторону. Было ясно, что для этого последнего, символического бастиона старой царской России наступает развязка.
Блокированный во время заседания со своими министрами в Зимнем дворце, Керенский прекрасно понимал, что он теряет контроль над ситуацией. Оставшиеся верные правительству казаки, на которых он опирался при защите города, теперь отказались делать это одни, негодуя на Керенского за то, что в июле он, по их мнению, предал их командира Корнилова. У Керенского не оставалось другого выбора, кроме как вызвать подкрепление с фронта. Однако, когда он собрался отъезжать, он обнаружил, что все правительственные автомобили, припаркованные у Генерального штаба, были повреждены: у них были извлечены магнето, регулировавшие систему зажигания. Оказавшись в безвыходной ситуации, он был вынужден бросить своих министров в Зимнем дворце и воспользоваться автомобилем «Рено» (вместе с шофером) из американского посольства, чтобы в сопровождении второго автомобиля с флагом США доехать до Пскова и собрать там войска, оставшиеся верные правительству{912}. В обстановке, когда Временное правительство было дезорганизовано, Ленин мог больше уже не ждать и объявить о победе большевиков.
В десять часов утра, не дожидаясь поддержки Военно-революционного комитета или же согласования данного шага (как это первоначально планировалось) со Вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов, который должен был собраться этим вечером, Ленин выпустил воззвание. «Временное правительство низложено, – объявил он. – Государственная власть перешла в руки Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов»{913}. К тому времени, когда во второй половине дня делегаты со всей России наконец собрались в бывшем бальном зале Смольного института, отряды солдат, поддерживавших большевиков и красногвардейцев, окружили Зимний дворец и воздвигли вблизи него баррикады на набережных Мойки и Екатерининского канала. Телефонная связь с дворцом была оборвана (хотя одну прямую линию связи пропустили), и в 6.30 вечера большевики потребовали безоговорочной капитуляции Временного правительства. Этот ультиматум истек в 7.10 вечера, однако ситуация пока оставалась спокойной. В толпе раздавались выкрики: «Зачем ждать? Почему бы не выступить прямо сейчас?» Альберт Рис Вильямс услышал, как один бородатый красногвардеец ответил: «Нет», юнкера «прячутся за женские юбки… Газеты в этом случае напишут, что мы открыли огонь по женщинам. Кроме того, товарищ, у нас дисциплина, и никто не может действовать без приказа комитета»{914}.
Даже в этот драматический, решающий момент выше всего для этих людей было решение комитета. Оставив их обсуждать свои вопросы, четыре американца вернулись на Невский, который выглядел необычайно спокойным. Люди прогуливались по проспекту, некоторые явно собирались в театр, куда вполне могла бы направиться и эта четверка, поскольку у нее на руках были билеты на балет в Мариинку в тот вечер. «Сегодня к ночи вышел на улицу весь город, – заметил Рид, – все, кроме проституток», которые, казалось, почувствовали витавшую в воздухе опасность. Отказавшись от посещения балета, четверка американцев решила вернуться в Смольный на открытие Второго Всероссийского съезда Советов. «Вместе с туманом на старый серый город, казалось, опускалась странная тишина, легкая тишина, почти безмятежность», – отметил Альберт Рис Вильямс. Он был крайне удивлен тем, какой «благонравной, даже достаточно кроткой» выглядела эта революция{915}.
В Смольном же большой зал наверху был переполнен до отказа, в нем кипела бурная деятельность. Хотя помещение не отапливалось, «в нем было жарко от испарений немытых человеческих тел», и, несмотря на постоянные просьбы к товарищам перестать курить, в спертом воздухе висел густой табачный дым{916}. После длительного ожидания съезд наконец начал свою работу. Делегат от группы меньшевиков проинформировал участников съезда, «что его партия все еще находится в процессе разработки плана действий и не в состоянии прийти к какому-либо соглашению». «Нервы были на пределе», – вспоминала Бесси Битти, аудитория становилась все более агрессивной и воинственно настроенной. Спустя сорок минут «вдруг через окна, выходившие на Неву, раздался грохот: Бах! Бах! Бах!» Это орудия «Авроры» вели огонь по Зимнему дворцу{917} [109].
Все в Смольном услышали эти залпы, и открытие съезда превратилось в хаос; более умеренные эсеры и меньшевики (три представителя которых, будучи министрами Временного правительства, оказались в ловушке в Зимнем дворце) добивались того, чтобы съезд уделил основное внимание срочному разрешению сложившегося правительственного кризиса, который привел страну на грань гражданской войны. Через два часа под «методический грохот» пушек Петропавловской крепости, присоединившихся к обстрелу Зимнего дворца (на сей раз – уже боевыми снарядами), и дребезжание окон делегаты уже «кричали друг на друга» в полном разладе{918}. В знак протеста сто или более делегатов ушли, направившись в Зимний дворец, чтобы попытаться освободить своих коллег. Бесси Битти, Луиза Брайант, Джон Рид и Альберт Рис Уильямс последовали за ними. Однако сначала каждый из них обеспечил себя крайне важной тонюсенькой бумажкой из секретариата Военно-революционного комитета, которая позволяла им «свободно перемещаться по всему городу». «Эта бумажка» с синей печатью, как вспоминала Бесси Битти, должна была «послужить верным средством, чтобы открыть множество дверей перед наступлением серой утренней зари»{919}.
Было уже за полночь, Зимний дворец находился в трех километрах; трамваи не ходили, ни одного извозчика не было видно. К счастью, на площади перед Смольным группе американцев удалось забраться на грузовик, полный солдат и матросов, которые собирались поехать на Невский проспект, чтобы разбросать там листовки. Они «весело предупредили нас, что нас всех могут убить, и попросили меня снять со шляпы желтую ленту, так как в нее удобно было целиться снайперам», – вспоминала Луиза Брайант{920}. Когда грузовик загрохотал на большой скорости (Луизе Брайант и Бесси Битти было велено лечь на пол и держаться покрепче), солдаты стали разбрасывать в темноте по казавшимся пустынными улицам пачки каких-то белых бумажек, «прохожие таинственно появлялись из парадных и подворотен, чтобы схватить их и прочитать волнующее обращение: «К гражданам России! Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов»»{921}.
Когда грузовик оказался на Невском проспекте, он направился к Зимнему, но на Екатерининском канале им не разрешили двигаться дальше, и американцы вышли из грузовика. Впереди была слышна стрельба, и их не пропускали вооруженные матросы, охраняющие баррикаду под большим уличным фонарем{922}. Потратив некоторое время на их уговоры и предъявив им свои синие пропуска, американцы в конце концов нашли красногвардейца, который позволил им миновать эту баррикаду и оцепление матросов и выйти к Красной арке, ведущей к Дворцовой площади, откуда им был слышен лишь «хруст стекла» от разбитых окон Зимнего дворца, «покрывавшего булыжники, словно ковер»{923}.
Именно тогда, около 2.45 утра, из темноты неожиданно появился один из матросов. «Все кончено! – кричал он. – Они сдались!» Зимний дворец впереди, несмотря на разбитые окна, озарился светом, «как будто для праздника», и американцы увидели, как внутри двигались люди. Четверка американцев «вскарабкалась на баррикады» за охраной и матросами, последовала за ними к огромному дворцу, откуда теперь «лился свет», и вошла в здание через какой-то подъезд или окно{924} [110]. Оставшихся охранять дворец испуганных молодых юнкеров быстро разоружили; они были благодарны за то, что им позволили уйти без каких-либо последствий. Продемонстрировав свои проштампованные синими печатями пропуска, американцы вошли внутрь и увидели, как группа матросов поднялась по лестнице и начала осматривать помещение за помещением в поисках членов Временного правительства, которые вскоре были обнаружены на верхнем этаже в Малахитовом зале; их вывели под стражей{925}. «Некоторые из них шли вызывающе, с высоко поднятой головой, – вспоминала Бесси Битти. – Другие выглядели бледными, измученными и испуганными. Один или два человека казались совершенно подавленными и надломленными». Американцы молча смотрели, как этих людей уводили прочь; их доставили в Петропавловскую крепость на другом берегу Невы. После этого американцам позволили подняться наверх и самим взглянуть на зал заседаний и «разбитые комнаты», изрешеченные пулями, где шелковые шторы «висели клочьями»{926}. Вскоре их остановила группа настороженных солдат, бормотавших обвинения в их адрес в том, что они были презренными представителями «буржуазии». Американцев вновь выручили их синие пропуска, однако задержавшие их солдаты вначале долго совещались и голосовали за то, стоит ли их отпускать.
По мере того как американцы обследовали помещения наверху, становилось ясно, что некоторые из восставших не устояли перед неизбежным соблазном устроить погром и принялись вскрывать и разбивать прикладами ящики с драгоценными артефактами, подготовленные для эвакуации. Другие стали изливать свою ярость, разбивая зеркала, осыпая пинками настенные панно, пробивая штыками ящики с артефактами – то есть громя то, что не было разграблено. Кабинеты были разгромлены, шкафы в них разворочены, повсюду были разбросаны документы. Альберт Рис Вильямс и Луиза Брайант вспоминали, что грабеж пытались остановить; они видели, как некоторые солдаты призывали мародеров: «Товарищи, это народный дворец! Это наш дворец! Не воруйте у народа!» После этих увещеваний некоторые из мародеров, устыдившись, отдали свою жалкую добычу: «одеяло, потрепанную кожаную диванную подушку, подсвечник, вешалку для пальто, сломанную рукоять китайского меча»{927}.
Для тех, кто оказался более или менее причастен к этим событиям, основные из которых, по существу, происходили в Зимнем дворце, день 25 октября прошел точно так же, как и любой другой день. Джон Луи Фуллер был на своем обычном рабочем месте в Петроградском филиале Государственного муниципального банка Нью-Йорка и не заметил каких-либо существенных перемен, за исключением постоянной суматохи и активных разъездов грузовиков в находящейся поблизости казарме, «словно в избирательных округах США во время выборов»{928}. Правда, были слышны эпизодические перестрелки, а на улице вновь появились броневики, но с этим все уже свыклись. «Никто не остается у себя дома просто потому, что идут уличные бои», – отмечала Полин Кросли в письме в тот день, все научились избегать тех районов города, где была слышна стрельба. Она лишь перенесла из-за беспорядков очередной большой званый ужин на следующий вечер. Наряду с этим она признала, что активность на улице теперь повысилась: «там действительно какая-то шумиха, и когда я сейчас пишу это, слышны различные выстрелы – винтовок, пистолетов, пулеметов, артиллерийских орудий и больших корабельных пушек!»{929} Она видела вспышки выстрелов и слышала сами выстрелы орудий Петропавловской крепости, сопровождавшиеся гулом снарядов, но оставалась невозмутима. Сидя в доме на Французской набережной, она больше беспокоилась о своем драгоценном запасе «консервированных фруктов, овощей, сгущенного молока, какао и т. п.», которые она недавно получила из Штатов. «Ничего не может быть хуже, чем то, что уже случилось с того времени, как мы здесь», – добавила она уверенно в своем дневнике{930}.
В тот вечер глава «канцелярии» посольства Великобритании Генри Джеймс Брюс завершил работу довольно рано, чтобы пойти на балет «Щелкунчик». Он прибыл туда «спокойно на трамвае», хотя раньше днем слышал, что «весь город находится в руках большевиков». Возвращаясь из театра, он считал, что на улице тихо, пока он и его леди не столкнулись с «Божьим испытанием в районе Зимнего дворца, где правительство держало последнюю линию обороны». В самой гуще этих событий он заметил швейцара британской «канцелярии» мистера Хавери, который старательно добирался до Главпочтамта, проделывая обычный путь в три километра. Когда того остановил солдат, Генри Джеймс Брюс слышал, как мистер Хавери ответил ему «на несравненном русском «кокни»[111], что он ничем не может ему [солдату] помочь, поскольку должен отнести письма на почту вне зависимости от того, идет тут сражение или нет». В целом, возвращение Генри Джеймса Брюса домой в тот вечер оказалось, как он сам признался, «весьма нервным», но ему удалось обеспечить безопасное пешее сопровождение «мадам Б» «под аккомпанемент пулеметов»{931}.
Стрельба в Зимнем дворце фактически прекратилась примерно в 2.30 ночи, и жертв было очень мало. Было убито только семь человек: два юнкера, четыре матроса и одна женщина из числа солдат; пятьдесят человек было ранено. «Я никогда раньше не видел революции, в которой свергаемое правительство защищалось бы одними лишь вооруженными женщинами и детьми», – в недоумении заметил Вальтер Кросли{932}. В действительности, многие голодные и павшие духом юнкера и казаки покинули свои позиции во дворце задолго до появления восставших, а большинство бойцов из женского батальона, испугавшись артиллерийского обстрела, укрылись в подсобном помещении. Позже появились истории о жестоком обращении с ними, после того как они сдались. Графиня фон Ностиц видела, как их выводили из дворца. «Их крики разносились по всей площади, они дрались и отбивались, но все было напрасно. Солдаты задыхались от смеха, наблюдая за их попытками убежать, и заставляли их замолчать ударами прикладов, когда те становились слишком шумными». Женщин доставили через реку в Гренадерские казармы на Петроградской стороне, где они подверглись «массе оскорблений», а некоторые из них были избиты. Графиня фон Ностиц была права, когда, опасаясь худшего, она позвонила в британское посольство и умоляла «направить кого-то выразить официальный протест против изнасилования этих несчастных девочек»{933} [112].
26 октября в Петрограде сохранялось ощущение нереальности того, что произошло. Глядя из окна британского посольства, Мэриэл Бьюкенен спрашивала себя: «если грохот орудий, который заставил нас проснуться, был реален, то почему же все выглядит как обычно? Переполненные трамваи переезжают через мост, голуби укрываются от ветра на балюстраде Мраморного дворца, и прекрасный стройный шпиль Петропавловского собора, как никогда, ярко сияет в мерцающем отблеске солнца»{934}. Улицы были полны вооруженных рабочих и солдат, но, несмотря на некоторое беспокойство и чувство неуверенности, «нормальная жизнь города продолжалась, словно ничего и не случилось». «Сам город, похоже, был склонен считать все эти события каким-то занятным приключением», – заметил один из сотрудников Датского Красного Креста{935}.
Любопытные толпами собирались возле Зимнего дворца, чтобы просто поглазеть на его разбитые зеркальные окна и стены, испещренные пулеметным и ружейным огнем – «словно больной корью». Иностранцы отмечали относительно небольшой, учитывая все обстоятельства, ущерб. «Мы гуляли вокруг Зимнего дворца и видели следы сражения, – писала Полина Кросли. – Но, несмотря на всю ту стрельбу, которую мы сами слышали, и вспышки орудий, которые мы сами видели, причем с достаточно близкого расстояния, мы смогли увидеть на этом огромном здании только две отметины, превосходившие по размеру следы от винтовочных пуль». Один из их друзей видел, как большевики вели огонь по Зимнему дворцу из полевых орудий – и несколько раз промахивались{936}. На самом деле, хотя на зеленом лепном фасаде и белых колоннах на южной стороне, выходящей на Дворцовую площадь, было много пулевых выбоин, артиллерия попала по северной стороне здания дворца, обращенной к Неве, всего лишь тремя снарядами. Как оказалось, стрельба из Петропавловской крепости на расстояние около 400 метров (прямо через реку) была крайне неточной; по данным французского дипломата Луи де Робьена, артиллеристы умудрились выпустить мимо цели «почти все снаряды, и их осколки попали либо в воду Невы, либо “в молоко”»{937} [113].
Внутри Зимнего дворца картина была несколько иной: везде были видны следы присутствия в нем юнкеров и женского батальона, а также его последующего штурма большевиками. Сотни грязных сапог перепачкали прекрасный паркетный пол, шелковые портьеры были сорваны и использовались в качестве постельных принадлежностей. Однако, по воспоминаниям княгини Юлии Кантакузины-Сперанской, как ни странно, «толпа не обращала никакого внимания на ценную мебель, картины, фарфор, бронзовые изделия и игнорировала даже застекленные стенды с древнегреческими ювелирными изделиями из чистого золота», хотя «мародеры отпихивали друг друга, стремясь отрезать куски кожи с сидений современных стульев в прихожих и в царской гостиной», чтобы сделать себе сапоги или поставить на них заплату, и «сбивали позолоченную штукатурку со стен, считая, что это должно быть настоящее золото». Знаменитая Малахитовая гостиная была «разрушена до состояния, не подлежащего восстановлению, громадный урон был нанесен также некоторым залам для торжественных мероприятий»{938}.
Во второй половине дня 26 октября в британском посольстве появились два тревожно озиравшихся офицера, являвшихся инструкторами в женском батальоне. Они убедительно просили леди Джорджину Бьюкенен «вмешаться в интересах этих женщин», опасаясь (как и графиня фон Ностиц) того, что те находились в полной власти Красной гвардии и кронштадтских матросов{939}. По указанию леди Джорджины полковник Нокс сразу же направился в Смольный, где переговорил «с одним или двумя грубыми комиссарами и в конечном итоге убедил их, что бесчеловечное обращение с женщинами-солдатками будет осуждено Англией и Францией». Вскоре эти женщины были освобождены и препровождены на Финляндский вокзал, а затем отправлены на поезде к своему батальону в Левашово. Перед отъездом четверо из них пришли в посольство, чтобы поблагодарить полковника Нокса и спросить, не могут ли они перейти служить в британскую армию{940}. Эти посетительницы весьма презрительно высказывались о штурмовавших Зимний дворец. «Разве красногвардейцы – это солдаты? Они даже не знают, как нужно держать винтовку, и не умеют обращаться с пулеметом», – по их мнению, об этом красноречиво свидетельствовало количество промахов мимо Зимнего дворца{941}.
26 октября Ленин опубликовал воззвание, в котором объявлялось о создании нового правительства. В духе комиссаров Директории (правительства) Французской Республики это правительство было названо Советом Народных Комиссаров, Ленин стал его председателем, а Троцкий – наркомом по иностранным делам. Однако это новое правительство не было согласовано с умеренными эсерами и меньшевиками в Петроградском Совете и не было утверждено Учредительным собранием; до этого момента правительству России следовало возложить исполнение обязанностей на специальные комитеты без политической легитимности. Тем не менее на Втором Всероссийском съезде Советов в Смольном в тот вечер наконец появился торжествующий Ленин (который всю революцию провел в подсобном помещении, а не на баррикадах).
«Мои глаза были прикованы к короткой коренастой фигуре в плотном потертом костюме, с пачкой бумаг в одной руке, которая быстро подошла к трибуне и охватила просторный зал своими довольно маленькими, пронзительными, но веселыми глазами», – вспоминал Альберт Рис Вильямс. «В чем состоял секрет этого человека, которого так сильно ненавидели и в равной мере так же сильно любили?» – размышлял он. У Ленина не было личного обаяния Троцкого или его дара овладевать вниманием присутствующих{942}. По сравнению с ним он казался на трибуне достаточно «заурядным»; даже Джон Рид отметил, что Ленин выглядел слегка нелепо в не по росту длинных брюках. Однако здесь он был «кумиром толпы…необыкновенным народным вождем, вождем исключительно благодаря своему интеллекту», в то время как подвижный, как ртуть, Троцкий был лидером по своему ораторскому искусству{943}. На Альберта Риса Вильямса первое появление Ленина на трибуне в тот вечер произвело «впечатления не более, чем могло произвести ежедневное появление опытного профессора в своей аудитории в течение нескольких месяцев». Он услышал реплику одного из репортеров, находившегося неподалеку, что если бы Ленина «немного приодеть, его можно было бы принять за мэра-буржуа или банкира из небольшого французского городка»{944}. Однако речь Ленина, в которой он хрипловатым голосом призвал к миру без аннексий и контрибуций и предложил заключить с Германией трехмесячное перемирие, была встречена восторженно и завершилась криками «Да здравствует Ленин!». Ленин настаивал на том, что социалистическая революция, начавшаяся в России, вскоре разразится также во Франции, Германии и Англии. Пусть русская революция ознаменует конец войны! На этот призыв зал разразился зажигательным исполнением «Интернационала».
Крайне возбужденные событиями этого дня, четверо американцев не спали всю ночь. Они сидели, разговаривая, грели руки у костра во дворе. Лишь в семь утра они наконец добрались на трамвае домой. В отличие от них, более умудренные иностранцы, проживавшие в Петрограде, не видели особых поводов для волнений или новых надежд на существенные перемены или в связи со сменой власти. Виллем Аудендейк, гуляя с женой по городу, «обнаружил, что все спокойно». «Таким образом, вторая революция свершилась, – писал он позже. – Мы не осознавали, какой это был великий исторический день, когда мы шагали домой по совершенно спокойным улицам, заполненным апатичными, равнодушно выглядевшими прохожими»{945}.
Пару дней о Керенском не было никаких известий. Как вспоминала Бесси Битти, «ни у кого не было ни малейшего представления», что будет дальше. «Где Корнилов?[114]…Где казаки?» И, наконец, самый ужасный вопрос: «Где немцы? Слухи ходили совершенно невообразимые»{946}. В ответ на арест министров правительства Керенского и заявление большевиков о захвате власти «умеренные» из числа левых сил создали свой собственный «Комитет спасения Родины и революции», пытаясь сплотить антибольшевистские фракции и обеспечить формирование законного правительства для утверждения его Учредительным собранием, созыв которого был обещан в ноябре. К вечеру 27 октября появились слухи о том, что Керенский на пути в Петроград вместе с казаками и что они уже в Гатчине, в сорока пяти километрах южнее города. На следующий день было объявлено, что Керенский взял Царское Село и будет в Петрограде в воскресенье, 29 октября. В ответ на новости о том, что подкрепление находится на полпути, и на призыв «Комитета спасения Родины и революции» к действию рано утром рота юнкеров, переодетая под солдат Семеновского полка, используя фальшивые документы и зная правильные отзывы, смогла преодолеть несколько постов красногвардейцев на Центральной телефонной станции на Морской улице, в то время как другие юнкера, используя ту же тактику, заняли гостиницу «Астория»{947}. В «Астории» Бесси Битти была удивлена молодостью командира юнкеров, «офицера-мальчишки с сигаретой, небрежно зажатой в уголке рта, и маузером в руке», который «выстроил большевистских гвардейцев у стены и разоружил их»{948}.
Юнкерам (некоторые из которых были 25 октября захвачены в Зимнем дворце и затем отпущены), безусловно, вполне хватало смелости, но без подкреплений и с весьма ограниченным запасом боеприпасов, а также при недостатке правильной организации действий и слабом руководстве они не могли долго продержаться. Бесси Битти и Альберт Рис Вильямс смогли без труда (в качестве «американских товарищей») попасть на Центральную телефонную станцию в двух кварталах от гостиницы «Астория», чтобы собственными глазами увидеть происходящие события. Юнкера, которые показались Бесси Битти «сущими детьми в этом военном предприятии», чтобы укрепить свои позиции, возводили баррикады «из коробок и досок», а также дров из ближайшей поленницы. Альберт Рис Вильямс подумал, что они, видимо, были уверены в скором прибытии войск Керенского{949}. Он вместе с Бесси Битти наблюдал из здания, как они заняли позиции за баррикадами, укрепленными поленницей, и за несколькими грузовиками и как их осыпал «шквал пуль» атаковавших их красногвардейцев и матросов.
Вскоре юнкера отступили в подсобное помещение, где они «побросали оружие и стали ждать конца»{950}. Бесси Битти видела, как в кладовой «один офицер-мальчишка огромным хлебным ножом пытался срезать пуговицы со своей шинели, его руки при этом так дрожали, словно он безумно устал». Другой отчаянно пытался оторвать свои погоны, которые выдавали в нем юнкера. Бесси Битти невольно подумала об иронии судьбы: «Вдруг то, к чему стремились эти парни – заветные золотые галуны и медные пуговицы на форме офицера, символ их превосходства, – стало их проклятием». Она поняла, что в тот момент «любой из них отдал бы последнее, что у него было, за одежду простого рабочего». В коридоре она нашла Альберта Риса Вильямса, которого один из отчаявшихся юнкеров-офицеров умолял отдать свое пальто, чтобы он мог, переодевшись, попробовать сбежать. Она видела страдания в глазах этого мальчишки, но было ясно, что Альберт Рис Вильямс, как настоящий социалист, оказался перед моральной дилеммой. За время своего пребывания в Петрограде он завоевал уважение и доверие русских рабочих, поэтому он мучительно размышлял: «Если я отдам ему свое пальто, а они узнают об этом, то они будут думать обо мне как о предателе». Он не мог заставить себя сделать этого. В то же время он вместе с Бесси Битти осознал «весь трагизм ситуации в судьбе этого слабого человека, пытавшегося спасти свою жизнь»{951}.
Во второй половине дня здание взяли штурмом. Когда красногвардейцы и матросы уводили юнкеров, громко «призывая отомстить», Альберт Рис Вильямс просил их «не пятнать идеалов своей революции», поддавшись искушению убивать. В своих воспоминаниях Альберт Рис Вильямс и Бесси Битти умалчивают о судьбе юнкеров, однако, как отмечал Джон Рид, хотя большинство из них «были отпущены на свободу», «некоторые…перепугавшись, пытались бежать по крыше или спрятаться на чердаке. Их переловили и выбросили на улицу»{952}.
В течение всего этого дня, как вспоминал Джон Рид, «залпы, отдельные выстрелы, резкий треск пулеметов слышались издалека и вблизи», в то время как во всех районах города происходили стычки между юнкерами и красногвардейцами{953}. В осаде оказались два юнкерских училища: Александровское военное училище на Мойке и Владимирское училище на Гребецкой улице на Петроградской стороне. Владимирское юнкерское училище оказало упорное сопротивление, его защитникам удалось отбить атаки двух броневиков с пулеметами, но затем большевики подтянули три полевых орудия и начали обстрел. «В стенах училища были пробиты огромные бреши», – писал Джон Рид; юнкера отчаянно защищались, «шумные волны красногвардейцев, шедшие в атаку, разбивались ожесточенным огнем»{954}. Стрельба не стихала до половины третьего, когда юнкера были вынуждены поднять белый флаг. Джон Рид увидел, как солдаты и красногвардейцы ворвались в училище «с криком и шумом… во все окна, двери и бреши в стенах». Пять юнкеров были жестоко избиты и заколоты штыками, остальные двести человек из числа сдавшихся были отправлены в Петропавловскую крепость. По дороге на юнкеров набросилась толпа красногвардейцев и убила еще восемь человек{955}. Владимирское училище в результате большевистского обстрела было практически разрушено.
Графиня фон Ностиц была в ужасе от сцены, которая разыгралась в Александровском военном училище. По ее словам, «героизм этих мальчиков, просто детей пятнадцати-шестнадцати лет», был «единственным светлым пятном в этот черный ужасный день». Когда начался штурм училища, некоторые юнкера укрылись за огромной поленницей, сложенной перед зданием накануне зимы: «Выбравшись из училища, они забрались на поленницу и стреляли в большевиков в последней отчаянной попытке остановить их. Их было крайне мало, они сражались до тех пор, пока у них не закончились боеприпасы, а потом стояли, с по-детски пухлыми щеками, белыми, как мел, и ждали своей смерти. Это было ужасно – смотреть, как большевики играли с ними, как кошка с мышкой, растягивая миг неизвестности, тщательно выцеливая свои живые мишени, пока не перестреляли всех их, одного за другим»{956}.
Тела юнкеров лежали там несколько дней, «сложенные одно поверх другого в поленницу». Тех, кто сдался в училище, по воспоминаниям одного из сотрудников Красного Креста, «на набережной Мойки… выстроили в ряд, с руками, связанными за спиной, стреляли им в спину и сбрасывали их головой в воду»{957}. Везде, где только в последующие несколько дней мародерствовавшие матросы и красногвардейцы обнаруживали на улице юнкеров, они нападали на них и убивали; ситуация была сходна с тем, как преследовали полицейских в феврале 1917 года. Луи де Робьен видел, как на улице Гоголя сломался автомобиль, полный юнкеров, которые пытались спастись, и красногвардейцы накинулись на них и растерзали всех их; изуродованные тела юнкеров оставались на мостовой еще несколько часов{958}. К счастью, британцам удалось благополучно укрыть восемь юнкеров, которые охраняли их посольство, и отправить их по домам, «переодев в гражданское платье»{959}[115].
Для Бесси Битти разгром юнкеров стал «днем стыда», «жертвоприношением младенцев, неоправданным и напрасным», и она возложила бо́льшую часть вины на плечи тех, кто послал этих юношей сражаться за них, оставаясь при этом вне досягаемости. «Обреченное на неудачу выступление юнкеров» ознаменовало краткосрочную и неравную пробу сил между новым правительством Ленина и «Комитетом спасения Родины и революции»{960}. «Керенский снова подвел нас, как он уже сделал это во время «июльского кризиса» и в вопросе с Корниловым», – отметил сэр Джордж Бьюкенен с сожалением в своем дневнике 30 октября. На какое-то время получив поддержку со стороны восемнадцати казачьих рот под командованием генерала Краснова, Керенский сопровождал их поход на Царское Село. Но здесь он вновь проявил нерешительность, и Краснов со своими силами отступил в Гатчину в ожидании расправы 50 000 большевиков и рабочих над его 1200 бойцами, которые были принесены в жертву. Скоро после этого Керенский бежал (никто не знал куда) и тщательно скрывался, перед тем как в мае 1918 года переправиться в Финляндию[116].
2 ноября правительство Ленина объявило об окончательном разгроме Временного правительства. Но это был бесчестный разгром, который не мог принести славы. Защита Петрограда силами «нескольких казаков, женским батальоном и детьми», по оценке Луи де Робьена, «могла иметь какой-то успех лишь в том случае, если бы, в принципе, не было никого из нападавших». Этот факт сделал правительство Керенского «объектом для насмешек»{961}. Это также подтвердило то, что падение прежнего буржуазного правительства (и создание нового Советского) прошло «бесславно, тихо, совсем не героически»{962}.
Глава 15 «Они убивают друг друга, как мух»
17 ноября 1917 года Фил Джордан засел за очередное длинное письмо с изложением последних событий. Это было ужасное время; большевики, писал он кузине Фрэнсиса миссис Энни Пуллиам в своем неповторимом стиле, «расстреляли Петроград в куски». «Мы все сидим на бомбе Просто ждя кто поднесет к ней спичку, – добавил он с присущим ему острым чувством драматизма. – Если Посол выйдет из этой Передряги живым нам всем тогда ужжасно повезло». На этот раз храброго Фила одолевали тревоги: «Эти сумашшедшие Убивают друг друга Как мы дома Бьем мух». Даже его босс был вынужден признаться своему сыну Перри: «Я еще не знал места, где человеческая жизнь стоила бы так дешево, как сейчас в России». Но, как бы это ни было печально, убийства, грабежи и акты насилия в качестве мести теперь стали настолько обыденным делом, что посол США обнаружил, что он «уже притерпелся» к ним{963}.
В Москве Октябрьская революция была еще более жестокой и кровавой. Юнкера там были «заранее предупреждены, а значит, вооружены» и заблаговременно заняли укрепленные оборонительные позиции в Кремле и на других стратегических объектах{964}. Большевикам потребовалось десять дней, чтобы установить свою власть после ожесточенных боев на улицах и в районе Кремля, потеряв более тысячи человек погибшими. И в Москве зверства в отношении сдавшихся юнкеров были гораздо более распространенным явлением, чем в Петрограде. Здание консульства США в Москве было сильно повреждено артиллерийским обстрелом; гостиница «Метрополь», где проживало много иностранцев, была частично разрушена. Коллегам Лейтона Роджерса в Московском филиале Государственного муниципального банка Нью-Йорка, которые разместились в гостинице «Националь» в Москве, пришлось укрыться в подвале в картофельном отсеке, где, как он слышал, они провели три дня самых тяжелых боев в городе за игрой в покер{965}.
В Петрограде британское и американское посольства хотя и избежали нападения, однако были практически отрезаны от внешнего мира: ни одна телеграмма не могла быть передана, дипломатических курьеров не выпускали в город, посольская почта также была заблокирована. Сотрудники посольства США делали все возможное, чтобы убедить своих граждан немедленно уехать из России, была организована эвакуация женщин и детей по Транссибу. 5 ноября, как только выпал снег и замерзли реки, тридцать пять американцев (мужчин, женщин и детей) на поезде покинули город вместе со многими членами миссии Американского Красного Креста, которые также решили уехать из города{966}. Выехать было невероятно сложно: некоторые жены не желали бросать своих мужей, другие боялись уезжать одни, у некоторых не было денег на дорогу, случалось даже (как отмечал Дж. Батлер Райт), что «неприязненно относившиеся друг к другу люди не могли смириться с мыслью, что им придется десять дней провести вместе в одном вагоне», не говоря уже об опасном характере этого путешествия, когда в любой момент поезд могли остановить и в него могли вломиться толпы красногвардейцев. Для англичан ситуация была еще более напряженной, поскольку Троцкий запретил выезд представителям английской диаспоры, желавшим покинуть Россию, в ответ на арест в Англии и интернирование двух большевиков, которые приехали в страну для ведения антивоенной пропаганды.
«Британцы в настоящее время, по существу, являются заключенными в России, – рассказывал британский консул Артур Вудхаус своей двадцатилетней дочери Элле (уже благополучно вернувшейся в Англию). – У нас на работе сейчас весьма оживленно. Как обычно, приходит множество неистовых Б.Б.Б. [ «беспомощных, безнадежных, бесправных»], которые отказываются утешиться. Я должен с признательностью отметить, что основная масса англичан уехала. Те, кто еще остался, конечно же, собираются поступить так же, но либо не могут из-за отсутствия средств, либо при нынешних обстоятельствах им не разрешают сделать это»{967}.
Для британского посла это тоже было весьма трудное время. В большевистской прессе содержались угрозы убийства сэра Джорджа Бьюкенена, его с издевкой называли «некоронованным королем Петрограда», ходили слухи, что Троцкий собирался арестовать его. Семья сэра Джорджа умоляла посла отказаться от своих ежедневных прогулок, но он настоял на их продолжении, заверив семью, что он «не воспринял угрозы Троцкого чересчур серьезно»{968}. Оставаясь верным своим убеждениям, он «с большим достоинством и решительностью» категорически отказался принять Троцкого и отклонил его предложение «обеспечить охрану посольства» силами красногвардейцев{969}. Сэр Джордж Бьюкенен информировал Лондон о том, что «правительство теперь в руках небольшой группки экстремистов, которые намерены навязать свою волю стране посредством террора», и он не желает иметь с ними ничего общего. Министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур телеграфировал ему из Англии, настаивая на том, чтобы он вернулся домой, однако сэр Джордж был непреклонен. «Мне сейчас не стоит покидать Петроград, поскольку мое присутствие здесь придает уверенность нашей колонии», – ответил он в начале ноября. Тем не менее его жена, опасаясь за состояние здоровья мужа, признавалась в том, что они испытывали сильное напряжение и что для них «это было ужасное время»{970}.
Дэвид Фрэнсис, как Бьюкенен и Вудхаус, также не позволил запугать себя. «Я никогда не буду разговаривать с этими проклятыми большевиками!» – огрызался он, также отвечая отказом на предложение большевиков выделить красногвардейцев для охраны посольства США. «Ему, очевидно, никогда не приходило в голову оставить свой пост, на который он был назначен, – писала его подруга Юлия Кантакузина-Сперанская, – хотя он довольно откровенно рассказывал о тех угрозах и той опасности, которым он постоянно подвергался»{971}. Нельзя не упомянуть также о том напряжении, в котором последнее время находился Дэвид Фрэнсис в результате распространившихся в посольстве сплетен о его дружбе с Матильдой фон Крам, русской, с которой он подружился на борту парохода, когда плыл из Америки, и которая подозревалась в связях с немецкой разведкой. Оторванный от своей семьи, все более отдаляясь от осуждавших его сотрудников посольства США, многие из которых серьезно сомневались в его профессиональной компетентности, Дэвид Фрэнсис упрямо поддерживал приятные ему отношения с мадам фон Крам (которая продолжала регулярно навещать его с тем, чтобы составить ему компанию и обучать его французскому языку) и полагался на своего верного Фила Джордана. Однако в последнее время помощник Фрэнсиса, Дж. Батлер Райт, начал серьезно беспокоиться о здоровье посла, отмечая его нараставшее психическое и физическое истощение (насколько было известно Филу Джордану, Фрэнсис часто работал до двух или трех часов утра). Еще большее опасение вызывало то, что Дэвид Фрэнсис в своих отношениях с окружающими стал действовать хаотично и непоследовательно; он, казалось, «сорвался с якоря». 22 ноября в Вашингтон была направлена шифрованная телеграмма с рекомендацией «с тем, чтобы избежать публичного унижения, дать послу официальное указание спешно прибыть в Вашингтон»{972}.
Тем британцам и американцам, которые не могли покинуть Петроград, этой зимой больше ничего не оставалось, кроме как затаиться и «наблюдать за тем, как будет формироваться это новое правительство рабочих и крестьян… и воплощать их [рабочих и крестьян] мечты в жизнь»{973}. Смольный был прежним бурлящим котлом политических дебатов, соперничества и обличительных речей, но народ теперь уже больше интересовался не этим, а тем, как устроить свою жизнь. Насколько было известно Луи де Робьену, народу «наскучили абстрактные проблемы». Что руководство, засевшее в Смольном, могло предложить им? Конечно же, не хлеб. Ничего, кроме «теорий, догм, мнений, доктрин, гипотез – то есть всего того, что выражалось в пафосных словах». «Это, – писала француженка Луиза Патуйе, – тот самый моральный багаж, который таскает за собой большинство революционных деятелей: встречи с бесчисленными группировками или пленарные заседания, бесконечные голосования по вопросам процедурного характера или внесения поправок в эти вопросы. Бесполезные и, следовательно, неизбежные дебаты, которые идут без перерыва, день и ночь. Бесконечный поток ораторов, которые обязаны строго придерживаться партийной догмы и которые могут смотреть на вещи только с догматичной, схоластической точки зрения»{974}.
Луиза Патуйе писала, что простым русским были нужны «не слова, а дела». Ее соотечественник Луи де Робьен также стал крайне скептично относиться к возможности реального политического разрешения кризиса в России: «Формируются партии, между конфликтующими сторонами достигаются соглашения, люди реорганизуются в различные политические структуры, создаются комитеты, а также советы комитетов и комитеты советов; все они претендуют на роль спасителей страны и мира, но каждый день становится известно о новом политическом расколе и новом сенсационном улаживании возникших разногласий»{975}.
В этой атмосфере постоянных конфликтов и неясности Ленин решительно выдвинулся на первый план с большевистской программой социализации и планомерного разрушения всех остатков прежнего царского режима. Его первым и самым впечатляющим проектом был Декрет о земле, который отменял частную собственность на землю, конфисковывал помещичьи имения и передавал их в пользование крестьянам. Делегаты Второго Всероссийского съезда Советов единогласно приняли этот Декрет до того, как 27 октября съезд завершил свою работу. Наряду с частной собственностью на землю была отменена также свобода печати, хотя многие оппозиционные газеты ушли в подполье, совсем как революционная печать в царское время. Государственный банк был захвачен, публикация каких-либо объявлений стала исключительной монополией государства. Свобода слова была безжалостно подавлена: сначала были закрыты политические клубы, затем были запрещены все общественные митинги, кроме организуемых властями.
Городская дума Петрограда, которая до конца ноября доблестно сопротивлялась запугиванию со стороны большевиков, была принудительно, силой оружия, распущена, а ее председатель и лидеры арестованы{976}. Все суды, выступавшие против нового советского режима, были закрыты и заменены рабоче-крестьянскими революционными трибуналами, которые повели безжалостную борьбу с «контрреволюционерами», «спекулянтами» и другими, кто считался врагами нового социалистического государства. Как вспоминала Бесси Битти, «Петроград встретил первое заседание революционного трибунала с тревогой», посчитав это «началом террора». В тот мрачный день «пресса и народ обсуждали только гильотину»{977}. Завершающим зловещим актом официальных репрессий стало создание 7 декабря нового органа для «борьбы с контрреволюцией» – Чрезвычайной комиссии (более известной как ЧК), которая без лишнего шума разместилась на четвертом этаже дома на Гороховой улице{978}. Туда доставляли на допросы видных представителей буржуазии и аристократии (тех, кто не успел бежать из России). Иногда по ночам здесь можно было услышать выстрелы; говорили, что вдоль задней стены здания вырыт ров, к которому задержанных отводили на расстрел.
12 ноября наконец начались долгожданные выборы в Учредительное собрание. Лейтон Роджерс нашел это весьма занятным мероприятием: за места в Учредительное собрание боролись девятнадцать политических партий, и избирательная кампания представляла собой настоящую «битву плакатов». По всему городу «здания, стены, все заборы и щиты для объявлений [были] облеплены ими, по десятку штук друг на друге», поскольку, как отметил Лейтон Роджерс, «для членов какой-либо партии считалось ловким ходом выскользнуть ночью на улицу и заклеить агитационные плакаты соперничающих партий своими». У одной из политических групп было представительство в доме, где он жил, и он «имел возможность три раза» наблюдать, как ее представители «после полуночи выходили на задание с рулонами плакатов и ведрами клейстера». «Возможно, какая-то доля истины заключалась в появившейся на днях шутке о том, – добавлял Лейтон Роджерс, – что победит та партия, у которой будет больше всего клейстера и плакатов»{979}.
После двух недель голосования стало ясно, что большевики не получили тех полномочий, на которые они рассчитывали; более того, они оказались в явном меньшинстве, получив лишь 24 процента голосов. Ленин пришел в ярость и отложил открытие Учредительного собрания, запланированное на 28 ноября, до Нового года; если бы у него была такая возможность, он бы полностью расправился с ним[117]. Продолжавшийся политический вакуум ознаменовался неуклонным ростом большевистской тирании, арестами и убийствами их политических соперников. Зимой 1917/18 годов началось то, что Виллем Аудендейк назвал «штыкократией», или же, по выражению Луи де Робьена, «солдатской диктатурой», которая характеризовалась повсеместно принятым упрощенным судопроизводством. В городе, переполненном вернувшимися с фронта солдатами, которые ошивались без дела и отличались непредсказуемым, анархическим поведением, правили винтовка и штык. «Наша собственная буржуазная революция 1789 года скатилась к террору и закончилась Бонапартом и его войнами, – отмечал Луи де Робьен. – Но этого оказалось недостаточно, чтобы образумить нас»{980}.
Он не надеялся на улучшение ситуации в России, особенно после того как стал свидетелем типичного примера жестокого и бессмысленного насилия со стороны «двух солдат, покупавших яблоки у старухи, уличной торговки: решив, что цена слишком высока, один из них выстрелил ей в голову, а другой ударил ее штыком. Естественно, никто не осмелился сделать что-либо с этими двумя убийцами, которые спокойно пошли прочь в окружении равнодушной толпы, жуя яблоки, которые достались им так дешево, и не задумываясь о бедной старухе, чье тело весь оставшийся день лежало в снегу рядом с ее небольшим прилавком с зелеными яблоками»{981}.
Тревога ощущалась повсюду. «Нигде не увидишь улыбки, – вспоминала Мэриэл Бьюкенен, – никогда и нигде, как бы ни велика была улица, не услышишь смеха, звука музыки или даже звона колоколов из церквей». «К тому времени как я уехала, это чувство ненависти к любому, кто совершенно очевидно не относился к пролетариату, было почти осязаемым. Это буквально ощущалось, стоило только выйти на улицу», – отмечала, в свою очередь, Элла Вудхаус{982}.
У американцев сложилось такое же мнение. Фил Джордан признавался, что ситуация в Петрограде была «ужасной»: «Улицы полны всех головорезов и грабителей какие есть в России. Слышно пулеметы и пушки гремят всю ночь и день. Тысячи убивают. Почему мы еще живы я не знаю. Они вламываются в частные дома и грабят и убивают всех людей. В доме не очень [далеко] от посольства они убили маленькую девочку и нашли 12 дыр от штыков винтовок в ее теле. О жутко что можно Увидеть… Я понял что лучше всего сейчас держать рот на замке и выглядеть как можно больше Американцем… Все бандиты что вышли из тюрьмы теперь с винтовкой… мы не знаем когда немцы возьмут Петроград. Если они придут прямо сейчас я не знаю что мы будем делать потому что мы не можем уйти. Мы как крысы в ловушке. Большевики порвали все железные дороги. Я не знаю но этот Форд может быть спасет жизнь. Все торговые дома и банки закрыты. Город в полной тьме. Порой у нас только сальные свечи для света, на заводах нет угля и Очень мало дров. Банки у Большевиков и сбежавшие преступники и воры на страже с пулеметами и винтовками, с продуктами все хуже каждый день… Посол сказал мне два дня назад упаковать с собой как можно меньше потому что мы можем уехать и бросить все это»{983}.
Недавнее принятие Декрета о земле (а вместе с этим распространение любимой Лениным мысли Карла Маркса о том, что «собственность – это кража», намекающей на то, что народ должен вернуть себе то, что было украдено у него) «спровоцировало стихию». После того как большевики призвали выискивать частную собственность и овладевать ею (силой, если необходимо), Лейтон Роджерс писал: «Частная собственность подверглась общественному растерзанию»{984}. Являясь свидетелями ежедневных (и еженощных) случаев мародерства, грабежей и убийств, те иностранцы, которые еще как-то симпатизировали идеалам Февральской революции, теперь с большим трудом сохраняли свои прежние убеждения – они видели, что новая большевистская диктатура своими преступлениями ежедневно предавала эти идеалы{985}. Даже представитель Красного Креста Раймонд Робинс, который так горячо встретил новую зарю Октябрьской революции, убеждая свою жену Маргарет, что «это – Великое Событие», теперь начал испытывать сомнения. «Подумай только, – писал он Маргарет 8 ноября, – самое радикальное во всем мире социалистическое-пацифистское-полуанархическое правительство обеспечивает себе власть штыком, запрещая все публикации, за исключением тех, которые поддерживают его программу, арестовывая неугодных лиц без всякого ордера и удерживая их в течение нескольких недель без суда и без предъявления обвинения»{986}.
Единственный луч надежды появился, когда 2 декабря Троцкий объявил о готовности большевиков пойти на перемирие с Германией; мирные переговоры должны были начаться в Брест-Литовске 9 декабря. Все хотели прекращения войны и возвращения к нормальной жизни, поскольку следующим актом в той драме, которая разыгрывалась в России, было бы наступление массового голода в национальном масштабе. Следующей темой (и единственной) для беседы после разговора о мире – и не только между обычными людьми на улице, но и в элитных гостиных Петрограда – была: «где можно было бы достать мешок муки или несколько яиц»{987}. «Даже диаспора, которая жила намного лучше, чем россияне, – вспоминала Бесси Битти, – слышала вой серого волка по имени «голод». Мы были голодны с утра и до ночи. У большинства из нас развился такой аппетит, какого раньше мы никогда не знали. Мы вылизывали тарелки дочиста»{988}.
Фил Джордан постоянно рисковал своей жизнью, выезжая в посольском «Форде» на отдаленные уличные рынки и в окрестные деревни, чтобы попытаться найти провиант. «Прожив в такой дикой стране, как эта, 18 месяцев, начинаешь понимать, что есть только два приличных места для жизни, – сказал он Энни Пуллиам, – одно – это небеса, а другое – это Америка»{989}. Недавно, когда он закупался, он уже все завершил и был готов уезжать, как вдруг «около трехсот большевиков ворвались на рынок с заряженными винтовками». Один из них сказал ему, что больше никому ничего не позволят купить на рынке, потому что «мы собираемся забрать все это для наших друзей». «Убирайся отсюда и черт побери побыстрее. Я Сказал Я не уеду отсюда пока мне не вернут мои деньги. Затем он сказал Клерку отдать мне мои деньги. Затем они начали… пулять чтобы пугать народ и брать все на рынке»{990}.
Если принять во внимание, каким опасным и дорогостоящим делом для относительно привилегированной общины иностранцев являлись поиски продовольствия, то становится неудивительно, что когда Робби Стивенс, директор Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка, 2 ноября дал ужин в честь Дня Благодарения для всех двадцати четырех своих сотрудников, то все прибыли на это мероприятие насладиться хорошей едой «в своих лучших вечерних нарядах».
Социальным волнениям на почве голода еще предстояло потрясти Петроград. Гораздо более насущной на тот момент угрозой, как заметила Бесси Битти, была иная, связанная со спиртным{991}. Все иностранцы были согласны с тем, что именно благодаря царскому запрету на продажу водки Февральская революция смогла избежать актов крайней жестокости и насилия со стороны толпы, обезумевшей от выпивки. Однако в ночь с 23 на 24 ноября революционеры наконец добрались до нетронутых запасов алкоголя в подвалах Зимнего дворца.
После того как дворец был взят, обнаружилось, что царские винные погреба были еще целы, в них было полным-полно вина, шампанского и коньяка. Конечно, в самом городе еще оставалось более восьмисот частных винных погребов, принадлежавших клубам и представителям бывшей аристократии (только в одном из них хранилось 1,2 миллиона бутылок). Однако запасы спиртного в Зимнем дворце включали в себя бесценные бутылки шампанского, «пролежавшие нетронутыми триста лет». По мнению Бесси Битти, их общая стоимость могла составлять около «тридцати миллионов рублей». Большевики понимали, что, как только об этих запасах станет известно, «товарищи» немедленно ринутся к ним. Военно-революционный комитет обдумывал, как ему следовало поступить. Большевикам остро требовались средства, поэтому лучшим и очевидным вариантом было бы продать эти запасы спиртного, например, англичанам или американцам{992}. Более безопасным вариантом было бы изъять их и где-нибудь уничтожить, например, сбросив в Неву, – до того как толпа доберется до них. В конце концов лучшим решением показалось следующее: направить группу красногвардейцев, «чей революционный дух был достаточно сильным, чтобы противостоять искушению спиртным», разбить эти бутылки, а затем выкачать из переполненного погреба весь алкоголь{993}.
В ту ночь, когда отряд красногвардейцев прибыл на место, Бесси Битти решила, что «уничтожается все население города», потому что она непрерывно слышала звуки, похожие на ружейные выстрелы. Однако это были звуки «тысяч пробок, вылетавших из бутылок» в Зимнем дворце{994}. Само собой разумеется, что те, кого направили на это задание, не могли устоять перед соблазном попробовать редкое коллекционное токайское вино времен Екатерины Великой и с радостью приступили к истреблению «наследия Николая Романова»{995}. Чтобы навести порядок, были направлены вооруженные матросы – но к тому времени большая толпа пьяных мужчин уже бесчинствовала, бродя по щиколотку в вине из разбитых бутылок, и не желала расходиться. Началась перестрелка, которая переросла в целое сражение. В конце концов к Зимнему дворцу были, в свою очередь, направлены три расчета пожарных, чтобы затопить подвалы и завершить уничтожение спиртного. Некоторые из напившихся были до такой степени невменяемы, что не смогли уйти оттуда и утонули или замерзли в ледяных струях из шлангов{996}. Лейтон Роджерс слышал в трамвае рассказ одного из солдат, который горевал в связи с тем, что «шестьдесят три его товарища погибли в ходе пьянки в винном погребе Зимнего дворца: их либо убили свои же в результате ссоры, либо они были слишком пьяны, чтобы спастись из того потопа, который был устроен пожарными». Выслушав этот рассказ, женщина, сидевшая через проход от него, «благочестиво подняла глаза и вздохнула: “Шестьдесят три, благодарение Богу!”»{997}
Новости о легкой добыче в Зимнем дворце быстро распространились по всему Петрограду. Как вспоминала Мэриэл Бьюкенен, вскоре к ней устремились практически все: «На сцене появились целые толпы, жаждавшие своей доли трофеев. Приезжали на грузовиках солдаты – и уезжали с ящиками, полными бесценного вина. Можно было наблюдать за тем, как мужчины и женщины с мешками и корзинами, наполненными бутылками, продавали их прохожим на улицах. Даже дети смогли получить свою долю добычи и шли, пошатываясь под тяжестью большой бутыли шампанского или же ценного ликера»{998}. Еще несколько дней над Зимним дворцом стоял кислый спиртной запах[118]. Его можно было почувствовать даже у британского посольства, дальше по набережной. Солдаты и матросы лежали в снегу мертвецки пьяные; сам снег был в красных пятнах – на этот раз не от крови, а от вина. «Некоторые из толпы зачерпывали его руками, пытаясь выжать последние капли вина, дрались друг с другом за эти остатки», – вспоминала Мэриэл Бьюкенен; другие ложились в канавы, пытаясь пить то вино, которое струилось там из множества разбитых бутылок{999}.
Однако грабежи и смерти у Зимнего дворца не прекратились. У красногвардейцев, солдат и матросов, наводнивших город, возникла острая жажда спиртного, и многие из них, придя в ярость, стали вламываться в частные винные погреба и напиваться до совершенно скотского состояния. Жертвой этих набегов вскоре стал Английский клуб, а затем и Елисеевский магазин на углу Невского проспекта, который любили навещать представители иностранного дипломатического корпуса. Свой винный погреб удалось защитить лишь ресторану «Контан»: «он поставил двадцать или около того здоровенных парней с винтовками, пулеметами и гранатами, которым он платил, которых обильно кормил и обеспечивал спиртным». (На Рождество «Контан» будет единственным рестораном, где еще будут подавать вино.){1000} В британское посольство стали приезжать русские друзья семьи Бьюкенен, потому что солдаты врывались в их дома и «не только выпивали все вино, но и ломали мебель, а также, опьянев и перестав осознавать, что делают, принимались беспорядочно стрелять»{1001}. Однажды ночью Фил Джордан слышал «ужасный грохот» и звон разбитого стекла на улице в трех дверях от посольства; он пошел посмотреть и обнаружил, что восемь или девять солдат вломились в винный магазин и «напились все, как могли». Температура была 18–20 градусов ниже нуля, но, несмотря на это, «на следующее утро на Улице одного квартала было полно пьяных Солдат Некоторые Спали на снегу просто как в постели». «И миссис Фрэнсис подумайте только, – добавил Фил Джордан, – не закон не полицейский или кто другой не скажут Прекратить»{1002}.
«Весь Петроград пьян», – в отчаянии признавался недавно назначенный нарком просвещения Анатолий Луначарский{1003}. «Ночь за ночью доносились звуки бедлама, – писал Лейтон Роджерс в то время, как всеобщее пьянство продолжалось, – разговоры, смех, крики, стоны, были видны вспышки света в темноте, проблески свеч, слышались выстрелы и лихорадочные спотыкающиеся шаги… Весь город, казалось, метался в нервном возбуждении»{1004}. Мэриэл Бьюкенен могла слышать из британского посольства постоянные шум и гам, которые прерывались «бесконечными русскими народными песнями». Вскоре резко выросли масштабы торговли краденым алкоголем; на некоторых бутылках с марочными винами, продававшихся мародерами, можно было увидеть императорский герб. Даже представители британской и американской колоний признались, что покупали некоторые из этих бутылок. Луи де Робьен отмечал, что некоторые особо предприимчивые мошенники продавали бутылки «шампанского» из Зимнего дворца, которые они опустошали во время своих пьянок, а затем заполняли «водой из Невы». Большевистское правительство тем временем продолжало попытки уничтожить винные запасы до того, как до них доберется толпа: в подвалах Государственной думы были разбиты 36 000 бутылок коньяка, в другом месте было уничтожено шампанское общей стоимостью в три миллиона рублей. В ходе деятельности официальных «разбивателей бутылок» вскрылось непредвиденное обстоятельство: даже если они стоически воздерживались от малейшего употребления вина, от винных испарений они все равно безнадежно пьянели{1005}.
По мере приближения Рождества 1917 года жизнь в Петрограде начинала казаться, как никогда, деспотичной и опасной. «Номинально всем заправляют большевики, – писал Денис Гарстин, – но на самом деле всем управляет закон толпы, который означает, что толпа есть, а закона нет. Троцкий и Ленин, с каждым днем все больше и больше ненавидящие буржуев, издают новые декреты, которые все разрушают, позволяют отказываться от долгов, отрекаться от брака, не признавать убийств, союзов, тяжких преступлений – о, наступает замечательное время!»{1006} «Боюсь нетрезвого русского с оружием, – признавалась Полина Кросли, которая, предпочтя остаться в Петрограде с мужем, избегала, насколько это было возможно, выходить на улицу, как и большинство ее друзей. Другие иностранцы, которые приняли решение остаться в городе, как, например, Полетт Пакс, которая была полна решимости «ради престижа Франции» выполнить свой контракт в Михайловском театре, тоже сидели по домам. Однако Полетт Пакс обнаружила, что ей трудно целыми днями находиться в запертой квартире с окнами, закрытыми ставнями, и она все же решалась и выходила наружу – хотя бы просто для того, чтобы избежать «удушающего чувства погребения в склепе»{1007}.
Однако снаружи не было ничего такого, ради чего стоило бы выходить, там продолжалась очередная убогая зима: с замерзшей Невой, занесенными снегом улицами, с пустыми «церквями, в которых никто не молился», редкими трамваями, ходившими из последних сил, с половиной магазинов закрытыми и заколоченными, с длительным отключением электроэнергии (ситуация усугублялась в связи с серьезным дефицитом угля, дров, керосина и свечей), с хлебом из соломы, почти полным исчезновением масла и яиц. Покупательная способность рубля продолжала стремительно падать. «Сопоставления с прежними ценами выше арифметических способностей моего мозга, – писала Полина Кросли. – Я просто знаю, что мне лучше пройтись пешком, чем платить извозчику сорок рублей (сейчас около 4 долларов на наши деньги) за 15 минут езды». Что еще она могла рассказать своей семье, оставшейся на родине? «В целом новости такие: Петроград еще по-прежнему на месте, здесь; части Москвы больше нет; многих красивых поместий больше нет нигде; большевики везде»{1008}. Теперь бастовали банки. «Все дела останавливаются и скоро остановятся совсем, – писал Лейтон Роджерс 29 ноября. – Мы пытаемся как-то двигаться вперед, каждый день надеясь, что завтра ситуация улучшится; но мы надеемся на это вот уже восемь месяцев, а она постепенно становится все хуже»{1009}.
В начале декабря сэр Джордж Бьюкенен вновь заболел. «Мой доктор сказал, что силы мои на исходе», – признавался он. Он был вынужден согласиться с тем, что ему необходимо покинуть Россию. С началом 9 декабря Брест-Литовской мирной конференции он, скрепя сердце, перестал возлагать на Россию какие-либо надежды. Ему стало ясно, что война была «более ненавистна, чем даже был царь», и что для британской миссии в Петрограде пытаться сохранить участие России в войне теперь бесполезно{1010}. Его коллега Дэвид Фрэнсис между тем был непреклонен: «Я готов переступить через свою гордость, пожертвовать своим достоинством и с должной осмотрительностью сделать все необходимое, чтобы помешать России стать союзником Германии». Но было уже слишком поздно. 7 декабря Фил писал миссис Фрэнсис: «знаете ли вы что сейчас в Петрограде… полно Немцев [освобожденных военнопленных] Шагающих по улицам гордо как павлины. Все русские очень рады что Немцы здесь. Они Говорят что когда немцы возьмут Петроград что тогда у нас будет какой-то закон и порядок»{1011}.
12 декабря по русскому календарю англичане, американцы и другие иностранцы, оставшиеся в Петрограде, отрешились от мрачной реальности голодающего города, чтобы отпраздновать Рождество, поскольку по европейскому (григорианскому) календарю это было 25 декабря. «В разгар войны и революции, – вспоминала Бесси Битти, – мы не только праздновали Рождество, но праздновали его дважды». Как она считала (что неудивительно, учитывая, что ее «душа выросла в напоенной солнцем Калифорнии»), это Рождество «словно пришло из настоящей сказки»{1012}. Слякотный и грязный Петроград, который приобрел еще более траурный облик из-за запущенного вида зданий и пулевых отметин на их лепнине, теперь преобразился благодаря захватывающей дух красоте зимы, которая пришла, «обрушившись с небес», намела снег «сугробами на крыши и трубы, развесила иней, как хрустальную бахрому».
Как писала Бесси Битти, в такой обстановке Рождество 1917 года было просто волшебным, «несмотря на пустые магазины и людские горести»{1013}. Миссия Американского Красного Креста организовала для американских журналистов рождественский ужин; были зажжены бенгальские огни, украшенная ель заняла почетное место. «Мы закрыли ставни и отгородились от войны и революции, много смеха у нас вызвала русская идея пирожка с начинкой». По воспоминаниям Джона Луиса Фуллера, Фред Сайкс и Лейтон Роджерс в своей новой прекрасной четырнадцатикомнатной квартире «приготовили замечательные блюда» для своих банковских коллег: жареного гуся, овощей, «пятислойный торт», а также вино (некоторые бутылки, из запасов Зимнего дворца, были приобретены на черном рынке). Однако «лучше всего было прийти в ночь под Рождество» на вечеринку для всей американской колонии, которая была устроена в Петроградском филиале Государственного муниципального банка Нью-Йорка{1014}. Бесси Битти считала это «подлинным триумфом, ставшим результатом всей изобретательности умной женщины и полудюжины находчивых мужчин», поясняя, что «обеспечить продуктами двести человек в условиях Петрограда, где практически ничего не было, являлось настоящим подвигом». Основным гением этого «ловкого фокуса» была Милдреда Фарвелл, Петроградский корреспондент издания «Чикаго трибьюн», жена сотрудника миссии Красного Креста, который организовал поставку «пекарного порошка из Владивостока, в шести тысячах верст отсюда, для выпечки американских слоеных тортов. Яйца были доставлены из Пскова, находящегося вблизи фронта. Из кладовой посла добыли белую муку. А индюки появились Бог знает откуда»{1015}[119].
В ту ночь, по описаниям Бесси Битти, бывшее турецкое посольство «вспомнило всю свою былую славу», когда оно было украшено флагами, а его огромные зеркала в позолоченных оправах отражали «кружившуюся компанию женщин в переливавшихся платьях и мужчин, чьи вечерние костюмы не отутюживали уже долгое время». «Наши плоские голые стойки, которые использовались только для того, чтобы класть на них принятые от клиентов деньги, были полны разных деликатесов, – писал Джон Луис Фуллер в своем журнале. – Бутерброды с белым хлебом, индейка, курица, салаты, клюква, пирожные с вареньем всех видов, яблочные пироги…еще на одной стойке стояла большая чаша для пунша, приготовленного из примерно десятка различных вин». Излишне говорить, что «задолго до окончания вечеринки более половины всех этих деликатесов было уничтожено». Все гуляли до трех часов утра, танцуя под оркестр балалаек и оркестр из двенадцати музыкантов, который исполнял ванстеп и американский регтайм. Приглашенный на вечеринку русский оперный певец прекрасно исполнил гимн США «Знамя, усыпанное звездами». Лейтон Роджерс пытался вовсю вальсировать, «на каждом шагу натыкаясь на послов и вызывая медный перезвон среди генералов, явившихся со всеми своими наградами» (он был плохим танцором и вскоре бросил это дело){1016}.
В британском посольстве ночь под Рождество по сравнению с американским вариантом была отмечена довольно сдержанно, поскольку она совпала с официальным прощанием с сэром Джорджем Бьюкененом. Были приглашены представители союзных военно-морских и военных миссий, а также сотня сотрудников посольства и некоторые русские друзья посла. Это было последнее мероприятие, организованное британскими дипломатами в Петрограде. К счастью, в тот вечер не отключали электричество, «поэтому хрустальные люстры сверкали так же, как и раньше», и, хотя сэр Джордж чувствовал себя весьма неважно, он стоял «наверху входной лестницы, встречая приезжавших гостей, и со своим моноклем, который свисал с его шеи, и с широкой орденской лентой смотрел[ся] именно так, как должен смотреться любой посол». Сотрудник посольства Уильям Герхарди отметил, что сэр Джордж с характерной для него застенчивостью отреагировал на исполнение в ходе ужина английской поздравительной песни «Ведь он такой хороший, славный парень», настаивая на том, что он вовсе не был «ни хорошим, ни славным» и что «он может сказать о себе лишь то, что он был “парнем”»{1017}.
Мэриэл Бьюкенен никогда не могла забыть эту последнюю печальную вечеринку: «Хотя в зале торжеств было множество банок с мясными консервами и другая еда, хотя у каждого сотрудника посольства был в кармане заряженный пистолет, а в «канцелярии» скрытно хранились винтовки и патронташи, мы пытались забыть про пустынные улицы и про подстерегавшую там нас постоянную опасность. Мы играли на фортепиано и пели песни, мы пили шампанское и смеялись, чтобы скрыть печаль в наших сердцах»{1018}.
Через два дня после этих счастливых рождественских праздников большевики ввели прямой государственный контроль над всеми иностранными банками в Петрограде и направили вооруженные отряды Красной гвардии, чтобы занять их. Этим утром, 14 декабря, «на первом этаже главного входа» Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка «раздался шум и зазвучали громкие голоса». Вслед за этим Лейтон Роджерс и Джон Луис Фуллер услышали, как «сапоги с железными набойками загрохотали по мраморной лестнице, когда отряд солдат-большевиков протопал в кабинеты нашего банка». Солдат возглавлял «напыщенный самодовольный коротышка с рыжей шевелюрой, в офицерской форме, черных кожаных сапогах и всем таком прочем». Он ударил длинным наганом с синим отливом по стойке, «помахал каким-то грязным документом и объявил, что по приказу Совнаркома он конфискует банк и закрывает его». Персоналу банка было приказано сдать все ключи, их учетные книги тоже должны были быть конфискованы[120]. Несмотря на незнание русского языка, персонал, работавший на регистрации, уловил суть сообщения «Рэда»[121] (как его прозвал Роджерс), закрыл свои учетные книги и сдал их; солдаты, которые в это время «выстроились цепочкой вдоль банковских стоек, отдыхали, положив ощетинившиеся штыками винтовки на стойки»{1019}. Стив, который на тот момент был менеджером, вышел из своего кабинета и обнаружил, что его банк отныне принадлежит русским. «Рэд» сказал ему:
«– Вам придется вместе со мной направиться в Госбанк… в Вашем автомобиле.
– Но у меня нет автомобиля, – запротестовал Стив.
– Вы – директор банка, у Вас должен быть автомобиль».
К счастью, Стив хорошо знал русский язык, и он принялся ясно и твердо объяснять, что «это был американский банк и что американцы – демократичные, неприхотливые люди, которые далеко не всегда обеспечивают директоров своих банков автомобилями»{1020}. Поразмыслив над этим, «Рэд» объявил, что все денежные средства банка должны быть конфискованы. Однако, к несчастью для последнего, в связи с закрытием Государственного банка в кассе на момент было только несколько тысяч рублей. «Рэд» был заметно разочарован. Оказалось, что любому большевистскому подразделению, направленному на «национализацию» финансового учреждения или частной компании, было разрешено поделить между собой все найденные там деньги. «В том случае, если бы американский банк был до самого потолка завален мелкими деньгами, предполагалось организовать лотерею и команда победителей забирала бы этот выигрыш». «Рэд» был в ярости. «Что же это вообще за банк? – закричал он. – У директора нет автомобиля, в кассе почти нет денег!…Мне придется все это объяснить им». Вслед за этим он сообщил своим людям, что отсутствие денег являлось ловкой проделкой хитрых американцев, «которая доказала, что мы были очень опасными людьми, злейшими врагами пролетариата». «Разве вы не банкиры, – кричал он, – а значит, не капиталисты? И разве вы не иностранцы, а значит, не международные капиталисты? Нет никого ниже из человеческих существ!» И он дал указание своим людям не спускать с нас глаз»{1021}.
Забрав ключи от сейфов и несгораемых денежных ящиков и сообщив клеркам, что все они находятся под домашним арестом, «Рэд» повез Стива в Государственный банк, чтобы добыть там еще денег. На это время, как вспоминал Фуллер, около десятка солдат остались нести караул в зале, «сидя на нашей дорогой мебели», с жадностью наедаясь драгоценными банковскими запасами хлеба и укладываясь подремать на стильные диваны и кресла. Молодые банковские клерки понуро сидели, пока кто-то из них не вспомнил про граммофон, который использовали на рождественской вечеринке. Его принесли и принялись играть американский регтайм. Один за другим большевики, охранявшие их, покидали свои посты и собирались вокруг, чтобы послушать. Когда спустя час «Рэд» вместе со Стивом вернулся, по воспоминаниям Роджерса, «он обнаружил, что мы с парой русских караульных танцуем под американскую капиталистическую музыку»{1022}. Захват «Рэдом» банка продолжался до самого Нового года. Как вспоминал Роджерс, «Рэд» ходил с важным видом, «словно вор в законе»: это был «исторический момент в его жизни, и он [был] намерен выжать из него по максимуму». Его поведение было до такой степени диктаторским, что Роджерс опасался, как бы «Рэд» не стал «маленьким Наполеончиком»{1023}.
Аналогичные безапелляционные захваты большевиками британских финансовых учреждений и компаний происходили по всему городу. Когда инженер-механик Джеймс Стинтон Джонс в сентябре вернулся в Петроград, чтобы завершить свои дела и отослать деньги в Лондон, ему пришлось весьма непросто в той «тюремной атмосфере», которую он застал в городе. Банк, в котором он держал свои деньги, был захвачен большевиками, но он затребовал – и еще успел получить – 500 рублей (около 50 фунтов стерлингов) со своего счета. Это было, однако, недостаточно, чтобы заплатить сотрудникам его офиса и рабочим мастерской, которых он был вынужден уволить. Однажды утром к нему пришли большевики и потребовали ключи от его мастерской и складов, в которых хранились машинное оборудование и различные технические средства стоимостью 20 000 фунтов стерлингов. Вскоре они вернулись за ключами от его квартиры:
«– Что вы хотите? – спросил я…
– Передать ключи от твоей квартиры товарищу (такому-то), предъявителю этого письма.
– Что вы имеете в виду? Уже вечер, холодно, как же мне, по-вашему, быть?
– Это твое дело.
Затем один из большевиков взглянул на вешалку и спросил:
– Это твой плащ и твои калоши?
– Да.
– Возьми их.
Я повернулся, чтобы пройти в комнату, и он спросил меня, куда это я собрался.
– Я иду в спальню, чтобы взять фотографию своей матери.
Указав мне на мое пальто, он сказал:
– Забирай свое пальто и галоши.
Отдав ему ключ, я остался лишь с той одеждой, которая была на мне».
Стинтон Джонс вернулся в Англию, проведя в России бо́льшую часть из тринадцати последних лет. С собой у него была лишь та одежда, которая была на нем, и то, что у него осталось от 500 рублей{1024}.
Последние две недели своего пребывания в Петрограде для Мэриэл Бьюкенен было очень трудно не расплакаться. Покидая Россию, она чувствовала себя так, словно «предает тех, кого очень сильно любила, и оставляет их умирать в полной нищете. День за днем я ходила и прощалась с каждым зданием, с каждым местом, которые я знала и которые стали для меня родными: это и Казанский собор на Невском проспекте… и Александровская колонна на Дворцовой площади, и прекрасная конная статуя Петра Великого работы Фальконе»{1025}. Она чувствовала гораздо более сильную боль от мысли, что ей приходится уезжать из этого города, чем от того, что ей было необходимо сделать выбор: что именно из своих вещей упаковать в один небольшой дорожный сундук, который был выделен ей. Ей пришлось оставить тяжелую белую русскую шубу на подкладке из серой белки с воротником из лисы, изысканно украшенное парадное платье и шлейф из серебряной парчи, а также свою сиамскую кошку. Посольские столовые серебряные приборы были отправлены морем из Архангельска, но всю изысканную мебель, которую ее родители собирали в течение долгих лет службы на дипломатической работе в Европе – антикварный голландский шкаф, французские императорские кресла, письменный стол Марии Антуанетты, обюссонский ковер, – также пришлось бросить{1026}. За день до отъезда она гуляла, «опечаленная, по пустынным тихим улицам города, который стал для меня, после стольких лет жизни здесь, почти домом и который, я чувствовала, мне уже никогда больше не доведется увидеть». Было очень холодно, от реки дул ледяной ветер, по обочинам возвышались сугробы. В пустом Исаакиевском соборе она зажгла свечки перед иконами Божией Матери и святого Георгия. В тот вечер она обедала в клубе для военных на улице Миллионной с полковником Ноксом и другими военными атташе, которые покидали Петроград вместе с ними{1027}.
Ее отцу также было тоскливо. «Почему Россия оказывает на всех, кто ее знает, столь неизъяснимое мистическое воздействие, что даже сейчас, когда ее заблудшие дети превратили свою столицу в сущий ад, нам жалко отсюда уезжать?» – задавался он вопросом в своем дневнике{1028}. Во вторник, 26 декабря 1918 года, в 7.45 утра семья Бьюкенен оставила посольство, в темноте (в очередной раз отключили электричество) освещая себе путь мерцавшей керосиновой лампой и минуя на лестничных пролетах портреты королевы Виктории, короля Эдуарда и королевы Александры, короля Георга и королевы Марии. Всхлипывавшие русские горничные проводили их до автомобиля, который стал медленно пробираться через снежные сугробы к мрачному и промерзшему Финляндскому вокзалу. Там с ними попрощались некоторые из их дипломатических коллег и представители британской колонии. За взятку двумя бутылками лучшего коньяка из посольских запасов им был обеспечен спальный вагон.
Накануне Виллем Аудендейк пришел в посольство попрощаться со своим коллегой. «Редко когда, – писал он, – какой-либо британский дипломат покидал свой пост при более драматических обстоятельствах, чем это делал сэр Джордж Бьюкенен. Он был чрезвычайно популярной личностью в российском обществе, ему удалось стать самым важным представителем всего дипломатического корпуса». С началом войны в 1914 году, когда к сэру Джорджу относились с большим уважением за его моральную поддержку русского народа, он был вынужден в смятении наблюдать за медленным и неумолимым «крушением всего того, что объединяло русскую нацию», и обнаружил, что стал предметом ненависти большевиков как враг, как представитель «английских банкиров, генералов и капиталистов, которые желали лишь пировать на крови трудящихся масс России». «Каких только поразительных событий не пережил дипломат во время своей службы в России! – удивлялся Виллем Аудендейк. – И в самый разгар всех этих потрясений сэр Джордж Бьюкенен всегда был, как скала, невозмутимым. В своих взглядах, словах, делах это был настоящий британский джентльмен»{1029} [122].
Американский коллега сэра Джорджа Бьюкенена, Дэвид Фрэнсис, остался в Петрограде, однако, согласно указаниям из Вашингтона (который считал, что так будет лучше в этот критический момент, чем отзывать посла), ему следовало делать все возможное для сближения с большевиками. Преданный Фил надеялся на то, что его босс (чье здоровье также было подорвано) окажется в безопасности дома. «Я все собрал все готово лететь в ту минуту как нам дадут Знать», – сообщал он миссис Фрэнсис, добавляя: «Порой Я желаю чтобы у посла было не так много крови Кентукки в нем и тогда может быть он не будет Так рисковать». Его беспокоило то, что посол хотел остаться в Петрограде «Просто немного дольше чем ему следавало»{1030}.
Когда Россия встречала свой старый православный Новый год, в доме на Французской набережной (где за окном бушевала вьюга) Полине Кросли удалось добыть достаточно дров, чтобы обогреть одну из комнат, а также осветить ее свечами и керосиновыми лампами, где она и ее муж принимали гостей. Однако им было слишком хорошо известно об «очевидном стремлении властей избавиться от иностранцев». Это приводило в уныние. «Россия – замечательная страна, – писала она, – полная света и тени, только вот сейчас тени преобладают. Очень плохо, что мир должен потерять столько красоты, которая была в России, – и ради чего? Чтобы получить что-то гораздо худшее, чем ничего»{1031}.
Лейтон Роджерс проводил старый год прогулкой по Невскому проспекту, но она только «несомненно» убедила его в экономическом и социальном распаде России. Он мог видеть это на каждом шагу: «…ужасные толпы на улицах, ободранные, изможденные, беспокойные, на бледных лицах у всех отпечаток изгнания и зыбкости, все спешат, словно их гонит страх перед приступом неизвестных сил. Люди с котомками, некоторые с трудно добытыми буханками хлеба в руках, другие без котомок и без буханок – значит, им предстоит голодать. Худых, рано повзрослевших детей принуждают к труду; искалеченным солдатам, выписанным из госпиталей родной страны, не полагается никакая плата за их жертву, кроме привилегии попрошайничать на улицах; а профессиональные попрошайки, которых можно встретить повсюду, – вы говорите, слепые? Они вообще без глаз! Все это больше похоже на ужасные иллюстрации Доре[123], чем на реальность, на персонажей романа “Отверженные”»{1032}.
В последний день 1917 года был один приятный момент, по крайней мере для Роджерса: ему «пришло письмо из дома – первое за долгое время». Оно было написано в сентябре и добиралось до него четыре месяца. Он был грустным и подавленным и все больше думал о своих друзьях, вернувшихся домой, которые уже поехали на Западный фронт. Петроград уже измучил его. После более чем года пребывания здесь он решил бросить банк и присоединиться к ним. «Большевики украли русскую революцию, и их власть может продолжиться, – писал он, вспоминая время, проведенное им в Петрограде. – Страстно надеюсь, что нет, но с такой возможностью приходится считаться… В будущее России страшно даже всматриваться. Она вышла не только из этой войны, она вообще вышла из нашего мира, причем на длительное время. Нам лучше учесть это, чтобы сосредоточиться на борьбе за собственное будущее»{1033}.
Послесловие Забытые голоса Петрограда
Сэр Джордж Бьюкенен с семьей прибыл в порт Лейт, Шотландия, 17 декабря 1918 года и оттуда направился поездом в Лондон, где его ожидали поздравительные обращения от британского правительства и предстоял обед в Букингемском дворце. Однако вскоре после этого у него начались серьезные проблемы со здоровьем, и он был вынужден уехать на продолжительный отдых в Корнуэлл. Сэр Джордж был искренне убежден, что спасти Россию теперь может только вооруженная интервенция союзников, и проводил многочисленные встречи и лекции, посвященные этому вопросу. Его глубоко опечалило, что эта интервенция (1918–1919 гг.) потерпела поражение. Сэр Джордж был также крайне разочарован тем, что после стольких лет дипломатической службы его не произвели в пэры, а размер государственной компенсации, выплаченной ему за утраченное в России имущество и сделанные им там инвестиции, он счел просто унизительным. Кроме того, получив в 1919 году предложение занять место посла в Риме сроком на два года, он истолковал это как очевидный признак того, что по завершении этого срока дипломатическое ведомство больше не будет нуждаться в его услугах{1034}.
По возвращении в Лондон леди Джорджина продолжила свою неустанную благотворительную деятельность и оказала большую помощь многим британцам и русским, которые бежали из России после революции. Однако в Риме она тяжело заболела, у нее обнаружили рак, и последние годы, которые семья провела в Италии, были омрачены ее страданиями. Она умерла в апреле 1921 года вскоре после возвращения в Англию{1035}. При содействии редактора сэр Джордж написал книгу воспоминаний “My Mission to Russia and Other Diplomatic Memories”, в основу которой легли его дневниковые записи, сделанные в Петрограде. Книга была опубликована в 1923 году[124]. Сэр Джордж умер в декабре следующего года. Его дочь Мэриэл тоже написала несколько книг о том времени, что она провела в России, среди них “Petrograd, The City of Trouble” («Петроград, город беды», 1918) и “Dissolution of an Empire” («Распад империи», 1932), посвященные восстановлению доброго имени своего отца, на которого обрушился шквал несправедливых обвинений в том, что в 1917 году он не предпринял всех возможных мер, чтобы спасти царскую семью и вывезти их в Великобританию{1036}.
После отъезда семьи посла Бьюкенена из России в британском посольстве осталась лишь горстка сотрудников, которые заняли там «последнюю оборону». Их возглавил консул Артур Вудхаус, на плечи которого легла единоличная ответственность за судьбы нескольких сотен британских граждан, в основном женщин, которые оставались в Петрограде. Вудхаусу и сотрудникам британского военного атташе удалось обеспечить их продовольствием и предметами первой необходимости, хотя ситуация в городе продолжала ухудшаться. Однако 31 августа 1918 года несколько красногвардейцев ворвались в посольство Великобритании, завязалась потасовка, в ходе которой был убит военно-морской атташе капитан Фрэнсис Кроми{1037}. Были арестованы тридцать сотрудников посольства, в том числе капеллан, преподобный Босфилд Сван Ломбард, и консул Артур Вудхаус. Их посадили в Петропавловскую крепость, где и продержали до октября. В конце концов они были освобождены и переправлены через Швецию в Великобританию. Какое-то время здание посольства пустовало и находилось в заброшенном состоянии. Только в 1920 году его начали использовать для хранения конфискованных предметов искусства и мебели, предназначенных большевиками на продажу; оно стало напоминать «переполненную антикварную лавочку на Бромптон-роуд»{1038}.
В феврале 1918 года, когда мирные переговоры с Германией зашли в тупик, германская армия в результате наступления оказалась буквально в сотне километров от Петрограда. Большевики перенесли правительство в Москву, а оставшихся представителей дипломатического корпуса эвакуировали в Вологду. Многие коллеги Дэвида Фрэнсиса в то время покинули Россию. Когда уехал сэр Джордж Бьюкенен, Дэвид Фрэнсис стал главой дипломатического корпуса союзных стран, и он был твердо намерен никуда не уезжать из России, заявляя, что «он не желает бросать в беде русский народ, к которому он испытывает глубокое сочувствие, и он не раз выражал искреннюю заинтересованность Америки в благополучии русского народа»{1039}. Фил Джордан, наоборот, теперь очень хотел поскорее уехать. После того как большевики врывались на территорию целого ряда посольств в Петрограде, он пришел к выводу, что большевики «совсем не уважают иностранные представительства»{1040}.
26 февраля 1918 года[125] американские дипломаты покинули Петроград и специальным поездом были отправлены в Вологду. Фрэнсис и Фил устроились там на удивление хорошо. Они поселились в простом, но «славном» (как показалось Филу) двухэтажном деревянном доме на главной улице города. В последующие пять месяцев гости этого дома наслаждались непринужденной «атмосферой загородного клуба». Оказавшиеся в ссылке дипломаты вечерами играли тут в покер и курили сигары. Они потягивали бурбон, когда удавалось его раздобыть, если же нет, то «накачивались водкой». С собой они привезли старый добрый «Форд» модели «Т», и Фрэнсис, бывало, разъезжал на нем по округе в поисках подходящего места, где можно было бы устроить поле для гольфа{1041}. Но в октябре 1918 года у Фрэнсиса резко воспалился желчный пузырь (это была какая-то инфекция), и его эвакуировали в США на крейсере американских ВМС из порта Мурманск. Весь путь через бурные морские и океанские воды Фил сопровождал его и ухаживал за ним, когда у больного поднималась высокая температура.
Фрэнсиса подлечили в военно-морском госпитале в Шотландии и перевезли в Лондон. Вскоре после Рождества 1918 года Фил с гордостью сопровождал его на приеме у короля Георга и королевы Марии в Букингемском дворце. Когда в феврале 1919 года они наконец вернулись в США, Фил опять был удостоен высочайшей чести – он был приглашен в Белый дом. Позднее он писал об этом так: «Я родился в Хог[126] Аллей. Наверное, вы знаете, что кенгуру прыгает очень далеко, дальше, чем многие звери. Но думаю, что даже кенгуру не сможет допрыгнуть из Хог Аллей до Белого дома – вот это был прыжок так прыжок!»{1042} В 1922 году у Фрэнсиса случился инсульт, после которого он так и не оправился. Он умер в 1927 году в Сент-Луисе, завещав сыновьям позаботиться о верном Филе, которому до самой его смерти (Фил умер от рака в 1941 году в Санта-Барбаре) было предоставлено постоянное бесплатное проживание, для него был открыт небольшой трастовый фонд{1043}.
После выхода России из войны военные госпитали союзников в Петрограде были закрыты. Госпиталь британской колонии под патронажем леди Джорджины Бьюкенен закрылся еще в 1917 году, отчасти потому что среди пациентов произошло резкое падение нравов: они стали проявлять грубость и неуважение к персоналу госпиталя, в частности, по той причине, что количество самих пациентов резко сократилось (остались в основном те, у кого была цинга). Раненые становились все более неуправляемыми и буйными{1044}. Комитет госпиталя американской колонии также проголосовал за то, чтобы закрыть свое учреждение, где на лечении, как отмечала Полин Кросли, находились по большей части те, «кто получил ранения в потасовках между собой», поэтому уход за такими буйными пациентами становился для «женщин из числа персонала госпиталя все более опасным»{1045}. Неиспользованные запасы медикаментов были отданы в распоряжение Армии Спасения.
Подошел к концу и период активной деятельности Англо-русского госпиталя. 17 ноября 1917 года финансировавший его Лондонский комитет проголосовал за закрытие учреждения с 1 января 1918 года. Оставался вопрос о том, «что делать с превосходными инструментами и оборудованием стоимостью несколько сот фунтов стерлингов», которыми был оснащен госпиталь. Как сообщал Фрэнсис Линдли, комиссар Красного Креста «предложил передать все это Советам», но управляющие госпиталем были против, поскольку они были уверены, что все это будет разворовано или просто уничтожено. В конце концов инструменты и оборудование госпиталя были тайно упакованы и доставлены на Финляндский вокзал, а оттуда в Архангельск, где они находились под охраной британской бронеавтомобильной части. Из Архангельска их переправили обратно в штаб-квартиру Красного Креста в Лондоне, «что было значительно лучше, чем если бы все это отдали в распоряжение невежественным большевикам»{1046}. В 1996 году российские власти разместили на здании бывшего дворца[127] великого князя Дмитрия Павловича памятную доску, где указано, что в этом здании размещался Англо-русский госпиталь. Эта доска и по сей день находится на этом здании.
Однако основательница госпиталя, леди Мюриэл Пэджэт, упрямо отказывалась прекратить благотворительную работу в России. Она продолжила свою деятельность в Киеве, где организовала кампанию по борьбе с голодом и открыла передвижные кухни, раздававшие суп для шести тысяч человек. Но в 1918 году леди Мюриэл тоже покинула Россию. Она выехала через Сибирь, Японию и США. В 1924 году она организовала британскую секцию в Российской благотворительной ассоциации для оказания помощи британским подданным, не сумевшим покинуть Россию, многие из которых были принудительно отправлены в Эстонию. О дальнейшей судьбе многих медсестер и сестер милосердия из числа персонала Англо-русского госпиталя, за исключением таких известных и высокопоставленных, как леди Сибил Грей или Дороти Сеймур, почти ничего не известно, хотя в ходе подготовки материалов к этой книге и удалось разыскать некоторые их мемуары и письма.
О жизни и дипломатической карьере некоторых представителей американского и британского дипкорпуса сохранилось немало свидетельств – книги об их деятельности и их собственные архивы, пусть и разбросанные по различным хранилищам в США и Великобритании. Однако о других, доныне мало упоминаемых и практически забытых членах англо-американской диаспоры в Петрограде (гувернантках и нянях, инженерах, бизнесменах и предпринимателях, об их женах и детях, которые тогда жили в городе и многие из которых оставили очень яркие и ценные воспоминания о тех днях в своих мемуарах и письмах), об их дальнейшей жизни после отъезда из Петрограда неизвестно практически ничего. Некоторые из них пострадали от рук большевиков, как, например, преподобный Босфилд Сван Ломбард, капеллан англиканской церкви в Петрограде. Он не покинул свой пост даже тогда, когда уехали многие члены британской диаспоры. Босфилд Сван Ломбард был уверен, что несет личную ответственность за почти четыреста соотечественников, которые все еще оставались в городе. Многие из них работали учителями и гувернантками и всю жизнь прожили в России, «вложив все свои сбережения в какой-нибудь из банков». Но Петроград революционных времен был таким мрачным, вгоняющим в тоску городом, «похожим на город мертвых», местом, где «царило беззаконие», как рассказывал Ломбард своей жене по возвращении, что он испытал огромное облегчение, когда в октябре 1918 года, после освобождения из тюрьмы, он смог наконец покинуть Россию и вернуться на родину{1047}. Босфилд потерял в России практически все, что имел, но получил лишь мизерную компенсацию в размере 50 фунтов стерлингов, причем 43 фунта 16 шиллингов и 7 пенсов у него сразу же были вычтены в счет суммы, затраченной на его освобождение и возвращение в Британию. Ценные свидетельства о Петрограде 1917 года, оставленные Босфилдом и другими членами британской диаспоры, хранятся в русском архиве в Лидсе, который представляет собой сокровищницу сведений о жизни британской диаспоры в России с девятнадцатого века.
Трудно назвать точное количество британских, американских, французских и других корреспондентов, побывавших в России в 1917 году, поскольку не все они могли подписывать свои репортажи, и лишь немногие из них оставили опубликованные мемуары. Однако известно, что их было поразительно много и что они с удивительным упорством, даже задором, выдерживали те ужасные лишения, голод и холод, что и остальное население. Часто эти журналисты упоминали друг друга в своих статьях, но в связи с особенностями работы журналистов всегда – лишь вскользь. От их архивов практически ничего не сохранилось, и, что еще досаднее, почти не сохранились сделанные ими фотографии.
Арно Дош-Флеро до конца жизни работал корреспондентом в Европе. Он оказался одним из первых, кто попал в Германию в конце Первой мировой войны. Несколько раз он пытался вновь приехать в Россию, чтобы написать серию репортажей о молодом советском государстве, но разрешения на въезд ему не дали. Позднее он женился на русской и в тридцатых годах жил в Берлине. Там ему довелось наблюдать зарождение и становление нацизма и взлет Гитлера к вершинам власти. Незадолго до начала Второй мировой войны нацисты арестовали его. Пятнадцать месяцев Дош-Флеро провел в заключении. Остаток своих дней он работал корреспондентом газеты «Крисченсайенс монитор» в Испании. Он умер в 1951 году в Мадриде{1048}. В его напечатанной в 1931 году книге “Through War to Revolution” («Через войну к революции») с едким посвящением «неизвестному русскому солдату, над могилой которого не горит вечный огонь», описаны впечатления о Восточном фронте и о России. Это одно из многих воспоминаний о Петрограде 1917 года, которое было предано забвению.
Похожая судьба ждала и книгу Исаака Маркоссона “The Rebirth of Russia” («Возрождение России»), опубликованную через короткое время после его отъезда из Петрограда, а также и его публицистические работы по этой теме. Маркоссон вернулся в Россию в 1924 году вскоре после смерти Ленина с тем, чтобы лично увидеть, насколько «большевики задушили свободу своей железной рукой». Он обнаружил, что страна находится в печальном состоянии «разорения», ее древние прекрасные храмы «превращены в конюшни». Пребывание в такой стране было кошмарным, покинув ее пределы, он с радостью оставил позади «слежку, прослушивание телефонных разговоров, перлюстрацию корреспонденции, неистребимую вонь и чувство угнетенности, которое неизменно сопутствует непрерывной поднадзорности». По возвращении Маркоссон опубликовал в «Сэтэдей ивнинг пост» серию из двенадцати разоблачительных статей под заголовком «После Ленина – что?». Советская власть немедленно запретила этот журнал на своей территории, а также закрыла Маркоссону въезд в Россию{1049}.
Самыми известными журналистами (если не считать британского корреспондента Артура Рэнсома, который впоследствии стал знаменитым писателем) была четверка, «которая видела восход солнца», как назвала Бесси Битти саму себя и троих своих товарищей-корреспондентов, Джона Рида, Луизу Брайант и Альберта Риса Вильямса, в посвящении своей книги “The Red Heart of Russia” («Красное сердце России», 1918). Битти вернулась на родину и в течение многих лет с успехом вела программу на радио Нью-Йорка, умерла она в 1947 году. Альберт Рис Вильямс навсегда остался преданным активистом коммунистического движения и, в отличие от других своих коллег-журналистов антикоммунистического толка, с 1922 по 1959 год много раз бывал в Советском Союзе, где его ждал неизменно теплый прием. Умер Альберт Рис Вильямс в 1962 году. Он был убежденным сторонником новой большевистской России, чего совершенно нельзя было сказать о Гарольде Уильямсе, который испытывал к ней глубокое отвращение. Он страстно поддерживал идеи Февральской революции, но в начале 1918 года все его надежды на лучшее будущее для России были разрушены.
«Те, кто жил здесь, всем своим существом, каждой клеточкой своего тела испытали эту горечь, – писал он в «Дейли кронкл» 28 января 1918 года. – Не могу передать вам, какие жестокости, какие зверства творятся здесь и беспощадно раздирают Россию на всех ее бескрайних просторах. Это ужаснее, чем любая армия захватчиков. На нас обрушились все мыслимые кошмары, разбой и грабежи, самые жестокие убийства стали неотъемлемой частью нашего повседневного существования. Это хуже, чем при царизме… Большевики даже не пытаются создавать иллюзии относительно своей истинной сущности. Они с одинаковой ненавистью относятся к буржуазии любой страны, прославляют любую жестокость и насилие в отношении правящих классов, с презрением отметают любые законы и правила приличия, считая все это никчемным, они попирают искусство и все, что украшает быт. Им безразлично, что в агонии великого переворота мир скатывается в варварство»{1050}.
Несмотря на то что все четверо оставили свои, весьма позитивные, воспоминания о России во времена революции, книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» (1919) затмила мемуары всех его коллег. Позднее эта книга была еще более возвеличена голливудским режиссером Уорреном Битти в его фильме «Красные», снятом в 1981 году. Историки неустанно попрекали всю четверку журналистов за то, что те «играли на руку пропагандистской машине большевиков», что они были для Ленина «полезными идиотами» – так часто именовали четверых журналистов, путешествовавших по России во времена революции. Порывистый и харизматичный Джон Рид прожил стремительную и трудную жизнь. Он не берег себя, несмотря на хроническую болезнь почек, и заплатил за это неизбежную цену. Он рано умер, заразившись сыпным тифом в Москве, куда его уговорили приехать в 1920 году, чтобы присутствовать на конференции в Баку. Джон Рид как герой был удостоен почетного захоронения на Красной площади у Кремлевской стены. Позднее знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь» переименовали и назвали так же, как называлась книга Джона Рида. Однако Сталину книга не очень понравилась, и он отдал распоряжение основательно ее переработать, преуменьшить роль Троцкого и сделать основной акцент на том, какую роль сыграл в революции сам Сталин.
Вдова Джона Рида, Луиза Брайант, которая успела приехать в Россию, застав мужа уже при смерти, продолжала время от времени писать репортажи и статьи, а в 1923 году вновь вышла замуж. Однако ее пристрастие к алкоголю и подорванное здоровье в 1936 году свели ее в могилу. Третий муж Луизы Брайант, дипломат Уильям Буллитт, во время пребывания в России в 1932 году возложил венок на могилу Джона Рида. Однако когда посетители в 1960-х годах попытались найти мемориальную табличку с именем Джона Рида у Кремлевской стены, то оказалось, что ее без лишней огласки перенесли, а прах перезахоронили позади мавзолея Ленина на новом месте, предназначенном для захоронения «павших героев» революции.
Что касается бесстрашной пары журналистов, Флоренс Харпер и Дугласа Томпсона, то, к великому сожалению, о дальнейшей судьбе Харпер после ее отъезда из Петрограда почти ничего не известно, кроме нескольких статей о времени, проведенном ею в России, которые она опубликовала вскоре после своего возвращения. Одну из этих статей Флоренс Харпер написала для издания «Дейли мейл». В этой статье она ярко описала их с Томпсоном «сумасшедшую гонку» в попытках подробно задокументировать все этапы перехода власти к большевикам{1051}.
Уже по возвращении в США в июне 1918 года Флоренс Харпер дала интервью изданию «Бостон сандей глоуб», в котором сказала, что судьба была к ней благосклонна и ей удалось пройти через все перипетии Февральской революции «без единой царапины»: «Я бродила порой всю ночь по Петрограду в дни восстания большевиков. Я побывала в уличных беспорядках в Москве, ухаживала за ранеными на фронте, болела окопной лихорадкой, от постоянного холода и сырости страдала некрозом кожи и пальцев стоп, так называемой «траншейной стопой». Я пересекла Северное море на транспортном судне, которое преследовали сразу четыре подводные лодки, и тем не менее я по-прежнему жива и здорова. Мои друзья говорят, что на Страшном суде для меня придется заказать залпы почетного караула»{1052}.
Помимо этого, о Флоренс Харпер больше ничего не известно.
Дональд Томпсон дал себе зарок больше никогда не появляться в зоне боевых действий, однако уже летом следующего года он вернулся в Россию, освещая участие американских вооруженных сил в интервенции союзников в Сибири. Как и многие другие, Дональд Томпсон оптимистически считал, что союзным войскам удастся разжечь в России контрреволюцию, которая положит конец большевистской тирании. Но, проведя в России несколько месяцев, снимая действия союзных войск и наблюдая за царившим в их рядах хаосом, Дональд Томпсон вернулся на родину совершенно разуверившимся в этом. Тем не менее в США он приобрел определенную известность, после того как в январе 1918 года на экраны вышел его пятисерийный немой фильм “The German Curse in Russia” («Немецкое проклятие России»)[128]. Это был яростный антигерманский и антибольшевистский пропагандистский материал. В это время в американской прессе была развернута кампания, направленная на дискредитацию российского правительства, и фильм Дональда Томпсона, тепло принятый в прессе, стал одной из акций этой кампании. В 20-30-х годах Дональд Томпсон продолжил свою работу в кинематографе в качестве независимого режиссера. Умер он в Лос-Анджелесе в 1947 году.
В 1918 году и Флоренс Харпер, и Дональд Томпсон опубликовали свои яркие воспоминания о жизни в Петрограде. Дональд Томпсон, кроме того, выпустил в свет и книгу со сделанными в Петрограде фотографиями, которая также является в высшей степени ценным свидетельством о том периоде в истории России. К великому сожалению, есть основания полагать, что негативы тех его снимков не сохранились. Это, безусловно, большая потеря для исторической науки. Во всяком случае, в архивах не удалось обнаружить никаких документальных данных о них, как, впрочем, и о Харпер, и о целом ряде других блестящих журналистов[129]. Три фильма Дональда Томпсона целиком или частично сохранились[130], но на момент, когда писалась эта книга, не удалось разыскать ни одной копии фильма «Немецкое проклятие России», частично отснятого в Петрограде в дни революции и выпущенного в прокат студией братьев Пате. Возможно, эти копии не сохранились, хоть автору этих строк достоверно известно, что фильм Дональда Томпсона был позднее безжалостно порезан и часть отснятого и смонтированного материала была повторно использована Германом Аксельбанком в 1937 году в документальном фильме “From Tsar to Lenin” («От царя до Ленина»)[131].
Что касается самых неожиданных героев этого повествования – молодых, совершенно неопытных недавних выпускников колледжей, поступивших на работу в Петроградский филиал Государственного муниципального банка Нью-Йорка, то о них, за исключением Лейтона Роджерса[132], не известно практически ничего. Лейтон Роджерс принял решение покинуть Россию и вступить в ряды вооруженных сил США, но столкнулся с большими трудностями при попытке покинуть территорию России. Русские отказали ему в выдаче выездной визы. В конце концов уехать ему помогли британцы, спрятав Лейтона Роджерса на одном из товарных поездов, следовавших в портовый город Мурманск. Этот путь, полный невероятных мучений, длился четырнадцать ужасных суток. Лейтон Роджерс питался исключительно консервами, припасенными в рюкзаке, и едва не погиб от голода и жестокой стужи{1053}. В Лондон он прибыл 1 апреля 1918 года и поступил на военную службу в экспедиционные силы ВС США, после чего прослужил в военной разведке, работая на территории Великобритании и Франции в 1918–1919 годах. В 1924 году он опубликовал книгу “Wine of Fury” («Вино ярости»), увлекательный роман, основанный на его впечатлениях о жизни в Петрограде в дни революции. Позднее Лейтон Роджерс работал в авиации. К сожалению, воспоминания Лейтона Роджерса о России “Czar, Revolution, Bolsheviks” («Царь, революция, большевики»), написанные на материале его дневниковых записей, так и остались неопубликованными, однако один машинописный экземпляр этой книги сохранился в Библиотеке Конгресса. Лейтон Роджерс так и остался на всю жизнь холостяком и тихо прожил остаток дней со своей сестрой Эдит в Гринвиче, Коннектикут, где и умер в 1962 году{1054}.
Так завершились жизни некоторых из множества ныне забытых свидетелей событий того времени. Это последние отзвуки голосов целого поколения. Однако если бы требовалось найти среди них самый неповторимо своеобразный, это был бы пронзительно искренний и бесхитростный голос простого афроамериканца, необразованного и неискушенного в политике Фила Джордана, верно прослужившего лакеем при сотрудниках дипломатической службы США и рассказавшего об увиденном и пережитом в революционном Петрограде. Его знаменитые письма, написанные просторечным, но ярким и образным языком, отражают состояние, которое он испытывал тогда. Он чувствовал себя «чужаком в чужой стране»[133]. Это единственные опубликованные воспоминания афроамериканца, ставшего очевидцем революционных событий в Петрограде{1055} [134]. Читая их, начинаешь буквально кожей чувствовать (и это ощущение уже нельзя будет забыть), каково же это было – оказаться застигнутым революцией в России в 1917 году в Петрограде.
Сокращения
Anet
Claude Anet, Through the Russian Revolution
Barnes
Harper Barnes, Standing on a Volcano
Beatty
Bessie Beatty, The Red Heart of Russia
Bryant
Louise Bryant, Six Red Months in Russia
Crosley
Pauline Stewart Crosley, Intimate Letters from Petrograd
Dissolution
Meriel Buchanan, Dissolution of an Empire
Fleurot
Arno Dosch-Fleurot, Through War to Revolution
Francis
David R. Francis, Russia from the American Embassy
Harper
Florence Harper, Runaway Russia
Heald
Edward Heald, Witness to Revolution
Houghteling
James Houghteling, Diary of the Russian Revolution
Mission
Sir George Buchanan, My Mission to Russia, vol. 2
Paleologue
Maurice Paleologue, An Ambassador’s Memoirs, 1914–1917
Patouillet
Patouillet, Madame [Louise]: TS diary, October 1916—August 1918, 2 vols
Petrograd
Meriel Buchanan, Petrograd, The City of Trouble
Reed
John Reed, Ten Days that Shook the World
Robien
Louis de Robien, The Diary of a Diplomat in Russia 1917–1918
Rogers
Leighton Rogers Papers, ‘Czar, Revolution, Bolsheviks’
Stinton Jones
James Stinton Jones, Russia in Revolution
Stopford
Анонимный автор [Albert Stopford], The Russian Diary of an Englishman
Thompson
Donald Thompson, Donald Thompson in Russia
Williams
Albert Rhys Williams, Journey into Revolution
Wright
J. Butler Wright/William Thomas Allison, Witness to Revolution: The Russian Revolution Diary and Letters of J. Butler Wright
Фото-приложение
Невский проспект в Санкт-Петербурге у Казанского собора. Ателье К. Буллы. Начало XX в.
Большая Морская улица. Арка Главного штаба. 1901 г.
Императорская семья на открытии монумента Петру Великому. 1909 г.
Посетители «Пассажа» на Невском проспекте. 1903 г.
Продавцы антикварных лавок и торговые ряды. 1900 г.
Ярмарка на Сенной площади накануне Пасхи
Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в России Джордж Уильям Бьюкенен в библиотеке посольства
Джордж Уильям Бьюкенен в кабинете посольства
Дочь посла Великобритании Мэриэл за письменным столом
Леди Джорджина Бьюкенен, жена посла Великобритании
Лакеи и прислуга в посольстве Великобритании
Сотрудники посольства Великобритании за работой. 1914 г.
Здание посольства Великобритании
Английская набережная Невы
Интерьер англиканской церкви
Президент Французской республики Раймон Пуанкаре на Невском проспекте. 1914 г.
Посол Франции в России Морис Палеолог. 1914 г.
Здание посольства США по адресу Фурштатская улица, 34. Фото К. К. Буллы, 1911 г.
Дэвид Роуленд Фрэнсис, посол США
Здание гостиницы «Астория» в 1913 г.
Ресторан гостиницы «Астория»
Здание гостиницы «Европейская» в 1903 г.
Ресторан гостиницы «Европейская»
Военный корреспондент и оператор Дональд Томпсон
Юлия Кантакузина-Сперанская, внучка президента США Улисса Гранта, жена русского князя, автор мемуаров о русской революции
Журналистка Флоренс Харпер, работавшая медсестрой в американском полевом госпитале на Украине, 1917 г.
Леди Мюриэл Пэджет, организатор и вдохновитель Англо-русского госпиталя
Сестры милосердия и раненые в Англо-русском госпитале
Дворец Белосельских-Белозерских на Невском проспекте, где был размещен Англо-русский госпиталь
Медсестры и раненый солдат в Англо-русском госпитале в Петрограде
Зал дворца, превращенный в больничную палату
Палаты Англо-русского госпиталя в Петрограде
Джеймс Негли Фарсон, американский журналист
Артур Рэнсом, корреспондент издания «Дейли ньюс»
Очередь за хлебом в Петрограде в 1917 г. Архив РИА Новости
Баррикады на Литейном проспекте в феврале 1917 г.
Баррикады у Арсенала
Демонстрация женщин с требованием предоставления избирательного права 19 марта 1917 г.
Манифестация солдат-инвалидов 17 апреля 1917 г. на Невском проспекте
«На крыше фараоны с пулеметами – стреляй!»: пропагандистская открытка, призывавшая сопротивляться полицейским.
Казачий патруль в Петрограде
Фотография Дональда Томпсона, свидетельствующая о жертвах Февральской революции
Уничтожение императорской символики, февраль 1917 г.
Императорские гербы, выброшенные на лед реки Фонтанки
Сожжение гербов в феврале – мае 1917 г.
Празднование Первомая на Дворцовой площади
Уничтожение орлов и вензелей. Рисунок И. А. Владимирова (1869–1947)
Штурм гостиницы «Астория» 28 февраля 1917 г. Рисунок И. А. Владимирова (1869–1947)
Часовой в вестибюле гостиницы «Астория» после штурма
Номер «Астории» после штурма. Фото Дональда Томпсона
Тюрьма Литовский замок. Разгромлена в ходе революции, все ее заключенные освобождены
Сгоревшее здание 4-го полицейского участка
Сожженное здание Окружного суда. Фото ателье К. Буллы
Разгромленный полицейский архив
Траурная процессия памяти жертв революции 23 марта 1917 г.
Похороны жертв революции 23 марта 1917 г. на Марсовом поле
Заседание Совета рабочих и солдатских депутатов 2 марта 1917 г.
Представители армии в Петроградском совете в Таврическом дворце
Первый состав Временного комитета Государственной думы
Мария Бочкарева
Генерал Л. Г. Корнилов
А. Ф. Керенский
Командир женского батальона смерти Мария Бочкарева с Эммелин Панкхерст
Эммелин Панкхерст – лидер борьбы за права женщин в Великобритании
Джесси Кенни, суфражистка, сопровождавшая Эммелин Панкхерст в ее поездке в Россию
Американский журналист Джон Рид, «харизматичный социалист и профессиональный бунтарь», и его жена Луиза Брайант, свидетели Октябрьской революции
Известная фотография расстрела демонстрации 4 июля 1917 г., перепечатанная газетами всего мира. Фотография ателье К. Буллы
Женский батальон смерти, оборонявший Зимний дворец во время штурма большевиками. Фотография июня 1917 г.
Демонстрация рабочих и солдат Петрограда 25 октября (7 ноября) 1917 г. Архив РИА Новости
Готический зал Зимнего дворца после взятия его большевиками. 25 октября (7 ноября) 1917 г. Архив РИА Новости
Библиография
Архивные источники
Лидский университет (Великобритания)
• LUL – Leeds University Library (Библиотека Лидского университета)
• LRA – Leeds Russian Archive at Leeds University Library (русские архивы Библиотеки Лидского университета)
• Bennet, Marguerite: letters written during the 1917 Revolution, LRA/MS 799/20—22.
• Bosanquet, Vivian, ‘Life in a Turbulent Empire – The Experiences of Vivian and Dorothy Bosanquet in Russia 1897–1918, LRA/MS 1456/362.
• Buchanan, Lady Georgina: letters from Petrograd 1916, 1917, Glenesk-Bathurst Papers, Special Collections LUL/MS Dep. 1990/1/2843—2866
• Christie, Ethel Mary, ‘Experiences in Russia’, LRA/MS 800/16.
• Clare, Joseph, ‘Eye Witness of the Revolution’, LRA/MS 1094/8.
• Coates Family Papers, Special Collections LUL/MS 1134.
• Jones, James Stinton, ‘The Czar Looked Over My Shoulder’, LRA/MS 1167.
• Lindley, Francis Oswald: Petrograd diary, November 1917, LRA/MS 1372/1 and untitled memoirs from July 1915 to 1919, MS 1372/2.
• Lombard, Rev. Bousfield Swan: untitled typescript memoirs, LRA/MS 1099.
• Marshall, Lilla, ‘Memories of St Petersburg 1917’, LRA/MS 1113.
• Metcalf, Kenneth letter 3 (16) March 1917 from Petrograd, Metcalf Collection, LRA/MS 1224/1—2.
• Pearse, Mrs May, ‘Den-za-den’ diary for 1917, Edmund James Pearse Papers, LRA/MS 1231/32.
• Ransome, Arthur: telegram despatches to the Daily News December 1916—December 1917, and letters from Petrograd for 1917. Arthur Ransome Archive, Special Collections, LUL/MS BC 20c/Box 13: 38—184.
• Seaborn, Annie, ‘My Memories of the Russian Revolution’, LRA/MS 950.
• Springfield, Colonel Osborn, ‘To Helen’, handwritten memoir of Russia, 1917–1919, Special Collections LUL, Liddle Collection, RUS 44.
• Thornton, Nellie, ‘An Englishwoman’s Experiences during the Russian Revolution’, Thornton Collection, LRA/MS 1072/24.
Другие архивные источники в Великобритании
• Bowerman, Elsie: letters from Petrograd 1917, Elsie Bowerman Papers, Women’s Library, GB 06 7ELB, at London School of Economics (Лондонская школа экономики).
• Bury, Sir George: ‘Report Regarding the Russian Revolution prepared at the request of the British War Cabinet, 5 April 1917’, Lord Davies of Llandinam Papers, C3/23, National Library of Wales (Национальная библиотека Уэльса).
• Jefferson, Geoffrey: letters from Petrograd 1916–1917, Geoffrey Jefferson Papers, GB 133 JEF/1/4/1—15; 2/1—5, Manchester University (Манчестерский университет).
• Kenney, Jessie: Russian diary, 1917, KP/JK/4/1; TS of Russian diary, KP/JK/4/1/1; ‘The Price of Liberty’ TS, KP/JK/4/1/6, Jessie Kenney Archive, University of East Anglia (Университет Восточной Англии).
• Kerby, Edith: Edith Bangham, ‘The Bubbling Brook’ [memoirs of Russia]; private archive (частный архив).
• Lindley, Sir Francis Oswald: report from Petrograd, FO 371/2998, The National Archives (TNA) (Национальный архив Великобритании).
• Locker Lampson, ‘Report on the Russian Revolution, April 1917’, FO 371/81396, TNA (Национальный архив Великобритании).
• Pocock, Lyndall Crossthwaite: MS diary with photographs of service at Anglo-Russian Hospital 1915–1918, Documents.3648, Imperial War Museum (Имперский военный музей).
• Seymour, Dorothy: photocopy of MS diary 1914–1917 and photocopy of letters from Petrograd 1917, Documents.3210, Imperial War Museum (Имперский военный музей).
Архивные источники в США
• Armour, Norman, ‘Recollections of Norman Armour of the Russian Revolution’, TS, Box 2 Folder 32, Seeley G. Mudd Library, Princeton University Library (Библиотека Принстонского университета).
• Dearing, Fred Morris: unpublished MS memoirs (based on his diary), Fred Morris Dearing Papers, C2926, Historical Society of Missouri (Историческое общество штата Миссури).
• Fuller, John Louis Hilton, ‘The Journal of John L. H. Fuller While in Russia’, ed. Samuel A. Fuller, Indiana Historical Society (Историческое общество штата Индиана), TS 1999, MO112.
• ‘Letters and Diaries of John L. H. Fuller 1917–1920, TS edited by Samuel Ashby Fuller, Indiana Historical Society (Историческое общество штата Индиана).
• Northrup Harper, Samuel: Petrograd diary 1917, Box 27 Folder F; letters from Petrograd Box 4, Folders 9, 10, 11, Northrup Harper Papers, University of Chicago Library (Библиотека Чикагского университета).
• Patouillet, Madame [Louise]: TS diary, October 1916 – August 1918, 2 vols, Madame Patouillet Collection, Hoover Institution Archives (Архив Гуверовского института войны, революции и мира).
• Robins, Raymond: letters to his wife Margaret, Wisconsin Historical Society (Историческое общество штата Висконсин).
• Letters to his sister Elizabeth, Falers Library NY, Box 3, Folder 19, RR and MDR to ER, 1917.
• Rogers, Leighton, ‘An Account of the March Revolution, 1917’, Leighton W. Rogers Collection, Hoover Institution Archives (Архив Гуверовского института войны, революции и мира).
• Rogers, Leighton: 1912–1982, Box 3, unpublished TS of ‘Czar, Revolution, Bolsheviks’; letters from Petrograd; Leighton W. Rogers Papers, Library of Congress (Библиотека Конгресса США).
• Swinnerton, C[hester] T., ‘Letter from Petrograd, March 27(NS) 1917’, C. T. Swinnerton Collection, Hoover Institution Archives (Архив Гуверовского института войны, революции и мира).
• Urquhart May, Leslie: 1917 letter, from Petrograd Hoover Institution Archives (Петроградский архив Гуверовского института войны, революции и мира).
• Whipple, George Chandler: Petrograd diary, 7 August – 11 September, vol. I: 77—167, George Chandler Whipple Papers, Harvard University Archives (Архив Гарвардского университета), HUG 1876.3035.
Диссертации и научные доклады
• Gatewood, James Dewey, ‘American Observers in the Soviet Union 1917–1933’, University of Wisconsin, thesis 1968.
• Ginzburg, Lyubov, ‘Confronting the Cold War Legacy: The Forgotten History of the American Colony in St Petersburg. A Case Study of Reconciliation’, University of Kansas, 2010;
• Hawkins, Kenneth, ‘Through War to Revolution with Dosch-Fleurot: A Personal History of an American Newspaper Correspondent in Europe and Russia 1914–1918’, University of Rochester, NY, 1986.
• Mould, Dr David H. (Ohio University), ‘The Russian Revolution: A Conspiracy Thesis and a Lost Film’, paper presented at FAST REWIND-II, Rochester, NY, 13–16 June 1991.
• Orlov, Ilya, ‘Beskrovnaya revolyutsiya?’ Traur i prazdnik v revolyutsionnoi politike; (Орлов, Илья Сергеевич, выпускная квалификационная работа «Траур и праздник в революционной политике. Церемония 23 марта 1917 г. в Петрограде», Санкт-Петербург, 2007)
• Vinogradov, Yuri, ‘Lazarety Petrograda’; (Виноградов, Юрий Александрович, «Лазареты Петрограда», портал «Проза. ру», 2010)
Электронные издания и исторические архивы
• Cordasco, Ella (nee Woodhouse), ‘Recollections of the Russian Revolution’: ://
• Cotton, Dorothy: letter 4 March 1917 from Petrograd, Library & Archives of Canada: -lac.gc.ca/eng/discover/military-heritage/first-world-war/canada-nursing-sisters/Pages/dorothy-cotton.aspx
Исторические источники
Книги
• Abraham, Richard, ‘Mariia L. Bochkareva and the Russian Amazons of 1917’, in Linda Edmondson, ed., Women and Society in Russia and the Soviet Union, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 124–141.
• Allison, William Thomas, Witness to Revolution: The Russian Revolution Diary and Letters of J. Butler Wright, Westport Connecticut: Praeger, 2002.
• Alston, Charlotte, Russia’s Greatest Enemy: Harold Williams and the Russian Revolutions, London: Tauris, 2007.
• Anet, Claude [Jean Schopfer], Through the Russian Revolution: Notes of an Eyewitness, from 12th March – 30th May, London: Hutchinson, 1917.
• Arbenina, Stella [Baroness Meyendorff], Through Terror to Freedom, London: Hutchinson, 1930.
• Barnes, Harper, Standing on a Volcano: The Life and Times of David R. Francis, Missouri: Missouri Historical Society Press, 2001.
• Beatty, Bessie, The Red Heart of Russia, New York: The Century Co., 1918.
• Blunt, Wilfred, Lady Muriel: Lady Muriel Paget, Her Husband, and Her Philanthropic Work in Central and Eastern Europe, London: Methuen, 1962.
• Botchkareva, Maria, Yashka: My Life as Peasant, Officer and Exile, New York: Frederick A. Stokes Co., 1919 (Бочкарева, Мария Леонтьевна, «Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы», Воениздат, 2001).
• Bruce, Henry James, Silken Dalliance, London: Constable, 1947.
• Brun, Captain Alf Harold, Troublous Times: Experiences in Bolshevik Russia and Turkestan, London: Constable, 1931.
• Bryant, Louise, Six Red Months in Russia, London: Journeyman Press, reprinted 1982 [1918].
• Buchanan, Sir George, My Mission to Russia and Other Diplomatic Memories, vol. 2, Boston: Little, Brown & Co., 1923 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006).
• Buchanan, Meriel, Petrograd, The City of Trouble 1914–1918, London: W. Collins, 1919.
• Dissolution of an Empire, London: John Murray, 1932.
• Ambassador’s Daughter, London: Cassell, 1958.
• Cahill, Audrey, Between the Lines: Letters and Diaries from Elsie Inglis’s Russian Unit, Durham: Pentland Press, 1999.
• Cantacuzene-Speransky, Julia, Revolutionary Days, Including Passages from My Life Here and There, 1876–1917, Chicago: Lakeside Press, 1999.
• Chambrun, Charles de, Lettres а Marie, Petersbourg-Petrograde 1914–1918, Paris: Librairie Plon, 1941.
• Cockfield, Jamie H., Dollars and Diplomacy: Ambassador David Rowland Francis and the Fall of Tsarism, 1916–1917, Durham, NC: Duke University Press, 1981.
• Crosley, Pauline Stewart, Intimate Letters from Petrograd 1917–1920, New York: E. P. Dutton, 1920.
• Cross, Anthony, ‘A Corner of a Foreign Field: The British Embassy in St Petersburg, 1863–1918’, in Personality and Place in Russian Culture: Essays in Memory of Lindsey Hughes, London: MHRA, 2010, 328—58.
• Destree, Jules, Les Fondeurs de neige: Notes sur la revolution bolchevique а Petrograd pendant l’hiver 1917–1918, Brussels: G. Van Oest, 1920.
• Dorr, Rheta Childe, Inside the Russian Revolution, New York: Macmillan, 1917.
• A Woman of Fifty, New York: Funk & Wagnalls, 1924.
• Dosch-Fleurot, Arno, Through War to Revolution, London: John Lane, 1931.
• Doty, Madeleine Zabriskie, Behind the Battle Line, New York: Macmillan, 1918.
• Farson, Negley, The Way of a Transgressor, Feltham: Zenith Books, 1983.
• Fitzroy, Yvonne, With the Scottish Nurses in Roumania, London: John Murray, 1918.
• Francis, David R., Russia from the American Embassy, April 1916 – November 1918, Charles Scribner’s, 1921.
• Gibson, William J., Wild Career: My Crowded Years of Adventure in Russia and the Near East, London: George G. Harrap, 1935.
• Golder, Frank, War, Revolution and Peace in Russia: The Passages of Frank Golder, 1914–1927, Stanford: Hoover Institution Press, 1992.
• Hall, Bert, One Man’s War: The Story of the Lafayette Escadrille, London: Hamish Hamilton, 1929.
• Harper, Florence MacLeod, Runaway Russia, New York: Century, 1918.
• Harper, Samuel, The Russia I Believe In: Memoirs 1902–1941, Chicago: University of Chicago Press, 1945.
• Hart-Davis, Rupert, Hugh Walpole, A Biography, London: Macmillan, 1952.
• Hastings, Selina, The Secret Lives of Somerset Maugham, London: John Murray, 2010.
• Heald, Edward Thornton, Witness to Revolution: Letters from Russia, Kent, OH: Kent State University Press, 1972.
• Houghteling, James Lawrence, Diary of the Russian Revolution, New York: Dodd Mead, 1918.
• Jefferson, Geoffrey, So That Was Life, London: Royal Society of Medicine Press, 1997.
• Jones, James Stinton, Russia in Revolution, London: Herbert Jenkins, 1917.
• Keeling, Henry V., Bolshevism: Mr Keeling’s Five Years in Russia, London: Hodder & Stoughton, 1919.
• Knox, Major-General Sir Alfred, With the Russian Army 1914–1917, vol. 2, London: Hutchinson, 1921.
• Lockhart, Robert Bruce, Memoirs of a British Agent, London: Putnam, 1932.
• Long, Robert Edward Crozier, Russian Revolution Aspects, New York: E. P. Dutton, 1919.
• MacNaughton, Sarah, My War Experiences in Two Continents, London: John Murray, 1919.
• Marcosson, Isaac, The Rebirth of Russia, New York: John Lane Co., 1917.
• Markovitch, Marylie [Amelie de Nery], La Revolution russe par une francaise, Paris: Librairie Academique, 1918.
• Maugham, Somerset, A Writer’s Notebook, London: Heinemann, 1951 (Сомерсет Моэм, «Записные книжки», М.: АСТ, 2010).
• Nostitz, Countess Lili, Romance and Revolutions, London: Hutchinson, 1937.
• Noulens, Joseph, Mon ambassade en Russie Soviétique 1917–1919, 2 vols, Paris: Librairie Plon, 1933.
• Oudendijk, William [Willem Jacob Oudendijk], Ways and By-Ways in Diplomacy, London: Peter Davies, 1939.
• Paléologue, Maurice, An Ambassador’s Memoirs 1914–1917: Last French Ambassador to the Russian Court, London: Hutchinson, 1973.
• Pares, Bernard, My Russian Memoirs, New York: AMS Press, 1969 [1931].
• Pascal, Pierre, Mon journal de Russie…, vol. 1: 1916–1918, Lausanne: L’Age d’Homme, 1975.
• Patin, Louise, Journal d’une institutrice française en Russie pendant la Révolution 1917–1919, Pontoise: Edijac, 1987.
• Pax, Paulette, Journal d’une comédienne française sous la terreur bolchévique, Paris: L’Édition, 1919.
• Pitcher, Harvey, Witnesses of the Russian Revolution, London: John Murray, 1994.
• Poole, Ernest, The Dark People: Russia’s Crisis, London: Macmillan, 1919.
• The Bridge: My Own Story, London: Macmillan, 1940.
• Price, Morgan Philips, My Reminiscences of the Russian Revolution 1917–1921, London: Allen & Unwin, 1921.
• Dispatches from the Revolution: Russia 1916–1918, Durham, NC: Duke University Press, 1997.
• Ransome, Arthur, The Autobiography of Arthur Ransome, London: Jonathan Cape, 1976.
• Reed, John, Ten Days that Shook the World, Harmondsworth: Penguin, 1977 (Джон Рид, «Десять дней, которые потрясли мир», М.: Государственное издательство политической литературы, 1957).
• Robien, Louis de, The Diary of a Diplomat in Russia 1917—18, London: 1969.
• Rogers, Leighton, Wine of Fury, New York: Alfred A. Knopf, 1924.
• Russell, Charles Edward, Unchained Russia, New York, D. Appleton, 1918.
• Salzman, Neil V., Reform and Revolution: The Life and Times of Raymond Robins, Kent, Ohio: Kent State University Press, 1991.
• ed., Russia in War and Revolution: General William V. Judson’s Accounts from Petrograd, 1917–1918, Kent, Ohio: Kent State University Press, 1998.
• Stebbing, E[dward] P[ercy], From Czar to Bolshevik, London: John Lane, 1918.
• Stopford, Albert, The Russian Diary of an Englishman: Petrograd, 1915–1917, London: William Heinemann, 1919.
• Thompson, Captain Donald C., Blood-Stained Russia, New York: Leslie-Judge Co., 1918.
• Donald Thompson in Russia, New York: The Century Co., 1918.
• Vandervelde, Emile, Three Aspects of the Russian Revolution, New York: Charles Scribner’s, 1918.
• Vecchi, Joseph, The Tavern is My Drum: My Autobiography, London: Odhams Press, 1948.
• Verstraete, Maurice, Mes cahiers russes: l’ancien regime – le gouvernement provisoire – le pouvoir des soviets, Paris: G. Cres et cie., 1920.
• Walpole, ‘Official Account of the First Russian Revolution’, Appendix B, in Rupert Hart-Davis, Hugh Walpole.
• Weeks, Charles J., An American Naval Diplomat in Revolutionary Russia: The Life and Times of Vice Admiral Newton A. McCully, Annapolis: Naval Institute Press, 1993.
• Wightman, Orrin Sage, Diary of an American Physician in the Russian Revolution 1917, New York: Brooklyn Daily Eagle, 1928.
• Williams, Albert Rhys, Through the Russian Revolution, Moscow: Progress Publishers, 1967.
• Journey into Revolution: Petrograd 1917—18, Chicago: Quadrangle Books, 1969.
• Williams, Harold, The Shadow of Tyranny: Dispatches from Russia 1917–1920, privately printed by J. M. Gallanar, 2011.
• Wilton, Robert, Russia’s Agony, London: Edward Arnold, 1919.
Статьи в газетах и журналах
• ‘Anon.’, ‘Petrograd during the Seven Days’, New Republic, 23 June 1917, pp. 212–217.
• Bliss, Mrs Clinton A., ‘Philip Jordan’s Letters from Russia, 1917–1919. The Russian Revolution as Seen by the American Ambassador’s Valet’, Bulletin of the Missouri Historical Society, 14, 1958, pp. 139–166.
• Buchanan, Lady Georgina, ‘From the Petrograd Embassy’, Historian, 3, Summer 1984, pp. 19–21.
• Cockfield, Jamie H., ‘Philip Jordan and the October Revolution’, History Today, 28:4, 1978, pp. 220–227.
• Cotton, Dorothy, ‘A Word Picture of the Anglo-Russian Hospital’, Canadian Nurse, 22, 9 September 1926, pp. 486–488.
• Dorr, Rheta Childe, ‘Marie Botchkareva, Leader of Soldiers Tells her Vivid Story of Russia’, La Crosse Tribune and Leader-Press, 9 June 1918.
• Dosch-Fleurot, Arno, ‘In Petrograd during the Seven Days’, World’s Work, July 1917, pp. 255–263.
• ‘D. R. Francis Valet Dies in California’, obituary for Philip Jordan, in St Louis Post Dispatch, 22 May 1941.
• Farson, Daniel, ‘Aux pieds de l’imperatrice’, Wheeler’s Review, 27:3, Autumn 1983.
• Farson, Negley, ‘Petrograd, May 1917’, New English Review, 13, 1946, pp. 393–396.
• Foglesong, David S., ‘A Missouri Democrat in Revolutionary Russia: Ambassador David R. Francis and the American Confrontation with Russian Radicalism, 1917’, Gateway Heritage, Winter 1992, pp. 22–42.
• Grey, Lady Sybil, ‘Sidelights on the Russian Revolution’, Overland Monthly, 70, July 1917, pp. 362–368.
• Harper, Florence, ‘Thompson Risks Life to Film Russian Revolution Scenes: Graphic story of the Topeka war photographer at work told by woman correspondent of the London Daily Mail’, Topeka Capital, 30 September 1917.
• Hegan, Edith, ‘The Russian Revolution from a Window’, Harper’s Monthly, 135:808, September 1917, pp. 555–560.
• McDermid, Jane, ‘A Very Polite and Considerate Revolution: The Scottish Women’s Hospitals and the Russian Revolution, 1916–1917’, Revolutionary Russia, 21 (2), pp. 135–151.
• Marcosson, Isaac, ‘The Seven Days’, Everybody’s Magazine, 37, July 1917, pp. 25–40.
• Mould, David, ‘Donald Thompson: Photographer at War’, Kansas History, Autumn 1982, pp. 154–167.
• Pares, Bernard, ‘Sir George Buchanan: Eloquent Tribute from Professor Pares’, Observer, 6 January 1918.
• Pollock, John, ‘The Russian Revolution: A Review by an Onlooker’, Nineteenth Century, 81, 1917, pp. 1068–1082.
• Recouly, Raymond, ‘Russia in Revolution’, Scribner’s Magazine, 62:1, 1917, pp. 29–38.
• Reinke, A. E., ‘My Experiences in the Russian Revolution’, Part 1, Western Electric News, 6, February 1918, pp. 8—12.
• ‘Getting On Without the Czar’, Part 2, Western Electric News, 7, March 1918, pp. 8—15.
• ‘Trying to Understand Revolutionary Russia’, Part 3, Western Electric News, 7, May 1918, pp. 6—11.
• Russell, Charles Edward, ‘Russia’s Women Warriors’, Good Housekeeping, October 1917, pp. 22–23, 166–167, 169–170, 173.
• Shepherd, William G., ‘The Road to Red Russia’, Everybody’s Magazine, 37, July 1917, pp. 1—11.
• ‘The Soul that Stirs in “Battalions of Death”‘, Delineator, 92:3, March 1918, pp. 5–7, 56.
• ‘Ivan in Wonderland’, Everybody’s Magazine, 38, November 1918, pp. 32–36.
• ‘Mad Kronstadt’, Everybody’s Magazine, 38, December 1918, pp. 39–42.
• Simons, George A., ‘Russia’s Resurrection’, Christian Advocate, 92:66, 12 July 1917.
• Simpson, James Young, ‘The Great Days of the Revolution. Impressions from a recent visit to Russia, Nineteenth Century and After, 82, 1917, pp. 136–148.
• Somerville, Emily Warner, ‘A Kappa in Russia’, The Key, 35:2, 1918, pp. 121–130.
• Steffens, Lincoln, ‘What Free Russia Asks of Her Allies’, Everybody’s Magazine, 37, August 1917, pp. 129–141.
• Thomas, Albert, ‘Journal de Albert Thomas, 22 Avril – 19 Juin 1917’, Cahiers du monde russe et soviйtique, 14:1–2, 1973, pp. 86—204.
• Walpole, Hugh, ‘Dennis Garstin and the Russian Revolution’, Slavonic and East European Review, 17, 1938—9, pp. 587–605.
• Washburn, Stanley, ‘Russia from Within’, National Geographic Magazine, 32:2, August 1917, pp. 91—120.
• Wharton, Paul [pseudonym of Philip H. Chadbourn], ‘The Russian Ides of March: A Personal Narrative’, Atlantic Monthly, 120, July 1917, pp. 21–30.
• Whipple, George Chandler, ‘Chance for Young Americans in the Development of Russia’, Literary Digest, 26 January 1918, pp. 47–51.
• Wood, Joyce, ‘The Revolution outside Her Window: New Light shed on the March 1917 Russian Revolution from the papers of VAD nurse Dorothy N. Seymour’, Proceedings of the South Carolina Historical Association, 2005, pp. 71–86.
Вторичные источники
Книги
• Aitken, Tom, Blood and Fire: Tsar and Commissar: The Salvation Army in Russia, 1907–1923, Milton Keynes: Paternoster, 2007.
• Allison, W., American Diplomats in Russia: Case Studies in Orphan Diplomacy 1916–1919, Westport: Greenwood, 1997.
• Almedingen, E. M., Tomorrow Will Come, London: John Lane, 1946.
• I Remember St Petersburg, London: Longmans Young, 1969.
• Babey, Anna Mary, Americans in Russia 1776–1917: A Study of the American Travellers in Russia from the American Revolution to the Russian Revolution, New York: Comet Press, 1938.
• Basily, Lascelle Meserve de, Memoirs of a Lost World, Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1975.
• Bolshevik Propaganda. Hearings Before a Subcommittee of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 65th Congress 3rd Session… Feb 11 to March 10 1919, US Government Printing Office, 1919.
• Brennan, Hugh G., Sidelights on Russia, London: D. Nutt, 1918.
• Brogan, Hugh, The Life of Arthur Ransome, London: Hamish Hamilton, 1985.
• Brown, Douglas, Doomsday 1917: The Destruction of Russia’s Ruling Class, Newton Abbott: Reader’s Union, 1976.
• Chambers, Roland, The Last Englishman: The Double Life of Arthur Ransome, London: Faber & Faber, 2009.
• Chessin, Serge de, Au Pays de la dйmence rouge: La Revolution russe (1917–1918), Paris: Librairie Plon, 1919.
• Child, Richard Washburn, Potential Russia, New York: E. P. Dutton, 1916.
• Clarke, William, Hidden Treasures of the Romanovs: Saving the Royal Jewels, Edinburgh: National Museum of Scotland, 2009.
• Coates, Tim, The Russian Revolution, 1917, London: HM Stationery Office, 2000.
• Cross, Anthony, In the Lands of the Romanovs: An Annotated Bibliography of First-hand English-language Accounts of the Russian Empire (1613–1917), Open Book Publishers.com, 2014.
• Dearborn, Mary V., Queen of Bohemia: A Life of Louise Bryant, New York: Houghton Mifflin, 1996.
• Desmond, Robert W., Windows on the World: The Information Press in a Changing Society 1900–1920, Iowa City: University of Iowa Press, 1980.
• Fell, Alison S. and Sharp, Ingrid, The Women’s Movement in Wartime: International Perspectives 1914–1919, London: Palgrave Macmillan, 2007.
• Ferguson, Harry, Operation Kronstadt, London: Hutchinson, 2008.
• Figes, Orlando, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891–1924, London: Jonathan Cape, 1996.
• Filene, Peter G., American Views of Soviet Russia 1917–1965, Homewood, IL: Dorsey Press, 1968.
• Foglesong, David, America’s Secret War against Bolshevism: US Intervention in the Russian Civil War 1917–1920, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996.
• Frame, Murray, The Russian Revolution 1905–1921: A Bibliographic Guide to Works in English, Westport, CT: Greenwood Press, 1995.
• Gerhardie, William, Memoirs of a Polyglot, London: Duckworth, 1931.
• Gordon, Alban, Russian Year: A Calendar of the Revolution, London: Cassell & Co., 1935.
• Hagedorn, Hermann, The Magnate William Boyce Thompson and His Times, New York: Reytnal & Hitchcock, 1935.
• Harmer, Michael, The Forgotten Hospital, Chichester: Springwood Books, 1982.
• Hartley, Janet M., Guide to Documents and Manuscripts in the United Kingdom Relating to Russia and the Soviet Union, London: Mansell Publications, 1987.
• Hasegawa, Tsuyoshi, The February Revolution, Petrograd, 1917, Washington: University of Washington Press, 1981.
• ‘Crime, Police, and Mob Justice in Petrograd during the Russian Revolutions of 1917’, in Rex A. Wade, ed., Revolutionary Russia: New Approaches, London: Routledge, 2004.
• Heresch, Blood on the Snow: Eyewitness Accounts of the Russian Revolution, New York: Paragon House, 1990.
• Herval, Rene, Huit mois de rйvolution russe (Juin 1917 – Janvier 1918), Paris: Librairie Hachette, 1919.
• Homberger, Eric, John Reed. Lives of the Left, Manchester: Manchester University Press, 1990.
• Howe, Sonia Elisabeth, Real Russians, London: S. Low, Marston, 1918.
• Hughes, Michael, Inside the Enigma: British Officials in Russia 1900–1939, London: Hambledon Press, 1997.
• Kehler, Henning, The Red Garden: Experiences in Russia, London: Gyldendal, 1922.
• Kennan, George, Russia Leaves the War: Soviet – American Relations 1917–1920, vol. 1, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989.
• Kettle, Michael, The Allies and the Russian collapse March 1917 – March 1918; London: Andre Deutsch, 1981.
• Lange, Christian Louis, Russia and the Revolution and the War: An Account of a Visit to Petrograd and Helsingfors in March 1917, New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1917.
• Lehman, Daniel, John Reed and the Writing of Revolution, Athens, OH: Ohio University Press, 1997.
• Lincoln, Bruce, In War’s Dark Shadow: The Russians before the Great War, New York: Dial Press, 1983.
• Passage Through Armageddon: The Russians in War and Revolution 1914–1918, New York: Simon & Schuster, 1986.
• Lockhart, Robert Bruce, The Two Revolutions: An Eye Witness Study of Russia 1917, London: Bodley Head, 1967.
• Mackenzie, Midge, Shoulder to Shoulder, A Documentary, New York: Alfred A. Knopf, 1975.
• Marcosson, Isaac Frederick, Adventures in Interviewing, New York: John Lane, 1919.
• Turbulent Years, New York: Dodd Mead & Co., 1938.
• Marye, George R., Russia Observed: Nearing the End in Imperial Russia, Philadelphia: Dorranee & Co., 1929.
• Maugham, Somerset, Ashenden, London: Vintage Classics, 2000 (Сомерсет Моэм, «Эшенден, или Британский агент», издательство: АСТ, Астрель, 2010).
• Merry, Rev. W. Mansell, Two Months in Russia July – September 1914, Oxford: Basil Blackwell, 1916.
• Metcalf, H. E., On Britains Business, London Rich & Cowan, 1943.
• Mitchell, David J., Women on the Warpath: The Story of Women in the First World War, London: Jonathan Cape, 1966.
• Mohrenschildt, D. von, The Russian Revolution of 1917: Contemporary Accounts, New York: Oxford University Press, 1971.
• Moorhead, Caroline, Dunant’s Dream: War, Switzerland and the History of the Red Cross, London: HarperCollins, 1998.
• Morgan, Ted, Somerset Maugham, London: Jonathan Cape, 1980 (Тед Морган, «Сомерсет Моэм. Биография», М.: «Захаров», 2002).
• Nadeau, Ludovic, Le Dessous du chaos Russe, Paris: Hachette, 1920.
• Paget, Stephen, A Short Account of the Anglo-Russian Hospital in Petrograd, London, n.p., 1917.
• Pearlstein, Edward W., Revolution in Russia as Reported in the NY Tribune and NY Herald 1894–1921, New York: Viking Press, 1967.
• Pethybridge, Roger, Witnesses to the Russian Revolution, New York: Citadel Press, 1967.
• Pipes, Richard, The Russian Revolution 1899–1919, London: Fontana Press, 1992.
• Pitcher, Harvey, When Miss Emmie Was in Russia: English Governesses Before, During and After the October Revolution, Cromer: Swallow House Books, 1978.
• Pollock, Sir John, War and Revolution in Russia, London: Constable & Co., 1918.
• Poole, DeWitt Clinton, An American Diplomat in Bolshevik Russia, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2014.
• Poutiatine, Olga, War and Revolution: Extracts from the Letters and Diaries of the Countess Olga Poutiatine, Tallahassee, FL: Diplomatic Press, 1971.
• Powell, Anne, Women in the War Zone: Hospital Service in the Great War, Stroud: The History Press, 2009.
• Purvis, June, Emmeline Pankhurst, A Biography, London: Routledge, 2003.
• ‘Mrs Pankhurst and the Great War’, in Fell and Sharp, The Women’s Movement in Wartime.
• Rappaport, Helen, Conspirator: Lenin in Exile 1900–1917, London: Hutchinson, 2009.
• Rivet, Charles, The Last of the Romanofs, London: Constable & Co., 1918.
• Rosenstone, Robert A., Romantic Revolutionary: A Biography of John Reed, Harmondsworth: Penguin, 1975.
• Sadoul, Captain Jacques, Notes sur la rйvolution bolchйvique, October 1917-Janvier 1919, Paris: Editions de la Sirene, 1919.
• Salisbury, Harrison E., Black Night, White Snow: Russia’s Revolutions 1905–1917, London: Cassell, 1978.
• Sanders, Jonathan, Russia 1917: The Unpublished Revolution, New York: Abbeville Press, 1989.
• Saul, Norman E., Life and Times of Charles Richard Crane 1858–1939, Lanham, MD: Lexington Books, 2013.
• Seeger, Murray, Discovering Russia: 200 Years of American Journalism, Bloomington, IN: AuthorHouse, 2005.
• Service, Robert, Spies and Commissars: Bolshevik Russia and the West, London: Macmillan, 2012.
• Shelley, Gerald, Speckled Domes, London: Duckworth, 1925.
• Sisson, Edgar Grant, One Hundred Red Days: A Personal Chronicle of the Bolshevik Revolution, New Haven, CT: Yale University Press, 1931.
• Smele, Jonathan D., The Russian Revolution and Civil War 1917–1921: An Annotated Bibliography, London: Continuum, 2003.
• Steffens, Lincoln, Autobiography of Lincoln Steffens, vol. 2: Muckraking. Revolution, Seeing America at Last, New York: Harcourt, Brace & World, 1958.
• Steveni, William Barnes, Petrograd Past and Present, London: Grant Richards, 1915.
• Stites, Richard, Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism and Bolshevism, 1860–1930, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978.
• Swann, Herbert, Home on the Neva: A Life of a British Family in Tsarist St Petersburg, and After the Revolution, London: Gollancz, 1968.
• Thurstan, Violetta, Field Hospital and Flying Column, Being the Journal of an English Nursing Sister in Belgium and Russia, London: G. P. Putnam’s Sons, 1915.
• The People Who Run, Being the Tragedy of the Refugees in Russia, London: G. P. Putnam’s Sons, 1916.
• Tyrkova-Williams, Ariadna, From Liberty to Brest-Litovsk, London: Macmillan & Co., 1919.
• Cheerful Giver: The Life of Harold Williams, London: P. Davies, 1935.
• Walpole, Hugh, The Secret City, Stroud: Sutton Publishing, 1997 [1919].
• Wilcox, E. H., Russia’s Ruin, New York: Scribner’s, 1919.
• Williams, Harold, Russia of the Russians, London: Isaac Pitman & Sons, 1920.
• Windt, Harry de, Russia as I Know It, London: Chapman & Hall, 1917.
• Winter, Ella and Hicks, Granville, Letters of Lincoln Steffens, vol. 1: 1889–1919, New York: Harcourt, Brace and Company, 1938.
Статьи в газетах и журналах
• ‘The Anglo-Russian Hospital’, British Journal of Nursing, 9 October 1915, pp. 293–294.
• Barnes, Harper, ‘Russian Rhapsody: A Small City North of Moscow Opens a Museum to Honor a Former St Louis Mayor’, St Louis Post-Dispatch, 24 August 1997.
• Birkmyre, Robert, ‘The Anglo-Russian Bureau in Petrograd’, Review of Reviews, 55, 1917, pp. 262–263.
• ‘Bolsheviki at Russia’s Throat’, Literary Digest, 55, October-December 1917, pp. 9—11.
• Britannia [formerly The Suffragette], June – November 1917.
• Bullard, Arthur, ‘The Russian Revolution in a Police Station’, Harper’s Magazine, CXXXVI, 1918, pp. 335–340.
• Chatterjee, Choi, ‘Odds and Ends of the Russian Revolution, 1917–1920’, Journal of Women’s History 20:4, Winter 2008, pp. 10–33.
• Colton, Ethan, ‘With the YMCA in Revolutionary Russia’, Russian Review, 2: XXIV, April 1955, pp. 128–139.
• Corse, Frederick, ‘An American’s Escape from Russia. Parleying with the Reds and the Whites’, The World’s Work, 36:5, 1918, pp. 553–560.
• Cross, Antony, ‘Forgotten British Places in Petrograd’, Europa Orientalis, 5:1, 2004, pp. 135–147.
• Feist, Joe Michael, ‘Railways and Politics: The Russian Diary of George Gibbs 1917’, Wisconsin Magazine of History, 62:3, Spring 1979, pp. 178–199.
• Hunter, T. Murray, ‘Sir George Bury and the Russian Revolution’, Rapports annuels de la Sociйtй historique du Canada, 44:1, 1965, pp. 58–70.
• Jansen, Marc, ‘L. H. Grondijs and Russia: The acts and opinions of a Dutch White Guard’, Revolutionary Russia, 7:1, 1994, pp. 20–33.
• Jones, R. Jeffreys, ‘W. Somerset Maugham, Anglo-American Agent in Revolutionary Russia’, American Quarterly, 28:1, 1976, pp. 90—106.
• Karpovich, M., ‘The Russian Revolution of 1917’, Journal of Modern History, 2:2, 1930, pp. 258–280.
• ‘Lady Georgina Buchanan’, obituary, The Times, 26 April 1922.
• McGlashan, Z. B., ‘Women Witness the Russian Revolution: Analysing Ways of Seeing’, Journalism History, 12:2, 1995, pp. 54–61.
• Mason, Gregory, ‘Russia’s Refugees’, Outlook, 112, 19 January 1916, pp. 141–144.
• Mohrenschildt, Dimitri von, ‘The Early American Observers of the Russian Revolution’, Russian Review 3(1), Autumn 1943, pp. 64–74.
• Mohrenschildt is also author of ‘Lincoln Steffens and the Russian Bolshevik Revolution’, Russian Review, 5:1, 1945, pp. 31–41.
• Neilson, K., ‘“Joy Rides?” British Intelligence and Propaganda in Russia 1914–1917’, Historical Journal, 24:4, 1981, pp. 885–906.
• Sokoloff, Jean, ‘The Dissolution of Petrograd’, Atlantic Monthly, 128, 1921, pp. 843–850.
• Urquhart, Leslie, ‘Some Russian Realities’, Littell’s Living Age, 296, 1918, pp. 137–144.
• Varley, Martin, ‘The Thornton Woollen Mill, St Petersburg’, History Today, 44:12, December 1994, p. 62.
• Walpole, Hugh, ‘Pen Portrait of Somerset Maugham’, Vanity Fair, 13:4, 1920, pp. 47–49.
• Williams, Harold, ‘Petrograd’, Slavonic Review, 2:4, June 1923, pp. 14–35.
• Wynn, Marion, ‘Romanov connections with the Anglo-Russian Hospital in Petrograd’, Royalty Digest, 139, January 2003, pp. 214–219.
Примечания
1
Гринвич-Виллидж – богемный район Нью-Йорка (прим. пер.).
(обратно)2
«Канцелярия» – группа сотрудников посольства Великобритании в какой-либо стране, занимающихся политическими вопросами (прим. пер.).
(обратно)3
Истребительная эскадрилья «Лафайет», официально числившаяся подразделением французских военно-воздушных сил во время Первой мировой войны, состояла из американских летчиков-добровольцев; в феврале 1918 года была полностью (вместе с самолетами и механиками) передана военно-воздушным силам США (прим. пер.).
(обратно)4
В 1914 году после начала войны России с Германией Санкт-Петербург был переименован в Петроград (здесь и далее прим. авт., если не указано иное).
(обратно)5
Среди владельцев предприятий были и немцы, однако после начала войны в 1914 году они все потеряли.
(обратно)6
Буквальный перевод с английского – «Главная улица», такое название носили главные улицы многих английских провинциальных городов (прим. пер.).
(обратно)7
«Говорим по-английски», далее, соответственно, «Здесь говорят по-французски», «Мы говорим по-немецки» (прим. пер.).
(обратно)8
«Барчестерские хроники» – произведения английского писателя викторианской эпохи Энтони Троллопа (прим. пер.).
(обратно)9
Согласно Негли Фарсону, британское посольство получало мячи для гольфа из Англии в вализах дипкурьеров, поскольку «в военное время мячи для гольфа представляли такую же ценность, как соколиные яйца».
(обратно)10
До этого Джордж Бьюкенен находился на дипломатической службе в Вене (Австро-Венгрия) под началом своего отца, а также в Токио (Япония), Берне, Дармштадте, Берлине (Германская империя) и Гааге (Нидерланды).
(обратно)11
Простая до примитивности карточная игра, в которой соперники должны угадать пары («семейные пары») карт на руках друг у друга (прим. ред.).
(обратно)12
Джорджу Бьюкенену никогда не подходил климат Санкт-Петербурга, и его здоровье настолько ухудшилось, что, когда сэр Эдвард Грей выяснил, как часто тот болел, он предложил ему пост посла в Вене. Однако сэр Джордж Бьюкенен предпочел остаться в Петрограде.
(обратно)13
По мнению США, Россия нарушила положения договора, гарантирующие права американских граждан иудейского вероисповедания на свободное перемещение по территории Российской империи (прим. пер.).
(обратно)14
Джулия Грант и князь устроили пышную великосветскую свадьбу в 1899 году в одном из особняков сети «Астория» в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд) с приглашением элиты Восточного побережья, которая одарила молодоженов алмазами, севрским фарфором, столовым серебром, украшенным монограммами, и драгоценностями от Рене Лалика. Джулия Грант была одной из американских «флибустьеров», вступивших в брак с русскими аристократами, и до революции являлась дуайеном Петроградского высшего общества.
(обратно)15
При отсутствии убедительных доказательств таких утверждений, а также с учетом предложений, что брак посла не был счастливым, представляется более вероятным, что одинокий Дэвид Фрэнсис, который любил красоток, просто испытывал удовольствие от общения с мадам де Крам и ее компании.
(обратно)16
Что еще более важно, при поддержке Дэвида Фрэнсиса Джордан стал одним из двух американцев, получивших разрешение начальника полиции Петрограда фотографировать в городе.
(обратно)17
Простые российские граждане могли получить алкоголь только на черном рынке или же по рецепту врача.
(обратно)18
«Квинз» (“quinze”) – карточная игра типа «очко» (прим. пер.).
(обратно)19
Маршевая песня британской армии (прим. пер.).
(обратно)20
Дош-Флеро был сыном немецкого иммигранта, поселившегося в штате Орегон. Во время войны он взял фамилию своей французской матери, Флеро, чтобы избежать возможных проблем при работе корреспондентом на Западном фронте.
(обратно)21
В Торнио на железной дороге происходила смена колеи со шведской на финскую (российскую) железнодорожную систему (прим. пер.).
(обратно)22
Джордж Кеннан (1845–1924) был известным американским путешественником и исследователем, автором многочисленных разоблачительных публикаций о российской уголовно-исполнительной системе в Сибири.
(обратно)23
Статьи Гарольда Уильямса публиковались также в изданиях «Дейли телеграф» и «Нью-Йорк таймс».
(обратно)24
Многие статьи обозначались просто: «От нашего корреспондента в Петрограде» – или как-то в этом роде, и сейчас уже трудно восстановить авторство и отдать должное тем британским и американским журналистам, которые писали с места событий во время революции.
(обратно)25
Дипломированные медицинские сестры являлись сестрами Красного Креста, в основном из госпиталей Сент-Томас и Сент-Бартс в Лондоне.
(обратно)26
Построенное в восемнадцатом веке и известное в качестве дворца Белосельских-Белозерских, это здание было реконструировано в девятнадцатом веке и в 1883 году куплено великим князем Сергеем Александровичем и его женой Эллой, сестрой императрицы. После того как великий князь в 1905 году был убит, его жена приняла постриг и подарила дворец великому князю Дмитрию Павловичу, который сохранил здесь для себя частные апартаменты на первом этаже. Именно здесь он с Феликсом Юсуповым укрылись, все в истерике и в крови, после того как убили Распутина.
(обратно)27
Дочь королевы Виктории, принцесса Елена, была замужем за принцем Кристианом Шлезвиг-Гольштинским.
(обратно)28
Энид Стокер была племянницей Брэма Стокера, автора романа «Дракула».
(обратно)29
«Весьма милая и благоразумная женщина, которая стоит 17 леди Мюриэл, – отзывался о ней хирург Англо-русского госпиталя Джеффри Джефферсон. – Всем здесь уже достаточно надоела леди М., поскольку у нее появляются весьма глупые идеи и она всегда хочет чего-то нового». Триумвират в лице леди Сибил Грей, леди Мюриэл Пэджет и леди Джорджины Бьюкенен окажется неустойчивым; как описывала их одна из медсестер, это были «грозные, смелые, исполненные сознанием своего долга и решительные соперницы».
(обратно)30
По Фаренгейту, что соответствует 10 градусам по Цельсию (прим. пер.).
(обратно)31
Аристократические семьи, тесно связанные с британской королевской семьей.
(обратно)32
Порфирио Диас – президент Мексики, отстранен от власти в результате государственного переворота в 1911 году, умер в изгнании в 1915 году.
(обратно)33
Ее настоящее имя Лилли (Мадлен) Бутон. Дочь рабочего зернового элеватора из штата Айова и в последующем актриса в американской театральной труппе, которая давала представления в США и ездила с различными репертуарами по Европе, она очаровала чрезвычайно состоятельного графа Григория Ивановича Ностица, военного агента России во Франции, и вышла за него замуж; он был вторым из трех ее мужей из числа аристократов.
(обратно)34
Историческая область на Украине (прим. пер.).
(обратно)35
Русский фунт равен 0,41 кг (прим. пер.).
(обратно)36
Листерин – антисептическое средство для полоскания рта и горла (прим. пер.).
(обратно)37
Дикислород в то время, очевидно, использовался для отбеливания зубов.
(обратно)38
К тому времени большинство армейских частей и подразделений в Петрограде были запасными, наиболее боеспособные части и подразделения регулярной армии были направлены на фронт, в результате чего в столице находились в основном неопытные призывники, некоторые из которых были из числа забастовщиков, призванных в армию в качестве наказания.
(обратно)39
Речь идет о компании «Кодак» Джорджа Истмена (прим. пер.).
(обратно)40
Источники дают противоречивую информацию о температуре в Петрограде, многие из них представляют ее значительно ниже, чем она была на самом деле. См. концевую сноску 7 к этой главе.
(обратно)41
Труд рабочих военных предприятий хорошо оплачивался; кроме того, эти рабочие, как рабочие высокой квалификации, получали большие хлебные пайки, поэтому они менее охотно выходили на забастовку.
(обратно)42
Это слово было запрещено вплоть до отречения императора 3 марта 1917 года, когда царская цензура исчезла и можно было отправлять необходимую информацию; это означает, что самые первые правдивые сообщения из России могли быть опубликованы на Западе лишь где-то после 16 марта (по новому стилю).
(обратно)43
Нынешний Московский вокзал (прим. ред.).
(обратно)44
Воспоминания разных лиц в отношении этого эпизода очень отличаются: по некоторым сведениям, казак выстрелил, но Томпсон, который был там в тот момент, однозначно утверждал, что это был удар саблей.
(обратно)45
Каковы были полномочия Стопфорда, так и осталось неизвестно. Он поехал в Петроград в августе 1916 года, якобы для того, чтобы заключить с российским правительством контракт на поставку радиооборудования для самолетов, но вскоре он вошел в круг высшего общества, где вращались представители русской аристократии и светские люди Петрограда, и передавал инсайдерскую информацию послу Великобритании, сэру Джорджу Бьюкенену.
(обратно)46
В 1912 году в Париже Пакс какое-то время была любовницей британского секретного агента Сидни Рейли.
(обратно)47
Конгрегационалистская христианская церковь в Петрограде была известна как «Американская церковь», поскольку предыдущий американский посол и многие члены американского посольства были там прихожанами.
(обратно)48
До начала войны 1914 года в Кантемировском дворце в доме номер 8 по Дворцовой набережной располагалось посольство Турции. Впоследствии это здание было арендовано Государственным муниципальным банком Нью-Йорка для своего Петроградского филиала. Просторные залы с высокими потолками на втором этаже были переоборудованы в помещения банка, расставлены письменные столы, пишущие машинки и арифмометры.
(обратно)49
В данном случае, как и в других, Томпсон ссылается на фотографии, сделанные им в то время, но, по-видимому, не сохранились ни их негативы, ни распечатанные снимки. Эти фотографии не вошли в книгу-фотоальбом «Россия, сочащаяся кровью», которую Томпсон издал, опубликовав сделанные в России в 1917 году фотографии.
(обратно)50
Вероятно, это был Джордж Мьюз, один из первых военных фоторепортеров «Дейли мирор» и единственный британский фотограф, официально аккредитованный военным ведомством России и допущенный на позиции русской армии на фронте.
(обратно)51
Такая формулировка, вероятно, была впервые использована в репортаже Гамильтона Файфа для издания «Дейли мейл» о событиях в Петрограде 16 марта 1917 года (по новому стилю), в котором было сказано, что это «благотворная революция», необходимая для того, чтобы избавить Россию от «прогерманских и реакционных элементов».
(обратно)52
Эту щедрость, однако, оценили далеко не все. Солдаты не любили тонкие сигареты, предпочитая очень крепкие, дешевые российские папиросы, которые делались из отвратительно пахнувшей махорки.
(обратно)53
К сожалению, оказалось невозможно установить личность этого очевидца, анонимно опубликовавшего свое яркое и ценное наблюдение.
(обратно)54
Сазонов был назначен послом России в Великобритании в начале 1917 года, однако начало Февральской революции помешало ему занять свой пост.
(обратно)55
Флоренс Харпер, которую цитирует Х. Раппапорт, возможно, неверно истолковывает мизансцену. Скорее лейтенант продемонстрировал знание окопного быта (третий не прикуривает от одной спички, чтобы не дать времени снайперу прицелиться по огоньку сигареты, – это было известно всем фронтовикам) и тем расположил к себе солдата (прим. ред.).
(обратно)56
Например, таким, как Виктория Мелита, великая княгиня, дочерь сына королевы Виктории, принца Альфреда, супруга великого князя Кирилла Владимировича (известная в королевской семье как «Даки»).
(обратно)57
В конце концов преподобный Босфилд Сван Ломбард, капеллан британского посольства, дал убежище графине Фредерикс (она пользовалась псевдонимом «миссис Уилсон») и двум ее дочерям. Бьюкенен сказал преподобному: «Вы должны это сделать по своей собственной воле», – поскольку он, посол, не мог официально санкционировать такой шаг. Женщин взяли в Дом престарелых британской колонии. Графиня поклялась Босфилду Ломбарду соблюдать конспирацию и определенные правила, но она с дочерьми вскоре нарушила свою клятву, и ей вместе с ними пришлось покинуть это убежище.
(обратно)58
Примерно 1,83 м (прим. пер.).
(обратно)59
1 ярд равен 0,91 м (прим. пер.).
(обратно)60
Сибил Грей слышала, что в квартире Протопопова были обнаружены доказательства его «планов открыть винные магазины, чтобы дать полиции повод для стрельбы в людей, находившихся в нетрезвом состоянии».
(обратно)61
В 1912 году в возрасте одиннадцати лет Элси Боуэрман смогла выжить во время крушения «Титаника».
(обратно)62
Скорее всего, имеется в виду епитрахиль (прим. ред.).
(обратно)63
Намек на монархический контрреволюционный мятеж, организованный консервативными силами в западной сельской провинции Франции Вандея после Французской революции 1789 года.
(обратно)64
Давно находившийся на дипломатической службе и такой же опытный, как и Бьюкенен, дипломат, Аудендейк работал в Персии и Китае и был одаренным полиглотом. Ранее, в 1907–1908 годах, он уже служил в качестве посла Нидерландов в Петрограде.
(обратно)65
Первая строка из Песни Симеона Богоприимца, приводимой в Евангелии от Луки: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, съ миромъ» (Лк. 2:29–32) («Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром»).
(обратно)66
Луизе Патуйе рассказали, что одной бедной консьержке, у которой не было денег на похороны недавно умершего мужа, предложили 100 рублей за то, чтобы его похоронили вместе с погибшими героями революции – и она была этому весьма рада.
(обратно)67
По официальным данным, был убит и ранен всего лишь шестьдесят один полицейский, что является весьма заниженной оценкой.
(обратно)68
Палеолог отмечал, что казаки отказались принимать участие в массовых похоронах, поскольку «на них не было изображения Христа». Другие также жаловались на то, что красный цвет гробов был «богопротивным». Чтобы как-то смягчить критику, Временное правительство впоследствии дало разрешение нескольким священникам прочесть молитвы над могилами.
(обратно)69
До того как слово «большевик» получило широкое распространение, многие иностранцы называли Ленина «максималистом» (в действительности так называли членов радикально-экстремистского течения Партии социалистов-революционеров, в 1906 г. выделившихся из партии).
(обратно)70
Троцкий совершил поездку на норвежском пароходе «Христин-Фиорд» вместе с Уильямом Г. Шепхердом и знаменитым журналистом Линкольном Стефенсом (который прославился своими разоблачительными статьями); оба эти журналиста были командированы для освещения событий в Петрограде журналом “Everybody’s Magazine”.
(обратно)71
Джироламо Савонарола (1452–1498) – итальянский монах и реформатор, фактический диктатор Флоренции в 1494–1498 гг. (прим. пер.).
(обратно)72
В 1918 году смертный приговор Томасу Дж. Муни был заменен на пожизненное заключение.
(обратно)73
Когда Флеро писал свою книгу в 1931 году, в совершенно ином социальном климате, задолго до времени политкорректности, у него не было никаких сомнений по поводу того, как представить услышанную им речь Джордана. Неотредактированная версия писем Джордана, с сохранением его своеобразной орфографии и пунктуации, представлена в издании: Mrs Clinton A. Bliss ‘Philip Jordan’s Letters from Russia, 1917–1919. The Russian Revolution as Seen by the American Ambassador’s Valet’.
(обратно)74
Дональд Томпсон присоединился к ней через две недели.
(обратно)75
Последнее слово в этом вопросе осталось в итоге за российскими женщинами, получившими право голоса сразу же после Октябрьской революции. В Великобритании же только в конце войны в 1918 году было разрешено голосовать женщинам в возрасте свыше тридцати лет, и до 1928 года британские женщины старше двадцати одного года права голоса не имели.
(обратно)76
Расположенный на Фонтанке библиотечно-информационный центр, в котором можно было ознакомиться с английскими газетами; являлся также организацией прикрытия для деятельности британской секретной разведывательной службы в Петрограде.
(обратно)77
Участник Гражданской войны в США и президент страны генерал Улисс Грант посетил Россию во время поездки в Османскую империю в 1878 году. В августе того года он встретился в Санкт-Петербурге с Александром II.
(обратно)78
Многие из этих фотографий были опубликованы одновременно в нескольких средствах массовой информации США; с ними можно ознакомиться в фотоальбоме Дональда Томпсона “Blood-Stained Russia” («Россия, сочащаяся кровью»).
(обратно)79
«Война есть продолжение буржуазной политики и ничего больше» (В. И. Ленин, ПСС, издание пятое, Издательство политической литературы, Москва, 1969, т. 32, стр. 281) (прим. пер.).
(обратно)80
Артур Рэнсом также отметил эту деталь, характеризовавшую некоторые особенности преследования буржуазии: «Все те, кто носил воротники, считались врагом человечества».
(обратно)81
Один француз слышал, что чаще всего грабили табачные магазины, а также аптеки и парфюмерные магазины, поскольку там были одеколон и спирт, которые грабители искали для выпивки.
(обратно)82
Нет точных данных о том, сколько в тот день матросов прибыло в Петроград из Кронштадта. Некоторые источники утверждают, что их было около двух тысяч, в то время как другие оценивают их численность до 20 000.
(обратно)83
Это были восемь эскадронов донских казаков, единственные верные правительству войска.
(обратно)84
Как и в феврале 1917 года, цифры потерь указывались совершенно произвольно. Никто не имел ни малейшего представления о численности погибших в те дни, называя в основном от четырехсот до пятисот человек; однако нельзя исключать, что их было гораздо больше.
(обратно)85
Один из журналистов будто бы даже возбужденно передавал послу Фрэнсису, что Томпсон «снимал бой на Невском проспекте, держа в каждой руке по заряженному пистолету».
(обратно)86
Наряду с двоевластием, когда Петросовет и Временное правительство соперничали за политическое руководство страной, милиция, заменившая прежнюю царскую полицию, также состояла из двух противоборствующих структур: городской милиции, находившейся под контролем Петроградской думы и созданной, в соответствии с демократическими принципами, для обеспечения общих интересов, и самостоятельной рабочей милиции, сформированной для обеспечения интересов только рабочего класса и достижения целей революции.
(обратно)87
При переводе на нынешний курс валют – около 20 фунтов стерлингов (29 долларов США) и 120 фунтов стерлингов (172 доллара США) соответственно.
(обратно)88
В конце апреля 1918 года царская семья была перевезена в Екатеринбург, в 365 милях (365 км) к юго-западу от Тобольска, где в ночь на 17 июля была жестоко убита большевиками.
(обратно)89
Кроме того, в составе миссии был свой собственный официальный кинооператор, лейтенант Нортон К. Трэвис, опытный внештатный сотрудник, работавший на кинокомпании «Пате», «Фокс» и «Юниверсал». Как и Дональд Томпсон, ради съемок он постоянно оказывался в гуще событий. «Я мог весь день ходить по улицам в поисках сцен, где народ грабил магазины, фабрики и дома. Свобода для них означала просто то, что они могли делать в своих интересах все, что хотели», – напишет он позже. Трэвис, как и Томпсон, тоже снимал «женский батальон смерти» на фронте и провел в России большую часть своего времени, делая съемки под Минском.
(обратно)90
Были проданы облигации небольшого номинала в двадцать рублей (4 доллара США). Как результат, было собрано около четырех миллиардов рублей (1 миллиард долларов США).
(обратно)91
Сестра Раймонда Робинса, Элизабет, была хорошо известной в Великобритании актрисой, игравшей в спектаклях Ибсена, писательницей и пламенным борцом за права женщин. Она близко знакома с Эммелин Панкхерст и Джесси Кенни.
(обратно)92
Корнилов признал, что это действительно воспрепятствовало его походу на Петроград, в беседе с американским дипломатом де Виттом Клинтоном Пулом во время встречи с ним на юге России в 1918 году.
(обратно)93
После своего возвращения Эммелин Панкхерст и Джесси Кенни рассказывали о своей «русской миссии» в ходе двух больших митингов, организованных 7 и 14 ноября в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта.
(обратно)94
Впечатления Сомерсета Моэма от Петрограда 1917 года позже отразятся в его сборнике новелл «Эшенден» (1928 год), в котором бесстрастный сэр Джордж Бьюкенен будет представлен в уничижительном образе сэра Герберта Уизерспуна.
(обратно)95
Настоящее имя – Грузенберг Михаил Маркович (1884–1951), ответственный работник Коминтерна (прим. пер.).
(обратно)96
С 1924 года – Осло (прим. пер.).
(обратно)97
Александр (Овсей Осипович) Беркман был арестован американскими властями по обвинению в «заговоре с целью побудить людей не регистрироваться» в соответствии с законом 1917 года, требовавшим от всех мужчин в возрасте от 21 года до 30 лет зарегистрироваться для воинской повинности (прим. пер.).
(обратно)98
Лейтон Роджерс, судя по записям в его дневнике, был невысокого мнения о Джоне Риде: «Этот молодой человек… ошивался в Петрограде, играя в революционера. Я часто видел, как он разъезжал на грузовиках, разбрасывая большевистские листовки, как демонстративно позировал рядом с выступавшими на большевистских митингах на улицах… Меня охватывает негодование, когда я вижу, как этот высокомерный позер помогает большевикам на том основании, что «американец пролетариат» поддерживает их в вопросе о сепаратном мире… Когда я думаю о нормальных молодых американцах, которым придется вынести всю тяжесть массированного немецкого наступления, безусловно, предстоящего во Франции…о том, сколько их погибнет, моя кровь начинает кипеть при мысли о Джоне Риде».
(обратно)99
В 1917 году обменный курс составлял около одиннадцати рублей за доллар США.
(обратно)100
Артур Рэнсом пропустил Октябрьскую революцию, вернувшись в Петроград лишь на Рождество (по новому стилю; по старому стилю – 12 декабря). Это событие пропустил также корреспондент издания «Таймс» Роберт Уилтон, покинув Петроград в середине сентября. С отъездом Роберта Уилтона в Петрограде у «Таймс» не осталось ни одного корреспондента для освещения предстоявших октябрьских событий.
(обратно)101
Одним из положительных результатов отмены запрета царского режима на общественные собрания явилось возрождение в России «Армии спасения». После Пасхи 1917 года в город из Финляндии вернулись проповедники «Армии спасения» и организовали целый ряд крупных общественных собраний. Но это продолжалось недолго: уже в 1923 году Советское правительство запретило деятельность этой организации.
(обратно)102
Однажды ночью Джона Рида тоже остановили и ограбили, однако после того как он попытался объяснить на ломаном русском языке, что он был «американцем и социалистом», его вещи ему «быстро вернули, радушно пожали ему руку, и он, радостный, отправился восвояси».
(обратно)103
В 1916 г. Керенскому удалили почку, что не помешало ему дожить до 89 лет (прим. ред.).
(обратно)104
Джон Рид проницательно привел следующее наблюдение о Керенском: «Жизнь слишком скоротечна, чтобы соглашаться в ней на компромиссы».
(обратно)105
В переводе с английского “getaway” означает «бегство» (прим. пер.).
(обратно)106
То есть по 110 долларов США; в октябре 1917 года обменный курс увеличился с 6,20 рубля за доллар США (в январе 1917 года) до одиннадцати рублей за доллар США.
(обратно)107
В различных источниках приводимые цифры существенно различаются. Возможно, на начальном этапе дворец охраняло несколько тысяч человек, однако в последующие часы многие покинули свои посты.
(обратно)108
Мария Бочкарева, оправившись в госпитале в Петрограде от ран, была отправлена в Москву, чтобы принять там командование над женским батальоном и отправиться на защиту Риги. В 1919 году (по другим данным – в январе 1920 г. – прим. ред.) Бочкарева была арестована большевиками по обвинению в том, что являлась «врагом народа». Она была расстреляна 16 мая 1920 года.
(обратно)109
На самом деле заряды были холостыми, хотя впоследствии (с легкой руки Джона Рида – прим. ред.) закрепился миф о том, что выстрелы были боевыми.
(обратно)110
Куда более драматичная версия «штурма Зимнего дворца» (которого не было), созданная Джоном Ридом, станет легендой, увековеченной в агиографическом фильме Эйзенштейна «Октябрь» (1928 год).
(обратно)111
Кокни – жаргон городских низов (прим. ред.).
(обратно)112
Согласно предположениям самых надежных источников, было три случая изнасилования и один случай самоубийства.
(обратно)113
По некоторым данным, артиллеристы Петропавловки намеренно стреляли выше (прим. ред.).
(обратно)114
Корнилов 6 ноября бежал из тюрьмы и отправился на юг, чтобы присоединиться к антибольшевистским казачьим силам на Дону. Он возглавил добровольческие войска, выступившие против большевиков, но был убит в апреле 1918 года на Кубани на юге России.
(обратно)115
Сэр Джордж Бьюкенен наряду с этим отмечал с некоторым отвращением, что при охране посольства юнкера присвоили часть посольского виски и вина, напились и вели себя некрасиво.
(обратно)116
Обосновавшись во Франции, Керенский был вовлечен в эмигрантскую политику и регулярно критиковал с позиции эмигранта новое Советское правительство. Впоследствии он жил в Берлине и Париже, а затем в 1940 году осел в США, где написал свои мемуары и регулярно выступал по радио по вопросам, связанным с Россией. Он умер в Нью-Йорке в 1970 году.
(обратно)117
Когда Учредительное собрание наконец собралось в четыре часа дня 3 января 1918 года, его заседание продолжалось ровно двенадцать часов. На следующий день в четыре часа утра по указанию Ленина оно было разогнано.
(обратно)118
То, что осталось от коллекции вин Зимнего дворца, в конечном итоге было перевезено в Кронштадт, где преданные делу революции матросы уничтожили эти остатки.
(обратно)119
Бесси Битти не упоминает, участвовали ли в каких-либо торжествах американской колонии в честь Рождества ее социалистические коллеги Джон Рид, Луиза Брайант и Альберт Рис Вильямс, и они сами в своих мемуарах ничего не сообщают об этом.
(обратно)120
По словам Лейтона Роджерса, Петроградский филиал Государственного муниципального банка Нью-Йорка стал первым американским финансовым учреждением, захваченным большевистским правительством.
(обратно)121
“Red” в переводе с английского языка означает «красный», «рыжий» (прим. пер.).
(обратно)122
Британский священник преподобный Босфилд Сван Ломбард написал своей жене, что он был «совершенно уверен в том, что Джорджи Порджи уехал очень вовремя», поскольку, если бы он остался в Петрограде, то большевики арестовали бы его, как румынского посланника графа Диаманди в начале следующего года.
(обратно)123
Имеется в виду французский гравер, иллюстратор и живописец Поль Гюстав Доре (1832–1883) (прим. пер.).
(обратно)124
В переводе на русский язык книга была издана в России в 2006 году (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006).
(обратно)125
По новому стилю. 13 февраля 1918 года большевики в конце концов перешли на западный календарь, добавив сразу тринадцать дней.
(обратно)126
Слово «хог» (“hog”) переводится с английского языка как «свинья, боров» (прим. пер.).
(обратно)127
Этот дворец известен под названием «дворец Белосельских-Белозерских».
(обратно)128
В США этот фильм был также известен под названием “Blood-Stained Russia, German Intrigue, Treason and Revolt” («Залитая кровью Россия, немецкий заговор, предательство и восстание»), именно под этим заголовком фильм был показан на премьере в Нью-Йорке в декабре 1917 года.
(обратно)129
Некоторые из них, как, например, Рета Чайльд Дорр, не смогли сохранить свои материалы. Большевики конфисковали ее записи и другие материалы при пересечении границы. Рете Дорр пришлось по памяти восстанавливать их при написании своей книги “Inside the Russian Revolution” («Русская революция: взгляд изнутри»).
(обратно)130
“With the Russians at the Front” («На фронте с русскими»), “Somewhere in France” («Где-то во Франции») и “War As It Really Is” («Война – как это было на самом деле»). Также ничего не известно о пленке, отснятой лейтенантом Нортоном С. Тревисом, который оставил 75 тысяч футов кинохроники о восемнадцати днях, проведенных им в Петрограде. Неизвестно ни местонахождение этой кинохроники, ни даже то, сохранилась ли хоть какая-то ее часть.
(обратно)131
В фильме Германа Аксельбанка, возможно, был также использован отснятый Тревисом материал, равно как и материалы других многочисленных операторов, оставшихся неупомянутыми в титрах фильма Аксельбанка, среди них и множество русских, снимавших на пленку революционные события в Петрограде.
(обратно)132
Фред Сайкс сделал карьеру в Государственном муниципальном банке Нью-Йорка, дослужившись до поста вице-президента банка, умер в 1958 году. Честер Свиннертон также продолжил работать в банке, он руководил работой его южноамериканских филиалов. Свиннертон умер в Нью-Гемпшире в 1960 году.
(обратно)133
Аллюзия на слова из «Исхода»: «…стал пришельцем в чужой земле» (Исх. 2:22), достаточно широко используемая в литературе (прим. ред.).
(обратно)134
Эпизодические упоминания о других афроамериканцах, живших в России во времена революции, оставляют одинаковое чувство глубокого разочарования от того, что о них осталось так мало письменных свидетельств. Так, среди них был Джим Геркулес, возможно, один их четырех чернокожих американцев, служивших при дворе Николая II и Александры в качестве «нубийского стража» в Александровском дворце практически до самой революции. Весьма вероятно, что после этого он еще некоторое время вынужденно находился в России.
(обратно)(обратно)Комментарии
1
Violetta Thurstan, Field Hospital and Flying Column, p. 94. Виолетта Терстан, как и многие другие, оказавшиеся в то время в Петрограде, была поражена масштабами города и его притягательной силой: «Это один из тех городов, чье очарование застает вас врасплох. Он громаден, привлекателен, неотступен, он просто поражает ваше воображение… В нем все настолько огромно, избыточно, безмерно… Его дворцы грандиозны; блоки, из которых они сложены, казалось, обтесывали титаны» (Rogers, Box 3: Folder 7, p. 12–13; в дальнейшем в таких случаях будет обозначено как 3:7, соответственно).
(обратно)2
Fred Morris Dearing, unpublished MS memoirs, p. 88.
(обратно)3
E. M. Almedingen, I Remember St Petersburg, pp. 120–122; см. также уникальные воспоминания о Петрограде 1916 года в произведениях: Huge Walpole, The Secret City, p. 98–99, 134, Leighton Rogers, Wine of Fury.
(обратно)4
E. M. Almedingen, Tomorrow Will Come, p. 76.
(обратно)5
William Barnes Steveni, Things Seen in Russia, London: Seeley, Service & Co., 1913, p. 80. В книге Уильяма Барнса Стэвени «Петроград прошлого и настоящего» (Steveni, Petrograd Past and Present), изданной в 1915 году, в главе XXXI превосходно описана история британской общины; см. также издания: Anthony Cross, A Corner of a Foreign Field, Forgotten British Places in Petrograd.
(обратно)6
Bousfield Swan Lombard, untitled typescript memoirs, section ‘Things I Can’t Forget’, p. 64.
(обратно)7
Там же, section VII, n.p.
(обратно)8
Stopford, p. 18.
(обратно)9
Negley Farson, The Way of a Transgressor, p. 150.
(обратно)10
Nathaniel Newnham-Davis, The Gourmet’s Guide to Europe, Edinburgh: Ballantyne, Hanson & Co., 1908, ‘St Petersburg Clubs’, p. 303.
(обратно)11
Negley Farson. Указ. соч., p. 95.
(обратно)12
Dissolution, pp. 9.
(обратно)13
Там же, p. 5–7.
(обратно)14
Henry James Bruce, Silken Dalliance, pp. 174, 159; Bernard Pares, My Russian Memoirs, p. 424. Краткий биографический очерк сэра Джорджа Бьюкенена, изложенный его современником в Петрограде, представлен в издании: Bernard Pares, ‘Sir George Buchanan in Russia’, Slavonic Review, 3 (9), March 1925, p. 576–586.
(обратно)15
Robert Bruce Lockhart, Memoirs of a British Agent, p. 121.
(обратно)16
Negley Farson. Указ. соч., p. 95.
(обратно)17
Wilfred Blunt, Lady Muriel Paget, p. 62; Robert Bruce Lockhart. Указ. соч., p. 118.
(обратно)18
Meriel Buchanan, Ambassador’s Daughter, p. 130.
(обратно)19
Barnes, pp. 182, 206.
(обратно)20
Дэвид Фрэнсис сенатору Уильяму Дж. Стоуну, 13/26 февраля 1917 года, цит. по: Lyubov Ginzburg, ‘Confronting the Cold War Legacy’, p. 86.
(обратно)21
См.: Barnes, pp. 406—7; ‘D. R. Francis Valet Dies in California’, St Louis Post Dispatch, 1941; Mrs Clinton A. Bliss, ‘Philip Jordan’s Letters from Russia’, pp. 140—1; Barnes, p. 69.
(обратно)22
Barnes, p. 186; Samuel Harper, The Russia I Believe In, pp. 91—2; Harper, p. 188.
(обратно)23
Francis, p. 3.
(обратно)24
Neil V. Salzman, Reform and Revolution, p. 228.
(обратно)25
Rheta Childe Dorr, Inside the Russian Revolution, p. 41.
(обратно)26
Norman E. Saul, Life and Times of Charles Richard Crane, p. 134; Robert Bruce Lockhart. Указ соч., p. 281–282.
(обратно)27
Rogers, 3:9, p. 153.
(обратно)28
Houghteling, p. 5.
(обратно)29
Barnes, p. 194.
(обратно)30
Там же, p. 195.
(обратно)31
Jamie H. Cockfield, Dollars and Diplomacy, 23.
(обратно)32
Утверждения о том, что Матильда де Крам была шпионом, можно встретить, например, в издании: William Thomas Allison, American Diplomats in Russia, pp. 66–67; также в докладе генерала Уильяма В. Джадсона министру обороны США в издании: Neil V. Salzman, Russia in War and Revolution, pp. 267–270 (современная оценка ситуации с точки зрения человека, работающего в американском посольстве; Barnes (в разных местах) – также обсуждаются отношения между этими двумя людьми).
(обратно)33
Barnes, pp. 199, 200–201.
(обратно)34
‘Missouri Negro in Russia is “Jes a Honin” for Home’, Wabash Daily Plain Dealer, 29 September 1916.
(обратно)35
Там же, p. 207.
(обратно)36
Там же.
(обратно)37
Jamie H. Cockfield. Указ. соч., p. 56.
(обратно)38
Wright, p. 4.
(обратно)39
Fred Morris Dearing, неизданные мемуары, p. 219.
(обратно)40
Jamie H. Cockfield. Указ. соч., p. 32.
(обратно)41
Там же, p. 31.
(обратно)42
Цитируется по изданию: Joseph Noulens, Mon Ambassade en Russie Soviйtique, p. 243.
(обратно)43
George Kennan, Russia Leaves the War, 38.
(обратно)44
Francis Oswald Lindley, untitled memoirs, p. 5.
(обратно)45
Fred Morris Dearing, неизданные мемуары, p. 144.
(обратно)46
Heald, p. 25; Barnes, p. 207; Jamie H. Cockfield, указ. соч., p. 70; Wright, p. 10.
(обратно)47
Negley Farson, указ. соч., p. 94; William Barnes Steveni, Petrograd Past and Present, Chapter XIII, ‘The Modern City and the People’.
(обратно)48
По словам Луизы Патин (Louise Patin, Journal d’une institutrice francaise, 19), французские граждане пользовались специальным разрешением заказывать себе вина.
(обратно)49
По словам Луизы Патин (Louise Patin, Journal d’une institutrice francaise, 19), французские граждане пользовались специальным разрешением заказывать себе вина.
(обратно)50
Электронный адрес: -celebrates-100-years.html
(обратно)51
Joseph Vecchi, Tavern is My Drum, p. 96.
(обратно)52
Rogers, 3:7, p. 21–22.
(обратно)53
Там же, p. 23.
(обратно)54
Negley Farson. Указ. соч., p. 180.
(обратно)55
Там же, p. 181.
(обратно)56
См. воспоминания Эллы Кордаско (в девичестве Вудхаус), которые доступны только по электронному адресу: / 20120213165523/,
(обратно)57
Negley Farson. Указ. соч., p. 180.
(обратно)58
Fred Morris Dearing, неизданные мемуары, p. 87.
(обратно)59
William Oudendyk [Willem Jacob Oudendijk],Ways and By-Ways in Diplomacy, p. 208.
(обратно)60
Denis Garstin, ‘Denis Garstin and the Russian Revolution’, p. 589.
(обратно)61
Великий князь Николай Николаевич цит. по: Richard Pipes, Russian Revolution, p. 256; Memorandum to Foreign Office 18 [5], August 1916, Mission, p. 19.
(обратно)62
Petrograd, p. 78.
(обратно)63
Harrison E. Salisbury, Black Night, White Snow, p. 311; Petrograd, p. 70.
(обратно)64
Paleologue, p. 733.
(обратно)65
Robert Bruce Lockhart. Указ. соч., p. 158.
(обратно)66
Arthur Bullard, Russian Pendulum, London: Macmillan, 1919, p. 21; см. также: Houghteling, pp. 4–5.
(обратно)67
Rogers 3:7, 17, p. 7–8.
(обратно)68
Meriel Buchanan. Указ. соч., p. 138.
(обратно)69
Petrograd, p. 50.
(обратно)70
Alban Gordon, Russian Year: A Calendar of the Revolution, p. 35.
(обратно)71
Там же, стр. 40.
(обратно)72
Цифры во многих источниках различаются; см., например, данный источник: -rpk.ru/content/view/10145/1/
(обратно)73
Jamie H. Cockfield. Указ. соч., p. 69.
(обратно)74
Wright, p. 15.
(обратно)75
Robert Bruce Lockhart. Указ. соч., p. 119.
(обратно)76
Dissolution, p. 151; Meriel Buchanan, указ. соч., p. 141.
(обратно)77
Stopford, p. 94.
(обратно)78
Barnes, p. 213.
(обратно)79
Paleologue, p. 755.
(обратно)80
Ethel Mary Christie, ‘Experiences in Russia’, p. 2; Sarah MacNaughton, My Experiences in Two Continents, p. 194.
(обратно)81
-conditionsin-petrograd-1916/
(обратно)82
Fleurot, p. 96.
(обратно)83
Там же, pp. 99, 100; Kenneth Hawkins, ‘Through War to Revolution with Dosch-Fleurot’, p. 20. В конце концов Арно Дош-Флеро вернулся домой в марте 1918 года.
(обратно)84
Fleurot, pp. 99, 100.
(обратно)85
Там же, стр. 101.
(обратно)86
Kenneth Hawkins, ‘Through War to Revolution with Dosch-Fleurot’, p. 22; Fleurot, pp. 103—4.
(обратно)87
Thompson, p. 30. О работе Дональда Томпсона в военное время до его прибытия в Петроград рассказывается в издании: David Mould, ‘Donald Thompson: Photographer at War’, а также в издании: Dr David H. Mould, ‘Russian Revolution’, p. 3.
(обратно)88
Heald, p. 23.
(обратно)89
Thompson, p. 17.
(обратно)90
Harper, p. 19.
(обратно)91
Houghteling, p. 14, p. 4.
(обратно)92
Audrey Cahill, Between the Lines, p. 217, p. 221.
(обратно)93
Там же, стр. 218.
(обратно)94
Там же, стр. 219.
(обратно)95
Gregory Mason, ‘Russia’s Refugees’, p. 142.
(обратно)96
Там же.
(обратно)97
Petrograd, p. 48.
(обратно)98
Детали ее жизни и деятельности представлены в издании: Wilfred Blunt, Lady Muriel, а также в изданиях: Sybil Oldfield, Women Humanitarians, London: Continuum, 2001, p. 160—1633; Anne Powell, Women in the War Zone, pp. 296–297.
(обратно)99
Wilfred Blunt, Lady Muriel, p. 59.
(обратно)100
Geoffrey Jefferson, So This Was Life, 85.
(обратно)101
Некоторые другие иностранные диаспоры также финансировали деятельность ряда госпиталей в Петрограде во время войны: на Спасской, 15, находился госпиталь американской колонии; действовал госпиталь имени бельгийского короля Альберта; голландский госпиталь располагался на Английской набережной, 68; датчане курировали два госпиталя – на Сергиевской, 11, и госпиталь для нижних чинов имени вдовствующей императрицы Марии Федоровны (датчанки по рождению) на Почтамтской, 13. Были также французские, швейцарские и японские госпитали для раненых. См.: Юрий Виноградов, «Лазареты Петрограда», .
(обратно)102
Lady Georgina Buchanan, letter 16 December 1916, Glenesk-Bathurst papers.
(обратно)103
Газета «Новое время», 6 февраля 1917 года.
(обратно)104
Lady Georgina Buchanan, letters of 7 October 1916 and 20 January 1917, Glenesk-Bathurst papers.
(обратно)105
Geoffrey Jefferson, указ. соч., pp. 84—6; Michael Harmer, Forgotten Hospital, pp. 67—8.
(обратно)106
Письмо к матери, 19 [6] сентября, цит. по: Joyce Wood, ‘Revolution Outside Her Window’, p. 74; Anne Powell, Women in the War Zone, p. 301.
(обратно)107
Joyce Wood, указ. соч., p. 75; letter 23 [10] September, Anne Powell, указ. соч., p. 301.
(обратно)108
Dorothy Seymour, MS diary for 4 October [22 September], IWM; Powell, указ. соч., p. 301; Caroline Moorhead, Dunant’s Dream, p. 64.
(обратно)109
Wilfred Blunt. Указ. соч., p. 66.
(обратно)110
Daniel Farson, ‘Aux Pieds de l’Imperatrice’, p. 17.
(обратно)111
Michael Harmer, указ. соч., p. 57; Anne Powell, указ. соч., p. 302.
(обратно)112
Michael Harmer, указ. соч., p. 25; Anne Powell, указ. соч., p. 303.
(обратно)113
Изложенная Виолеттой Терстан точка зрения этих трех женщин цит. по: Caroline Moorhead Dunant’s Dream, p. 235.
(обратно)114
Geoffrey Jefferson, указ. соч., p. 92. Дневник леди Сибил Грей цит. по: Michael Harmer, Forgotten Hospital, p. 67. Достойно сожаления, что дневник леди Сибил Грей находится в частных руках и пока еще недоступен для изучения.
(обратно)115
Michael Harmer, указ. соч., p. 118.
(обратно)116
См. воспоминания Эллы Кордаско (в девичестве Вудхаус), которые доступны только по электронному адресу: / 20120213165523/,
(обратно)117
Wright, p. 21.
(обратно)118
Norman Armour, ‘Recollections of Norman Armour of the Russian Revolution’, p. 7. Впечатления автора о приеме в Царском Селе представлены на страницах 7–9.
(обратно)119
Charles de Chambrun, Lettres а Marie, p. 42.
(обратно)120
Wright, pp. 21, 22.
(обратно)121
Norman Armour, указ. соч., p. 8.
(обратно)122
Charles de Chambrun, указ. соч., p. 42.
(обратно)123
Francis, p. 49.
(обратно)124
Wright, p. 22; Paleologue, p. 764.
(обратно)125
Charles J. Weeks, An American Naval Diplomat in Revolutionary Russia, p. 106.
(обратно)126
Francis, pp. 50–51.
(обратно)127
Charles de Chambrun, указ. соч., p. 43.
(обратно)128
Paleologue, p. 764; Charles de Chambrun, указ. соч., p. 42; Wright, p. 22.
(обратно)129
Wright, p. 26.
(обратно)130
Там же.
(обратно)131
Meriel Buchanan, Ambassador’s Daughter, p. 141; Petrograd, pp. 89–90; Stopford, p. 100.
(обратно)132
Paleologue, p. 776.
(обратно)133
Countess Lili Nostitz, Romance and Revolutions, p. 178; см. также: Wright, p. 33.
(обратно)134
Robert Bruce Lockhart, Memoirs of a British Agent, p. 163; Paleologue, p. 783.
(обратно)135
Robert Bruce Lockhart, указ. соч., pp. 162–163; Meriel Buchanan, указ. соч., p. 142.
(обратно)136
Paleologue, p. 793.
(обратно)137
Meriel Buchanan, указ. соч., p. 142; Mission, p. 57 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006); Meriel Buchanan, указ. соч., p. 138.
(обратно)138
Harrison E. Salisbury, Black Night, White Snow, p. 321; Sir George Bury, ‘Report Regarding the Russian Revolution’, p. 11.
(обратно)139
Paul Wharton [псевдоним Филипа Шадборна], ‘Russian Ides of March’, p. 22.
(обратно)140
Там же. Шадборн опубликовал свой крайне важный рассказ о Февральской революции под псевдонимом «Поль Вартон».
(обратно)141
Emily Warner Somerville, ‘A Kappa in Russia’, p. 123.
(обратно)142
Wright, pp. 33, 34.
(обратно)143
Thompson, p. 334.
(обратно)144
E. M. Almedingen, I Remember St Petersburg, pp. 186–187.
(обратно)145
Wright, p. 34.
(обратно)146
Там же; Thompson, p. 37; Harrison E. Salisbury, указ. соч., p. 322.
(обратно)147
Mission, p. 59 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006). Семья Уишоу являлась старинной семьей британской колонии, чья компания «Хиллз энд Уишоу» принимала участие в эксплуатации нефтяных месторождений в Баку. Стелла Арбенина (она же баронесса Мейендорф), представленная в этой книге, была членом семьи Уишоу.
(обратно)148
Thompson, p. 33.
(обратно)149
Там же, p. 37; Harper, p. 24.
(обратно)150
Paleologue, p. 796.
(обратно)151
Там же, стр. 797.
(обратно)152
Советник британского посольства Фрэнсис Линдли отметил в своих воспоминаниях, что доклад об итогах визита делегации, подготовленный для британского Министерства иностранных дел, который был гораздо более оптимистичным, чем доклад, направленный из посольства, был отпечатан и доставлен в Министерство иностранных дел как раз к моменту начала революции. Его были вынуждены поспешно изъять и утаить. Francis Oswald Lindley, untitled memoirs, p. 28.
(обратно)153
Paleologue, p. 808.
(обратно)154
Согласно статистическим данным о погоде в России в 1917 году, в среднем температура была минус 13,44 градуса по Цельсию, и ее существенное повышение (например, согласно источникам: Orlando Figes, People’s Tragedy, p. 308; Richard Pipes, Russian Revolution, p. 274), которое было отмечено в пятницу, 24 февраля, на самом деле началось лишь в понедельник, 27 февраля, когда температура наконец-то поднялась выше нуля, до 0,03 °C. Существенно выше нуля она не поднималась до 13 марта, и лишь в этот день она наконец достигла 8 °C. Более подробно см: «Еженедельник статистического отделения Петроградской городской управы», 1917, вып. 5, стр. 13.
(обратно)155
Robert Wilton, Russia’s Agony, p. 104; Fleurot, p. 118; Wright, p. 42.
(обратно)156
Thompson, p. 39.
(обратно)157
Fleurot, p. 118; Alban Gordon, Russian Year: A Calendar of the Revolution, p. 97.
(обратно)158
Thompson, p. 41.
(обратно)159
Thompson, p. 41.
(обратно)160
Tsuyoshi Hasegawa, The February Revolution, Petrograd, 1917, p. 217; Rochelle Goldberg Ruthchild, ‘Women’s Suffrage and Revolution in the Russian Empire 1905–1917’, Aspasia, 1, 2007, p. 18; Thompson, p. 43.
(обратно)161
Harper, p. 26.
(обратно)162
Там же, стр. 27.
(обратно)163
Thompson, p. 43; Harper, p. 27.
(обратно)164
Thompson, p. 44.
(обратно)165
Harrison E. Salisbury, Black Night, White Snow, p. 337.
(обратно)166
Robert Wilton, указ. соч., p. 105.
(обратно)167
Thompson, p. 44; May Pearse, diary, 24 February 1917.
(обратно)168
Thompson, pp. 46–47.
(обратно)169
Charles Rivet, Last of the Romanofs, p. 171; Rupert Hart-Davis, Hugh Walpole, p. 159; Lyndall Crossthwaite Pocock MS diary, n.p.
(обратно)170
Wright, p. 43. Orlando Figes, People’s Tragedy, p. 308.
(обратно)171
Arthur Ransome, despatch 48, 23/24 February 1917.
(обратно)172
Thompson, p. 47.
(обратно)173
Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., pp. 224–225; Sir George Bury, ‘Report Regarding the Russian Revolution’, IV; Arno Dosch-Fleurot, ‘In Petrograd during the Seven Days’, p. 258. Fleurot, p. 118.
(обратно)174
См.: Harrison E. Salisbury, указ. соч., pp. 336–337. Плохая вода Северной столицы не позволяла обеспечить качественную выпечку в районе Зимнего дворца, что обусловливало необходимость ежедневных поставок железнодорожным транспортом продукции хлебопекарни Филиппова в Москве. См.: /
(обратно)175
Анонимный автор, ‘The Nine Days’, pp. 213, 214. К сожалению, оказалось невозможно установить, кто написал эту статью, но автор ведет речь о работе в здании компании «Зингер» на Невском проспекте, поэтому, вероятно, это был один из сотрудников консульства США или, возможно, сотрудник компании «Вестингауз», которая располагалась там же.
(обратно)176
Thompson, p. 48.
(обратно)177
Alban Gordon, Russian Year: A Calendar of the Revolution Russian, p. 97.
(обратно)178
Arthur Ransome, despatches 49 and 48; Frank Golder, War, Revolution and Peace in Russia, p. 34.
(обратно)179
Царица каждый день пунктуально записывала температуру в своем дневнике. Она отмечала, что в феврале она колебалась от минус 19 градусов (5 февраля) до минус 4,5 градуса по Цельсию (24 февраля). См., например, В. А. Козлов, В. М. Хрусталев, ред., «Последний дневник царицы Александры», London: Yale University Press, 1997 (V. A. Kozlov and V. M. Khrustalev, eds, The Last Diary of Tsaritsa Alexandra).
(обратно)180
Анонимный автор, ‘The Nine Days’, p. 213.
(обратно)181
Там же.
(обратно)182
Frank Golder, War, Revolution and Peace in Russia, p. 334.
(обратно)183
Fleurot, ‘Seven Days’, p. 258.
(обратно)184
Robien, p. 8.
(обратно)185
Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., p. 233.
(обратно)186
Там же, стр. 235.
(обратно)187
Robien, p. 8; Charles de Chambrun, Lettres а Marie, p. 55.
(обратно)188
Такая цифра приводится, в частности, в издании: Tsuyoshi Hasegawa February Revolution, p. 238.
(обратно)189
Marylie Markovitch [Amelie de Nery], La Revolution russe par une francaise, p. 17.
(обратно)190
Sir George Bury, ‘Report Regarding the Russian Revolution prepared at the request of the British War Cabinet’, V.
(обратно)191
Heald, p. 50; ‘From Our Own Correspondent [Robert Wilton], “The Outbreak of the Revolution”’, The Times, 21 [8] March 1917.
(обратно)192
Bert Hall, One Man’s War, pp. 267, 263.
(обратно)193
Edith Hegan, ‘Russian Revolution from a Window’, p. 556.
(обратно)194
Michael Harmer, Forgotten Hospital, p. 119; Olga Poutiatine, War and Revolution: Extracts from the Letters and Diaries of the Countess Olga Poutiatine, pp. 45–46.
(обратно)195
Dorothy Cotton, letter, 4 March 1917, Library Archives of Canada; Wilfred Blunt, Lady Muriel: Lady Muriel Paget, Her Husband, and Her Philanthropic Work in Central and Eastern Europe, p. 104.
(обратно)196
Thompson, p. 50.
(обратно)197
Patouillet, 1:55.
(обратно)198
Lady Sybil Grey, ‘Sidelights on the Russian Revolution’, p. 363.
(обратно)199
Harper, p. 29; Thompson, p. 49.
(обратно)200
Harper, pp. 28–29.
(обратно)201
Stinton Jones, p. 62.
(обратно)202
Fleurot, 123.
(обратно)203
[Wilton], ‘Russian Food problem’, The Times, 9 March 1917; [Wilton], ‘The Outbreak of the Revolution, The Times, 21 March 1917.
(обратно)204
Heald, p. 50.
(обратно)205
Rogers, 3:7, pp. 43–44.
(обратно)206
Thompson, p. 51.
(обратно)207
Charles de Chambrun, Lettres а Marie, p. 55.
(обратно)208
Patouillet, 1:56.
(обратно)209
Rogers, 3:7, p. 44.
(обратно)210
Rogers, 3:7, pp. 45–46; см. также: ‘C[hester] T. Swinnerton, ‘Letter from Petrograd, March 27(NS) 1917’, 2; неверно поставлена дата 12 марта по старому стилю – вместо 14 марта по старому стилю.
(обратно)211
Tsuyoshi Hasegawa, The February Revolution, Petrograd, 1917, p. 248; Wright, p. 43.
(обратно)212
Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., p. 249.
(обратно)213
Там же, стр. 251; Harrison E. Salisbury, Black Night, White Snow: Russia’s Revolutions 1905–1917, p. 342.
(обратно)214
Marylie Markovitch [Amelie de Nery], La Revolution russe par une francaise, p. 19; Harrison E. Salisbury, указ. соч., p. 342.
(обратно)215
Anet, p. 12.
(обратно)216
Leighton Rogers, ‘An Account of the March Revolution, 1917’, p. 7.
(обратно)217
Thompson, p. 53.
(обратно)218
Alban Gordon, Russian Year: A Calendar of the Revolution, p. 103.
(обратно)219
Thompson, pp. 54, 57; Harper, pp. 29–30.
(обратно)220
Harper, p. 31.
(обратно)221
Thompson, p. 58, Harper, p. 31.
(обратно)222
Patouillet, 1:60; Anon., ‘Nine Days’, p. 214; Thompson, p. 58.
(обратно)223
Harper, pp. 32, 33.
(обратно)224
Rogers, 3:7, p. 46.
(обратно)225
A. E. Reinke, ‘My Experiences in the Russian Revolution’, p. 9.
(обратно)226
Anet, p. 13.
(обратно)227
Thompson, p. 59; Rogers, 3:7, p. 46.
(обратно)228
Leighton Rogers, ‘An Account of the March Revolution, 1917’, pp. 8–9; Rogers, 3:7, p. 46; см. также: Stopford, p. 102.
(обратно)229
Edith Hegan, ‘The Russian Revolution from a Window’, p. 556.
(обратно)230
Fleurot, p. 122; Thompson, pp. 60–61.
(обратно)231
Stopford, p. 103. В хранящемся в Национальном архиве документе под номером KV2/2398 раскрываются детали первой поездки Стопфорда в Россию в 1916 году и высказывается предположение, что он в неофициальном порядке шпионил / следил за Бьюкененом. В России он был хорошо знаком с бисексуалом Феликсом Юсуповым (в данном документе из Национального архива о гомосексуализме Стопфорда упоминается в завуалированной реплике, что он был «эксцентричным чудаком»). У Стопфорда имелся также значительный опыт в приобретении работ Фаберже для французского Дома по производству часов и ювелирных изделий «Картье». В июле 1917 года ему удалось незамеченным попасть во дворец великой княгини Марии Павловны и спасти из сейфа ее лучшие драгоценности, а в последующем вывезти их из России. Среди этих драгоценностей была, в частности, тиара, которую затем приобрел король Георг V; ее до сих пор носит королева Елизавета II. В 1918 году против Стопфорда было возбуждено уголовное дело, его обвинили в совершении гомосексуальных преступлений и на один год заключили в тюрьму «Уормвуд-Скрабс» (Англия). Выйдя из заключения, он поселился в Париже. Более подробная информация о его жизни (бо́льшая часть которой остается скрытой от посторонних глаз) представлена в издании: William Clarke, Hidden Treasures of the Romanovs: Saving the Royal Jewels.
(обратно)232
Thompson, pp. 60–61.
(обратно)233
В некоторых более поздних описаниях событий Февральской революции отрицается наличие пулеметов, однако многочисленные очевидцы свидетельствуют о том, что они все же были размещены на крышах домов. См., например, издание: John Pollock, ‘The Russian Revolution: A Review by an Onlooker’. В этой книге, написанной непосредственным очевидцем тех событий, утверждается, что «по распоряжению Протопопова полиция установила пулеметы на крышах зданий на углу каждой важной улицы». Автор считает, что именно в результате этого просчета революция имела успех: «Если бы полицейские были должным образом размещены на улицах в стратегических важных точках и между полицейскими и жандармами (общей численностью около пятидесяти тысяч человек) было бы организовано голосовое взаимодействие, они могли бы полностью очистить улицы; когда же их митральезы были расположены на мансардах и за парапетом, то им было чрезвычайно трудно вести эффективный огонь по своим целям»; pp. 1070–1071. В отчете сэра Джорджа Бери (Sir George Bury: ‘Report Regarding the Russian Revolution prepared at the request of the British War Cabinet, 5 April 1917’) также содержатся многочисленные упоминания о создании пулеметных огневых точек.
(обратно)234
Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., p. 252; Gordon, указ. соч., pp. 101, 102.
(обратно)235
Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., p. 263; Richard Pipes, The Russian Revolution 1899–1919, p. 276; Joseph Fuhrman, ed., The Complete Wartime Correspondence of Tsar Nicholas II and the Empress Alexandra, Westport, CT: Greenwood Press, 1999, p. 692.
(обратно)236
Thompson, p. 62.
(обратно)237
Paulette Pax, Journal d’une comédienne française sous la terreur bolchévique, pp. 11–12.
(обратно)238
Arthur Ransome: telegram despatches to the Daily News December 1916 – December 1917, Despatch 50, 25 February, 11.00 p. m.
(обратно)239
A. E. Reinke, указ. соч., p. 9.
(обратно)240
Доклад Дж. Батлера Райта послу Дэвиду Р. Фрэнсису от 10/23 марта 1917 года содержится в издании: Jamie H. Cockfield, Dollars and Diplomacy: Ambassador David Rowland Francis and the Fall of Tsarism, 1916—17, p. 113.
(обратно)241
Thompson, p. 63.
(обратно)242
Paul Wharton [pseudonym of Philip H. Chadbourn], ‘The Russian Ides of March: A Personal Narrative’, pp. 22–23.
(обратно)243
Hasegawa, указ. соч., p. 265.
(обратно)244
Там же, стр. 267.
(обратно)245
Gordon, указ. соч., p. 105.
(обратно)246
Thompson, p. 64.
(обратно)247
См.: Patouillet, 1:59–60.
(обратно)248
Henry V. Keeling, Bolshevism: Mr Keeling’s Five Years in Russia, p. 76.
(обратно)249
Harper, p. 37; Patouillet, 1:162.
(обратно)250
Неизвестный автор, The Nine Days’, p. 215.
(обратно)251
Представляется маловероятным, чтобы Томпсон смог сделать какие-либо удачные снимки уличных боев, поскольку он не включил ни один из подобных снимков в свою подборку фотографий, освещавших революционные события и опубликованных в книге “Blood-Stained Russia” (была издана в 1918 году). Ему удалось сделать несколько статических снимков тел в моргах и похорон жертв революции, но его основной успех как фотографа пришел к нему в мае – июне 1917 года, когда в западных средствах массовой информации был опубликован его фоторепортаж о встрече Эммелин Панкхерст и Марии Бочкаревой и о посещении Эммелин Панкхерст «женского батальона смерти».
(обратно)252
Thompson, pp. 64, 67; Harper, pp. 37–38.
(обратно)253
Harper, pp. 39–40; Thompson, pp. 69–70.
(обратно)254
Dorothy Cotton, letter of 4 March OS (в самом письме его автор ориентируется на календарь по новому стилю); Lady Sybil Grey, ‘Sidelights on the Russian Revolution’, p. 363; Robert Wilton, Russia’s Agony, p. 109 (автор утверждает, что только в ходе одного этого инцидента погибло около 100 человек).
(обратно)255
Olga Poutiatine, War and Revolution: Extracts from the Letters and Diaries of the Countess Olga Poutiatine, pp. 47–48; Edith Hegan, указ. соч., p. 557.
(обратно)256
Edith Hegan, указ. соч., p. 558.
(обратно)257
Paul Wharton [pseudonym of Philip H. Chadbourn], указ. соч., p. 24.
(обратно)258
Edith Hegan, указ. соч., p. 558.
(обратно)259
Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., p. 268; Lady Sybil Grey, ‘Sidelights on the Russian Revolution’, p. 364; Anet, p. 16.
(обратно)260
‘From Our Own Correspondent’ – Robert Wilton’s report for TheTimes, 16 March (NS) (его первое сообщение, попавшее в редакцию и опубликованное в Великобритании); см. также: Robert Wilton, указ. соч., p. 110.
(обратно)261
Joseph Clare, ‘Eye witness of the Revolution’ (не опубликовано).
(обратно)262
Robert Wilton, указ. соч., p. 110; Marylie Markovitch [Amelie de Nery], La Revolution russe par une francaise, p. 24; неизвестный автор, ‘The Nine Days’, p. 215; Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., pp. 268–269.
(обратно)263
Paul Wharton [pseudonym of Philip H. Chadbourn], ‘Russian Ides of March’, p. 24.
(обратно)264
C[hester] T. Swinnerton, ‘Letter from Petrograd, March 27(NS) 1917’, p. 3.
(обратно)265
Arthur Ransome: telegram despatches to the Daily News December 1916 – December 1917, Despatch 52.
(обратно)266
Harper, pp. 41–42.
(обратно)267
Robert Wilton, указ. соч., p. 109; см. также: Wilton’s report in The Times, 16 March 1917.
(обратно)268
Robert Wilton in The Times, 16 March 1917; Lady Georgina Buchanan, ‘From the Petrograd Embassy’, p. 19.
(обратно)269
Robert Wilton, указ. соч., p. 109.
(обратно)270
Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., pp. 272–273.
(обратно)271
Paulette Pax, указ. соч., pp. 16–18.
(обратно)272
Fleurot, pp. 124–125; Stella Arbenina [Baroness Meyendorff], Through Terror to Freedom, p. 34.
(обратно)273
Anet, p. 11; Stopford, p. 108.
(обратно)274
Paleologue, p. 811; Chambrun, Lettres а Marie, p. 57. Поразительно напоминая события в Петрограде 1917 года, в тот же день в 1789 году состоялась демонстрация француженок, протестовавших против высокой стоимости хлеба и усиления голода в Париже; эта демонстрация завершилась походом на Версаль.
(обратно)275
Stella Arbenina [Baroness Meyendorff], указ. соч., pp. 34–35; Anet, p. 15.
(обратно)276
Norman Armour, ‘Recollections of Norman Armour of the Russian Revolution’, p. 5.
(обратно)277
Leighton Rogers, ‘Account of the March Revolution’, p. 11; Anet, p. 11; Chambrun, Lettres а Marie, p. 57.
(обратно)278
Isaac Marcosson, The Rebirth of Russia, pp. 47–49; Robert Wilton, указ. соч., p. 112; Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., p. 275.
(обратно)279
Thompson, pp. 72, 73.
(обратно)280
Rogers 3:7, p. 48.
(обратно)281
C[hester] T. Swinnerton, ‘Letter from Petrograd, March 27(NS) 1917’, 4; Rogers 3:7, pp. 46–47.
(обратно)282
Описание банка приводится в издании: John Louis Hilton Fuller, ‘The Journal of John L. H. Fuller While in Russia’, pp. 9—10, а также в письмах Фуллера к своему брату от 19 [6] сентября в издании: John Louis Hilton Fuller, ‘Letters and Diaries of John L. H. Fuller 1917–1920’, p. 20.
(обратно)283
Rogers, 3:7, pp. 46–47.
(обратно)284
Jamie H. Cockfield, Dollars and Diplomacy: Ambassador David Rowland Francis and the Fall of Tsarism, 1916—17, p. 89.
(обратно)285
Isaac Marcosson, ‘The Seven Days’, 262.
(обратно)286
Petrograd, p. 96.
(обратно)287
Там же, стр. 97; Paul Wharton [pseudonym of Philip H. Chadbourn], ‘The Russian Ides of March: A Personal Narrative’, p. 24.
(обратно)288
Доклад Батлера Райта, приводится в издании: Jamie H. Cockfield, указ. соч., p. 115.
(обратно)289
Mission, p. 63; Paleologue, pp. 814–815.
(обратно)290
Paleologue, p. 816.
(обратно)291
Arno Dosch-Fleurot, ‘In Petrograd during the Seven Days’, p. 260; Fleurot, p. 126; см. также: Tsuyoshi Hasegawa, The February Revolution, Petrograd, 1917, p. 278–281.
(обратно)292
Paleologue, p. 813.
(обратно)293
Isaac Marcosson, Rebirth of Russia, p. 52.
(обратно)294
Thompson, p. 78.
(обратно)295
Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., p. 286.
(обратно)296
Isaac Marcosson, ‘The Seven Days’, p. 35; Isaac Marcosson, Rebirth of Russia, p.52; Rupert Hart-Davis, Hugh Walpole, p. 458.
(обратно)297
General Sir Alfred Knox, With the Russian Army 1914–1917, pp. 553–554; как отмечал сэр Джордж Бьюкенен в шифрованной телеграмме в Министерство иностранных дел, «опасность заключается в том, что у них нет лидеров. Я видел сегодня около 3000 человек, и среди них был лишь один молодой офицер». FO report, 12/27 March, p. 299, The National Archives.
(обратно)298
General Sir Alfred Knox, указ. соч., pp. 554–555; Stinton Jones, pp. 107–108.
(обратно)299
Stinton Jones, pp. 108–109.
(обратно)300
Alban Gordon, Russian Year: A Calendar of the Revolution, p. 110; Anet, p. 23.
(обратно)301
Thompson, p. 81.
(обратно)302
Anet, pp. 19–20.
(обратно)303
Thompson, pp. 81–82.
(обратно)304
Paleologue, p. 814; Gordon, указ. соч., p. 110; Robien, p. 12.
(обратно)305
Anet, p. 22; доклад Батлера Райта Фрэнсису, цит. по: Jamie H. Cockfield, указ. соч., pp. 114–115.
(обратно)306
Paul Wharton [pseudonym of Philip H. Chadbourn], указ. соч., p. 24.
(обратно)307
Rupert Hart-Davis, Hugh Walpole, p. 454.
(обратно)308
Stinton Jones, p. 120.
(обратно)309
A. E. Reinke, ‘My Experiences in the Russian Revolution’, p. 11; Alban Gordon, указ. соч., p. 109.
(обратно)310
Edith Hegan, ‘The Russian Revolution from a Hospital Window’, pp. 558–559.
(обратно)311
Fleurot, p. 130.
(обратно)312
Stinton Jones, p. 131.
(обратно)313
См.: Olga Poutiatine, War and Revolution: Extracts from the Letters and Diaries of the Countess Olga Poutiatine, pp. 50–51; Isaac Marcosson, Rebirth of Russia, p. 56; Arno Dosch-Fleurot,‘In Petrograd during the Seven Days’, p. 262.
(обратно)314
General Sir Alfred Knox, указ. соч., 554—5; см. также: Stinton Jones, pp. 107–108.
(обратно)315
William J. Gibson, Wild Career: My Crowded Years of Adventure in Russia and the Near East, p. 127.
(обратно)316
Joseph Vecchi, The Tavern is My Drum: My Autobiography, p. 122; Stinton Jones, p. 110.
(обратно)317
Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., p. 287; Henry V. Keeling, Bolshevism: Mr Keeling’s Five Years in Russia, pp. 86, 85.
(обратно)318
Rev. Bousfield Swan Lombard, ‘Things I Can’t Forget’, pp. 92, 90; Stinton Jones, p. 144.
(обратно)319
Negley Farson, The Way of a Transgressor, p. 187.
(обратно)320
James Stinton Jones, Czar Looked Over My Shoulder’, p. 97; William J. Gibson, Wild Career: My Crowded Years of Adventure in Russia and the Near East, p. 135.
(обратно)321
Arno Dosch-Fleurot Fleurot, ‘In Petrograd during the Seven Days’, p. 261.
(обратно)322
Colonel Osborn Springfield, ‘Recollections of Russia’, неопубликовано.
(обратно)323
Francis Oswald Lindley, неопубликованные воспоминания, стр. 29.
(обратно)324
Mrs May Pearse, ‘Den-za-den’, diary, 27 February/12 March; C[hester] T. Swinnerton, ‘Letter from Petrograd’, p. 4.
(обратно)325
Stinton Jones, pp. 134, 132–133.
(обратно)326
Dorothy Seymour, MS diary for 12 March [27 February].
(обратно)327
Rev. Bousfield Swan Lombard, ‘Things I Can’t Forget’, pp. 92–93.
(обратно)328
Dorothy Seymour, MS diary for 12 March [27 February]; Edith Hegan, ‘The Russian Revolution from a Hospital Window’, p. 558.
(обратно)329
Согласно изданию: Olga Poutiatine, War and Revolution: Extracts from the Letters and Diaries of the Countess Olga Poutiatine, p. 55, оказалось, что пулеметы стреляли по улице из окна дома по соседству с Англо-русским госпиталем на стороне Фонтанки и что там были еще две огневые точки «на чердаке высотного дома на Невском, наискосок от нас».
(обратно)330
Дневник Сибил Грей, цит. по: Wilfred Blunt, Lady Muriel: Lady Muriel Paget, Her Husband, and Her Philanthropic Work in Central and Eastern Europe, p. 104.
(обратно)331
Dorothy Cotton, letter of 4 March, p. 3; Dorothy Seymour, цит. по: Joyce Wood, ‘The Revolution outside Her Window: New Light shed on the March 1917 Russian Revolution from the papers of VAD nurse Dorothy N. Seymour’, p. 80; см. также: Lyndall Crossthwaite Pocock, MS diary for Monday 27 February.
(обратно)332
Paulette Pax, Journal d’une comédienne française sous la terreur bolchévique, pp. 18–23.
(обратно)333
Isaac Marcosson, Rebirth of Russia, p. 56.
(обратно)334
Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., p. 296; Stinton Jones, p. 153.
(обратно)335
Hugh Walpole, Secret City, p. 255.
(обратно)336
См.: Henry V. Keeling, указ. соч., pp. 82, 85; Stinton Jones, pp. 124–125, 164; Isaac Marcosson, указ. соч., pp. 35, 54; Rupert Hart-Davis, Hugh Walpole, A Biography, p. 460.
(обратно)337
Anet, p. 23; John Pollock, указ. соч., p. 158.
(обратно)338
H. E. Metcalf, On Britain’s Business, p. 47.
(обратно)339
James Stinton Jones, указ. соч., p. 97; Joseph Clare, ‘Eye Witness of the Russian Revolution’.
(обратно)340
Dissolution, p. 166.
(обратно)341
Цит. по: Sandra Martin and Roger Hall (eds), Where Were You? Memorable Events of the Twentieth Century, Toronto: Methuen, 1981, p. 220.
(обратно)342
Walpole, ‘Official Account of the First Russian Revolution’, p. 460; Stinton Jones, p. 142.
(обратно)343
Fleurot, p. 128.
(обратно)344
Там же.
(обратно)345
Там же.
(обратно)346
Dosch-Fleurot, Arno, ‘In Petrograd during the Seven Days’, p. 262; Isaac Marcosson, указ. соч., p. 60.
(обратно)347
Fleurot, pp. 128–129.
(обратно)348
Joseph Vecchi, The Tavern is My Drum: My Autobiography, p. 125; см. также: Stinton Jones, pp. 150–151.
(обратно)349
Анонимный автор, ‘The Nine Days’, p. 215.
(обратно)350
См. его доклад в: Francis, pp. 60–62.
(обратно)351
Tsuyoshi Hasegawa, указ. соч., pp. 292–293; Joseph Vecchi, указ. соч., p. 124; Robert Wilton, Russia’s Agony, pp. 122–123.
(обратно)352
Stinton Jones, pp. 140–141.
(обратно)353
Bert Hall, One Man’s War: The Story of the Lafayette Escadrille, pp. 269–270.
(обратно)354
Paul Wharton [pseudonym of Philip H. Chadbourn], ‘The Russian Ides of March: A Personal Narrative’, p. 26.
(обратно)355
Там же.
(обратно)356
C[hester] T. Swinnerton, ‘Letter from Petrograd’, pp. 4, 5.
(обратно)357
Locker Lampson, ‘Report on the Russian Revolution, April 1917’, p. 240, Michael Kettle, The Allies and the Russian collapse March 1917-March 1918; p. 14.
(обратно)358
William J. Gibson, указ. соч., p. 129; General Sir Alfred Knox, указ. соч., p. 560.
(обратно)359
Sir George Bury: ‘Report Regarding the Russian Revolution prepared at the request of the British War Cabinet’, XIII.
(обратно)360
Dissolution, p. 168.
(обратно)361
Paul Wharton [pseudonym of Philip H. Chadbourn], ‘The Russian Ides of March: A Personal Narrative’, pp. 26–27.
(обратно)362
Fred Morris Dearing, неизданные мемуары, p. 242; Dissolution, p. 167.
(обратно)363
Dissolution, p. 170.
(обратно)364
C[hester] T. Swinnerton, ‘Letter from Petrograd’, p. 7.
(обратно)365
Paleologue, p. 819.
(обратно)366
Dissolution, pp. 169–170; Mission, p. 66 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006).
(обратно)367
North Winship telegram to the American Secretary of State, 20 [3] March 1917;
(обратно)368
Houghteling, p. 115.
(обратно)369
Locker Lampson, ‘Report on the Russian Revolution’, p. 240; Olga Poutiatine, War and Revolution: Extracts from the Letters and Diaries of the Countess Olga Poutiatine, p. 52.
(обратно)370
Locker Lampson, указ. соч., pp. 241, 214.
(обратно)371
Heald, Witness to Revolution, pp. 57–58.
(обратно)372
Locker Lampson, указ. соч., p. 242.
(обратно)373
Thompson, pp. 89–90.
(обратно)374
Locker Lampson, указ. соч., p. 243.
(обратно)375
Sir George Bury, указ. соч., XV–XVI.
(обратно)376
Lady Sybil Grey, ‘Sidelights on the Russian Revolution’, p. 365.
(обратно)377
Harper, p. 50.
(обратно)378
Stinton Jones, p. 165.
(обратно)379
Harper, p. 51.
(обратно)380
Robert Wilton, Russia’s Agony, p. 124; Lady Sybil Grey, указ. соч., p. 365; Hugh Walpole, ‘Official Report’, in Hart-Davis, Hugh Walpole, pp. 464–465.
(обратно)381
Stinton Jones, p. 165; Olga Poutiatine, War and Revolution: Extracts from the Letters and Diaries of the Countess Olga Poutiatine, p. 53.
(обратно)382
C[hester] T. Swinnerton, указ. соч., p. 6; Leighton Rogers, ‘Account of the March Revolution’, p. 16.
(обратно)383
Locker Lampson, указ. соч., p. 244.
(обратно)384
Joseph Vecchi, Tavern is My Drum: My Autobiography, pp. 130–131.
(обратно)385
Hugh Walpole, ‘Official Report’, in Hart-Davis, Hugh Walpole, p. 465.
(обратно)386
Locker Lampson, указ. соч., p. 244.
(обратно)387
Там же; Harper, p. 52.
(обратно)388
Joseph Vecchi, указ. соч., p. 131.
(обратно)389
Lady Sybil Grey, указ. соч., p. 366.
(обратно)390
Harper, p. 56; Stinton Jones, p. 166.
(обратно)391
Houghteling, 149. В статье для издания “World’s Work”, которая была опубликована 21 апреля (по новому стилю) под названием «Как пал царизм» (“How Tsardom Fell”), Арно Дош-Флеро следующим образом прокомментировал благо от запрета спиртного: «Только трезвые люди могли бы осуществить революцию. Если бы население Петрограда и других городов было бы одурманено алкоголем, революция не смогла бы таким удивительным образом обойтись без масштабных кровавых эксцессов».
(обратно)392
Joseph Vecchi, указ. соч., pp. 130–131; Harper, p. 53; Ysabel Birkbeck, цит. по: Audrey Cahill, Between the Lines: Letters and Diaries from Elsie Inglis’s Russian Unit, p. 227.
(обратно)393
Houghteling, p. 115.
(обратно)394
Harper, pp. 56, 59.
(обратно)395
Harper, pp. 54, 53; Robert Wilton, указ. соч., p. 126.
(обратно)396
Harper, pp. 52, 54.
(обратно)397
Hugh Walpole, ‘Denis Garstin and the Russian Revolution’, p. 591.
(обратно)398
Луизетт Эндрюс (Louisette Andrews), интервью с Джоан Бейкуэлл (Joan Bakewell) на радиостанции “BBC2” в 1977 году.
(обратно)399
Edith Hegan, ‘Russian Revolution from a Hospital Window’, pp. 559, 560.
(обратно)400
Tsuyoshi Hasegawa, February Revolution, Petrograd, 1917, pp. 289—90.
(обратно)401
Dorothy Seymour, MS diary for 13 March [28 February].
(обратно)402
Leighton Rogers, ‘Account of the March Revolution’, p. 14; Rogers, 3:7, p. 52.
(обратно)403
C[hester] T. Swinnerton, ‘Letter from Petrograd’, pp. 8–9; см. также описание Лейтона Роджерса в документе: Rogers, 3:7, p. 59; см. также издание: Stopford, p. 118.
(обратно)404
Rogers, 3:7, p. 57; Charles de Chambrun, Lettres а Marie, Petersbourg-Petrograde 1914–1918, p. 63.
(обратно)405
Countess Lili Nostitz, Romance and Revolutions, p. 187. В издании Dissolution, стр. 172, и в издании Petrograd, стр. 105, Мэриэл Бьюкенен опровергает это; см. также: Stopford, p. 110. Что касается оценки Босфилда Свана Ломбарда, то она представлена в издании: Bousfield Swan Lombard, ‘Things I Can’t Forget,’ p. 97.
(обратно)406
Countess Lili Nostitz, указ. соч., p. 185.
(обратно)407
Ella Cordasco (Woodhouse), ‘Recollections of the Russian Revolution’ (online memoir).
(обратно)408
Houghteling, p. 77.
(обратно)409
Margaret Bennet, MS letter 2/15 March.
(обратно)410
Sir George Bury, указ. соч., XII–XIV; Arthur Ransome, Despatch, p. 54; Houghteling, p. 76.
(обратно)411
Stinton Jones, p. 167, 267–268; Marylie Markovitch [Amelie de Nery], La Revolution russe, p. 42.
(обратно)412
Marylie Markovitch [Amelie de Nery], указ. соч., p. 64.
(обратно)413
Stinton Jones, p. 264; Dorothy Seymour, MS diary for 2 March; Leighton Rogers, ‘Account of the March Revolution’, p. 15.
(обратно)414
Hugh Walpole, ‘Official Account of the First Russian Revolution’, pp. 464–465.
(обратно)415
См.: Paleologue, p. 824.
(обратно)416
Robert Wilton, Russia’s Agony, p. 127.
(обратно)417
Houghteling, pp. 80, 82; Marylie Markovitch [Amelie de Nery], La Revolution russe, p. 62.
(обратно)418
Anet, p. 28.
(обратно)419
Leighton Rogers, ‘Account of the March Revolution, 1917’, p. 21.
(обратно)420
Houghteling, pp. 80, 81.
(обратно)421
Sir George Bury, ‘Report Regarding the Russian Revolution prepared at the request of the British War Cabinet, 5 April 1917’, XXIII–XXIV; T. Murray Hunter, ‘Sir George Bury and the Russian Revolution’, p. 67.
(обратно)422
Sir George Bury, указ. соч., XXIV; Rupert Hart-Davis, Hugh Walpole, A Biography, pp. 257–258.
(обратно)423
Hugh Walpole, Secret City, pp. 257—8; см. также: Anet, p. 29.
(обратно)424
Richard Pipes, The Russian Revolution 1899–1919, p. 291.
(обратно)425
Major-General Sir Alfred Knox, With the Russian Army 1914–1917, pp. 561, 562.
(обратно)426
Alban Gordon, Russian Year: A Calendar of the Revolution, p. 124; Sir George Bury, указ. соч., XXV.
(обратно)427
Anet, pp. 23, 30; Charles Rivet, Last of the Romanofs, p. 176; Sukhanov, Russian Revolution, p. 88.
(обратно)428
Anet, p. 31.
(обратно)429
Charles Rivet, указ. соч., p. 216.
(обратно)430
John Pollock, ‘The Russian Revolution: A Review by an Onlooker’, p. 1075.
(обратно)431
Houghteling, p. 100. Намерения Протопопова изложены в издании: Lady Sybil Grey, ‘Sidelights on the Russian Revolution’, p. 368.
(обратно)432
Hugh Walpole, ‘Official Account’, p. 463; Hugh Walpole, Secret City, pp. 228, 258–259.
(обратно)433
Hugh Walpole, Secret City, pp. 258–259.
(обратно)434
Paleologue, p. 820.
(обратно)435
John Pollock, указ. соч., p. 1076.
(обратно)436
См.: Richard Pipes, указ. соч., pp. 304–307.
(обратно)437
Harvey Pitcher, When Miss Emmie Was in Russia: English Governesses Before, During and After the October Revolution, p. 13; Dawe, Looking Back, p. 19.
(обратно)438
Harper, pp. 59–60.
(обратно)439
Rogers, 3:7, pp. 54–55.
(обратно)440
C[hester] T. Swinnerton, ‘Letter from Petrograd’, p. 7.
(обратно)441
Harper, p. 66.
(обратно)442
Bert Hall, One Man’s War: The Story of the Lafayette Escadrille, p. 272.
(обратно)443
Stinton Jones, p. 185; Marylie Markovitch [Amelie de Nery], La Revolution russe par une francaise, p. 76.
(обратно)444
Barnes, p. 226; Francis, p. 72.
(обратно)445
Letter to Edith Chibnall, 14 March 1917, at: / Wbowerman.htm; Anon., ‘Nine Days’, 216.
(обратно)446
Heald, pp. 61, 64.
(обратно)447
John Pollock, указ. соч., p. 1074.
(обратно)448
Locker Lampson, цит. по: Michael Kettle, The Allies and the Russian collapse March 1917 – March 1918, p. 45.
(обратно)449
Colonel Osborn Springfield, ‘Recollections of Russia’.
(обратно)450
Анонимный автор, ‘The Nine Days’, p. 216.
(обратно)451
Marylie Markovitch, [Amelie de Nery], La Revolution russe par une francaise, p. 60; Patouillet, 1:72–73; Paleologue, p. 823.
(обратно)452
C[hester] T. Swinnerton, указ. соч., p. 6.
(обратно)453
Paul Wharton [pseudonym of Philip H. Chadbourn], ‘The Russian Ides of March: A Personal Narrative’, p. 28.
(обратно)454
Там же.
(обратно)455
Anet, p. 39–40.
(обратно)456
Dissolution, p. 175.
(обратно)457
Richard Pipes, The Russian Revolution 1899–1919, p. 310–313.
(обратно)458
Arthur Ransome: telegram despatches to the Daily News December 1916 – December 1917, despatch 67, 18 [5] March.
(обратно)459
Paleologue, p. 830; Edith Hegan, ‘Russian Revolution through a Hospital Window’, p. 559; Anet, p. 63; неизвестный автор, ‘The Nine Days’, p. 217.
(обратно)460
Thompson, pp. 114; 123, 124.
(обратно)461
Anet, p. 53.
(обратно)462
Roland Chambers, The Last Englishman: The Double Life of Arthur Ransome, p. 136. Richard Pipes, указ. соч., p. 300. Orlando Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891–1924, p. 336.
(обратно)463
Frank Golder, War, Revolution and Peace in Russia: The Passages of Frank Golder, 1914–1927, p. 54; William Oudendyk, [Willem Jacob Oudendijk], Ways and By-ways in Diplomacy, p. 218.
(обратно)464
Hugh Walpole, ‘Official Account of the First Russian Revolution’, Appendix B, in Rupert Hart-Davis, p. 468.
(обратно)465
Paul Wharton [pseudonym of Philip H. Chadbourn], указ соч., p. 30; Anet, p. 55.
(обратно)466
Anet, p. 96.
(обратно)467
Houghteling, p. 130; Frank Golder, указ. соч., p. 53.
(обратно)468
Paleologue, pp. 835, 837, 838.
(обратно)469
Fleurot, p. 139.
(обратно)470
Anet, pp. 106, 107; Bert Hall, One Man’s War: The Story of the Lafayette Escadrille, p. 273.
(обратно)471
Isaac Marcosson, Rebirth of Russia, p. 121; Sir George Buchanan, FO report no. 374, 9/22 March, 121, TNA; Bert Hall, указ. соч., p. 273.
(обратно)472
См.: Petrograd, p. 107; Michael Harmer, Forgotten Hospital, p. 123; Wilfred Blunt, Lady Muriel: Lady Muriel Paget, Her Husband, and Her Philanthropic Work in Central and Eastern Europe, p. 105.
(обратно)473
Robert Edward Crozier Long, Russian Revolution Aspects, pp. 108–109; Edith Hegan, ‘Revolution from a Hospital Window’, p. 561; Geoffrey Jefferson, So That Was Life, p. 101; Olga Poutiatine, War and Revolution: Extracts from the Letters and Diaries of the Countess Olga Poutiatine, p. 58.
(обратно)474
Houghteling, p. 139; Stinton Jones, p. 223; Paul Wharton [pseudonym of Philip H. Chadbourn], указ. соч., p. 28.
(обратно)475
Isaac Marcosson, указ. соч., p. 123; см. также: Heald, p. 64.
(обратно)476
Robert Edward Crozier Long, указ. соч., p. 108–109.
(обратно)477
См.: Petrograd, p. 107.
(обратно)478
Robien, p. 22; Frank Golder, указ. соч., p. 39; Isaac Marcosson, указ. соч., p. 123.
(обратно)479
Heald, p. 66.
(обратно)480
Dissolution, p. 201; Crosley, p. 16.
(обратно)481
Dissolution, pp. 201–202.
(обратно)482
Heald, p. 67; Jamie H. Cockfield, Dollars and Diplomacy: Ambassador David Rowland Francis and the Fall of Tsarism, 1916–1917, p. 100.
(обратно)483
Arthur Ransome, указ. соч., Despatch 67, 18 [5] March; Isaac Marcosson, указ. соч., pp. 114, 119.
(обратно)484
William Oudendyk, [Willem Jacob Oudendijk], указ. соч., pp. 213–214, 216.
(обратно)485
Paleologue, pp. 847–848.
(обратно)486
Stinton Jones, pp. 275–276, 278.
(обратно)487
Там же, стр. 246; Houghteling, p. 162.
(обратно)488
Houghteling, p. 142; Anet, p. 48.
(обратно)489
21 марта (по новому стилю), цит. по: Harvey Pitcher, Witnesses of the Russian Revolution, pp. 51, 52.
(обратно)490
Robert Edward Crozier Long, указ. соч., p. 5.
(обратно)491
Isaac Marcosson, указ. соч., v.
(обратно)492
Там же; Isaac Frederick Marcosson, Adventures in Interviewing, p. 164.
(обратно)493
Там же; Isaac Marcosson, Rebirth of Russia, pp. 125–126.
(обратно)494
Negley Farson, Way of a Transgressor, p. 276.
(обратно)495
E[dward] P[ercy] Stebbing, From Czar to Bolshevik, pp. 89–90.
(обратно)496
Thompson, p. 125; Oudendyk, указ. соч., p. 216.
(обратно)497
H. E. Metcalf, On Britain’s Business, p. 48.
(обратно)498
Isaac Marcosson, Rebirth of Russia, p. 129.
(обратно)499
Anet, p. 71.
(обратно)500
Henry V. Keeling, Bolshevism: Mr Keeling’s Five Years in Russia, pp. 90–91.
(обратно)501
См.: Houghteling, pp. 144–147.
(обратно)502
Harvey Pitcher, Witnesses of the Russian Revolution, p. 63.
(обратно)503
David S. Foglesong, ‘A Missouri Democrat in Revolutionary Russia: Ambassador David R. Francis and the American Confrontation with Russian Radicalism, 1917’, p. 28; Barnes, p. 229.
(обратно)504
Houghteling, p. 165.
(обратно)505
Цитируется по изданию: George Kennan, Russia Leaves the War: Soviet-American Relations 1917–1920, p. 38.
(обратно)506
Houghteling, p. 166.
(обратно)507
Wright, pp. 48, 49.
(обратно)508
Major-General Sir Alfred Knox, With the Russian Army 1914–1917, p. 584.
(обратно)509
Stopford, p. 133; Major-General Sir Alfred Knox, указ. соч., p. 585; Paleologue, pp. 858–859.
(обратно)510
Paleologue, pp. 859, 860.
(обратно)511
Harper, p. 67–68.
(обратно)512
Там же, стр. 68–69.
(обратно)513
Petrograd, p. 112; Hugh Walpole, Secret City, p. 331.
(обратно)514
Harper, p. 70.
(обратно)515
Rogers, 3:8, p. 66.
(обратно)516
Heald, p. 77; Dawe, ‘Looking Back’, p. 20.
(обратно)517
Anet, p. 113; Rogers, 3:8, p. 66; Paleologue, p. 875.
(обратно)518
Wright, p. 62.
(обратно)519
Hugh Walpole, указ. соч., p. 331; Anet, p. 112; Heald, p. 76; Stopford, p. 146.
(обратно)520
Harper, p. 71; Raymond Recouly, ‘Russia in Revolution’, p. 38.
(обратно)521
H. E. Metcalf, On Britain’s Business, p. 48.
(обратно)522
Hugh Walpole, указ. соч., p. 331; Heald, p. 77.
(обратно)523
Frank Golder, War, Revolution and Peace in Russia: The Passages of Frank Golder, p. 53.
(обратно)524
Dissolution, p. 200; Heald, p. 77.
(обратно)525
Rogers, 3:8, p. 67; см. также: Heald, pp. 76–77.
(обратно)526
Rogers, 3:8, pp. 67–68; см. также: Anet, pp. 114–115.
(обратно)527
Isaac Marcosson, Rebirth of Russia, p. 116.
(обратно)528
Stinton Jones, p. 268; Stopford, pp. 147–148; Anet, p. 114; Charles de Chambrun, Lettres а Marie, Petersbourg-Petrograde 1914–1918, p. 83. Линдалл Покок, санитарка из Красного Креста, работавшая в Англо-русском госпитале в Петрограде, подсчитала гробы в шести различных процессиях, проходивших мимо госпиталя; по ее данным, четыре гроба было в колоннах с Васильевской стороны, восемь гробов – в колоннах с Петроградской стороны, 51 гроб – в колоннах с густонаселенной Выборгской стороны (судя по всему, это были погибшие из числа рабочих), 29 и 40 гробов – в двух колоннах с Невской стороны и 45 гробов – в колоннах с Московской стороны. Таким образом, всего было 177 гробов (см.: Lyndall Crossthwaite Pocock: MS diary with photographs of service at Anglo-Russian Hospital 1915–1918, diary entry for 25 March 1917).
(обратно)529
Достаточно полное обсуждение этого вопроса представлено во второй главе «Бескровная революция?» (стр. 8) выпускной квалификационной работы Ильи Сергеевича Орлова «Траур и праздник в революционной политике. Церемония 23 марта 1917 г. в Петрограде», электронный адрес:
(обратно)530
Anet, p. 100.
(обратно)531
Patouillet, 1:108, 109.
(обратно)532
Hugh Walpole, ‘Official Account of the First Russian Revolution’, p. 467; A. E. Reinke, ‘My Experiences in the Russian Revolution’, p. 9; Isaac Marcosson, указ. соч., p. 115; Harper, p. 198; Houghteling, p. 156; Thompson, p. 124.
(обратно)533
John Pollock, ‘The Russian Revolution: A Review by an Onlooker’, p. 1074; Sir John Pollock, War and Revolution in Russia, p. 163.
(обратно)534
Paleologue, pp. 875, 876.
(обратно)535
Там же, стр. 876.
(обратно)536
Там же, стр. 880–881.
(обратно)537
Negley Farson, The Way of a Transgressor, p. 205; Geoffrey Jefferson, letters from Petrograd, p. 6.
(обратно)538
Wright, p. 60.
(обратно)539
Isaac Marcosson, Before I Forget, p. 247.
(обратно)540
О жизни Ленина в эмиграции в 1900–1917 годах рассказывается в издании: Helen Rappaport, Conspirator: Lenin in Exile 1900–1917.
(обратно)541
Mission, p. 115 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006); Lady Georgina Buchanan, ‘From the Petrograd Embassy’, p. 20.
(обратно)542
Francis, pp. 105–106.
(обратно)543
Heald, pp. 88, 89.
(обратно)544
Путешествие Ленина из Цюриха в Петроград описано в издании: Helen Rappaport, Conspirator, глава 18.
(обратно)545
Fleurot, pp. 145, 146.
(обратно)546
Alban Gordon, Russian Year: A Calendar of the Revolution, p. 145.
(обратно)547
Находясь во Франции в эмиграции (1872–1971 гг.), Кшесинская вышла замуж за кузена Николая II, великого князя Андрея Владимировича, и основала балетную школу, в которой она обучала, в частности, британских балерин Марго Фонтейн и Алисию Маркову. В 1955 году в особняке разместили Музей Октябрьской революции, в настоящее время известный как Государственный музей политической истории России.
(обратно)548
Meriel Buchanan, Ambassador’s Daughter, p. 165; Wright, p. 68.
(обратно)549
Farson, указ. соч., p. 204.
(обратно)550
Mission, p. 119 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006).
(обратно)551
Frank Golder, War, Revolution and Peace in Russia: The Passages of Frank Golder, p. 57; Anet, p. 135; Farson, указ. соч., pp. 203–204.
(обратно)552
Цитируется по изданию: Hugh Brogan, The Life of Arthur Ransome, p. 126; Heald, p. 89.
(обратно)553
Robien, pp. 39–40.
(обратно)554
William G. Shepherd, цит. по: Lincoln Steffens, Autobiography of Lincoln Steffens, p. 761.
(обратно)555
William J. Gibson, Wild Career: My Crowded Years of Adventure in Russia and the Near East, p. 150; Fleurot, p. 146.
(обратно)556
Anet, p. 164.
(обратно)557
Robert Edward Crozier Long, Russian Revolution Aspects, p. 126.
(обратно)558
Paleologue, pp. 892–893; Thompson, p. 160.
(обратно)559
Robien, p. 33.
(обратно)560
Heald, p. 81.
(обратно)561
Paleologue, p. 887.
(обратно)562
Wright, pp. 63, 68.
(обратно)563
Neil V. Salzman, Russia in War and Revolution: General William V. Judson’s Accounts from Petrograd, 1917–1918, pp. 89–90; см. также издание: Pauline Stewart Crosley, Intimate Letters from Petrograd, p. 45, где рассказывается о многочисленных русских офицерах, обращавшихся к супругу автора этой книги, военно-морскому атташе Уолтеру (некоторые даже переодевшись), с просьбой отправить их в США, чтобы они могли поступить на службу в американские военно-морские силы или в американскую армию.
(обратно)564
Wright, p. 68.
(обратно)565
Francis Oswald Lindley, untitled memoirs from July 1915 to 1919, p. 32.
(обратно)566
Paleologue, pp. 895–896; Robien, p. 40.
(обратно)567
Robien, pp. 40–41; Robert Bruce Lockhart, Memoirs of a British Agent, p. 185.
(обратно)568
Julia Cantacuzene-Speransky, Revolutionary Days, Including Passages from My Life Here and There, 1876–1917, p. 275.
(обратно)569
Paleologue, p. 897; Charles de Chambrun, Lettres а Marie, Petersbourg-Petrograde 1914–1918, p. 98.
(обратно)570
См.: Paleologue, p. 898; Robien, p. 50.
(обратно)571
Francis, pp. 101, 102; ‘D. R. Francis Valet Dies in California’, St Louis Post-Dispatch.
(обратно)572
Fleurot, p. 151.
(обратно)573
См.: David S. Foglesong, ‘A Missouri Democrat in Revolutionary Russia: Ambassador David R. Francis and the American Confrontation with Russian Radicalism, 1917’, p. 34.
(обратно)574
Paleologue, p. 910; Robien, p. 48; Anet, p. 161; Douglas Brown, Doomsday 1917: The Destruction of Russia’s Ruling Class, p. 102.
(обратно)575
Rogers, 3:8, p. 73.
(обратно)576
Morgan Philips Price, My Reminiscences of the Russian Revolution 1917–1921, p. 21.
(обратно)577
Там же; Heald, p. 86.
(обратно)578
Heald, pp. 87, 88.
(обратно)579
Anet, pp. 163–164.
(обратно)580
Там же, стр. 163.
(обратно)581
Paleologue, p. 912.
(обратно)582
Rogers, 3:8, pp. 73, 81.
(обратно)583
Fleurot, p. 153.
(обратно)584
Anet, pp. 166, 167.
(обратно)585
Thompson, pp. 167–168.
(обратно)586
Там же, стр. 169, 170.
(обратно)587
Fleurot, p. 153; Ella Cordasco (nee Woodhouse), ‘Recollections of the Russian Revolution’: online memoir.
(обратно)588
Frank Golder, указ. соч., p. 65; Paleologue, p. 917.
(обратно)589
Robert Bruce Lockhart, Memoirs of a British Agent, p. 175.
(обратно)590
Lincoln Steffens, ‘What Free Russia Asks of Her Allies’, p. 137; Heald, p. 89.
(обратно)591
Negley Farson, The Way of a Transgressor, p. 199.
(обратно)592
Там же, стр. 201.
(обратно)593
Fleurot, pp. 155–156.
(обратно)594
Paleologue, pp. 925, 930; Robien, p. 54.
(обратно)595
Charles de Chambrun, Lettres а Marie, Petersbourg-Petrograde 1914—18, p. 142.
(обратно)596
Michael Hughes, Inside the Enigma: British Officials in Russia 1900–1939, p. 97.
(обратно)597
Там же, стр. 98. Детали визита Хендерсона приводятся также в изданиях: Dissolution, pp. 209–215; Meriel Buchanan, Diplomacy and Foreign Courts, London: Hutchinson, 1928, pp. 222–224.
(обратно)598
См.: Dissolution, pp. 211–212.
(обратно)599
Michael Hughes, указ. соч., p. 99; см. также издания: Meriel Buchanan, Ambassador’s Daughter, pp. 169, 172; Mission, pp. 144–147 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006).
(обратно)600
Bernard Pares, My Russian Memoirs, p. 471.
(обратно)601
Alban Gordon, Russian Year: A Calendar of the Revolution, pp. 154–155.
(обратно)602
Robien, pp. 58–60; Heald, p. 92.
(обратно)603
Robien, pp. 62, 65; Bert Hall, One Man’s War: The Story of the Lafayette Escadrille, p. 281.
(обратно)604
Crosley, pp. 60, 58.
(обратно)605
James Stinton Jones, ‘Czar Looked Over My Shoulder’, p. 102.
(обратно)606
Isaac Marcosson, Before I Forget, p. 244.
(обратно)607
Emile Vandervelde, Three Aspects of the Russian Revolution, p. 31.
(обратно)608
Arthur Ransome, letters from Petrograd for 1917, letter 27 May 1917.
(обратно)609
Rheta Childe Dorr, A Woman of Fifty, p. 332.
(обратно)610
Midge Mackenzie, Shoulder to Shoulder, A Documentary, p. 313.
(обратно)611
David J. Mitchell, Women on the Warpath: The Story of Women in the First World War, pp. 65–66; Harper, p. 163.
(обратно)612
June Purvis, Emmeline Pankhurst, A Biography, p. 292. Там же: n. 2, Chapter 20, p. 293.
(обратно)613
Harper, p. 162.
(обратно)614
Там же, стр. 163.
(обратно)615
Jessie Kenney, ‘The Price of Liberty’, pp. 12–13.
(обратно)616
Там же, стр. 13.
(обратно)617
Там же, стр. 19.
(обратно)618
Там же.
(обратно)619
Helen Rappaport, Women Social Reformers, vol. 2, Santa Barbara: ABCClio, 2001, p. 635.
(обратно)620
Edith Kerby (Edith Bangham), ‘The Bubbling Brook’ [memoirs of Russia]’, p. 22.
(обратно)621
Rogers, 3:8, p. 84.
(обратно)622
Harper, p. 252; Norman Armour, ‘Recollections of Norman Armour of the Russian Revolution’, p. 7.
(обратно)623
Rogers, 3:8, p. 85.
(обратно)624
Beatty, p. 38.
(обратно)625
Rogers, 3:8, p. 86; Beatty, p. 35.
(обратно)626
George Kennan, Russia Leaves the War: Soviet-American Relations 1917–1920, pp. 22, 21.
(обратно)627
Harper, pp. 164, 162.
(обратно)628
Jessie Kenney, указ. соч., p. 27.
(обратно)629
Там же.
(обратно)630
Midge Mackenzie, указ. соч., p. 313; см. также: David J. Mitchell, указ. соч., pp. 67, 69.
(обратно)631
Jessie Kenney, указ. соч., pp. 42, 43.
(обратно)632
См.: Мария Леонтьевна Бочкарева, «Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы», глава 6 «Солдат высочайшей милостью».
(обратно)633
Beatty, p. 93.
(обратно)634
Rheta Childe Dorr, ‘Marie Botchkareva, Leader of Soldiers Tells her Vivid Story of Russia’, La Crosse Tribune and Leader-Press, 9 June 1918.
(обратно)635
Мария Леонтьевна Бочкарева, «Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы», глава 11 «Я формирую «батальон смерти».
(обратно)636
Joseph Vecchi, The Tavern is My Drum: My Autobiography, p. 79; о том, как формировался «женский батальон», рассказывается в воспоминаниях М. Л. Бочкаревой ‘Deposition about the Women’s Battalion’, а также в издании: Rovin Bisha et al., Russian Women, 1698–1917, Experience & Expression, Bloomington: Indiana University Press, 2002, pp. 222–231.
(обратно)637
Joseph Vecchi, указ. соч., p. 79.
(обратно)638
См.: Мария Леонтьевна Бочкарева, «Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы», глава 11 «Я формирую «батальон смерти».
(обратно)639
Charles Edward Russell, Unchained Russia, pp. 210–211.
(обратно)640
См. также: ‘Russia’s Women Soldiers’, Literary Digest, 29 September 1917, автор – корреспондент американского информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс»; Robert Edward Crozier Long, Russian Revolution Aspects, p. 98.
(обратно)641
Beatty, pp. 100–101.
(обратно)642
Thompson, p. 271; см. также: Rheta Childe Dorr, Inside the Russian Revolution, pp. 54–55.
(обратно)643
Thompson, pp. 272–273; Richard Stites, Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism and Bolshevism, 1860–1930, p. 296; Beatty, p. 107.
(обратно)644
Мария Леонтьевна Бочкарева, «Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы», глава 11 «Я формирую «батальон смерти».
(обратно)645
Освещение Дональдом Томпсоном событий, связанных с «женским батальоном смерти», привлекло пристальное внимание американской прессы. См.: Dr David H. Mould, ‘The Russian Revolution: A Conspiracy Thesis and a Lost Film’, n. 16, p. 9.
(обратно)646
Midge Mackenzie, указ. соч., p. 315; Jessie Kenney, указ. соч., p. 35.
(обратно)647
См.: Мария Леонтьевна Бочкарева, «Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы», глава 12 «Батальон на фронте».
(обратно)648
Rheta Childe Dorr, ‘Marie Botchkareva, Leader of Soldiers’; Jessie Kenney, указ. соч., p. 49.
(обратно)649
Harper, p. 170.
(обратно)650
Dissolution, p. 217; Joseph Vecchi, указ. соч., p. 79; Harper, p. 172.
(обратно)651
Midge Mackenzie, указ. соч., p. 314.
(обратно)652
Thompson, p. 274.
(обратно)653
Olga Poutiatine, War and Revolution: Extracts from the Letters and Diaries of the Countess Olga Poutiatine, pp. 73–74.
(обратно)654
Patouillet, 1:147.
(обратно)655
Shepherd, ‘The Soul That Stirs in “Battalions of Death”’, Delineator, XCII:3, March 1918, p. 5.
(обратно)656
Harper, pp. 173, 174 (см. главу X “Women’s Death Battalion”).
(обратно)657
См.: Мария Леонтьевна Бочкарева, «Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы», глава 14 «С поручением от Керенского к Корнилову».
(обратно)658
Midge Mackenzie, Shoulder to Shoulder; Britannia, 3 August 1917.
(обратно)659
Jessie Kenney, указ. соч., p. 37. Эммелин Панкхерст передала юсуповскую версию тех событий Рете Чайльд Дорр, которая одной из первых опубликовала эту историю от имени лошади.
(обратно)660
Jessie Kenney, указ. соч., pp. 53, 54.
(обратно)661
David J. Mitchell, указ. соч., p. 66.
(обратно)662
Harper, pp. 163, 165, 166.
(обратно)663
Там же, стр. 180.
(обратно)664
Там же, стр. 187, 183.
(обратно)665
Там же, стр. 182, 192.
(обратно)666
Там же, стр. 253, 185; Francis, p. 145.
(обратно)667
Harper, pp. 188, 189, 192.
(обратно)668
Rogers, 3:8, p. 87.
(обратно)669
Wright, p. 93.
(обратно)670
Там же, стр. 91.
(обратно)671
Gerda and Hermann Weber, Lenin, Life and Works, New York: Facts on File, 1980, p. 134.
(обратно)672
Harper, p. 254.
(обратно)673
См.: Orlando Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891–1924, p. 396.
(обратно)674
Harper, p. 194–195.
(обратно)675
Harper, p. 199; Arthur Ransome, цит. по: Harvey Pitcher, Witnesses of the Russian Revolution, p. 120.
(обратно)676
. Harper, p. 202.
(обратно)677
Thompson, pp. 284, 283. Морган Филипс Прайс также в июне был в Петрограде и написал статью, опубликованную 17 июля в издании «Манчестер гардиан», см.: Harvey Pitcher, указ. соч., pp. 103–110.
(обратно)678
Crosley, pp. 79–80.
(обратно)679
Richard Pipes, The Russian Revolution 1899–1919, p. 419; Orlando Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891–1924, pp. 426–428.
(обратно)680
Rheta Childe Dorr, Inside the Russian Revolution, p. 25; Thompson, p. 288.
(обратно)681
Dissolution, p. 219; Mission, p. 152 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006); Robien, p. 82.
(обратно)682
Dissolution, p. 220; Petrograd, p. 134; Lady Georgina Buchanan, ‘From the Petrograd Embassy’, p. 20, letter of 22/9 July.
(обратно)683
Robien, p. 83; Joseph Noulens, Mon Ambassade en Russie Sovietique, p. 65 (представлена сцена с автомобилем посла Конрада де Бюиссерэ, битком набитым вооруженными большевиками). Thompson, p. 287.
(обратно)684
Nellie Thornton, ‘Englishwoman’s Experiences during the Russian Revolution’, pp. 2–4.
(обратно)685
Hugh Walpole, ‘Denis Garstin and the Russian Revolution’, p. 593.
(обратно)686
Louise Patin, Journal d’une institutrice française en Russie pendant la Révolution 1917–1919, p. 48.
(обратно)687
Stopford, p. 171; Ernest Poole, The Dark People: Russia’s Crisis, pp. 4, 5.
(обратно)688
Crosley, pp. 90–92.
(обратно)689
Wilfred Blunt, Lady Muriel: Lady Muriel Paget, Her Husband, and Her Philanthropic Work in Central and Eastern Europe, p. 109.
(обратно)690
Stopford, p. 175.
(обратно)691
The World, 19 July 1917, цит. по: Kenneth Hawkins, ‘Through War to Revolution with Dosch-Fleurot: A Personal History of an American Newspaper Correspondent in Europe and Russia 1914–1918’, pp. 70–71.
(обратно)692
Harold Williams, The Shadow of Tyranny: Dispatches from Russia 1917–1920, p. 57.
(обратно)693
New York Times despatch for 4/17 July, в том же издании, pp. 57, 58–59.
(обратно)694
Ernest Poole, указ. соч., 5.
(обратно)695
Ernest Poole, The Bridge: My Own Story, p. 276; Ernest Poole, The Dark People: Russia’s Crisis, p. 8; см. также: Thompson, p. 296.
(обратно)696
Robien, p. 83.
(обратно)697
Beatty, p. 115.
(обратно)698
Там же, стр. 118.
(обратно)699
Robien, p. 83; Petrograd, p. 136.
(обратно)700
Harold Williams, The Shadow of Tyranny: Dispatches from Russia 1917–1920, p. 63.
(обратно)701
Там же.
(обратно)702
Lady Georgina Buchanan, ‘From the Petrograd Embassy’, p. 21.
(обратно)703
Petrograd, 136–137.
(обратно)704
Dissolution, p. 222; Ernest Poole, The Bridge: My Own Story, p. 275.
(обратно)705
Beatty, pp. 119, 121.
(обратно)706
Wright, p. 101.
(обратно)707
Rogers, 3:8, p. 98.
(обратно)708
Там же, 3:8, стр. 99—100.
(обратно)709
Dissolution, pp. 222–223.
(обратно)710
Beatty, p. 122.
(обратно)711
Mrs Clinton A. Bliss, ‘Philip Jordan’s Letters from Russia, 1917–1919. The Russian Revolution as Seen by the American Ambassador’s Valet’, p. 143.
(обратно)712
Francis, p. 137; Robien, p. 85.
(обратно)713
Rogers, 3:8, p. 101; Williams, p. 88.
(обратно)714
Francis, p. 138; см. главу 6 издания: П. Н. Переверзев, «Ленин, Ганецкий и Ко – шпионы!», электронный адрес: . html
(обратно)715
Lady Georgina Buchanan, указ. соч., p. 21.
(обратно)716
Mrs Clinton A. Bliss, указ. соч., p. 143.
(обратно)717
Barnes, p. 249, letter of 9/22 July.
(обратно)718
Stopford, p. 176.
(обратно)719
Dissolution, p. 225; Lady Georgina Buchanan, указ. соч., p. 21.
(обратно)720
William Gerhardie, Memoirs of a Polyglot, p. 125.
(обратно)721
Mission, p. 154 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006); Dissolution, p. 226; Meriel Buchanan, Ambassador’s Daughter, pp,174–175; Stopford, p. 177; Lady Georgina Buchanan, указ. соч., p. 21.
(обратно)722
Rogers, 3:8, pp. 102–103.
(обратно)723
Thompson, pp. 308, 309.
(обратно)724
Там же, стр. 312; Florence Harper, ‘Thompson Risks Life to Film Russian Revolution Scenes: Graphic story of the Topeka war photographer at work told by woman correspondent of the London Daily Mail’.
(обратно)725
Arthur Ransome, telegram despatches to the Daily News December 1916 – December 1917, Despatch 184, 5 [18] July 1917.
(обратно)726
Harold Williams, указ. соч., p. 65.
(обратно)727
Major-General Sir Alfred Knox, With the Russian Army 1914–1917, pp. 662–663; Mission, p. 156 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006).
(обратно)728
Rheta Childe Dorr, указ. соч., p. 28.
(обратно)729
Thompson, p. 315; David R. Francis, Russia from the American Embassy, April 1916-November 1918, p. 141.
(обратно)730
В целом во время июльских событий погибло около двадцати и было ранено около семидесяти казаков; было убито около ста лошадей. См.: Б. В. Никитин, «Роковые годы. Новые показания участника», электронный адрес:
(обратно)731
E[dward] P[ercy] Stebbing, ‘From Czar to Bolshevik’, p. 44; Ernest Poole, The Bridge: My Own Story, p. 280.
(обратно)732
Beatty, p. 129; Crosley, pp. 110111; Poole, указ. соч., pp. 280–281.
(обратно)733
Rheta Childe Dorr, указ. соч., p. 32.
(обратно)734
Beatty, p. 130.
(обратно)735
Louise Patin, указ. соч., p. 50.
(обратно)736
Robien, p. 90.
(обратно)737
Mrs Clinton A. Bliss, указ. соч., p. 146.
(обратно)738
Beatty, p. 131.
(обратно)739
Rheta Childe Dorr, указ. соч., pp. 32–33, Ernest Poole, The Dark People: Russia’s Crisis, p. 12.
(обратно)740
Jessie Kenney, ‘Price of Liberty’, pp. 74, 75.
(обратно)741
Там же, стр. 76.
(обратно)742
Jessie Kenney papers, JK/3/Mitchell/5, UEA, p. 20; Rheta Childe Dorr, указ. соч., p. 34.
(обратно)743
Julia Cantacuzene-Speransky, Revolutionary Days, Including Passages from My Life Here and There, 1876–1917, p. 315.
(обратно)744
Crosley, pp. 99—100.
(обратно)745
Там же, стр. 105. Факты, подтверждающие, что в Петрограде существовало два вида милиции, приводятся в издании: Tsuyoshi Hasegawa, ‘Crime, Police, and Mob Justice in Petrograd during the Russian Revolutions of 1917’, pp. 58–61.
(обратно)746
William Oudendijk [Willem Jacob Oudendijk], Ways and By-ways in Diplomacy, p. 223; Rheta Childe Dorr, указ. соч., p. 29.
(обратно)747
Arthur Ransome, письмо матери, 23 [10] июля 1917 года.
(обратно)748
Thompson, p. 324.
(обратно)749
Там же, стр. 313.
(обратно)750
George Chandler Whipple, Petrograd diary, 7 August—11 September, vol. I, p. 133.
(обратно)751
Orrin Sage Wightman, Diary of an American Physician in the Russian Revolution 1917, pp. 64–65, 63.
(обратно)752
Raymond Robins, letters to his sister Elizabeth, letter 13 [26] July, Falers Library NY, Box 3, Folder 19.
(обратно)753
Beatty, p. 149. О кинооператоре Нортоне Трэвисе см. ‘Tragedy and Comedy in Making Pictures of the Russian Chaos,’ Current Opinion, February 1918, p. 106.
(обратно)754
Orrin Sage Wightman, указ. соч., p. 35.
(обратно)755
George Chandler Whipple, ‘Chance for Young Americans in the Development of Russia’, Literary Digest, 26 January 1918, p. 47; George Chandler Whipple, Petrograd diary, 7 August – 11 September, vol. I, p. 85.
(обратно)756
. George Chandler Whipple, Petrograd diary, 7 August—11 September, vol. I, pp. 79, 80–81.
(обратно)757
Там же, стр. 97; Wright, p. 111.
(обратно)758
Beatty, pp. 146–147.
(обратно)759
Там же, стр. 147.
(обратно)760
George Chandler Whipple, указ. соч., p. 90.
(обратно)761
Там же.
(обратно)762
Там же, стр. 95.
(обратно)763
Orrin Sage Wightman, указ. соч., pp. 38, 39, 41, 44.
(обратно)764
Письмо от 15 августа, издание: Neil V. Salzman, Reform and Revolution: The Life and Times of Raymond Robins, p. 182.
(обратно)765
Письма от 1/14 и 5/18 августа, источник: Raymond Robins, letters to his sister Elizabeth, Falers Library.
(обратно)766
Письма от 9/22 и 6/19 августа, источник: Raymond Robins, Letters to his wife Margaret, Falers Library.
(обратно)767
William Oudendyk [Willem Jacob Oudendijk], Ways and By-ways of Diplomacy, p. 234.
(обратно)768
Robien, p. 100.
(обратно)769
См.: Richard Pipes, People’s Tragedy, p. 448; Robert Edward Crozier Long, Russian Revolution Aspects, Chapter XIII.
(обратно)770
Beatty, p. 148.
(обратно)771
Fleurot, p. 174.
(обратно)772
Knox, p. 679.
(обратно)773
Mission, pp. 171–172 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006).
(обратно)774
John Shelton Curtiss, The Russian Revolutions of 1917, Malabar, FL: R. E. Krieger Publishing Co., 1957, p. 50.
(обратно)775
Rogers, 3:8, p. 139.
(обратно)776
Beatty, pp. 153, 154, 155.
(обратно)777
Rogers, 3:8, p. 136.
(обратно)778
Beatty, p. 159; Mrs Clinton A. Bliss, ‘Philip Jordan’s Letters from Russia, 1917–1919. The Russian Revolution as Seen by the American Ambassador’s Valet’, p. 143.
(обратно)779
Meriel Buchanan, Ambassador’s Daughter, p. 179.
(обратно)780
Francis, p. 162; Wright, p. 123.
(обратно)781
Neil V. Salzman, указ. соч., p. 193.
(обратно)782
Beatty, p. 156.
(обратно)783
Beatty, p. 157; Harper, pp. 278–279, 280–281.
(обратно)784
DeWitt Clinton Poole, An American Diplomat in Bolshevik Russia, pp. 15–16; Alban Gordon, Russian Year: A Calendar of the Revolution, p. 213.
(обратно)785
Francis Oswald Lindley, untitled memoirs from July 1915 to 1919, pp. 14–15.
(обратно)786
William Oudendyk [Willem Jacob Oudendijk], указ. соч., p. 236.
(обратно)787
Crosley, pp. 192, 193.
(обратно)788
Harper, p. 287.
(обратно)789
David S. Foglesong, ‘A Missouri Democrat in Revolutionary Russia: Ambassador David R. Francis and the American Confrontation with Russian Radicalism, 1917’, p. 37; Francis, pp. 160–161.
(обратно)790
Wright, p. 129.
(обратно)791
Crosley, p. 174; см. также: Wright, p. 108.
(обратно)792
Wright, p. 122.
(обратно)793
Crosley, pp. 173–174; Wright, pp. 121, 122.
(обратно)794
Woodhouse, FO 236/59/2258, 2 October.
(обратно)795
Vivian Bosanquet letters, 28 December 1916, p. 193; Jennifer Stead, ‘A Bradford Mill in St Petersburg’, Old West Riding, 2:2, Winter 1982, p. 20.
(обратно)796
Meriel Buchanan, Dissolution of an Empire, p. 242; E[dward] P[ercy] Stebbing, From Czar to Bolshevik, p. 104.
(обратно)797
Robien, p. 104.
(обратно)798
Там же, стр. 123.
(обратно)799
Julia Cantacuzene-Speransky, Revolutionary Days, Including Passages from My Life Here and There, 1876–1917, pp. 352–353, 354; Crosley, pp. 135–136.
(обратно)800
Paulette Pax, Journal d’une comédienne française sous la terreur bolchévique, p. 77.
(обратно)801
Lubbock Morning Avalanche, 13 March 1919.
(обратно)802
Anet, p. 164; Ella Cordasco (nee Woodhouse), воспоминания в интернете.
(обратно)803
Crosley, pp. 135–136; см. также стр. 197.
(обратно)804
Robien, p. 106; Crosley, p. 153.
(обратно)805
Robien, p. 106.
(обратно)806
June Purvis, Emmeline Pankhurst, A Biography, p. 297.
(обратно)807
Jessie Kenney, ‘Price of Liberty’, p. 122.
(обратно)808
Harper, pp. 162, 166.
(обратно)809
Jessie Kenney, указ. соч., p. 127.
(обратно)810
Harper, p. 167; Jessie Kenney, указ. соч., p. 133.
(обратно)811
Harper, pp. 167, 293. О том, как Флоренс Харпер, Эммелин Панкхерст и Джесси Кенни покидали на поезде Россию, описывается в главе XIX книги Флоренс Харпер.
(обратно)812
Ernest Poole, The Bridge: My Own Story, p. 271.
(обратно)813
Ted Morgan, Somerset Maugham, p. 227 (Тед Морган, «Сомерсет Моэм. Биография», М.: «Захаров», 2002).
(обратно)814
Somerset Maugham, A Writer’s Notebook, pp. 137–138 (Сомерсет Моэм, «Записные книжки», М.: АСТ, 2010).
(обратно)815
Maugham, ‘Looking Back’, Part III, Show: The Magazines of the Arts, 2, 1962, p. 95 (Уильям Сомерсет Моэм, «Подводя итоги» (Эссе, очерки), М.: «Высшая школа», 1991).
(обратно)816
Selina Hastings, The Secret Lives of Somerset Maugham, p. 226.
(обратно)817
Hugh Walpole, ‘Literary Close Ups’, Vanity Fair, 13, January 1920, p. 47.
(обратно)818
Selina Hastings, указ. соч., p. 227.
(обратно)819
Деятельность Джона Рида до момента его прибытия в Петроград описана в изданиях: Bassow, Moscow Correspondents, pp. 22–25; Robert Service, Spies and Commissars: Bolshevik Russia and the West, pp. 50–54; Mary V. Dearborn, Queen of Bohemia: A Life of Louise Bryant; Seldes, Witness to a Century, pp. 42–45.
(обратно)820
Mary V. Dearborn, указ. соч., p. 75.
(обратно)821
Bryant, pp. 21, xi.
(обратно)822
Bryant, pp. 19–20.
(обратно)823
John Louis Hilton Fuller, ‘Letters and Diaries of John L. H. Fuller 1917–1920, p. 16.
(обратно)824
John Louis Hilton Fuller, ‘The Journal of John L. H. Fuller While in Russia’, pp. 7, 8–9.
(обратно)825
См.: Robert A. Rosenstone, Romantic Revolutionary: A Biography of John Reed, p. 289.
(обратно)826
Francis, pp. 167, 168, 165–166.
(обратно)827
Rogers, 3:9, p. 147.
(обратно)828
Eric Homberger, John Reed. Lives of the Left, p. 105; Williams, p. 22.
(обратно)829
См.: Williams, pp. 30–31.
(обратно)830
Там же, стр. 35, 36.
(обратно)831
Francis, p. 169.
(обратно)832
John Louis Hilton Fuller, ‘The Journal of John L. H. Fuller While in Russia’, p. 15.
(обратно)833
Rogers, 3:10, p. 241. Джордж Ф. Кеннан, который был другом Джона Рида и дал интервью для фильма Уоррена Битти «Красные» (“Reds”, 1981 г.), согласился с тем, что Рид мог быть «невнимательным, нетерпимым, без необходимости агрессивным…он мог серьезно ошибаться во многих вещах». Но оказавшись, с присущей ему энергией, в гуще событий в Петрограде, «он горел, как человеческий факел, проявляя заразительный энтузиазм, впитывая с юношеской непосредственностью огромный, зарождающийся антагонизм, который, в конечном итоге, разделит двух великих людей и опустошит его собственную жизнь и жизнь многих других. Он по-своему, типично американским образом, отреагировал на революцию. Он не заслуживает того, чтобы его забыли или стали высмеивать». George Kennan, Russia Leaves the War: Soviet-American Relations 1917–1920, pp. 68, 69.
(обратно)834
Bryant, p. 25.
(обратно)835
Там же, стр. 42, 43, 37.
(обратно)836
Там же, стр. 39–40.
(обратно)837
Alban Gordon, Russian Year: A Calendar of the Revolution, p. 219.
(обратно)838
См.: Paulette Pax, Journal d’une comédienne française sous la terreur bolchévique, pp. 43–46. Полетт Пакс к этому моменту уже несколько месяцев как находилась во Франции.
(обратно)839
William Oudendijk [Willem Jacob Oudendijk], Ways and By-ways in Diplomacy, p. 227; Bryant, p. 44; см. также: Reed, pp. 38–40 (Джон Рид, «Десять дней, которые потрясли мир», М.: Государственное издательство политической литературы, 1957).
(обратно)840
Reed, p. 61 (Джон Рид, «Десять дней, которые потрясли мир», Глава II «Рождение бури», М.: Государственное издательство политической литературы, 1957).
(обратно)841
Alban Gordon, указ. соч., p. 219.
(обратно)842
Captain Alf Harold Brun, Troublous Times: Experiences in Bolshevik Russia and Turkestan, p. 2.
(обратно)843
Rogers, 3:9, p. 159.
(обратно)844
Дневник Гарольда Уильямса, цит. по: Ariadna Tyrkova-Williams, Cheerful Giver: The Life of Harold Williams, p. 193.
(обратно)845
Somerset Maugham, A Writer’s Notebook, p. 145 (Сомерсет Моэм, «Записные книжки», М.: АСТ, 2010).
(обратно)846
Там же, стр. 146.
(обратно)847
Телеграмма Артура Рэнсома в «Дейли ньюс», цит. по: Harvey Pitcher, Witnesses of the Russian Revolution, p. 174.
(обратно)848
Harold Williams, The Shadow of Tyranny: Dispatches from Russia 1917–1920, p. 125; Wright, p. 130.
(обратно)849
Hugh Brogan, The Life of Arthur Ransome, pp. 144, 145.
(обратно)850
Somerset Maugham, A Writer’s Notebook, p. 150 (Сомерсет Моэм, «Записные книжки», М.: АСТ, 2010).
(обратно)851
Harvey Pitcher, указ. соч., p. 177.
(обратно)852
Harold Williams, указ. соч., p. 28; опубликовано в издании «Нью-Йорк таймс» 6 октября 1917 года (по новому стилю).
(обратно)853
Mission, pp. 188–189 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006).
(обратно)854
Neil V. Salzman, Reform and Revolution: The Life and Times of Raymond Robins, p. 197.
(обратно)855
Там же.
(обратно)856
Mission, p. 191 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006); см. также: Robien, p. 121.
(обратно)857
Wright, p. 129.
(обратно)858
Mission, p. 193 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006); Robien, p. 122.
(обратно)859
Selina Hastings, The Secret Lives of Somerset Maugham, p. 228.
(обратно)860
Rogers, 3:9, pp. 149, 148; Patouillet, 2:194. Возвращение в Петроград «Армии спасения» описано в издании: Tom Aitken, Blood and Fire, Tsar and Commissar: The Salvation Army in Russia, 1907–1923, Chapter 8: ‘1917: A Transient Freedom’.
(обратно)861
Cantacuzene-Speransky, Julia, Revolutionary Days, Including Passages from My Life Here and There, 1876–1917, pp. 352–353.
(обратно)862
Jules Destree, Les Fondeurs de neige: Notes sur la revolution bolchevique а Petrograd pendant l’hiver 1917–1918, p. 27.
(обратно)863
Там же.
(обратно)864
Henry James Bruce, Silken Dalliance, p. 163; указанный случай, произошедший с Джоном Ридом, описан также в издании: Madeleine Zabriskie Doty, Behind the Battle Line, p. 46. Мадлен Доти, подруга Луизы Брайант по Гринвич-Виллиджу и дипломированный юрист, приехала в Петроград в ноябре 1917 года и вернулась в США вместе с Луизой Брайант и Бесси Битти в январе следующего года.
(обратно)865
A. E. Reinke, ‘Getting On Without the Czar’, p. 12.
(обратно)866
Crosley, p. 190.
(обратно)867
Wright, p. 129.
(обратно)868
Bryant, p. 67.
(обратно)869
Fleurot, p. 177.
(обратно)870
Там же.
(обратно)871
Rogers, 3:9, p. 162.
(обратно)872
Там же, стр. 162–163.
(обратно)873
Alban Gordon, указ. соч., pp. 217–218.
(обратно)874
Bryant, p. 120.
(обратно)875
Selina Hastings, указ. соч., p. 230.
(обратно)876
Mission, p. 196 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006).
(обратно)877
Somerset Maugham, A Writer’s Notebook, p. 150 (Сомерсет Моэм, «Записные книжки», М.: АСТ, 2010); мнение Джона Рида о Керенском приводится в издании: John Hohenburg, Foreign Correspondence: The Great Reporters and Their Times, Columbia University Press, 1995, p. 105.
(обратно)878
Mission, p. 201 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006); Joseph Noulens, Mon ambassade en Russie Soviétique 1917–1919, p. 116.
(обратно)879
John Louis Hilton Fuller, ‘The Journal of John L. H. Fuller While in Russia’, pp. 18–19.
(обратно)880
Rogers, 3:9, p. 154.
(обратно)881
Там же, стр. 155–156; John Louis Hilton Fuller, указ. соч., p. 20.
(обратно)882
Ella Cordasco (Woodhouse), ‘Recollections of the Russian Revolution’ (online memoir).
(обратно)883
Francis, pp. 169–170.
(обратно)884
Mrs Clinton A. Bliss, ‘Philip Jordan’s Letters from Russia, 1917–1919. The Russian Revolution as Seen by the American Ambassador’s Valet’, pp. 142–143.
(обратно)885
Rogers, 3:9, pp. 164, 167. Описание этой квартиры представлено в издании: John Louis Hilton Fuller, ‘The Journal of John L. H. Fuller While in Russia’, p. 47.
(обратно)886
Wright, p. 141.
(обратно)887
Williams, pp. 87–88.
(обратно)888
John Louis Hilton Fuller, ‘The Journal of John L. H. Fuller While in Russia’, p. 23.
(обратно)889
Там же, стр. 26.
(обратно)890
Rogers, 3:9, p. 186.
(обратно)891
Там же, стр. 187.
(обратно)892
Там же, стр. 186.
(обратно)893
Там же, стр. 187.
(обратно)894
Там же, стр. 188–189.
(обратно)895
Там же, стр. 189.
(обратно)896
Там же, стр. 190.
(обратно)897
Там же, стр. 190–191.
(обратно)898
Там же, стр. 191.
(обратно)899
Francis Oswald Lindley letter, entry for 25 October, LRA, MS 1372/1.
(обратно)900
Beatty, pp. 179–180.
(обратно)901
Meriel Buchanan, Ambassador’s Daughter, p. 180.
(обратно)902
Petrograd, pp. 187–188, 190.
(обратно)903
См.: Richard Pipes, The Russian Revolution 1899–1919, pp. 489, 495; Orlando Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891–1924, p. 486.
(обратно)904
Countess Lili Nostitz, Romance and Revolutions, p. 193.
(обратно)905
Reed, pp. 91, 92.
(обратно)906
Major-General Sir Alfred Knox, With the Russian Army 1914–1917, p. 712. Описание Смольного института в то время дано в издании: Alban Gordon, Russian Year: A Calendar of the Revolution, pp. 231–232; Reed, pp. 54–55, 76–77, 96–99; Madeleine Zabriskie Doty, Behind the Battle Line, pp. 74–76; см. также: Robien, pp. 140–141.
(обратно)907
Reed, p. 87.
(обратно)908
Williams, pp. 128–129.
(обратно)909
Madeleine Zabriskie Doty, указ. соч., p. 76.
(обратно)910
Reed, 73.
(обратно)911
Согласно изданию History of the Times, Vol. 4, p. 146, «весьма немногие журналисты» были свидетелями этих ночных событий; в действительности, то, что происходило 24–26 октября, освещалось крайне скудно в связи с отсутствием каких-либо телеграфных сообщений из России. До своего отъезда специальный корреспондент издания «Таймс» в Петрограде Роберт Уилтон предупреждал о приближавшейся второй революции. См. издание: Philip Knightley, The First Casualty, London: Quartet, 1978, p. 138.
(обратно)912
Этот эпизод описывается в изданиях: Wright, p. 143; Alban Gordon, Russian Year: A Calendar of the Revolution, pp. 254–255; Barnes, pp. 266–267; Francis, p. 179; см. также: George Kennan, Russia Leaves the War: Soviet – American Relations 1917–1920, pp. 71–72.
(обратно)913
Richard Pipes, The Russian Revolution 1899–1919, p. 492.
(обратно)914
Williams, pp. 100–101.
(обратно)915
Там же, стр. 101, 102, 103.
(обратно)916
Reed, p. 98.
(обратно)917
Beatty, p. 193.
(обратно)918
Reed, p. 100.
(обратно)919
Beatty, p. 202.
(обратно)920
Williams, p. 11; Bryant, p. 83.
(обратно)921
Beatty, p. 204; Reed, p. 105.
(обратно)922
Bryant, pp. 84–86.
(обратно)923
Beatty, p. 210; Bryant, p. 86.
(обратно)924
Beatty, p. 210; Bryant, pp. 86–87; Rhys Williams, p. 119; Reed, p. 108.
(обратно)925
Bryant, p. 87; Beatty, p. 211; Williams, p. 119.
(обратно)926
Beatty, pp. 212, 213, 215.
(обратно)927
Williams, p. 122; см. также: Bryant, p. 88; Reed, p. 109.
(обратно)928
John Louis Hilton Fuller, ‘The Journal of John L. H. Fuller While in Russia’, p. 29.
(обратно)929
Crosley, pp. 202, 200.
(обратно)930
Там же, стр. 204.
(обратно)931
Henry James Bruce, Silken Dalliance, pp. 163–164.
(обратно)932
Crosley, p. 208.
(обратно)933
Countess Lili Nostitz, Romance and Revolutions, pp. 195–196; см. также: Richard Stites, Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism and Bolshevism, 1860–1930, pp. 299–300; Ariadna Tyrkova-Williams, From Liberty to Brest-Litovsk, pp. 256–259.
(обратно)934
Meriel Buchanan, Ambassador’s Daughter, p. 183.
(обратно)935
Dissolution, p. 251; Captain Alf Harold Brun, Troublous Times: Experiences in Bolshevik Russia and Turkestan, p. 14.
(обратно)936
Meriel Buchanan, указ. соч., p. 183; Crosley, pp. 209, 210.
(обратно)937
Robien, p. 136.
(обратно)938
Cantacuzene-Speransky, Julia, Revolutionary Days, Including Passages from My Life Here and There, 1876–1917, p. 413.
(обратно)939
Meriel Buchanan, указ. соч., p. 183; Dissolution, p. 251.
(обратно)940
Meriel Buchanan, указ. соч., p. 184; Dissolution, p. 251; Major-General Sir Alfred Knox, With the Russian Army 1914–1917, p. 713.
(обратно)941
Ariadna Tyrkova-Williams, указ. соч., p. 25.
(обратно)942
Williams, pp. 126, 129.
(обратно)943
Reed, p. 128.
(обратно)944
Williams, p. 130.
(обратно)945
William Oudendijk [Willem Jacob Oudendijk], Ways and By-Ways in Diplomacy, p. 241.
(обратно)946
Beatty, p. 217.
(обратно)947
Williams, p. 144; Beatty, см. главу 12; Morgan Philips Price, My Reminiscences of the Russian Revolution 1917—21, pp. 151–154; Crosley, p. 211.
(обратно)948
Beatty, p. 226.
(обратно)949
Там же, стр. 229, 237; Williams, p. 149.
(обратно)950
Beatty, p. 235; Williams, p. 149.
(обратно)951
Beatty, pp. 233–234.
(обратно)952
Там же, стр. 237; Williams, p. 149; Reed, p. 184.
(обратно)953
Reed, p. 182.
(обратно)954
Там же, стр. 183.
(обратно)955
Там же, стр. 183, 184.
(обратно)956
Countess Lili Nostitz, указ. соч., pp. 195–196.
(обратно)957
Captain Alf Harold Brun, указ. соч., pp. 18, 20.
(обратно)958
Robien, p. 137.
(обратно)959
Petrograd, p. 200; Mission, p. 212 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006).
(обратно)960
Beatty, p. 225. Сорок четыре юноши и три их офицера, захваченные во Владимирском училище, были заключены в Кронштадтскую крепость; 129 юнкеров, захваченных в ходе стычки на Центральной телефонной станции, были заключены в Петропавловскую крепость. См.: A. Митрофанов, «За спасение родины, а не революции: Восстание юнкеров в Петрограде 29 октября 1917 г.» («Посев», 2005, № 11–12), электронный адрес:
(обратно)961
Robien, p. 142.
(обратно)962
Там же
(обратно)963
Mrs Clinton A. Bliss, ‘Philip Jordan’s Letters from Russia, 1917–1919. The Russian Revolution as Seen by the American Ambassador’s Valet’, pp. 146–147; Francis, pp. 188–189.
(обратно)964
Rogers, 3:9, p. 181.
(обратно)965
Там же, стр. 181–182.
(обратно)966
Wright, pp. 149–150.
(обратно)967
Письмо от 21 ноября (4 декабря), воспоминания Эллы Кордаско (в девичестве Вудхаус), в электронном виде.
(обратно)968
Dissolution, p. 263; Mission, p. 239 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006); Meriel Buchanan, Ambassador’s Daughter, p. 187.
(обратно)969
Julia Cantacuzene-Speransky, Revolutionary Days, Including Passages from My Life Here and There, 1876–1917, p. 424.
(обратно)970
Mission, pp. 218, 219 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006); Lady Georgina Buchanan, ‘From the Petrograd Embassy’, p. 21.
(обратно)971
Barnes, p. 277; Julia Cantacuzene-Speransky, указ. соч., p. 425.
(обратно)972
Barnes, p. 281; Wright, p. 283; Barnes, p. 283.
(обратно)973
Robien, p. 147.
(обратно)974
Patouillet, 2:368.
(обратно)975
Robien, p. 147.
(обратно)976
Описание этих событий представлено в издании: Madeleine Zabriskie Doty, Behind the Battle Line, pp. 77–79, а также в издании: Henry V. Keeling, Bolshevism: Mr Keeling’s Five Years in Russia, pp. 111–115.
(обратно)977
Beatty, p. 293.
(обратно)978
Rogers, 3:9, p. 182; Leighton Rogers, Wine of Fury, pp. 262–263.
(обратно)979
См.: Rogers, 3:9, pp. 191, 190.
(обратно)980
Robien, pp. 160, 177.
(обратно)981
Там же, стр. 166.
(обратно)982
Meriel Buchanan, указ. соч., p. 185–186; воспоминания Эллы Кордаско (в девичестве Вудхаус), в электронном виде.
(обратно)983
Mrs Clinton A. Bliss, указ. соч., pp. 144–145.
(обратно)984
Crosley, p. 213; Leighton Rogers, Wine of Fury, p. 261.
(обратно)985
Robien, p. 170.
(обратно)986
Neil V. Salzman, Reform and Revolution: The Life and Times of Raymond Robins, pp. 198, 383.
(обратно)987
Robien, p. 147.
(обратно)988
Beatty, p. 322.
(обратно)989
Письмо Энни Пуллиам, цит. по: Barnes, pp. 271–272.
(обратно)990
Там же.
(обратно)991
Beatty, pp. 330, 332.
(обратно)992
Там же, стр. 331; De Robien, pp. 163–164.
(обратно)993
Beatty, p. 332.
(обратно)994
Там же, стр. 331.
(обратно)995
William Oudendijk [Willem Jacob Oudendijk], Ways and By-ways in Diplomacy, p. 249.
(обратно)996
Robien, p. 164; Meriel Buchanan, указ. соч., p. 188.
(обратно)997
Rogers, 3:9, p. 205.
(обратно)998
Dissolution, p. 266; Meriel Buchanan, указ. соч., p. 188.
(обратно)999
Meriel Buchanan, указ. соч., p. 188; Rogers, 3:9, p. 199.
(обратно)1000
Robien, p. 176.
(обратно)1001
Meriel Buchanan, указ. соч., pp. 189–190.
(обратно)1002
Mrs Clinton A. Bliss, указ. соч., p. 150.
(обратно)1003
Анатолий Васильевич Луначарский, цит. по: Mark Schrad, Vodka Politics: Alcohol. Autocracy, and the Secret History of the Russian State, New York: OUP, 2014, p. 202.
(обратно)1004
Leighton Rogers, Wine of Fury, p. 216; Rogers, 3:9, p. 199; Robien, p. 164.
(обратно)1005
Robien, pp. 164, 175, 166–167.
(обратно)1006
Hugh Walpole, ‘Denis Garstin and the Russian Revolution’, p. 596.
(обратно)1007
Crosley, p. 210; Pax, pp. 44, 72–73.
(обратно)1008
Crosley, pp. 230, 231.
(обратно)1009
Rogers, 3:9, p. 203.
(обратно)1010
Mission, p. 239 (Джордж Бьюкенен, «Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918», М.: Центрполиграф, 2006).
(обратно)1011
Mrs Clinton A. Bliss, указ. соч., p. 150.
(обратно)1012
Beatty, p. 386.
(обратно)1013
Там же, стр. 387.
(обратно)1014
John Louis Hilton Fuller, ‘The Journal of John L. H. Fuller While in Russia’, p. 47.
(обратно)1015
Beatty, p. 390; John Louis Hilton Fuller, ‘The Journal of John L. H. Fuller While in Russia’, p. 47. Милдреда Фарвелл, еще одна невоспетая американская журналистка, во время Первой мировой войны работала на Восточном фронте. Она писала статьи для издания «Паблик леджер» (“Public Ledger”) о Сербии и в целом о Балканах, для издания «Чикаго трибьюн» – о Петрограде.
(обратно)1016
John Louis Hilton Fuller, ‘The Journal of John L. H. Fuller While in Russia’, pp. 47–48, John Louis Hilton Fuller, ‘Letters and Diaries of John L. H. Fuller 1917–1920’, p. 52; Rogers, 3:9, p. 211.
(обратно)1017
Письмо Уильяма Герхарди, цит. по: Harvey Pitcher, Witnesses of the Russian Revolution, p. 263.
(обратно)1018
Meriel Buchanan, указ. соч., p. 191; см. также: Dissolution, p. 273.
(обратно)1019
Rogers, 3:10, p. 213; John Louis Hilton Fuller, ‘The Journal of John L. H. Fuller While in Russia’, p. 48.
(обратно)1020
Rogers, 3:10, p. 214.
(обратно)1021
Там же, стр. 214–215.
(обратно)1022
Там же, стр. 215; John Louis Hilton Fuller, ‘Letters and Diaries of John L. H. Fuller 1917–1920’, p. 54.
(обратно)1023
Rogers, 3:10, pp. 218, 220. Когда Роджерс покинул Петроград в феврале 1918 года, банк все еще находился в руках у большевиков.
(обратно)1024
James Stinton Jones, ‘The Czar Looked Over My Shoulder’, pp. 106–108.
(обратно)1025
Meriel Buchanan, указ. соч., p. 191.
(обратно)1026
Там же, стр. 192; Dissolution, pp. 276–277.
(обратно)1027
Dissolution, p. 275.
(обратно)1028
Mission, p. 247.
(обратно)1029
William Oudendijk [Willem Jacob Oudendijk], указ. соч., pp. 253–254; Bousfield Swan Lombard, letter to his wife 2 January 1918, courtesy John Carter.
(обратно)1030
Mrs Clinton A. Bliss, указ. соч., p. 150.
(обратно)1031
Crosley, p. 264.
(обратно)1032
Rogers, 3:10, p. 223.
(обратно)1033
Там же, стр. 224.
(обратно)1034
См.: Mission, глава XXXV; Meriel Buchanan, Ambassador’s Daughter, pp. 201–208.
(обратно)1035
Описание их жизни в Риме представлено в издании: Meriel Buchanan, Ambassador’s Daughter, глава XVII.
(обратно)1036
Вопрос о предоставлении убежища семье Романовых рассмотрен в издании: Helen Rappaport, Ekaterinburg: The Last Days of the Romanovs, London: Hutchinson, 2008, pp. 147–151 (Хелен Раппапорт, «Екатеринбург: последние дни Романовых»).
(обратно)1037
См.: Roy Bainton, Honoured by Strangers: Captain Cromie’s Extraordinary First War, London: Constable & Robinson, 2002, Chapter 22; William Oudendijk [Willem Jacob Oudendijk], Ways and By-Ways of Diplomacy, Chapter XXVII.
(обратно)1038
Anthony Cross, ‘A Corner of a Foreign Field: The British Embassy in St Petersburg, 1863–1918’, p. 354.
(обратно)1039
Francis, p. 235.
(обратно)1040
Письмо от 18 января 1918 года (по новому стилю), цит. по: Barnes, p. 300.
(обратно)1041
См.: Harper Barnes, ‘Russian Rhapsody: A Small City North of Moscow Opens a Museum to Honour a Former St Louis Mayor’, St Louis Post-Dispatch, 24 August 1997. По электронному адресу представлены некоторые фотографии помещений и экспозиций «Музея дипломатического корпуса» в г. Вологде.
(обратно)1042
Barnes, p. 373. Жизнь Фрэнсиса и Джордана в России после отъезда из Петрограда описывается в издании: Barnes, главы 19–21.
(обратно)1043
См.: Barnes, pp. 405–407; ‘D. R. Francis Valet Dies in California, St Louis Post-Dispatch, 1941.
(обратно)1044
Meriel Buchanan, Ambassador’s Daughter, pp. 166–167.
(обратно)1045
Crosley, p. 221.
(обратно)1046
Francis Oswald Lindley, untitled memoirs from July 1915 to 1919, p. 96.
(обратно)1047
Письма Босфилда Свана Ломбарда своей жене от 26 июня, 17 марта и 19 февраля 1918 года, с любезного разрешения Джона Картера.
(обратно)1048
Kenneth Hawkins, ‘Through War to Revolution with Dosch-Fleurot: A Personal History of an American Newspaper Correspondent in Europe and Russia 1914–1918’, Afterword, p. 105.
(обратно)1049
Isaac Marcosson, Before I Forget, pp. 330, 340; см. там же: Chapter 12, ‘Trotsky and the Bolsheviks’.
(обратно)1050
Harold Williams, The Shadow of Tyranny: Dispatches from Russia 1917–1920, pp. 318–319.
(обратно)1051
Статья была 30 сентября 1917 года одновременно опубликована также в издании «Топека кэпитал» (“Topeka Capital”) под заголовком “Thompson Risks Life to Film Russian Revolution Scenes”.
(обратно)1052
‘Woman Saw Revolution Begin’, Boston Sunday Globe, 30 June 1918.
(обратно)1053
См. статью Лейтона Роджерса в издании: Rogers, 3:10, pp. 251–261.
(обратно)1054
На электронном адресе %20TOCs/Roe,%2 °Charlotte. toc.pdf находится интервью внучатой племянницы Роджерса, Шарлотты Роу, которое она дала в 2005 году для проекта “Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project”, pp. 12–13.
(обратно)1055
‘Missouri Negro in Russia is “Jes a Honin’ for Home”’, Wabash Daily Plain Dealer, 29 September 1916.
(обратно)(обратно)
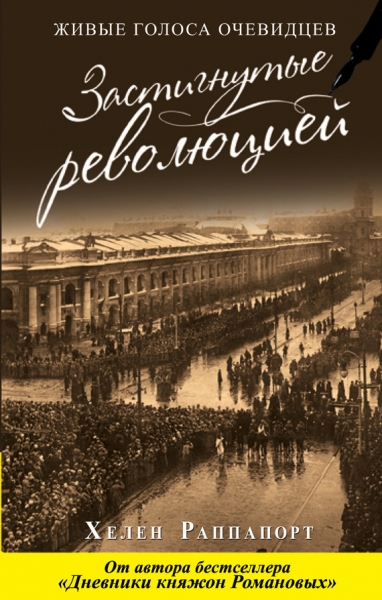





Комментарии к книге «Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев», Хелен Раппапорт
Всего 0 комментариев